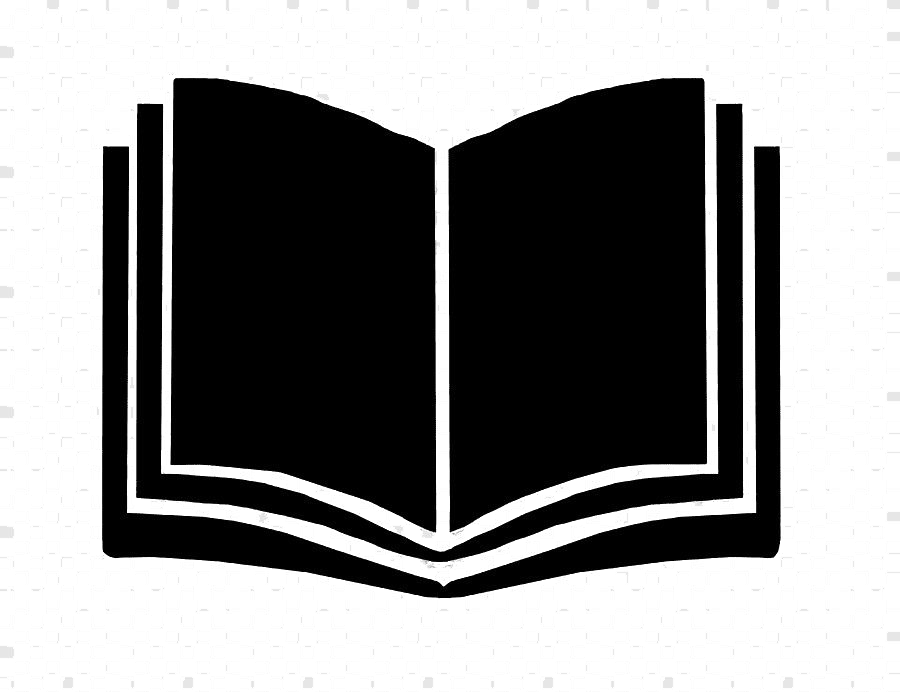Эмманюэль Бов (Бобовников)
Bove, Emmanuel
Джейн Крэмер
Статья журналистки Джейн Крэмер была впервые опубликована на английском языке в журнале New Yorker от 20 мая 1985 года.
Предлагаемый перевод выполнен по цитатам из французского перевода этой статьи (Kramer, Jane. Les Europeens: Tome 1. – Paris, Grasset, 1990.), размещенным на архивном сайте телеканала France3.
[Об Эмманюэле Бове]
Эмманюэль Бов – французский романист, умерший в 1945 году, в возрасте сорока семи лет; он написал двадцать восемь книг о "конченых" персонажах, которые, как правило, заканчивали жизнь в общей могиле. Сам он, тем не менее, погребен на кладбище Монпарнасс, в так называемом "еврейском" секторе, в фамильном склепе своей второй жены, Луизы Оттенсоер-Бов. Это типичный французский мавзолей, с железной витой решеткой, витражом и алтарем для цветочных ваз и горшков, но цветов в них никогда не бывает. Он чем-то похож на забытого сироту. Прошлогодние мертвые листья застилают плиточный пол, в углах – паутина... ничто по настоящему не указывает на то, что здесь покоится значительный французский писатель. Некоторые почитатели Бова... те, кто стали его читать в семидесятые годы, когда он был "открыт" и переиздан, а в "Либерасьон" и "Ле Монд" появились статьи с заголовками типа: "А вы, вы читали Эмманюэля Бова?"... приходят на кладбище. Они останавливаются у кадастровой конторы, при главном входе, ждут, пока служащие перелистают старые кадастры пожелтевших от времени документов, и, наконец, отыскивают могилу; но, очевидно, находят меланхолическую атмосферу этого места, с ее паутиной и мертвыми листьями, весьма соответствующей духу Бова и не решаются ее нарушать.
(...)
Бову было двадцать четыре года, когда он написал свой первый роман "Мои друзья" и открыл французам новый романный жанр умилительного одиночества и нищеты. "Мои друзья" рассказывают об одиночестве существ, лишенных какого-либо морального и эмоционального задела, о несостоявшихся встречах, поскольку людям, их назначившим, не хватило чести, трезвости или сочувствия. Это безжалостное описание поражения, почти клиническое, поразительное для страны, где одиночество служило поводом к феноменологической диссертации, либо предоставляло возможность для формалистических изощрений... находиться одному в кафе, например, или одному, с цветком в руке, на кладбище Монпарнасса. Тема бессилия была совершенно не освоена французской литературой. Русские умели превращать несостоявшиеся встречи в повествования, одновременно скорбные, забавные и просветленные, а немцы видели в них жестокие парадигмы современного человека, но в "Моих друзьях" не было ничего просветляющего или парадигматического... именно поэтому книга произвела сенсацию. Бов стал, на какое-то время, довольно известным. Он был удостоен премии Фигьер, и его обхаживали некоторые из лучших издательств страны... Эмиль-Поль, Фаяр, Кальман-Леви, Галлимар... Он продолжал писать и публиковаться на протяжении всей своей жизни. Ив Ривьер, издатель книг по искусству, который начал "открытие" Бова, одиннадцать лет назад, с публикации трех рассказов, иллюстрированных Жаном Мессажье, Брамом Ван Вельде и Роланом Топором, утверждает, что тот просто в неудачный момент умер и что в 1945 году, после войны, когда все остальные французские писатели занимались своей репутацией, Бовом "пренебрегли". Старый друг Бова, писатель Эмманюэль Робле, говорит, что тот претерпел "обман судьбы". Дадаист Филипп Супо, который тоже знал Бова, полагает, что тот "был слишком скрытен, чтобы его помнили". Люди, помнившие о нем после войны, составляли своеобразную группу. Им нравилась загадочность этого человека. То, что большинство из них ничего не знало о нем, составляло часть его очарования. Его называли застенчивым, молчаливым и одиноким... Супо говорит "слишком скрытен", но другие говорят "паталогочески скрытен"... и его почитатели видели в нем архетип романиста-антигероя. В их представлении, его дух соответствовал нынешнему состоянию его могилы. Им нравилось представлять Бова среди нищих, иждивенцев и спекулянтов его романов и видеть в нем отца романистов типа Самюэля Беккета (лишь на восемь лет младше его) и Жана Жене. Беккет, это правда, читал Бова и не скрывал своего восхищения перед ним, но они не были друзьями. Друзья Бова были не совсем "бовскими". Это были люди эмоциональные и страстные: Робле, Супо, Жан Кассу, который писал заметки об искусстве, одно время возглавлял Музей современного искусства в Париже и был одним из героев Сопротивления, писатель Марсель Эме. Эме умер в 1967 году, но остальные еще живы. Некоторые очень стары; и поэтому, будучи одновременно старыми и знаменитыми, они воспринимают наносимые им визиты как своего рода проявление почтения. У них нет особого желания проводить их за рассказами о ком-либо другом, кроме себя.
Супо восемьдесят семь лет. Он живет в доме престарелых, что недалеко от порта Отой, и делит свою комнату с огромным свертком серебряной фольги, начатым несколько лет назад, когда он стал украшать интерьер своей комнаты сигаретными пачками и кусочками фольги, к которой и пристрастился; иногда, рассказывая о своем друге, он качает головой и говорит, что Эмманюэль Бов не единственный, кого забыли. Кассу восемьдесят восемь лет. Он живет среди своих книг и картин, в старой и просторной квартире недалеко от Сорбонны, в которой он воспитал свою семью, и по-прежнему носит берет из шелка, зеленый с черным... черный – знак траура, зеленый – знак надежды. Это личная награда Голля, а это значит, что Генерал лично отметил вашу верность Франции и непримиримость к немцам. У него всего тысяча товарищей по награде. Кассу рассказывает, что даже сейчас, когда они встречаются на улице или в кафе, они приветствуют друг друга словами: "Бонжур, Копаньон". Он предпочел бы беседовать с вами о подобного рода вещах, нежели об Эмманюэле Бове, но он написал прекрасное предисловие к "Моим друзьям", когда Фламмарион переиздал эту книгу восемь лет тому назад, и он говорит о невероятной "наивности" горя в романах Бова и пристрастии самого Бова к "умеренному отчаянию". Вставленная в рамку фотография Рильке, снятого в саду Вальмон совсем незадолго до его смерти, висит в салоне, и Кассу говорит, что восхищение его друга Рильке от "Моих друзей" его совершенно не удивило. Может быть, разрозненные ремарки о Париже, содержащиеся в книге, напомнили Рильке Париж Мальты Лорид Бриг, или даже его собственный.
"Мои друзья" начинаются так: "Я просыпаюсь: мой рот открыт. Зубы грязные: их следовало бы чистить на ночь, но я все никак на это не отважусь". Виктор Батон, инвалид войны, просыпается. Он начинает свой день абсолютно неприкаянным. Ему холодно и его глаза гноятся. Волосы слиплись. Нос течет. Потолок его мансарды протекает, и вода капает ему на подбородок. Виктор любит себя тщательно исследовать. Его "друзья" – это, по сути, каталог... или скрижаль... его разочарований, и Виктор их описывает, словно для того, чтобы проснуться, с эгоцентризмом, граничащим с бесстыдством. Но сама мысль иметь друга ему нравится. Он говорит, что ищет его. Он спит с Люсией, которая держит бар на улице Сены. Он надеется, что после, она пригласит его в свой бар на чашку кофе, и чувствует себя очень несчастным, когда она не делает этого. Он встречает богатого человека, который предлагает ему работу. Он пристает к дочери этого человека, когда та возвращается со школы, и, поскольку этот человек сердится и прогоняет его, он вновь спрашивает себя, за что люди не перестают причинять ему боль. Он пробует еще трех-четырех "друзей", прежде чем соседи не начинают жаловаться на него и его хозяйка велит ему съехать, и книга заканчивается тем, что Виктор лежит, отвернувшись, на своей влажной постели, в мансарде, и жалуется. Он говорит, что не видит никакой возможности найти друзей, которых бы хотел. И в это момент трудно с ним не согласиться.
"Мои друзья" считается лучшей книгой Бова. Этикет, с его мелочным церемониалом, приводит героя к неудачам и придает им, по выражению Беккета, "трогательность". Чувствительность Бова скорее немецкая, чем французская или... отец Бова был русским... русская. Петер Хандке, австрийский писатель, и Вим Вендерс, немецкий режиссер, говорят сегодня о Бове так же по-свойски, как Рильке в разговорах с Кассу шестьдесят лет назад. Во Франции, это в основном артисты, вроде Топора и Мессажье, кто чувствуют себя близкими Бову. Для них очень конкретный и точный язык Бова – это язык, адресованный глазу, глазу, который умеет читать образы. Топор начал читать Бова, потому что знакомый писатель... писатель с "чувством тоски", говорит Топор... описал ему его, как "мастера угрюмых образов", и Топор, сам неоспоримый мастер угрюмых образов, захотел его прочесть. Он купил свою первую книгу Бова в 1963 году, за несколько франков, и, не дороже, вторую. Сегодня оригинальное издание Бова... если его находят... стоит шестьсот-семьсот франков, и их не перестают заказывать у всех букинистов города.
Примерно в то самое время, когда Топор иллюстрировал книгу Бова и Хандке (который получил своего первого Бова благодаря своему французскому переводчику Жоржу-Артуру Голдшмидту) переводил другую, бретонский писатель, Раймон Кусс, взялся за дело Эмманюэля Бова. Раймон Кусс – личность колоритная и упрямая, известная своими проектами. Один из них касается литературной критики (он опубликовал, несколько лет назад, сборник писем, адресованных всем тем французским критикам, от кого он не был в восхищении). Другой – комические монологи, которые он любит писать (каждые четыре-пять лет он провозит по миру пьесу на одного актера, под заглавием "Стратегия двух окороков", которую сам и играет). Когда Кусс узнал, что Бов родился в один день с ним... 20 апреля... он стал страстным его защитником и покровителем. Для начала, он постарался разыскать семью Бова. Он убедил свое издательство, Фламмарион, выпускать по книге Бова каждые два года и доверить ему руководство публикацией. Он сказал людям из Фламмариона, что даже в Национальной библиотеке не было всех романов Бова. Что Бов был недостающим звеном национального наследия, и что восполнить его было их долгом. В Париже спрашивали: "Кто такой Эмманюель Бов?", но никто этого по-настоящему не знал до того самого момента, пока этот пронырливый и назойливый бретонец не дал ответа. Он доказал, что Бов и в самом деле был очень скрытен. У него без конца были проблемы с деньгами и, по большому счету, он считал себя очень несчастным. У него не было ни политических убеждений, ни особых пристрастий (Маркс, например, или католицизм). Он обладал, как любит говорить Топор, "бледным характером".
Бов родился в 1898 году, в доме по бульвару Пор-Рояль. Его настоящая фамилия – Бобовников, и его отец, Эмманюэль, был эмигрировавшим из Киева евреем, который, по семейному преданию, был выслан за активное участие в движении нигилистов. Его мать была горничной в гостинице, в которой поселился его отец, и познакомилась с ним, убирая его комнату. Она была пышной уроженкой Люксембурга, и Бобовников, должно быть, привязался к ней, поскольку та родила от него и второго сына, Леона, в 1902, за четыре года до того, как ее любовник разделит судьбу с юной англичанкой, Эмили Оттенсоер, которая, в свою очередь, родила ему дочь. У Эмили были деньги... ее отец был британским консулом в Шанхае... но также обаяние и большое терпение. Ее сын, Виктор, до сих пор живет в Париже. Это адвокат семидесяти восьми лет, весьма утонченного вкуса, который каждое утро ездит верхом по Булонскому лесу и отдыхает в Швейцарии. Несколько лет назад, во время прогулки в Вале, он, с воинским крестом на груди, пустил коня галопом и спас девушку, под которой понесла лошадь. Виктор предпочитает Эмманюэлю Бову классиков. "Быть может, я придаю грамматике, прозрачности стиля большее значение, чем Эмманюэль, – говорит он. – Эмманюэль имел слабость к форме имперфекта условного наклонения. Но три раза в одной фразе – это ужасно".
Эмманюэль Бобовников представлялся в Париже литератором. В его документах значилось: "без профессии", но он и в самом деле написал книгу. Это был разговорник, предназначенный для богатых русских, приехавших на Всемирную выставку 1900 года; может быть, это и не было шедевром нигилистической литературы, но он хорошо разошелся, потому что содержал много полезных выражений, типа: "Я хочу зарезервировать столик в Максиме", "У вас есть номер окнами на парк Монсо?", или еще: "Отвезите меня к мадмуазель Кано". Бобовников совершенно не интересовался своим сыном Леоном. Леон был несколько простоват... вроде персонажа, которого Бов мог придумать позже (Леону сегодня восемьдесят три года, и живет он в небольшом домике в Версале; он ведет дневник и каждую неделю заносит в маленькую школьную тетрадку то, что, на его взгляд, представляет важную информацию... в котором часу он лег спать, сколько раз он сходил на рынок, сколько стоили помидоры, которые он там купил, количество сделанных звонков, дозвонился или нет, свои разочарования). Эмманюэль преуспел с Бобовниками лучше, чем Леон. Отец его любил, а Эмили Оттенсоер, казалось, обожала. Она определила его в Эльзасскую школу, лучшую частную школу Парижа. Когда семья переехала в Женеву, Эмили забрала его с собой, и, поскольку началась первая мировая война, отправила в интернат в Англию. Он находился там, когда его отец умер от туберкулеза, и вернулся в Париж только в восемнадцать лет. Кусс составил список некоторых из тех работ, за которые брался Бов тот год в Париже: ...трамвайный кондуктор, шофер такси, мойщик посуды, рабочий Рено. Бов был новым бедняком (девальвация, вызванная войной, почти полностью разорила Оттенсоеров) и некоторое время был на подозрении по причине, как тогда называли, "сомнительного происхождения". Кончилось тем, что парижская полиция его даже арестовала. Он пробыл в тюрьме месяц, и вышел из нее, призванный на воинскую службу. Согласно Раймону Куссу, это опустошающее чередование бедности и богатства объясняет его будущую нервозность.
Подобно двум его детским жизням, у Бова была двойная писательская жизнь. Одну он посветил работе над тем, что составит двадцать восемь книг Эмманюэля Бова.
Вторую (она была краткой) он провел за написанием, под псевдонимом, простеньких романов, которые мог производить очень быстро; он клал свои часы на стол и устанавливал ритм в сто строк за час, восемьсот строк в день. Он был уже женат, когда начал писать. Его первая жена была школьной учительницей, и звали ее Сюзанн Валуа... Он взял это имя, "Валуа", в качестве псевдонима; это был короткий и бурный брак; у них родилось двое детей, которые редко видели своего отца после развода.
Бов опубликовал свой первый рассказ в 1923 году. Его прочитала Колетт и заказала ему роман для серии, которая выходила под ее руководством в издательстве Ференчи. Бов явился с рукописью "Мои друзья". Именно Колетт вывела его на литературную сцену Парижа. Он стал посещать Флора и познакомился как с Чарльзом Анри Фордом и Андре Бретоном, так и со всеми сюрреалистами и дадаистами; но он не особенно вписывался в жизнерадостную богему Парижа 20-х годов, какой ее представляют, – непрерывно справлявшей праздник. Колетт не очень хорошо знала, что думать о Бове ("Ваш друг Бов, – сказала она однажды Супо, – уведите его; он слишком молчалив для меня"), но она любила его книги, и его манера писать ее забавляла. Он выбирал заглавие. Затем, он писал над ним свое имя. Если сочетание ему нравилось, он на этом и останавливался. На следующее утро он принимался размышлять над историей, с которой начать. Он много читал об этой эпохе. Он вел записи. Он любил шелковые рубашки и покупал их по шесть штук, когда бывал при деньгах, а когда они кончались, пытался перепродать их своим друзьям. Он часто переезжал. Ему сдавали дома, квартиры, а нет, – он селился в гостинице. За исключением рубашек, он редко на что тратил деньги. Он никогда никого не приглашал к себе. Люди не придавали этому значения. Они списывали это на застенчивость и бедность, или даже на "духовность". Жан Кассу рассказывает, что в то время, на левом берегу, жизнь состояла из кафе, табака, галерей, бистро, кровати, и что при такой жизни было трудно на кого-либо сердиться. Культивировалась эксцентричность, и загадочность Бова, его молчаливость и прижимистость делали из него "персонажа".
Мари-Антуанетт Эме, вдова Марселя Эме, полагает, что если никто никогда и не был приглашен на обед к Бову, то потому, что в доме было грязно. Эмманюэль, как она его называет, был настолько неврастеничен, что даже шум пылесоса его угнетал, и потому пылесосы были запрещены. Она говорит, что все то, что мужчины, вроде ее мужа, называли чувствительностью Эмманюэля, было одними лишь черными мыслями, а черные мысли совершенно не вяжутся с пастельными шелками и подвесками времен Империи, которыми мадам Эме (...которая была столь образцовой "дамой интерьера", что ее муж никогда не мог по настоящему выйти из дома, чтобы найти вдохновение...) любила украшать свою жизнь. Она познакомилась с Бовом в 1936 году, когда он снял дом в Кап-Ферре, к югу от Бордо, рядом с загородным домом Эме. После обеда он прогуливался по пляжу с Марселем Эме и мадам Эме подозревает, что это ее муж помог ему оплатить аренду, если только не член семейства Ротшильдов, остановившийся в окрестностях, оказал ему финансовую поддержку. Кого она любила из Бовов, так это Луизу, его вторую жену. Луиза была скульптором. У нее не было особенного таланта, но это была женщина жизнерадостная и очень светская... Бов познакомился с ней в Доме в 1928 году... и в молодости она была очень красива. Виктор Бобовников говорит, что она с такой легкостью называла по имени любого в Париже, что он никогда не знал, о ком она говорила, когда рассказывала свои воспоминания. Она знала артистическую среду так же хорошо, как Эмманюэль Бов знал обитателей литературных кафе. Она ходила на выставки с Бетти Парсон. Она обедала с Луизой Лери, могла пропустить по рюмочке с Пикассо. Она происходила из богатой семьи эльзасских банкиров и, по выражению Кассу, "принесла Бову деньги", но всю свою жизнь она была страстной и роскошной коммунисткой.
Она держала в доме портрет Сталина, организовывала для рабочих сирот отдых на побережье и по воскресеньям, в Париже, она ходила по квартирам, продавая "Юманите", партийную газету... но, утверждает Виктор, никогда не снимала при этом свои меха и золотые браслеты. В Кап-Ферри она шокировала жен рыбаков тем, что курила и носила шаровары. Зажигалку она держала в одном из карманов и, иногда, запустив руку в штанину, вынимала ее и закуривала, стоя в очереди в деревенскую молочную лавку, держа в руках фарфоровый ночной горшок вместо молочника. Она называла своего мужа Бобби... "на английский манер", говорила она. Бов писал ей письма и, когда не был в дурном настроении, подписывался своим новым именем; Луиза хранила их в старом чемодане. Когда она умирала, в 1977 году, в Париже, чемодан был под ее кроватью, и письма все еще были там, вместе с семнадцатью страницами дневника Бова, двадцатью фрагментами неизданных произведений, правок и рукописей. Эти бумаги и составляют архив Бова, если сюда можно применить это слово. Остальное было оставлено в доме Кап-Ферри, и дом этот был то ли разграблен, то ли сожжен... никто точно не знает... местными фашистами в начале войны.
Кусс включил дневник и четыре из тридцати одного письма в небольшую брошюру, вышедшую одновременно со сборником рассказов последнего года жизни Бова, озаглавленным "Вечер у Блютера". Дневник был "литературным". Бов говорит в нем о чувствительности, отмечает прочитанное и высказывает свое мнение о прочитанном. Ему есть что сказать "О противоречивости", он жалуется на муки, которые доставляет ему создание персонажей, обладающих чувством юмора ("у меня есть склонность к меланхолии, мне следует этого остерегаться"). Он восхищается Робинзоном Крузо. Он хочет, чтобы его герои походили на Робинзона, чтобы они боролись за жизнь, за уважение и славу, пытались переписывать свое прошлое. Эти письма – письма любви – несколько напыщенны, несколько плаксивы и не очень вдохновенны. Но письма, которые Кусс не включил в брошюру, юмористические письма – интересны. Бов привык к тому, что женщины заботились о нем. Это Луиза писала его первой жене, когда ему хотелось видеть своих детей... и которая получала отказы, упреки и требования денег, заканчивающееся словами: "У вашего мужа, мадам, имеются обязанности"... и это Эмили Оттенсоер, его мачеха, по большей части виделась за него с его детьми. Эмили любила дочь Нору. Но она замечала Бову, что мальчик, Мишель, был ворчуном. Нора вышла за журналиста и работала в Парижском университете. Теперь она на пенсии и живет в деревне. Мишель стал масоном. Он женился на набожной католичке, крайне неодобрительно относившейся ко всем другим Бовам, и они живут недалеко от Тулузы. Когда им звонят, чтобы задать вопросы об Эмманюэле, они твердят о растлении.
В июле 1940 года Бов вывез Луизу, которая подвергалась опасности уже потому, что была еврейкой и коммунисткой, из оккупированного Парижа и привез ее в "центр подполья" город Лион. В 1942 году, когда Юг был в свою очередь оккупирован, они вновь уезжают, на этот раз в Алжир. Эмманюэль Робле, который впервые встретил Бова в Алжире, говорит, что Бов никогда не говорил о причинах своего отъезда в Алжир, но что все знали, что это было из-за Луизы. В 1942 году в Алжире находилось много писателей. Супо, старый друг Бова, был там среди других его знакомых: Андре Жида, Марселя Соважа, Анри Жансона и Антуана Сент-Экзюпери. Они встречались в книжном магазине Шарло. Шарло было тогда всего двадцать семь лет, но у него уже была прочная репутация. Он был арестован и допрашивался полицией Виши, провел два года в лагере; маленькая лавочка, в которой он издавал и продавал книги своих друзей, вскоре становится своего рода клубом нашедших в Алжире убежище интеллектуалов, которые были отрезаны от свободной Франции и ждали возможности сражаться. Они образовали так называемый "Центральный комитет писателей" и, когда Бов приехал, они приняли его в свои члены.
Робле полагает, что Бов начал умирать уже в Алжире. Он все время слегка сутулился, скрещивая руки за спиной, и говорил слабым голосом, словно пытаясь сберечь дыхание и силы... удивительная манера, замечает Робле, в средиземно-морском городе, где каждый говорил громко, жестикулировал и широко размахивал руками. Робле жил в пригороде, называемом Бузарея, среди холмов, в десятке километров от города, и Бов снимал там комнату, чтобы писать. Робле видел его иногда то в автобусе, то в булочной и однажды спросил его, что он делает в Бузарее; Бов ответил, что пишет роман.
Это было его самой пространной беседой о работе Бова, не считая другого дня, когда Робле спросил, продвигался ли роман, и Бов ответил: "Да". Робле беспокоился за Бова, потому что тот становился все бледнее и кашлял. Друзья Бова в книжном магазине Шарло думали, что у него рак, но видимо дело было в туберкулезе, как и в случае с его отцом (в его свидетельстве о смерти значилось: "остановка сердца вследствие обострения пневмонии"). Луиза привезла его в Париж в 1944 году, два месяца спустя после Освобождения. Им некуда было идти, и она взяла такси до пустующей квартиры Виктора Бобовникова, по авеню Терн, и попросила консьержку доверить ей ключи. Когда приехал Виктор, в июне 1945,... отбыв пять лет заключения в Германии..., консьержка остановила его у дверей и сообщила, что в его квартире находится умирающий брат. Виктор снял комнату в гостинице и оставался там до тех пор, пока Луиза не позвонила ему по телефону, чтобы сообщить о смерти Бова.
Луиза Бов выказала фанатическое рвение во всем, что касалось ее мужа. Она хотела, чтобы ему была воздана справедливость... чтобы его гений был признан, а память его реабилитирована. К ней, в квартиру на площади Соединенных Штатов, в которой, овдовев, она жила со своей сестрой Колетт, звонили люди; они предлагали экранизировать один из романов Бова и переиздать один из рассказов, но Луиза неизменно назначала цену, "достойную Бова", и это было больше, чем кто-либо мог заплатить.
В итоге, единственный доход, который принесли ей творения ее мужа, составил четыре тысячи франков, которые выписал ей Ив Ривьер, купив три рассказа в 1972 году. Единственная биография Бова была работой бельгийского иезуита на звание мастера в университете Лувэна.
Сестры Остенсоер жили на прежней квартире в семнадцатом округе, просторной и довольно мрачной, и, понемногу, две женщины наполнили ее всем тем, что Ривьер, приходивший просить права на три рассказа, назвал "многочисленными мертвыми вещами". Мэри Блюм, американская журналистка, которая находила двух старых женщин довольно одинокими, время от времени навещала их. Топор тоже. Две сестры представляли собой загадочную, взаимодополняющую пару. С годами Луиза все более толстела (к концу жизни она носила сердечный стимулятор и едва могла ходить), а Колетт становилась все более худой... "ссохшейся", как говорит Топор. Они без конца спорили, поскольку Луиза была ревностной коммунисткой, а ее сестра – не менее ревностной голлисткой, которая провела войну в Лондоне за дешифровкой посланий генерала. Луиза пила вино; Колетт, будучи англофилкой, – чай и шерри. Луиза Лери на протяжении многих лет вспоминает Луизу Бов... которую она называет "маленькой толстушкой". Той случалось, на одном из вернисажей в галерее Луизы Лери, по улице Монсо, приставать к другим приглашенным с разговорами о своем муже. Она умерла в год, когда во Фламмарионе были опубликованы "Мои друзья".
Известность - довольно жестокая почесть во Франции. Французы, быть может, никогда не перестанут читать Пруста. Стендаля или Флобера, но людям, способным в короткое время и с одинаковым энтузиазмом увлекаться Марксом, Фрейдом и Блаженным Августином и так же быстро их забывать, не угрожала опасность проникнуться долгой привязанностью к Эмманюэлю Бову. Для большей части из них удовольствие, которое они находили в Бове, было радостью открытия.
Его романы имели определенную тенденцию размываться, по крайней мере, при воспоминании, и, к тому же, одержимых Бовом сегодня, может быть, более интересует человек, нежели его книги, поскольку примечательна сама верность Бова своему странному литературному жанру. Однажды, когда Бов испытывал сложности с началом романа, издатель Жан Файар зашел к нему и посоветовал постараться найти большой сюжет, как это делали русские романисты; Бов ответил, что, на его взгляд, это тональность, а не сюжет, придавала прелесть их книгам..., что, по размышлении, не было никакой разницы между интригой романа Достоевского и сценарием французского комикса. Его проблема была не столько в выборе тональности, сколько жанре выбранной тональности. Его книги - изящные репродукции, но то, что они воспроизводят, это все то же состояние восприятия жителя городской окраины. Его персонажи невинны, как невинны коровы. У них нет "индивидуальности". Они не злы, но пошлы и привязаны к своему горю, словно бы эта привязанность была формой борьбы. Они болезненны в своей эксцентричности, суетливы в деликатности. Они полны сетований, как и сам Бов.
В 1926 году Бов прожил некоторое время в небольшом товариществе неблагополучного пригорода Бекон-ле-Брюйер, между Курбуа и Асньер, и, когда съехал оттуда, сделал это сюжетом одного рассказа. Он рассказывал, что в Бакон-ле-Брюйер было трудно представить женщину, уснувшую в руках своего любовника, коллекционера, перебиравшего свои марки, хозяйку, готовившуюся к приему гостей, прихорашивавшего влюбленного или бедняка, получившего письмо, сообщавшем о наследстве. В Бекон-ле-Брюере "счастливые моменты жизни отсутствовали". И, быть может, однажды этот город исчезнет, и никто того не заметит. "Так, навсегда оставляя сегодня Бекон-ле-Брюйер, не могу помешать себе думать о том, что этот город настолько же хрупок, как и живое существо, которое я покидаю. Они умрут, может быть, через несколько месяцев, в тот день, когда я не прочту газет. Никто не сообщит мне об этом. И я буду долго считать, что они еще живы, как я думаю обо всех, кого встретил, до тех пор, пока не узнаю, что прошли годы, как их уже нет".
Май, 1985