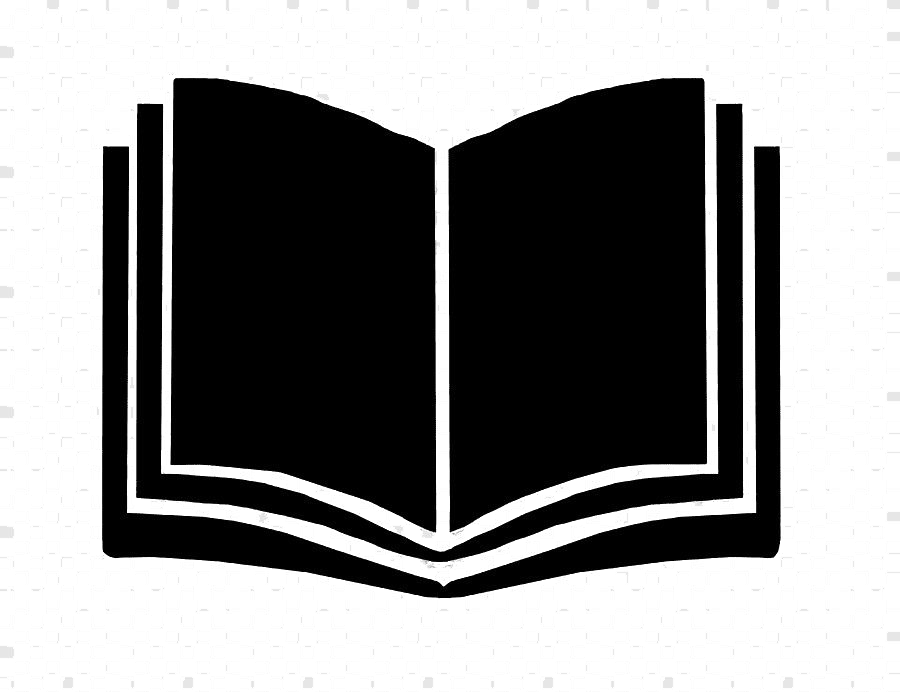Говоров Александр Алексеевич (1925, Мценск - 2003)
Страница дочери: Елены Говоровой с комментариями и
продолжением.
Я, Говоров Александр Алексеевич, родился в 1925 году, том самом золотом году нэпа, когда история еще могла пойти другой дорогой, но не пошла.
Я родился в провинциальном городе Мценске, и если учесть, что, по словам этнографов, Орловщина и есть колыбель великорусской цивилизации, то уж наш Мценск должен почитаться как пуп земли Российской. Девяностолетняя прабабушка, дожившая до нас от времен крепостного права, искренне была убеждена, что все святые по-русски говорили, а Вифлеем где-то рядом, возле Стрелецкой слободы. А какие, послушайте, все-таки имена – Тургенев, Лесков, Фет, Иван Новиков… Киселев, автор 41 издания учебников математики! Ну как тут ребенку не стать литератором.
Род Говоровых в исторических источниках упоминается в 1606 году при Лжедимитрии, отчего мы предпочитаем называть его, Гришку, осторожно – Названный Дмитрий. В нашем роду много знаменитостей – святой затворник и учитель Пушкина, прославленный маршал и харьковский ученый-врач. Я же появился на свет в семье скромных советских школьных учителей.
Семья матери происходит из не менее старинного рода. Ее приемный отец, кадровый офицер царской армии, погиб в рядах 13-й Красной Армии в день знаменитой битвы при Касторной (прислушайтесь – какой романтический рык в этом названии!). Это, однако, не спасло нашу семью от необходимости в 1930 году бросить все и бежать в Москву. Бабушка стирала наши порточки (жили мы без отца и в страшном убожестве), сидя за корытом на табурете – у нее были больные ноги. А соседки шипели – барыня! Впрочем, в тогдашних коммуналках жили пестро, но дружно, видя в этом некий предвестник грядущего и всеми ожидаемого коммунизма.
Конечно, это она, бабушка, многотерпеливая русская женщина, патриотка в чиненых-перечиненых платьях, взлелеяла мою душу. Помню культ героического деда, рассказы о нем напоминают чеховские «Три сестры», да и вообще подсказывают крамольную мысль. Кто в течение поколений предвещал и подготавливал взрыв Октябрьской революции? Нет, не Буревестник Пешков и не Анатэма Андреев, нет – Чехов и его герои!
Ладно, это проблематично, а мы вернемся к моей автобиографии. Как бы то ни было, я учился в Московской 7-й образцовой школе, одной из школ, воспетых в знаменитых романах Юрия Трифонова. Учителя – фантастическая смесь интеллигентного барства, разночинства и пролетарских выдвиженцев – приучили меня с восторгом принимать небывалые перелеты, победные переходы, обожать революционных вождей и не видеть теней и мерзости оборотной стороны. Впрочем, ответил же Бисмарк на вопрос – кто победил Францию в кровопролитной войне? – прусский школьный учитель, подготовивший нацию победителей. В том же духе можно сказать и о нас. Победу в Великой Отечественной 1941-1945 гг. в значительной мере подготовил советский школьный учитель, полуголодный фанатик, пророк с авоськой и кипой школьных тетрадей в руках.
Лучше Вениамина Каверина никто, кажется, не написал об этом учителе, но, думаю, главный роман еще впереди. А мне вспоминается каждый из моих учителей с его неповторимой индивидуальностью и первыми, конечно, - Александра Романовна Левина, обратившая меня к истории, и Наталия Николаевна Недович – к художественной литературе. Будучи тринадцати лет, я уже знал, что стану сочинять исторические романы, и весь наш класс (я учился тогда уже в московской 528-й школе) был уверен в этом. И как жизнь меня потом ни кидала, какие ни выписывала зигзаги, все же к этому привела.
Мне не посчастливилось быть на фронте (или, вернее, посчастливилось там не побывать), но меру войны довелось испытать, как и другим. Я копал окопы, работал на военном заводе, был и на трудовом фронте. В армии побыл совсем немного – из-за болезни, которая грызет меня и сейчас. Но вспоминаю это тоже с каким-то романтическим чувством. Запомнил на всю жизнь, как одна маленькая девочка заметила своей бабушке, позволившей предположить, что какой-то солдатик по какому-то поводу что-то соврал. «Бабушка! – с силой убежденности сказала она. – Как ты можешь думать такое? Он же красноармеец!».
Далее начались у меня шатания, о которых иногда вспоминать неловко – что поделать, жизнь складывается не столько из достижений, сколько из неудач и ошибок. Пробовал стать и художником, и дипломатом, и даже юристом, но каждый раз все это обрушивалось в какую-то бездну, и я замыкался в себе, прятался, что ли… Единственное, что осталось от той поры, - я безудержно писал стихи. Все они были, конечно, подражательны, теперь их перечитывать невозможно без снисходительной улыбки.
Я побывал, естественно, в нескольких вузах, но окончил ( в конце концов) Московский городской педагогический институт имени В.П. Потемкина, исторический факультет. Сам я теперь уже давно преподаю в вузе и много раз переживал волнения по поводу новаций – а зачем вузы, зачем такая устаревшая форма передачи информации, как лекция, и т.д. и т.п. После интенсивных размышлений и воспоминаний прихожу, однако, к убеждению – нет, вуз, конечно, нужен, и именно в той форме, как существует он тысячу лет, - и факультеты, и доценты, и лекции, и прогульщики… Был я парень информированный, начитанный, когда меня буквально за руку перетащил на истфак его декан. Но на лекциях там я ничего для себя нового не получал, хотя читали их звезды тогдашней науки.
Но среда, среда! «Ум юношеский созревает среди себе подобных, в борении с умами авторитетов…». Пример талантливых товарищей и любимых педагогов – вот разгадка! Теперь частенько читаешь лекцию и ловишь себя на том, что невольно подражаешь Александру Алексеевичу Фортунатову – моему кумиру тогдашних лет – его жест, его интонация! На факультете каждую неделю (каждую неделю!) устраивались либо танцы, либо литературные вечера, на которые если и приходил декан, то потому, что сам любил потанцевать со студентками или прочесть стишок-другой.
И вновь надвинулось неотвратимое. После войны, после такой победы, думалось всем (в особенности, конечно, интеллигенции), должен же наступить светлый час всепрощения, примирения, полная и абсолютная свобода, обещанная Лениным еще на заре Октября. Между прочим, хотя все кляли колхозы, а о ежовщине говорили только шепотом, но по свойственной русскому народу жертвенности считали, что так оно было нужно. Мой оракул, моя бабушка, например (из песни слов не выкинешь), искренне была убеждена, что, приди к власти троцкисты, было бы гораздо хуже, а без колхозов у мужика и зернышка хлеба не получить бы для победы, как и было в первую мировую…
Я сочинил тогда две повестушки, носившие автобиографический характер. Одну я назвал претенциозно – «Книга бытия», другую – «По ту сторону ночи». Они заключались в общих тетрадках в клеточку, брали почитать их охотно, даже переписывали, но, возвращая, озирались: а ты не боишься, что посадят? Что говорить, боялся, но как в той знаменитой книге – пепел Клааса стучал в моем сердце. Впрочем, ничего гениального в этих тетрадках, конечно, не было – те же среднестатистические колхозы, свобода печати, прощение белогвардейцам. Но, как выяснилось потом, властей предержащих испугало там другое – попытка серьезного исторического анализа идей большевизма.
Кончилось, сами понимаете, в подвалах Малой Лубянки. Как утверждал покойный Варлам Шаламов, тюрьма есть образцовая школа жизни, но лучше никому не проходить этой школы. Честно говоря, я все подписал, что мне подсовывали, и не потому, что не вытерпел испытаний, нет. Я в общем человек выносливый. Подписал же по чисто моральной причине. Я ведь был очень молоденький, так сказать, формирующийся интеллект, а организованной силы сопротивления там, в тюрьме, я не встретил. Сидели кто угодно: и троцкисты, и анархисты, и дашнаки, но все это была причудливая смесь неудачников, просто несчастных людей…
И поехал я на Воркуту, в край с разноцветными небесами, как на картинах Рокуэлла Кента. Но прежде судьба приуготовила мне еще одну удивительную встречу. Было это в 1950 году в Горьковской пересыльной тюрьме, прославившейся своими автоматическими воротами, за которые будто бы начальник тюрьмы получил Сталинскую премию. Однажды рано утром в камеру явился новый этап, впереди которого шел величественный старик с белою бородою – отец Рафаил из Оптиной пустыни, не помню сейчас его мирского имени, да это и не нужно. Вот он стал за краткий период тюремного общения моим духовным отцом, обратил мою душу к христианству, хотя веровал я по-своему с самого детства. Должен сразу внести ясность – я никогда не состоял в рядах комсомола или партии, так что возвращать партбилетов не пришлось. Хотя, опять же, должен сказать честно – я не вижу особых противоречий между коммунизмом и христианством, возвышенная цель у них одна. Отсылаю к книге преподобного Хьюлетта Джонсона «Христиане и коммунизм», которую, кстати, можно бы издательству «Терра» и переиздать.
Лагерь в отличие от тюрьмы – это арена политической борьбы. Либо молоды мы были и кровь, что ли, в нас кипела, но жертвенности там не было никакой. Не согласен с А.И. Солженицыным, когда он своего мужественного Кавтограна делает этаким нытиком, для лагерной нашей поры это не характерно. Думаю также, что главная книга о советских лагерях (не исследование, как «Архипелаг Гулаг», а чисто художественное произведение) еще не написана, и напишет ее, как мне кажется, не участник тех событий, а человек совсем другого поколения, так же как «Войну и мир» не мог написать участник войны 1812 года. В лагерях я прошел настоящую школу интернационализма, братской взаимопомощи, мужской выдержки и обязательности. И опять приходит в голову совершенно еретическая мысль: а может быть, где-то здесь тоже зародыш идеального общества, как у Томаса Мора или Этьена Кабе?
Не стану расписывать свое пребывание в лагерях, это перестало быть интересным. Мемуаров я не пишу, хотя все это, конечно же, своеобразным путем пришло в мои повести и романы – Алкамен, с его обостренным чувством свободы, Смирдин, который ничего для себя лично… Как же иначе быть писателю? Он вынимает собственную душу и препарирует ее перед читателем, облекая в символы и образы литературы.
Но вот пришел час освобожденья, слава Никите Сергеевичу Хрущеву, который ухитрился провести свою перестройку без особенной катастрофы. Мне дали закончить институт. Некоторое время я был без работы. В детском доме, где я устроился, было, воспитателем, я не смог оставаться. Там были дети, отобранные у родителей по суду, а я сам был с незаросшими язвами от тюрьмы да от сумы. Искал работу, ходил по школам, но меня не брали, узнавая мою биографию.
Тут еще одна деталь моей пестрой жизни. Еще во время войны, в 1942 году, еле отвертевшись от завода, я поступил продавцом в букинистический магазин. Сказать, что это тогда меня очень увлекло, не могу. Я больше интересовался опереттой и девицами с улицы Кирова. Но какое-то время я пробыл правоверным букинистом.
И в 1955 году я совершил шаг, который потом описал в жизни моего героя Смирдина. Я пришел в книжную торговлю, а реально – в контору Москниготорга, где меня встретил доброжелательный Федор Митрофанович Корнюшко, кстати, сам бывший армейский комиссар. И на мои слезные признания, что я такой-сякой лагерник, реабилитированный досрочно, он ответил – неважно, лишь бы работал честно. И стал я профессиональным книготорговцем.
Если бог даст мне еще здоровье и время, я напишу исторический роман о так называемой оттепели. Почему же исторический? Да потому, что это уже далекая история и для нынешнего читателя выглядит баснословно, как какая-нибудь эпоха Каролингов. Я отношу себя к поколению шестидесятников – какими же мы были идеалистами, боже мой!
Я не стану подробно описывать, как работал в различных книжных магазинах. Здесь главным было то же, что во всей моей бродячей жизни – встреченные мною удивительные люди! Кто-то кинул броскую фразу – «Книжная торговля есть пристанище неудачников». Ой ли? Мне говаривал один умница материальщик из тканевого магазина напротив: ну что ты, мол, в книжной торговле тянешь свою лямку? Ты давай к нам… Я теперь его частенько вспоминаю – небось, уже миллионер и виллы у него. А все же я не ощущаю себя неудачником. Конечно, мы, профессиональные книготорговцы, бедны, как церковные мыши, и все же, да простит мне Бог, в каждом из нас есть что-то от Христа и мы знаем это и ценим выше всяких удобств.
А вот Сергей Ерофеевич Поливановский, многолетнейший директор Москниги, человек высочайшей культуры и непомерного остроумия. Про него даже одна газета в те времена озаглавила фельетон «Не там сидит». А он крепко сидел на своем месте, и провожать его на кладбище пришло пол-Москвы. Почему я его припомнил в автобиографии? Потому что он предсказал мне судьбу. Хотя я втихомолку и занимался литературными опытами, но лет до сорока видел свою жизнь в книжной торговле, и только в ней.
Однажды девушки из конторы мне говорят: «А Ерофеич-то опять тебя из списков кандидатов в директора вычеркнул. И что ты, дурачок, в партию не вступаешь!». Я выбрал удобный момент и с претензией к нему. Он поглядел на меня с лукавинкой и сказал: «Никогда не быть тебе директором. Ты из другого теста сделан».
Потом я работал в Центрсоюзе, это могучая организация, государство в государстве. Для тоталитарной экономики того времени какой-то реликт с известной свободой личной инициативы, с народнической страстью работать для крестьянина. Дали мне экзотический титул – главный товаровед по книге, и стал я служить селу. Объездил всю страну, от целины до Молдовы, от сердца Азии до старинных местечек Беларуси. Но не только жажда путешествий меня влекла.
Сейчас я выскажу такое, за что демороссы снесут мою бедную головушку. В 1960 году было опубликовано партийно-правительственное постановление о книжной торговле. Там был пункт, на основе которого развитие книжной торговли в сельской глубинке финансировалось за счет общих доходов потребительской кооперации – заготовок, переработки сельхоз продуктов, продажи водки, селедки и пр. И это было справедливо, чтобы книга шла к сельскому жителю.
И я приезжал в какой-нибудь райцентр или большое село, имея все полномочия. И брал я за жабры какого-нибудь дремучего завторга: почему, мол, у тебя товаровед по книге получать на базу шампанское поехал? «Да план же горит!», - стенал завторг, но я заставлял вернуть товароведа в книжный магазин, который действительно не приносил денежной прибыли. И чувствовал я себя при этом в роли подвижника культуры. А один приезжий француз из Бордосского университета, которому я долго растолковывал, что за профессия у меня и должность, удивился и гарантировал, что человечество однажды отплатит мне за мой труд особой признательностью… (Я буквально перевожу его французские слова.)
Но чу! – как выражались романисты прежних времен. Разрешенный мне объем автобиографии заканчивается, а я главное и не сказал – как же я стал писателем?
Когда сидел я на Малой Лубянке, но уже на выход (т.е. перед освобождением), условия были сносные, одно плохо – одиночка! Надзиратель на мои жалобы угрюмо шутил: не наловили еще… Так, я от нечего делать мерил камеру шагами и придумывал сюжеты исторических романов. Ей-богу, не шучу – я до сих пор выполняю эту программу и пока целиком ее не реализовал. Конечно, я не продумывал конкретных героев или конкретные коллизии, скорее это был перечень тем, которые я, по моим убеждениям, пристрастиям или познаниям, мог бы поднять.
Однажды в 1960 году был я в командировке на целине с Самиулом Ефимовичем Миримским из издательства «Детская литература». Случайно оказались мы вместе в гостинице, и нас там задержал многодневный буран. Я признался попутчику, что грешу писательством, много мы спорили и рассуждали. Сам прекрасный писатель (под псевдонимом С. Полетаев), он понял меня и говорит: «Напиши нам на пробу какую-нибудь главичку, приходи, потолкуем». Приехав домой, я сел писать главичку, но так и не смог встать из-за машинки, пока не получился «Алкамен – театральный мальчик». Пришел в издательство с рукописью уже в конце зимы. Миримский говорит: «Что же ты пропал? Повесть целую принес? Какой чудак ты, право!».
Да, Муля, я чудак. Спасибо тебе, добрый человек, мой крестный отец в художественной литературе.
Думаю, не стоит подробно рассказывать, как сложилась та или иная вещь, каждая имеет свою историю. Хочется сказать лишь несколько наиболее общих соображений, так сказать, в напутствие читателю, взявшему на себя (так и хочется соболезнующее улыбнуться) труд раскрыть мое собрание сочинений.
Я избрал своим жанром так называемый профессорский роман, то есть художественное произведение, написанное ученым, знатоком в своей области, однако написанное без какой-нибудь заученности, по вольным законам литературного творчества. В Европе провозвестником этого жанра был великий немец, профессор египтологии Георг Эберс («Уарда», «Император», «Арахнея»), у французов, конечно, Проспер Мериме. У нас не обойти Юрия Тынянова, Ивана Ефремова, Владимира Обручева. Но основная глыба здесь, конечно, это Алексей Николаевич Толстой и его «Петр I». Он наш общий учитель, основными эстетическими критериями его руководствуюсь и я.
Недавно я прочитал сообщение международных статистических организаций, что в мире по количеству тиражей и переводов первое место стойко держит Жюль Верн. Это очень обнадеживает и приводит к оптимистическому выводу, что человечество в целом движется в сторону прогресса, сулит и отрадные перспективы такому познавательному жанру, как наш.
Прислал мне письмо правнук славного Смирдина (да нет – праправнук!), потомок его дочери Кати Александровой. Сам уже старый человек, он благодарит за «публикацию» свидетельств о доме и семье его прабабки… И я оказался в чрезвычайно трудном положении – ведь архивы Смирдина совершенно не сохранились. Мемуаристы-современники, даже такой, как Н.П. Полевой, о его быте совершенно не писали. Что было делать бедному автору? Бедный автор реконструировал этот быт (придумал, что ли?) на основании других памятников и свидетельств эпохи.
Я не мастер писать про царей и императоров, все-таки дитя советского мышления, я республиканец в душе. Библиотекариусы, кузнецы, купцы, типографщики, их дочери, жены, свояченицы – вот мои излюбленные герои. Я не сяду писать, пока досконально не вызнаю все про реалии быта и психологии людей, изображаемых мною, и это готов защищать я, как некую диссертацию.
Теперь уже мои литературные произведения выходили много раз в нашей стране, переводились и за рубежом. Нелегкая история их печатания, как ни странно, продолжается. Например, тяжело давшийся мне «Флореаль» в 1968 году еле напечатали, поскольку, по мнению издательского руководства, у меня был явно беспартийный взгляд на Парижскую коммуну, а к столетию Коммуны мой роман был вообще вычеркнут из списков для переиздания. Комично то, что и теперь некоторые издатели в ужасе отшатываются от него – ты же там Коммуну воспеваешь!
Когда мне исполнилось сорок лет, я сделал для себя выбор и не стал профессиональным писателем. Я работаю в Московском полиграфическом институте, я доктор исторических наук по специальности «Книговедение», а профессор я по специальности «Управление и экономика». Видите, какая разнообразная сфера интересов? Я заведовал кафедрами, был и заместителем декана, выше не поднимался. Преподавал я большей частью историю книги, написал и издал много научных публикаций, в том числе учебники.
У меня в студентах и аспирантах перебывало множество народа. Некоторые работают теперь в издательствах, другие в журналах, книготоргах, в букинистических магазинах, где угодно. Я получаю много писем, в том числе от моих бывших учеников, которые уверяют, что, когда читают какой-нибудь из моих романов, будто слышат мой голос на лекциях. И я рад! Значит, прочная и живая протянулась к моему читателю сердечная нить.
Александр ГОВОРОВ