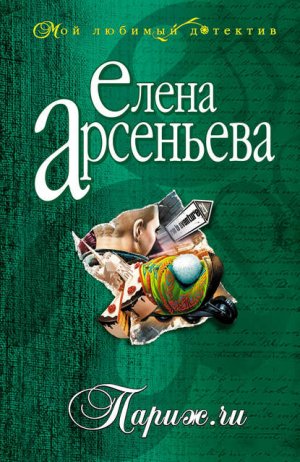
Валерия Лебедева. 26 июля 2002 года. Москва
Если вы мужчина, вы этого не поймете никогда.
Вы никогда не испытывали неожиданности такого рода. Нет, вы даже представить себе не сможете, что чувствует женщина, одетая в белое льняное, очень дорогое, новое, изумительно красивое, облегающее платье (изрядно, увы, помявшееся за минувшие полдня, однако теперь это как бы даже особенный супер, потому что измятость служит доказательством натуральности ткани), – словом, вы не способны постигнуть, что чувствует женщина, облаченная в этакое великолепие, когда оно оказывается запятнанным спереди, на самом выразительном месте...
Чем запятнанным? Ну чем, чем...
Тем, что женщины называют божьим наказанием, когда оно приходит, чего ждут, считая дни с нетерпением, когда оно задерживается, что оплакивают, когда оно исчезает вовсе. Неуютной, так сказать, жидкой лунностью. Пренеприятнейшей неожиданностью, случившейся на неделю раньше срока – от внезапного теплового удара. И немудрено – после пробежки по этой безумной, задымленной, гудящей, грохочущей, раскаленной до жути июльской Москве. Вы помните, какая жара стояла в июле? Ну тогда чему удивляться?
А дело было так. Лера уже подошла к двери в метро, как вдруг ее словно бы ударило по голове чем-то мягким – и в то же время тяжелым, вдобавок очень горячим. Сердце забилось в горле, ее затошнило, она еще успела почувствовать, какими ледяными внезапно сделались руки, потом все смерклось перед глазами, а через миг до нее донесся испуганный мужской голос:
– Что с вами? Что с вами, девушка?! Вас ударило дверью? Осторожней, не напирайте, тут девушке плохо стало!
«Со мной все нормально», – хотела было сказать Лера, открывая глаза, как вдруг ощутила, что вся она внизу живота сделалась какая-то отвратительно влажная. Но она еще не поверила в такую беду, она посмотрела вниз просто так, на всякий случай. В это мгновение резким движением воздуха из недр метро ее белое платье плотно прижало к телу, а когда оно через мгновение отклеилось, на нем проступило темное пятнышко. Этак размером с пятак – тот, прежний, советский пятак, а с учетом инфляции – нынешний металлический пятирублевик.
Лера инстинктивно прижала к животу портфель – и только тут поняла, что поддерживающий ее мужчина глубоко прав: ей вовсе не нормально – ей в самом деле плохо, очень плохо, просто-таки клинически!
Значит, так. На часах – двенадцать дня. В два Лера должна быть в издательстве, где ее ждет дама-редактриса, известная свирепой пунктуальностью и другими замечательными качествами. Внешностью она напоминает борца в тяжелом весе, ростом метра полтора, стрижена практически наголо, остатки волосиков выкрашены в мертвенно-белый цвет. При этом вся она увешана тяжелыми золотыми кольцами: на пальцах, в ушах, вокруг шеи кольца разной величины и толщины. В носу, правда, ничего нет, но, может, только оттого, что кольцо в носу убивало бы авторов с первой минуты наповал, а редактриса предпочитает растягивать удовольствие антропофагии. Ходят слухи, что начинающими сочинительницами она завтракает, обедает и ужинает – причем употребляет их в качестве легкой закуски, а основным блюдом служат маститые авторы как женского, так и мужского пола. Но если первых сия особа обгладывает до костей, причавкивая и причмокивая, то вторых лишь нежно покусывает и облизывает... в определенных местах. Дама-редактриса славилась своими сексуальными аппетитами и к молодым, симпатичным писателям, особенно стройным брюнетам среднего роста, относилась, можно сказать, неплохо. Валерии Лебедевой, автору всего лишь двух романов, прошедших со средним, более чем средним успехом, вдобавок молодой женщине, вдобавок натуральной темно-русой, а не крашеной шатенке, опоздать на встречу с Фрау (такова была кличка означенной редактрисы в перепуганных литературных кругах) нельзя никак.
Издательство находится на «Войковской», а Лера сейчас – на «Октябрьской». Подумаешь, большое дело – доехать по Кольцевой линии до «Белорусской», перейти на радиальную, а оттуда сразу махнуть на «Войковскую». Там еще две остановки трамваем – и все: вот оно, издательство «Глобус»! Не более часа в пути, останется даже время перекусить в кафешке на первом этаже здания, где расположен «Глобус», зайти к девочкам-корректорам, которые почему-то очень расположены к начинающей романистке Лебедевой, как бы невзначай повыспросить у них, с той ли ноги нынче встала грозная Фрау... Времени вроде бы еще вагон. Но это при обстоятельствах нормальных. А при форс-мажорных?!
Лера отклеилась от все еще поддерживающего ее мужчины, посмотрела на него мутным взором, буркнула что-то вроде: «Большое спасибо, теперь все в порядке!» – и сделала новую попытку войти в метро.
Не тут-то было! Незнакомец продолжал поддерживать ее под руку, озабоченно заглядывать в лицо и заботливо уверять, что она еще слишком бледная, а потому надо присесть вон там, чуть поодаль, на лавочке, и немного отдохнуть.
Стоило Лере представить, что сделается с ее белым платьем, если она еще и сядет, как ей вновь резко поплохело. Выдернула у мужика свою руку и отрезала, что у нее срочные дела, спасибо большое, но ей пора.
Мужик продолжал изрекать что-то очень озабоченное и многословное. Общий смысл сводился к тому, что такой цвет лица, как у Леры в данный момент, несвойствен нормальным людям. Подобный оттенок обычно приобретают трупы, начинающие остывать. Потому что руки у нее именно как лед.
«Господи! За какие грехи ты наслал на мою голову этого ненормального гуманиста?» – воззвала Лера. Разве в наше время кто-нибудь кому-нибудь сочувствует дольше одной минуты? Может быть, этот тип не москвич, а какой-нибудь дальневосточник, раз такой отзывчивый?! Увы, грош цена его отзывчивости в данный исторический момент! Ведь для Леры сейчас единственное спасение – опрометью лететь в какой-нибудь магазин, срочно переодеться с головы до ног (натурально именно так, ведь и платье нужно другое, и трусики: приехав в Москву на один день и надеясь вернуться в Нижний вечерним поездом, она не взяла с собой никакой одежды, только длинную, почти до колен, футболку, в которой очень удобно валяться на полке в вагоне, но совершенно немыслимо показаться на улицах, тем паче – в издательстве), а потом мухой лететь на встречу с Фрау. Сейчас не до реверансов с добрыми самаритянами, вот уж никак нет!
– Ради бога, извините, огромное вам спасибо, но я смертельно спешу, – пробормотала Лера. – Всего доброго!
И мощным рывком оказалась далеко впереди самаритянина. Вскочила на эскалатор, лихорадочно соображая, куда ехать, где отовариваться. Она не столь хорошо знала Москву, а ведь надо выбрать какую-то безошибочную точку, где и платье, и белье можно купить, чтобы и недорого, и не туретчину абы какую: уж покупать вещь, пусть даже вынужденно, так хорошую. Ну ничего, заодно можно прибарахлиться, раз уж к этому принуждает судьба... Лера обладала уникальным свойством характера – она в любом, самом пакостном «подарке» этой самой судьбы умела высмотреть что-то хорошее. Вот и сейчас мысленно билась, как рыба об лед, пытаясь отыскать благо в том, что белоснежное платье на самом интересном месте безнадежно испорчено и еще не факт, что его удастся отстирать. Если бы сразу, если бы немедленно, если бы нашлось мыло с желчью, которое, как известно, уничтожает любые пятна...
Лера зачастила ногами вниз по эскалатору, потом ворвалась в вагон, а мысль ее металась между мылом с желчью и магазинами, причем Лера была в таком шоке, что ни одного не могла припомнить, кроме ЦУМа, до которого и ехать далеко, и не по ее карману тамошние цены. Вышибло из головы даже, есть ли магазины в окрестностях издательства. Наверняка они там были, и не один, но разве человек, испытавший такой стресс, способен хоть что-то толком сообразить?! Сейчас казалось, что «Глобус» крутится-вертится посреди какой-то пустыни, ну разве что шаурму там продают, а из одежды – ничего...
Отчего-то вдруг вспомнилось, что до революции ЦУМ назывался «Мюр и Мерилиз». Кто были эти самые Мюр с Мерилизом, Лера знать не знала, да это ее не больно-то заботило, буржуи какие-нибудь, конечно. Буржуи... буржуи и пролетарии... Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Как выражаются в Хохляндии, голодранцы з усих краин, в единую купку геть! Нет, по-русски это все же звучит лучше... И вдруг, повинуясь этому знаковому лозунгу, из неведомых бездн памяти выскочило: самый пролетарский район Москвы – Красная Пресня.
Ура! Краснопресненский универмаг! И Лера как раз подъезжает к «Краснопресненской»! Правда, универмаг на какой-то другой станции... А, вспомнила! Значит, так: надо сейчас выйти из вагона, потом перейти на «Баррикадную», потом проехать одну остановку до «Улицы 1905 года» – и после этого два квартала, не больше, будут отделять ее от перевоплощения в нормального человека из перепуганного, загнанного зверька, каким она теперь стала.
Я же говорю: если вы не женщина, вы никогда не поймете этого!
– Вы выходите? – спросила Лера у русоволосого мужчины, который стоял около двери.
Тот обернулся с улыбкой:
– О, да нам оказалось по пути! Вам тоже на «Краснопресненскую»?
Несколько мгновений Лера тупо смотрела на него.
Они что, знакомы? Но среди ее знакомых нет таких вот симпатичных шатенов среднего роста, с острым взглядом карих глаз и белозубой улыбкой. Нет, определенно, этого человека и его тронутые модной щетиной щеки она видит впервые в жизни! Наверное, он ее с кем-то перепутал, ну и бог с ним. Выходит на следующей станции – и ладно.
– Вам, вижу, гораздо лучше, – продолжал улыбаться незнакомец. – Ну, конечно, метро кого угодно взбодрит. Хотя я знаю массу людей, которых оно выматывает и высасывает. Но, по мне, повариться в человеческой массе – лучшее средство подзарядки. К тому же здесь, можно сказать, прохладно, не то что в этом уличном пекле, в котором у вас обморок сделался!
О чем он там стрекочет, ради всего святого?! Да неужто это тот самый мужик, который прервал ее падение на грязный асфальт у входа в метро «Октябрьская»? Право, мир тесен, как маршрутка номер 34 в час пик... Но как, каким образом этот дяденька оказался около Леры, если она опередила его, бегом бежала по эскалатору и все такое? Неужто несся следом? Зачем? Тоже спешит? Запал на нее с первого взгляда? До сих пор обуреваем своим несусветным самаритянством?
Выбрать подходящий вариант ответа Лера не успела: двери раскрылись, и наваливавшаяся сзади толпа выдавила из вагона и ее, и кареглазого незнакомца. Но тут уж Лера не оплошала и отдалась на волю толпы, немедленно забросившей ее на эскалатор.
Она на всякий случай даже оглядываться не стала, уповая лишь на то, что навязчивый самаритянин затерялся где-то внизу. Не дай бог, увидев, как Лера озирается, решит, что она его высматривает, – и мигом подбежит к ней. В его способности перемещаться в пространстве с невероятной скоростью она уже успела убедиться!
Эскалатор медленно тянулся вверх. Лера оперлась на черный ползучий поручень, стараясь хоть на миг отключиться от жутких мыслей о том, каков ее вид сзади. Второго портфеля, чтобы прикрыть тылы, нет, да и хороша она была бы, прижимая портфели и к животу, и к попе! Только слепой не обратил бы на нее внимания, а так, может статься, и проскочит до магазина, не вызвав шока у прохожих. Строго говоря, на нее никто и не смотрит, никто вообще ни на кого не смотрит, глаза людей словно бы обращены внутрь себя, окружающие для них практически не существуют... А не рискнуть ли и не отправиться ли прямиком в издательство? Может, озабоченные москвичи даже и не заметят компромата на белом платьишке Леры?
Москвичи запросто не заметят, а как быть с москвичками? И особенно с одной москвичкой по прозвищу Фрау?..
Нет уж, вперед, на станцию «Улица 1905 года», а потом и в Краснопресненский универмаг!
Доехать-то до метро «Улица 1905 года» она доехала...
А вот до универмага не дошла.
Вениамин Белинский. Ночь на 31 июля 2002 года. Нижний Новгород
«Кто ж тогда нам звонил?» – подумал Вениамин, едва поглядев на человека, к которому приехала «Скорая». Повезло – машина кардиологической бригады как раз возвращалась с предыдущего вызова и шла практически мимо дома четырнадцать по улице Минина, откуда и последовал вызов. Так что «Скорая» более чем оправдала свое название, потому что доктор Белинский возник на пороге квартиры (дверь была приоткрыта) буквально через пять минут после звонка. Однако врачебная помощь опоздала клинически: лежащий на диване человек был уже мертв.
Для того чтобы это определить, Вене не понадобилось считать ему пульс, приподнимать веки, щупать бледный лоб или, к примеру, прикладывать к губам зеркальце, чтобы уловить трепет дыхания. Зеркальца у Вени вовсе не имелось, ну а веки человека были полуприкрыты. Но вместо того, чтобы приподнять их, Веня, вздохнув, осторожно надавил на глаза лежащему, чтобы они закрылись. Ведь покойнику положено лежать с закрытыми глазами. А человек, обнаруженный в двадцать шестой квартире дома номер четырнадцать по улице Минина, был покойником.
Трудновато, да что там, вообще невозможно остаться живым, имея в левом боку ножевую рану такой глубины. Лезвие прошло между ребрами и явно достигло сердца. Нож был длинный, острый, таким только и убивать. Чтобы определить это, Белинскому не понадобилось звать на помощь ни дедукцию, ни индукцию, ни какую-либо интуицию. Орудием убийства послужил отличный кухонный нож. Он валялся на полу – не рядом с трупом, а чуть поодаль, посередине комнаты, как если бы убийца, нанеся удар, тут же выдернул нож из раны и брезгливо отшвырнул его в сторону, словно оружие жгло ему руки.
Может, убил – и быстренько раскаялся в содеянном? Настолько, что решил вернуть к жизни загубленного им человека и для этого вызвал «Скорую»? А потом сделал ноги из квартиры? Похоже, так оно и было. Тот, кто лежал на диване, сам вызвать «Скорую» никак не мог. Если бы ходил по квартире с этакой раной, все вокруг было бы залито кровью, а так ее натекло лишь около дивана, и то чуть – человек умер почти сразу, лезвие мгновенно достигло сердца.
Значит, «Скорую» вызывал тот, кто помог ему стать трупом... Однако же у него и чувство юмора! Из диспетчерской передали, что «кардиологию» просят прислать к человеку с подозрением на микроинфаркт. Да уж... если это – микроинфаркт, то что же тогда – макро?!.
Внезапно за спиной Вениамина раздался гулкий звон, и он, натурально подскочив, обернулся, уставился на часы в виде Хозяйки Медной горы в струящемся платье и чрезмерно высоком кокошнике, сидящей практически на циферблате, и ошалелого Данилы-мастера, стоявшего тут же, близенько. И она его, типа, спрашивает: «Ну что, Данило-мастер, не выходит каменный цветок?»
И Даниле, и Хозяйке Медной горы Веня улыбнулся как добрым знакомым, с каким-то даже ностальгическим чувством. Некогда, в незабываемые советские годы, подобное монументальное произведение каслинского литья имелось и в квартире Белинских, но потом, в период острого безденежья, наставшего вслед за павловской реформой, мать, помнится, снесла часики в антикварный магазин. Дали за них какую-то чепуху, однако Белинским хватило продержаться до маминой зарплаты, которую очень «вовремя» задержали на три месяца. Не эти ли самые спасительные часики напомнили сейчас о себе Вениамину звоном и боем? Судя по обстановке, убитый хозяин квартиры обожал все, что можно было хотя бы условно назвать словом «старина», поэтому вполне могло случиться и такое совпадение. Помнится, в тех, домашних, часиках был один приметный знак сзади, аккурат на изящном изгибе спины Хозяйки Медной горы. Не уточнить ли?
Белинский уже потянулся было к часам, но тут же в буквальном смысле слова схватил себя за руку. Он же не просто на вызов приехал, а на место преступления! Не в первый раз, между прочим. А ведет себя как дилетант, студент-практикант какой-нибудь. Да его потом менты за хрип возьмут, если поймут, что он трогал вещи в квартире. Еще и отпечатков пальцев насажает. Повезло, что сегодня он дежурит один, фельдшерица Люба не вышла на работу – приболела, а другого фельдшера Белинскому не дали. Ему не привыкать работать одному, особенно в горячее летнее отпускное время, а эта безответственная молодежь, фельдшеры, определенно насажала бы на месте преступления лишних отпечатков!
Надо как можно скорей набрать 02. Пусть приедут те, кому по долгу службы положено заниматься такими делами и с полным на то правом трогать и щупать все, что находится в квартире.
Белинский шагнул к тумбе с телефоном – и нечаянно пнул небольшой аккуратный портфельчик, валявшийся на пути. Портфельчик отъехал в сторону. Замочек, видимо, был расстегнут или неисправен, потому что крышка расстегнулась и из портфельчика веером вывалились исписанные листочки.
Вид этого портфельчика и торчащих из него исписанных листочков что-то напомнил Вениамину. До такой степени напомнил, что он присел над портфелем на корточки, на всякий случай спрятав руки за спину, хоть сидеть на корточках с руками за спиной – не самое удобное занятие. Он не собирался ничего трогать, хотел просто посмотреть.
Разглядел листки – и поднял брови, удивляясь. Это были анкеты, с какими сейчас, в разгар кампании по выборам мэра, бегали по домам агитаторы. Не далее как позавчера вечером к Веньке домой приходил кареглазый парень лет этак под тридцать – агитатор... Между прочим, с неприятным чувством вспомнил Белинский, этот парень чем-то походил на человека, остывавшего на диване. Тот же цвет волос, то же худощавое сложение, небрежно-элегантный прикид, вот только у мертвеца щеки были покрыты модной щетиной, в то время как агитатор обладал изысканным клочком волос под тщательно выбритым подбородком. И был он весь такой франтоватый, что жена Белинского Инна, открывавшая дверь, немедленно принялась строить ему глазки. У них, у Белинских, существовало такое разделение труда: муж автоматически строил глазки всем хорошеньким женщинам, ну а жена, соответственно, – всем интересным мужчинам.
Увы, Инне не повезло, даром что она была красотка, каких мало, и редкая особь мужского пола могла остаться равнодушной к ее аквамариновым очам. Агитатор оказался как раз таким исключением из правил. Сдержанно улыбнувшись Инне и маячившему за ее спиной Вениамину, он засиял, завидев в дверях кухни тещу Вениамина Белинского, Алевтину Васильевну (женщину моложавую и еще хоть куда!), ринулся к ней – и... Нет, ничего такого: парень всего-навсего битый час донимал мадам расспросами насчет ее политических симпатий и антипатий. Оказывается, у агитаторов была разнарядка, с кого и в каком количестве снимать опрос: столько-то мужчин от тридцати до пятидесяти, столько-то – женщин от сорока и выше. И все в этом же роде. На сей раз у парня с бороденкой возникла потребность именно в женщине под шестьдесят, вдобавок она должна быть обязательно пенсионеркой. Парню повезло, что идеальная кандидатура нашлась именно в квартире Белинских. И он дорвался до дела, оказавшись сущим трудоголиком! Чудилось, он вообще никогда не уйдет. Уже завзятые гуляки, пацаны Белинские, Гошка и Мишка, вернулись со двора и ринулись беситься в ванную. Уже Инна устала находить агитатора привлекательным и приклеилась к телевизору. Даже уж на что Алевтина Васильевна была любительница поговорить, но и у нее от никчемной болтологии сделалось учащенное сердцебиение. А гораздый парнишка вынимал из своего портфельчика новые и новые анкеты и донимал Алевтину Васильевну снова и снова, пока не заполнил все до единого бланка и не исчез наконец.
Тогда Белинский не поинтересовался, что, собственно, выспрашивал агитатор у тещи, а здесь пригляделся к листкам: список кандидатов на пост мэра, список виднейших политиков Нижнего Новгорода, всех городских телеканалов и ведущих газет... А вот и анкеты – наверное, на подобные вопросы и отвечала бедная Алевтина Васильевна. В верхнем уголке графа – «Фамилия, и., о. интервьюера», в которой начертано аккуратным, скупым почерком: «Холмский Д. К.».
Да, не повезло этому неизвестному агитатору. Небось явился в квартиру двадцать шесть выведывать, кому хозяин больше доверяет, кандидату Л., Б., К. или С., сунулся в незапертую дверь – а тут труп на диване. Вот Холмский и кинулся бежать.
Белинский распрямил затекшие коленки и покачал головой, глядя на циферблат, разделявший Хозяйку Медной горы и Данилу-мастера.
Нет, не выходит каменный цветок! Даже такой трудоголик, как тот парень с бородкой, вряд ли приперся бы проводить анкетирование в два часа ночи. Ведь труп еще не остыл, значит, хозяин квартиры был убит не более получаса назад.
Агитатор не мог появиться здесь после убийства, но когда же его папочка здесь очутился? До преступления, или... или во время его совершения? Может, он и есть тот «юморист», который ткнул хозяина в бок востреньким ножичком, а потом вызвал к мертвецу «Скорую»?
Секундочку! А уж не он ли сам, этот неведомый Холмский Д. К., лежит сейчас на диване, с дыркой в боку? Он ведь агитатор. И его убили люди кандидата Л. за то, что слишком хорошо агитировал за кандидата Б.? Или наоборот, тут постаралась команда кандидата Б., что гораздо более вероятно, поскольку кандидат недавно оказался публично уличен в порочащих его связях с каким-то местным авторитетом?
А что? И очень может быть, что все случилось именно так!
Мэй би, как говорят англичане. Мэй би, а мэй би и не би, как говорят некоторые русские!
Интересно, как его звали, этого Холмского? Дмитрий Кириллович? Давид Константинович? Или, может, Данила, в точности как Данилу-мастера? Какой-нибудь Данила Кондратьевич?
Белинский оглянулся на часы, но ни чугунная Хозяйка Медной горы, ни таковой же Данило-мастер ответить не пожелали. Может, потому, что и сами не знали, как зовут неведомого Холмского и кто он вообще такой.
Ладно, хватит тратить время на пустые догадки. Это вопросы к профессионалам, пусть они и отвечают.
Веня подошел к телефону, снял трубку и уже хотел было набрать 02, как вдруг заметил высветившийся на определителе номер. Какое-то время Веня смотрел, не веря своим глазам, потому что это был номер его собственного телефона, квартирного. И первая мысль, которая мелькнула у него, была такая: Инна, жена, зачем-то звонила сюда. Инна знакома с этим человеком! В то же мгновение Веня рассмотрел тройку, стоящую перед всеми цифрами. То есть сюда звонили с семизначного номера, начинающегося с тройки. Или отсюда набирали этот телефон.
Белинский устало покачал головой. Все-таки у него психика пещерного человека! Отелло, сущий Отелло! Стоило только допустить совершенно бредовую, безосновательную мысль, что Инна могла звонить этому мужчине... Главное дело – направо и налево гуляет он сам, совершенно не сдерживая своей, так сказать, многовалентности, а Инна – дама с устойчивыми принципами, однолюбка, даром что кокетка. При этом она совершенно не ревнует Веню, зато Веня бесится при малейшем намеке на подозрение!
Однако мысль об определителе номера натолкнула его на интересную догадку: отсюда ли звонили в «Скорую»? То есть верно ли предположение о том, что кто-то воткнул ножик в бок хозяину квартиры, а потом сам вызвал врача? Веня начал вызывать опцию «Исходящие звонки», но в эту минуту телефон грозно загудел и отключился. Цифры пропали с табло.
Белинский зажмурился. Вот-вот, не зря теща говорит, что ей проще самой выкрутить перегоревшую лампочку, не то вообще все электричество в квартире перегорит, если за это возьмется Веня! Сломал чужой телефон... Ладно, одно утешение, что этого никто не видел и никто не докажет, что это сделал именно косорукий доктор Белинский. А милицию вызвать – на это и сотовый есть. Дороговато, правда, выйдет, но сойдет за искупление греха!
Вениамин достал из кармана телефончик, подумал-подумал, а потом вместо 02 набрал совсем другой номер. Это был телефон линейной подстанции «Скорой помощи» Нижегородского района, где работал Вениамин.
– Слушаю, «Скорая», – отозвалась диспетчер Света.
– Светик, это Белинский, – сказал Веня. – Будь другом, звякни на центральный пункт, спроси, высветился ли у них номерок, по которому поступил вызов насчет подозрения на микроинфаркт на Минина, четырнадцать?
На Центральной станции были телефоны с определителем номера.
– А у тебя там как, подозрение на микроинфаркт подтвердилось? – спросила Света.
– Нет, – правдиво ответил Белинский.
– Ну и слава богу! – сказала человеколюбивая Света, даже не подозревая, какое совершает кощунство. – Перезвони через минуточку, ладно?
Белинский бездумно постоял над телефоном, выжидая, пока пройдет не минуточка, а на всякий случай две или три, потом позвонил на подстанцию снова.
– Слушай, ты знаешь, у них номер не определился, – сообщила Света.
– Ладно, спасибо, – ответил Белинский.
Не везет так не везет. Не узнать ему, кто звонил в «Скорую» и откуда. А впрочем, его ли это забота? Надо поскорей вызвать тех, кому сам бог велел заниматься такими делами. Веня решительно нахмурился и набрал наконец 02.
Бенуа д'Юбер. 1 августа 2002 года. Париж
Крошку Брюн увезли вовремя. Бенуа проводил взглядом исчезнувший за поворотом рю[1] Друо маленький серебристый «Смарт», удовлетворенно кивнул и начал снимать ботинки с роликовыми коньками. Сунул их в рюкзак, надел сандалии, вынутые из того же рюкзака, поднялся с бордюра, на котором сидел, и подошел к двери подъезда.
Надо было еще кое-что доделать. Прописную истину: если хочешь, чтобы все было сработано как надо, сделай это сам, – Бенуа уже давно усвоил. И хотя в этом деле он был правой рукой босса и вполне мог оставаться в роли наблюдателя, всегда лучше подстраховаться.
Набрал код, вошел в крытый дворик, уставленный кадками с фикусами и пальмами. Было тихо, пахло сыростью. Из крана в стене капала вода в позеленевшую от времени пасть льва – раковину.
Бенуа машинально завернул кран потуже: он не выносил звука падающих капель, – и только тут сообразил, что означает этот неплотно завернутый кран и влажный пол: здесь недавно поработала уборщица. Этот кран и был предназначен для того, чтобы она набирала воду. А когда-то, давным-давно, еще в позапрошлом веке, когда этот дом только что был построен, жильцы (вернее, их прислуга) набирали здесь воду для собственных хозяйственных нужд. Тогда квартиры на верхних этажах ценились гораздо дешевле, чем на нижних: именно потому, что приходилось затаскивать тяжеленные ведра с водой и углем по узкой, извивающейся лестнице. Лифтовые шахты в ту пору еще не поставили. Это сейчас в первых-вторых этажах жить практически невозможно из-за непрестанно снующих под окнами машин (а по ночам Париж вообще превращается в одну огромную автостоянку), но в те времена квартиры внизу были как раз самыми дорогими.
У Бенуа не было ключа от лифта, и он уже приготовился тащиться наверх пешком, однако все же потянул дверцу – просто наудачу. Она открылась.
Бенуа кивнул. Если лифт внизу, значит, когда девушку увозили, здесь никого не было, никто после этого не поднимался наверх. Очевидно, уборщица успела уйти и ничего не видела. Хорошо, если так! Большая удача, что жильцы этого симпатичного старого дома сочли, что консьержка для них – слишком дорогое удовольствие, и отказались от ее услуг. Теперь за чистотой в подъезде следят они сами, а уборщицу через день присылает бюро обслуживания. По опыту Бенуа знал, что женщины каждый раз приходят другие, а значит, они плохо знают жильцов. И есть шанс самому проскочить незамеченным при случайной встрече, надо только держаться понахальнее.
Этого умения ему не занимать, однако держаться понахальнее особо было не перед кем. Бенуа вошел в лифт, вытянулся в тесной-претесной, ну максимум на двоих рассчитанной кабинке, обитой красным вельветом. Полное ощущение, что ты находишься в коробочке для кольца. Наверное, крошке Брюн трудновато приходится в этом лифте! Впрочем, крошкой ее в последнее время можно было назвать только с ухмылкой: с таким-то животом! Да и ее «Смарт» не рассчитан для беременной женщины. С другой стороны, наверное, когда она покупала эту модную недорогую машину, не рассчитывала, что дела с этим русским у нее зайдут столь далеко. Вот смешно, что девушка навешала на себя столько проблем только оттого, что связалась с иностранцем! Впрочем, те девки, которые якшались с бошами во время войны, – шоколадницы, их обзывали шоколадницами, потому что они продавались за плитку шоколада! – тоже заимели массу неприятностей, еще и побольше, чем крошка Брюн. Этой-то дурочке ничего серьезного не грозит, особенно если будет вести себя благоразумно. Ну, в крайнем случае натерпится немного страху... А вот шоколадницам приходилось куда хуже. Случалось, им даже обривали головы – совершенно как ведьмам в старину, перед тем как отправить их на костер.
У какого-то букиниста на берегу Сены, напротив Пон-Неф, Бенуа видел на лотке такую гравюру: ведьму ведут на костер, – и почему-то надолго застрял перед ней. Уж очень красивая была ведьма! Чем-то походила она и на крошку Брюн, и на Софи Марсо, которая безумно нравилась Бенуа. Между прочим, крошка Брюн и так носит суперкороткую стрижку, ей и брить ничего не придется в случае чего. Разве что лобок, но какое Бенуа дело до Брюн, пусть о ее лобке заботится ее русский! Короче, классная девочка была изображена на той картинке, просто супер, жаль, что все для нее в жизни кончилось жаркими объятиями костра... Бенуа отчего-то даже возбудился, пока смотрел на ту картинку, уже собрался купить ее, однако взглянул на цену – и не поверил своим глазам: шестьдесят евро! Это же бред! Во франках, что ж, выходит вообще триста шестьдесят?! Как и многие французы, Бенуа еще не отвык пересчитывать цены на старые, канувшие в Лету деньги. Безумие – тратить такую уйму деньжищ на какую-то картинку, пусть даже с хорошенькой девчонкой. Цена для «новых русских», честное слово!
Бенуа усмехнулся, вспомнив, что одного из таких «новых русских» ему предстоит сегодня встречать в аэропорту Шарль де Голль. Конечно, он не бросится к этому парню с распростертыми объятиями. Наоборот, постарается не попасться ему на глаза. Постоит в сторонке, убедится, что дорогой гость (ну очень дорогой! практически бесценный!) прибыл благополучно. Потом сядет с ним в один автобус... Строго говоря, этот тип скоро смог бы позволить себе не только взять такси из Шарль де Голль, но и потребовать доставить ему прямо в аэропорт новехонький «Мерседес» – пусть бы и непосредственно с завода, перевязанный голубой ленточкой! Но весь фокус в том, что он ничего пока не знает о нежданно свалившихся на него безумных деньгах и, если повезет, не узнает о них никогда, и поэтому, даже исполнив то, чего от него хочет Бенуа, он не обеднеет, потому что невозможно потерять то, чем ты никогда не владел!
Лифт остановился. Бенуа вышел на площадку, отпер дверь. Ему стоило немалых трудов заполучить ключи, чтобы сделать дубликат.
Вошел, оглядел квартиру. Пожал плечами. Как только можно жить в окружении такого множества картин, висящих одна над другой? Разве что на потолке их нет. И были бы хоть путевые постеры со сценами из знаменитого мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари» или хоть гравюры вроде той, с красивой ведьмой, – еще понятно, так нет же: какие-то мостики под деревьями, разливы рек, морские пейзажи, крестьянки с охапками хвороста за спиной... И все картины – сплошь старье, едва различишь, что там на них намалевано. Неужели эти темные квадраты в бронзовых рамах не наводят смертную скуку на крошку Брюн? Ведь она еще совсем молодая, двадцать пять, разве это возраст? Бенуа тоже двадцать пять. Он бы умер в окружении этого старья! Впрочем, и квартира, и вся эта антикварная рухлядь принадлежат не самой крошке Брюн, а ее родителям, которые путешествуют по Южной Америке, так что девчонке просто некуда деваться, приходится жить в этом музее.
Вот именно – всему этому хламу место в музее! Будь воля Бенуа, он бы этакую рухлядь не напоказ в витринах антикварных лавок выставлял (а ведь там это стоит несусветно дорого!), а распихал бы в Лувр, Версаль, Фонтенбло и всякие такие никому не нужные дворцы. Конечно, может быть, там и своего старья хватает, Бенуа ни в Лувре, ни в других подобных местечках не был, не знает. А что ему делать, скажем, в Лувре?! Единственное, что есть путевое в старинной каменной громаде, – так это стеклянная пирамида в центре двора. Современное строение. На него посмотреть приятно, ничего не скажешь. И на здание Новой Оперы на площади Бастилии: легкое, изящное, насквозь прозрачное сооружение. Центр Помпиду – тоже симпатичный домик, весь обвитый снаружи трубами, а вообще Париж Бенуа не нравился с самого детства: этакое нагромождение зданий, и все в каких-то финтифлюшках, все тяжелые, громоздкие, человеку невозможно дышать, взгляд положить не на что! Конечно, в Двадцатом округе, где он живет, не то, что здесь, в буржуазном Девятом, там-то воздуху побольше, здания попроще, а все равно – их чрезмерно много. Но если с этим русским все получится как надо, Бенуа получит достаточно денег, чтобы построить себе дом, какой он захочет. Конечно, это будет не нагромождение металла, не замок какой-нибудь паршивый. Нет, правду говорила мать, что аристократическая приставка «д'« приклеилась к их фамилии случайно, по ошибке какого-нибудь писаря. Нужна она Бенуа, как бородавка на носу ! Всякие пережитки аристократизма он ненавидит, как его предки, которые, определенно, были в первых рядах санкюлотов[2], разбиравших по камушку Бастилию. Когда Бенуа разбогатеет, вокруг него будет только самый наимодерновейший модерн. Стекло – это будет одно сплошное стекло, такая же пирамида, как в центре Лувра. И вокруг – пустынный океанский берег...
Но до этого еще далеко. Сначала надо закончить все здесь, потом поехать в аэропорт Шарль де Голль. Дел море!
Он взглянул на часы, стоящие на каминной полке: фарфоровая девчонка с распущенными волосами, в широченных юбках, ее обнимает парень, одетый столь же нелепо. Ну и штаны! Вот уж кого санкюлотом не назовешь – напротив, штанов у него слишком много. Небось, когда приспичит, заблудишься, отыскивая в таких штанах свои причиндалы! Вот поэтому вид у парня такой, словно он не знает, что делать со своей девчонкой.
Вдобавок его от девчонки отделяет огромный циферблат. То-то фарфоровая овечка, лежащая у ног барышни, поглядывает на кавалера с таким ехидным выражением: ничего, мол, тебе не обломится, простак!
Ага, время поджимает. Автобусы в аэропорт идут от Опера каждый час, остановка в десяти минутах ходьбы, а на роликах и вообще пять. Жаль, нельзя катнуться в аэропорт на роликах, Бенуа настолько свыкся с ними, что, кажется, скоро разучится ходить. Лучшие минуты в его жизни – когда он демонстрирует слалом на роликах на Пти-Пон, рядом со знаменитым собором Нотр-Дам. Когда Бенуа на коньках, ему ничего не нужно. Только ветер и скорость. Заставьте его запихать свое длинное, метр девяносто, тело в «Смарт»... да хоть бы и в «Мерседес», хоть бы и в «Пежо» последней модели – он просто умрет! Увы, увы, придется тащиться в автобусе, потому что время не ждет. Ему надо будет присмотреться и к другим пассажирам, прилетевшим вместе с тем русским: вдруг среди них отыщется какой-нибудь лох, у которого можно незаметно тиснуть документы. Бенуа еще две недели назад получил запрос на хороший, надежный паспорт с русским именем. Возраст около тридцати, без особых примет. Если сегодня повезет...
Но пока надо покончить с основным делом.
С чего бы начать? Он огляделся, прикидывая, потом подошел в каминной полке, взял часы и подмигнул парню, который вот уже годы, а то и века не знал, что делать со своей девчонкой. Как говорится, бон кураж![3] Бенуа поднял часы повыше, а потом разжал руки и грохнул эту парочку об пол. И овечку туда же!
Валерия Лебедева. 26 июля 2002 года. Москва
А стоит только вспомнить, как все хорошо начиналось...
Визу ей дали практически мгновенно. Ну что такое три часа ожидания в симпатичном и удобном, исключительно кондиционированном холле посольства? И дали визу, что характерно, без всяких каверзных вопросов, а ведь Лера уже готовилась объяснять то, что объяснить невозможно, и уныло подыскивала максимально правдоподобные доводы.
Традиционный вопрос: почему мадемуазель Николь Брюн прислала вам приглашение? Кто она вам?
Ответа толкового нет. А придумать можно – какой угодно!
К примеру, такой: Николь – дальняя родственница Леры – вдруг решила восстановить узы, прерванные Отечественной войной (Октябрьской революцией, войной 1812 года, Великой французской революцией, Столетней войной, Первой Пунической войной – нужное подчеркнуть!). Лера могла бы порассказать несчетное количество душераздирающих подробностей того, как эти самые узы были прерваны, их хватило бы на дамский роман, а то и на целый сериал! В конце концов, ее профессия в том и состоит, чтобы сочинять дамские романы. Но штука в том, что историю об узах суровые господа из посольства вряд ли сочли бы не то что максимально, а даже мало-мальски правдоподобной. И ее очень просто проверить и выяснить, что у Николь Брюн нет и не было никаких родственников в России. Ее прапрадедушка и прапрабабушка не бежали от большевистских зверств, упрятав под прапрабабушкину нижнюю юбку энное количество бриллиантовых подвесок... Да и во время Отечественной войны никто из предков Николь не был угнан в концентрационный лагерь на территории Франции, никто не сбежал оттуда, никто не вступил в отряды легендарных маки и не принял героическое участие в Резистанс, то есть в Сопротивлении. Неведомо, конечно, как там насчет Пунической войны, однако в ближайшем приближении у мадемуазель Брюн не обнаруживалось никаких родственных связей с русскими, а значит, Валерия Лебедева ей никакой родственницей быть не может. Конечно, можно сразу назвать истинную причину, однако Валерия очень сомневалась, что после этого ее вообще когда-нибудь впустят во Францию. Да и, как это весьма часто бывает, правда выглядела совершенно невероятной.
Молчание – золото, это она давно усвоила. Вот и теперь: промолчала – и получила визу. И вышла из посольства вся такая окрыленная, и даже дешевый билет на чартерный рейс успела купить в кассах «Аэрофлота» на Октябрьской площади, буквально в пяти минутах ходьбы от Казанского переулка, где находился визовый отдел, и ринулась в издательство...
Нам известно, что случилось дальше, а еще нам известно, что до Краснопресненского универмага Лера не дошла.
Нет, ее не остановила бандитская пуля, или террорист, берущий в заложники всех подряд, или милиция, разыскивающая этого террориста, или нечто подобное. Просто Лера ощутила, что преждевременно начавшийся в ее организме процесс набирает силу, и поняла, что за оставшиеся до универмага сто метров ее платье приобретет совершенно неприличный вид. Огляделась безумными глазами – и вдруг увидела шагах в десяти от метро двухэтажное строение с надписью «Женская одежда».
Покрепче стискивая коленки, Лера просеменила до магазина и походкой девственницы принялась подниматься на второй этаж, куда вели указатели: «Роскошное белье» и «Платья! Платья! Платья!».
Сейчас она была готова напялить на себя даже те панталоны, которые некогда, во времена почти незапамятные, какой-то французский киноактер купил в Москве и привез на потеху парижанкам, чтобы продемонстрировать, что же носят под платьями многострадальные жительницы Страны Советов. Однако белье в этом магазинчике оказалось и впрямь роскошным. Цены – тоже... Самые дешевенькие трусишки стоили триста рублей! Но Лере было не до того, чтобы считать деньги. Она и не стала их считать – и была вознаграждена любезностью продавщицы, которая простерла свою доброту до того, что Леру пустили в примерочную переодеться, принесли бутылку минералки без газа, несколько полиэтиленовых пакетиков и пачку салфеток – понятно для чего. Женщина женщину всегда поймет – если при этом речь не идет о борьбе за мужика. То, что используется конкретно в критические дни, Лера успела прихватить еще на лотке в метро, поэтому она вышла из примерочной почти обновленным человеком. «Почти» потому, что по-прежнему прижимала к животу портфель, прикрывая его.
Тысячу раз поблагодарив милую девушку и назвав ее ангелом, Лера ринулась по коридору в соседний отдел – тот самый, где в изобилии предлагались платья.
И вот тут-то она убедилась, что реклама частенько лжет – и безо всякого стыда! В основном здесь были не «платья, платья, платья», а польские блузки и юбки редкостной уродливости и безумной цены. Платье сорок шестого размера – то есть Лериного – оказалось только одно, да и то это был сарафан. Простенький, синенький такой, типа легкой джинсы, очень красивый, с косой кружевной прошвой на подоле, он безумно шел к переменчивым серо-зелено-голубым Лериным глазам. Имел сарафанчик всего лишь два недостатка. Во-первых, он был на тонюсеньких лямочках, из-под которых неэстетично торчали белые кружевные бретельки Лериного бюстгальтера. Вторым недостатком – самым крупным! – была цена, ибо стоило незамысловатое рукомесло итальянских мастеров прет-а-порте всего-навсего три тысячи девятьсот рублей.
Сто тридцать евро!
Так, на минуточку...
Говорят, утопающий и за соломинку хватается, но в данном случае соломинка оказалась очень сильно позолоченной. Однако Лере уже попала вожжа под хвост! Она заплатила за сарафан и, больше не снимая его, только выхватив из-под него неудачный лифчик, ринулась, тряся грудями, обратно в «Роскошное белье».
Продавщица, видать, здорово наскучалась без работы, а может, она и вправду была Лериным ангелом-хранителем, временно сошедшим на землю, чтобы выручить попавшую в нужду подопечную, потому что новую Лерину проблему приняла так же близко к сердцу, как и предыдущую. И следующие четверть часа прошли в упоительных примерках всех синих и голубых бюстгальтеров третьего размера, какие только отыскались в отделе. Больше всего понравился Лере нежно-голубой лифчик, в котором ее бюст как-то невероятно приподнялся и выпятился вперед.
– Такой красивой груди у меня еще никогда не было! – с детским восторгом воскликнула Лера, на что продавщица с законной гордостью ответила:
– Что ж вы хотите, это же «балкон»!
Да, на балкон все это в общей сложности и впрямь походило здорово, и Лера с восторгом смотрела на себя в зеркало, в очередной раз ощутив бесспорность поговорки «Все, что ни делается, – к лучшему!» и правильность своих жизненных установок, принуждающих ее выискивать крупицы здравого смысла во всех, даже самых бессмысленных каверзах судьбы.
Вот не случись с ней такой жути, не испорти она свое белое платье, разве обогатился бы ее гардероб таким вот несусветным сарафанчиком, прелестными трусишками да еще и «балконом»?! Никогда в жизни!
Тот довод, что гардероб-то обогатился, однако сама она изрядно обеднела (на пять тысяч рублей в общей сложности!), Лера отмела как несущественный.
Теперь перед ней стояли две проблемы. Первая – как можно скорей попасть в издательство, чтобы, не дай бог, не опоздать на встречу с Фрау. Вторая – купить по дороге мыло из желчи, на худой конец – «Фэйри» и попытаться-таки отстирать в издательском туалете белое платье.
Да, пора бежать.
Лера снова и снова рассыпалась в благодарностях перед милейшей продавщицей, когда в дверях вдруг возникла темпераментная брюнетка:
– Анжела, я пойду покурю, присмотри там за моим отделом, ладно?
Мать честная, да ее и зовут вдобавок Анжелой! Все-таки и впрямь подфартило встретиться с ангелом-хранителем!
Распрощавшись и пожелав Анжеле успеха на земле и на небесах, умиленная Лера отправилась в издательство.
Брюнетка курила на ступеньках, причем не сигарету, а сигареллу, да еще на редкость вонючую. Лера отвернулась от дыма и невольно глянула в окно. И споткнулась, увидав мужика, маявшегося на пятачке неподалеку от магазина и разглядывавшего выходящих женщин. Особенно цеплялись его взгляды к тем, кто был одет в белое, а таких, учитывая жарчайшую погоду, оказалось нынче немало.
Само по себе все это оставило бы Леру совершенно равнодушной, однако дело заключалось в том, что мужик был ей вполне знаком. В том смысле, что она не знала, как его зовут, однако успела уже усвоить, что это – натура чрезвычайно человеколюбивая, заботливая: добрый самаритянин в чистом виде! Ну да, это опять был тот самый дядька – темноглазый шатен из метро!
Вот так номер...
Это ж надо запасть до такой степени на женщину в запачканном платье! Извращенец какой-то. Но продолжать знакомство с ним ей ни в коей мере не хотелось. Не ко времени это, во-первых, а во-вторых, сейчас совсем не стоит осложнять свою личную жизнь какой-то посторонней, пусть и кратковременной связью. Лерина судьба в этом смысле уже практически решена, шаг вправо, шаг влево... ни к чему все это! Как бы половчее проскользнуть мимо неожиданного поклонника?
Может, вернуться к Анжеле и попросить ее еще разок исполнить свои ангельские функции? В том смысле, чтобы вывести незадачливую подопечную из магазина по какой-нибудь запасной лестнице?
Поразмыслив, Лера, однако, решила своей небесной покровительнице больше не докучать. Во-первых, надо и совесть иметь. Во-вторых, запасной лестницы в этом зачуханном магазинишке, может статься, и нету. А в-третьих, она совершенно забыла, что переоделась! Как бы ни запал на нее этот мужик, зачем бы ее ни выслеживал, он вряд ли догадается, что Лера зашла в магазин переодеться. То-то он столь внимательно провожает взглядом каждую женщину в белом! Лера же теперь – в бледно-синем. Типа, в голубом. Почти по Есенину: «Да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом!» И если еще подобрать волосы, заколов их на затылке, и надеть большие голубые очки, которые лежат у нее в сумке, то опознать Леру будет затруднительно.
Она мгновенно изменила прическу, спряталась за очками, даже индийские серьги в виде позолоченных ракушек сняла (вдруг внезапный поклонник их приметил?), а потом, опустив голову и ссутулившись, ринулась из магазинных дверей.
Все-таки Анжела, очевидно, оказалась вполне профессиональным ангелом-хранителем, потому что продолжала охранять Леру даже без ее просьбы. Так оно, строго говоря, и должно быть! Именно в ту минуту, когда наша героиня готовилась пройти самую опасную зону, в кармане у самаритянина зазвонил телефон.
– Алло! – раздраженно крикнул он, не отрывая глаз от двери магазина, из которой (вот дурак-то!) Лера давно уже вышла. – Да, слушаю! Нет, еще нет.
Неизвестно почему Лера замедлила шаг, хотя ей бы, по-хорошему, следовало бежать со всех ног к метро, пока внимание самаритянина было отвлечено от нее.
– Да не мог я ее пропустить, – рявкнул в эту минуту означенный самаритянин. – Шляется небось по отделам. Как только выйдет, я ее сразу... Погоди, вон, кажется... Нет, не она. Тетка похожая, платье совершенно такое же, но не она.
Лера невольно оглянулась. Из магазина выходила рыжеволосая долговязая особа – то ли девица-перестарок, ли молодящаяся дамочка бальзаковских лет, – облаченная почти в такое же беленькое льняное платьице, как то, что лежало сейчас в Лериной сумке.
«Тетка похожая?! Ах ты!..» – несколько мгновений Лера была переполнена негодованием, для других чувств просто не оставалось места. Ну уж волосы у нее не мотаются вот так бестолково по плечам, а ниспадают на них красивыми волнами! И ноги не кривые: может быть, самое красивое во всей ее фигуре – это ноги! И она гораздо худее, эта тетка точно пятидесятого размера, а у Леры все-таки сорок шестой.
Но тут приступ возмущения схлынул, и до нее начал доходить основной смысл речи самаритянина.
«Как только выйдет, я ее сразу...»
Что?
Окликну? Провожу? Остановлю? Напугаю? Убью? Застрелю-зарежу-заколю-оторву голову?
Отчего-то в голову вползала исключительно террористическая терминология. Теперь Лера даже оглянуться боялась на темноглазого самаритянина, чтобы, не дай бог, не привлечь его внимания. Неслась к метро, сколько хватало прыти, а сама ломала голову в полной растерянности: так это что, не внезапное ошаление от ее несусветных прелестей произошло с мужиком? Скорее полная противоположность ему, если он мог сравнить ее с той дурацкой теткой! И почему он с кем-то советуется, как поступить с Лерой? Кто еще в курсе их мимолетной встречи? И почему сей неизвестный так интересуется встречей, что самаритянин докладывает ему о своей слежке?
Лера влетела в двери метро, ринулась к турникету, потом вынуждена была вернуться к кассе – купить билет, потом наконец-то вскочила на эскалатор и побежала вниз, ибо лестница-чудесница ползла слишком медленно, а спину словно жгло каленым железом, а в висках так и стучало тревожное: «По-че-му?! По-че-му?!»
Опомнилась она только в вагоне и обнаружила, что впопыхах заскочила в поезд, идущий в противоположном от «Баррикадной» направлении. А впрочем, это не страшно, ну доедет до «Пушкинской», там пересядет на Горьковско-Замоскворецкую линию. Разницы никакой. Однако надо взять себя в руки, не то заедешь в этой безумной Москве бог весть куда, а времени до встречи с Фрау осталось уже с гулькин нос.
Успокойся, сказала себе Лера. Все равно ничего не поймешь в создавшейся ситуации, так что лучше не дергайся. Это жизнь, а не дамский роман, в которых ты разбираешься не глядя. С жизнью дела у тебя обстоят посложней. Только зря накрутишь себя домыслами, поэтому забудь, забудь сейчас обо всем: о самаритянине, о его странном разговоре, о волчьем выражении, промелькнувшем в темных глазах, о злобе и раздражении, которые ты уловила в его голосе... Забудь! Помни только о Фрау. О том, что будешь говорить в защиту своего романа. А потом, по дороге домой, в Нижний, лежа на вагонной полке, ты как следует обдумаешь случившееся.
А скорее всего, постараешься забыть эту историю, отогнать от себя, как отгоняешь все непонятное, неприятное, ненужное. И зачем, зачем, в самом деле, думать о тревожном? Совсем скоро, если все сложится хорошо, ты отряхнешь с ног прах отечества...
Так не по барабану ли тебе все русские самаритяне на свете, будь они фанаты белых платьев или просто-напросто опасные маньяки?
Данила Холмский. 30 июля 2002 года. Нижний Новгород
Он глазам своим не поверил, увидев наконец-то «Автолайн». Уж и не ждал, что тот когда-нибудь появится. В Нижнем Новгороде транспорт после десяти вечера – вообще явление редкое, а уж на этой автозаводской окраине – и вовсе уникальное. Данила думал, придется выбрать одно из двух: либо трюхать домой, на Советскую площадь, на своих двоих, либо прилечь до утра под каким-нибудь кустиком, на свежем воздухе. Благо ночью замерзнуть ему не грозило по причине неутихающей жары. Другое дело, что воздух в Нижнем в последнее время трудно назвать свежим: он был насквозь пронизан дымом и отчетливо отдавал запахом горящей помойки. На самом деле это горели торфяники за Волгой, совсем близко. Горящие торфяники, если кто не знает, пахнут помойкой. В верхней части города было еще так-сяк, там, на горах, ветер порою сдувал дым, а здесь, под автозаводскими кустами, к утру превратишься в основательно прокопченный мясной продукт.
Впрочем, у Данилы имелся и третий вариант! Вернуться в дом, откуда он только что вышел, и попроситься на ночлег в одну из квартир, в которых он весь вечер проводил опрос: будете ли вы участвовать в выборах мэра, а если да, то за кого из шести кандидатов пойдете голосовать, и почему именно за этого, и чем вам не угодил мэр предыдущий, и почему вы уверены, что следующий будет лучше, и сколько вам лет, какого вы пола, и как вас зовут, и какие газеты вы предпочитаете читать, и кому из нижегородских политиков доверяете, а с кем даже рядом не сядете, – ну и всякая такая мутата, интересующая неведомых социологов, пиарщиков и прочий аналогичный народец. Данила и множество ему подобных молодых людей и девиц, желающих подработать, шлялись по домам в разгар предвыборной кампании и принуждали людей (вернее, очень любезно умоляли их) ответить на вопросы анкет. Иногда это получалось, иногда не очень.
Нынешний вечер, к примеру, выдался для Данилы удачным. Его никто не послал на три буквы, никто не крикнул: «Будьте вы все прокляты!», никто не затеял бесплодной дискуссии на тему: «А на хрена мне все это нужно?» Люди попались как один приветливые, беда только, любопытные не в меру: отчего-то личность анкетирующего вызывала у них куда больший интерес, чем персона будущего градоначальника. Данилу многие даже жалели: «Надо же, им там выборы, знают только деньги народные тратить, а молодому человеку приходится ноги бить по такой жаре!» То, что некоторая часть этих самых денег осядет в карманах многого народа, обслуживающего выборы, в том числе и персонально Данилином, он не афишировал. Изображал этакого самоотверженного волонтера. Это выглядело трогательно, поэтому на его вопросы отвечали-таки, а потом приглашали пройти в комнаты, присесть отдохнуть, уговаривали поужинать, выпить чаю, вина, пива, даже самогонки.
Дважды Данила не устоял: перед пирогами одной бабульки, безумно похожей на его собственную бабушку, даже и пироги у нее были такими же обалденно вкусными, как у бабы Кати, и перед котлетами веселой молодой супружеской пары. Строго говоря, именно поэтому он и задержался так долго в этом доме, что дважды поужинал. Зато он устоял перед весьма недвусмысленными намеками очень сильно перезрелой дамы со жгуче-черными волосами, черными же глазами и непомерно толстыми, ну прямо как окорока, руками. Вообще дама была преизрядного объема, Данила запросто мог задохнуться в ее объятиях, словно младенец – в чрезмерно пышной и мягкой перине. И она, будто нарочно, называла его «мой мальчик»... А его, пардон, мужской орган она, наверное, называла бы «наш дружок»!
Собственно, Данила ничего не имел против экстремалки, и хоть вел весьма сдержанный образ жизни одинокого двадцатисемилетнего психолога-консультанта, даже в его высокодуховной жизни случались более чем материальные прорывы. Причем возрастная амплитуда его связей оказывалась порой очень размашистой. Но вот этакие шумно дышащие особы были совсем не в его вкусе. Вдобавок ее толстенные руки... Короче, он принял девственно-невинный вид и вел себя так, словно не понимал не только намеков, но даже и открытого текста.
А ведь, вернись он сейчас и попроси приюта, дама будет просто счастлива! Вот только поспать рядом с ней вряд ли удастся. Все время будешь прикидывать, задавит она тебя в объятиях или пощадит и отпустит живым.
Нет уж, лучше пешком идти!
И тут же его целомудрие было вознаграждено появлением «Автолайна», который, правда, сначала воровато прошмыгнул мимо одинокой фигуры на остановке, но потом был тронут безумной попыткой Данилы догнать и перегнать удаляющуюся машину – и остановился.
В салоне было практически пусто, за исключением мужика в мятых белых брюках и бордовой майке, спящего на угловом сиденье и выдыхавшего в душный, перегревшийся за день салон невероятное количество перегара.
– Тебе куда? – спросил водитель, принимая от Данилы пятирублевую монету.
– До Советской площади.
– До конечной, значит? Тогда я пойду без остановок.
– Ради бога, – охотно разрешил Данила, поудобнее устраиваясь на трех совмещенных сиденьях.
Удалось прилечь, однако вытянуть гудевшие ноги не получилось. Ну и ладно, это нисколько не помешало ему мгновенно вырубиться, обняв собственные коленки и прижав к груди портфельчик, набитый анкетами.
Господи, чудилось, только-только смежил глаза, даже ни одного сна не мелькнуло в голове, а уже грянул трубный водительский глас:
– Эй, мужики, у меня ведь тут не ночлежка, меня тоже жена ждет в койке, давайте-ка выметайтесь!
Данила открыл глаза, приподнялся, глянул в окошко, а потом зажмурился, удивляясь, насколько разительно все изменилось в мире, пока он мотался по Автозаводу. Вроде бы никогда не было на Советской площади высоченного трамплина для прыжков на лыжах. Неужели успели выстроить? Когда?! Или это не Советская площадь?
– И где это мы? – спросил Данила.
Оказалось, на Сенной, которая, как известно, расположена от Советской площади на преизрядном расстоянии. Водитель, по неизвестным причинам, решил не ехать домой, а переночевать у двоюродного брата, который жил около татарской мечети. Пассажира он предоставил его собственной судьбе.
Данила пожал плечами и обреченно начал выбираться из «Автолайна». В наше время бессмысленно спорить даже с водителями раритетных государственных автобусов, а уж с частными автолайнщиками... На них и вовсе нет никакой управы. Поэтому Данила безропотно спрыгнул на землю и, чуточку покачиваясь со сна, шагнул вперед, прикидывая, каким путем короче добраться до дому.
– Дружка своего забери, – скомандовал шофер.
Первая мысль, пришедшая в голову Даниле, была такая неприличная, что он покраснел и невольно взглянул на свою ширинку. С «молнией» все было в порядке, и он перестал краснеть.
– Какого еще дружка?
– Да вон того, храпящего.
Данила заглянул в салон и обнаружил, что мужик в белых штанах все так же спит в дальнем углу, только свалился с сидений на пол, но и от этого не проснулся, а только начал с подвывом храпеть.
– Да какой он мне дружок, я его знать не знаю, – удивился Данила.
– Как не знаешь? Вы же вместе сели на Автозаводе.
– Да вы что? Когда я сел, он уже спал тут!
– Ладно врать-то! – возмутился водитель. – Я отлично помню, как вы садились на Маршрутной. Пить надо меньше, понял? Не умеешь – не берись, а то всю память пропьешь!
Данила начал объяснять, что у него всю неделю не было времени не только напиться, но даже перекусить как следует, вот только сегодня и наелся наконец, а где находится улица Маршрутная, он не имеет никакого представления, но водителю все это показалось глубоко неинтересным. Он перебрался через спинку своего сиденья в салон, сгреб спящего за плечи, подтащил к дверце, вывалил его на землю, как куль, а потом задвинул дверцу изнутри, снова перелез через спинку сиденья, сел за руль, завел мотор и, обогнув площадь, укатил в глухие переулки возле мечети.
Данила какое-то время только и мог, что смотрел вслед машине и вслушивался в удаляющийся рокот двигателя. Вроде бы давно не мальчик и ко многому успел в жизни привыкнуть, однако вот такие прибамбасы человеческой натуры не переставали его изумлять. Одно из двух: или он ненормальный, или этот водила какой-то нелюдь. Надо же так: выкинуть пассажира из салона, оставить беспомощного, пусть и пьяного, человека посреди дороги, а самому сделать ноги!..
Данила, покачивая головой, побрел было через дорогу, мысленно готовя себя к не менее чем сорокаминутному марш-броску до Советской площади, как вдруг остановилcя. Остановиться его заставила мысль: а ведь если он сейчас уйдет и оставит своего невольного товарища по несчастью валяться на земле, то тем самым как бы уподобится «нелюдю» шоферюге...
Он мысленно проклял свои чрезмерно завышенные моральные установки, поборолся несколько мгновений с собственной натурой, но поделать с ней так ничего и не смог. Вернулся к лежащему, присел над ним на корточки и осторожно потряс за плечо:
– Послушайте...
– Слушаю вас, – неожиданно отчетливо и ясно произнес человек. – Говорите, записываю.
Это последнее словечко живо убедило Данилу, что чудес не бывает – особенно чудес внезапного отрезвления. Конечно, незнакомец не пришел в чувство – просто заговорил во сне.
– Послушайте, вы можете встать? – безнадежно спросил Данила, не ожидая ответа, и чуть не упал сам, услышав вполне членораздельное:
– Надо попробовать.
Тут же Данила увидел блеснувший открывшийся глаз и с облегчением вздохнул: чудеса все-таки случаются. Повезло, честное слово! Пьяный проспался и начал что-то соображать. Поэтому Данила охотно помог копошащемуся на земле человеку подняться и не возражал, когда тот, в попытке удержаться на ногах, всей тяжестью навалился ему на плечо.
Здесь следует сказать – предваряя некоторые события, которые произойдут в дальнейшем, – что Данила Холмский был парень довольно-таки образованный: все-таки он не родился бегуном-агитатором и, что характерно, не собирался умереть в этом качестве. Он работал психологом-консультантом на телефоне доверия, а агитатором просто подрабатывал, чтобы оплатить заочную учебу на психологическом факультете университета, квартиру, которую снимал (родом Данила был из Богородска и собственной жилплощадью в губернском центре пока не разжился), ну и вообще – приодеться, съездить куда-нибудь в отпуск, купить подарочки любимым маме и бабушке... В общем, Данила Холмский был человек скорее хороший, чем плохой, скорее умный, чем глупый, но при многих бесспорных достоинствах у него был один весьма серьезный недостаток: он не любил читать.
Нет, с обязательной психологической литературой все обстояло как надо, ее Данила поглощал пачками, однако что касается книг как сокровищ общечеловеческих ценностей... В школе по литературе у нашего героя была развалистая троечка, сочинение на вступительных экзаменах он умудрился списать со шпаргалки, из Пушкина усвоил только метеопрогнозы: дескать, если буря периодически кроет небо мглою, то вскоре закрутятся снежные вихри. К «Мастеру и Маргарите» господин Холмский подступался трижды – и трижды отступался от этой великой книги, которую втихомолку начал считать скучнейшим произведением всех времен и народов... Что характерно, сказок Данила тоже не любил, а потому о приключениях Синдбада-морехода не читал. И, конечно, слыхом не слыхал о том, как сей храбрый мореход однажды необдуманно ответил любезностью на просьбу какого-то немощного старца подставить ему свое крепкое плечо... Нет, Даниле, в отличие от Синдбада, не пришлось сажать незнакомца на закорки и переносить через реку, да и стариком тот отнюдь не был, однако конечный результат и для Синдбада, который несчетное количество дней не мог избавиться от зловредного тунеядца, и для Данилы, взвалившего на себя в эту ночь ношу непосильную, оказался почти одинаков.
В этом «почти» кроется весь смысл дальнейших событий... но не стоит забегать вперед!
Короче говоря, Данила подставил свое плечо незнакомцу, который без этой опоры, несомненно, снова сверзился бы наземь. И они вместе сделали несколько шагов, после чего пьяница поинтересовался:
– А куда мы идем?
Строго говоря, этот на диво логичный вопрос должен был задать себе не едва проспавшийся человек, а трезвейший Данила. Этот последний же только и мог, что промямлил в ответ:
– Не знаю.
– А это какая улица? – спросил бывший пьяный.
– Вон там – Минина, – показал кивком Данила, потому что руки у него были заняты: одна поддерживала незнакомца, другая несла портфель с анкетами. – А там – Сенная площадь.
– О, класс! – восхитился незнакомец. – Пошли на Минина. Дом четырнадцать, квартира двадцать шесть.
– Вы там живете? – поинтересовался Данила.
– В том числе, – последовал загадочный ответ.
Впрочем, Даниле было не до того, чтобы задаваться какими-то там загадками. До дома посредине улицы Минина не очень далеко, это да, однако его собственный путь домой лежал несколько в другую сторону. Он так и объяснил проспавшемуся попутчику и даже принялся снимать с плеча его руку, однако обладатель этой руки начал без поддержки качаться, что былинка на ветру, и Даниле ничего другого не осталось, как снова сделаться подобием костыля.
Строго говоря, он вполне мог предоставить этого человека его собственной подпившей судьбе. Проще выражаясь, оставить его одного, пойти своим путем. И Данила знал, что на его месте так поступил бы каждый... пусть даже незнакомец незамедлительно свалился бы наземь и вынужден был бы продолжить путь на карачках. Но все дело в том, что после средней школы наш герой два года учился в медицинском училище, закончил его, потом даже умудрился поработать фельдшером на «Скорой». Происходило все это не в Нижнем, а в родимом Богородске, но суть дела, вернее, суть данной Данилой клятвы Гиппократа от этого не менялась...
«Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей[4] и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу. Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами. Что бы при лечении – а также и без лечения – я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастие в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена; преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому».
Ну и все прочее в том же роде.
Среди этого устаревшего извития словес, в наше время преобразовавшегося в суховатую и обтекаемую «Клятву врача», Данила и по сю пору считал необходимым неукоснительно исполнять два пункта: никому не отказывать в помощи и свято хранить врачебную тайну. Это уже принесло ему в жизни немало хлопот; судя по всему, должно было принести еще больше; однако он ничего не мог с собой поделать: покорно потащился по улице Минина, влача на себе незнакомца, который и пытался самостоятельно передвигать ногами, да только проку от этих попыток было мало.
Худо-бедно они добрели до дома номер четырнадцать, представлявшего нарядную «сталинку» в череде других, похожих на нее как близнецы-братья, вернее, сестры, ввалились в подъезд и двинулись вверх по широкой, просторной лестнице с такими удобными ступенями, что подниматься по ним даже с грузом на спине было гораздо приятней, чем налегке – по ступенькам «хрущобы»-пятиэтажки, в которой квартировал Данила. Он почти не заметил, как вознесся на четвертый этаж сам и втащил своего злополучного спутника.
Достигнув двери, Данила счел наконец Гиппократа вполне удовлетворенным и попытался ретироваться, однако несчастный пьяница вновь ослабел настолько, что нашему герою пришлось шарить по его карманам в поисках ключа – вернее, целой связки таковых, потом долго, с упорством взломщика-непрофессионала, подбирающего отмычки, искать, какими тремя ключами отопрутся три затейливых замка, потом перетаскивать хозяина через порог квартиры и волочь в комнату, так как того окончательно перестали держать ноги, он даже по стеночке не мог передвигаться, а вяло сползал по ней на пол...
Наконец-то незнакомец, с которым Данила уже практически сроднился, был свален в широкое кожаное кресло – часть красивейшего гарнитура, стоявшего в одной из трех комнат. Кроме дивана и двух кресел, в комнате имелись тумбочка с телефоном и тумба побольше – с телевизором. На телевизоре стояли удивительно красивые, на взгляд Данилы, часы. Похоже, чугунные. По недостатку начитанности он не идентифицировал фигуры с Хозяйкой Медной горы и своим тезкой-мастером, просто полюбовался на них, покачал головой из уважения к старине и подумал, что теперь-то клятву отцу медицины можно считать вполне исполненной. Пора бы и ноги делать, причем с чистой совестью.
Посмотрел в запрокинутое лицо хозяина (тот полулежал в кресле, умостив голову на спинку оного) и шагнул было к двери, однако под ногой предательски скрипнула плиточка паркета, и хозяин открыл глаза: совсем не мутные, неожиданно яркие, карие.
Наверное, у него настал очередной миг просветления и отрезвления, потому что и голос вновь зазвучал вполне четко:
– Куда собрался?
– Мне домой пора, – пояснил Данила, с неудовольствием услышав в своем голосе некую виноватость. За что ему, интересно знать, оправдываться перед этим пьянчужкой, из-за которого он потерял кучу времени?! Ну что за характер у него такой тряпичный? Это работа на телефоне доверия такой отпечаток накладывает: вечно тянет войти в чье-то положение и спасти несчастного просителя.
Что характерно, незнакомец даже и не просил ни о чем, а Данила его спасает да спасает, как нанятый!
– Слушай, принеси попить, а? – произнес в это время хозяин, и Данила мрачно кивнул: ну вот, дождался и просьбы!
Ладно, так и быть: этого типа ноги не держат, конечно, по-прежнему, а сушняк его долбит – можно себе представить, до какой степени!
– Где вода?
– На кухне бар-холодильник. И себе чего-нибудь налей, – уже другим тоном, не просительным, а скорее приказным, велел хозяин.
– Я не хочу пить, – буркнул Данила, раздраженно сунул свой портфельчик с анкетами в угол, к тумбочке, и пошел искать кухню. Ее вот именно что понадобилось искать. Данила обошел оставшиеся три комнаты, потыкался по углам коридора, пока не сообразил, что вход в нужное помещение почему-то находится в ванной.
Кухня надолго отбила у него способность к дальнейшему перемещению в пространстве. Такого разнообразия аппаратуры Данила не видел ни в какой «Бытовой автоматике». Причем если вся квартира свидетельствовала о явном пристрастии хозяина к ретро, то кухня была выдержана в модерново-эмалированно-хромированном стиле, здесь все сверкало, переливалось и ослепляло. А какая картина открылась в баре-холодильнике!.. Не то чтобы Данила никогда такого не видел... почему не видел? в витринах дороженных, ему не в подъем, винных лавок – сколько угодно! – однако вот так, живьем...
Короче, пробыл он на кухне долго, забыв начисто о просьбе хозяина и о собственной жажде, и, пожалуй, не скоро вспомнил бы об этом, однако вдруг услышал легкий хлопок дверей и спохватился. Пожалуй, хозяин все же вынул свое бренное тело из кресла и, мучимый жаждой, сам поплелся искать животворный источник.
Еще, не дай бог, упадет! Поднимай его потом!
Данила взял из холодильника бутылку «Ессентуков-17», своей любимой минералки, прихватил с вертящейся стеклянной полки два высоких хрустальных стакана с этикеткой, означающей, что в руках он держит не абы что, а шедевр богемских мастеров, и ринулся в комнату.
Навстречу своей судьбе ринулся.
Бенуа д'Юбер. 1 августа 2002 года. Париж
Все вышло не так, как предполагал Бенуа. Он уже покончил с этим маленьким дельцем на рю Друо и как раз катил на своих роликах к зданию Опера, чтобы сесть в автобус компании «Руаси Бас», которая обслуживала направление площадь Опера – аэропорт Шарль де Голль, когда в сумке у него зазвонил мобильник.
Звонила секретарша Себастьена, и лишь только Бенуа услышал ее переполошенный голос, как сразу понял, что план опять меняется.
Так и вышло.
Оказалось, ему надо будет встретить сразу двух русских. Одного по фамилии Понисофски, высокого блондина с голубыми глазами и надменным выражением лица, – оставаясь незаметным наблюдателем, как предписывалось с самого начала. И, возможно, второго... Возможно – потому что доподлинно неизвестно, вылетел ли он этим рейсом. Есть такая вероятность, однако уточнить не удалось. Скорее всего да – потому и возник пожар. Если это так, Бенуа следует встретить сего господина в буквальном смысле слова. То есть найти, узнать, представиться ему и принять под свою опеку. Потому что это был тот самый русский – драгоценный предмет всех их забот и хлопот.
– Бордель де мерд![5] – выругался Бенуа. – Да он же вроде бы только послезавтра должен был прилететь. Что за пожар такой?
– Ничего не знаю, – тараторила секретарша. – Себастьен позвонил из Медоны буквально пять минут назад, кричал как сумасшедший, что с этими русскими невозможно иметь дело, что они его заранее не предупредили о событии величайшей важности, что они даже толком не знают, летит этот человек в Париж или нет, что он, Себастьен, умывает руки и не желает участвовать в этом деле... Ну, ты знаешь, как он кричит, когда нервничает. А потом велел разыскать тебя, чтобы ты занялся этим типом и привез его к нему, Себастьену. Квартира-то для этого русского будет готова только через два дня.
– К Себастьену? – не поверил своим ушам Бенуа. – Да как можно?! Мы ж засветимся...
– А что делать? – последовал резонный вопрос. – В отель, что ли? Но русскому не следует мелькать ни по каким официальным каналам, ты и сам знаешь. Он нарочно настаивал на этом. Блюдет свое инкогнито, как невинность!
В голосе Себастьеновой секретарши прозвучало здоровое презрение нимфоманки к девственнице, и Бенуа понимающе ухмыльнулся.
– И все-таки не нравится мне все это, не следует везти его к Себастьену! – настаивал он.
– Ну хочешь, посели его пока что у себя дома, – ехидно посоветовала секретарша, а когда Бенуа пояснил, что именно думает об этом предложении, она захохотала и отключилась со словами: «Ну ладно, мне и свои дела надо делать!»
Вот уж правда, что «бордель де мерд», подумал Бенуа не без некоторой растерянности. Вы что же, мадам и месье, думаете, у меня тысяча глаз и тысяча рук? И, что характерно, тысяча ног?! Одного русского встречай и вези его в Медону, к Себастьену. За вторым следи и сопровождай его на рю Друо, а потом туда, куда он ринется, побывав в разгромленной квартире своей девчонки. У третьего русского вытаскивай бумажник с документами... Бенуа д'Юберу разорваться или как?
Впрочем, тут же Бенуа вспомнил, что третье задание ему совсем не обязательно выполнять самому. Главное, чтобы оно было сделано. Русским паспортом для последующей продажи может заняться кто угодно из его ребят, тот же Тьерри. Что касается встречи бесценного гостя, то он, очень может быть, еще и не прилетит. Плохо то, что Бенуа никогда его не видел, – только фотографию, ну и словесный портрет знает. Как бы не упустить!
А впрочем, все решаемо. Надо заскочить в одну маленькую лавочку вот здесь же, на углу, позади Галери Лафайет, и попросить набрать на компьютере нужный текст. И все: русский, который и сам не знает, кто его будет встречать, ни за что не пройдет мимо Бенуа, как только увидит на плакатике свои имя и фамилию. С тем другим русским по фамилии Понисофски, на которого Бенуа хотел просто полюбопытствовать, дела будут обстоять сложней. Не исключено, что его даже увидеть не удастся... Но и это ничего, тотчас попытался утешить себя Бенуа. В конце концов это любопытство рано или поздно будет удовлетворено, увидит он месье Понисофски, встретится с ним лицом к лицу – буквально завтра. Так что сегодня можно и потерпеть. Маршрут Понисофски заранее известен: он сядет в «Руаси Бас», доедет до Опера и отправится на рю Друо, в тот самый дом, откуда недавно ушел Бенуа и где его ждет сюрпризец не из приятных. Да, этого «рускова» не потерять даже при желании.
Он на рысях домчал до компьютерной лавочки, где владельцы скучали от отсутствия заказов, через пять минут вылетел оттуда и, на ходу сворачивая в трубочку лист бумаги с отпечатанным на нем текстом, помчался к Опера, как будто за ним черти гнались. Время поджимало!
А вот и остановка, вот и автобус – стоит наготове. Бенуа только успел заскочить на площадку, как дверцы за его спиной сомкнулись. Водитель – здоровенный араб – покосился на ролики, которые Бенуа не успел снять, качнул головой, но ничего не сказал: взял восемь евро, выдал билет, проследил, чтобы Бенуа его прокомпостировал. И молчал, и больше на пассажира не глядел: устремил все свое внимание на дорогу.
И правильно сделал, козел. Наверное, успел уже просечь, что отнюдь не все в Париже так уж обожают всякую черномазую рвань, которая понаехала в страну из бывших колоний и ведет себя понаглее иных коренных французов. Конечно, Бенуа был не такой дурак и не собирался на всех углах кричать, что он расист: после поражения Ле Пена на прошлых выборах это словечко стало не просто непопулярным – почти преступным. Даже в провинции народ резко полевел. Вы только поглядите на этих толстых деревенских клуш, которые кудахчут в защиту прав человека вообще и прав черного меньшинства в частности! Эти дуры верят всякому печатному слову как Священному Писанию: когда «Монд» в прошлом и позапрошлом году измывалась над русскими за «зверства над мирными гордыми чеченцами», они тоже верили! А Бенуа, между прочим, только тогда начал относиться к русским нормально... И не он один! Теперь Бенуа научился распознавать своих не по пылким речам, а по взгляду – режущему взгляду исподлобья, устремленному на всех этих... Наверное, конюр-шофер тоже понимает значение таких взглядов, оттого и не стал цепляться к наглецу на роликах.
Белому наглецу, заметьте себе!
Бенуа протопал в полупустой салон и уселся поудобнее – на сдвоенном сиденье, а ноги положил на сиденье напротив. Шофер поглядывал на него в зеркало, но помалкивал. Перехватив дерзкий взгляд Бенуа, отвел глаза, набычился, но так ничего и не родил: уставился на дорогу.
И правильно сделал, бико – крайне презрительная кличка арабов.
Бенуа усмехнулся. Классное словечко! Вообще он любил такие емкие, выразительные слова. Негросов называют нуар – черный – или кюло нуар – чернозадый. Русских – русков или попов. Англичан – ростбиф. Германцев – бош, фриц, шваб, тевтоник. Итальяшек – макарони. Китайцев – шинток. Япошек – джабс. Кстати, по отношению к шинтокам и джабсам Бенуа почему-то не чувствовал особой вражды и даже с удовольствием питался в их ресторанчиках, которых в Париже расплодилось – не сосчитать. Между прочим, Тьерри был самый настоящий негрос, однако Бенуа к нему относился нормально, назвать его кю нуар, чернозадым, и в голову не приходило. А как насчет секретарши Себастьена? Она ведь самая настоящая бико! Но по отношению к ней у Бенуа нет никакой реакции отторжения, скорее наоборот. А если так, значит, он не настоящий расист?
А, плевать.
Бенуа уселся поудобнее и принялся размышлять, как он будет объясняться с этим незнакомым «русковом», если тот, как большинство его соотечественников, не знает ни слова по-французски и даже по-английски. А, ладно! Как-нибудь. Бля-бля-бля! Он весело махнул рукой, вспомнив, что эта невинная французская присказка по-русски звучит как неприличное слово.
Почему-то водитель, в это время покосившийся на Бенуа в свое зеркало, счел это знаком приветствия ему лично, расплылся в ответной улыбке и тоже сделал ручкой.
– Ва так фэр футр![6] – буркнул Бенуа и отвернулся к окну.
Вениамин Белинский. Ночь на 31 июля 2002 года. Нижний Новгород
– Может быть, это и есть Холмский. А может, и нет, – осторожно сказал оперативник, перебирая анкеты. – Скорей всего, что так. Интересно, кто ж его уложил? И за какие такие грехи?
Белинский, которому этот вопрос адресовался, промолчал. Не только потому, что не знал ответа, но просто полагал, что это ему пристало бы задавать вопросы представителям, извините за выражение, внутренних органов. Он-то свое дело сделал! Приехал по вызову, обнаружил неподвижное тело со следами проникающего ножевого ранения, сообщил об этом в милицию. Как правило, врачей со «Cкорой» после этого отпускали – записав, разумеется, паспортные данные. Однако ему, Белинскому, этот невысокий крепыш, который представился как оперативный сотрудник Малышев, уехать не позволил. «Будете понятым!» – приказал он. Видимо, в его понимании понятой был кем-то вроде опасного преступника: Вене было велено сидеть несходно в кресле, ему даже не разрешили выйти во двор, предупредить шофера о причине задержки: Малышев послал для этой цели своего сотрудника.
– Предупредили? – спросил Вениамин, когда тот вернулся.
– Нет, – буркнул парень, снова принимаясь за осмотр квартиры.
– Почему это? – насторожился Веня.
– А некого было.
– Ка-ак?!
Белинский так и подскочил. Чтобы шофер Витя покинул кабину?! Это просто невозможно представить. Ничего подобного никогда не случалось! Среди врачей и фельдшеров ходят слухи, что на время ожидания бригады, ушедшей на вызов, водитель Витя Потапов отключает все важнейшие функции своего организма. То есть способен ждать часами, не испытывая потребности ни в еде, ни в курении, ни в, пардон, отправлении естественных надобностей. Выходит, по собственной инициативе покинуть кабину Витя никак не мог.
Тогда что могло случиться?
И вдруг Белинского заколотило. А что, если неизвестный, воткнувший хозяину квартиры (предположительно Холмскому) в бок вострый ножичек, на самом деле не ушел далеко от этого дома? Или ушел, но потом воротился? Во всех детективах написано, что убийцу неодолимо тянет вернуться к месту преступления. И этот злодей оказался таким же типичным представителем своего племени. Но при виде Виктора его потянуло еще раз обагрить руки в крови, что он незамедлительно и сделал. А потом вытащил труп из кабины, свалил его где-нибудь в ближние кусты...
Вениамин вскочил.
– Я же просил вас оставаться на месте до окончания осмотра места преступления! – сердито сказал Малышев.
– Но мой шофер...
– Да вы не волнуйтесь, – угрюмо сообщил вернувшийся со двора сотрудник. – Спит ваш-то. И правильно делает. Чем еще в такую пору заниматься?
Он протяжно зевнул и вышел из комнаты. Малышев строгим взглядом приказал Вениамину снова опуститься в кресло, с которого тот так порывисто вскочил, а сам принялся осматривать испятнанный кровью диван, с которого уже было убрано мертвое тело: после того как убитого осмотрел эксперт, приехала труповозка и увезла хозяина квартиры.
Вениамин покачал головой. Что-то он стал нервный, выдумывает бог весть что... Это от недосыпа. Не зря умными людьми установлена норма работы для врачей на «Скорой»: сутки через трое. А он вкалывает чуть не через день, а порой и пару дней подряд: делает деньги. Да и все ребята шустрят как могут, потому что зарплата у бюджетников – одни слезы. На одну ставку только аскет проживет, не обремененный семьей, двумя детьми, красавицей-женой и тещей... С другой стороны, красавица-жена получала очень недурные деньги в своей книготорговой фирмочке, да и пенсия тещина считалась не самой маленькой. Однако Белинский не привык сидеть на шее у женщин. Вот и работал как проклятый, особенно летом, в пору отпусков. Вот и подсадил нервную систему!
А чего он, собственно говоря, дергается? Выпала минута для бесконтрольного отдыха – так расслабься и получай удовольствие. Витька спит – и правильно делает. Все равно милиция никуда не отпускает, а вызовов пока нет.
Сейчас он и урвет пока несколько минут сна и покоя, а милиция пускай его бережет. Он опустился в кресло, откинулся на спинку, вытянул ноги и даже закрыл было глаза...
Однако если милиция что-то и бережет, то отнюдь не сон и покой тех граждан, которые ей самой не дали поспать, а вызвали на место преступления! Вышедший сотрудник, громко топая, вернулся в комнату и сказал озабоченно:
– Товарищ капитан, посмотрите, что я нашел.
Веня открыл один глаз и увидел, что оперативник – ладный, крепко сбитый, с чисто русским красивым, румяным, но, может быть, слишком простодушным лицом – держит в руках пачку книг. Вернее, упаковку, в каких книги привозят из типографий на склады, а оттуда – в магазины и торгующие фирмы. Подобных серых или коричневых пачек Веня навидался в большом количестве: порою он заходил или заезжал на работу к Инне, а она ведь работала товароведом на книжном складе. Свою жену Веня привык видеть либо ожесточенно разрывающей такие вот упаковки, либо вынимающей из них книги, либо выставляющей товар на высокие и длинные стеллажи, выстроенные вдоль стен склада. Ах да, иногда Инне не приходилось распаковывать книги: она забрасывала целые пачки на тележку, куда грузился товар для того или иного покупателя, и весело кричала девушке, сидевшей у компьютера и выбивавшей накладные: «Маринина – одна пачка, Бушков – четыре, Донцова – пять, «Православная кухня» – пять!»
Это происходило в тех случаях, когда на фирму приезжал какой-нибудь мелкий оптовик из области и затоваривался всерьез.
Между тем Малышев отвернулся от окровавленного дивана и без особого интереса уставился на пачку. Повертел ее в руках, нашел наклейку и прочел: «Издательский дом «Глобус». Владимир Сорогин. «Приключения людоеда Васи». Тираж 25 тысяч. В пачке 12 экз.».
– А, книжки, – сказал он равнодушно. – И что, Капитонов? Что ты в них такое особенное увидел?
– Там таких пачек пять штук, – сообщил румяный Капитонов. – С разными названиями. «Приключения людоеда Бори» есть. «Приключения людоеда Кости». Еще какие-то людоеды... По две, по три пачки каждого наименования. Странно как-то.
– Ну и что в этом странного? – не понял Малышев. – Любит человек читать приключенческую литературу – какие в этом проблемы?
Веня неприметно хмыкнул. Из всех приключенческих романов на свете убитый выбирал почему-то именно книги о приключениях людоедов... Впрочем, на вкус и цвет, как известно, товарищей нет.
– Нет, он их не читал, – покачал головой Капитонов. – Пачки все запечатаны. Аккуратненько сложены в углу, но ни одна не раскрыта.
– А, понятно, – махнул рукой Малышев. – Он приторговывал книгами, вот что. Видимо, мелкий оптовик.
– А почему книги все только этого Сорогина, а никого другого? – задал Капитонов вполне резонный, с точки зрения Вениамина, вопрос. – Если оптовик, значит, у него и другие книги должны быть!
– Ну, может, он на этом Сорогине специализировался – я знаю? – раздраженно дернул плечом Малышев.
– Да у него вообще других книжек нет! – испуганным шепотом, словно нечто святотатственное, изрек Капитонов. – Ни единой! Только эти пачки!
Малышев смотрел непонимающе:
– И что в этом такого?
Капитонов беспомощно оглянулся на Веню, и тот опустил голову, чтобы скрыть улыбку. Честно говоря, еще до приезда милиции он пару раз обошел квартиру. И тоже, как и Капитонов, обратил внимание на полное отсутствие книжек. Для Малышева эта деталь ничего не значила, а для Белинского значила очень много. Видимо, и для Капитонова жизнь в квартире без единой книги казалась совершенно невозможной. Другое дело, что у Вени при этой беглой пробежке по комнатам зародилось подозрение, что в них вообще никто не жил. Похоже, убитый сюда лишь иногда наведывался. Может, для того, чтобы переночевать? Хотя постель была не застелена, в ванной не висели полотенца, на кухне не стояло ни одной кастрюли или сковородки, в раковине не громоздилась грязная посуда... Даже платяной шкаф был практически пуст, не считая пары джинсов в магазинных пакетах и двух рубашек в упаковках. Да, еще лежали трусы и носки – также с магазинными наклейками.
Странная квартира, где все упаковано – от книг до трусов! Веня вспомнил, как выносили из квартиры убитого – в черном полиэтиленовом мешке, и подумал, что теперь упаковали и самого хозяина.
Он нахмурился от этой мысли – не потому, что она показалась ему такой уж кощунственной, а потому, что едва ли убитый был хозяином квартиры. Ну, может, снимал ее... Слишком уж она необжитая, неодушевленная какая-то. Единственным местом, где ступала нога человека, вернее, шарила рука человека, был холодильник. Там тоже громоздились нераспечатанные консервные банки и упаковки замороженных продуктов, в морозилке, например, лежал крупный освежеванный кролик, но пробки на многочисленных бутылках были свинчены! И в кухне, на столе, тоже стояла бутылка – правда, всего лишь минеральной воды «Ессентуки-17», но не пластиковая бутылка, а стеклянная, что как бы автоматически повышало качество налитой в нее жидкости, хотя черпали их из одной, так сказать, скважины. Или цистерны, бочки, бидона – как угодно. В коридоре валялись осколки двух хрустальных стаканов. Интересно, кто собирался освежиться минералкой? Кто разбил стаканы? Убитый не был трезвенником – даже испустив дух, он продолжал испускать пары алкоголя. Надоело наливаться спиртным, решил для разнообразия глотнуть «Ессентуков»? И что потом? Нес водичку себе и гостю – и наткнулся на ножик?
Между прочим, если и нес, то лишь пустые стаканы. Бутылка оставалась на кухне – или ее кто-то принес туда потом. Зачем?
Кстати, скорей всего, нес стаканы и уронил их кто-то другой, не убитый, потому что, если бы он получил рану в коридоре, все вокруг было бы залито кровью. Впрочем, что мешало ему сперва раскокать стаканы, а потом получить рану?
Или освежиться решил кто-то другой? До убийства или после? Он и разбил хрусталь... А кто – он?
Веня чуть ли не впервые подумал, что, оказывается, детективы интересно не только читать. В жизни тоже весьма любопытно разрешать вот такие загадки: кто, да что, да когда... Конечно, его попытка приглядеться к деталям носит дилетантский характер. Гадать тут совершенно не о чем: стоит эксперту-криминалисту снять отпечатки пальцев со стаканов и бутылки, а также взять их у убитого, как станет ясно и понятно, кто в этой квартире был обуреваем жаждой: убитый или убийца. И уж наверное, эксперт, который молчаливо возится на кухне, давным-давно снял отпечатки и сравнил их. И сделал какие-то выводы. Жаль только, что в его обязанности совершенно не входит сообщать об этих выводах какому-то там понятому. И Вене приходится довольствоваться самой что ни есть скудной информацией, которую роняют то Малышев, то Капитонов.
Однако бывают и минуты везения: вот зазвонил мобильник на поясе Малышева, тот несколько раз буркнул «да», «понял», «нет», «ладно», а потом, отключив телефон, обернулся к Капитонову с раздосадованным видом:
– В квартире никто не прописан. Она зарегистрирована на какую-то Сорокину, вот и все.
– Странно, – сказал Капитонов.
– Что тебе странно?
– Ну как же – хозяйка квартиры Сорокина, а в пачках книги Сорогина. Странное совпадение, верно?
– Ничего странного, подумаешь, фамилии похожи, – буркнул Малышев. – Что там такое?!
Это сердитое восклицание относилось к звонку, раздавшемуся из Вениного кармана.
Тот достал маленький плоский мобильник, откинул крышку:
– Алло?
– Белинский, ты где? – раздался сердитый голос Светы. – Почему не «курьерите»? У вас вызов.
«Курьерить» – от слова «Курьер», названия устройства связи в машинах «Скорой» и на линейной подстанции, – на профессиональном жаргоне означало обозначиться во времени и пространстве. Закончил работу на вызове – курьерь, что свободен и готов к новым трудовым свершениям.
Но главное состояло в том, что Белинский был сейчас ни к чему такому категорически не готов, тем паче – ехать в Зеленый город, откуда поступил вызов. И не только потому, что это уж такая даль. Подумаешь, полчаса езды! Просто-напросто Вене безумно жаль было уходить из этой квартиры, так ничего и не узнав ни об убитом, ни об убийстве. Конечно, ему никто не стал бы докладывать в подробностях, а преступником человека вообще называет только суд, однако же...
Однако же работа есть работа, поэтому он сообщил о звонке Малышеву. Тот недовольно свел брови, видимо, не счел себя полномочным лишать кого-то узаконенного Конституцией права на медицинское обслуживание. И нехотя приказал Капитонову найти других понятых, разбудив для этого жильцов соседних квартир.
Белинский бросил прощальный взгляд на Данилу-мастера и Хозяйку Медной горы. Циферблат между ними показывал четвертый час утра. В любой другой ситуации Веня остро пожалел бы людей, которым придется проснуться в такую пору и притащиться в квартиру, где произошло преступление. Однако в данный момент он остро завидовал этим несчастным! Любопытство, наверное, очень дурное качество...
Вениамин медленно вышел из «нехорошей квартиры» номер двадцать шесть и спустился по лестнице. Постоял минутку на крыльце. Отчетливо пахло горящей помойкой – ветер, значит, не переменился. Здесь, в верхней части, еще ничего, а вот на Мещере или где-нибудь на Автозаводе, говорят, полные кранты.
– Проснись, Витек, – сказал он, открывая дверцу и встряхивая водителя за плечо. – Труба зовет.
Водитель, чудилось, еще не открыл глаза, а уже повернул ключик в стояке. Белинский с усилием потянул на себя дверцу, но она отчего-то не закрывалась. Господи, этот битый-перебитый «Фольксваген»... Правильно Витька причитает, что даже германская техника от такой безумной эксплуатации идет вразнос. Дверка-то раскачалась, и очень сильно.
– Ну что там? – хриплым со сна голосом поинтересовался в это время Виктор.
– Где, в Зеленом городе? – Вениамин перевесился с сиденья и тянул, тянул заразу-дверь, которая нипочем не желала закрываться. – Сердечный приступ, что еще может быть для нас, для кардиологов? Женщина, сорок пять лет, перенесла инфаркт... Надо поспешить.
– Да нет, там, наверху, – мотнул головой Виктор, с трудом разлепляя глаза.
– А, там! Там труп, – сообщил Белинский, изо всех сил дергая дверцу.
И это титаническое усилие было вознаграждено: дверца захлопнулась так легко, как будто ее никогда в жизни и не заедало.
Валерия Лебедева. 26 июля 2002 года. Москва
К тому времени, как Лера добралась до «Войковской», а потом и до улицы Черняховского, где находился «Глобус», ей удалось отбросить почти все докучливые мысли и вполне сосредоточиться на предстоящем ответственном разговоре. Она выработала четкую тактику и стратегию: как постучится, как войдет, что скажет для начала, что потом, как будет реагировать на злоехидство Фрау, на ее оскорбительные реплики, имеющие целью посеять в молодом авторе неуверенность к себе, внушить отвращение к его собственному творчеству, убедить, что адрес издательства «Глобус» надо забыть как можно скорее – и не вспоминать больше никогда, а при одной только мысли о писательском труде следует ощутить жгучий стыд и сжаться в комок, твердя про себя: «Аз недостоин! Недостоин!!!»
Она была вполне готова увидеть неприязнь и даже злобу в глазах Фрау (нелюбимый автор явился, к тому же недовольный редактурой предыдущего романа и отзывом на новый, к тому же особа женского пола, к тому же довольно привлекательная внешне, к тому же опоздавшая на четверть часа!), однако такой вспышки ненависти не ожидала встретить даже она – при всей своей моральной и физической подготовке.
Причем Лере показалось, что ненависть сия смешана с неким страхом – как будто редактриса испугалась, что при взгляде на нелюбимую авторшу ее может кондрашка хватить.
– В-вы? – выдохнула Фрау. – Да как вы?..
На этом слове она поперхнулась, но Лере легко было себе представить, что Фрау хотела сказать: «Да как вы посмели опоздать на встречу со мной???«
Она неловко пожала плечами и, совершенно как господин Простаков, «от робости запинаясь», начала лепетать что-то про очередь в посольстве, про испорченное платье, про магазин... При этом Лера каждую минуту ожидала, что Фрау раздраженно на нее прикрикнет: «А какое мне дело до ваших платьев и ваших посольств?!» или что-нибудь в этом роде, однако та почему-то молчала и даже как бы прислушивалась к Лере, причем глаза ее выражали не лютую ненависть, не отвращение, даже не скуку, а что-то вроде растерянности... если такая дама, как Фрау, вообще способна теряться. «Наверное, это обман зрения, – решила Лера, – наверное, она просто-напросто оттачивает словцо поострее, чтобы прикончить меня одним ударом! Вон как разглядывает с ног до головы! Небось ищет, куда бы вонзить кинжал!»
И она замолчала, даже голову покорно склонила, готовая уже ко всему.
– Погодите-ка, госпожа Лебедева, – вдруг вполне человеческим голосом промолвила Фрау. – Вы что, за границу собрались? Во Францию – я правильно поняла?
Лера вытаращилась на нее, внимательно вслушиваясь в каждую интонацию. Против ожидания, из очей Фрау не извергалось всепожирающее пламя. Лязганья метательных ножей тоже почему-то не было слышно.
– Ну да, – не вполне себе веря, пробормотала Лера. – Во Францию.
– В Париж?
– В Па... в Париж. В основном.
– А, так у вас тур по стране? – с поразительным выражением лица поинтересовалась Фрау. Несколько мгновений Лера ломала голову над тем, какое чувство скрыто под этой гримасой: брови сведены к переносице и одновременно приподняты в том месте, где сведены, глаза расширены, губы стиснуты в куриную гузку, – пока не осмелилась предположить, что перед нею не маска Немезиды, а выражение вежливого интереса.
Господи Иисусе! Неужели издательство «Глобус» тоже входит сегодня в список приоритетных для посещения ангелами-хранителями мест?!
– Нет, у меня не тур, – пролепетала Лера. – Я еду по приглашению подруги, а у нее дом в Бургундии. В смысле, в Париже квартира и еще домик в деревне – типа дачи.
«Такая старая рухлядь четырнадцатого века», – словно бы услышала она насмешливый голосок Николь, но цитировать подругу не стала. Поостереглась. Уж больно сногсшибательно действовало на русских людей это словосочетание: «Дом четырнадцатого века в Бургундии!» И хотя Фрау трудно было назвать русской, все же она жила в России, а значит, менталитет у нее был такой же уязвимый, как у прочих, извините за выражение, россиян.
Многие Лерины знакомые ломались и без упоминания четырнадцатого века и Бургундии – достаточно было брякнуть о квартире в Париже, – однако Фрау оказалась крепким орешком.
– Как это мило! – произнесла она вполне дружелюбно, и Лера едва удержалась, чтобы не перекреститься: ну не могла Фрау так говорить! Это было против ее образа, против всех законов жанра, именуемого «разговор редактора с автором»! – Искренне вам завидую. И что же, приятельница ваша француженка или натурализованная русская?
Ну и выраженьице – «натурализованная русская»! В самом подборе слов прозвучало что-то от прежней Фрау, и Лера, предпочитавшая знакомую опасность незнакомой, малость пришла в себя:
– Нет, она настоящая француженка.
– Как же вы с ней познакомились?
– Случайно, – ответила Лера, еле удерживая на кончике языка подробное объяснение.
Боже упаси проболтаться Фрау! Во-первых, сглазишь, а во-вторых, та просто не поверит. А если поверит... тем хуже для молодой писательницы Лебедевой! И со свойственным для всякого писателя умением мгновенно соврать так и поступила:
– Она... знакомая моих друзей. Приезжала в Нижний, там мы с ней и познакомились, Николь побывала у меня в гостях, ну подружились... прислала вызов...
– Николь? – пробормотала Фрау, опираясь ладонями в стол. – Какой еще Николь?
– Не какой, а какая, – усмехнулась Лера. – Во Франции это имя носят и мужчины, и женщины. Вернее, мужской вариант даже более мягкий – Николя. А мою подругу зовут Николь Брюн. Брюн – смешная фамилия, верно? Означает – коричневая. А у Николь как раз каштановые волосы, именно что коричневые. То есть ей фамилия на все сто подходит. А еще у нее есть подруга, так ту зовут Бландин. Представляете? Именно «бла», а не «бло», потому что это совсем другое слово, не «блондин» в нашем понимании, а имя, я даже не знаю, что оно там означает, но эта самая Бландин вовсе никакая не блондинка, то есть блондинка, но крашеная, а впрочем, я ее только на фотографиях видела, которые мне Николь присылала...
Она молола языком безостановочно, чтобы чем-то занять голову, чтобы не дать мыслям остановиться на тех метаморфозах, которые на ее глазах происходили с Фрау, вернее, с выражением ее физиономии. «Ряд волшебных изменений милого лица», как сказал поэт.
Ну это он сильно польстил Фрау! Волшебные изменения милого лица... надо же такое выдумать! Гримасы жуткой рожи! Может, у Фрау, вернее, у ее лицевых нервов, пляска святого Витта?
Лара мысленно прикусила язычок.
А между тем Фрау уже справилась со своими не вполне понятными судорогами и вновь обрела миролюбивое выражение лица. Ага, такое в точности бывает, наверное, у бультерьера перед тем, как он бросится на обидчика своей хозяйки!
– И когда едете? – спросила Фрау.
– Да вот уже во вторник, – пояснила Лера. – Как раз с тридцатого июля начинает действовать моя виза. Я сегодня и билет купила. Съезжу в Нижний, соберу вещи – и вперед. Думала получить кое-какие деньги... если сейчас есть в издательстве... – выдохнула она, изо всех сил стискивая пальцы и пытаясь сохранить на лице этакое наплевательское выражение: мол, не дадите денег – ну и фиг с вами.
На самом деле совсем не фиг. На самом деле она здорово рассчитывала на эту тысячу долларов, получение которой зависело от того, одобрила Фрау новую рукопись или нет. Если нет... если нет, придется по возвращении домой поступиться некоторыми принципами: например, залезть в долги. Иначе ехать в Париж будет не на что. После сегодняшнего пребывания в магазине «Женская одежда» бюджет Леры получил значительную пробоину.
На секунду на лице Фрау мелькнуло какое-то мстительное выражение, однако тотчас оно исчезло.
– Отчего же нет? – произнесла она этим своим новым для Леры голосом. – Я слышала, деньги в кассу как раз поступили. Да вы погодите, я сейчас позвоню и уточню.
Чуть-чуть раздвинув губы в улыбке, которая показалась Лере даже шире, чем та, о которой принято говорить: «Рот до ушей – хоть завязочки пришей!», Фрау быстренько набрала номер какого-то телефона – наверное, бухгалтерии – и приказала выдать госпоже Лебедевой остаток гонорара и аванс. То есть как раз ту тысячу баксов (в рублевом эквиваленте), которая и составляла предел мечтаний писательницы Лебедевой.
«Конец света!» – подумала Лера, слишком испуганная и недоумевающая, чтобы испытывать такое элементарное, обыденное чувство, как благодарность.
– Ну вот, все в порядке, – положив трубку, сообщила Фрау. – Прямо от меня пойдете в бухгалтерию, только не задерживайтесь нигде, а то сегодня пятница, ну, и, естественно, все хотят уйти пораньше.
Наконец-то! Лера почти обрадовалась. Наконец-то Фрау не удержалась от тонкого намека на толстые обстоятельства, то есть на опоздание «госпожи Лебедевой»!
В самом деле – опоздание имело место быть. А между тем приснопамятная «госпожа Лебедева» за него даже не извинилась. Правда, у нее не было для этого ни времени, ни возможности, однако это не снимало с нее ответственности.
– Вы меня, ради бога, извините, Фрау... то есть Фрида Михайловна, – выпалила она, набравшись смелости окончательно и следуя принципу: раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. – Со мной произошла совершенно невероятная история! Я... я приехала в белом платье и... и облила его томатным соком. – Нет, все-таки последний огурец резать Лера не решилась. И окончательно унизиться перед Фрау она готова не была. – Представляете? На самом неприличном месте появилось пятно. Пришлось ехать в первый попавшийся магазин и там переодеваться буквально с головы до ног. Вот видите этот сарафанчик? Он куплен всего лишь час назад, и...
Лера осеклась, облившись с головы до пят ледяным потом. Что же она делает, дурища, простодыра?! Зачем хвастает обновкою? У Фрау наметанный глаз – она мигом просечет, что сарафан не копеечный. То есть госпожа Лебедева, униженно намекающая на стесненные денежные обстоятельства, совсем не столь уж обеднела.
Как бы Фрау не вернулась в прежний образ, как бы не рассвирепела, как бы не начала снова названивать в бухгалтерию и не отменила свое указание, выраженное в форме приказания!
– Из... извините, Фрида Михайловна, – пробормотала Лера, вскакивая со стула и сгребая в охапку свой портфельчик и сумку. – Я... мне, наверное, пора. Я вас, очевидно, ужасно задержала! Извините, простите, до свиданья! Я побегу, а то и правда в бухгалтерии все уйдут. Спасибо огромное, за мной презент! «Шанель» номер пять!
И она ринулась к дверям. Тут ее пронзила мысль, что она взяла на себя тяжеловатые обязательства. «Шанель» номер пять были и остаются одними из самых дорогих французских духов. И они пробьют в бюджете Леры новую брешь... Ведь Фрау какой-нибудь пробничек не привезешь, это должен быть полновесный, полнообъемный флакон, к тому же не туалетной воды, а именно духов, парфюма!
А вдруг Фрау не любит «Шанель» номер пять? Такие извращенки есть, сама Лера, к примеру, к ним принадлежит, она предпочитает «Зеленый чай» от Элизабет Арденн или, на, худой конец, «Аквавумен», «Миракль», «Барбарис», однако уж никак не «Шанель».
Лера оглянулась – и поняла, что не одна она питает неприязнь к этой марке духов. Фрау их, похоже, ненавидела, как злейшего врага. Достаточно было увидеть выражение ее лица.
Досматривать ряд нынешних изменений «милого лица» Лера не стала. Побоялась, что от страха отнимутся ноги, и уж тогда она точно не сможет получить деньги. Захлопнула за собой дверь и понеслась что было сил на второй этаж – в бухгалтерию, заставив себя выбросить на время из головы все прочее: и Фрау с ее причудами, и несостоявшийся разговор о рукописи, и пресловутую «Шанель».
Мирослав Понизовский. 1 августа 2002 года. Париж
Этого парня Мирослав приметил еще во время первой проверки документов, сразу после прилета. В аэропорту Шарль де Голль так уж заведено, что паспортный контроль проводится практически дважды: сначала на выходе из «рукава», соединяющего прилетевший самолет с территорией аэропорта, то есть фактической территорией Французской республики, но здесь он проводится бегло, лишь в первом приближении, а потом, уже толком, – в отведенных для этого будочках, со всеми необходимыми атрибутами: пристальным вглядыванием в лица, поисками по компьютеру, не зарегистрирована ли фамилия прилетевшего русского в полицейских анналах... Ну и всякое такое.
Очередь русских, желающих как можно скорей попасть на французскую землю, спешила, люди теснились и напирали, нервная особа, стоявшая сзади Мирослава, порою подталкивала его довольно-таки сильно, и одним из таких толчков Мирослав был плотно притиснут к стоящему впереди него парню в светло-зеленой рубахе, с темно-русыми волосами. В шов, пересекавший спину рубашки, была вшита фирменная марочка магазина «Буртон», и Мирослав невольно сказал себе: «Ого!» «Буртон» соседствовал с Галери Лафайет и лишь незначительно отличался уровнем цен. Мирослав и сам любил этот небольшой изысканный магазин.
В эту минуту парень подавал пограничнику свой паспорт. Мирослав нечаянно, поверх его плеча, прочитал фамилию и имя, напечатанные в документе: Alexej Chvedov.
«Что еще за Чведов? Что за фамилия такая диковинная?»
Но тут же он вспомнил, что в загранпаспортах фамилии и имена пишутся не по-английски, а по-французски. И буквосочетание «ch» звучит не как «ч», а как «ш». То есть Chvedov означает на самом деле обыкновенный «Шведов», а никакой не «Чведов».
Означает – ну и хорошо, эта информация не имела никакого значения для Мирослава, поэтому он мигом выбросил Чведова-Шведова из головы и, достав мобильник, в сотый раз попытался дозвониться до Николь. Никто не взял трубку в ее квартире, не ответил и сотовый. Само по себе это ничего не значило, однако Мирослав встревожился бы... если бы не был и без того встревожен до предела. Нервы свои он ощущал физически, и они напоминали что-то вроде размахрившихся веревок.
«Возьми себя в руки!» – в сотый же раз сказал себе Мирослав и попытался хоть как-то отвлечься от навязчивой мысли: что произошло с Николь? Догадок он настроил столько, что их хватило бы на сооружение египетской пирамиды средних размеров, и снова ковыряться в причинах внезапных вспышек гнева любимой женщины не было никакого смысла. Мирослав по опыту знал: они с Николь непременно поладят, им главное – все спокойно обсудить! Но до этого момента еще надо было дожить, и поэтому Мирослав принялся изо всех сил рассеивать свое зацикленное сознание, отвлекаться от своей идеи фикс.
Жизнь аэропорта Руаси, или Шарль де Голль, знакомая-перезнакомая (в Париж Мирослав приезжал не в первый раз и даже не во второй), отвлечь его не могла. Ну добрались по сателлитам с их медленно тянущимися транспортерами до багажного отделения. Ну подождали багаж... Ну не первый раз Мирослав обратил внимание, что пассажирам, прибывавшим в первый терминал, багаж выдают куда медленнее, чем тем, которых принимают в терминале номер два. Второй терминал – для «Эр-Франс», «Люфтганзы», «Бритиш аэрлайнз» и всяких таких престижных авиакомпаний. Там к пассажирам отношение чуточку другое. Более почтительное. Почти по Маяковскому: «С почтеньем берут, например, паспорта с двуспальным английским левою...» Ну а тут, в первом терминале, «не повернув головы кочан и чувств никаких не изведав», выдают багаж пассажирам африканских, азиатских и восточноевропейских авиапредприятий.
Да ладно, велика беда, подождать пять минут!
Ждать, если точно, пришлось семь, но и за эти минуты Мирослав еще семь раз попытался дозвониться до Николь. С тем же успехом. Ч-черт, как он ругал себя за то, что взял с собой тяжелую сумку с русскими книгами, которые когда-то просила привезти Николь! Ну привез бы их в другой раз, зато сейчас был бы ничем не связан, не стал бы ждать...
А вот и багаж. Мирослав еще издали увидел свою сумку-тележку, схватил ее с транспортера и понесся к выходу, огибая какого-то неспешно, нога за ногу, плетущегося парня в бледно-зеленой клетчатой рубахе.
Рубаха показалась знакомой, затылок парня тоже. Ну да, Чведов – в смысле Шведов. Из вещей только легкая сумка на плече. Чего, спрашивается, толкался без дела в багажном отделении? Почему не бежал сразу на выход?
Понятно – праздношатающийся турист, которого никто не встречает. И тут в голову Мирославу пришла мысль, от которой все его беспокойство мигом улеглось. А что, если Николь примчалась в аэропорт его встречать? А телефон отключила нарочно, чтобы сделать ему сюрприз? И он сейчас выйдет из багажного отделения – а напротив двери стоит она, милая, дорогая, ненаглядная, единственная...
Он сделал рывок, обогнул Чведова, выскочил в дверь – и первое, что увидел, это листок формата А-4 с крупно напечатанными на нем буквами: «ALEXEJ CHVEDOV!!!»
Именно так – с тремя восклицательными знаками. Листок держал высокий худощавый парень с шалыми глазами и залихватскими усиками и бородкой – совершеннейший д'Артаньян, Арамис или Атос с виду. На Портоса он никак не тянул: телом не вышел. Но зато здорово напоминал памятник Анри Четвертому, установленный на одноименном мосту, – разве что не позеленел от времени. Между прочим, на улицах Парижа таких «Анри Четвертых» встречаешь очень часто. Совершенно чистый гасконский тип!
То есть Чведова, оказывается, очень даже ждали. А вот Мирослава Понизовского не ждал никто. Николь среди встречающих не было...
Мирослав только собрался огорчиться, как вдруг вспомнил, что Николь и представления не имела о том, что он прилетает. После последнего телефонного выяснения отношений они больше не общались, о своем намерении приехать Мирослав девушку не предупредил. Сорвался как бешеный, пользуясь тем, что у него годовая виза во Францию, а на фирме сейчас легкое затишье, успел звякнуть только своему давнему бизнес-партнеру в Париже, мэтру Морану. Это уж для самооправдания: неловко ведь до конца признать, что отправляешься в этот безумный вояж только из-за женщины... Якобы решил сочетать приятное (штурм Николь) с полезным (встреча с Мораном и работа над документами, до которых у них руки в прошлый раз не дошли).
Кстати! А не молчат ли телефоны Николь оттого, что девушка уехала из Парижа? И очень просто – жаркое лето парижане (как и москвичи) предпочитают проводить вне раскаленной столицы. Где-нибудь на Лазурном берегу, или в Тунисе, или в Марокко. Николь нравилось Марокко. А может быть, она уехала в Бургундию? Как это называется деревня, где у нее дом?.. Вот черт, опять забыл.
Не слабо... забыл! А если Николь и впрямь там? Где Мирослав будет ее искать, если не знает даже названия деревни? Что-то такое это название должно ему напоминать, Николь говорила, что оно связано с каким-то местом в Париже... Нет, не вспомнить. Ладно, не стоит думать о плохом. Проблемы будем решать по мере их возникновения. Сейчас как можно скорей – на автобус «Руаси Бас»! Вперед, к Николь!
– Извините, вы не в курсе, как можно отсюда добраться до... до города? – услышал он рядом негромкий голос и, обернувшись, увидел того самого парня в зеленоватой рубашке – Алексея Шведова.
Мирослав невольно повел глазами и увидел, что «Анри Четвертый» по-прежнему держит листок с надписью «ALEXEJ CHVEDOV!!!». А между тем Шведов этого как бы и не заметил.
Может, и правда не заметил? Или не идентифицировал свое имя с этой несуразицей? Русские иногда впадали в смысловые ступоры на чужой земле, Мирослав сам такой был.
– Разве вы не... – начал было он, однако осекся. Хотел сказать: «Разве вы не заметили, что вас там встречают?» – как вдруг его что-то остановило. Может быть, неудобство: как объяснить этому парню, что заглядывал через его плечо в паспорт? Довольно нагло это выглядит! А может быть, Мирослава притормозило загнанное выражение в карих глазах этого самого Шведова? Он видел, видел встречающего, не мог не видеть, он воровато шнырял взглядом в ту сторону, однако по какой-то причине не желал объявляться.
Ну что ж, это его личное дело. Черт его разберет, этого Анри Четвертого, может, у него задача по устранению Алексея Шведова, и он будет стрелять в каждого, кто отзовется на объявление? Всякое в жизни бывает, и такое – тоже! Поэтому Мирослав не стал соваться со своей наблюдательностью, а предельно скупо объяснил:
– Вот там, напротив выхода С, автобусная остановка с надписью «Roissi Bus». Автобус идет до площади Опера, это самый центр, центрее некуда, и до Лувра, и до всех лучших магазинов рукой подать.
– Спасибо, – прошелестел Шведов, метнул еще один опасливый взгляд на Анри Четвертого и метнулся к выходу С.
«Загадочно, – подумал Мирослав. – Парень явно первый раз в Париже... я готов спорить, что и по-французски ни уха ни рыла, а между тем он готов лучше пуститься в свободное плаванье, только бы не встретиться с человеком, который его встречает. Точно – дело нечисто! Да фиг ли мне в этом деле? Небось своих проблем полно!»
Он постарался выбросить Алексея Шведова из головы и размашистой походкой зашагал к остановке.
Автобус подошел практически через минуту. Мирослав уплатил за проезд, двинулся было в салон, как вдруг водитель за спиной сердито закричал:
– Иль фо компостэ ле бийе! Компренэ ву? Ком-пос-тэ![7]
Мирослав обернулся. Алексей Шведов растерянно вертел в руках зеленый прямоугольничек билета и испуганно таращился на сердитого водителя.
– Компостер – бух, бух! – подсказал высокий негр, проскользнувший мимо него в салон, по-видимому, смекнувший, что парень совершенно ничего «нэ компрене», но Алексей Шведов продолжал стоять истуканом, держа перед собой билетик. Похоже, от волнения он вовсе перестал соображать.
– Прокомпостировать билет надо, – человеколюбиво подсказал Мирослав. – Вот перед вами, вон, вон, прямо на дверце, компостер. – И не выдержал, поиздевался-таки над этим Иванушкой-дурачком: – Компостер – бух, бух!
Высоченный, широкоплечий, со множеством разноцветных косичек на голове негр сверкнул на Мирослава роскошной улыбкой и радостно заржал. Алексей Шведов залился свекольным румянцем и неловко пробил билетик.
Шофер успокоился. Негр вежливо пропустил Шведова вперед и сел позади него. А Мирослав устроился в конце салона. Он до смерти боялся, что Шведов – сущий дебил, кажется! – пристанет к нему с разговорами. Вид у него был довольно-таки затравленный и, если честно, внушал жалость, однако у Мирослава сейчас не было ни сил, ни времени размениваться на сочувствие к дураку-соотечественнику. Ему и без Алексея Шведова было кого жалеть.
Например, себя.
Вениамин Белинский. 31 июля 2002 года. Нижний Новгород
Когда Веня, смятый усталостью, ввалился в родимый дом, там уже царила благостная тишина. Инна убежала на работу пораньше: сегодня должна была прийти из Москвы машина с новыми книгами, которые предстояло разбирать, хлопот море. Мальчишки умчались в кино на «Гарри Поттера». Алевтина Васильевна открыла зятю дверь, хмыкнула привычно: она почему-то всегда встречала его таким хмыканьем, не то сочувственным, не то насмешливым, спросила так же привычно:
– Есть будешь? – и, не ожидая ответа, пошла на кухню.
Конечно, будет – после суточного мотания по вызовам, когда не удается даже чайку глотнуть, не то что перехватить путем. Но сначала душ.
Наивно думать, что теща немедленно начала печь блины для любимого зятя. У Алевтины Васильевны побаливала печень, а Веня не сомневался, что от нерегулярного питания печень вскоре начнет побаливать и у него, оттого они оба предпочитали начинать утро с овсянки. Просто «Геркулес», разведенный кипятком, сдобренный белым изюмом без косточек и совсем чуть-чуть – сгущенным молоком. Брякнув перед Веней изрядную пиалу с овсянкой, Алевтина Васильевна взялась за яичницу. Большое чудо – эти югославские сковороды «Янтарь»! Полный аналог «Тефаля», правда, стоит в четыре раза дешевле и продается в комплекте с крышкой – немаловажная деталь. И жарить в «Янтаре» можно без капли масла. Именно такую глазунью любил Веня, именно ее и получил от любящей тещи.
Обеспечив усталого зятя пищей и налив ему чаю, Алевтина Васильевна села напротив и сама с удовольствием отхлебнула жасминового чайку.
Вениамин жевал, автоматически кивая. Это он входил в роль слушателя, хотя теща еще молчала. Ничего, сейчас заговорит – и все, что ей будет нужно, – это методичные кивки зятя. А слушает он или нет на самом деле – не больно-то и важно!
– Ты представляешь?! – воскликнула наконец Антонина Васильевна.
Вениамин кивнул.
– Сантарин снял свою кандидатуру!
Вениамин снова кивнул, краешком усталого мозга пытаясь вспомнить, кто такой Сантарин и откуда он должен был себя снимать. Снимать! Немедленно вспомнился случай, который рассказал дежуривший сегодня на линейной машине Андрей Струмилин. Случай состоял в том, как одна бабулька, изжившая всякое соображение, перепутала балкон с лифтом и не свалилась с восьмого этажа только потому, что зацепилась полой халата за перила. Соседи немедля вызвали МЧС, а уж те – «Скорую», причем все примчались так стремительно, что бабулька даже не успела... нет, не испугаться, а рассердиться на лифт, который спускался так медленно. То есть она даже не поняла, что едва не рассталась с остатками жизни! Веня невольно расплылся в улыбке, позабыв в очередной раз кивнуть, и теща мигом обиделась:
– Все тебе хиханьки! А ведь он, Сантарин-то, заместитель губернатора, его сам Ходунов поддерживал, сколько раз выступал – моя, дескать, команда молодых, губернатор должен работать в связке с мэром города, а не в антагонизме, как теперь, да и сам Сантарин газеты каждый день в почтовые ящики подсовывал, и по телевизору беспрестанно что-то говорил, и плакаты его чуть не на каждом углу. А сегодня – здрасьте вам, снял кандидатуру! Это сколько же денег потрачено, а он так легко отступился!
– Ну не свои же он деньги тратил, верно? – лениво пробормотал Веня, отодвигая пиалу и снимая крышку со сковородки. – Деньги мы тратили, вы да я, на этот фарс. Как принято выражаться, налогоплательщики. Мне так сразу было ясно, что это именно фарс. Зачем Ходунову разбрасываться хорошими работниками? Да и Сантарин – больной – зачем в мэры идти? Он же вице-губернатор: случись что с Ходуновым, сразу сделается первым лицом в области! Задумано все было, чтобы отвлечь как можно больше голосов от Климушкина, а теперь же понятно, что это бессмысленно. Лидирует Климушка по всем пунктам!
– Но он же сидел! – с трепетным ужасом в глазах заявила шепотом Алевтина Васильевна, на всякий случай оглянувшись, хотя боевое прошлое кандидата в мэры Андрона Климушкина было в Нижнем Новгороде известно всем и каждому.
– И что такого? – зевнул Веня, осторожно подбирая со сковородки расплывшееся яйцо пластмассовой ложечкой – чтобы, не дай бог, не повредить поверхность драгоценной посудины. – Вот вы считаете Ленина, Сталина великими людьми, а разве они не сидели? Туруханский край, село Шушенское, что-то там еще, не помню! – Он вяло прищелкнул пальцами.
– Климушкин – преступный авторитет, – сурово заявила теща, оставив без внимания историческую инвективу. – Таким людям не место в органах власти. Я буду голосовать за нынешнего мэра – Ломова!
– Да бро-осьте! – отмахнулся Веня, придвигая к себе тарелку с печеньем – тоже овсяным. – Вам лично что сделал Климушкин? Украл у вас что-то? Оскорбил ваше достоинство? Пообещал – и не сделал? Не было такого! А ваш Ломов, этот лом летящий, довел город натурально до истерического состояния. Улицы темные, вода то есть, то нет ее даже в центре, асфальт на тротуарах такой, что пройти нельзя, дома облезли даже на Покровке, последний Дом культуры в городе вот-вот продадут под казино... А вспомните предвыборные обещания этого типа? Провинциал и обманщик, вот кто такой наш мэр!
– Ну это да, конечно, – покладисто кивнула теща, которая вообще-то легко поддавалась убеждению. – Но ты видел агитаторов, которые к нам то и дело бегают? Сплошь молодежь! И они не за Климушкина твоего агитируют. Значит, они видят какое-то будущее за такими людьми, как Ломов? Разве стали бы они стараться ради провинциала и обманщика?
– Ради бога! – чуть ли не с ужасом помянул Веня имя господа всуе. – Они не за Ломова агитируют, а за свои деньги! Ребятишки элементарно подрабатывают во время выборов, разве вы не понимаете? Кстати!
Он хлопнул себя ладонью по лбу, и этот жест отвлек Алевтину Васильевну, которая уже собиралась обидеться на пренебрежительный тон зятя.
– Кстати, вы не обратили внимания на фамилию того кареглазого парнишки, который к нам забегал пару дней назад? Ну, который вас уболтал до полусмерти?
– Никто меня не убалтывал, – с достоинством возразила теща. – Я с удовольствием исполняла свой гражданский долг. А фамилия этого юноши, помнится мне, была Холмский. Что такое? – насторожилась она, увидев, как вытянулось лицо Вениамина.
– Да нет, ничего, все нормально, – пробормотал он, с усилием возвращая лицу привычное насмешливое выражение. – Спасибо, я пойду вздремну, ладно?
Он ушел в спальню и вытянулся на кровати как был, в домашних старых джинсах. Веня-то улегся, а вот сон почему-то улетел.
Нет, понятно почему. Не давал покоя этот мертвый с дыркой в боку. И папочка с анкетами, подписанными фамилией Холмского.
Белинский довольно хорошо запомнил разговорчивого агитатора – на зрительную память Веня никогда не жаловался, иногда здоровался с совершенно незнакомыми людьми и только потом вспоминал, что бывал у них на вызовах. Убитый был очень похож на Холмского, ну очень. Наверное, если поставить их рядом, они вполне могли сойти за родственников. И все же неизвестный был постарше агитатора, шире в плечах, и лицо более обрюзглое, пресыщенное, что ли... Конечно, смерть огрубила черты, а все же Веня готов был голову на отсечение дать: это не Холмский. Но тогда как оказалась папка с его документами в квартире убитого? Вспоминая забавную бородку агитатора и манящие взоры Инны по этому поводу, Веня невольно улыбнулся и покачал головой, вернее, поелозил ею по подушке: этот парнишка никак не мог быть убийцей. С его-то ясными глазами, с его мгновенно вспыхивающим румянцем и тщательно скрываемой застенчивостью...
Хотя, впрочем, Ломброзо не зря считается в наше время устаревшим! Мало ли почему убитый мог (будучи еще живым) до такой степени рассердить агитатора Холмского, что тот сунул ему перышко в бок. К примеру, покойный наотрез отказывался голосовать за кандидата Л.... и правильно делал, между прочим!
Конечно, очень может быть, что папочка Холмского попала на квартиру к неизвестному убитому давным-давно... Хотя нет! Веня отлично запомнил число рядом с фамилией агитатора. Вчерашнее число. То есть понятие «давным-давно» тут никак не проходит. Ну и что? Это еще ничего не значит, папка сама собой, а труп сам собой... Да, но Веня готов поручиться, что агитатор Холмский сейчас кандидат номер один на «пост» убийцы неведомого человека.
Может быть, если бы узнать, как звали убитого...
Веня, ты о чем? Поспи немножко, вот-вот вернутся пацаны из кино – и все в доме пойдет вверх ногами, а ты всю ночь мотался по квартирам, труп неизвестного был нынче не единственным, тяжелая выдалась ночь... Спи, Белинский!
«Спи спокойно, дорогой товарищ!» – ввинтилась в сознание злоехидная фразочка, и Веня сел, сердито и сонно глядя по сторонам.
Что это его разбирает, интересно знать? Ведь на отдых дан ему только нынешний день – завтра снова на работу. Лето – тяжкое время: то одного приятеля заменяешь, то другого. Сегодня Веня, к примеру, работал за себя, а завтра будет трудиться «за того парня», точнее, за Колю Сибирцева, который поехал с женой и дочкой отдыхать аж на Сицилию. Жена Сибирцева – жутко богатая дама, Колька вообще может бросить работу и коллекционировать, к примеру, иномарки, но он по-прежнему вкалывает и вкалывает на «Скорой», как маньяк. Да все они в какой-то степени маньяки, сущими наркоманами стали на этой работе – наркоманами результатов собственного труда. Приехать к незнакомому человеку... помочь... спасти! И Коля Сибирцев такой, и сам Белинский, и два прочих его близких друга: Андрей Струмилин и Сашка Меншиков. Белинский был старше ребят, все они пришли в «Скорую» чуть позже, чем он, к тому же он давно уже был отцом семейства, а парни холостяковали несколько лет, как вдруг один за другим женились, причем «лав стори» у каждого была одна другой круче, и все нашли жен в процессе работы, и все у них происходило с какими-то детективными приключениями, в которых воленс-ноленс приходилось и Вене участвовать – на правах лучшего друга... Он еще удивлялся и даже подспудно обижался: почему к этим ребятишкам приключения так и липнут, а его обходят стороной? И вот в кои-то веки выпала и на его пути совершенно детективная загадка, однако Вене она должна быть по барабану, потому что никак не сопрягается с его судьбой, и вовек ему не узнать, кого убили в той странной, необжитой квартире с пачками книг какого-то Сорогина, не выведать, кто убийца... Вот уж правда что: не выходит каменный цветок! А потому ложись спать, Данило-мастер, Веня Белинский! Не мучайся!
Он приподнялся и начал было стаскивать джинсы, чтобы шмыгнуть под одеяло, где уже распростер свои объятия всеуслужливый Морфей, однако в дверь позвонили.
Непонятно почему Веня кинулся в прихожую, обгоняя тещу. Какая сила погнала его? Чего ждал? Разгадки нынешнего детектива? Что надеялся услышать в ответ на свой сакраментальный вопрос:
– Кто там?
– Мы, мы, открывай! – услышал он нетерпеливый голос своего сына Гошки. – Только имей в виду, пап, первой войдет собака.
– Кто?!
– Собака. Мы только что познакомились, и я ей страшно понравился. Она хочет у нас жить. Мы с ней теперь как родные братья! – радостно возвестил Гошка.
– Что?! – вскричала Алевтина Васильевна, прибежавшая из кухни в разгар диалога, и возмущенно распахнула дверь, занося на всякий случай ногу, чтобы предотвратить проникновение в квартиру приблудной псины. Слава богу, Венина теща не отличалась проворством движений и не успела встретить пинком внука Мишку, который стоял на четвереньках и лаял.
– Я же говорил, что мы близки, как родные братья! – в восторге орал Гошка.
Веня похлопал в ладоши, оценив качество детских забав, и вернулся в спальню. Улегся, ожидая, когда вступит в свои права заждавшийся Морфей... И снова перед глазами возникли серые пачки с этикетками: «Владимир Сорогин. «Приключения людоеда Васи», «Приключения людоеда Кости». Какая-то мысль мелькнула, какая-то догадка... мелькнула – и исчезла, потому что как раз в это мгновение сработал Морфей, и Веня наконец-то заснул крепким сном, который не тревожили ни людоеды Костя и Вася, ни убитый незнакомец, ни агитатор Холмский, ни, само собой разумеется, пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат.
Валерия Лебедева. 30 июля 2002 года. Нижний Новгород – Париж
С ранней юности Лера побаивалась этих загадочных существ противоположного пола. Она росла некрасивой, замкнутой толстухой, на которую парни просто катастрофически не обращали внимания. Лера привыкла к мысли о том, что никому не интересна, причем настолько прониклась этим мнением, что невольно начала внушать его другим. Получался этакий замкнутый психологический круг, в котором она и вращалась почти всю жизнь, не замечая ни заинтересованных взглядов мужчин, ни собственной, внезапно расцветшей красоты. Более того: убеждение в собственной никудышности накладывало отпечаток на все, чем она только ни занималась, и даже жизненные успехи (случались же и у нее не только неудачи, но и успехи!) не могли сбить ее с этой точки зрения. Лера жила с уверенностью, что удачи в ее судьбе – случайность. У нее было несколько любовных романов, как же без этого, но ее неуверенность в себе губила их. Она всегда была словно бы благодарна мужчинам за то, что те удостоили ее своим вниманием. А ведь мужскую братию не зря называют зверями или животными. Они уважают только такую женщину, в которой видят суровую, даже беспощадную дрессировщицу, ну а почуяв слабину, охотно куснут ту руку, которую только что лизали... а то и схрумкают самую хозяйку вместе с рукой. Именно поэтому Лера дожила одинокой почти до тридцати лет, и любовные неудачи, а также тщательно скрываемая, презираемая, но все-таки существующая зависть к устроенным, замужним, богатым подругам еще больше усиливали ее неуверенность в себе.
Сыграли тут свою немалую роль и родители. Они прочно пропитались презрением дочери к себе самой и всячески поддерживали в ней эту позицию. Мать была учительницей французского языка, и именно благодаря ей Лера знала французский и английский. Но не столь хорошо, как хотелось бы матери, а оттого она была в семье как бы двоечницей. Отец же... отец был преподавателем древнерусской литературы в университете, а значит, жил с непоколебимой уверенностью, что все лучшее уже написано. И давно! Самое позднее в XIX веке. Он делал некоторые снисхождения лишь для Булгакова, но это кем надо быть, чтобы не рухнуть на колени перед Мастером! Когда Лебедев-старший узнал, что его собственная дочь вдруг стала писать, то все снисходительное, чуточку жалостливое презрение, которое он испытывал к ней всю жизнь, воплотилось в одном кратком определении ее нового ремесла. Теперь он называл Леру не иначе как «известная кропательница дамских романов», возмущенно восклицая: «Да как можно набраться наглости браться за перо, когда уже писал Булгаков!» Робкие оправдания Леры в том, что она пишет не пером, а на компьютере, только еще пуще злили отца, и это не добавляло, отнюдь не добавляло Лере самоуверенности. Внезапная трагическая гибель родителей (год назад электричка, в которой они возвращались с дачи, столкнулась с товарняком, было очень много жертв) только усилила депрессивное состояние Леры. И так бы оно и шло из года в год, так бы Лера и продолжала смотреть на себя, как на неисправимую неудачницу, если бы вдруг однажды – это произошло именно вдруг, как и положено в настоящем приключенческом романе! – не оказалась в одном купе с молодой красивой парой.
Лера возвращалась из Москвы – ездила на встречу с редактором в издательство, как раз готовился к печати ее новый роман, и, ознакомившись с немилосердной правкой, решила, что отец прав и после Булгакова в самом деле не стоит позориться писать. И сюжеты выдумывались с трудом, и продавались ее книжки средненько, и тиражи были ерундовские, не то что у Марининой, к примеру! Она была настолько погружена в собственные печальные мысли, что почти не обращала внимания на своих соседей, и весьма не скоро до нее дошло, что они говорят по-французски. Более того! Совершенно уверенные в том, что случайная попутчица, как и большинство русских, не обременена переизбытком знания иностранного языка, они говорили именно о ней.
Лера начала прислушиваться, сохраняя на лице маску вежливого безразличия. Да уж! Чему она великолепно, лучше других научилась в жизни, так это носить на себе маску уверенности в себе. О, глядя на ее высокомерно вскинутые брови и легкую независимую полуулыбку, неустанно порхающую на губах, никто в жизни не заподозрил бы, что видит перед собой величайшую неудачницу всех времен и народов! Так и пара не подозревала о ее притворстве, ведя оживленный разговор о... необыкновенных серых глазах Леры, ее волнистых темно-русых волосах, так мило обрамляющих красивое, даже очаровательное лицо, о ее прекрасной, женственной фигуре и восхитительных ногах.
Лера откровенно струхнула. О такой породе людей, как бисексуалы, она читала, конечно, в скандальных статейках в газетах определенного свойства, но видеть – видеть их еще не приходилось. Неужели наконец-то сподобилась?! Неужели эти иностранцы начнут к ней сейчас приставать?! Такой красивый молодой человек, ну а девушка-то – просто чудо. Какая жалость, что они гнусные распутники. Не ринуться ли, пока не поздно, к проводнице, не попроситься ли в другое купе? Пусть даже на верхнюю полку, только бы подальше от этих...
Между тем во французской речи мелькнуло имя, которое невольно рассмешило Леру, – Жерар Филиппофф. Она сразу вспомнила обворожительного красавца из фильма «Фанфан-тюльпан», которого играл актер Жерар Филип. Страх как-то сразу поулегся, Лера решила отложить эвакуацию и продолжала слушать. Разговор принял новое направление, и Лера поняла, что ошиблась, но в худшую сторону: ее соседи – не сами по себе распутники, а сводники международного класса. Похоже, они из тех, кто продает русских красоток за рубеж, в самые низкопробные притоны, представляя дело так, будто набирают танцовщиц для стриптиз-шоу. Конечно, Лера занималась в юности бальными танцами, но для шоу вряд ли годится. Да и возраст уже не тот, чтобы крутиться голышом вокруг стержня посреди сцены. То есть в стриптиз-шоу ее не позовут. Кто же тогда такой этот Жерар Филиппофф, если не содержатель публичного дома?
Лере уже не было страшно – любопытство прочно опутало ее и не давало сдвинуться с места. Нет, в самом деле – убежать она всегда успеет. А вот набраться таких потрясающих впечатлений... Почему бы не дослушать до конца? Совсем неплохая завязка для нового романа! Редактриса как раз говорила, что ее книгам остро не хватает эротики. Разумеется, не хватает, ведь опыт Леры по этой части был довольно убог. Но вот как раз представился случай набраться новых впечатлений.
Однако когда девушка – она представилась как Николь Брюн – заговорила с Лерой, та поняла, что сама вполне может стать героиней настоящего любовного романа! Ведь девушка и ее жених, а заодно бизнес-партнер Мирослав Понизовский (к изумлению Леры, он оказался русским, несмотря на свой безупречный французский выговор) были вовсе не сводниками, а профессиональными сватами. Проще говоря, они содержали брачные агентства: Николь – в Париже, Мирослав – в Москве, и хоть сейчас ехали на отдых (нижегородские друзья Мирослава устраивали для них экскурсию на Керженец, на Светлояр и в Макарьевский монастырь), но о своей работе не забывали никогда. При взгляде на Леру они сразу вспомнили об одном клиенте Николь, который хотел жениться именно на русской девушке. Клиент и сам был наполовину русский, очень богатый человек, однако вот беда: зациклился на некоем идеале женской красоты и нипочем не желал отступать от него. Это и был вышеназванный Жерар Филиппофф. Причем чем дольше он жил (ему было сорок пять), тем больше убеждался в том, что отступать от этого идеала не стоит ни на йоту, иначе не видать ему в жизни счастья. Девушка его мечты была темно-русой, с темно-серыми глазами, слегка вздернутым носиком и красивым ртом, росту высокого, телосложения среднего, однако с четко выраженными выпуклостями и вогнутостями. Она должна быть интеллигентна, хорошо образованна, мила, застенчива, но при этом сексуальна. И способна, пардон, к деторождению. И она должна быть русской! Ведь сам мсье Филиппофф был француз лишь наполовину, а кровь отца играла в нем все живей с каждым годом. Две попытки сделать шаг вправо, шаг влево и забыть об идеале закончились для него весьма печально. Жерар уже был дважды женат, но вскорости разводился, глубоко разочарованный. Вдобавок его жены не хотели рожать детей, а Жерар желает иметь наследника для своих весьма немалых капиталов. И Николь путешествовала сейчас по России не только для удовольствия, но и корысти ради: пытаясь отыскать невесту для мсье Филиппофф. Конечно, обратила Николь внимание не только на Леру, у нее уже имелись снимки и адреса нескольких других темно-русых красавиц фром Раша[8], однако все это было как бы не совсем то. А вот при взгляде на Леру Николь кажется... нет, она почти уверена, что Лера – именно то, что нужно этому придирчивому жениху! То есть выходило почти совершенно по обожаемому Булгакову: «Сто двадцать одну Маргариту обнаружили мы в Москве, и, верите ли, ни одна не подходит! И наконец, счастливая судьба...» А кстати, пардон, шерри демуазель[9], может быть, о Мон Дье, вы уже замужем?!
«Шерри демуазель» залилась краской и призналась, что нет. И сердце ее не занято, и бойфренда не имеется. И предрассудков насчет браков с иностранцами, пусть даже буржуинами, у нее тоже нет. Вообще нет ничего, что бы мешало ей попытать счастья в прекрасной Франции!
Короче, в свой тур по заповедным местам Нижегородчины Николь и Мирослав уехали не прежде, чем засняли Леру на видео и не сделали несколько отличных фото. Получился настоящий портфолио, как для поступления в модельное агентство.
Лера смотрела на свои портреты с немалым испугом. Она-то представляла себя совсем другой! Нет, не может быть, чтобы именно она оказалась такой красоткой. Это не более чем рекламная акция, и этот Жерар, который, судя по обмолвкам Николь, большой знаток женщин, иначе говоря, бабник, мгновенно просечет: ему подсовывают не девушку его мечты, а очередной суррогат. Но все-таки «портфолио» был отправлен, а в обмен Лера получила фотографии «жениха». Не то чтобы это был мужчина ее мечты: Лера по жизни предпочитала менее резкие черты, меньше лихости в ухмылке и карие, а не зеленые глаза, – но в принципе Жерар ей понравился. Да что толку, думала она, ведь она-то нипочем не может понравиться ему!
Каково же было ее изумление, когда реакция мсье Филиппофф оказалась не просто положительной, но даже восторженной! Он разом отмел всех других кандидаток и хотел только Валери Лебедефф (так звучало ее имя на французский лад). Теперь дело было лишь за личной встречей.
Николь все устроила довольно быстро. Но Лера никак не могла избавиться от своих страхов. Уже и виза была готова, уже и деньги получены в издательстве, и самолет летел в Париж, а ей все мерещился какой-то подвох в происходящем. Все чудилось: вот выйдет она к встречающей Николь, а та вдруг как расхохочется: «Сюрприз! Сюрприз!» – и покажет ей фото Жерара во фраке с бутоньеркой и какой-нибудь блондинкой в пышной фате.
Леру и впрямь встретил в аэропорту сюрприз... Нет, Жерар по-прежнему ждал девушку своей мечты, тут не произошло ничего неожиданного. Сюрприз преподнесла Николь, которая была совсем не похожа на ту веселую очаровашку, которая запомнилась Лере в Нижнем Новгороде. Перед ней стояла исхудавшая, печальная женщина... вдобавок беременная, с огромным животом! И когда Николь вместо объяснений вдруг разрыдалась перед Лерой – разрыдалась, не обращая внимания на изумленные взгляды окружающих, – та вдруг поняла, что всю жизнь травила себя выдуманными горестями, не сталкиваясь с настоящими бедами. А вот подругу постигло подлинное несчастье! Но кто бы мог подумать, что Мирослав Понизовский, который казался по уши влюбленным в Николь, который надышаться на нее не мог, способен на такую низость?!
Мирослав Понизовский. 1 августа 2002 года. Париж
Он уже столько раз проезжал этой дорогой, что перестал обращать внимание на приметы чужой жизни, мелькавшие за окном. Ну здания, ну бетонированные обрывы, ну мосты, украшенные рекламными плакатами, ну клочки полей, ну поток машин, текущий навстречу или стремительно огибающий большой, тяжелый, вальяжный автобус... Однако Шведову, похоже, все виденное было в новинку, и он не уставал ошалело крутить головой. Когда мимо окон мелькали островерхие кирпичные домики – этакая мини-готика, – окруженные крошечными розариями или виноградниками, он надолго приклеивался к стеклу, и даже его худая, мальчишеская спина выражала возбуждение и любопытство: ведь это была Франция, это были настоящие французские домики, таких больше нигде не увидишь!
Между прочим, спину Шведова Мирославу теперь было хорошо видно потому, что негр с разноцветными косичками вышел на первой же остановке – как только выбрались из аэропорта. Увидел, что Мирослав за ним наблюдает, дурашливо оскалился, показав слишком крупные, прямо-таки звериные, белоснежные зубы, помахал – и исчез вдали. Автобус помчался дальше.
В конце концов Мирославу надоело пялиться в окно, он облокотился на спинку переднего сиденья и устало уткнулся лбом в стиснутые руки. Черт... чертова сила, как любил говорить его дед, что же это происходит с Николь? Что она скрывает от него столь тщательно, что вот уже четыре месяца запрещает ему приехать в Париж и сама ни за что не хочет наведаться в Москву? Объясняла это своей занятостью, тем, что только что наконец-то у нее началась полоса удач, появились первые серьезные клиенты и забота об их интересах полностью поглощает ее внимание. Ну настолько полностью, что не хочет видеть любимого мужчину, не позволяет ему увидеть себя, уклоняется от всех попыток Мирослава поговорить наконец об их будущем, выскальзывает из его жадных рук, словно золотая рыбка...
Хотя на самом-то деле золотой рыбкой был он, Мирослав Понизовский. В отличие от скромной фирмочки Николь, которая только-только изведала успех, компания Мирослава уже давно набрала обороты. Ему принадлежало самое крупное брачное агентство в России: с отделениями в разных городах, офисами, газетами, небольшими клиниками для лечения психологических и сексуальных расстройств и даже гостиницами, даже ресторанами (для устройства личных встреч)! Это была настоящая «империя сватовства и сводничества», как любил говорить Мирослав. Одно время он даже подумывал переименовать агентство, назвав его именно «Империей», но жаль было менять прежнее название, которое принесло ему и успех, и славу, и деньги, и личное, так сказать, счастье. Между прочим, агентство так и называлась – «Счастье мое». Однако все те десять лет, пока Мирослав занимался «сватовством и сводничеством», сам он оставался одинок. Ну почти одинок: все-таки какие-то связи у него были, как правило, необременительные, легко возникающие – и легко завершающиеся. Он, увы, никак не мог служить рекламой собственной деятельности, хотя уж у него-то, само собой, не было недостатка в кандидатках на роль спутницы жизни. А угораздило его влюбиться в иностранку, с которой он познакомился совершенно случайно – когда искал мужа для некоей барышни, желавшей непременно выйти замуж за француза. Мирослав часто связывался с зарубежными агентствами – к взаимной выгоде, конечно, – и если бывал за границей, то не ради лежания на пляже (он вообще не любил жару и неподвижность), а ради блуждания по брачным конторам. Это была обычная практика, и он ничего такого не предполагал, когда открыл дверь скромного офиса на углу улиц Виктора Гюго и Пьера Лярусса. Соседство имени писателя-романтика, прародителя «Мизераблей», иначе говоря – «Отверженных» и «Собора Парижской Богоматери», с именем создателя знаменитого словаря, французского аналога «Британники», здесь никого не удивляло, ибо в этом районе мирно уживались улицы Дантона и Гамбетты, Вольтера и Беранже, Андре Жида и Ледрю Роллена, а также множество улиц и улочек, названных именами других французских литераторов и политиков. Словом, это был такой сугубо интеллигентный райончик, здесь-то и держала Николь свой офис – в четверти часа езды от квартиры, в которой жила с родителями, на углу улицы Друо. В этакой парижской «сталинке», как назвал этот дом Мирослав.
Между ними, организаторами, так сказать, чужих судеб, произошло именно то, о чем мечтали все их клиенты: любовь с первого взгляда. Они были созданы друг для друга: высокий светловолосый голубоглазый русский – и тоненькая черноволосая девушка с пикантным личиком и темно-карими глазами. Николь была типичной француженкой, а Мирослав типичным славянином – даже по имени, данному ему по настоянию прадеда в честь родного брата этого самого прадеда, священника, который в незапамятные времена эмигрировал во Францию, там и сгинул безвестно... Господь его ведает, может статься, именно от этого своего предка унаследовал Мирослав любовь ко всему французскому, что и воплотилось в конце концов в его всепоглощающей страсти к Николь. А она... Да, безусловно, сначала это была ошалелая любовь. Когда Мирослав приезжал в Париж, все было отлично, прекрасно, великолепно и сногсшибательно. Возлюбленные не могли оторваться друг от друга! Конечно, родители Николь поглядывали на Мирослава с некоторой опаской: ну все же русский, барбар, соваж, ле коммюнист![10] – однако постепенно привыкли к нему и даже как-то смирились с выбором дочери. Но спустя какое-то время Николь резко изменилась. Мирослав с тревогой заметил: между ними появилась трещина, которая никак не может затянуться. Она уклонялась от встреч: отказывалась сама приезжать в Россию и не спешила прислать вызов Мирославу, она сухо говорила по телефону, она не хотела давать никаких объяснений. Видимо, во время ее приезда в Москву произошло нечто, оставшееся не замеченным Мирославом – но имевшее роковые последствия для Николь. Хуже всего было то, что он совершенно не мыслил себе жизни без этой женщины. Все попытки обидеться, призвать на помощь гордость не имели никакого успеха. Наконец ему осточертело находиться в подвешенном состоянии, и он решил внезапно нагрянуть к Николь – выяснить отношения на месте.
Сюрприз так сюрприз – Николь не подозревала о его намерении приехать. Знал об этом только парижский адвокат мэтр Моран, с которым у Мирослава были давнишние деловые контакты. К мэтру Морану Мирослав заедет, непременно заедет – но сначала на улицу Друо. К Николь. И если он застанет в ее постели другого мужчину – что ж, лучше так, чем неопределенность.
– Погодите! Остановите автобус! – раздался вдруг заполошный крик, и Мирослав вынырнул из своих тягостных мыслей, словно из мутного, затянутого ряской озерка.
Человек в зеленой рубашке неуклюже выбрался в проход и ринулся к водителю, но не удержался на повороте, снова завалился на сиденье, не переставая, впрочем, кричать:
– Погодите! Остановите!
Водитель не обращал на вопли никакого внимания – может быть, потому, что не понимал по-русски. А кричали именно по-русски, и кричал не кто иной, как этот, как его там, Чведов-Шведов.
– Остановите!
Двое-трое добропорядочных французов поглядывали на него неприязненно, да и то – вид у него был не вполне презентабельный, скорее с безуминкой, даром что в рубашке из магазина «Буртон». И Мирослав впервые заметил, что Шведов очень молод, ему еще далеко до тридцати, даром что носит какое-то подобие бороденки. Вдобавок растерянность придавала его янтарным глазам совершенно детское выражение.
– Что приключилось? Вам плохо? – поинтересовался Мирослав, проклиная себя за то, что не может не чувствовать некоторую ответственность за соотечественника. – Укачало, что ли? У меня, кажется, где-то был пакет из самолета...
– Какой пакет? – дрожащими губами пролепетал парень. – Меня... о господи, меня обокрали!
И он начал лихорадочно шлепать себя по груди и по бедрам. На груди и на бедрах находились карманы.
– Что украли? – быстро спросил Мирослав.
– Документы! Паспорт!
– А деньги?
– Деньги?..
Шведов сунул руку в карман джинсов и достал несколько скомканных евро. Не более десяти в общей сложности.
– Вот... что осталось. Остальные лежали в паспорте. Их тоже... – И, поперхнувшись страшным словом «украли», он обратил на Мирослава свои испуганные янтарные глаза: – Как же?.. Как я теперь буду?
– Чертова сила! – от души высказался тот и крикнул шоферу по-французски: – Остановите! Этого господина ограбили!
Презентабельные и добропорядочные французы-пассажиры воззрились при этом на Мирослава с таким негодованием, словно он обвинил в краже их:
– Не может быть! Этого не может быть!
Водитель даже не сделал попытки замедлить ход, а когда Мирослав подошел к нему и снова потребовал остановиться, ответил, что не имеет права задерживаться, чтобы не сбить график движения, но по приезде на площадь Опера (через несколько минут, ведь они уже в Париже!) «этот мсье» – последовал довольно небрежный кивок в сторону Шведова – может обратиться в полицию. Сейчас все равно уже ничего нельзя сделать.
– Это еще почему? – озадачился Мирослав.
– Да он ведь уже давно сбежал, этот вор! – усмехнулся водитель. – Помните того черного с разноцветными косичками? Он терся вокруг этого мсье, я еще подумал, что рожа у него более чем подозрительная. Порадовался, что он скоро вышел, а он, оказывается, успел поживиться... Да, это уже не первый случай, когда в автобусах крадут документы у туристов. Один выход – как можно скорей заявить в полицию.
Мирослав повернулся к Шведову, который бессмысленно водил глазами от него к водителю, явно не понимая ни слова из их беседы, и передал ему совет – идти в полицию, как только автобус прибудет на площадь Опера.
Бог ты мой... Кажется, за все свои тридцать пять лет жизни он не видел такого ужаса в человеческих глазах – и, дай бог, не увидит, проживи хоть еще два раза по столько же!
– А что я такого сказал? – холодно осведомился Мирослав. – Теперь вам просто некуда деваться, кроме как в комиссариат идти. Вам же придется рано или поздно в Россию возвращаться, а чтобы в консульстве оформили выездные документы, они должны иметь документ, подтверждающий факт кражи. Да и вообще, вдруг повезет и они знают этого негра? Вы его видели, запомнили, составите словесный портрет...
– Да они все на одно лицо, эти черномазые, – с тоской сказал Шведов. – К тому же... Я ведь ни единого слова не знаю по-французски. Мерси, пардон... мсье, мадам, мадемуазель... и еще это, шерше ля фам.
– Ля фам тут вряд ли при чем, – буркнул Мирослав. – Вообще-то во всех турагентствах советуют и даже в газетах рекомендуют: иметь при себе копию загранпаспорта на случай таких вот неприятностей. Но у вас, конечно, копии нет?
Снова этот всплеск ужаса в глазах!
– Нет... конечно, нет.
– Ну и ладно, – покладисто сказал Мирослав. – С другой стороны, я знал одного предусмотрительного человека, который сделал такую копию – и вложил ее в загранпаспорт. Так, по привычке. Ну вот у него и стащили паспорт вместе с копией. Так что оно даже лучше, что вы ничего такого не сделали, иначе было бы вдвойне обидно, верно?
Он успокаивающе молотил языком, а сам при этом удивлялся, что имеет против него судьба. Да, его собственная судьба, его доля. Ну разве не могла она посадить его в другой автобус? Избавить от соседства этого несчастного соотечественника, ограбленного негром? Ведь не бросишь теперь бедолагу, никак не бросишь. Вот напасть! Вместо того чтобы идти к Николь и выяснять с ней отношения, придется тащиться с этим страдальцем в комиссариат и долго – ни в какой полиции-милиции дела быстро не делаются, будь то в Москве, Париже или на острове Мадагаскар! – объяснять ситуацию. И поучаствовать в составлении словесного портрета придется – факт! А чем в этом деле может помочь Мирослав? Для него тоже все черные – на одно лицо, еще похуже, чем японцы. Он даже не может вспомнить, как был одет тот грабитель. Единственная особая примета – разноцветные косички, да ведь небось в Париже сейчас многие так ходят, это самая модная фенька, вдобавок, если негр будет опасаться преследования, он запросто может выплести цветастые косички из волос – вот и вся маскировка.
Ну и подстроила же подлянку судьба. И главное, деться совершенно некуда, придется взвалить себе на плечи эту докуку – беспомощного россиянина.
А тот молчит. Поглядывает исподлобья несчастными глазами, но ни о чем не просит, о помощи не взывает. Тихо страдает. Совершенно по совету классика: «Никогда и ничего не просите – особенно у тех, кто сильнее вас!»
В данном случае Мирослав, безусловно, сильнее, потому что свободно говорит по-французски. Знание – сила!
– Ладно, не переживайте, – молвил он чуточку грубовато – чтобы не заостряться на собственном великодушии. – Отведу вас в комиссариат, помогу объясниться. А там посмотрим, как дело пойдет. Только вот что... вас зовут-то как?
Парень несколько раз растерянно моргнул, и Мирослав заметил, что у него удивительно длинные, натурально девичьи ресницы.
Чего он глазками-то хлопает? Имя с перепугу забыл? А впрочем, при стрессе и не такое бывает.
«А что я спрашиваю? – спохватился вдруг Мирослав. – Его же Алексей зовут, Алексей Шведов!» Но неудобно было признаться человеку, что заглядывал через его плечо в документы, поэтому пришлось ждать, пока растерявшийся парень не опомнится и не выдавит из себя:
– А, да... меня Алексей зовут. Шведов Алексей.