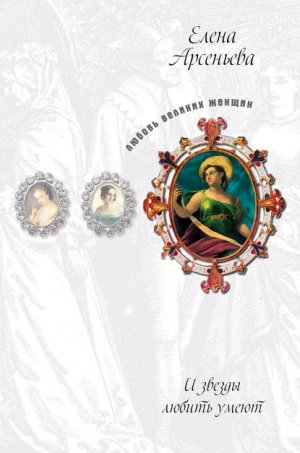
– Вы не можете вот это исправить? – спросила она тихо и протянула ему какую-то маленькую, неказистую книжечку.
Он взял документ. Это был паспорт, на его последней странице находилась маленькая фотография необычайно красивой женщины с блестящими глазами и затаенной улыбкой. Паспорт был выписан во Франции на имя Айседоры Дункан.
Человека, к которому она обратилась, звали Илья Ильич Шнейдер, и он был известный журналист, театральный критик и драматург, по воле судьбы (вернее, по приказу правительства) устраивавший в Советской России дела знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, ставший ее секретарем и переводчиком. В конце концов они подружились настолько, что Айседора не постеснялась обратиться к нему с просьбой… подделать паспорт. Пусть другого государства, но все же!
Илья Ильич посмотрел на изящный ноготь, который указывал на цифру, обозначающую год рождения: 1877. Первая семерка была написана криво, словно перо дрогнуло в руках французского делопроизводителя, заполнявшего документ. Чуть-чуть дополнить линию черной тушью – и семерка запросто превратится в восьмерку.
Илья Ильич поднял глаза от паспорта и поглядел на его обладательницу, которая улыбалась враз и смущенно, и развязно. Судя по этим двум семеркам и дню рождения (27 мая), ей сейчас, в начале мая 1922 года, почти 45 лет. Если исправить цифру, по документам будет тридцать пять. Илья Ильич знал толк в красавицах и мог бы поклясться на Библии (если бы какому-то безумцу пришло в голову потребовать от него такую клятву в постреволюционной России!): больше тридцати никто и никогда не дал бы этой богине с медными волосами, струившимися волнами и спускавшимися на длинную шею, этой нимфе с роскошной фигурой и глазами изменчивыми, переливчатыми, словно радужные мыльные пузырьки, которые вбирают в себя все краски окружающей вселенной. Сейчас, как и всегда в минуты глубокого волнения, глаза у нее сделались не то синие, не то сиреневые…
О да, Илья Ильич знал толк в красавицах и вообще в женщинах, однако он был всего лишь мужчина, то есть существо, которое сначала ляпает, а только потом думает. Ну вот, он, ничтоже сумняшеся, взял да и ляпнул:
– А зачем вам это?
На одно мгновение Айседора сделалась похожа на обиженную девочку, и Илья Ильич чуть не стукнул себя по лбу: какой же он сундук! Ведь завтра… завтра…
– Тушь у меня где-то есть, – сказал поспешно Шнейдер. – Исправить нетрудно. Но только, по-моему, вам это не нужно.
Она милостиво кивнула, принимая комплимент и прощая бестактность Ильи Ильича:
– Нужно не мне. Это нужно для Езенин. Мы с ним не чувствуем этих пятнадцати лет, которые стоят между нами. Но эта цифра… на нее будут смотреть завтра чужие глаза… Ему может быть неприятно. А паспорт мне больше не понадобится, я теперь получу другой.
Илья Ильич взял документ и пошел искать тушь, обещая сделать все так, как нужно, чтобы не омрачить предстоящего великого события.
И впрямь великого! Ведь на завтра было назначено бракосочетание всемирно известной танцовщицы Айседоры Дункан и знаменитого русского поэта Сергея Есенина, которого Айседора, на своем неподражаемом англо-франко-немецком языке, называла «Езенин» с добавлением двух слов: «ангелъ» либо «чиортъ» – в зависимости от ее настроения, в зависимости от его настроения, в зависимости от его поведения, в зависимости от количества выпитого им вина или водки, в зависимости от… Ну, тут было слишком много привходящих элементов, но все они в ту пору еще не имели определяющего значения, а имела значение только любовь, которая вспыхнула между этими двумя людьми с первого взгляда.
Впрочем, любовь Айседоры к тому или другому мужчине всегда именно вспыхивала. Она, смеясь, говорила сама о себе, что всегда была влюблена только безумно! Для нее было немыслимо медленное, мерное, плавное развитие чувств. И если она уверяла, что первые представления о ритме, о танце были вызваны у нее ритмом волн (родилась Айседора в Сан-Франциско, который, как известно, находится на берегу океана, да она и танцевала, украшая сцену длинными синими завесами, словно купаясь в волнах), то внутри ее всегда пылал страстный, негасимый огонь, в котором она горела. Горела – и не сгорала, словно сказочная саламандра, дух огня.
Именно с огнем было связано одно из самых пугающих впечатлений ее жизни. И самых ярких! Ей было два или три года, когда дом, в котором жила семья Дункан, загорелся. Маленькую Айседору обнаружили сидящей в центре огненного круга. Похоже, если бы не дым, заставлявший ее кашлять, она бы продолжала смотреть на огонь и качаться в одном ритме с пляской языков пламени. Ее выбросили из окошка в руки стоявших наготове полисменов, и только тогда Айседора заплакала.
На свое – и окружающих! – счастье, она не стала пироманкой… Разве что духовной: обрела редкостный дар вспыхивать страстью к жизни и вызывать ответный огонь в сердцах. Особенно в мужских. Вызывать в них любовь.
Она всегда была настроена на любовь, на всепоглощающую страсть. И с надеждой именно на невероятную любовь (а не только на перевоспитание российских ребятишек!) в 1921 году Айседора приняла приглашение советского правительства организовать школу для обучения одаренных детей танцевальному искусству. Конечно, Европа да и Америка уже слегка попривыкли к эпатирующим танцам этой странной балерины, танцевавшей порою не только босиком, но и с обнаженной грудью, да и вообще не старавшейся скрыть среди развевающихся, воздушных одеяний всего своего прелестного тела. Ну что делать, ну ненавидела она балетное трико «цвета семги» (ее собственные слова), вот и не надевала его никогда. Однако поехать в Россию – совсем не то, что танцевать практически голой. Это гораздо хуже!
Наверное, Айседора сошла с ума, рассуждали люди. И немудрено помешаться от обвала бедствий, настигших ее! Дети, дочь Дирдрэ и сын Патрик, рожденные ею от Гордона Крэгга и Париса Эжена Санжера[1], погибли – страшно, трагически, утонув в автомобиле, внезапно сорвавшемся с моста. А ребенок, которым она была тогда беременна, умер через несколько дней после рождения…
А впрочем, в глазах мира Айседору не извиняло даже сумасшествие от горя. Скорбящей матери гораздо более естественно было бы затвориться в монастыре, чем ринуться в Россию, в эту безумную страну, где, конечно же, ее непременно изнасилуют при переходе границы, а потом будут кормить супом, сваренным из отрубленных человеческих пальцев.
Во всяком случае, Айседора рассказывала Илье Ильичу Шнейдеру, что именно так ее стращали перед отъездом в Париже бывший русский посол во Франции Маклаков и некто Чайковский – глава белогвардейского правительства, организованного англичанами в оккупированном ими Архангельске. С другой стороны, Айседора могла и приврать… просто так, из любви к искусству, а также потому, что жила всю жизнь в не слишком-то реальном мире. То есть она искренне верила, что Маклаков и Чайковский говорили ей именно это. К тому же больше всего на свете она хотела сейчас прийтись ко двору в диковинной стране, которую когда-то видела благополучной, процветающей (она дважды, в 1905 и 1908 годах, гастролировала в России), а теперь обнаружила полуразрушенной, изнемогающей от голода, лежащей в развалинах… Во время пути в Россию Айседора торопливо записала, что у нее такое чувство, словно душа, отделившись после смерти от тела, совершает свой путь в новый мир.
Стало быть – на тот свет? Куда ж еще направляется душа после смерти?
Эти мысли – чистое инферно, конечно… И ей еще предстояло в том убедиться.
Однако тогда, в 1920 году, Айседора не задумывалась над чудовищностью и нелепостью возникшего у нее образа. Да и вообще – над чем и когда она задумывалась в своей жизни? Разве что о хлебе насущном – да и то коли вовсе уж нечего было есть, – а все остальное всегда подчинялось лишь вдохновению. Ее танец был самовыражением, чистой импровизацией, полной неожиданностью, которая в сочетании с исключительной красотой, пластичностью и, скажем так, раскованностью Айседоры производила сильное впечатление. А иногда – не производила.
Она ни за что не хотела себе в этом признаваться, однако в дополнение к раскованности нужна была «школа» – та самая тренировка, которую балерины проходят ежедневно у станка (у «палки»!), опасаясь иначе потерять форму. «Школу» Айседора нарабатывала в течение всей жизни ежедневными танцами, простодушно уверяя всех – и себя в том числе! – что танцует, как птицы поют: естественно, ни с того ни с сего, совершенно не тренируясь.
Еще на заре туманной юности, пытаясь заинтересовать своими прелестными, но непривычными, как… ну, скажем, как пение птицы киви (которая, как известно, не поет), телодвижениями на мотивы «Песни без слов» Мендельсона некоего директора странствующей труппы, она потерпела неудачу – услышала от него:
– Вы очень миловидны и грациозны. И если бы все это изменили и танцевали что-нибудь побойчее, с перцем, я бы принял вас. Что-нибудь с юбками, оборками (Айседора по обыкновению танцевала в хитоне) и прыжками. Вот если бы вы сначала исполнили свою греческую штуку, а потом сменили ее на оборки и прыжки…
Айседора убеждала себя, что согласилась «приспособиться к этим мещанским потребностям» исключительно ради матушки, которая тогда голодала, питаясь одними помидорами и слабея с каждым днем, но поддерживая свою высокодуховную дочь. Однако именно в те голодные дни Айседора постигла истину, впоследствии высказанную одним знаменитым русским теоретиком и практиком революции: дескать, свобода буржуазного художника, писателя и актрисы на самом деле – это зависимость от денежного мешка…
К чести Айседоры можно сказать, что хоть она и черпала из всякого попадавшегося под руку мешка (и чем он был туже, тем лучше), но надолго ее «зависимости» не хватало – и она вновь пускалась в некий свободный полет над матерьяльным миром, опускаясь на какой-нибудь островок лишь изредка: чтобы подкормиться, пересидеть бурю, переспать с очередным красавцем, родить ребенка, отказать поклоннику… А затем вновь взмывала над грешной землей, летела среди развевающихся синих занавесей, под рокот аплодисментов и крики: «Браво, божественная!» Наиболее реально смотрела на жизнь ее старшая сестра Элизабет, которая, устав мотаться за призраками, однажды открыла в Бостоне школу классического и бального танца, с тех пор преуспевала и помогала перебиться сестре и братьям, когда они вдруг плюхались в разгар свободного полета на мель.
Впрочем, по мере того как Айседора научилась примирять требования публики с собственным идеализмом, деньги потекли к ней рекой. Причем иногда такое примирение проходило на диво просто: однажды в Англии (кстати, толчком к тому, чтобы уехать из не оценившей ее Америки в Европу, стало не что иное, как пожар в отеле, где жила семья Дункан, лишившаяся с тех пор всего имущества) она танцевала среди очень респектабельного общества, и публика была совершенно шокирована, узрев ее босой и практически неодетой. Хозяйка дома, завидев, что часть гостей уже возмущенно приподнимается над креслами, чтобы уйти, моментально нашлась:
– Мадемуазель Айседора танцует в репетиционном костюме, потому что багаж ее с концертным платьем задерживается с доставкой.
– Ну, раз так… – протянула чопорная публика и снисходительно (а мужчины с особенным удовольствием) принялась смотреть танец.
Сборы были прекрасными! Еще пару лет назад Айседора разразилась бы опровержением этой лжи во спасение, но слишком многому научила ее жизнь. Вот так все идеалисты и приходят постепенно к материалистическому убеждению в том, что бытие определяет сознание, а не наоборот. Увы, увы…
И все-таки эта семья – Дунканы – порою производила впечатление даже не идеалистов, а душевнобольных. Но, между прочим, подобно тому, как истерия считается привилегией имущих классов (богатые барыни от безделья с жиру бесятся), также и шизофрения порою вызвана переизбытком материальных возможностей.
Однажды семейство разбогатевших (теперь уж благодаря Айседоре) Дунканов прибыло в Грецию. Они вообще боготворили золотой век человечества, легендарную Элладу, и древнегреческие танцы лежали в основе танцевальных теорий и практик Айседоры. Облазив все достопримечательности, Дунканы решили построить себе дом в благословленной богами колыбели цивилизации. Дому надлежало сделаться не просто домом, но дворцом искусств! Место было выбрано в чистом припадке вдохновения: только потому, что дивная скалистая вершина находилась на одном уровне с афинским Акрополем.
Впрочем, это не беда, что за вершину горы – неплодородную, безлесную, пустынную – семья выложила немыслимые деньги. Но только начав строить дворец – совершенную копию дворца Агамемнона (существовавшего, как известно, только в воображении мифотворцев, так же, как и сам его хозяин) – и возведя стены, вбухав в строительство кучу денег, они сообразили, что в том месте… невозможно изыскать воды. И все же они еще бились невесть сколько времени, бурили скалы, отыскивая какие-то несуществующие водяные жилы, пытались устроить артезианские колодцы… В конце концов, пожрав невероятное количество денег, прожект дворца был похерен, а в развалинах его впоследствии обосновались какие-то греческие мятежники, которые очень успешно отравляли жизнь своим соплеменникам, против угнетения коих сии мятежники как бы боролись.
Ну что ж, пути господни неисповедимы, а кого боги хотят погубить… etc.
Одно утешительно: сколько ни приходилось бедствовать всем Дунканам вообще, а Айседоре в частности в былые годы, со временем они стали весьма богаты. Деньги теперь так и обваливались на прелестную и талантливую танцовщицу, которая стала чрезвычайно модной среди самых изысканных ценителей искусства, а заодно и среди миллионеров. Она сама признавалась друзьям:
– Деньги ко мне словно бы притекали из водопроводного крана. Поверну кран – деньги будут. Стоит захотеть – контракт будет.
Она была искренне признательна бедности, в которой выросла, потому что она приучила ее к лишениям. Но не приучила к бережливости. Да и слава богу! Или деньги считать, или танцы танцевать, тем паче такие, какие танцевала Айседора – разрушающие все на свете догмы и устои.
«До основанья, а затем…» – этот девиз был очень близок мятежной душе Айседоры, которая полагала, что разрушила до основанья здание классического балета, а созданное ею новое направление танца будет жить вечно. Увы… Консерватизм, как это ни странно, оказался прогрессивней модернизма, ибо этот последний зиждется лишь на носителях его, а консерватизм – достояние, как принято выражаться, масс. Классический балет не умер, он процветает, а искусство Айседоры сохранилось лишь в невразумительных воспоминаниях. Что же касается очень ценившей Айседору родины революции, то… иных уж нет, а те далече.
Впрочем, кабы все мы заранее знали, что нас ждет впереди, жить вообще не стоило бы труда. А потому не будем резонерствовать – лучше снова обратимся взором в то полное надежд время, когда саламандра искала для себя нового пламени, желая избыть душевные горести. Катарсис[2] – это было ее обычное состояние.
Илья Ильич Шнейдер, который великолепно относился к Айседоре, исполнил ее просьбу (посоветовавшись, надо полагать, с Луначарским, наркомом просвещения и культуры, под эгидой, так сказать, которого и проистекал эксцентричный визит эксцентричной танцовщицы в Советскую Россию). И вот солнечным майским утром в загсе Хамовнического Совета расписались Сергей Есенин и Айседора Дункан, взяв каждый двойную фамилию: Дункан-Есенин.
Оба они были необычайно радостны, хотя Айседора старательно гнала от себя назойливое сомнение: а решился бы на брак с ней Есенин, если бы не хотел до умопомрачения увидеть наконец Европу и Новый Свет? Ведь Айседора, в надежде заработать денег для своей русской танцевальной школы (против обещания правительства Ленина, заманившего Айседору в Россию, в школу было позволено принять только сорок детей, а не тысячу, да и для тех были вечные проблемы с деньгами), снеслась со знаменитым американским импресарио Юроком, и он организовал ее гастроли. Поездка обещала быть очень долгой, и Айседора не хотела расставаться с Есениным. С самой первой минуты она любила его так жадно и всепоглощающе…
Встреча произошла в более чем вольной обстановке – в доме художника Георгия Якулова, горького пьяницы и талантливого человека, который именно за то и любил Есенина, что тот тоже, во-первых, пил, а во-вторых, был необычайно талантлив.
Стояла осень 1921 года – холодный, дождливый вечер. Тогдашняя богема была бедна, а порою и нищенствовала. Поэты, художники, писатели носили жалкую обувь, смешные, сшитые из одеял пальто, белье из простыней и платья из гардин.
Есенин и его ближайший друг поэт-имажинист Анатолий Мариенгоф были одеты лучше других. На Есенине – тщательно вычищенный и выглаженный костюм. В этом, несомненно, состояло благое влияние элегантного Мариенгофа. Есенин жил вместе с ним в одной комнате в Богословском переулке, и они на пару щеголяли в цилиндрах. Впрочем, тут дело было даже не в изысканном вкусе Мариенгофа (и не в его профиле, к которому очень шел цилиндр). Просто как-то раз друзьям понадобились шляпы, а ничего другого в лавке не нашлось. Цилиндр придавал Есенину неестественно-демонический вид. Впрочем, ему вообще не шли шляпы, с его-то рязанско-херувимским личиком.
Итак, Есенин, очень возбужденный, шатался по якуловскому ателье, которое имело самый жалкий вид. А впрочем, сорванные обои, сырость и плесень, отсутствие самой необходимой мебели и посуды не были чем-то особенным в то время всеобщей разрухи.
Каждый принес что мог из еды. Было даже вино – Якулов клялся, что не знает, откуда оно взялось: закон запрещал его продавать. Кирпичная печка в центре комнаты была хорошо натоплена, и настроение у все подходивших промерзших гостей немедленно становилось прекрасным.
Собрались актеры, поэты, художники, представители Наркоминдела, Моссовета… Богема мирно соседствовала с чиновниками. Ждали комиссара культуры Анатолия Васильевича Луначарского, но пока прибыли только два его помощника – Гринберг и Штеренберг.
Пробило полночь. Начали поговаривать о том, что пора расходиться. Внезапно дверь отворилась и появилась группа людей в непривычной, нерусской одежде. Они говорили на смеси трех языков – позднее гости узнали, что это была обычная манера Айседоры Дункан и ее приемной дочери и помощницы Ирмы. Волей-неволей их манеру перенял и Илья Ильич Шнейдер.
Впрочем, ни на секретаря, ни на молоденькую, хорошенькую Ирму никто не обратил внимания. Все уставились на Айседору, которая так и притягивала взгляды своей необычайной внешностью и пластичностью.
Дамы (то есть это в былые времена их называли бы дамами, а теперь здесь все были гражданки) во все глаза смотрели, как знаменитая танцовщица сняла со своих шелковых туфель мягкие калоши и не сунула их стыдливо под вешалку, как поступили прочие, а кокетливо, даже с вызовом повесила на гвоздь, словно это были балетные туфельки, а не калоши. Вообще ее одежда, самая вроде бы простая, казалась вызывающей: короткий жакет из соболей, прозрачный длинный шарф. Дамы (гражданки!) заволновались. Можно себе представить, сколько это стоит! Никто не видел соболей с… ну да, с семнадцатого года! Все соболя нынче откочевали в эмиграцию вместе со своими носительницами. Но когда, сняв жакет, Айседора осталась в строгой греческой тунике красного цвета, заволновались уже мужчины, а женщины совершенно приуныли. Ее волосы были медно-красного цвета. И этот вызывающий наряд, не скрывающий линий совершенного тела… Пламень! Саламандра!
«В ее-то годы!» – возмущенно думали юные гражданки, но так и норовили забиться в уголок, стыдливо понимая: даже осень этой красоты ярче и прельстительней их простенькой весны.
Устроившись на софе, Айседора всматривалась в лица, как будто хотела проникнуть в мысли окружающих ее людей. Ее засыпали вопросами. Она, как обычно, живо отвечала одновременно на трех языках. Шнейдер едва успевал переводить, но в смысл ее слов мало кто пытался вникать: ее слушали, как музыку. Томный, певучий голос ее звучал нежно и чуть насмешливо. Гражданки, особенно те, которые не понимали ни слова, готовы были рыдать, заметив, как смотрит на Айседору Есенин. Почувствовав его взгляд, она улыбнулась долгой, откровенной улыбкой. И поманила его к себе.
Есенин молча сел у ног Айседоры. Он не знал иностранных языков. На все вопросы он только качал головой и улыбался. Она не знала, как с ним говорить, и провела пальцами по его волосам, пробормотав на своем очень слабеньком русском:
– Зо-ло-тая го-ло-ва…
Видно было, что Есенина дрожь пробрала от прикосновения ее пальцев. Она засмеялась и вдруг, приподняв его голову за подбородок, поцеловала в губы. И еще раз, и еще – полуприкрыв глаза, с выражением уже не нежным, а страстным.
Есенин вырвался, двумя шагами пересек комнату и вспрыгнул на стол. Он начал читать стихи:
Как странно, что при первой же встрече с Айседорой он читал стихи о гибели затравленного волка… Потом, отравленный любовью, уже в Берлине признается в горьких, словно хина, строках:
Но тогда, в тот вечер, ничто не предвещало беды. Есенин был в ударе, читал особенно хорошо. Айседора прошептала по-немецки:
– Он – ангел, он – сатана, он – гений!
Неважно, что она не понимала слов. Если Есенин хотел очаровать человека, ему нужно было только улыбнуться глазами и начать читать стихи, немного утрируя свой рязанский диалект. Магия его голоса была поразительна.
Когда он во второй раз подошел к Айседоре, она бурно зааплодировала ему и сказала по-русски:
– Оч-чень хо-ро-шо!
Однако все знали, что собрались здесь не только слушать стихи и разговоры разговаривать. Жаждали танца Айседоры, и наконец под аккомпанемент чьей-то гитары она начала танцевать – сначала «Интернационал», потом «Славянский марш» Чайковского. Алые переливы легкой ткани, алый шарф… Пластичность самых простых движений казалась невероятной, заставляла содрогаться сердце.
Есенин смотрел на нее не отрываясь.
Анатолий Мариенгоф покосился на друга раз и другой, потом лицо его омрачилось.
– Кто бы мог подумать, – пробормотал он ревниво, – что «Славянский марш» может сыграть не только оркестр, но и отяжелевший живот, грудь и немой красный рот, словно кривым ножом вырезанный на круглом лице.