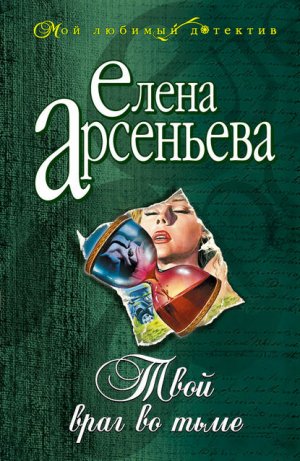
Лёля. Июль, 1999
Говорят, люди чувствуют беду заранее. Однако у Лёли не было никаких дурных предчувствий, и беда обрушилась на нее внезапно, как снежная лавина. А еще говорят, если боги хотят погубить человека, они лишают его разума. Что верно, то верно. Вряд ли хоть один из ее поступков за последние полгода можно назвать разумным. Скорей всего она вела себя как истинная сумасшедшая, но подлинное безумие ждало ее впереди. И она ничего, ничего не предчувствовала до самого последнего момента!
Даже когда Мордюков свернул налево, на съезд к Оке, Лёля не встревожилась, а только слегка озадачилась: вроде бы раньше, когда ездили в деревню с родителями, поворачивали направо… А впрочем, она толком не помнила.
Мордюков приткнулся к обочине и затормозил. Впереди стояла черная, огромная, наглая машинища неизвестной марки. Оба ведущих моста были включены, и колеса нелепо торчали, будто у лунохода какого-нибудь, если только у луноходов вообще имеются такие распухшие колеса со сверкающими шипами по бокам.
Мордюков, хитренько улыбаясь, перегнулся через Лёлины коленки и открыл дверцу, промурлыкав:
– Ну, встречай милого дружка!
Усатый, смуглый, абсолютно незнакомый Лёле человек заглянул в кабину и мрачно приказал:
– Выйти всем!
И Лёля увидела направленный на нее пистолет…
Она вообще ничего не чувствовала в это мгновение, и в голове у нее была абсолютная пустота. Все как бы отошло от нее. Осталось только не очень активное, даже туповатое изумление: «Неужели это происходит со мной?» И все, что Лёля потом сделала, она совершила не от большого ума или какой-нибудь изощренной хитрости. Это произошло как бы само собой. Она действовала на уровне подсознания. А источник ее поведения скрывался еще глубже. Просто в то мгновение, когда Мордюков вдруг ошалело заблажил за ее спиной: «Вы чо, мужики? Мы так не договаривались!» – и взгляд усатого вместе со зрачком ствола переместился на него, в это мгновение Лёля…
О нет-нет, не метнулась вперед, выбивая отработанным приемом карате-до оружие из рук незнакомца и расшвыривая направо и налево его команду, обступившую «Ниву» со всех сторон. Из всех «боевых» приемов Лёле была известна только пощечина, да и ту она ни разу в жизни не применяла, хотя последнее время и хотелось… очень хотелось!
Лёля также не вырвала у обалдевшего Мордюкова руль, не ударила по газам и не послала обшарпанную «Ниву» вперед, разметав клочки нападавших по закоулочкам. Отродясь не водила машину и даже ради спасения собственной жизни не отличила бы педаль газа от тормоза!
Нет. Она просто покорилась. Принялась неуклюже выбираться наружу, хватаясь за дверцу и за сиденье, выставляя то одну ногу, то другую, зачем-то поминутно одергивая джинсы на коленях, словно это было задравшееся платье, пытаясь вытащить сумку и снова водворяя ее на прежнее место… Со стороны эти телодвижения выглядели, конечно, сущим идиотством.
В черных глазах усатого мелькнуло презрение. Он протянул руку, намереваясь без церемоний выволочь девушку из машины, но она уже встала дрожащими ногами на твердую землю, машинально снова повернулась к сумке и в этот краткий миг расстегнула на запястье янтарную «фенечку», позволив ей соскользнуть за сиденье.
В крайнем случае, если бы кто-то это заметил, Лёля могла бы сказать, что браслетик расстегнулся нечаянно. Или что «фенечка» вовсе не ее, а так тут и валялась…
Но никто ничего не заметил.
Усатый подал знак, и двое из его команды (Лёля даже не разглядела их лиц, они маячили какими-то расплывчатыми, белесыми пятнами) подхватили ее под руки и поволокли к черному автомобилю.
Они запихали девушку на заднее сиденье и швырнули ей на колени сумку. Потом и сами оказались рядом с ней. Один прижал ее к спинке так, что у Лёли дыхание перехватило от боли, другой вцепился в руку и всадил в предплечье иглу короткого толстого шприца, больше похожего на белый пластиковый пистолет.
Лёля вскрикнула от ужаса и ошеломленно замерла, чувствуя, как немеет рука и оцепенение постепенно расползается по всему телу. Наверное, это длилось доли секунды, но показалось, что долго-долго… Обрамленное неопрятной светлой щетиной лицо склонившегося к ней человека вдруг странно куда-то поплыло. Один глаз незнакомца померк, будто обугленный, другой, наоборот, вдруг вспыхнул зеленым огнем… Но все это происходило уже в беспамятстве, в каком-то другом измерении.
Мордюков. Июль, 1999
Мордюков понятия не имел, откуда взялся этот усатый. Не представлял, откуда тот узнал, кто он и зачем приехал в Нижний. Выследил небось! Дело было в пятницу, где-то около трех. Мордюков стоял себе на Мытном рынке, и вдруг этот «чебурек» подошел и спрашивает, почем малинка. Мордюков поглядел на него и ляпнул:
– А червонец!
Черноусый и бровью не повел. Швырнул на прилавок десятку, сгреб себе полную горсть малинки и ну причмокивать, хвостиками плеваться да стричь Мордюкова прищуренными глазами. А тот ничего, стоит помалкивает, хотя его так и подмывало намекнуть: мол, ладонь у тебя, мужик, что лопата, и входит в нее поболе, чем стакан! Но ничего, смолчал, выдержал характер. И только когда заметил, что из-за глаз этих вострых, да усищ, да рожи разбойничьей покупатели вообще подходить перестали, решился спросить: надолго ли, мол, обосновался?
– А вот смотрю, нельзя ли с тобой сговориться, – был ответ.
– Сговориться? – обрадовался Мордюков. – А что ж! Всегда пожалуйста! Как не сговориться с хорошим человеком? Конечно, как оптовому покупателю я тебе скидку сделаю, но учти: денежки вперед! И ящички вернуть придется: они на заказ сделаны.
– Не тревожься, – хохотнул усатый. – Оставь себе свои ящики вместе с ягодой. А вот и задаток.
Надо сказать, глаз у Мордюкова наметанный. На спор мог сумму в пачке с одного взгляда определить. И он тотчас просек, что ему протянули аккурат полтыщи. Десять не очень новых пятидесяток.
– Это что – за малину?! – спросил, старательно прикидываясь валенком. Разумеется, он сразу смекнул, что «чебуреку» нужна от него совсем не ягода!
Усатый глянул испытующе:
– Ты в самом деле из Доскина?
– А то!
– Знаешь Нечаевых?
– Неужели!
Нечаевы в позапрошлом году купили дом через дорогу от мордюковского и наискосок. Хор-роший домина, подворье, сад – все как надо. Эх, ему бы такой, он бы… Все ведь приходится по нитке собирать. А Нечаевы – они никакие не хозяева, нет. Городские! Скотины не держат, двор пустой стоит. Картошку ни разу не сажали, парник снесли… Нелюди какие-то. В деревню ездят, как на дачу: по выходным. Нет, в этом году ничего не скажешь: безвылазно живут. Вроде как у самого Нечаева сердце прихватило, врачи приказали жить на свежем воздухе и в город не соваться. Сидят теперь тут, с цветочками ковыряются. Хотя «виктория» у них уродилась потрясная и огурцы хорошо пошли. До мордюковских далеко, конечно, да ведь они с женой земле с утра до ночи кланяются, и Жанночка, дочка, помогает. Нечаевскую же Лёльку Мордюков раза два всего на огороде и видел.
Все это он и выложил усатому, подтверждая, что с Нечаевыми в самом деле знаком. При Лёлькином имени тот враз стойку сделал:
– И ее знаешь? Это хорошо… Это очень хорошо, дяденька, потому что о ней речь и пойдет.
– Н-ну? – осторожненько подал Мордюков голос.
– Ну… понимаешь, я Лёлькин жених, – заявил усатый и покосился на Мордюкова, словно хотел проверить, как он к этому отнесется.
А ему-то что? Жених, муж, хахаль – дело ваше, люди добрые, дело молодое! На доброе вам здоровьичко!
– И когда свадьба? – вот и все, что сказал.
«Чебурек» блеснул зубищами… Как у волка зубы у него, точно!
– Да я хоть бы и сейчас! Не отходя от кассы! И сама Лёлька не возражает, даже наоборот. Но вот родители ее…
– Неужели против?
Мордюков слукавил, конечно, изображая удивление. Ежу понятно, что этакого усатого, черноглазого да черномазого Нечаевы и к забору на сто шагов не подпустят, не то что к доченьке своей беленькой в постельку. А что уж в ней такого особенного? Дылда белобрысая! Мордюков – мужик ничем не обиженный, а ей, версте коломенской, по плечо. Идет, бывало, поверх головы прищурится… И чего форс такой гнет? Двадцать пять уже, а все еще в девках сидит. Нет, с его Жанночкой такого не будет, это точно! Она у него махонькая такая, ладненькая да складненькая…
– Ну и чего ты от меня хочешь, не пойму?
– Пошевели мозгами, – хмыкнул черный в усы.
– Записку, что ли, передать? – опять сыграл Мордюков дурачка. – Так ведь у них небось телефон…
– Ладно тебе пинжака из себя строить. Мне твоя помощь в другом нужна. Лёлька тебя знает в лицо?
Мордюков кивнул.
– Отлично. Поедешь к ней домой и скажешь, что тебя ее мамаша послала. Мол, отец заболел, надо помочь. Пусть, мол, на субботу-воскресенье с тобой приедет. Чего конкретно говорить, это мы с тобой потом обмозгуем. Посадишь ее в свою лайбу, а возле поворота на карьер, сразу за Окским…
Он примолк, улыбнулся хищно.
– Ну, и чего будет?
– А ничего особенного. Я вас там ждать буду. Свернешь с шоссейки, остановишься, Лёля пересядет ко мне, а ты двинешь дальше, разбогатев на полкуска. Шиферу там купишь или досок…
Да уж и без советчиков нашел бы Мордюков чего купить! Только по его надобностям любое одеяло коротко будет: на ноги натянешь – макушка замерзнет. Что тут какие-то пятьсот рубликов, по теперешним-то ценам!
– Согласен, – сказал осторожно. – Только… добавить бы надо.
Тот глазом повел:
– И сколько тебе добавить? А главное – за что?
– Дело больно деликатное, – спокойно пояснил Мордюков. – «Похищение» называется! Вот если бы вы с Лёлькой сами в бега ударились – это одно. А при постороннем соучастии… Почем я знаю, может, девка за тебя уже давно раздумала идти и ты ее силком к себе в машину запихнешь? Конечно, стерпится – слюбится, а все-таки надо прибавить… минимум полстолько, а еще лучше – столько же!
У черномазого аж усы дыбом встали.
– Ты, дяденька, случайно не оборзел? Думаешь, один ты из Доскина в город ездишь? Да я вообще за четверть цены охотников найду!
– Найдешь, – покладисто кивнул Мордюков. – Только прикинь: с кем из них Лёлечка твоя согласится вот так вдруг, с печки брякнувшись, в машину сесть? А со мной поедет, потому что мы с Нечаевыми соседи, она и меня знает, и Алю, жену мою, и Жанночку, дочку.
Усатый поглядел на Мордюкова с отвращением. Подумалось: сейчас уберется клиент восвояси, и плакали в общем-то немалые денежки, однако тот вдруг подмигнул и заржал жеребцом:
– Ну ты, дяденька, крепкий мужик! Уважаю! По рукам! Сейчас получишь эти пятьсот, а когда Лёлька в моей тачке окажется – еще столько же. Устраивает?
У Мордюкова, чего врать, в горле пересохло, однако виду он никакого не подал.
– Хрен с тобой, – сказал скучным голосом. – Устраивает.
Да, похоже, Лёлька Нечаева крепко усатого зацепила. Насилу дождался, пока Мордюков остатнюю ягоду распродал, копытом бил от нетерпения. Конечно, Мордюков принцип держать не стал: спустил свою отборную ягодку всего по ничего. Ну что ж, где-то теряешь, но где-то и находишь!
Наконец погрузил Мордюков свои ящички в багажник и поехал к Лёлькиному дому, на Провиантскую, а усатый сидел рядом и все накачивал, что девке говорить да как. Подготовился он, ничего не скажешь. Всякую мелочь предусмотрел. И, главное, велел о нем Лёльке ни полусловом не обмолвиться. Мордюков пообещал, конечно, но сам смекнул кое-что. Похоже, не только родители, но и сама невеста жениха своего не больно жалует. Небось дала от ворот поворот, а ему загорелось – вынь да положь. Они, черномазые, до наших баб охочие, особенно до таких белобрысых, как Лёлька. Увезет куда-нибудь в горы, будет она там третьей или четвертой женой… А сама виновата, не дразни мужика! Сучка не захочет – кобель не вскочит. У Мордюкова Жанночка не такая, нет, он умеет семью в ежовых рукавицах держать, это и Аля, жена его, подтвердит…
Ну, ладно, пока суд да дело, приехал он к Лёльке, взобрался на пятый этаж, в дверь позвонил. Лёлька дома была, слава богу.
Сначала через дверь разговаривала, потом вспомнила Мордюкова – открыла. Но в комнаты не пригласила – продержала в коридоре, поганка. Ростом под потолок вымахала, а вести себя… Его Жанночке только тринадцать, а она уже всему такому обучена, как взрослая!
Лёльку Мордюков давно не видел, а сейчас присмотрелся к ней – и диву дался. Тот, усатый, мужик хоть куда, даром что черный. И что он в ней нашел? Желтая, тощая, под глазами синяки… Может, в положении уже? Запросто! И ей еще повезло, что черный – мужчина порядочный. Вдобавок она была вся зареванная, а как про отца Мордюков сказал басню, вообще в три ручья слезы хлынули. Она даже и спрашивать ничего особенно не стала, Мордюков ее тепленькую взял. Так что зря они с усатым целый «план Барбароссы» сочиняли. Покидала Лёлька в сумку какие-то вещички, переоделась в штаны и маечку – и поехали. Мордюков, конечно, слова не сказал, хотя своей дочке не давал в штанах ходить, задницу всем показывать. Ничего, у того мусульмана Лёлька не больно-то в джинсах побегает! Небось еще и паранджу на морду навесить придется!
Очень Мордюкова это позабавило, он едва ржать не начал, но вовремя спохватился.
Вышли во двор. Мордюков огляделся неприметно, но знакомца своего усатого не обнаружил: он уже смыться успел. Небось вовсю жмет к тому повороту на карьер. Ох, черт, Мордюков ведь совсем забыл спросить, какая у него машина, кто ждать будет. Да ладно, как-нибудь…
– Садись, – говорит.
Лёлька села рядом, сумку в ноги бросила. И за всю дорогу хоть бы слово сказала – сидела мрачная-мрачная!
Ну, Мордюков тоже не лез с разговорами. Больно надо! Он продолжал бы путь в приятном и ровном состоянии духа, когда бы не точило беспокойство: отдаст ли усатый остатние денежки? Или жаба его давить станет? Ох уж эта жаба-жадность, она человека вообще способна насмерть задушить, не то что заставить зажать какие-нибудь несчастные полкуска! Что бы такое придумать, чтоб уж наверняка заставить его раскошелиться? Может, заблокировать изнутри дверцы и крикнуть: не откроюсь, мол, и невесту твою не отдам, покуда не шваркнешь денежки на бочку!
А что? Мыслишка на славу! Ведь тыща за такое дело не предел, совсем не предел!
Мордюков даже хихикнул, представив, как ладненько все может устроиться. Единственное, что могло помешать, это сама Лёлька. А ну как не захочет она взаперти сидеть и смотреть, как дачный сосед ее будущий семейный бюджет в свой карман перекачивает? Еще рожу исцарапает, вон когти какие отрастила, сразу видно, белоручка, не то что Жанночка…
Но когда Мордюков, проехав Окский, увидел слева угольно-черного бегемота неизвестной марки, то подумал: еще неизвестно, кому Лёлечка своими когтищами морду полосовать будет. Что-то не запрыгала она от радости, увидев своего усатого. Вот же деревяшка бесчувственная, а джигит из-за нее…
– Встречай милого дружка, – хмыкнул Мордюков, перегибаясь через ее джинсовые коленки и открывая дверцу. Сама Лёлька сидела как в гостях, тупо озираясь.
Открыл, значит, Мордюков дверцу и ждет, когда с ним расплатятся. И переживает: а вдруг?..
И вдруг…
– Выйти всем! – сказал усатый, и в его руке Мордюков увидел… увидел вовсе даже не деньги, а пистолет.
Тут его что-то ткнуло в левый бок. Повернулся – о господи, царица небесная! Еще один мужик стоит, и с таким же пистолетом!
Мордюкова прошиб холодный пот. Ах же вы, гады, подумал он, ах же сволочи! Это все из-за такой ерундовины, как несчастные полкуска?! Да, друг Вова, заработал ты и на доски, и на шифер, и на самосвал песку из этого самого карьера… Ни хрена этот усатый не доплатит, еще и задаток заберет, а может, и то, что за малину наторговано.
Мордюков просто-таки прирос к сиденью, а Лёлька между тем начала выбираться наружу. Ну, Мордюкову не до нее было: смотрел на ствол, на него направленный, и думал, настоящий он или нет. Что это боевое оружие, и в мыслях не было. На худой конец, газовик или пневматика. А то и вовсе пластмассовый пугач для простофиль. Да… задавила-таки их жаба, как он и думал!
– Выходи, козел, – сказал напарник усатого, и Мордюков зашевелился.
Ну, точно. Сейчас накостыляют по шеям, машину обчистят, а самих поминай как звали. Еще спасибо скажешь, если «Ниву» не угонят. И, главное дело, Мордюков сам, как дурак, свернул на этот пустынный спуск! В двадцати метрах шоссе свистит, рядом два поселка, Окский и Доскино, а поди ж ты!.. Да нет, не настоящее у них оружие, у джигитов этих, не может оно настоящим быть, и хорош же он будет дурак, если все свое нажитое профукает из-за пластмассовой игрушки…
Тут его что-то толкнуло. Откинулся… Рожа какая-то смотрела сверху – бурая, обвислая, бородавчатая. Она повалила Мордюкова и налегла сверху, на грудь, неодолимой тяжестью. Чудилось, будто камень или плита могильная на него давит! И рожа все ближе, ближе… холодная, осклизлая…
«Жаба! – подумал Мордюков. – Рожа-то жабья!»
А больше он ничего не успел подумать.
Лёля. Октябрь, 1998
На исходе октября прошлого года, когда внезапно ударил мороз, Лёля стояла у окна, глядя на остатки желтых, дрожащих на ветру листьев. Вороны возмущенно носились над крышей соседнего дома, гвалтом выражая свой протест против злорадной ухмылки природы. Нет, ну в самом деле: еще вчера стоял великолепный, сияющий, теплый день вернувшегося бабьего лета, а сегодня воцарилась «глухая пора листопада», и сине-золотое сияние осени растаяло пред грозным обликом зимы, как дым…
Вот именно как дым, Лёля воочию видела этот дым. Он клубом поднялся к окну и был в клочья разорван порывами ветра. Тут же они радостно набросились на новую поживу, будто голодные птицы на ломоть хлеба, и до Лёли как-то вдруг дошло, что дым этот отнюдь не метафорический, а очень даже реальный!
Что характерно, именно такой вот белый, тягучий, жуткий дым она видела сегодня во сне. Это был стопроцентный кошмар: Лёля сидела, забившись в уголок, и изо всех щелей на нее наплывали струи дыма, а она никак не могла вспомнить, по какому номеру звонить в пожарную охрану. Наконец вспомнила, долго-долго искала по квартире телефон. А когда нашла, позвонила, и тут ее отматерил полупьяный мужской голос…
Когда Лёля проснулась, была глубокая ночь. На улице царила тишина, безжалостно нарушаемая отборным матом. Судя по отдельным русским словам, говоривший никак не мог понять, каким образом он вместо центра Сормова оказался в районе площади Свободы.
Лёля вскочила с постели, принюхалась. Дымом не пахло! Она прикрыла окно, но долго еще не могла уснуть, вновь переживая кошмар и надеясь, что он не сбудется никогда, никогда! Но, как известно, чтобы страшный сон не сбылся, его надо немедленно кому-нибудь рассказать. Однако утром Лёля проспала, родители уже ушли в университет. Не в фирму же звонить, чтобы рассказать сон, все-таки она на больничном, неудобно как-то! И вот…
Нет, сначала Лёля не испугалась. Просто подумала, что внизу, в палисаднике, жгут опавшую листву. Хотя это сколько же надо листвы собрать, чтобы столб дыма поднялся до пятого этажа? Лёля открыла узкую оконную створку (у них в доме были совершенно идиотские окна без форточек: хочешь впустить каплю свежего воздуха, а врывается целый кубометр!), высунулась – очередной клуб дыма, вырвавшийся из приоткрытого окна на четвертом этаже, шибанул вверх, чуть ли не в лицо. Прямо под ней!
О господи…
Однако Лёля и тут не испугалась – скорее разозлилась. Снова эта семейка с четвертого этажа!
Раньше эта семейка жила на седьмом. Дважды в нечаевской кухне и в кухне шестого этажа пришлось делать ремонт: не до конца закрутить кран, когда воду отключили, а раковина полна грязной посуды, было любимым делом верхних жильцов. Воду, конечно, снова давали, когда никого дома не было…
Потом этими тиранами вдруг овладела высотобоязнь. У них была старенькая бабуля – единственный, по мнению Лёли, луч света в темном царстве этих хамов, – а для нее подняться на седьмой этаж без лифта – неразрешимая проблема. То есть лифт в подъезде вообще-то имелся, но работал он, по общему впечатлению, только по ночам, чтобы не надрываться. А у бабулиной наглой дочери, наглого зятя и двух наглых внуков, жутко топавших по потолку шестого этажа (Нечаевых как-то пригласили послушать их топанье, так мама даже прослезилась от счастья, что живет на пятом!), было единственное человеческое качество, из-за которого Лёля им многое извиняла: любовь к этой самой бабуле, Александре Герасимовне. С другой стороны, как же им ее не любить? Она, как атланты небо, держала на своих руках все домашнее хозяйство. А ведь ей семьдесят семь! Атланты, что и говорить, постарше, но ведь они мужики, вдобавок каменные. А Александра Герасимовна росточком Лёле по пояс, ну, может, самую чуточку повыше, и одежки у нее сорокового размера.
Короче, бабуля взбунтовалась: не могу больше сумки таскать на седьмой этаж! Или ходите по магазинам сами, или…
Ультиматум так перепугал семейство, что оно бросилось по дому, разыскивая идиотов, желающих со второго, третьего, на худой конец с четвертого этажа переместиться на седьмой. Учитывая работу лифта и то, что вода выше пятого течет, только когда кран открыт, а дома никого… Короче, хохотушка-судьба распорядилась так, что они нашли обмен с изрядной доплатой с тем же стояком, но на четвертом этаже. Под Нечаевыми. Мгновенно переехали, мгновенно сделали ремонт. При этом дважды затопленным соседям не дали, конечно, ни копейки на новые обои. Лёлин отец намекнул, что надо в домоуправление пожаловаться или хотя бы самим затопить соседей… «А, гори они все огнем!» – отмахнулась легкомысленная матушка.
И вот они, кажется, и в самом деле загорелись.
Лёля вылетела из квартиры, в одну секунду оказалась на четвертом этаже и вонзила палец в кнопку звонка. Раздалось нежное курлыканье. Такими звуками только уши праведников в раю услаждать, а не тревогу поднимать! Забарабанила в дверь – тишина. Заметалась по площадке, звоня и стуча в три другие двери, – напрасно. Соседи на работе или где-то еще.
Странно, но эта тишина Лёлю несколько успокоила. Все люди как люди: чем-то заняты, делают свое дело, без паники зарабатывают деньги, и лишь она, как нанятая, носится по этажам! Пожав плечами, нарочно неторопливо побрела домой и вошла в кухню с твердым намерением побаловать себя каким-нибудь естественным транквилизатором (сладкое, между прочим, отлично успокаивает!). Колеблясь в выборе между мармеладом «Лимонные дольки в сахаре» и ванильным зефиром, меланхолически глянула в кухонное окно. И вдруг обнаружила, что оно буквально занавешено белесым дымом.
Неведомая сила швырнула Лёлю к холодильнику… Нет, она не собиралась спасаться в нем от пожара. Просто на холодильнике у Нечаевых стоял телефон. Накрутила «01»… Не помня себя, что-то там кричала в трубку…
Потом кинулась по комнатам. Сгребла в сумку свои документы, сережки, колечки, бросилась в спальню родителей. Смела что-то с маминого комода и остановилась, пытаясь вспомнить, где лежат родительские документы, бумаги на квартиру, а также за которой из двух десятков картин, развешанных по стенам, оборудован тайничок с семейной заначкой. Помнится, мама что-то такое говорила, но у Лёли вечно в одно ухо влетает, в другое вылетает. Она всегда утверждала, что столько картин в квартире – это ненормально, у них же не музей! Да и была бы там хоть приличная сумма спрятана, а то смех один. Но все-таки!..
И тут у Лёли голова пошла кругом. А книги? А эти самые картины, столь любимые матушкой, – да она ведь не переживет, если их лишится! И как же компьютер со сканером, носильные вещи, посуда, мебель? А сама квартира?! То есть им, Нечаевым, негде будет жить? У них, правда, был домишко в Доскине, но Лёля не хотела жить в деревне, ее туда и летом-то на выходные палкой не загонишь, а сейчас уже зима на носу!
Лёля стояла посреди комнаты, в буквальном смысле схватившись за голову. Картины, туфли, рубли и доллары, ее новый итальянский костюм, мамина дубленка и отцовский ноутбук, четырехтомник любимого Даля, Пушкин и «Мастер и Маргарита», китайский бабушкин ковер и ванильный зефир – все это кружилось перед глазами каким-то жутким огненным колесом. Кажется, она даже всплакнула, оказавшись перед неразрешимой проблемой: что спасать первым делом. И уже кинулась снова к телефону, чтобы позвонить маме на кафедру и спросить совета, как вдруг неведомая сила заставила бросить трубку, принюхаться – и снова ринуться на четвертый этаж.
Может, судьба надорвала животики от хохота, глядючи на Лёлю, и поэтому у нее в голове забил слабый родничок разума? А может быть, до нее наконец-то дошла простая и очевидная несуразица: дым-то она видит, но дымом почему-то не пахнет!
Короче, Лёля скатилась по лестнице, позвонила в дверь… и та волшебным образом распахнулась после первого же, еще совсем слабенького курлы-курлы.
– Лёлечка! – тоненьким голоском воскликнула стоявшая на пороге Александра Герасимовна, почему-то красная как вареный рак (вернее, креветка, учитывая ее мини-габариты), с прилипшими ко лбу влажными седыми волосенками.
«В одиночку боролась с огнем? Заливала пожар водой из-под крана?» – просвистели в Лёлиной голове остатки прежней паники, хотя она уже всем нутром чувствовала: что-то здесь не так!
– Здравствуй, дорогая! Давно звонишь? А я на кухне закрылась, белье решила прокипятить, а то все руки как-то не доходят, – жизнерадостно пояснила Александра Герасимовна, в подтверждение своих слов потрясая такой специальной деревянной клюшечкой, хорошо известной женщинам: ею мешают в баке белье при кипячении.
Не стоит скрывать: Лёля только невероятным волевым усилием справилась с желанием вырвать у Александры Герасимовны эту деревяшку и стукнуть по башке, облепленной белыми потными прядками. И, вполне возможно, бешенство, овладевшее ею, взяло бы верх над элементарными приличиями, когда б на кухне Александры Герасимовны не раздался грохот.
Обе соседки, молодая и старая, сунулись туда – и вдруг увидели красную лестницу, которая уперлась снаружи в подоконник. Взметнулась длань в брезентовой краге, сжимавшая красный топорик с явным намерением сокрушить стекло…
Герасимовна с визгом метнулась к окну, а Лёля – на лестничную площадку, привлеченная новым грохотом.
Мимо нее, подтягиваясь на перилах и мощно забрасывая тело сразу на середину пролета, пронеслось какое-то существо – как Лёле сперва показалось, нечто среднее между динозавром, инопланетянином и средневековым рыцарем. В одно мгновение существо оказалось на пятом этаже: Лёля услышала его тяжелый топот по своей квартире и взлетела наверх – чтобы столкнуться с ним в дверях лицом к лицу.
– Пожарных вызывали? – рявкнул он из-под какого-то прозрачного щитка (может, это было забрало?). – И где горит?!
На голове у него было что-то медносверкающее. Сверкала также бляха на груди. И вообще все на нем сияло и блестело.
А может, Лёле это почудилось, и только его глаза сверкали синим (точнее, голубоватым) гневным пламенем? Лёля из-за этого сверкания ничего толком и не видела, оно ослепило ее и вышибло остатки соображения. Ростом девушку бог не обидел, формами тоже, но перед этим брезентово-асбестово-латунным божеством она чувствовала себя козявкой, букашкой… Семелой, которой явился Зевс во всем блеске своем и испепелил страдалицу молниями!
– Соседка… – пролепетала Лёля. – Белье ки… ки…
Он лучше ее владел собой – только зубами скрежетнул да светлую бровь круто заломил в ответ на это невразумительное, идиотское «ки-ки».
И тут что-то загрохотало на кухне. Металлический бог обернулся, небрежным движением боевой рукавицы пресек Лёлин порыв в квартиру и с легкостью, неожиданной для его бронированного тела, метнулся вперед.
Через его плечо Лёля увидела в окне разъяренную физиономию: в таком же шлеме, с таким же забралом. Только выражался заоконный гость более словоохотливо, громогласно и, скажем так, витиевато. Благодаря приоткрытой Лёлей створке окна она отчетливо слышала каждое слово.
– Скажи, пожалуйста, Митяй, где находится та глупая женщина легкого поведения, которая зачем-то вызвала нас сюда? – спросил он. – И, кстати, знаешь ли ты, что ее мать тоже не отличалась высокими моральными качествами? Вообще у них это родовое…
Само собой разумеется, что выражал он свои мысли несколько иначе. Подсчитывая количество слов, начинающихся на «е», «б», «с», «х», утомился бы даже карманный калькулятор! Лёля мгновенно вышла – нет, вылетела, как ракета! – из ступора, потому что этих бродячих матюгальников, на которых натыкаешься сейчас на каждом шагу, ненавидела лютой ненавистью, и сунулась было вперед, однако Митяй Боевая Рукавица снова задвинул девушку себе за спину и кротко сказал матюгальнику:
– Отбой.
Еще раз шумно попробовав алфавит на зуб, тот гаркнул в пространство: «Отбой!» – и лестница медленно поползла вниз, унося его с собой.
Гость повернулся. Они уставились друг на друга, и по его непроницаемому лицу вдруг скользнула слабая усмешка. Лёля смотрела, как дрогнули твердые, чуть обветренные губы, как смешно наморщился точеный хищный нос. Четче обозначилась ямочка на выпуклом подбородке. Еще она разглядела светлые длинные ресницы. Ресницы сощурились, затеняя серо-голубые глаза. Сомкнулись на переносице светлые размашистые брови, румянец пробился на худые щеки… Лёля видела все это как-то по отдельности, металась взглядом по его лицу и совершенно не способна была понять, обругает он ее сейчас, как его приятель, или расхохочется.
Ни того ни другого не произошло. Еще раз проблеснула эта мгновенная, почти неуловимая улыбка, а потом он сказал:
– Ладно. Жизнь продолжается. – И, обойдя девушку, загрохотал своим мощным снаряжением по лестнице.
Лёля привалилась к стене. Ноги ощутимо подгибались, ее трясло, и все время хотелось вытереть со лба пот, хотя, может быть, его там и не было.
Конечно, натерпелась она – не дай бог никому, нанервничалась, но не потому, не потому била ее сейчас дрожь и слезы подступали к глазам.
«Жизнь продолжается», – сказал он.
Не совсем так: жизнь наконец-то началась!
Самурай. Лето, 1997
Когда Самураю сказали, что в этом деле ему придется быть вторым, он сначала ушам своим не поверил. И, похоже, не смог скрыть своего… нет, не изумления даже, не обиды… Он просто оторопел. Не ждал такого! Шеф это сразу просек – похоже, именно такую реакцию он и предполагал. Усмехнулся в усы:
– Не надувайся. Знаешь, кто пойдет первым?
Самурай дернул плечом. В этот момент он ничего не хотел знать. Ни имени первого номера, ни «кабана». Он видел за спиной шефа, на столе, аккуратно разложенные зеленовато-серые пачки в банковской упаковке. Это был его аванс. Самурай перевел взгляд к окну. Не лучше ли повернуться и уйти, пока не поздно? В конце концов, пока ты не узнал условий игры, не узнал имени «кабана» и не взял денег, ты еще не в деле, ты еще можешь отказаться. Потом – нет. Даже если посреди подготовки обнаружишь, что дело – провальное, выйти из него будет уже нельзя. Ну, разве что ногами вперед, прихватив пулю в черепок.
Самурай мог уйти. Он мог себе это позволить, зная, что его никто не заподозрит в трусости. Последний раз он боялся лет… да, лет несколько тому назад. Тогда он сделал свое первое дело – и… оставил свидетеля. Не совсем свидетеля, впрочем: тот парень его не видел. Даже не понял, откуда это прилетело сначала в голову его брата, а потом уже в спину ему самому, когда он нагнулся над убитым. Уходя, Самурай не сомневался, что отправил на небеса их обоих. Как выкарабкался парнишка – уму непостижимо! Информация, что он жив, просочилась только через неделю. Милиция не сомневалась, что парень видел киллера и сможет его описать, поэтому ценного свидетеля, во-первых, держали под охраной, а во-вторых, распространили слух о его смерти.
Потом, когда правда вышла наружу, действительно это был острый момент. Шеф-директор устроил «разбор полетов», начальники отделов тоже не смолчали. Вопрос стоял ребром: работать Самураю в фирме или нет. Более того, уже потом, лет через несколько, в приватной беседе шеф сообщил, что вносилось предложение о ликвидации незадачливого сотрудника. Конечно, это предложение даже не поставили на голосование, да и те, кто стоял за увольнение, остались в позорном меньшинстве. Дело в том, что за неделю, прошедшую между ликвидацией профсоюзного лидера «Пролетарских зорь» и этим «разбором полетов», Самурай успел высококлассно поработать с одним воротилой из телевизионной банды.
Сказать по правде, этого трепача он убрал с удовольствием. Мужик был из породы цепных псов перестройки и отличался нетрадиционными пристрастиями. Самурай еще пацаном ходил с дружками бить «голубых» на Соколе, поэтому во время того дела чувствовал себя на высоте. Да и работать пришлось на высоте: на крыше. Задание имело свою специфику: нельзя было допустить, даже заподозрить, заказное убийство, иначе могли пострадать очень немаленькие люди. Одного из тех «немаленьких», у которого и имя, и фамилия были поддельными, потом, через пару лет, пристрелили в собственном подъезде, из-за чего был объявлен чуть ли не национальный траур, но Самурай, к сожалению, не имел к его ликвидации никакого отношения. А в тот раз он сработал красиво и чисто: засел на крыше и дождался, когда телепедик вышел на балкон. Было половина седьмого утра. Тот, как нарочно, постарался для Самурая: взял и перегнулся через перила. Ребята из группы поддержки информировали, что подобные телодвижения «кабан» по утрам проделывает частенько: этажом ниже проживал семнадцатилетний мальчишка, принимавший по утрам на своем балконе солнечные ванны. При этом он, очевидно, думал, что находится на пляже нудистов. Но в то утро ребенок проспал. Накануне вечером его подцепила чемпионка мира по траханью и, воспользовавшись тем, что предки красавчика свалили позагорать на Кипр, всю ночь не давала ему спать. Разумеется, барышня трудилась не корысти ради и не удовольствия для, а токмо во имя того, чтобы никого не оказалось на балкончике, когда «голубенький» отправится полетать. Излишне объяснять, что «чемпионка мира» работала в группе поддержки…
Итак, пышная задница свесилась через перила и не успела еще разочарованно вздохнуть, как сверху к жирной шее была подведена петелька. Дерг!.. И через полсекунды можно было наблюдать иллюстрацию к старинному стихотворению «Между небом и землей жаворонок вьется». Самурай, кстати, в совершенстве умел вязать морские узлы. Когда «голубая птица» полетела вниз, веревочка послушно развязалась. А у того, что в конце концов очутилось на земле, невозможно было углядеть на шее странгуляционную борозду – хотя бы потому, что шеи как таковой не осталось: она прочно вошла в состав тела, поскольку полет завершился в положении вниз головой.
Это было чистое и красивое дело, поэтому понятно, почему белых шаров за Самурая на «разборе полетов» оказалось куда больше, чем черных. Ну а когда стало известно, что братишка того профсоюзника-синеблузника представления не имел, кто и откуда стрелял, от Самурая отцепились последние недоброжелатели. И поскольку белобрысый юнец, чудом оставшийся в живых, не стремился идти по стопам своего бешеного братца, который желал непременно встать на пути паровоза под названием «Приватизация», его тоже решено было оставить в покое. Самурай был только рад: он не любил убивать просто так, ему нужен был конкретный повод… Такие вот чисто психологические выверты бывают иногда даже с профессионалами, и никто этого не стыдится.
Он постарался поскорее забыть чувство неуверенности в себе, ощущение покачнувшейся под ногами земли, которое преследовало его, пока на него катили бочку. Больше он никому не давал повода усомниться в своих силах, поэтому вспоминать те старые переживания не было никакой надобности. А теперь они вдруг вернулись… вернулись в тот момент, когда шеф-директор сказал, что на новое дело Самурай – Самурай! – пойдет всего лишь дублером.
Он все еще размышлял – не повернуться ли, не хлопнуть ли дверью? – как вдруг на стол перед ним упала фотография. Шеф-директор стоял руки в брюки, будто и не он жестом фокусника бросил ее на стол. Самурай тоже не вынул рук из карманов, но на фотку глянул – во второй раз за этот день испытал шок. Так уж случилось, что ему в свое время удалось узнать, кто именно был заказчиком ликвидации того борца за права трудящихся. Информация пришла совершенно случайно, Самурай этого не желал и осведомленностью своей никогда не хвастал. Но сейчас видел перед собой портрет этого самого заказчика. В ту пору он, молодой да ранний, только что пришел к серьезной власти и многое себе позволял! Ему кое-что позволяли тоже, ну а теперь, видно, притомились от его фокусов.
– Не слабо? – весело спросил шеф.
«Не слабо!» – подумал Самурай, но ничего не сказал. Только вспомнил чью-то умную фразу насчет того, что революция пожирает своих героев. Поскольку приватизацию частенько сравнивали с революцией, это выражение вполне могло быть применимо к данной ситуации. Но самое смешное заключалось в том, что, если бы Самурая попросили назвать, сколько людей желает лютой смерти этому господину, он навскидку мог бы назвать цифру порядка миллиона, даже пяти миллионов, даже десяти – и не слишком бы при этом ошибся. И все-таки никто из этих миллионов не являлся заказчиком данного «кабана». Им наверняка был кто-то из первой сотни… а может, и первой десятки, что вернее всего. Да, этаким заказом фирма «Нимб ЛТД» может гордиться. Это был заказ века! «Глядишь, этак мы и до самого дойдем!» – с восторгом подумал Самурай. Судя по затуманенному, мечтательному взгляду, шеф-директор думал о том же самом.
Однако восторг Самурая тотчас померк: определенно не ему придется вести отстрел вышеназванного лица, если его лишили заслуженной чести завалить «отца русской прихватизации»!
И вдруг он понял, что обида его прошла. Сейчас он ощущал заслуженную радость профессионала, которому вскоре предстоит показать во всей красе свое мастерство. Ей-богу, не суть важно, каким он будет в предстоящем деле: первым, вторым или вообще перейдет в группу поддержки. Он знал о себе, что честолюбив, а может быть, даже тщеславен. Хотя работенка его требовала величайшей скромности, но наедине с собой и в узком кругу посвященных Самурай имел чем гордиться. Жаль, что жена не входила в этот самый круг: она вообще ничего не знала о его работе… Это здорово угнетало Самурая. Жену он любил, а уж детей… И болезненно переживал, когда не мог рассказать самому родному человеку о том, что иногда тяготило, грызло душу, пожаловаться на проблемы своего «бизнеса». Но в эту минуту он знал: новое дело вознаградит его за все. Он вдруг ощутил себя среди тех немногих, которых заслуженно называют «творцами истории». Да черт его знает, может, после смерти этого самонадеянного павиана жизнь всей страны перевернется! А поскольку хуже как бы уже и некуда, поворот этот должен оказаться непременно к лучшему. И в сем будет его, Самурая, прямая заслуга!
– Н-ну? – спросил шеф, проницательно щурясь.
– Банзай! – усмехнулся Самурай, раз в год вспоминавший об атрибутике, которой требовал его псевдоним.
– Отлично, – сдержанно сказал шеф, однако улыбался он при этом откровенно радостно. – Попробовал бы ты не согласиться, своими руками убил бы, прямо вот в этом кабинете!
– А труп куда девать? – полюбопытствовал Самурай.
В ответ шеф с усмешкой произнес:
– Разложил бы на молекулы!
И в самом деле: хоть в офисе «Нимб ЛТД» не принято было «мочить», все же технология ликвидации останков – на крайний случай, в жизни всякое бывает! – была отработана до мелочей. А если учесть, что шеф-директор в свое время защищал докторскую по криминалистике, как раз по теме «Уничтожение следов убийства в свете новейших научных достижений», – можно было не сомневаться: обошлось бы без пошлостей вроде закатывания под асфальт или расчлененки.
– А кто же все-таки первый?
– Ну, что за вопрос… – разочарованно протянул шеф-директор. – Если уж второй – супер, то первый должен быть супер-пупер!
– Не понял – это что, комплимент? – глуховатым голосом сказал человек, как раз вошедший в кабинет, и Самурай увидел своего «ведущего».
– Конечно, комплимент! Мне ведь дорога жизнь, сами понимаете! – сверкнул голливудской улыбкой шеф-директор, и Самурай задумался: а успел ли «первый» уловить эту мгновенную заминку, которую допустил шеф? Похоже, ему слегка не по себе…
Да и Самураю тоже, если честно. Ведь перед ним стоял… человек-легенда! С его именем было связано столько громких дел, что в это даже как-то слабо верилось. И тут у Самурая погасли последние вспышки недовольства. Работать в связке с таким человеком – это честь. Все равно как курсанту из летного училища поручкаться с Гагариным, ей-богу! В каждой профессии есть свои корифеи. Рядом с Самураем стоял как раз такой корифей и, что характерно, смотрел на своего более молодого напарника без всякой заносчивости, открыто и дружелюбно.
– Вы знакомы, господа? – спросил шеф-директор, вновь овладевая ситуацией, и двое «творцов истории» подали друг другу руки.
– Македонский.
– Самурай.
– Дети, давайте жить дружно! – усмехнулся шеф-директор, который изо всех сил пытался выглядеть естественно, но почему-то в компании этих двух великих убийц невольно ощущал себя потенциальной жертвой.
Они переглянулись и улыбнулись одинаковыми, мгновенно погасшими улыбками: так снайпер, сидя в засаде, боится выдать свое присутствие даже короткой вспышкой сигареты.
Они и в самом деле были чем-то похожи: оба ниже среднего роста, юношески худощавые, с жесткими, смуглыми лицами. У обоих были очень светлые, какие-то серо-белые глаза с привычным прищуром. Они не просто смотрели – они метали резкие, короткие взгляды… И даже светлые мягкие волосы, зачесанные со лба, лежали одинаково небрежно. Они были похожи, как братья!
О да, они станут друзьями, они станут братьями, а то и ближе… они станут как бы одним существом – до той секунды, пока не прозвучит контрольный выстрел. А потом… Возможно, вместе с последними инструкциями кто-то из них получит приказ о ликвидации напарника. Ну что же – такова жизнь!
Дмитрий. Февраль, 1999
…А теперь эта женщина вечно себя корить будет. Всю жизнь будет мучиться, почему не подняла тревогу чуть раньше… Почему сразу не додумалась обратиться в службу спасения, ну, в милицию, наконец, а не к сыну? Может быть, тогда… А сама небось все те два часа после ухода мужа в гараж, пока не подняла тревогу, ругала себя за глупую мнительность и отдергивала руку, которая так и тянулась к телефону – позвонить, позвать на помощь… Нет, ну в самом деле: что может человек два часа делать в гараже? Туда ходу десять минут, обратно столько же. Открыть-закрыть, спуститься в подвал, набрать картошки – еще полчаса, и то много. Машины в гараже нет, пустой он, только продукты в подвале. Ну что там делать человеку?!
Она вспоминала, что муж всю ночь беспокойно ворочался. Может, сердце прихватило, но решил не тревожить жену? Она вчера подвернула ногу да так ударилась коленкой, что еле до дому дошла, и вечером никак не могла заснуть от боли. Муж пожалел ее, не сказал ничего, а там, в гараже, в подвальной духоте, сердце и взяло…
Наконец она не выдержала и позвонила сыну. Тот сначала отнекивался: да что ты зря шум поднимаешь, отец вот-вот вернется, а мне не до этого – ко мне ребята зашли пивка попить! Потом сдался и вместе с этими самыми ребятами пошел в гараж…
Кто-то тронул Дмитрия за плечо. Андрей, неловко прижимая к боку видеокамеру искалеченной правой рукой, левой протягивал ему термос:
– Передохни, смена.
Неужели он уже сорок минут машет лопатой? А все как будто стоит на том же самом месте. Этот песок со всех сторон так и лезет. Зыбун, настоящий зыбун.
Дмитрий выскочил из ямы, передав лопату Сереге Молодцу, который, зачем-то поплевав на верхонки, сразу заработал как бульдозер, шестьдесят взмахов в минуту. Серега – он такой заводной. Одно слово – молодец.
Вышли на воздух. Низкорослый бледный парень нервно курил в сторонке. Увидев появившихся из гаража спасателей, бросился к ним:
– Нашли? Он?..
– Пока нет. Песок, – отозвался Дмитрий, отхлебывая кофе с молоком.
– Песок… – Парень вроде бы еще больше побледнел, похлопал себя по карманам: – Закурить хотите?
– Мы не курим, спасибо, – мягко отозвался Андрей.
Парень помрачнел, отвернулся. Обиделся, наверное. А ведь его никто не хотел обидеть. В самом деле – спасатели не курят. Не до курева, знаете ли, когда висишь, к примеру, на страховке вниз головой, еле втиснувшись в щель, будто ящерица какая-нибудь, и, обливаясь потом, натужно хрипя через респиратор, пытаешься по миллиметру разрушить бетонную плиту, под которой лежит еще живой человек. Вот именно – еще… Тут надо о нем думать, а не о той затяжке вожделенной, которая бы в тебя жизнь и силы вдохнула. Ни от чего нельзя в такие минуты зависеть, только на себя надежда – и на тех, кто наверху.
А этому парню – Шурка его зовут, кажется? – ему сейчас всякое лыко в строку. Тоже, как и мать, будет этот день вспоминать всю жизнь и гадать: а что было бы, если бы пришел сюда один, вдобавок – трезвый? Если бы не взял с собой двух этих прилипал, которых после вчерашнего-то бодуна с двух кружек пива развезло, как весеннюю грязь.
И ведь, главное, что-то неладное показалось ему сразу, с первого взгляда! Вроде был как-то перекошен пол. И отца почему-то не видно, хотя гараж оказался закрыт изнутри: пришлось сбегать к соседу за монтировкой и ею орудовать. Ему бы подумать, удержать ребят… Но после яркого дневного света в гараже было особенно темно, и эти два паразита – пьяному ведь море по колено! – поперли вперед как танки, горланя:
– Игорь Иваныч! А Игорь Иваныч! Вы тут или вас нету?
И… ухнули куда-то вниз вместе с провалившейся бетонной плитой.
Шурка так и замер на пороге. Через мгновение снизу послышались крики и матюги, и приятели его один за другим выбрались из провала, выскочили из гаража как ошпаренные, потому что пол уходил все глубже и глубже, песок свистел со всех сторон, как выводок змей…
А может быть, за мгновение до того, как два алкаша обрушили своей тяжестью последнюю ненадежную опору, человек там, внизу, был еще жив? И если бы в гараж вошли не бездумные, беспечные придурки, а спасатели-профессионалы, Игоря Ивановича удалось бы вытащить… живого, а не труп? Теперь-то надежды нет, конечно. И хотя возле гаражей терпеливо ждет доктор, готовый в любую минуту… и всякое такое, каждому понятно: надежды нет.
– Ребята, примите тут, – высунулся из гаража Юра Разумихин.
Шурка встрепенулся, вытянулся, гася сигарету в кулаке… но из гаража передавали трехлитровые банки. Докопались, значит, до солений. Нелепо и даже дико выглядели яркие, целенькие, один к одному, огурчики и помидорчики в этих облепленных песком банках.
Заголосила без слов женщина, в окружении соседок сидевшая на досках поодаль. Шурка пошел к ней и замер, прижав кулаки к глазам…
– Подвал, говорят, был метров пять, – сказал Разумихин, аккуратно выстраивая в рядок банки и подставляя к ним новую: на сей раз с консервированными перцами. – Старались, работали.
– Получается, вырыл мужик сам себе могилу, – буркнул Андрей, приникая к видоискателю и зачем-то снимая банки.
– Нет, купил, – отозвался Разумихин. – Гараж они в прошлом году купили – за приличные, между прочим, деньги. Но ведь кто-то рыл же этот подвал, видел же, что там один сплошной песок! Неужели в голову не взошло…
– Да он еще и радовался небось, дурак, что легко копать, – вздохнул Дмитрий.
– Ничего себе дурак! – зло сказал Андрей, опуская камеру. – Ладно, кто копал, может, и дурак, а вот тот, кто позволил на зыбуне гаражный комплекс поставить, тот уже не дурак, а преступник.
– Ты что, родимый? – мрачно обернулся к нему Разумихин. – Кто теперь на это смотрит? Да и раньше-то не больно смотрели. Мещера вся на чем, по-твоему, зиждется, как не на песке? А здесь? Эти карточные домики… – Он обвел рукой бесконечные ряды серых блочных девятиэтажек, из которых, собственно, и состояла Гордеевка. – Вон единственное из всех приличное здание, а остальные…
«Приличное здание» – кирпичная высотка – тянулось к небу, словно толстая красная свеча.
– Доктора сюда! – закричали из гаража.
Парни переглянулись. Так… Нашли, значит, Игоря Ивановича.
Доктор проскочил вперед, они тоже заглянули, но Молодец, стоявший на краю провала и помогавший врачу спуститься, покачал головой.
Все ясно. Все ясно…
Вытащили труп. Игорь Иванович уже закоченел, и его руки, прижатые к плечам, словно он силился удержать валившуюся на него смертельную тяжесть, невозможно было разогнуть.
Вынесли, положили в сторонке. Медленно, слепо, как бы нехотя, шли к нему жена и сын.
Дмитрий отвернулся. Странно – ему всегда почему-то было особенно жаль оставшихся. Мертвым уже все равно, и если правда то, что говорят про загробный мир, может быть, им даже лучше там, чем на земле. Только этого никто не знает… Если бы человек мог какую-нибудь весточку послать о себе, знак дать: мол, мне здесь хорошо, отлично, не плачьте, не жалейте меня! Только ведь люди не по мертвому плачут, не его жалеют – себя, оставшихся без него, родимого…
Дмитрий потащил с головы каску – и замер с поднятой рукой, глядя на «свечу», из красной кирпичной стены которой вдруг словно выстрелило осколками. По вертикали пробежала черная ломаная линия, словно незримая молния прошила дом сверху донизу, оставив на стене обугленный след. Раздался оглушительный взрыв, а потом трещина в одно мгновение сделалась бездной и дом утонул в облаке красной пыли.
Лёля. Июль, 1999
Лёля почувствовала, как кто-то с силой схватил ее за плечи и встряхнул.
– Эй, поосторожнее! – донесся недовольный голос. – Еще очухается! Рановато!
– Не волнуйся, – ответил другой голос. – Доктор гарантировал как минимум три часа отключки, а потом полное послушание.
– Насчет полного послушания я бы не прочь… – протянул первый. – А отключки памяти доктор не гарантировал?
– Ладно, ладно, губы не раскатывай. Девок давно не видел, что ли?
– Беленькая она. Беленькие мне очень даже нравятся!
Почувствовав сквозь беспамятство боль в соске, Лёля вздрогнула, жалобно застонала.
– Ух, горяченькая! – восхищенно воскликнул кто-то. – Люблю таких!
– Убери лапы, сволота! – гаркнуло над самым Лёлиным ухом. – Оглохли, что ли, когда было сказано: груз особой ценности, шкурой своей ответите, если что не так!
– А шкуру ты, что ли, сдирать будешь, Асан? – послышался вкрадчивый голос. – Скажи уж сразу, чтобы мы знали, к чему готовыми быть! Или яйца будешь резать, как вы нашим ребятам в Чечне резали?
– Нашим ребятам? Это кто ж тебе наши? Давно ли вспомнил, что русский? Тот мужик, которого ты сейчас при дороге шпокнул, он тоже чистокровный русак, но тебя это не больно-то остановило! И правильно: киллер, говорят, интернациональная профессия. А что до яиц… Тебе бы их точно отрезать надо, потому что ты не мозгами, а яйцами думаешь. Сколько раз сказано: я абхазец, а не чеченец. Абхазец! Понял? Страна такая есть – Абхазия. Чеченец, чеченец… В морду бы дать за такое оскорбление. Ладно, кончили трепаться, пост рядом. Возьми журнал, Толик, прикрой рожу. Музыку включите. Костя, улыбайся, улыбайся! А ты, девочка, положи головку мне на плечо, вот так…
Лёля ощутила, как ее тормошат, пересаживают, чья-то твердая рука сдавила плечи.
– Дима… – выдохнула она, стараясь устроиться поудобнее.
– Какой я тебе Дима! – обиделся кто-то рядом, но тут же встревоженно ахнул: – Черт! Она приходит в себя!
– Еще укол?
– Шайтан! Доктор предупреждал – не злоупотребляйте уколами, неизвестно, как они на нее подействуют. А придется…
Игла с болью вошла в руку, Лёля было рванулась, но вокруг нее вновь сомкнулась тишина.
Надолго…
Затекшее от неудобной позы тело заявило о себе болью… Лёля попыталась повернуться, и тут же рядом с ней словно включили звук:
– Ну, как все прошло?
– Да нормально, а как должно было пройти? В первый раз, что ли? Машину столкнули с обрыва, такое впечатление, что берег подмыло. Там песок хорошо проседает, через десять минут крыши уже не видно было. Мужика этого затолкали в кабину. Вокруг тишина, покой. Все нормально!
– Быстро вы нас догнали.
– Ага. А вы от нас быстро ехали. Я уж подумал, Асанчик решил нас надуть…
– И зачем мне это нужно? Денег жалко, думаешь? Мои они, что ли, чтобы их жалеть?
– А чьи?
– Тебе-то что? Хозяйские.
– Слушай, твоему хозяину хорошие мальчики не нужны на постоянную работу? В охрану или наоборот?
– Да нет, у нас там такого добра хватает.
– Добра-а… Добра, да? А как уговаривал нас на это дело, так мы тебе кто были? Джигиты? Профессионалы? Чего ж ты сейчас такой сукой себя держишь?
– Ладно. Вы деньги получили? Ну и валите отсюда, быстро.
Голоса отдалились, но были еще слышны.
– Попомнишь нас, морда кавказская. Мало вас наши…
Грохнуло раз, два, три…
Кто-то рядом с Лёлей громко выматерился.
– Просил же его: не надо так говорить. Я этого не люблю.
– Асан… ты зачем это?.. Такого указания не было!
– Откуда ты знаешь, какие указания были? Ты инструкции получал или я?
– Ну, ты.
– Вот и молчи, если так. И давай крути баранку, а то еще принесет кого-нибудь.
– Может, хоть землей забросаем их получше?
– Ничего, пусть сгниют, псы паршивые. Поехали, ну!
Неровная тряска машины снова навеяла тяжелую дрему.
В третий раз Лёля очнулась от холода. Что-то ледяное струилось по лицу, мучительно стекало на шею, заливалось в нос. Она слабо вскрикнула, забила по воздуху руками.
– Эй, потише! – недовольно буркнул кто-то. – Подержите ее, ребята. Надо было взять кровь, пока она еще не очухалась, поспешили вы ее отливать.
– Да ладно. Сейчас успокоим, какие проблемы?
Этот голос Лёля слышала уже не раз, он почему-то ассоциировался у нее с именем Асан. Грубый голос, грубые руки… Вот и сейчас они стиснули ее, прижали к чему-то, на чем она лежала. Туго перехлестнуло руку, в вену медленной болью вошла игла. Лёля слабо застонала.
– Заткнись! – буркнул Асан. – Всю дорогу стонала, уже слышать не могу.
– Ничего, ты свое дело сделал, отдыхай. Хозяин звонил, благодарил тебя.
– Да ты что? Хозяин звонил?!
– Вот так-то. Дело ты сделал великое, ничего не скажешь. Не напутали, надеюсь? Сюрпризов не ждать? Девка та самая?
– Доктор, ты уважаемый человек, не то я бы тебя сейчас…
– Угомонись, дитя гор. Кынжал убэри, слюшай. Всякое в жизни бывает. Кстати! Не стоит спрашивать, но спрошу: надеюсь, ее никто не трогал?
– Доктор!..
– Понял. Я уважаемый человек, а то бы ты… Понял, понял. Ну, до завтра. Ваша работа закончена, дальше мы уж как-нибудь сами. Эй, носилки!
И опять Лёля плавно закачалась на мягкой ритмичной волне.
Самурай. Лето, 1997
На место, в подъезд, где должна пройти ликвидация, их вывезли только раз – все остальное время тренировались в схожих условиях. Впрочем, подъезд был как подъезд, разве что внизу выставлен милицейский пост. Однако, когда приезжали «на экскурсию», ребята из группы поддержки сказали, что в нужное время поста не будет. Так и вышло.
Кстати, в назначенный день едва все не сорвалось. Тогда позвонил шеф (в период подготовки акции ликвидаторы жили отнюдь не в Москве!) и сообщил, что группа поддержки полностью заменена. Дескать, есть подозрение, будто в ней оказался стукач. Македонский крепко занервничал и сказал, что хотел бы сначала познакомиться с новой группой получше. Но шеф сухо ответил, что контракт предусматривает не только кругленькие суммы, но и определенные сроки. Македонскому пришлось заткнуться, хотя нервничать он не перестал.
Самурай тоже почувствовал себя неуютно. Это первый раз на его памяти в самый канун акции меняли группу поддержки! Вообще-то считалось, что в их фирме «кривых стволов» нет. Чего ради предавать? Во-первых, деньги дают хорошие, а во-вторых – это ведь себе дороже! Как говорилось в боевые времена, «всех не перевешаете»: даже после полного разгрома фирмы кто-то да останется, чтобы покарать предателя. Если еще раньше предателя не уберут те люди, которым он продал информацию.
Нет, Самурай не одобрял предателей, однако прекрасно понимал, что человека, даже самого стойкого, все же можно сломать. Особенно когда есть семья. В новейшей отечественной истории масса подобных примеров. Люди, только что блиставшие на политической арене, вдруг пишут заявления об отставке или уходят в такую тень, что и не разглядишь. Ничего удивительного. Большие деньги и большие угрозы очень много способны сделать даже с очень большим человеком! Самурай старался не допускать таких мыслей, однако про себя знал: если бы что-то угрожало его семье, если бы его шантажировали жизнью Аси или пацанов, он бы все сделал, чтобы обезопасить их. Даже постарался бы в последнюю минуту спасти «кабана» или выстрелил бы в спину Македонскому.
Он не видел ничего позорного в своих мыслях, потому что понимал: мысль – это еще не грех. Самурай ведь не родился Самураем и ликвидатором… Кстати, ему не нравилось ни слово «киллер» – похоже на название какого-то механизма: тормоз, стопер, киллер… ни «убийца» – слишком много на него навешано морали и нравственности. «Ликвидатор» – это и звучит внушительно, серьезно, и не оставляет неопределенности. Не оставляет надежды…
Так вот – когда-то Самурай был таким же, как все другие люди, а потому мог со всей ответственностью заявить: этих обычных людей, а их больше семидесяти процентов человечества, иногда посещают такие мысли, что всем им можно было бы вышку дать или пожизненный срок, учитывая нынешнюю моду на отмену смертной казни. Конечно, если бы существовала практика карать за мысли… Каждый человек, особенно поживший, пострадавший, особенно несправедливо обиженный, хоть раз да убил в своих мыслях. Или украл. Или предал. Поимел, наконец, не принадлежащую ему женщину, а то и не одну. Тоже ничего страшного, особенно насчет убийства. В конце концов, что такое война, как не вид заказного убийства? Это если мыслить мировыми категориями, а только ими, считал Самурай, и нужно мыслить, если не хочешь ощущать себя тварью дрожащей или песчинкой какого-нибудь вселенского урагана. Он любил читать Достоевского и хорошую фантастику. Это помогало смотреть на жизнь свысока, парить над ней, потому что, если тащиться по ее наезженной колее, навсегда останешься тем, кому на спину лепят мишень: натуральную или воображаемую. Останешься потенциальным «кабаном»!
Если Самурай о чем-нибудь всерьез и жалел в своей жизни, то лишь о том, что не встретил Асю раньше, чем завязался с «Нимб ЛТД». Работа оставляла мало времени для общения с семьей, а он хотел бы никогда с ней не расставаться. И еще он хотел иметь возможность отдавать Асе все, что заработал. Он хотел приходить домой, как любой нормальный мужик, швырять на стол пачку денег – хорошую зарплату, видеть радость в глазах жены… Ну да, а потом клянчить на кружку пива? Хотя у Аси клянчить бы не пришлось, она была не из тех, кто перекрывает мужику кислород. Но все случилось так, как случилось. И встретились они с Асей уже после того, как обратного хода для Самурая не было, уйти из фирмы он уже не мог. Да и не хотел. Привык к работе, привык, чего греха таить, к деньгам. Сначала к большим. Потом – к очень большим…
В том городке, где жила его семья, люди существовали без зарплаты по полгода, иногда дольше. Как жили? Зачем каждый день раным-рано ходили на работу? Он хотел бы перевезти своих оттуда… не в Москву, конечно, зачем им жить в этом аду, к тому же лучше на всякий случай не приближаться к «месту работы» Самурая, – а в красивый, благополучный, не слишком шумный город. Но его теща, Асина мама, была тяжело больна и категорически отказывалась умереть в любом другом месте, кроме своего дома и своего города. Ася не смела спорить с матерью. Пошла против ее воли только раз в жизни – когда на другой день после знакомства стала женой Самурая, и, хоть и не жалела об этом, но, будучи послушной дочерью, иногда терзалась угрызениями совести. Ася рождена была слушаться – сначала мать, потом и мужа. Она умела любить так, как только и нужно любить: не за что-то, а вопреки. Потому что родителей не выбирают, а суженый – это судьба. О муже она знала только то, что он сам считал нужным ей говорить. Да, работает в Москве, в секретной оборонной фирме. Да, получает неплохо, но тоже считает, что, живя среди нищих, не следует кичиться крепким достатком. Да, бывает дома лишь наездами, ну так и что, некоторые вон выходят за капитанов дальнего плавания или сезонных рабочих, по году своих не видят, и ничего, живут. Такая уж у нее, Аси, судьба. Не самая плохая!
Интересно, думал иногда Самурай, какие бы глаза стали у Аси, если бы она узнала о его банковском счете в роскошном городке Женеве, где побывать ему довелось лишь единожды? Или о тайнике – он, как всякий исконно русский, не обремененный западными новациями человек, верил только баксам, запрятанным в тайник. Если бы Ася увидела это… Какую квартиру можно было бы купить! Какую машину! Вернее, машины, квартиры… да что – какие дома! Как одеться! Ведь Ася редкостная красавица, а в обрамлении всех этих… бижутерий, так сказать, вообще засверкала бы, затмив метелок, на которых вволю насмотрелся в Москве Самурай. Частенько те, кого он убирал, появлялись в обществе умопомрачительно разряженных девчонок или теток, любовниц или жен. И ни одна из этих девок или дамочек, которых потом Самурай видел орущими, визжащими, потерявшими весь свой лоск, иногда забрызганными чужой кровью, – ни одна даже в подметки не годилась его жене. Хотя бы потому, что ни одна даже попытки не делала помочь своему мужу и любовнику, который только что надувался важностью рядом с ней, а потом – шпок! – и валяется, как лопнувший пузырь. Все они норовили оказаться как можно дальше от убитого, отталкивали от себя безжизненное тело… Да что говорить о них, Самурай отлично помнил документальные кадры, облетевшие мир: легендарная красотка, жена заокеанского президента, в панике ползет по длинному багажнику лимузина, на заднем сиденье которого валяется ее только что застреленный муж…
А вот Ася его ни в какой ситуации не бросила бы, Самурай это знал доподлинно. Она одна умела разгонять тьму, которая после каждого дела так и клубилась за его плечами…
Клубилась, чего уж скрывать от себя-то! Нет, Самурай относился к своему делу философски и, по большому счету, любил его, но, когда человек умирает, его душа еще какое-то время тащится за тем, кто выволок ее из тела, это же факт отнюдь не мистический, научно доказано существование каких-то там эманаций, извините за выражение! Никакие убиенные старушки-процентщицы с сестрами Лизаветами не маячили во снах Самурая, он вообще снов не видел – спал себе и спал, а все-таки рядом с Асей и со своей малышней переставал ощущать свой палец всего лишь продолжением спускового крючка.
…Конечно, настроение напарника не могло не отразиться на состоянии Самурая. А может, собственные дурные предчувствия посетили… Все-таки подготовка к акции заняла две недели, и все это время он не мог не то что съездить к своим, но даже позвонить им. И по условиям контракта еще две недели после акции ликвидаторы не должны были носа казать на поверхность жизни: предстояло отсиживаться на такой же конспиративной даче, как та, где их готовили. Пожалуй, только это и отягощало его, но и то немного, самую малость, – слишком был захвачен предстоящим делом. Македонский постепенно тоже расслабился – особенно когда увидел, что новая группа поддержки состоит из неслабеньких профессионалов. Такие спецы сразу видны. Ребята были молчаливы, но деловиты. Маленькая деталь: везли обоих ликвидаторов к Москве на очень большой скорости – километров под двести. Около постов ГАИ скорость не сбавляли, а это факт не просто говорящий – кричащий. Вопиющий. И тогда Самурай снова подумал, что ввязался в очень большую игру. Воистину историческую.
Лёля, февраль, 1999
Так вот, к вопросу о заново начавшейся жизни. С этим неожиданно свалившимся подарком Лёле делать было решительно нечего. И в каких бы розовых мечтах ни блаженствовала она ночью после несостоявшегося пожара, утро поставило ее лицом к лицу с суровой реальностью: у нее нет никакого шанса снова встретить человека, в которого она влюбилась с первого взгляда.
Митрий, вроде так назвал его напарник. Митя? Дима? Дмитрий, что ли? Никогда Лёле особенно не нравилось это имя, а тут вдруг показалось, что лучше и не бывает. Она его на вкус пробовала так и этак, будто незнакомую конфету. Нет – будто какую-нибудь суперэротическую таблетку! Потому что… вот именно, потому что! Такое было ощущение, будто ее молнией ударило – и сожгло ту оболочку, которой Лёля раньше была покрыта. Она как бы вылупилась из прежней Лёльки, сама на себя смотрела с изумлением: о боже, да неужели это я?
Ну что же, на то она и любовь с первого взгляда, чтобы всего человека перевернуть!
Лёле было, конечно, с чем сравнивать. Все-таки и в университете какие-то истории амурные случались, и в книготорговой фирме «Антимиры», где она с утра до вечера нещадно крушила компьютерные клавиши, в полном смысле слова «выбивая» накладные, все время вились вокруг нее мужики. Нет, Лёля не могла сказать, что постоянно сидела с неприступно задранным носом. Но это было совсем другое! Ведь сразу отличишь свет люминесцентной лампы от солнечного, ни на миг не усомнишься, верно? Вот и она не усомнилась. А что толку? Оставалось одно: поедом есть себя за то, что стояла как дура, прижав руки к сердцу, когда он грохотал по лестнице своим снаряжением, уходя из Лёлиной жизни в ту самую неизвестность, из которой возник. Сердце – вот, на месте, никуда не делось, а он…
Нет, ну в самом деле – как быть? Что делать? Звонить в какое-то там их пожарное управление и спрашивать про неведомого Дмитрия? Да у них небось с десяток высоких блондинов с таким именем! Кстати, еще не факт, что он вообще блондин, она ведь его без шлема не видела. И потом, стоило представить, что надо кому-то объяснять, зачем Лёля его ищет… У нас же никто, от вахтера до секретарши и оперативного дежурного, никогда ничего просто так никому не скажет, сразу же начинаются допросы с пристрастием: а кто спрашивает, а почему, а не принадлежите ли вы к числу тайных агентов ЦРУ, а вы представляете, что будет, если каждый начнет спрашивать, где найти этого самого Дмитрия? Так и до третьей мировой недалеко!
Вполне может начаться. Болтун – находка для шпиона… для диверсанта… Это словечко все более властно овладевало Лёлиным сознанием. А не подстроить ли в самом деле какую-нибудь диверсию? Может, что-то и впрямь поджечь? Как бы якобы?
Пожалуй, единственное, что удержало Лёлю от очередной дурости, так это уверенность: не может такого быть, чтобы по ее новому вызову прислали снова именно Дмитрия. Пожарный ведь не участковый врач! И вообще – две бомбы в одну воронку не падают. И даже если какое-то чудо вдруг произойдет и Лёля разыщет Дмитрия, еще не факт, что он с первой же минуты заключит ее в объятия. Может, вообще сделает большие глаза. Или, что самое ужасное, просто не узнает. В конце концов, если бы Лёля произвела на него столь же неизгладимое впечатление, ему, уж наверное, легче было бы ее найти, чем ей его! Для разнообразия мог бы прийти не в латах, а в нормальном костюме или даже в джинсах и футболке, Лёля его все равно сразу бы узнала. Хотя… «зима катит в глаза», какой дурак сейчас в футболках расхаживает?
Словом, настала в Лёлиной жизни полнейшая непруха, и длилась она до того момента, когда ее маме пришла фантазия связать крючком занавески на дачные окошки.
Вообще-то Лёля всегда считала, что с мамой ей повезло. Марина Алексеевна не занудствовала, не совала нос в дела дочери, не считала себя вправе знать о ней все досконально. И, что немаловажно, готова была без трагедий смириться с фактом, что дети становятся взрослыми со всеми вытекающими отсюда последствиями. Конечно, матушка порою тоже бывала не сахар! Особенно по субботам, когда ею вдруг овладевала почти маниакальная страсть к чистоте. Жить в квартире, неделю отлично обходившейся без тщательной уборки (ежеутренние легкие отмашки метелочкой по мебели и торопливая пробежка шваброй по полам и коврам, конечно, не в счет), ей внезапно становилось невыносимо. Встав, по обыкновению, в половине седьмого, она не кидалась тотчас к письменному столу (Лёлины родители работали по договору для крупного столичного издательства над многотомником «Народная энциклопедия», в свободное же время читали лекции по славянской мифологии и народоведению в университете), а начинала шумно и увлеченно заниматься хозяйством. И Лёля, которая всю неделю, убегая на работу к девяти, только и мечтала, как выспится в выходные, понимала, что мечта ее снова не осуществится. О нет, мама не вытаскивала ее из постели, взывая к чистолюбию и сознательности. Но она столько раз за утро приоткрывала дверь в Лёлину комнату, чтобы «тихонечко» взглянуть, не продрала ли свои хорошенькие глазки эта засоня… Столь многократно «нечаянно» роняла что-нибудь в коридоре или на кухне, принимаясь громко бранить себя за неуклюжесть… Она, «забывшись», включала под Лёлиной дверью пылесос и тут же, «спохватившись», выключала его…
В конце концов Лёля понимала, что отсиживаться, вернее отлеживаться, – себе дороже. Она вытаскивала себя из постели, внушала себе мысленно, что родителей не выбирают, бывают и хуже, а выспаться, в конце концов, можно и в воскресенье, – и включалась в утреннюю суету, завидуя отцу, который сбегал от всего этого домашнего разора на базар: больше всего на свете он не выносил шума работающего пылесоса. Словом, в Лёлиной семье вечно кто-то чего-то не выносил, и только ей одной приходилось все терпеть.
Нынешняя суббота началась стандартно, однако, когда невыспавшаяся Лёля в одиннадцать часов вышла из ванной, ее ждал сюрприз.
– Слушай, радость моя, – сказала мама, с силой размазывая «Секунду» по зеркалу в прихожей. – Не желаешь прогуляться?
Лёля заглянула в комнату – отца не было. Неужели он уже отчалил на базар, а мама вспомнила, что нужно купить еще чего-нибудь? Не может быть, чтобы так повезло! Лучше уж пробежаться по магазинам, чем таскаться по квартире с капризным, ворчливым «Бошем», а потом идти во двор, к мусорке, вытряхивать мешок с пылищей.
– Чего покупать? – спросила Лёля, развязывая поясок халата.
– Лёлечка, – с опасной нежностью сказала мама, – покупать ничего не надо, я папе написала вот такенный список. Но… тебе придется съездить в Гордеевку.
Лёля с ужасом запахнула халат:
– К Свете, что ли?! Нет, только не это! Она опять на мне экспериментировать будет. Может, ты сама? А я лучше уберусь.
– Лучше? – прищурилась Марина Алексеевна.
– Лучше, лучше! – с жаром воскликнула Лёля и уже ринулась было в кладовушку, где дремал ненавистный «Бош».
– Не выйдет, – вздохнула мама. – В два часа ко мне Ниночка придет, а если я заеду к Свете, это надолго. Ей же в принципе без разницы, над кем экспериментировать!
Света и Ниночка были мамиными подругами, или приятельницами, как почему-то предпочитают выражаться дамы после сорока. Ниночка была подруга (приятельница) любимая, Света так себе. Скорее нет, чем да, и чем дальше, тем все более нет.
Отпраздновав свои сорок пять, она вдруг ощутила себя не ягодкой опять, а совсем наоборот. Света поняла, что прожила чужую жизнь, отдав ее медицине. На самом деле ей следовало стать художницей и самовыражаться. Света немедленно уволилась из детской поликлиники, где двадцать лет проработала участковым врачом, и ударилась в искусство. Бездетная жена очень богатого человека, она могла себе это позволить! Муж, достигший того возраста, когда седина в голову, а бес в ребро, очень обрадовался тому, что перестал быть единственным объектом внимания супруги. Он всячески поощрял ее увлеченность, накупил Свете немыслимое количество самых дорогих пастелей, красок, кистей, холстов, мольбертов и разнообразного, невероятной красоты, итальянского багета для рам к будущим шедеврам.
Более того! Чтобы окончательно отвлечь Свету от дома (куда сам он теперь приходил лишь ночевать, да и то не всегда), муж подарил ей мастерскую в только что построенном и еще почти не заселенном доме в Гордеевке. Учитывая, что жили они вообще-то в Щербинках, а до Гордеевки оттуда добираться самое малое час, он сделал себе поистине царский подарок. Тем паче что в мастерской пока не было телефона. Света, впрочем, была так счастлива открывшимися перед ней безграничными возможностями для творчества, что даже не собиралась задумываться над макиавеллизмом, который лежал в основе щедрости ее супруга. Она рисовала, рисовала, рисовала… Как-то не поворачивался язык сказать «писала» о ее занятиях. Да и «рисовала» – не самое подходящее слово. Украинский вариант «малевала», пожалуй, лучше всего соответствовал ее творчеству.
Любимым жанром «молодой» художницы были портреты. Но в это понятие Света вкладывала отнюдь не тот смысл, который вкладываем все мы, обыватели, далекие от искусства, примитивные, жалкие личности. Уверенная в том, что у каждого человека существует астральный двойник, Света создавала портреты именно таких двойников. У нее это называлось – «отобразить внутреннюю сущность». Чтобы означенную сущность узреть, она мертвой хваткой вцеплялась в любого человека, имевшего неосторожность заглянуть в ее мастерскую, волокла его в ванную, выключала свет и ставила несчастную жертву перед зеркалом, сунув в руки зажженную свечу и наказав не мигая таращиться в зазеркалье. По глубокому Светиному убеждению, рано или поздно из темных, таинственных глубин непременно выглянет некое потустороннее существо, тот самый двойник. И вместе с подопытным кроликом-натурщиком увидеть его сможет Света, которая все это время нервно дышит за спиной несчастного, покорно уставившегося в зеркало.
У Лёли тоже имелось одно глубокое убеждение. Состояло оно в следующем: если астральные двойники и существуют, то увидеть их сможет лишь тот, кому они принадлежат. Третьего при этой встрече быть не может. А то, что наблюдала в зеркале Света, было отражением самого натурщика. Именно его напряженную, испуганную, отупелую физиономию и ловила Света с терпеливостью рыболова, именно на него набрасывалась с восторгом человека, полгода не получавшего зарплату и вдруг нашедшего на тротуаре бумажник, набитый стодолларовыми купюрами; именно его переносила на полотно с упорством муравья, волокущего в родной муравейник огромную дохлую гусеницу.
Вот эта-то дохлая гусеница и получалась на портретах… Бедняжка Света, подобно многим адептам поп-арта, умудрилась начисто забыть, что хотеть – даже страстно желать! – мало: надо еще уметь рисовать. А те килограммы темно-зеленой, грязно-коричневой и тускло-черной краски, изредка разбавленные брызгами охры и белил, которые она щедро швыряла на полотно, больше напоминали выставку образцов сапожного крема.
А натурщик в это время, с трудом преодолев расходящееся косоглазие, прикипавшее к нему в процессе общения с астральным двойником, тащился на подгибающихся ногах в комнату и терял остатки сознания при виде ужастика, который с невероятной скоростью рождался на полотне…
Ко всему прочему Лёля была убеждена, что тетя Света с годами превратилась в мощнейшего энергетического вампира и в процессе творчества не столько самовыражается, сколько подпитывается чужой энергией. Недаром же ее единственной членораздельной картиной был автопортрет, на котором Света изобразила себя в виде летучей мыши… очевидно, породы desmodus rotundus vampirus, обыкновенный вампир!
И все-таки Марина Алексеевна и Лёля скорее откусили бы себе языки, чем признались Свете, как они относятся к ее «искусству», а с некоторых пор и к ней самой. Света была чем-то незыблемо-постоянным в их жизни. Они с Мариной еще в детский сад ходили в одну группу, потом вместе учились в школе, дружили в институте – всю жизнь дружили. Света лечила Лёльку от всех болезней и любила ее, как родную дочь. Сплелись ветвями и корнями, можно сказать! Ну как оторвешься? К тому же Света и ее причуды – такое чудное блюдо для пиршеств сплетниц, как называли свои редкие встречи Марина Алексеевна и ее любимая подружка Ниночка! Нет, обижать Свету нельзя. Надо терпеть. У нее все-таки масса достоинств, в числе которых – богатейшая подборка книг по разнообразным домашним женским радостям: кулинарии, консервированию, шитью, вязанию, макраме и всякому такому, вплоть до плетения кружев на коклюшках. Не у каждой женщины сыщется дома уникальный и дорогущий альбом всех моделей вязания из «Бурды»! А у Светы он был. Более того – Света готова была дать альбом подружке Мариночке «на сколько угодно», если только Мариночка или Лёлечка заглянут к ней на часок – попозировать.
Подружка Мариночка убиралась и не могла уступить этого ответственного занятия своей рассеянной дочери. Лёлька начнет сметать пыль с книжных полок, потом уткнется в Брокгауза с Ефроном, или в своего обожаемого Дика Фрэнсиса, или вообще в одну из этих кровожадных книжек из серии «Детектив глазами женщины»… Девчонке ведь совершенно все равно, что читать, только бы чем-нибудь набивать вечно голодные мозги! Спохватится часа через три… Разумеется, к Свете должна была идти Лёля, и только она.
– Ма, – с тоской сказала Лёля, – да она ведь надо мной уже раз десять извращалась. И на всех портретах рожи разные! Это сколько же у меня астральных двойников получается?
– Имя им легион, – хихикнула мама. – Иди, иди, моя радость. Думаешь, я не знаю, что тебе лучше одиннадцатого двойника увидеть, чем чистить мой любимый ковер?
Так-то оно, конечно, так…
Смирившись с неизбежностью, Лёля наконец собралась и пошла (протянув немыслимым образом часа два и успев отобедать), но никакого предчувствия не снизошло на нее и в этот раз. Ни обнадеживающего, ни пугающего. И единственное, что заставила ее сделать интуиция, это надеть не юбку, как обычно, а толстые вязаные штаны. С другой стороны, юбку еще надо было гладить, а штаны вот они, стоит только руку протянуть, – так что, может быть, это вовсе не интуиция, а лень сыграла свою положительную роль?..
Дмитрий. Февраль, 1999
Дрогнула под ногами земля. Кто-то дико закричал рядом. Дмитрий обернулся. Кричала жена Игоря Ивановича, глядя, как гараж, ставший могилой ее мужа, медленно схлопывается, будто карточный домик.
Бог ты мой! Да ведь там только что были ребята! Минутой раньше – и…
– Землетрясение! – завопил кто-то.
Люди, оказавшиеся у гаражей, в панике бросились врассыпную. Но земля больше не дрожала, и мутно-красное облако медленно оседало, обнажая уродливые очертания разрушенной «свечи».
– Газ! – выдохнул стоявший рядом с Дмитрием Юра Разумихин и крикнул: – Ребята, ЧС! Доктор, останешься, Андрей с ним, остальные в машину! Дайте связь с базой, с аварийной горгаза!
Дмитрий сорвался с места. Большой красно-белый автобус МЧС уже взревывал мотором, разворачиваясь.
– Газ, конечно, газ! – с ненавистью бормотал Юра, плюхаясь на сиденье рядом с Дмитрием. – Понаделали евроремонтов, руки бы поотрубал этим мастерам!
Да уж… Мало того, что хозяева норовят немыслимым образом изогнуть и спрятать трубы газа и замаскировать вентиляцию, – в квартире появляется газосварочный аппарат с баллонами. А кто с ним работает, какой мастер, – неведомо, как неведомо и то, с похмелья старается человек или на трезвую голову. Эти евроремонты, по мнению Разумихина, с которым от всей души соглашался Дмитрий, были минами замедленного действия, а заложниками неумехи-минера становились все соседи. И хуже всего то, что в наше время газовикам не пройти с профилактическим осмотром по квартирам. Мой дом – моя крепость! Но вот одна из таких крепостей уже сдалась незримому врагу…
Автобус спасателей ткнулся в обочину. Приехали. Слава богу хотя бы за то, что дежурная бригада аварийно-спасательного отряда оказалась рядом! Выскакивая, Дмитрий услышал вдали призрачный стон, который с каждым мгновением становился все громче и громче, перерастая в заливистый вой.
– Пожарные, – кивнул Разумихин. – Молодцы, тоже быстро сработали.
– Молодец у нас один, а они умницы, – бросил Серега, который очень ревниво относился к злоупотреблению своей фамилией. – Да их часть здесь буквально в двух шагах стоит! К тому же не вижу, чтобы что-нибудь горело…
И на какое-то время все замолкли, ошеломленно разглядывая остатки того, что еще совсем недавно Разумихин назвал «единственным приличным зданием».
Ударная волна смела большинство квартир по вертикали, и они осыпались вниз. Перекрытия этажей сложились бесформенной кучей. Кое-где торчали остатки стен, кое-где виднелось содержимое комнат, не до конца разрушенных взрывом, но в основном от дома осталась лишь бесформенная груда битого камня.
Дмитрия больно резанула неуместная мысль: как жалко, убого, бедно выглядят сейчас вещи, которые несколько минут назад украшали быт своих хозяев, а для кого-то вообще были смыслом жизни. Надвое разрезанный осколком бетонной плиты громадный, роскошный черный холодильник; двуспальная кровать, вставшая дыбом; с виду целехонький небольшой моноблок; платье, почему-то очень длинное, может быть вечернее, вольно раскинувшееся на остове стены, словно его нарочно повесили туда для просушки… Неизвестно, каким оно было раньше: въевшаяся кирпичная пыль придала ему жутко-красный оттенок. У ног Дмитрия шелестела страницами чистая, нетронутая книжка: какие-то занавесочки, салфеточки, кружавчики, схемы из точечек и палочек – пособие по вязанию, что ли? И – резким, болезненным толчком в сердце – из-под обломков стены торчит что-то похожее на крюк. Запорошенное кирпичной пылью, изломанное, особенно страшное в своей неестественной неподвижности и непринадлежности к миру живых…
– Рука, там рука! – воскликнул Серега Молодец.
И Разумихин кивнул:
– Вижу. Давай вперед. Ребята, работаем по живым!
Молодец и еще двое с лопатами и гидравлическими резаками двинулись к завалу. Дмитрий подавил желание присоединиться: остался рядом с Разумихиным, внимательно оглядывая развалины.
То, что возвышалось над грудой обломков, трудно было назвать даже частью дома. Сразу было видно, что сохранить не удастся ничего – придется разрушать до конца. Дом погиб… но некоторые перекрытия каким-то чудом остались висеть. Балки, арматура, клубки проводов торчали на разной высоте.
Затрещал зуммер радиотелефона Разумихина.
– Аварийщики сообщают: электричество, газ, вода отключены, можно работать, – сказал он Дмитрию, продолжая слушать. – Что? Гаражи мешают? А начальник ЧС еще не прибыл?.. Ладно, как только он у вас там появится, скажите наше мнение: порезать все эти железяки к той самой матери… Чем-чем?! Бензорезами мы это очень быстро устроим… Жаловаться будут? Да если мы хоть одного из хозяев этих железок живым вытащим, ему вряд ли будет до гаража!.. Ну хорошо, а пожарные могут сюда протянуть шланги с улицы? У нас пока не горит, но мало ли! И «Скорую» давайте, ребята уже начали откапывать… Конечно, вручную, в какую же еще? Ну, до связи!
Разумихин выключил рацию. Его светлые небольшие усы жестко встопорщились. Когда Разумихин злился, он напоминал свирепого камышового кота, только глаза у этого кота были голубые.
– Ты представляешь? – сказал возмущенно. – Гаражи мешают просунуться пожарным и крану. Бульдозеру тоже не пройти. Мы втиснулись – и все. Ну, достали меня сегодня эти гаражи!
– Да я понял, – кивнул Дмитрий, скользя напряженным взглядом по остаткам дома. – Конечно, ты прав, надо резать…
И осекся, сдвигая с лица щиток. Показалось или в самом деле вон там, на уровне пятого этажа, мелькнуло сквозь завесу пыли что-то похожее на человеческую фигуру? Или это крестообразная балка, застрявшая в проеме двери? Да, часть стены удержалась, но с обеих сторон от нее – пропасти, – как там мог зацепиться человек?!
– Точно! – указал вверх Разумихин. – Ну, бывают же чудеса! Дима, погоди. Надо расчистить подступы. А то ухнет все – не опомнишься.
Да, к стене так просто не подойдешь. То есть для Дмитрия, бывшего альпиниста-разрядника, перебраться через завал не составляло большого труда. Но он понял, о чем сейчас думает Разумихин, потому что и сам вспомнил жуткую историю с просевшим гаражом. Вот так же очертя голову те ухари ринулись внутрь – едва не погибнув сами и, возможно, погубив еще живого человека. Никто не знает, какие коварные пустоты скрыты под бесформенными грудами битого камня. Кирпичные осколки, на которые раскалывается кладка, особенно опасны для людей, оказавшихся в завале. Когда падают железобетонные плиты, между ними иногда остается пространство, в котором может уцелеть человек. Здесь таких спасительных мест практически не окажется, но, если эта жуткая груда сдвинется под чьей-то тяжестью или от неосторожного толчка, шансов у оставшихся внизу вообще не будет, даже призрачных!
А ведь человек, распятый там, на стене, точно жив. Только воля к жизни, осознанная или интуитивная, еще удерживает его на этой жердочке…
– Дима, как тебе нравится вот это? – тронул его за плечо Разумихин.
Дмитрий посмотрел по направлению его взгляда и увидел причудливую металлическую конструкцию, торчащую из обломков. Один ее конец упирался в землю недалеко от автобуса спасателей, другой уходил в стену бывшего здания. Все вместе напоминало металлическую восьмерку, скрещенную с такой же семеркой в горячечном сне какого-нибудь абстракциониста-монументалиста. Но еще больше это напоминало причудливый мост, по которому…
– Пройдешь? – осторожно спросил Разумихин.
– А куда деваться? – Дмитрий застегнул под подбородком каску. – Сколько он может там стоять? Надо снимать, пока не сорвался.
– Обвязку не забудь, – велел Разумихин и побежал к автобусу за сумкой с оборудованием.
Выхватил страховочный трос, веревки, защелкал карабинами, закрепляя все это на широких ремнях, крест-накрест охвативших Дмитрия. Помог продеть руки в лямки и навьючить на спину полегчавшую сумку. Хорошо, что отключили газ и не придется волочь респираторные баллоны!
– Штормовую лестницу возьмешь?
Дмитрий еще раз оценивающе взглянул на стену:
– Да нет, и так пройду. Лишняя тяжесть. Еще неизвестно, как себя этот мостик поведет. Очень кстати, что я сегодня не успел позавтракать, правда?
– И пообедать не успеешь, – утешил Разумихин. – Уже четвертый час! Ничего, наверстаем за ужином. Пошел, Дима, с богом!
– Ладно.
Лёля. Февраль, 1999
Зима в том году как дохнула холодом в январе, так и замерла, набрав полную грудь студеных ветров и заморозков. Конечно, они нет-нет да и вырывались из ее надутых щек в виде недолговечных снежочков и порывов ветра, но это проходило почти незамеченным на общем фоне слякотных февральских дней. Умные люди в деревнях поговаривали, что весна непременно расквитается морозами, а это плохо для урожая, однако беспечные горожане, в глубине души убежденные, будто хлеб падает в магазины непосредственно с небес, только радовались затянувшейся оттепели.
В автобусе по случаю субботы было относительно свободно, и никто не мешал Лёле собираться с силами перед встречей с тетей Светой. Конечно, теплилась слабая надежда: вдруг художница будет настолько занята самовыражением, что сунет ей альбом прямо в прихожей и поспешит выпроводить восвояси… увы!
Света открыла сразу; Лёле вообще показалось, будто она караулила долгожданную жертву у самой двери. Она едва дождалась, пока Лёля снимет куртку, сапоги и сунет ноги в расшлепанные, но все равно маловатые ей тапочки.
– Тетечка Светочка, – уныло пробормотала Лёля, влачась в кильватере творческой энергии, – ну что вы там нового увидите, а? Я сегодня до того не выспалась, ужас просто. А вдруг мой двойник тоже сова, как я, и тоже поспать хочет? Может, хоть астралу дадим отдохнуть? Неизвестно вообще, чем это еще чревато, если его невыспавшегося вызывать на контакт!
– Проходи, – не внемля, скомандовала Света. – Стань вот здесь. Держи свечку. Так… сейчас лампу выключу. И не волнуйся за своего двойника: он вполне может спать хоть до вечера. Сегодня я хочу увидеть не его, а твоего астрального антипода!
– Это еще кто? – хлопнула глазами Лёля, невольно подпадая под гипнотическую власть этого голоса, который несчетное число раз в жизни приказывал ей открыть рот, высунуть язык, сказать «А-а-а» и вообще – дышать или не дышать!
– Астральный антипод имеет образ твоего земного врага, – веско изрекла Света. – Твой враг во тьме.
– Мама дорогая! – Лёля от неожиданности капнула горячим воском на руку. – Ой! А вы уверены, что у меня вообще есть враги?
– Дурачок! Враги есть у всех! Не сейчас, так будут. У тебя еще вся жизнь впереди, за это время не только хондроз и морщины наживешь, но и целую гвардию врагов и завистников. А к неприятностям лучше быть готовым заранее, правильно я говорю?
Лёля вздохнула. Когда Света повесит наконец зеркало в комнате или хотя бы в прихожей? Может быть, там общение с астралом не будет таким тесным в буквальном смысле?..
Ей совершенно не улыбалось увидеть в темном зеркале своего потенциального врага и запомнить его навеки, а потом, при встрече с каждым новым человеком, заглядывать в память, как сыщик заглядывает в рукав, где прячет фотку объекта слежки.
– А откуда вы знаете, что сегодня на свиданку явится этот самый враг? Они что, по субботам особенно контактны?
– Да ты посмотри, как свеча зажжена, – снисходительно пробормотала художница. – С комля! Способна понять, что это значит, мамины книжки читаешь?
Лёля завела глаза. Да, свечу, запаленную с комля, ставят, чтобы навести порчу на врага и еще зачем-то – один бог знает, зачем! Ладно, хватит трепаться, пора приступать к контакту. Чем скорее все это начнется, тем скорее кончится. Только вот что особенно интересно: если портреты ее астрального двойника (и как бы якобы друга) напоминали по красоте полуразложившиеся трупы, то каков же из себя окажется облик того самого врага? Пожалуй, при одном взгляде на него не то что поседеешь – облысеешь начисто! Не хотелось бы расстаться с единственным своим бесспорным украшением, подумала Лёля и решила особо не усердствовать перед астралом.
Она и не усердствовала. Водила глазами по классическому маршруту: в угол – на нос – на предмет, считала минуты, с трудом сдерживая нервический смешок: Света взволнованно дышала ей в ухо, а Лёля ужасно боялась щекотки…
И обиженный астрал никого из себя не выпустил! В конце концов даже упертой Свете надоело попусту сопеть, и она констатировала:
– Ничего не видно. Нет контакта! Погаси свечку, а я пойду поставлю чайник.
Она вышла. Лёля довольно подмигнула своему отражению, кем бы оно в данный момент ни являлось, дунула на свечку, отвернулась от зеркала, чтобы крикнуть вслед хозяйке:
– Спасибо, я не хочу чаю, я лучше домой пойду!.. – Но не успела.
Что-то темное качнулось на нее, швырнув назад, но в то же мгновение такая же темная, тупая сила ударила в спину. Какое-то мгновение Лёля чувствовала себя подобно человеку, который оказался между двумя курьерскими поездами. Она оглохла, ослепла, ее трепало со всех сторон, как былинку, душная тьма заливала легкие, она пыталась хоть за что-нибудь ухватиться, и вот наконец это удалось. Вцепилась во что-то с обеих сторон, и вовремя – пол резко подскочил под ногами. Лёлю подбросило вверх, потом опустило на прежнее место, только теперь что-то больно, остро врезалось в мягкую подошву тапочки. Она переступила, пытаясь найти место поудобнее… резко качнулась вперед, назад, крепче вцепилась в то, за что держалась… В это мгновение тьма перед глазами слегка рассеялась, и Лёля увидела, что стоит на краю обрыва. Над обрывом реяло черно-красно-белое облако. Сквозь облако виднелись очертания отвесной скалы, из которой торчали корни деревьев…
Мгновение сознанием Лёли владела жуткая догадка, что астрал, возмущенный их со Светой кощунственными действиями, разверзся и втянул ее в какую-то черную дыру гиперпространства. Но через минуту, когда контуженый мозг вновь начал воспринимать и оценивать реальность, Лёля поняла: она стоит в дверном проеме ванной комнаты, а на том месте, где только что был коридор, и прихожая, и вся Светина квартира, зияет пустота… а скала напротив – не что иное, как полуразвалившаяся стена с торчащими из нее балками и пучками арматуры.
Дмитрий. Февраль, 1999
Все это оказалось даже проще, чем он предполагал. Бредовый «мост» хоть и покачивался, но не сдвинулся ни на сантиметр. Кое-где скользя с разгону, кое-где деликатно подтягивая ступню к ступне, стараясь удерживаться от прыжков, чтобы не напрягать ненадежную конструкцию, Дмитрий добрался до стены и позволил себе первый вздох облегчения. Нет, в самом деле – ему сразу стало легче. Высота, которую надо взять, – это нечто привычное. Промышленный альпинизм и позволил ему так быстро вписаться в АСО. Вдруг вспомнилось, как при первой встрече с Разумихиным тот сказал, что начинал горноспасателем.
– О, коллега! – обрадовался Дмитрий. – Будем знакомы, я на Тянь-Шане работал, а ты где? Памир, Кавказ?
Разумихин усмехнулся в усы и объяснил, что горноспасатель работает не на скалах, а, наоборот, под землей, в горных выработках, то есть шахтах. И спасает не верхолазов-альпинистов, а горняков.
Что-то хрустнуло под ногой. Кирпич обломился. Дмитрий припал к стене, дотянулся до выступающей балки. Глянул вниз. А лихо он рванул! Пожалуй, уже четвертый этаж, никак не меньше. Он всегда говорил, что чем меньше думаешь при подъеме о самом подъеме, тем легче идет дело. Дмитрий считал литературными натяжками подробные описания трещин, выемок и выступов, глядя на которые альпинист выбирает путь. То есть он, конечно, глядит, выбирает, оценивает, только длительный мыслительный процесс тут ни при чем. Дмитрий вообще старался думать совершенно о другом, выпуская на свободу инстинкт и интуицию. Вряд ли ящерица или горная коза размышляют, в какую трещинку вползти, на какой камень опереться, когда изогнуться, а когда прыгнуть. Путь выбирает само тело, которое хочет жить.
И вот сейчас он почти у цели, вроде бы не заметив пути. Впрочем, стена только издали, с земли казалась совершенно гладкой: на самом-то деле тут много чего есть, за что взяться и куда поставить ногу.
Дмитрий вскинул голову. Человек должен быть почти над ним, но увидеть его сейчас мешает выступ перекрытия.
– Эй, наверху! – крикнул негромко. – Слышишь меня?
Мгновение тишины – а потом громкое, отчаянное рыдание и поток бессвязных криков-всхлипываний.
Да там женщина! Это уже хуже. Вдобавок в истерике…
– Тихо! – крикнул он. – А ну, тихо!
Разумеется, не слышит – рыдает самозабвенно. Ну что ж, понять можно: держалась-держалась, надеясь только на себя, онемев от страха, а тут услышала его голос, поняла, что спасение близко, и мгновенно расслабилась.
Плохо. Как бы не сорвалась…
– Перестань реветь, а то уйду сию же минуту! – крикнул, не надеясь, впрочем, что его голос прорвется сквозь стоны и хлюпанья.
Прорвался, надо же! Угроза подействовала. «Входя к женщине, бери с собой плеть!» – вспомнил известную фразу Дмитрий, пытаясь отогнать неприятное ощущение, больше всего похожее на стыд: ей там и так плохо, а он еще кричит и грозит. Наверное, можно было бы как-то иначе успокоить, поговорить, подождать, пока выплачется… Нет, ничему он не научился за свои тридцать лет, потому, наверное, всегда не везло с женщинами.
– Вы где?.. – донесся сверху прерывистый, перепуганный голосок, и Дмитрия передернуло от злости – на себя, между прочим. – Не уходите, не уходите, ради бога!
– Никуда я не уйду, здесь я, здесь! – крикнул, как мог громко. – Продержись еще немножко, милая, сейчас я до тебя доберусь!
Опять рыдание. О черт, неужто злобный старикашка Ницше был все-таки прав насчет плетки? Или на нее так подействовало это обещание: сейчас, мол, доберусь до тебя? Звучит, конечно, двусмысленно…
Жалко оставлять эту балку, надежная она, хорошее было бы место для «станции», но женщина в таком состоянии вряд ли спустится сюда. У нее, наверное, руки-ноги отнялись. Ладно, авось, когда Дмитрий поднимется наверх, там тоже найдется подходящая балочка.
Подняться-то он поднялся без проблем, и балочка отыскалась какая надо. А дальше…
Дмитрий стоял на выступе стены. Проем двери, в котором застыла женщина, был от него метрах в трех. От вполне надежной балки, с которой можно было бы начать спуск на землю, до этого проема тянулось подобие карниза: кое-где сантиметров десять, кое-где и пяти не углядишь. То есть для Дмитрия почти широкая дорога. А вот пройдет ли она – вопрос. Но, может быть, удастся сделать «станцию» рядом с ней?
Дмитрий побалансировал на балке, пытаясь разглядеть козырек, на котором стояла женщина. Вот же гадство: ни крюка, ни узла арматуры – голо. Все сметено могучим ураганом. Как же она не сорвалась?! Похоже, две взрывных волны одновременно толкнулись навстречу друг другу и зажали эту женщину, удержав ее. Ну что ж, повезло… хоть ей повезло!
Дмитрий оседлал балку и сделал «станцию». Закрепил блок и швырнул трос вниз.
Удачно! Разумихин, ловко поймавший конец, дал отмашку и отошел как можно дальше от развалин. Вообще прекрасно, что будут приземляться не на завал, а на твердую землю.
Дмитрий понадежнее закрепил сумку на балке, чтоб не дай бог не сорвалась вниз, а то хорошо ему тут будет! Перегнулся, пытаясь заглянуть в проем. Нет, ее не видно. Стоит, не шелохнется, понимает, что одно неосторожное движение…
– Эй, девушка! – Может, она вообще бабушка, может, в матери ему годится – сейчас это неважно. Хотя голос вроде молодой, в смысле плач. – Погоди плакать, послушай меня. Слушаешь?
– Слушаю, – выдохнулось неразборчиво.
– Скажи, там, рядом с тобой, может поместиться еще один человек или ты сама там еле стоишь?
– А зачем? – пискнула она.
Дмитрий завел глаза.
– Ты что, не понимаешь? Охота рядом с тобой постоять.
Он едва не ляпнул что-то вроде: полюбоваться окрестностями! Идиот, не до юмора сейчас. Разумихин предупреждал – быть особенно осторожным в словах, когда начинаешь контакт со спасаемым. Каждое слово должно вселять силу, надежду, помогать собраться. А он что несет?
– Выручать тебя надо, моя дорогая, а для этого придется к тебе перейти. Ну что, поместимся вдвоем?
– Поместимся, – ответила она после паузы: наверное, осматривалась. Голос подрагивал, но уже не хлюпал. – Не знаю, может, тут все сразу рухнет, конечно…
– Ничего, я не шибко тяжелый, – успокоил Дмитрий, влипая в стену и делая первый осторожный, скользящий шаг по карнизу. Еще шаг… На мгновение показалось, что страховка, которую он закрепил на балке, коротковата, но тут же веревка пошла гладко, и он без помех сделал третий шаг. – Чуть правее стань, если можешь. Я иду.
И тут он едва не сорвался от неожиданности. Почему-то сам собой опустился козырек каски: упал на лицо, как забрало. Конечно, удобная штука эти каски марки «Gillett»: огнеупорная воздухопроницаемая поверхность, отличная защита для лица. Обычно, чтобы опустить его, требовалось некоторое, пусть незначительное, усилие, а сейчас… Поправлять не было времени, да и без надобности – Дмитрий по-прежнему видел все отлично. Еще рывок… уцепился за край сохранившегося дверного косяка, подтянулся – и шагнул на подобие порожка. Утвердился рядом с высокой тонкой фигурой, схватил за плечо:
– Ну, ты тут как?
Он-то думал, эта дурочка кинется ему на шею и зарыдает, а она отпрянула, да так, что едва не свалилась в пропасть, зиявшую сзади…
Самурай. Лето, 1997
Как и обещали, пост в подъезде уже был снят. А немногочисленные жильцы, которые изредка мелькали на площадке, – иные, кстати, в сопровождении охраны, – не обращали никакого внимания на аккуратненького такого, лысоватого мужичка, который, огородив себе стоечками уголок, споро выковыривал раскрошившуюся облицовочную плитку на стене и на ее место ладил новую, старательно соблюдая рисунок.
Плиточником был Самурай. Натаскивал его настоящий мастер своего дела, и он с усмешкой думал, что если когда-нибудь завяжет с «Нимбом», то без куска хлеба уж точно не останется, даже если решит не трогать заработанного за все эти годы.
Македонский пока не вышел на свою площадку. Он должен был заступить на пост прямо перед появлением «кабана». И когда кто-то простучал каблуками за спиной Самурая, фальшиво напевая про шаланды, полные кефали, тот понял: Македонский пошел наверх. А через минуту в кармане тихо пискнула мини-рация, что означало: готовность номер один.
Плитка раскрошилась так удачно, в таком удобном месте (случайности тоже надо уметь устраивать, это и есть настоящий профессионализм!), что Самурай работал лицом к лифту и видел все, что происходило перед ним. Лифт в этом подъезде был особенный: он шел только вверх. Для того чтобы спуститься, существовал другой. Люди здесь жили важные, преисполненные сознания собственной государственной значимости, общаться друг с дружкой без надобности не любили – вот и устроили им два лифта, чтобы свести общение до минимума. Но уже третий день лифт на спуск не работал. Согласно проверке он вообще отключался частенько. Самое смешное, что такие вещи сплошь и рядом случаются даже в элитных домах. Это только тем, кто доживает свой век в панельной «хрущобе», кажется, будто в «домах для начальства» крыша не протекает, трубы не лопаются, лампочки в подъезде не перегорают, а лифт работает как часы. Но ведь и здесь живут люди – свои, родные, русские! Значит, везде и всюду все как всегда.
Так вот: сегодня лифт шел только наверх. А поскольку жил «кабан» на девятом этаже, он отпускал охрану внизу: чтобы ей не приходилось потом спускаться ножками. «Кабан» ведь был одним из столпов демократии, поэтому обращался с этим самым демосом по-товарищески. Конечно, никогда заранее не знаешь, какая моча ударит в голову очередному «кабану». Дурные предчувствия ведь не только у ликвидаторов бывают. И в случае, если «белые воротнички» в бронежилетах (вид у охранников «кабана» был хлипко-интеллигентный, хотя с профессионализмом здесь все обстояло как надо) решат проводить своего подопечного до квартиры, Самураю предстояло мгновенно переквалифицироваться в лифтеры. Дистанционным пультом он должен был застопорить поднявшийся лифт на одну-две минуты – ровно на столько, сколько времени ему понадобится, чтобы на втором лифте, том самом, который как бы ходил только сверху вниз и в данное время якобы не работал, взмыть наверх и в компании с Македонским встретить «кабана» с охранниками. Этот дополнительный вариант при разработке операции назывался «сыграть в четыре руки», потому что оба ликвидатора виртуозно владели техникой стрельбы и правой, и левой, и с обеих рук.
Если бы спросили Самурая, какой вариант работы, основной или дополнительный, он бы предпочел, тот, пожалуй, затруднился бы с ответом. С одной стороны, хорошо, когда обходится без неожиданностей, даже и предусмотренных. И шуму Македонский наедине с «кабаном» наделал бы меньше, а то и вовсе обошлось бы без шума. С другой стороны, Самурай по необъяснимой причине любил все дела, связанные с лифтами. Будь его воля, он вообще стрелял бы только в лифтах. Наверное, потому, что одна из самых блестящих по дерзости ликвидаций была проведена им как раз с крыши лифта, когда он спокойно расстрелял из автомата всех пассажиров. Но его никто не спрашивал, а потому предстояло действовать по инструкции.
Работали первый вариант: охрана в лифт не пошла. Внизу, в холле, поручкалась с боссом-демократом, мгновенно «сфотографировав» лысого плиточника. Ну что, тут не подкопаешься, кафель в самом деле раскрошился. И пошли себе восвояси, бедолаги, даже не подозревая, что уже через две-три минуты останутся не только без босса, но и без работы, а возможно, и без долгих лет жизни. Кстати, Самурай не удивился бы, узнав, что кто-то из этих «белых воротничков» и сдал своего господина, и именно благодаря его ненавязчивым усилиям охрана нынче не захотела ехать на лифте… Самурай вообще редко теперь удивлялся. Ибо в жизни случается только то, что должно было случиться.
Лифт пошел наверх, Самурай остался один в холле. Он положил мастерок и снял перчатки. Расстегнул комбинезон на груди и, сунув руку за пазуху, задействовал пульт, висящий на тонком шнурке под рубашкой. «Неработающий» лифт тоже рванул вверх.
В подъезде царила благостная тишина, и Самурай прекрасно слышал все, что нужно. Вот первый лифт остановился. Вот раскрылись дверцы. Вот закрылись… но за полмгновения до этого пискнула рация. Значит, акция завершилась.
Самурай услышал, как открылись и закрылись дверцы второго лифта, который тотчас пошел вниз. Остановился… однако оказался пустым.
Самурай прищурился… Но тут же со ступенек легко спорхнула стройненькая блондиночка в темных очках, с длинными распущенными волосами и алыми губками, одетая в красную ветровку, джинсы и кроссовки. Не удостоив скромного плиточника и взглядом, она исчезла в дверях.
Тогда плиточник одним махом выскочил из комбинезона, снял с головы «лысину» и сунул все добро в рюкзачок. Из подъезда вышел симпатичный черноволосый парень в темных очках и роскошном спортивном костюме. Потянулся, глядя на солнышко, – и пустился неторопливой трусцой «от инфаркта», не обращая внимания на легонькую ношу, болтавшуюся за плечами. Парень забежал за угол и тут, видимо, подустал: забрался в неприметный серый «Фольксваген», в котором уже сидел ничем не приметный человек в черной ветровке. Правда, у нее была ярко-красная подкладка, а на губах человека при ближайшем рассмотрении можно было увидеть следы алой губной помады. Может быть, он недавно целовался с той блондинкой, которая так гордо прошла мимо Самурая в подъезде?..
Спортсмен сел за руль. Любитель поцелуев запихал его рюкзачок в свою сумку, и «народный вагон» тронулся с места. Стоило ему свернуть за угол, как он растворился в потоке автомобилей.
Дмитрий. Февраль, 1997
Дмитрий едва успел схватить девушку за плечо и рвануть к себе, не то она сорвалась бы вниз. Мелькнула совершенно неуместная в данной ситуации обида: вроде бы отродясь не отшатывались от него девушки, скорее наоборот – гроздьями вешались, так что стряхивать приходилось. Неужели он так поплохел с годами? Посмотрела бы, между прочим, на себя!
Внимательнее вгляделся в грязно-серое лицо, на котором слезы промыли две бледные дорожки. Волосы тоже забиты пылью и мельчайшими осколками кирпича, ветер сбил их в причудливую массу неопределенного цвета. Одежда… Бог ты мой, как же она замерзла, бедняжка! Хоть и теплый нынче декабрь, но простоять столько времени на сквозном ветру, на высоте, не понимая, жива ты вообще или уже нет… И она еще держится, не вопит, не бьется в истерике, еще способна думать, нравится или не нравится ей то лицо, которое она сейчас видит!
И тут Дмитрий понял: а ведь лица-то его она как раз не видит. Перед ней золотисто-желтая, непроницаемая поверхность, в которой, как в выпуклом зеркале из комнаты смеха, отражается ее собственное измученное лицо. Немудрено испугаться…
Чертов козырек! Дмитрий с силой сдвинул его наверх, сделал самую ослепительную улыбку:
– Ну что, так лучше?
Пойми этих женщин! Она снова отшатнулась, а поскольку цеплялась при этом за Дмитрия, они едва не свалились вместе.
– Поосторожнее попрошу, – сердито сказал Дмитрий. – Еще один такой же ваш порыв, и мы оба – фью! – вниз, со скоростью девять и восемь десятых метра в секунду!
– Откуда вы знаете, с какой скоростью мы будем падать? – недоверчиво спросила она.
– Вернее, с ускорением, – поправился Дмитрий. – С нормальным земным ускорением – джи равно девять и восемь десятых метра в секунду. В школе по физике проходили?
– Ах да, – сказала она как-то не очень уверенно. – Я просто… не ожидала.
Чего, интересно? Что он знает про ускорение? Ладно, Дмитрий не стал вдаваться в подробности, не ко времени, да и глупости вообще. Ясно одно: если ее так шатает из стороны в сторону, и речи быть не может, чтобы она смогла пройти по карнизу сама.
– Вас как зовут?
– Лёля…
– Ляля? – не понял Дмитрий.
– Лёля! Не Ляля, не Люля, а Лёля! – вдруг разъярилась она.
Лёля! Дурацкое имя, кукольное какое-то. Ладно, какая разница?
Дмитрий расстегнул страховку и, быстро опоясав девушку, щелкнул карабином: – Давайте уходить отсюда. Вы, наверное, жутко замерзли.
– Да, – кивнула Лёля. – А как уходить? Куда?
– Вон к той балке, видите? Там «станция», оттуда спокойно спустимся вниз.
– На чем? – спросила она глухо. – На фуникулере? Какая еще станция, что вы мне голову морочите?
– «Станция» – это любое место, где можно закрепить систему КСГ-1, то есть систему Кошевника, предназначенную для спасения с высоты, – спокойно пояснил Дмитрий, всматриваясь в темно-серые, почти сплошь залитые зрачком, но все равно как бы незрячие от страха и усталости глаза.
Странно, откуда взялось ощущение, будто он уже где-то видел эту самую Лёлю? Или просто прав Разумихин, говоривший, что человек, которого ты спасаешь, на какое-то время становится для тебя ближе и роднее всех в мире, в нем словно бы смыкается и его, и твоя жизнь, в эти минуты он как бы часть тебя самого? И что же это Разумихин все прав да прав! Вот ведь уверял, будто на людей успокаивающе действует подробное разъяснение всех твоих планов и обстоятельное описание снаряжения, – и в самом деле: зрачки уменьшились, в глазах появилось осмысленное выражение.
– Вон там спасательные тросы и есть такая сидушка, – продолжал Дмитрий, умалчивая о том, что сидушка представляет собой брезентовый треугольник, больше всего напоминающий подгузник какого-то гигантского младенца, и называется «косынка». – Поедете с удобствами. И хоть это мало напоминает фуникулер, но здорово похоже на подвесную канатную дорогу. Например, как в Бакуриани. Вы бывали в Бакуриани? Для горнолыжников рай земной. То есть был рай в прежние времена, а как теперь, не знаю. Вот что, слушайте, Лёля: сейчас мы с вами в три шага перейдем этот карниз, а со «станции» спуститься уже нет проблем. И вы не бойтесь, я вас страховкой обвязал, теперь при всем желании не разобьетесь!
– Да вы что? – крикнула девушка, и глаза ее опять стали безумными. – Я боюсь высоты, я больше всего на свете боюсь высоты, я не смогу, тут и курица не пройдет!
Дмитрий вздохнул. Ну, началось!
– Курица, может, и не пройдет, – кивнул так покладисто, как только мог. – Нет у нее такой жизненной задачи! А у нас есть. Я же прошел – и вы пройдете.
– Я сорвусь, упаду!
– Ну и что? А веревка страховочная? Самое страшное, что с вами произойдет, – повиснете вон под той балкой и будете дожидаться, пока я вас не втяну наверх.
– Ладно, я буду болтаться, а вы? – спросила настырная девица. – С вами что будет, если вы сорветесь?
Это было так смешно, что Дмитрию даже расхотелось снова обижаться:
– Шутите, девушка? Я все-таки альпинист, хоть и бывший.
– Нет, а все-таки? – не унималась она. – Я, если что, буду болтаться под балкой, а вы со скоростью девять и восемь десятых…
– С ускорением, – машинально поправил Дмитрий.
– Да какая разница? – жалко усмехнулась она. – Нет, я так не хочу. Это же ваша страховка, вы ее с себя сняли. Я с места не тронусь, пока вы тоже чем-нибудь не обвяжетесь!
– Теряем время, – сердито сказал Дмитрий. – Вместо того чтобы с вами лясы точить, я должен искать живых людей. Пошли по-быстрому. Я впереди, вы за мной.
Он и моргнуть не успел, а Лёля мгновенно расстегнула карабин, сдернула с себя страховку и подала ему. – Идите. Спускайтесь, ищите. Правда, что я вам тут зубы заговариваю? Идите, идите! Я с вами побыла – и немножко полегче стало. Теперь я как бы не одна останусь. Вы работайте, а за мной пусть пришлют вертолет. Ну что вы на меня смотрите, как на дуру? Я видела в кино, как людей снимали с верхнего этажа какого-то небоскреба на вертолете. Кстати, может, и там, наверху, еще кто-то спасся. Их бы тоже заодно вертолет подобрал. Нет, ну что вы так смотрите?!
Дмитрий смущенно моргнул. Почему не оставляет ощущение, будто он уже видел эти глаза?
– С небоскреба, говорите? – переспросил задумчиво. – Нет, боюсь, тех, кто мог остаться на верхних этажах, тоже придется снимать мне или другим ребятам. Вертолет, конечно, штука хорошая, но не для здесь. Высота не очень большая, так что представляете, какую пылищу он винтом поднимет? До небес! Жди потом, пока снова уляжется. Этак мы весь фронт работ потеряем. Кроме того, не поручусь, что вся эта конструкция не развалится от вибрации. Тогда и вы, и те, кто может быть сверху, погибнете наверняка. Я уж не говорю, что все это рухнет на еще не разобранный завал, и тогда у тех, кого сейчас пытаются откопать, вообще не останется ни единого шанса. Это понятно?
Лёля кивнула.
– Пойдем по карнизу?
Вздрогнула, вскинула беспомощные глаза:
– Только вы привяжитесь тоже. Вместе со мною, тут ведь хватит веревки!
Дмитрий на миг зажмурился. Интересно, замужем она или нет? Если нет еще – вот достанется кому-то счастье, будет непрестанно с мужиком пререкаться, слово за слово цеплять. А ведь корабль должен вести капитан!
– Поясняю, – сказал как мог спокойнее. – Карниз хоть и довольно надежен, а все-таки это не улица Большая Покровская. Я по нему пройду спокойно, однако, если вы оступитесь, мы сорвемся и повиснем оба. Не уверен, что мои восемьдесят кэгэ и ваши… сколько? Семьдесят два, три?
– Шестьдесят семь! – выдохнула она зло. – А рост, если вас это интересует, сто семьдесят три! Объем…
– Не уверен, значит, что мои восемьдесят и ваши шестьдесят семь веревка выдержит, – перебил Дмитрий, хотя с неохотой: во-первых, веревка рассчитана на гораздо больший груз, во-вторых, предмет разговора стал очень интересным. Но хватит тратить время на болтовню! – А если даже и так, кто нас обоих потом спасать будет? Придется отвлекаться кому-то из ребят снизу, а у них и без нас забот хватает. Доступно?
– Доступно, – опустила голову девушка. – Знаете, у меня такое ощущение, что вам жутко противно спасать меня – именно меня! Но сейчас-то вы видите, что я совершенно ни в чем не виновата, не то что в прошлый раз. Я честно не хотела идти к Свете, меня мама заставила… О господи! – Из ее глаз вдруг хлынули слезы: – А где же Света, что с ней?
Дмитрий покрепче сцепил зубы. Юра Разумихин говорил, что спасателю довольно часто приходится становиться психотерапевтом. Но что приходится чувствовать себя санитаром в отделении для буйных, речи не шло… Какой прошлый раз? Почему противно? Она заговаривается, эта Лёля?
Странно, однако, но у Дмитрия почему-то отлегло от сердца, когда он понял: девушка в этот злополучный дом попала случайно, квартира, от которой остался только порог ванной комнаты с осколками кафеля, не ее квартира, и там, под завалами, не погребена ее семья, может быть, муж… Ей и так сегодня досталось, бедняжке, чтобы оплакивать еще какую-то потерю. Хотя эта Света… Ну, кем бы Света ни была, ей Дмитрий уже вряд ли может помочь. А вот этой несчастной плачущей девочке, которая еще и пытается заботиться о ком-то, кроме себя, – может.
Опять обнял ее, не намереваясь отпускать, даже если начнет вырываться.
– Подожди плакать, ладно? – шепнул, утыкаясь в холодные, пахнущие пылью и ветром, сбившиеся пряди. – Потом, когда спустимся, будешь плакать сколько хочешь. Я сам готов тебе слезы утирать хоть всю оставшуюся жизнь. Но сейчас надо идти на «станцию». Ты воспаление легких скоро схватишь, и вообще силы кончатся, а у меня еще работы выше крыши.
Да… непорядки у Димы Майорова сегодня с русским языком. То стращал девушку, что доберется до нее, теперь вот… Чего в этом доме уже нет – так это крыши. Ветром он крыт, вот что!
– А ты на меня уже не сердишься? – прошептала Лёля, прижимаясь так, словно он был вовсе не чужим человеком, а родным братом по меньшей мере. Впрочем, Разумихин предупреждал, что для спасаемого спасатель тоже становится самым близким человеком, в нем воплощается весь мир… на какое-то время, конечно!
– Да ну, глупости, на что сердиться? – сказал Дмитрий, опять переставая хоть что-то понимать. – Со всяким может случиться.
– А ты долго тогда злился? – выдохнула Лёля ему в шею, и Дмитрий почему-то перестал чувствовать себя братом. То есть в общечеловеческом смысле – это пожалуйста, сколько угодно. Но братом конкретно вот этой девушки… Нет уж!
– Сразу перестал, – пробормотал, уже совершенно не соображая, что говорит.
– Ну хорошо. – Она со вздохом отстранилась. – Потом я у тебя еще раз попрошу прощения как следует. Ладно, я согласна идти.
Дмитрий едва не спросил – куда, поймал слово на самом кончике языка. Вот был бы прикол!
Он шел первым, велев Лёле держаться за его пояс. Риск налицо, конечно: вздрогнет, дернется – и запросто сорвет его с карниза. Но… опять же премудрый Разумихин уверял, что спасаемому легче, когда есть тактильный контакт со спасателем. Насчет обратной связи Разумихин умалчивал, однако Дмитрий подумал, что наконец-то он и сам может кое-чему научить своего многоопытного наставника. Обратная связь имела значение, и очень даже немалое!
Был острый момент, когда под Лёлиной ногой вдруг обломился осколок кирпича… К счастью, Дмитрий в это время уже стоял на балке и смог не только сохранить равновесие, но и выдернуть Лёлю с карниза прежде, чем она успела испугаться.
Сразу же велел ей сесть верхом на балку и держаться покрепче. Облегчение – это самое страшное. Рано им еще расслабляться!
– Это сидушка? – спросила Лёля, увидев «косынку», но больше ничего не говорила, только покраснела, когда Дмитрий пропустил один конец «косынки» ей под попу и запеленал, защелкнув на поясе карабин.
Дмитрий сделал отмашку Разумихину, который уже стоял наготове. Тот сразу понял и отошел чуть ли не на всю длину троса, увеличивая угол спуска и делая трассу как можно более пологой. Есть разница – падать отвесно вниз, пусть и по спасательному тросу, или спокойно съезжать по наклонной!
– А ты? – вцепилась вдруг в Дмитрия Лёля, когда он уже почти сказал: «Ну, с богом!» – Ты не спустишься?
Он нерешительно задрал голову, вглядываясь в верхние перекрытия. Вообще-то, наоборот, намеревался подняться… Хотя мало вероятности, чтобы кому-то еще так фантастически повезло, как Лёле. Наверняка людей с верхних этажей смело ударной волной… И Разумихин, словно угадав его намерение, машет снизу: спускайся, мол!
Вот поднес к лицу телефон.
– Слышь, Дима? Все в порядке? – забормотала в ухе «улитка». – Что, трудный случай? Не хотел тебя раньше отвлекать. Спускайся, нет там никого, наверху. Напротив как раз дом строят, крановщик по нашей просьбе проверил. Пусто. Как понял, прием?
– Понял, спускаюсь, – громко сказал Дмитрий, наклоняя голову, хотя ларингофон и так был под подбородком. – У меня порядок. Ловите нас там.
Разумихин опять махнул.
– Вот видишь, команда спускаться, – улыбнулся Дмитрий. – Сейчас тебя отправлю, а потом и…
– Можно как-нибудь вместе? – умоляюще шепнула Лёля. – Чтобы я за тебя держалась. А то у меня вдруг голова закружилась…
Даже под слоем пыли было видно, что ее лицо еще больше побледнело, глаза ввалились. И губы побелели. Для нее всего этого слишком много, чересчур!
– Вместе так вместе, – согласился Дмитрий. – Даже лучше, потому что у меня есть стопер, а у тебя его нет. – Он пощелкал рычагом фиксатора. – Например, тебе станет страшно на скорости, я р-раз! – и остановлюсь. Повисим немножко и дальше поедем.
Она вдруг закрыла глаза. Дмитрий окликнул, но Лёля не отвечала.
Ладно, хватит трепаться. Поехали!
На всякий случай Дмитрий надел на нее свою каску: мало ли что! Голова сразу озябла. А как же должна была замерзнуть она?!
Стопером воспользоваться не пришлось – Лёля не изъявляла желания приостановиться и «повисеть». По сути, можно было обойтись также и без «косынки» – Дмитрий держал девушку на руках. Кажется, она была в обмороке. А может, совершенно обессилела.
Внизу их принял Разумихин, сразу подбежали врач и санитары с носилками: «Скорая» первой прорвалась во двор между грудами аккуратно разрезанного железа. И пожарные, и спасатели вовсю работали бензорезами, кромсая гаражи.
Когда Лёлю положили на носилки, она вдруг открыла глаза.
– Дима, ты где? – позвала, слепо шаря вокруг руками.
Он подошел, изо всех сил пытаясь вспомнить, когда же успел назвать ей свое имя. Точно ведь не называл!
Она приподнялась, цепляясь за его плечи.
– Лежи, лежи!
– Ничего. Ты возьми свою каску, а то простудишься. Я уже ничего. Ты не знаешь, тут можно откуда-нибудь позвонить? Вдруг мама как-нибудь узнает про взрыв – она ведь с ума сойдет. И надо Светиному мужу сообщить, у них же здесь только мастерская, а живут они…
Она вдруг осеклась, уставилась расширенными глазами куда-то за спину Дмитрия. Он обернулся и досадливо качнул головой. Ч-черт, это она увидела, как укладывают в трупный мешок искореженное, изломанное тело женщины в брюках и обрывках того, что раньше было длинным толстым свитером. До чего же неудачно!
Книга с салфеточками и кружавчиками, до сих пор сиротливо валявшаяся на газоне, вдруг под порывом ветра встала дыбом, перевернулась и смешно полетела прочь, весело перебирая страницами…
– Света. Это тетя Света! – пробормотала Лёля – и безжизненно рухнула навзничь.
Разумихин выругался сквозь зубы:
– Долбаки, нельзя ей было это видеть, всех ваших матерей в бога и в душу!
Дмитрий глянул изумленно: слышать такое от своего учителя и друга ему еще не приходилось. И вдруг – словно в лицо его ударили! – понял, почему Лёля знала, как его зовут, вспомнил, где и когда видел ее… И теперь он мог спокойнее смотреть, как носилки ставят внутрь «Скорой», как та выруливает со двора, а на ее место въезжает другая машина.
Ничего. Теперь-то он ее найдет!
Лёля. Июль, 1999
Лёля открыла глаза, но тотчас зажмурилась: голова вдруг пошла кругом, все поплыло. Она даже не разглядела толком, что именно – все. Что-то белое, довольно яркое, и еще вроде бы как множество чужих, светящихся глаз, уставившихся на нее с высоты. Понадобилось некоторое время, чтобы мозг соотнес увиденное со знакомыми понятиями и Лёля сообразила, что это вовсе не глаза, а круглые маленькие лампы, какие обычно вмонтированы в подвесные потолки. Теперь это очень модно, в офисах на потолках на каждом шагу увидишь! Если, конечно, кому-то вдруг взбредет в голову шагать по этим самым потолкам.
Слабая улыбка тронула губы, и стало чуть легче, когда Лёля почувствовала, что улыбается. Пациент, стало быть, скорее жив…
И тотчас это слово – пациент – вызвало в сознании такую бурю болезненных ассоциаций, что Лёля с трудом подавила стон. Ну да, ну да, там был точно такой же потолок, и Лёля все пыталась отвернуться от него, потому что и там лампы казались ей глазами: множеством укоризненных глаз… Странно, да? Лампы смотрели с осуждением, а люди, окружавшие Лёлю там, совершенно равнодушно. Нет, конечно, им было не наплевать на пациентку и ее здоровье, но они просто делали свою работу – ежедневную, рутинную, можно сказать, работу. Вдобавок сюда никого насильно не тянули, всякий приходил (вернее, всякая приходила) своей охотой, самостоятельно принимая решение, а те люди всего лишь приводились в исполнение, помогали, служили ей, можно сказать… И все-таки Лёле стало невыносимо тошно при одной только мысли, что она снова там. Неужели все, что она там испытала, пережила, все слезы, которые выплакала в больничную тощую подушку, ей только привиделись? Там, кстати, никто не утешал плачущих. Считалось, что наркоз, отходя, может давать самую причудливую картину: некоторые рыдали, некоторые, наоборот, смеялись, некоторые взахлеб пересказывали свои видения (похоже, то, что им вкалывали, было сильнейшим галлюциногеном, одна женщина, к примеру, успела в Индии побывать и покататься на слоне), ну а такие, как Лёля… Такие идиотки, как Лёля, должны были усвоить простую истину: снявши голову, по волосам не плачут! И вообще, самая лучшая проблема – та, которой нет. Ребенок матери-одиночки, на которую глубоко плевать отцу этого самого ребенка, это о-го-го какая проблема! Для нее, для ее семьи… Для этого самого отца, который, конечно, не откажется платить алименты, но так круто заломит свою светлую, лоснящуюся бровь, что Лёля мгновенно прочтет его мысль: «А кто мне докажет, что ребенок и в самом деле мой?» – и ей больше всего на свете захочется умереть, прямо сейчас, вот сию же минуту, на его глазах. Может быть, ему хоть на одну минуточку станет ее жаль. Но это, между прочим, далеко не факт!
– Эй, барышня, проснемся, проснемся!
Кто-то легонько пошлепал ее по щекам.
– Хватит спать, так и жизнь проспишь. Пора покушать, лекарство принять.
Лекарство! Значит, она и в самом деле еще там!
Лёля распахнула глаза, резко села, но тут же вновь опрокинулась на подушку. Сказать, что голова винтом пошла, значит, ничего не сказать. Ее словно в центрифугу втянуло, болезненные спазмы стиснули желудок, тело покрылось ледяным потом…
Кто-то сильно схватил Лёлю за плечи, приподнял, наклонил вперед – и в ту же минуту ее буквально вывернуло наизнанку: со жгучими, болезненными спазмами в пустом желудке, с горьким вкусом желчи во рту.
На миг разомкнув мокрые от слез ресницы, Лёля увидела стоящий у нее на коленях таз, и стало чуть легче: все-таки ее не на себя выворачивает.
– Козлы гребаные, – тихо сказал кто-то рядом, по-прежнему придерживая ее за плечи, – сколько же раз вы ее кололи?
– Н-ну… раза три, – задумчиво отозвался хрипловатый голос, показавшийся Лёле знакомым натурально до тошноты: ее вывернуло снова.
– Да, у нее на тебя нормальная, здоровая реакция, Асан, – с едва заметной насмешкой произнес первый голос. – И выработались рефлексы на удивление быстро! Не стану спрашивать, как удалось этого добиться: я уже усвоил, что ты меня очень уважаешь, а потому слова в простоте не скажешь. Но про ее глубинные чувства к тебе надо не забыть, глядишь, другой раз и пригодятся. Теперь скажи, на кой хрен понадобилось ее так часто колоть? Я же дал три дозы на крайний случай, на самый крайний! А ты что, тренировался на ней, как уколы делать?
– Между прочим, она в пути дважды приходила в сознание, – напряженным, ломким от обиды голосом произнес Асан. – Я так понимаю, доктор, это и были крайние случаи, разве нет?
– Ну, может быть, может быть, – примирительно пробормотал доктор, осторожно помогая Лёле лечь.
Она откинулась на спину, судорожно всхлипывая, не в силах расслабить тело, сведенное болезненными конвульсиями. Даже лицо, чудилось, застыло, перекошенное гримасой.
– Ладно, что сделано, то сделано. Плохо только, что она долго будет в норму приходить. Хотелось бы закончить все побыстрее. Хозяин просто вне себя от нетерпения.
– Ну, я что-то не заметил, будто он так уж вне себя, – с тем же оттенком обиды пробормотал Асан. – По-моему, он был очень даже доволен.
– Конечно, доволен, – покладисто согласился доктор, обтирая чем-то душистым, приятно-теплым похолодевшее Лёлино лицо. Она почувствовала, как судорога отпускает мышцы, разглаживаются страдальческие морщины. – Еще бы ему не быть довольным: девушка-то здесь! Он ведь ничего не знает, в каком состоянии вы ее доставили, думает, у нее просто шок, я ему про твое усердие ничего не сказал, заметь себе, дорогой Асан.
– Усердие? Я не понимаю, – пробормотал Асан, – разве усердие может быть плохо? У вас, у русских, все так странно…
– У нас, у русских, говорят: услужливый дурак опаснее врага, – приветливо пояснил доктор. – И еще говорят: оказать медвежью услугу. Так вот: ты со своим усердием оказал Хозяину медвежью услугу, понял? Обычно на восстановление организма после моего укола нужны сутки. После двух уколов – трое суток. А после трех – неделя. Соображаешь, горный баран? К ней нельзя будет подступиться семь дней и ночей! И это после всех усилий, которые мы приложили, чтобы вычислить ее, найти, достать! А ты…
– А я, – запальчиво выкрикнул Асан, – я ее и достал! Ты что, забыл? Именно я ее и достал!
– Да тебе ее на блюдечке с голубой каемочкой поднесли, – с глубочайшим презрением откликнулся доктор. – И все, что от тебя требовалось, это взять блюдечко в зубы и, повиливая хвостиком, принести Хозяину. Он бы тебя погладил по головке и сказал: умница, Асанчик, служи дальше! И Асанчик наш побежал бы служить, опять-таки повиливая хвостиком от счастья и утирая скупую мужскую слезу… Стоять! – гаркнул он вдруг. – Стой где стоишь, руки подними и не дергайся! Забыл, кто ты есть? На место, Асан, на место, вот так, хороший песик! А теперь пошел вон, и если я еще раз только увижу на твоей усатой морде это дивное выраженьице… Никаких мне тут джихадов, понял? Ну, пошел, брысь!
Хлопнула дверь. Загрохотали, удаляясь, тяжелые шаги – и вскоре утихли.
– Бар-раны! Горные бараны! – с ненавистью выдохнул доктор после небольшой паузы. – Пистолет ходячий с курком вместо хрена! Чуть что – сразу мастурбирует! И, зуб даю, как мы клялись в златые школьные года, на дороге в разных местах осталось после этого вояки несколько трупов. А про девчонку, которая его навела на эту барышню, не забыл, интересно? Вот уж кого следовало убирать в первую очередь! Надо бы ему напомнить. Хотя наш чурка скорее перестарается… Кровавый след Асана – какое название для бестселлера, а? Продаю задешево!..
В затуманенной Лёлиной голове что-то проплыло, какое-то неясное воспоминание.
Чей-то отдаленный голос:
– Попомнишь нас, морда кавказская. Мало вас наши… – Потом грохот, похожий на выстрелы, и опять голоса: – Просил же его – не надо так говорить. Я этого не люблю.
– Может, хоть забросаем их получше?
– Ничего, пусть сгниют, псы паршивые…
Да, точно, доктор прав: Асан кого-то убил по дороге, каких-то людей, раньше помогавших ему. Надо сказать доктору… Надо сказать!
Лёля шевельнула горькими от желчи, пересохшими губами, но даже от этого невинного усилия внутри опять заклубилась тошнота, руки и виски стали ледяными.
Нет, лучше лежать и не двигаться, пока не станет легче. Сказать можно и потом, доктор все равно не даст Асану спуску. Доктор заступился за нее, наверное, он хороший человек, во всяком случае, лучше этого Асана!
Лёля услышала, как доктор тяжело, по-стариковски, вздохнул – и вдруг потянул покрывало с ее груди. По прохладе, овеявшей тело, поняла, что на ней нет ничего, вообще никакой одежды. Слабо дрогнув руками, попыталась прикрыться, но не смогла одолеть тяжести, которой вдруг налилось тело.
– Не дергайся, не трону, – буркнул доктор. Голос его теперь звучал устало. – Я еще не настолько спятил. Хотя, надо сказать, голос плоти звучит властно!
Послышалось шуршание, а потом Лёлиной ладони коснулось что-то теплое, но как бы резиновое.
– О-ох… – выдохнул доктор. – Вот же черт… н-ну… До смерти охота перепихнуться с этой куклой! Нельзя, Буян, стоять! В смысле – висеть! Сам не пойму, почему я так возбуждаюсь после стычек с Асаном. Может, я маньяк какой-нибудь? Может, пылаю к нему глубоко скрытой гомосексуальной страстью?
Он взял руку Лёли и попытался сжать ее слабые пальцы вокруг «резинового» предмета. Прерывисто вздохнул, потерпев неудачу.
– Надо попытаться как-нибудь вызвать Асана на драку: может, удастся все-таки кончить в процессе? Вот это, я бы сказал, будет крайнее проявление интернационализма: кончить в тот момент, когда кавказская морда бьет твою русскую морду! Что, между прочим, сейчас и происходит со всей страной: нас бьют по морде, а мы делаем под себя от удовольствия!
Доктор хихикнул, и неприятный предмет исчез из ладони. Опять зашелестела одежда, а потом Лёля почувствовала шершавое прикосновение простыни к телу.
– Ладно, отсыпайся, – проворчал доктор. – Знаю, что ты слышишь каждое слово, так что запомни: все, что сейчас было, – только твой сон. Бред, бредятина. У тебя давно не было мужика, нестерпимо захотелось потрахаться – с кем попало, хоть бы и с незнакомым доктором! – вот и родились такие горячечные видения. А когда откроешь глазки, поймешь, что ничего не было! Кстати, проснешься – первым делом съешь все, что в этих термосах. И выпей хлористый кальций – столовую ложку после еды. – Он побулькал чем-то. – Вот здесь будет стоять бутылочка, и если я увижу, что ты ни к чему не прикоснулась… смотри, как бы твои бредовые видения не стали еще бредовей!
Зашаркали шаги, потом хлопнула дверь.
Лёля лежала не шелохнувшись. Она чувствовала: доктор не ушел, он стоит за дверью, подслушивает. Может быть, даже наблюдает в какой-нибудь «глазок».
Наконец всем своим напряженным существом, обратившимся в слух, Лёля уловила легкий отдаляющийся шелест. Уходит… ушел!
Приподняла с усилием веки, повернула голову. Точно – на двери «глазок». И десяток таких же «глазков» на потолке. Только кажется, будто это лампочки: на самом деле чужие глаза, глаза, глаза!
Кто наблюдает за ней? Зачем она здесь? И где – здесь?
Или и впрямь она еще в больнице, а вокруг – та жуткая галлюцинация, которую Лёля испытывала после укола, когда привиделось, будто ее замуровали в египетской пирамиде? Она слышала, как с отчетливым, крахмальным скрежетом вокруг нее с необычайной быстротой вырастают красные кирпичные стены…
Но ведь красные!.. А здесь все бело. Да где же она?!
Самурай. Лето, 1997
Некоторое время ехали молча. Македонский, насколько успел узнать Самурай, вообще был не говорлив. «А об чем говорить?» – как выразился тот Филя. Самурай думал… а вот подумать ему было «об чем»!
– Расслабься, – бросил вдруг Македонский, словно бы прочитав эти его тайные мысли. – Мне ничего такого насчет тебя сказано не было. Тебе, как я понял, тоже?
– Откуда знаешь?
– Ну, милый! – развел руками Македонский. – Не первый год замужем! Разве не понял, почему я не поехал на лифте, а спустился пешочком?
Самурай кивнул. Понял, конечно… Если бы Самурай получил задание убрать ведущего, лучший момент трудно было бы сыскать. Но, идя по лестнице, Македонский мог видеть все, что происходит в холле, и, если бы партнер изготовился к стрельбе по открывшемуся лифту, уж как-нибудь успел бы его опередить!
– Значит, нас будут кончать при расчете, – сказал номер первый так спокойно, словно вел речь о погоде.
И Самурай постарался ответить в тон:
– А думаешь, будут?
– Да уж конечно. Мы статисты, но статисты опасные. У нашего шеф-директора, еще когда желал нам успеха, это прямо на морде было написано: прощайте, мол, родные, прощайте, друзья!
– Да брось! – не поверил Самурай. – Хочешь сказать, ты с самого начала знал, что мы запланированы? А почему же не дернул, пока было время? С той нашей подготовительной базы вполне можно было сорваться!
– И что? – дернул плечом Македонский. – Все равно нашли бы рано или поздно. Жить под прицелом… Нет, знаешь ли, насмотрелся я на этих, которых мы с тобой валили. Помню, работал одного… Денежек, видать, столь нахапал, что уже из ушей лезут. Купил весь пентхауз в отеле. Автомобиль бронированный, кортеж, пятое-десятое. Охрана! А от смерти не откупился. Подлетели мы на вертолете, изрешетили все его стеклянное гнездышко да еще из гранатомета для надежности шандарахнули. Не нам был чета мужик, а все равно и к нему прилетело. И к нам прилетит.
– Нет, ну как-то же можно… – Самурай не находил слов. – Затеряться, уехать, скрыться!
– Можно, – покладисто кивнул Македонский. – У тебя, я слышал, семья?
Самурай похолодел. Об этом не знал никто. Он понимал, какую берет на себя ответственность, когда скрыл это даже от шеф-директора, который в «Нимб ЛТД» был чем-то вроде отца-настоятеля с правами духовника. И все же скрыл… Нет, выходит, не скроешь!
– Откуда прознал? – спросил глухо, тая надежду, что это вульгарный блеф, что его просто берут на пушку. Теоретически ведь у каждого может оказаться семья!
– Все знают, – усмехнулся Македонский. – Таких дурней мало, чтоб еще целую связку с собой на тот свет тащить, вот все и знают. Они-то волки одинокие, не нам чета.
– Не нам? – переспросил Самурай. – Погоди-ка, ты…
– Да, вроде тебя, – хмыкнул Македонский. – Только у меня дела еще хуже. У меня одна девулька, шестой годок, сирота. То есть будет сирота, как я понимаю, – и очень скоро. Со здоровьем у нее неважно… Я устроил ее у одних людей, которые мне по гроб жизни должны. Да нет, не деньги. Жизнь должны! Поэтому я за дочку спокоен. Был спокоен… А теперь думаю: как бы не добрались до моей девочки, если я вздумаю в бега удариться. Ну а если…
– Если ты им подставишься, они ее не тронут, так, что ли? – недоверчиво глянул на него Самурай.
– Хочется верить, – кивнул Македонский. – Ты, может, подумал, нас намерены убрать, чтобы полную сумму не платить? Конечно, мои сто тысяч и твои семьдесят пять – хорошие деньги, но дело не в них. Там сидят люди не мелочные, для них это тьфу, пыль. И мой аванс пребудет неприкосновенным, и твой, который ты до лучших времен оставил в сейфе у шеф-директора… Если он на них, конечно, не накупит колготок от Кардена своей куколке. – Македонский хихикнул, явно довольный своим остроумием.
Они приближались к объездной дороге. Еще каких-нибудь четверть часа езды – и окажутся на точке рандеву. На точке расчета…
И вдруг Самурай понял, что не верит напарнику. Не верит – и все! Каждое его слово было сущей нелепицей. Ведь они двое – они были лучшими в своем бизнесе. На их примерах, как принято выражаться, училось молодое поколение. И не потому только, что оба стреляли так, чтобы после них не возникало необходимости в контрольном выстреле. Не потому, что о существовании обоих милиция могла только догадываться, но никаких там фотороботов и прочего примитива в виде папочек «Дело ь…» на них не существовало и существовать не могло: они были нелегалы, невидимки, призраки. Расправиться с ними после очередного дела – это то же, что… ну, скажем, грохнуть компьютер об пол, вместо того чтобы просто дать ему команду «Завершение работы». Других таких, как Македонский и Самурай, нет и не будет в обозримом грядущем!
И еще деталь. Про них было доподлинно известно: умеют молчать. Да и что они знают о данном конкретном деле, кроме имени «кабана»… В данной ситуации точнее сказать – бывшего «кабана»? Если следовать логике Македонского, одновременно с ликвидаторами придется убирать еще несколько десятков людей – всех, кто имел отношение к «убийству века». Во всем этом нагромождении сложностей Самурай не видел никакого смысла. И в словах Македонского не было этого смысла. Врет он… только зачем? Ну, может, юмор у него такой? Мало ли – предпочитает человек оттягиваться по-черному, и что? В каком кодексе записано, что нельзя рассказывать страшилки напарнику, с которым вы только что завалили матерого рыжего «кабана»? Или… или, к примеру, Македонский сдвинулся. Крыша взяла и съехала от перенапряжения.
В их бизнесе, кстати, люди довольно часто начинают гнать гусей. Причем разлаживаются самые лучшие, самые чувствительные механизмы. С одним вон парнем из отдела «тихушников» была недавно история… «Тихушниками» назвали ликвидаторов, которые пользовались негромкими средствами: ядами, к примеру. Его «кабан» ходил на массаж в престижнейший салон к одной хорошенькой девочке. Все, что требовалось от парня, это заменить масло, которым делали массаж. Бутылочка была такая же, да содержимое другое. «Кабан» всегда требовал, чтобы ему прежде всего разминали грудь и живот. Через три минуты после начала сеанса последовал жесточайший сердечный приступ, от которого клиент умер практически мгновенно. Массажистка была так потрясена, что даже шума не могла поднять: стояла над трупом и заливала его потоками слез. А парень наблюдал из соседнего кабинета – чтобы при возможной неожиданности самому завершить процесс. И жалко ему девку стало, что ли, ведь следующим трупом ляжет она – когда масло через поры проникнет в ее кровь. Только эта смерть будет медленнее и мучительнее… Необъяснимо, непонятно – однако парень вдруг ворвался в салон, схватил девчонку, поволок в холл, начал кричать, чтобы вызвали срочно «Скорую», да не убитому клиенту – ей, что она сейчас умрет… По слухам, посетители того салона голые из окон прыгали, как при пожаре, когда он там начал своей пушкой размахивать да по местной секьюрити палить, прорываясь к телефону и накручивая 03. И тут вдруг понял, что держит на руках труп. Девчонка, как ей и было предписано, отправилась следом за клиентом. Так что сделал этот придурок? Сунул дуло в рот и застрелился. Ну просто сюжет для дамского детектива, а не работа!
Как только эта история стала достоянием широких народных масс, в «Нимб ЛТД» немедленно «застрелился» психолог отдела «тихушников» – ведь это с его подачи человек с ярко выраженной расположенностью к срыву пошел на дело!
Это, конечно, случай вопиющий, из разряда сенсационных, однако ликвидаторы «пятятся» куда чаще, чем нормальные простые работяги. Так почему с Македонским не могло произойти того же самого на почве высокого напряжения?
А может, все еще проще? Может быть, это просто проверка Самурая? Этакий психологический тест на слом? Но чего ради? И чья инициатива этой проверки – самого Македонского или…
«Фольксваген» неожиданно затормозил и съехал с дороги.
– Приехали? – спросил Самурай, спокойно глядя в слишком светлые, небольшие глаза первого номера.
Тот помолчал.
– Пока нет, – сказал наконец. – Ну, я вижу, ты не внял советам старшего товарища, да? Хорошо, дело твое. Следовало бы, конечно, тебя первым отправить, но уж ладно. Ты вот чего, Колька… ты со мной не иди. Останься в сторонке и погоди минут хотя бы десять. Чем черт не шутит – вдруг я все-таки ошибся! Ну а если нет… – Он хохотнул. – Тогда и сам решишь, что делать: последовать за ведущим или уйти в свободный полет.
И, не дав Самураю слова сказать, Македонский выскочил за машины, помахал рукой – и скрылся в чахлых зарослях сорного осинника.
Самурай был до того ошарашен, что не сразу двинулся с места. Откуда Македонский знает его имя? Оно ведь было известно только шеф-директору! Или правду говорят, будто нет ничего тайного, что не стало бы явным? В конце концов, поступив на работу в «Нимб ЛТД», Самурай ведь не делал всяких там пластических операций. А что волосы покрасил в черный цвет накануне предстоящей акции, так это обычное дело. Вообще-то он русый… Но у них с Македонским вполне мог найтись какой-нибудь общий знакомый, который помнил Самурая по его прошлой жизни – хотя бы по Афгану. Или по челночному бизнесу, к примеру, которым Самурай пытался заниматься, пока его не кинули в Турции – не турки даже, а свои, и он с ними разобрался так методично и талантливо, что ушел чистым, незапятнанным – и с чувством глубокого морального удовлетворения. Вдобавок увезя в простенькой, потертой сумке и свои несчастные пять тысяч баксов, которые у него хотели отнять, и трофей в виде чужих сорока пяти… Да, раньше он не больно-то заботился скрывать свое лицо, имя – он гордился собой! Вот и получил приветик из прошлого, надо полагать. Или все-таки… все-таки что-то есть в словах Македонского?..
Он не верил, не верил, а все-таки не стал догонять первого на машине – вытащил ключ из стояка, закрыл «вагончик» и пошел кружным путем к той полянке, на которой была назначена точка рандеву.
Пожалуй, он дал слишком уж большого кругаля, старательно уверяя себя, что плохо помнит дорогу. На самом деле яд, зароненный в душу напарником, уже начал действовать, как отравленное масло на ту бедную массажисточку. И прошло даже не десять минут, а все двадцать, прежде чем перед Самураем замаячила сквозь подлесок приметная береза с раздвоенным стволом. Перед ней лежала малая полянка. На полянке стоял «БМВ», уже знакомый Самураю: на этом самом «БМВ» их с напарником сегодня утром везли в Москву. Узнал он и того худощавого полуседого мужчину без особых, так сказать, примет, который был их главным инструктором. Кроме него, присутствовал еще один – чем-то схожий с первым, разве что ростом пониже. Его Самурай прежде не видел. Незнакомец стоял нагнувшись и застегивал «молнию» на черном клеенчатом мешке, который лежал на траве. Мешок был длинный – в рост человека. И когда мужчины с усилием подняли мешок, он как бы переломился, обрисовав очертания человеческого тела.
То, что было раньше первым ликвидатором России, а может, и всей Европы, по прозвищу Македонский, затолкали в багажник, захлопнули крышку. Мужчины закурили, поглядывая по сторонам.
Самурай стоял неподвижно. Наверное, ему следовало развернуться – и тем же кружным путем вернуться к автомобилю, однако чутье волка, внезапно оказавшегося в положении овцы, подсказывало, что надо стоять на месте. Вдруг зашуршали шаги, зашелестели ветки – и буквально в десяти метрах от Самурая прошел беловолосый парень, который был шофером этого самого «БМВ». Он нес рюкзачок Самурая и сумку Македонского.
– Второго нет, – сказал негромко. В тишине леска Самурай отчетливо слышал каждое слово. – Но машина была не заперта. И я нашел его вещи.
Седой выпрямился с тревожным выражением лица. Он-то мгновенно понял, что это значит, а вот другие не успели: Самурай выдернул из подмышечных кобур свои «ТТ» и «макаров». Инструктор и незнакомец упали разом, шофер – спустя секунду.
Самурай постоял минуту, всматриваясь в зеленое, легкое шевеление ветвей. Тихо. Никого. Впрочем, сейчас он не думал об опасности.
Прошел через поляну, раздернул «молнию» мешка.
Так и есть. Мертвое, спокойное лицо с погасшими глазами. Стреляли в лоб… и Македонский спокойно принял пулю? Даже не побарахтался перед смертью? Или даже для него выстрел оказался внезапным? Ну, чтобы вот так завалить ликвидатора номер один… для этого самому надо быть не из последних! Похоже, сейчас Самурай невзначай прикончил матерых зверей!
Он обшарил карманы убитых. Документов никаких, разумеется. До оружия он не дотрагивался. Взял только деньги. В общей сложности набралось несколько тысяч рублей да около тысчонки «зелеными». Негусто, но пока хватит.
А теперь надо было решить, что делать с трупами. Можно представить, что начнется, когда после обнаружения убийства «кабана» найдут этих троих! Наверняка их личности будут установлены, а через них, конечно, выйдут на истинных заказчиков ликвидации «героя приватизации». Да и на здоровье, это теперь уже не волнует Самурая.
Возвращаться к «Фольксвагену» смысла не имело. Не стоит недооценивать таких противников. Скорее всего на той машинке уже никуда не уедешь, а вот полетать есть шанс…
Он пошел к «БМВ», но вернулся и еще раз склонился над черным мешком:
– Прощай, Саша. Спасибо тебе.
И задернул «молнию», словно надвинул крышку гроба.
Вообще-то он не знал имени ведущего. Но разве могут Македонского звать иначе, чем Александр?
Лёля. Июль, 1999
Во всяком случае, пока что можно было не очень бояться. Доктор ясно сказал: на восстановление организма после трех уколов нужно семь дней. Судя по всему, людям, похитившим Лёлю, кем бы они ни были, нужен именно восстановленный, то есть живой организм, и по крайней мере еще семь дней ее не будут убивать. А может быть, и потом не будут…
Секундочку. Но зачем ее похитили? В гарем к этому загадочному Хозяину, которого все называют как бы с большой буквы? Ну да, и не сразу в койку ему подложили, а дали время очухаться. Может, он по профессии нотариус и желает, чтобы наложница при совершении полового акта находилась в здравом уме и твердой памяти? А может, просто обожает вести интеллектуальные игры вперемежку с любовными?
Нет, гарем, пожалуй, не проходит, в гарем могут похитить только Иден в «Санта-Барбаре», потому что в нашей счастливой стране уже и похищать никого не надо: столько девок согласятся на это бесплатно и бесхлопотно, что никаких гаремов на них не напасешься!
Кстати, пока что сексуальный интерес к ней проявлял отнюдь не Хозяин… Лёля заставила себя не вспоминать пальцы, больно защемившие сосок, ощущение «резинового» предмета в ладони. Сразу стало тошно, страшно, слезы подступили к глазам…
Не думай о всякой ерунде! О деле думай!
Итак, здесь не гарем. Похищена ради выкупа? Тогда у похитителей клиническая идиотия, если они не способны элементарно просчитывать свою выгоду. Даже если ее родители продадут квартиру, дом в деревне, мамины любимые картины, папин любимый ноутбук и вдобавок все с себя, они вряд ли наскребут больше сорока тысяч долларов. Это не сумма для серьезных людей! А учитывая, что после 17 августа продавцов по стране стало на порядок больше, чем покупателей, и денег у людей вообще нет, сумма скорее всего уменьшится раза в три: продавать-то придется срочно, не торгуясь! Вообще слезы останутся…
Нет, эти несчастные тысячи здесь ни при чем: одна машина, в которую ее заталкивали похитители, дороже стоит. И достаточно открыть глаза, окинуть взглядом убранство этой «палаты», чтобы убедиться: здесь обитают не самые бедные люди. И не без фантазии! Этот пошлый подвесной потолок отнюдь не дешевка синтетическая, и стены обиты не какими-нибудь моющимися панелями, а чем-то до боли напоминающим натуральный шелк цвета топленого молока с золотистой искоркой, затканный нежно-зелеными розочками. Потрясающе красиво! Мебель… Такой мебели даже в салоне «Камея» не увидишь. Великолепное светлое дерево, изысканные кресла, столик на колесиках, комод, платяной шкаф. Обивка кресел нежно-зеленая, а розочки золотистые. В стену вмонтирован телевизионный экран полтора на полтора, не меньше. Одуренная обстановка. Такой богатый Хозяин, старательно убеждала себя Лёля, вряд ли станет гоняться за той жалкой данью, которую смогут уплатить ее несчастные родители – даже если вывернутся наизнанку. Она не вынесет мысли, что станет причиной разорения семьи! Отец и мама всю жизнь трудятся как проклятые над своими книжками. Книжек море, денег – капля. Неблагодарный труд! Конечно, по сравнению с очень и очень многими Нечаевы живут, можно сказать, прилично, но какой ценой это достается? Они света белого не видят, отец вон досиделся за письменным столом до того, что врач силком выгнал его в деревню, на свежий воздух, не велев показываться в городе до заморозков. Мама, когда Лёля начинает ворчать по поводу приобретения очередной картины, отмахивается: «Да брось ты, не заводись, знаешь ведь, что нам с папой по морям-горам-пейзажам разъезжать совершенно некогда, работать надо, договор жмет, а тут посмотришь на картинку-маринку – и будто на морском берегу окажешься!»
Нет-нет, наверное, у похитителей имеются другие планы насчет Лёли, они, уж конечно, работают по-крупному!
Но если так, в чем все-таки причина похищения? Лёлю украли конкуренты того московского издательства, для которого горбатятся родители, чтобы шантажом заставить их прекратить работу над энциклопедией? Чепуха чепуховская!
Мелькнула мысль… Нет, даже и думать не хочется, будто это может быть как-то связано с Дмитрием! Тем более что за Лёлину жизнь у него и обрывка спасательного троса не выторгуешь. И вообще, быть ему чем-то обязанной… Лучше уж в гарем!
Лёля села, опираясь на руки, сцепив зубы и старательно унимая головокружение. Всего лишь от вида термосов, стоящих на столике около кровати, сразу затошнило, но, делая судорожные глотательные движения, она заставила себя открыть одну, другую, третью крышку. Обязательно надо поесть, и совсем не потому, что доктор чем-то там пригрозил, а просто иначе ее так и будет выворачивать желчью до бесконечности. И еда – это силы, а силы нужны: чтобы думать, чтобы действовать. Итак, что у нас на обед (завтрак, ужин)? Куриный бульон, рисовая каша и компот. Диетическое питание? Простенько, но со вкусом… правда, очень вкусно. Прямо-таки волчий аппетит вдруг проснулся, такое ощущение, будто трое суток не ела!
А что, очень может быть, неизвестно ведь, сколько времени ее сюда везли. Спасибо хоть помыли после долгой дороги, хороша же она была, наверное, а теперь волосы мягкие, пушистые, как после дорогого шампуня, вот только непричесанные…
Лёля сцепила зубы, пытаясь не думать, кто ее мыл и что при этом могло происходить с бесчувственным телом. А почему, впрочем, надо думать только о плохом? Вдруг здесь есть женщины для таких услуг? Наверняка: женщин вообще больше, чем мужчин, они есть везде, значит, и здесь.
И все-таки от неприятных картин, возникших в воображении, яблочный компот словно бы прокис. Ну и ладно, хватит, она и так умолотила уйму всякой еды. Тошнота, слава богу, прошла бесследно, и головокружение прекратилось, однако никакого особенного прилива сил Лёля не ощутила. Напротив, тело налилось приятной, расслабляющей тяжестью. Еще бы, столько съесть – наверняка отяжелеешь! И тут она вспомнила, что забыла выпить хлористый кальций. Пить или не пить, вот в чем вопрос? Все-таки полезное лекарство, очищает кровь. А, пожалуй, следует очиститься, неизвестно ведь, что ей там кололи, в машине-то!
Однако стоило представить горький, отвратительно-солоноватый вкус CaCl (недаром его советуют запивать молоком!), как Лёлю перекосило. Ну, ничего, она его столько выпила в детстве, под неусыпным надзором тети Светы (царство ей небесное!), что кровь очистила на много лет вперед. Но чтобы не осложнять и без того сложную здешнюю жизнь, Лёля аккуратно отмерила столовую ложку лекарства и вылила его в термос, где на донышке еще плескался куриный бульон. Надо думать, они здесь моют посуду после еды!
И вдруг Лёля почувствовала, что страшно устала от этих незамысловатых действий. Откинулась на подушку, не в силах и пальцем шевельнуть. Мало сказать, что неудержимо потянуло в сон: тело ее уже спало и не подчинялось слабо бодрствующему рассудку. Но и над ним Лёля была уже не властна. Мысли словно бы отделились от нее, жили своей вялой, но вполне самостоятельной жизнью, и уж теперь-то Лёля ничего не могла с ними поделать. Как ни хотела она вспоминать, а все же пришлось…
Дмитрий. Весна – лето, 1999
Уж, казалось бы, он всякого навидался за те несколько месяцев, когда, уйдя из пожарной охраны, стал работать в спасательном отряде!
Но почему-то никак не мог забыть ту аварию неподалеку от Подновья. Кабина «Газели» была буквально разрублена пополам. Двигатель вылетел на обочину, а правая дверца вывалилась вместе со стойкой и рухнула метрах в пяти от груды искореженного металла. Кабина напоминала смятую консервную банку, а сидящего посредине пассажира зажало так, что без помощи спасателей его шансы на жизнь были равны нулю.
Этим самым пассажиром был мальчик лет шести. Он не кричал, не бился, не звал маму. Да мама и не откликнулась бы: лежала на обочине, и то, что осталось от ее головы, было прикрыто мокрой от крови и беспрерывного дождя курткой. Мальчик об этом не знал и вряд ли понимал, что произошло. Он просто сидел, чуть закинув голову и глядя на спасателей темными, остановившимися глазами, изредка смаргивая дождевые капли. Может быть, его ранило, однако узнать об этом не было возможности: на вопросы мальчик не отвечал, только тяжело, хрипло дышал – так дышат не дети, а старики… Он был весь в крови, но это могла быть и кровь матери. Тяжелый шок, в котором находился мальчик, пугал, конечно, но, с другой стороны, спасателям было чуть легче: слушать крики ребенка, которому невозможно помочь, просто невыносимо…
Гидравлика вся была наготове, и руки чесались делать дело, но не тут-то было! Стоило прикоснуться к металлическим частям полуторки, как начинало нещадно бить током. Коротила поврежденная мачта городского освещения, в которую врезалась «Газель». Похоже, именно от удара током, а не от чего-то другого никак не мог прийти в себя водитель, которого вышвырнуло из машины. Ничего, кроме ушибов и ссадин, на его теле врач не нашел, однако парень оставался без сознания. Ну что ж, беспамятство и для него пока что спасение. Каково ему будет, когда очнется и узнает, что жена погибла, а сын… правда, сын был еще жив.
Связались по рации с аварийными службами, однако Дмитрий уже замучился слушать, как Разумихин пререкается с ними. Там кто-то никак не мог уразуметь, почему, если нужно всего-навсего оттащить одну машину от одной мачты, следует отключать весь район. А ведь там рядом областная больница. Как ее отключить? Вон сколько по телевизору ругались, когда во время недавнего перебоя с энергоснабжением где-то в Сибири погиб человек из-за остановки системы жизнеобеспечения. А в операционной вручную приводили в действие какие-то там аппараты! Нет, диспетчер не может взять на себя такую ответственность. Надо решать в высшей инстанции…
Дмитрий, который как часовой ходил вокруг «Газели», посмотрел на мальчика. В свете фонарей лицо его казалось неестественно бледным. Слабо моргнул, с трудом облизнул мокрые от дождя губы. Дышит все тише, все реже…
Разумихин предлагал выдернуть мачту тягачом, но при более подробном рассмотрении оказалось, что вся эта конструкция могла сдвинуться с места только целиком: мачта – «Газель» – ребенок. И если сейчас он относительно защищен вздыбленными сиденьями, то при малейшем неудачном маневре мачта пробьет ему голову.
Дмитрий задумчиво взглянул на нечто, бывшее раньше подножкой. Плевое дело – заскочить туда, перепрыгнув через нелепо изогнувшийся борт! Он уже перескакивал. Схватился за какую-то железяку, пытаясь удержать равновесие, и тут же получил такой разряд, что кубарем покатился на землю. Шибануло даже сквозь защитную одежду! Если бы хоть не дождь…
– Юра, – подергал за рукав Разумихина, – я ведь в прошлый раз больше от неожиданности сорвался. Теперь знаю, что меня ждет. И если у меня в руках будет какой-нибудь деревянный крюк – сучок, например, подходящий, чтоб не руками цепляться за дверцу, а этим изолятором… Я возьму резиновый коврик и попытаюсь ребенку голову прикрыть, чтобы металл его ни в коем случае не коснулся. Но это просто для страховки. Я смогу, смогу разжать кабину и вытащить мальчишку!
– Если только сначала не угробишь его к чертовой матери, – угрюмо ответил Разумихин. – Я тебе еще скажу все, что думаю про тот первый прыжок! Это чудо, что от толчка мальчика еще сильнее не зажало. Погляди только, как мачта висит. Она же прямо над его головой. Малейшее движение…
Затрещала рация.
– Да, я, – устало ответил Разумихин, но тотчас его голос оживился: – Нам хватит, хватит пяти минут! Давайте, мы готовы! – И громко: – Сейчас отключат электричество на пять минут! Ребята, ну!..
Дмитрий схватил резак и подбежал почти вплотную к «Газели», напряженно всматриваясь в цепочку огней, протянувшуюся по шоссе.
Раз! – огни вдруг погасли, но этого никто не заметил: просто фары автобуса и аварийные фонари засветились еще ярче.
Он шагнул на подножку. Как все просто, оказывается. Давно бы так!
– Привет, – сказал, встречаясь взглядом с мальчиком. – Сейчас мы тебя вытащим отсюда.
Ребенок внимательно смотрел на него блестящими глазами. «Бедняга, да он и не понимает, что я говорю! Ладно, уже чуть-чуть осталось».
Мощные зубья гидравлического резака без усилий раздвинули смятую кабину.
– Достанешь теперь? Или еще подрезать? – спросил Молодец, стоявший наготове с другим резаком.
– Достану!
Дмитрий осторожно взял мальчика за плечи, потянул:
– Вот и все. Хватит тебе мокнуть!
И осекся, когда из глаз ребенка вылилась дождевая вода, в которой радостно играли блики света, и они стали темными, непроглядными… неживыми.
Погибшего мальчишку (Сережа Капитонов, шесть лет) и вспомнил первым делом Дмитрий, когда вертлявенькая медсестричка объяснила ему, как и почему Лёлины анализы оказались в Центре крови.
Лёля. Весна – лето, 1999
Ее трудно обвинять в том, что так старалась упрятать воспоминания на самое донышко сознания. Она же не мазохистка, в конце концов, а эти мысли непрестанно ранили память, как ржавое лезвие. Мало того, что больно, так еще и заражают смертной тоской по тому, что быть могло, да не сбылось! И что, разве только она в этом виновата?!
…Раньше Лёля с самого начала чувствовала, что очередной романчик или «дружба» долго не протянет. Ну в самом деле: не может ничем серьезным кончиться то, что началось с банального приглашения потанцевать или с никчемушной болтовни, пока она выбивала очередному покупателю очередную накладную, или с пошловатого знакомства на вечеринке. Та единственная встреча, которая перевернет ее жизнь, должна быть чем-то из ряда вон!
Ну что же, тут Лёля оказалась права. Встречи с Дмитрием, что первая, что вторая (особенно вторая!), оказались из ряда вон, они перевернули Лёлину жизнь… и тем не менее это оказались «бесплодные усилия любви». Ее, конкретно ее, Лёлиной любви, потому что этот киногерой, супермен и суперлюбовник, этот «спасатель от бога», человек, вернувший ее к жизни и разбивший ее жизнь, ни разу не сказал, что любит ее.
Как-то так получалось, что он в основном молчал, а обрамляла словесными узорами их встречи, поцелуи и объятия она, Лёля. Конечно, настоящий мужчина и должен быть немногословен, но не до такой же степени! При этом Дмитрий вовсе не был дураком, который молчанием ловко маскирует скудоумие. Лёля ощущала, что в нем шел постоянный напряженный мыслительный процесс, имевший, как позднее выяснилось, весьма отдаленное отношение к ней. А она-то поначалу чувствовала себя объектом какого-то психо-физико-химико-ментального обследования. Казалось, Дмитрий взвешивал каждое ее слово на незримых весах, примерял к невидимому эталону. Она это ощущала всем существом и, вместо того чтобы обидеться, радовалась, дуреха, ужасно волновалась и даже мучилась по этому поводу: соответствует или нет, мечтала, конечно, соответствовать… Потом как-то вдруг Лёле показалось, что стандарты Дмитрия здорово напоминают легендарное прокрустово ложе, в которое она никак не умещается, а потому ее ненаглядный всерьез озабочен, как быть: отрубить ли возлюбленной головенку или ножонки поотсечь? Это ее потрясло, обидело… но оказалось просто ничем по сравнению с потрясением и обидой от нового открытия: какое прокрустово ложе, какое обследование, какой эталон? Да ведь большую часть того времени, которое Дмитрий проводит с Лёлей, его сознание занято чем-то совершенно иным! Не имеющим никакого отношения к любви и будущей семейной жизни, на которую она так надеялась и о которой так мечтала!
Да, она хотела быть его женой. Очень хорошей, самой лучшей – чтобы по сравнению с ее стряпней все прочие блюда казались мужу безвкусными, а по сравнению с уютом в ее квартире все остальные дома казались бы трущобами. При этом, конечно, она хотела оставаться не полотером и судомойкой, а очаровательной, нежной любовницей и сердечным другом своего мужа. У него не возникнет и мысли о других женщинах, потому что Лёля заменит ему все и всех. А как ее будут любить дети! Лёля не хотела бы много детей, двух вполне достаточно: мальчика и девочку. Но это будут самые счастливые дети на свете, которые станут вспоминать родительский дом со слезами счастья и умиления. Точно так же дом своей бабушки будут вспоминать и внуки, потому что когда-нибудь Лёля предполагала сделаться лучшей на свете бабушкой.
Дожив до двадцати пяти лет, она уже твердо знала, что больше всего на свете хочет любить свою собственную семью. Конечно, для мамы с папой она свет в окошке, но гораздо чаще этот свет им заменяет электролампочка непрерывной работы. Они живут, чем дольше, тем больше, ради своих книг. А что дочь уже выросла – какие проблемы?
Раньше Лёля часто сетовала, что одна в семье, ей не хватало братьев и сестер. У мамы при этом делалось нежное, смущенное лицо, она виновато кивала каким-то своим воспоминаниям – может быть, тем самым нерожденным Лёлиным братьям и сестрам, – но вдруг глаза ее вспыхивали, брови взлетали:
– Да ты что? Еще детей? Но тогда я не написала бы то… и то… и это! Нет! В жизни всегда происходит только то, что должно произойти!
И, наскоро чмокнув своего взрослого ребенка, мама взлетала с дивана, на котором они только что так уютно, так чудно, так семейно посиживали в обнимку:
– Ну ладно, моя радость, я совсем забыла, что мне еще надо поработать над библиографией!
Так вот, Лёля для себя решила: в ее жизни не будет никаких библиографий. Никакой научной работы, никакой служебной карьеры! Она любит книжки больше всего на свете, но не намерена похоронить себя заживо в библиотечной гробовой тишине или под лавиной графоманских рукописей в каком-нибудь издательстве. Она обожает детей, однако вовсе не намерена разрываться на части ради тридцати короедов, которым вообще плевать с высокой башни как на древнюю и древнейшую, так и на новую и новейшую историю. Конечно, если ее будущий муж окажется человеком состоятельным, Лёля с удовольствием сунет в долгий ящик свою трудовую книжку. Если нет – что ж, она будет необременительно работать в книготорговой фирме и воспитывать двух своих детей. И овцы сыты, и волки целы. Семья как цель жизни и вершина карьеры – чем это плохо?
Да вот, плохо, оказывается… Сначала плохо было то, что никак не появлялась подходящая кандидатура. Лёля хотела впервые лечь в постель с мужчиной только по страстной и смертельной любви, она не желала набираться сексуального опыта в постелях, которые скоро придется забыть. Сейчас столько книжек и даже фильмов на эту тему! Если плоть не ставит вопрос ребром, к чему торопить события?
Лёлина плоть вопросов ребром не ставила: с интересом воспринимала теорию, и если мечтала о практике, то требовала, чтобы на первом же практическом занятии уже присутствовало надетое на безымянный палец тоненькое золотое колечко.
Образ грядущего супруга вполне четко нарисовался к тому времени в Лёлином сознании. То есть без прокрустова ложа и здесь не обошлось… Однако она не была такой уж пуристкой, и если, к примеру, Дмитрий оказался не ярким блондином, как в мечтах, а темно-русым шатеном, то Лёля не собиралась бежать в магазин за «Лондой ь 217»! Она полюбила его таким, каким он был, с этими холодноватыми глазами и крутым изломом светлых бровей, ямочкой на подбородке и с этими темно-русыми волосами. Она сразу приняла его в сердце, с восторгом оценив достоинства и крепко зажмурившись на возможные недостатки. А он… а Дмитрий… Для Дмитрия ее просто не существовало!
Наверное, Лёля сама была виновата. Если заливаешь человека куботоннами любви, он рано или поздно захлебывается и пытается выбраться на сухое местечко, чтобы передохнуть, обсохнуть и дать себе слово впредь быть осторожнее. Таким островком безопасности для Дмитрия была работа. Очень смешно: спасатель пытается спастись от той, кого он спас! И еще смешнее – типичный конфликт совковых «любовных» романов: она тянет его в мещанское бытовое болото, а его чувство долга не позволяет оставаться в стороне от насущных проблем современности. Нет, правда, неужели этих проблем так много?! Неужели и впрямь в этом несчастном Нижнем Новгороде непрестанно что-нибудь горело, взрывалось, тонуло, опрокидывалось, сходило с рельсов, проваливалось под лед, замыкало, отключалось, наезжало, рушилось? Неужели кого-то постоянно уносило на льдине, кто-то блуждал в лесу, падал с балкона, застревал в лифте, баловался со спичками и горючими веществами, управлял автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии? Создавалось впечатление, будто город жил только бедами, и единственный, кому эти чужие беды удавалось руками развести, был аварийно-спасательный отряд МЧС, а состоял он, казалось Лёле, из одного человека – Дмитрия Майорова.
Мало того, что у него были дежурства, когда каждое ЧС было его личным делом. Лёле чудилось, он не пропускает ни одной аварии, нарочно уговорив свое начальство, чтобы оно вызывало его при самомалейшей тревоге. Пейджер на ремне его джинсов мог заверещать в любое время дня и ночи, и не было случая, чтобы Дмитрий тут же не прервал всякое дело (вся-ко-е!) и не кинулся к телефону, а то и прямиком к указанному в сообщении месту. Хорошо, что Лёля не подсчитывала свидания, которые были отменены. Эта цифра могла бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса! И спасибо еще, если Дмитрий давал себе труд предупреждать об их отмене, – чаще Лёля безнадежно топталась на улице, стуча зубами от холода и злости. Потом, когда родители уехали в деревню, она хотя бы не позорилась на людях, но как дурочка торчала то у окна, то возле «глазка» у себя дома. Как в клетке, как в западне!
Нет, сначала Лёлю это даже умиляло. Она считала своего возлюбленного существом высшего порядка, спасателем от бога! Потом случайно посмотрела знаменитый некогда фильм «Лоуренс Аравийский» – и поразилась сходству главного героя с Дмитрием. Чудовищно тщеславный тип, этакий любитель произвести сногсшибательное впечатление! Ведь Лоуренс все свои невероятные подвиги совершал, чтобы возвыситься над толпой, продемонстрировать, какой он вообще, в натуре, так сказать сверхчеловек. Добро бы еще желал славы, почестей или богатства. Нет, он ловил кайф в непрестанном самоутверждении и самолюбовании. Вот и Дмитрий был таким же.
Из всех телепередач Дмитрий выбирал только выпуски теленовостей, потому что там довольно часто мелькали сообщения о всяческих ЧС. Надо было видеть, как загорались в эти минуты его глаза!
«Кажется, он жалеет, что сидит (лежит) сейчас здесь, со мной, на диване, а не лезет вниз головой в какую-то немыслимую дыру с этим своим «Лукасом»!» – печально думала Лёля, которая к тому времени уже поднаторела немножко в терминологии, говорила коротко – ЧС вместо длинного «чрезвычайная ситуация» – и знала, что «Лукас» – это новая, продвинутая модель гидравлического резака, чуть ли не первейшего орудия спасателей: он кабель в руку толщиной разрежет, будто батон колбасы, покореженную крышу автомобиля вскроет, словно консервную банку, а при необходимости и бетонную плиту поднимет, уподобившись домкрату…
И вот однажды сидели (лежали) они с Дмитрием перед телевизором и смотрели во «Времени» сюжет про космонавта-2, ожидая известия об очередном ЧС. И Лёля сказала:
– Вот несправедливость, а? Ведь он совершил такой же подвиг, как Гагарин. Однако имя того до сих пор гремит, а про этого словно бы забыли уже на другой день после полета.
А Дмитрий буркнул в ответ:
– Помнят всегда первых. Второй может быть и лучше, и храбрее, но… он второй. Хочу быть первым!
И что? Лоуренс Аравийский рассуждал иначе?
Лёля пыталась рассуждать здраво. Конечно, профессия не могла не наложить отпечаток на характер Дмитрия. Беспрестанно видя беспомощных людей, чьи жизни иногда в буквальном смысле находятся в его руках, он волей-неволей проникся сознанием исключительности своего дела. Он начал ощущать себя (ну и еще горстку немногих, таких же, как он) избранным, а труд свой – отмеченным печатью особого благородства… Ну и всякое такое. Но однажды Лёля видела по телевизору короткое интервью с одним из лучших друзей Дмитрия – Юрием Разумихиным. Она смутно помнила этого человека, которого видела во дворе разрушенного Светиного дома. Тогда он был хмурым, озабоченным, а теперь улыбался в камеру и говорил хорошие слова. На вопрос: «Какое главное качество спасателя?» – ответил: «По-моему, доброта».
Лёлина мама, на минутку повернувшись к телевизору от компьютера, умиленно вздохнула: она вообще была необычайно чувствительна к этаким правильным словам. А Лёле стоило немалого труда не фыркнуть возмущенно. Вот оно, значит, как? Доброта, да? Но почему же она у Дмитрия распространяется только на заваленных обломками взрыва, застрявших в искореженном автомобиле, унесенных ветром на льдине… на худой конец, торчащих в проломе на высоте пятого этажа? Что, ей вечно оказываться во всяких передрягах, чтобы Дмитрий был добр к ней, к своей… ну, скажем так, подруге, – а не только к посторонним, попавшим в беду? Похоже, Лёлина беда – внешнее благополучие! Не обзавестись ли ей для разнообразия инвалидной коляской или, по крайности, парой костылей?..
А потом Лёля поняла, что с Дмитрием дела обстоят еще хуже, чем ей казалось. Она тогда в очередной раз прождала его попусту, а через день, когда он появился как ни в чем не бывало, сорвалась и наговорила… всякого такого. Она вообще вдруг стала в последнее время нервозной, злой, напряженной. Весна, что ли, так действовала?
«Весна, весна, пора любви…», она была, бедняга, тут ни при чем, однако Лёля этого пока еще не знала.
Сорвалась она, короче говоря. Дмитрий слушал, слушал, досадливо морщась, когда Лёля ударялась в слезы, а потом вдруг сказал, как бы даже невпопад:
– Легче всего на ЧС. Ты точно знаешь, что надо делать. Весь этот макияж жизни как бы смывается. Слетает всякая шелуха, и остается только истинное. И эта истина сама диктует тебе, как поступать.
Легче всего на ЧС… Как вам это понравится, люди добрые? Дмитрий, получается, ловит кайф от чужих страданий? Итак, правы психологи – в каждом деле существует профессиональная аморальность? Продавцы готовы отравить покупателей, врачи – зарезать пациентов, милиция иногда безжалостней преступников, а спасатели жаждут аварий, потому что в этом катарсисе рождается некая истина?
Конечно, это были только слова, и вывернуть их наизнанку могла только обиженная женщина, которая физически чувствует, как ее счастье утекает меж пальцев. Будто вода, будто песок! И нет никакой возможности его удержать. Или… есть?
Честно говоря, когда Лёля поняла, что беременна, у нее не возникло никаких высоких и светлых мыслей на тему, что вот, мол, и начинают сбываться мечты о двух детях, которые когда-нибудь станут вспоминать родительский дом как счастливейшее место на земле. Она не обрадовалась, не огорчилась, не испугалась. Она только подумала, что теперь-то уж у нее есть средство привязать к себе Дмитрия!
Держи карман шире…
Самурай. Лето, 1997
Самым страшным было то, что сказал Македонский о семье. Оказывается, о ней в «Нимб ЛТД» давно известно! Значит, в любую минуту туда может отправиться группа. Да и группа не понадобится – один человек справится вполне.
И все-таки Самурай считал, что у него есть шанс. Он цеплялся, как за соломинку, опять же за слова Македонского: мол, если он даст себя прикончить, не тронут его дочь. О том, что Самурай прикончить себя не дал, еще никто не знает. Какая-то фора у него есть. В любом случае, даже если прямо сейчас кто-то окажется на поляне и поймет, что произошло, еще понадобится время на принятие решения. А он свое уже принял. Более того – приступил к его исполнению.
Он мчался по Владимирке. Москва с каждой минутой все невозвратнее улетала в прошлое. Ноги его больше здесь не будет. Все, хватит с него больших городов! Вот только заберет своих…
Но, как ни гнал Самурай, все-таки около полутора часов ушло на дорогу. Один раз остановился: заправлял машину и сам поел, а то силы вдруг кончились. Это до него дошло наконец случившееся во всей своей красе. Обнаружил, что он теперь – заяц, гонимый сразу тремя сворами собак: государством, как убивец великого человека, заказчиками, как использованный инструмент, и собственной конторой – как отработанный материал. И вот этой третьей своры он, пожалуй, боялся больше всего…
Ну что же, пока ему везло. Настолько, что даже посты на дороге его не задерживали за превышение скорости. И тут Самурай вспомнил, как они сегодня утром летели в Москву – по другой дороге, но с гораздо большей скоростью. Молодец он все-таки, что рискнул – и присвоил этот «БМВ». Очевидно, прошла установка: не трогать белый «БМВ» с таким-то номером ни при каких обстоятельствах. Пожалуй, через совсем малое время пройдет другая установка, и автомобиль превратится в мишень. Тем более надо спешить. Тем более надо от него избавиться! Сменить на другой.
Вообще-то, в городе, где жила его семья, у Самурая была машина. На радость своим пацанам, он полгода назад купил «волжанку». Подержанную, правда: опять-таки чтобы не светиться, – но на хорошем ходу. Всякий раз, когда появлялся дома, возился с ней, следя, чтобы работала как часы. Ничего, иногда и «Волгу» можно до ума довести, если кое-что в ней подтянуть, кое-что отрегулировать, а кое-что и вообще поменять. Так что на первый случай транспорт есть. Но и его придется сменить. Теперь он предполагал самое худшее: если известно о семье, значит, и о машине известно. И номер ее – тоже не секрет. Вот о чем следовало бы позаботиться, так это о запасном номере. Не позаботился… ладно, что-нибудь придумает. Может быть, вывезя семью из дома, прямо сразу купит другую машину. Нынче это дело плевое, оформляется все мгновенно.
Ну, слава богу, впереди замаячили церковные купола на въезде в городок. Он добрался! Теперь предстояло проехать к вокзалу, а уж там, в слободке…
Время так и жгло уходящими секундами, будто огненными искрами, а все же пришлось принять меры предосторожности: Самурай оставил «БМВ» на привокзальной площади. Правда, все же забрал из багажника оставшуюся от прежних владельцев сумку. Не потому, что предчувствовал, будто ее содержимое может пригодиться. Просто как профессионал не мог допустить, чтобы такие ценности валялись бесхозно и достались первому же воришке, который обнаглеет настолько, что залезет в «ничейный» «БМВ».
Потом Самурай проехал одну остановку на автобусе и двинулся к дому пешком.
Он редко здесь бывал и мало общался с соседями, а потому шел себе и шел, не глядя по сторонам и ни с кем не здороваясь. Главное, по теплому вечернему времени народу в палисадниках и на улице было немало. Плохо. Тем более все они пялились на Самурая, как на негра какого-нибудь, если бы тот вздумал прокатиться по улице на оленьей упряжке. Надо было пройти какую-то сотню метров, а Самурай весь взмок от этих взглядов. Люди подходили к заборам, останавливались, провожали его взглядами, болтающие бабенки умолкали, завидев его… Матери уводили с улицы детей.
Вдруг стало жутко. Самурай замедлил шаги, бросая по сторонам затравленные взгляды.
Что-то случилось. Точно, случилось! Но что?
Вспомнил старый, любимый в юности роман Рея Брэдбери «451° по Фаренгейту». Человек бежит, спасая свою жизнь, по улице маленького городка, и вдруг, повинуясь команде полиции, все жители подходят к окнам, распахивают двери: все сразу, одновременно, – беглец обнаружен…
Что произошло? Он ужаснулся: а если все про него все узнали? Если на нем кровь?.. Но дурь мгновенно прошла: откуда, он ведь не леди Макбет какая-нибудь!
А вдруг?.. И бросился бежать, даже не дав себе труда оформить это жуткое «вдруг» связными мыслями. Толклись в мозгу кошмарные картины: про то, как его опередили, как уже побывали здесь – и все теперь знают, что увидит он, распахнув дверь в небольшой зеленый домик с мезонином, с веселым резным кружевом под крышей и нарядными белыми наличниками. Или, что еще страшнее, дверь уже будет распахнута настежь…
Да нет, этого не может быть, его никто не мог бы опередить, просто не успели бы!
Дверь была заперта, и на миг отлегло от сердца. А еще через миг Самурай увидел, что она не просто заперта: забита крест-накрест досками. И окна были точно так же забиты.
Дом стоял пустой.
Самурая опередила судьба.
Лёля. Май, 1999
Потом Лёле казалось, будто она с самого начала чувствовала, чем это кончится. Но если чувствовала, зачем доводила дело до таких крайностей? Ведь о колечке и всем таком прочем и речи не было, когда Лёля спокойно и радостно, без малейших комплексов, забыв обо всем на свете, кроме любви, предалась с Дмитрием этой самой любви. Новые ощущения оказались ошеломляющими; единственное, о чем можно было жалеть, так это о том, что она не встретилась с Дмитрием раньше. Вот только забыла Лёля, что эта встреча была оплачена чужим горем. Тетя Света погибла при том взрыве, да еще сколько людей! А сколько без крова осталось? А ты думала, ускользнешь от этой черной тени по веревке, надежно пристегнутая карабином, оберегаемая кольцом рук Дмитрия? Руки разжались, карабин отстегнулся, веревка лопнула!
Вершиной всего стал тот дождливый вечер.
Лёля тогда как раз побывала в женской консультации, и сомнений относительно своего положения у нее не осталось. Она только очень удивилась, узнав, что срок уже шесть недель.
Докторша посмотрела на нее чуть ли не с отвращением:
– Вы что, женщина, смеетесь? Не заметили, что у вас такая большая задержка? И как насчет токсикоза первых трех месяцев? Неужели ничего не чувствовали или просто решили, будто что-то не то съели?
– Да у меня вообще цикл неравномерный, – пробормотала Лёля, неуклюже слезая с жуткого холодного кресла. – А токсикоз… это когда тошнит, что ли? Так ведь меня и не тошнило ничуточки. А может, этот вовсе и не бере… не беременность совсем?
Докторша, вскинув брови, переглянулась с пожилой медсестрой, и та невежливо фыркнула. Врач потянула из стопки листок с больничным штампом:
– Сейчас я вам выпишу направление, сдадите до часу дня кровь в пятом кабинете, а завтра с семи до девяти принесете мочу. И в том же кабинете запишетесь на аборт. Не повезло вам, женщина: в нашем роддоме на Варварке ремонт, придется ехать аж в Сормово! А вот не тянули бы так, пришли бы на две недельки пораньше – и успели бы на вакуумный аборт. Его прямо здесь, в консультации, делают, в течение дня. Но это только тем, у кого до четырех недель.
– Погодите, – перебила Лёля, выходя из-за шторки уже одетая. – Мне не надо направления.
– Почему? – удивилась докторша.
– Ну, не знаю, – в свою очередь удивилась Лёля. – А зачем оно мне?
– Так на аборт… – начала было докторша и вдруг нахмурилась: – Вы что, рожать будете?
– Ну да, – засмеялась Лёля. – Я же и говорю: зачем мне направление?
Пожилая медсестра разулыбалась и, вытащив из стола большую, сплошь разграфленную бумажищу, начала переписывать в нее данные из Лёлиной медицинской книжки. «Карта беременности» – успела прочитать Лёля вверху бумажищи и неловко улыбнулась докторше.
Однако та смотрела недоверчиво:
– Что, действительно будете рожать? Но ведь вы, кажется, не замужем?
«А ваше какое дело?» – чуть не выкрикнула Лёля, но только плечами пожала:
– Значит, теперь выйду замуж, только и всего.
– За отца ребенка? – сочла необходимым уточнить докторша.
– Естественно! – прошипела Лёля, негодуя, почему эта тетка с тугими фиолетовыми кудряшками так скептически взирает на нее?
Похоже, даже медсестре стало неловко от холодности к будущей мамаше, и она затараторила, пытаясь смягчить ситуацию:
– А что такого, Розалия Даниловна? Я вон тоже, когда первого своего носила, по молодой дурости не знала, что со мной, пока живот не пророс. И не тошнило меня, ела за двоих. Если не тошнит, это почти наверняка мальчик. Девочки – они капризули, вот и привередничают в животе, а мамаша нос от всего воротит…
«Ой, а я так хотела девочку!» – чуть не брякнула Лёля, а потом подумала, что все эти приметы – чепуха: вон мама рассказывала, что, когда ходила с Лёлей, тоже никакого токсикоза не было.
А докторша так и не сменила гнев на милость, и неприязнь, застывшая в ее карих, навыкате глазах, сильно испортила Лёле настроение.
Нет, с Дмитрием должно все уладиться! Одно дело – небрежничать с подружкой, любовницей, строго говоря, но совсем другое… «Часто мужчины нас любят нестрогими, в жены лишь строгих хотят» – это же золотые, даже платиновые слова! Вот смешно, если ледышка и недотрога Лёля сама от себя оттолкнула Дмитрия как раз тем, что пошла наперекор своим обычным принципам. Но когда понимаешь, что человек твой, ну совсем твой, единственный, для тебя предназначенный, хочется сразу отдать ему всю себя! Что Лёля и сделала, не подумав: а если для Дмитрия слова «отдала всю себя» звучат всего лишь как «дала» или «отдалась»?
Да ладно, теперь все позади, все эти недоразумения, теперь их любовь воплотилась в ребенке, и что бы там ни думал Дмитрий, скоро он спасибо скажет, что его затащили в семейное гнездышко, хотя бы и таким стандартным способом. А вдруг… а вдруг он просто обрадуется сразу?
Лёле представилось, как Дмитрий побледнеет, посмотрит на нее с восторгом… а потом будет сдувать пылинки и носить на руках. Может, и на колени перед ней упадет…
Она поморщилась: все это напоминало сцену из какого-то сериала. Ладно, пусть напоминает. Действительность все поставит на места!
Как ни храбрилась Лёля, ей было невыносимо страшно начать этот судьбоносный разговор. Да и возможности такой особенно не представлялось: Дмитрий дважды не пришел на свидание. Ну, один раз хоть сподобился позвонить, а второй… Лёля ждала его, ждала, потом решила взять судьбу в свои руки и позвонила 30-30-30: в «Радугу-Поиск».
– Примите сообщение для абонента 2929, – сказала, чувствуя, что краснеет.
– Так, слушаю, – ответил равнодушный голос. – Чего замолчали, девушка, будете передавать?
– Дима… – с трудом выдавила Лёля и вдруг протараторила: – Дима, у меня неприятности, жду тебя сегодня в восемь дома, пожалуйста, обязательно приходи, это очень важно, Лёля.
– Ляля? – уточнила оператор «Радуги».
– Лёля! – взорвалась та. – Не Ляля, не Люля, а Лёля! Что, никогда такого имени не слышали?
– Нет, – откровенно призналась девушка и хихикнула. – Сообщение принято.
В трубке послышались гудки.
Лёля, стиснув зубы, с ненавистью посмотрела на свое отражение в китайском лакированном подносе, висевшем около холодильника. Она была в таком взвинченном состоянии, что сейчас все причиняло боль, и если не ранило, то чувствительно царапало. Да, не только эта девица знать не знала имени «Лёля»! Уж сколько раз в жизни она слышала это насмешливое уточнение: «Ляля? Люля?» Да и от Дмитрия тогда, на стене… Ну разве Лёля виновата, что мама в юные годы раз и навсегда пленилась фильмом «Добровольцы», где была такая черноглазая обаяшка Лёлька? Спасибо хоть в метрике записала красивое высокомерное имя «Ольга». Все-таки мама поняла, что Лёля Викторовна звучит по-идиотски. И вот вам результат: Ляля! Люля! Ай лю-ли, люля-кебаб…
Настроение испортилось, но Лёля все-таки заставила себя действовать. Она приготовила романтический ужин с салатом из крабовых палочек и кальмарами под майонезом, накрыла стол в большой комнате, поставила свечи и бутылку вкуснейшей дынной водки. Дмитрий, строго говоря, не пьет, а ей уже, наверное, нельзя, но ведь «Ледяная водка» – это не столько выпивка, сколько удовольствие. Подумаешь, двадцать четыре градуса!
Мысль о том, что ей чего-то «нельзя» из-за ребенка, не только исправила настроение, но и привела Лёлю в состояние тихой радости. Сразу же завертелись в голове всякие такие умилительные картины… а вообразив, как научная мама будет рассказывать внуку (а может, все-таки внучке?) мифы славянского язычества, Лёля просто-таки прослезилась от умиления. Нет, пусть будет сын, пусть опытная медсестра окажется права. Для мужчин почему-то много значит, если у них первым рождается сын. Вот придет Дмитрий к этим своим спасателям, скажет: «Мужики, моя ненаглядная Лёлька сына родила!..»
Подобной чепухой была занята Лёлина голова весь остаток дня, до восьми часов, когда, нарядившись, накрасившись, она оглядела сверкающую чистотой квартиру и глубоко вздохнула: сейчас, сейчас, сейчас он придет!
…Спустя час Лёля, нахмурившись, позвонила на базу АСО оперативному дежурному.
– Только что все уехали, – был ответ. – Вернулись с аварии на шоссе, сгрузили снаряжение и разъехались по домам.
От сердца отлегло. Понятно, почему он опять не позвонил, не предупредил. Вот сейчас, сейчас, сейчас раздастся звонок: или телефонный, или в дверь. Скорее всего Дмитрий появится не заезжая домой – усталый, сонный… на миг мелькнуло острое огорчение, что ему будет, пожалуй, не до романтического ужина, но тотчас Лёля улыбнулась: да у них теперь таких ужинов будет несчетное количество! Хоть всю жизнь ежевечерне возжигай свечи и готовь кальмары под майонезом!
Однако время шло, а в дверь никто не звонил. Лёля сидела на диване, теребя кружево длинной бирюзовой блузы, которую купила сегодня – нарочно, чтобы выглядеть неотразимой, – и, как адвокат перед лицом суровых присяжных, с самого начала настроенных на вынесение смертного приговора, изобретала все новые и новые доводы в пользу своего подзащитного: поехал домой переодеться, но транспорт ходит плохо, дождь, поздно, ни такси, ни «чайника»; Дмитрий начал гладить парадную рубашку, но прожег ее утюгом, а больше нечего надеть; в ванной намылил голову, а в эту минуту отключили воду; он звонил Лёле, но к ее телефону подключились какие-то паразиты, номер был беспрерывно занят, Дмитрий обиделся и решил не приходить…
Присяжные зевнули и сочли, что речь адвоката затянулась. Пора выносить приговор!
Лёля метнулась к телефону и порывисто набрала номер. Черт, почему она так долго колебалась, прежде чем сама решилась ему позвонить? Дмитрий, правда, просил этого не делать – разве только в самом экстренном случае. У него были какие-то сложные отношения с квартирной хозяйкой. Ничего, переживет. Сейчас как раз такой случай!
Гудок… другой, третий… пятый и шестой. Никого нет дома, что ли?
Наконец-то!
– Але? – сонный, недовольный женский голос.
– Ради бога, извините, – забормотала Лёля, вытирая слезы, которые терпели-терпели, да вдруг, в самый неподходящий момент, хлынули ручьем. – Пожалуйста, простите, я понимаю, сейчас ужасно поздно, но не смогли бы вы позвать к телефону Дмитрия? Это очень важно!
– Дмитрия? – переспросила женщина, и Лёля просто-таки физически ощутила, как в ее приглушенном голосе растаяли остатки сонливости: он стал жестким, настороженным. – Ну, вообще-то он уже спит… – На секунду отвернулась от трубки, голос зазвучал еще глуше. – Да, крепко спит. Я могу его разбудить, конечно, если что-то очень срочное. До утра нельзя подождать? Он такой усталый пришел сегодня…
Лёля прикусила губу. Бог ты мой, что за чушь вдруг полезла в голову… Как не стыдно! Но почему, почему эта тетка говорит, понизив голос, словно боится разбудить лежащего рядом человека? И… кто этот человек?
– Хорошо, – выговорила она похолодевшими губами. – Я подожду до утра.
– Ой, подождите! – шепотом вскричала женщина. – А что передать, кто звонил? Кстати, вы не Лёля?
– Лёля, – выдохнула она с внезапно ожившей надеждой. – Да, это я.
– Ах это вы-ы, – насмешливо протянула женщина. – Ну, вот что, Лё-ля: Дмитрий просил передать вам – вам персонально, – чтобы вы этот номер забыли. Понятно? За-бы-ли! И никогда не звоните ему сюда больше, никогда!
Через некоторое время до Лёлиного сознания дошел какой-то истерический писк. Похоже было, что она сжимает в руках живое существо, пытаясь открутить ему голову, а существо отчаянно стонет.
Глянула вниз. Да это в трубке пищат короткие гудки, трубку-то она так и не положила!
Лёля прерывисто вздохнула, нажала на рычаг и, дождавшись нормального гудка, набрала номер. Но не тот, по которому только что звонила.
– «Радуга-Поиск», – раздалось после долгого ожидания.
– Для абонента 2929, – сказала Лёля, с трудом шевеля губами.
– Громче, вас не слышно! – послышалось раздраженное.
Ах громче?!
– Для абонента 2929! – прокричала Лёля и отчеканила: – Забудь мой телефон! Лёля!
И бросила трубку, не дожидаясь, пока телефонистка переспросит, как ее зовут.
Лёля вошла в комнату, бездумно глядя на трепет свечных огонечков. Маслянисто поблескивал майонез на салатах. Включила люстру и задула свечи. Дым показался слишком едким, каким-то химическим. И от салатов, оказывается, исходил острый рыбный запах.
Она судорожно сглотнула. Вдруг вспомнила, как варила кальмаров, какими они сначала были мерзко-скользкими, а потом, покипев три минуты (не больше, не то будут жесткими!), побелели и сделались похожими на обезглавленных белых мышей…
Лёля прижала ладонь к губам, едва удержав отвратительную массу, вдруг взметнувшуюся из желудка. Ринулась в туалет, еле-еле успела. Ее рвало отчаянно, страшно, текло даже из носа, Лёля задыхалась, обливалась слезами. Едва успевала высморкаться, глотнуть воздуху – и снова захлебывалась рвотой.
Через какое-то время, показавшееся нескончаемо длинным, смогла разжать руки, вцепившиеся в унитаз, и побрела в ванную, хватаясь за стены. Из зеркала на нее взглянуло незнакомое, землисто-зеленоватое, отекшее лицо, испещренное красными крапинками порвавшихся кровеносных сосудиков, с опухшими, красными глазами.
О господи!.. Не тот ли это астральный антипод, которого ей так и не удалось разглядеть в Светином зеркале?
Лёля устало отвернулась и начала раздеваться. Бирюзовая блузка была вся в пятнах. Кое-как простирнув ее под краном и забросив на веревку, Лёля вползла в ванну. Одной рукой направляла на себя душ, другой чистила зубы. Но даже «Аквафреш» не мог уничтожить привкус желчи во рту, а тугие горячие струи оказались не в силах вымыть из головы мысли, от которых Лёлю било, будто током.
Наконец она закрутила краны, вытерлась. Но стоило войти в комнату и ощутить теплый рыбный дух, как спазмы вновь стиснули желудок. Сглатывая отвратительную слюну, стараясь не дышать, Лёля ринулась к столу, схватила обе вазы с салатами и опустошила их в унитаз. Вымыла посуду, но запах не исчезал.
Лёля открыла все окна, вынесла ведро с кальмаровыми внутренностями в мусоропровод – и здесь ее настиг новый приступ рвоты.
Лёля не помнила, как вернулась в квартиру, как прошла ночь. Сохранились в голове какие-то обрывки: она тупо убирает со стола, снова и снова склоняется над унитазом, корчится на полу от резей в пустом желудке, перегибается через балконные перила, подставляя лицо под дождь в надежде, что хоть это даст ей облегчение… Да нет, пожалуй, она должна была благодарить свои страдания, потому что они не оставляли сил думать. Все, что она могла теперь сделать с собой и своей жизнью, – это дождаться утра, поехать прямо к восьми, к началу приема, в женскую консультацию и взять у докторши с фиолетовыми волосами направление на аборт. Что характерно, та не сказала ни слова против, а пожилой медсестры не было в кабинете.
Ну и слава богу!
Дмитрий. Май, 1999
Дмитрий вскинулся, ошалело зашарил по бедру. Потом, спохватившись, нашарил джинсы, висевшие рядом с диваном, на стуле. Пейджер зуммерил как-то особенно громко, бесцеремонно взрывая сонную, уютную тишину.
Нет, Степашка Разумихин спокойно сопит на своей раскладушке, и в другой комнате, где спят Юра, его жена и малышка, тоже тихо. Телефон молчит. Значит, не тревога, иначе Юре позвонили бы первому. Но ведь уже за полночь, кого это разбирает в такую пору?
Дмитрий попытался вспомнить, есть ли над диваном бра, но не смог. Ладно, хватит испытывать крепость Степашкиного сна. Он бесшумно поднялся и босиком, в одних трусах прокрался из комнаты, сжимая в одной руке пейджер, а другую выставив, чтобы не врубиться в темноте в какую-нибудь мебель. Ощупью добрался до кухни, включил свет.
Затейливая люминесцентная лампа зажигалась, разноголосо пощелкивая, долго, не меньше минуты. Дмитрий стоял, слепо моргая. В кухне пахло тестом: разумихинская жена Алена грозилась на завтра пирогами… Удивительно уютная женщина, рядом с такой мгновенно отходят, как бы перегорают горести минувшего дня. Дмитрий вспомнил, в каком состоянии он был, когда Юра привез его к себе домой, – и как быстро успокоился, сидя в этой веселенькой, разноцветной, тесноватой кухоньке, так непохожей на хирургическую белизну того «помещения для приема пищи», где иногда что-нибудь скучно варила его квартирная хозяйка. Теперь бывшая, слава богу!
Дмитрий конфузливо улыбнулся. Все-таки оклемался, значит, если случившееся уже кажется ему смешным. Да, наверное, это и было смешно с самого начала: Иосиф Прекрасный, полуживой от усталости и тягостных мыслей (он только что вернулся с той жуткой аварии на шоссе, и его ладони еще помнили мертвую тяжесть детского тела), стоит под душем, как вдруг открывается дверь и на пороге возникает… как бишь ее звали по Библии, ту распутницу? Да никак – просто «жена господина его». Она, стало быть, и возникает, в упор глядя на голого парня. Означенный Иосиф в растерянности захлопал глазами, не догадавшись хотя бы мочалкой срамоту прикрыть, надеясь, что это недоразумение и жеманная Лариса Семеновна вот-вот порскнет вон. Но дама, сверкая очами, распахнула длинный алый халат и открыла взору Дмитрия свое поджарое, смуглое, почти безгрудое тело ухоженной, но уже стареющей женщины, отчего-то все покрытое меленькой порослью, как у дьяволицы… Дмитрий едва не выкрикнул: «Изыди, сатана!» – все еще надеясь, что это ему померещилось. Но Лариса Семеновна шагнула вперед и уже схватилась одной рукой за край ванны, намереваясь забраться туда, а другую протянула к самому… вот-вот, туда и протянула!
Еще мгновение Дмитрий ошалело на нее таращился, а потом началось форменное кино! Он направил струю душа в лицо Ларисе Семеновне, одновременно открыв горячий кран до предела, а когда она с визгом отшатнулась, хватаясь за лицо, по которому хлынули черные потеки раскисшей туши, вылетел из ванной, ужом извернувшись, чтобы ненароком не коснуться одуревшей женщины. Прошмыгнув в свою комнату, натянул прямо на мокрое тело рубашку, вскочил в джинсы, сунул ноги в кроссовки, смел со стульев и стола какие-то пожитки…
Какой он молодец (нет, умница, Молодец, как известно, у нас один!), что загодя собрал вещи, начав подыскивать себе другую квартиру: и ездить далеко, и всегда поесть нечего, и хозяйка до смерти заговаривает ночь-полночь, и плату требует вперед за два месяца, и пользоваться телефоном практически не разрешает…
Какой он дурак, что не поспешил с переездом!
Окинув комнату незрячим взглядом (что-то забыл, конечно, ну и в пень!), Дмитрий просвистел по коридору, ударился в дверь и вылетел на площадку, так и не поняв, то ли дверь была не заперта, то ли он ее вышиб. «Жена господина его» слова вслед не сказала, даже не вышла из ванной. Уж не утопил ли он ее невзначай? Ну и… в пень опять-таки!
Дмитрий загрохотал вниз по лестнице (лифт уж другой месяц не работал) и наконец выскочил из подъезда, совершенно не представляя, куда теперь податься. К Лёле, может быть? Но он еще ни разу не оставался у нее на ночь. А вдруг ее родители, по закону стервозности, за чем-нибудь вернутся из деревни? Не хотелось бы оказаться еще в одной идиотской ситуации, хватит с него на сегодня. Вдобавок Лёля прислала ему на пейджер какое-то истерическое сообщение. Решила опять повыяснять отношения? Ой, нет! Эта… «жена господина его» (вернее, вдова, потому что муж ее умер пять лет назад, а может быть, это легенда) хоть сказать ничего не успела! Объясняться сегодня с Лёлей – нет, увольте. Надо ей позвонить, конечно, – если Дмитрий доберется до работающего автомата. Если он вообще хоть куда-нибудь доберется ночью с автозаводской окраины!
И тут Дмитрий встал как вкопанный, увидев у подъезда ту же самую матово-серую «волжанку» Разумихина, на которой приехал домой час назад. Добрый-предобрый дядя Юра его подвез, они распрощались до следующего дежурства… Разумихин что, вернулся с полдороги, почуяв, что другу нужна помощь? Вот это телепатия!
Телепатия, как тотчас выяснилось, здесь была ни при чем. Забарахлил двигатель, и Разумихин копался с ним битый час, то и дело собираясь позвать Дмитрия на помощь, но не находя сил тащиться без лифта на девятый этаж. Мотор только что затарахтел, когда из подъезда вылетел взъерошенный Майоров с белыми глазами, навьюченный вещами и весь мокрый. «Крыша, что ли, у них там протекает?» – на полном серьезе подумал Разумихин, насквозь вымокший под дождем. Потом, выслушав рассказ, он едва смог выдавить приглашение поехать ночевать к нему: был слишком озабочен тем, чтобы сдержать истерический хохот. У Димки было такое трагическое лицо! День нынче и вправду выдался слишком тяжелый. Ничего, поест у них дома как следует, выспится, отдохнет – и сам поймет, что все это скорее смешно, чем грустно.
…Дмитрий улыбнулся. Разумихин опять оказался прав, хоть тресни!
Он выпил воды, пытаясь вспомнить, зачем, собственно, притащился среди ночи на кухню. Посмеяться, что ли? Ах да! Пейджер! Повернул его окошком вверх – и перед глазами промелькнула строка:
«Забудь мой телефон. Лёля».