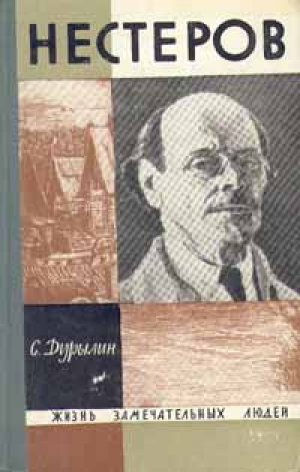
Вместо предисловия
Хотелось бы издать эту книгу без всяких предисловий, хотелось бы подвести читателя к жизни и творчеству М.В. Нестерова так, как он сам подводил зрителя к своим новым картинам: поставит картину на мольберт и отойдет в сторону – картина должна говорить сама за себя.
Но, к сожалению, я не могу поступить так, как поступал Михаил Васильевич Нестеров: он был художник, показывающий художественное произведение; я не художник, не художественный критик и не искусствовед, а книга моя написана о художнике и о его художественном творчестве. Недоумения не только возможны, они неизбежны и законны: не художник, не искусствовед, а писатель, по преимуществу работающий в области литературоведения и театроведения, написал большую книгу о художнике. Почему? По какому праву? С какою целью? С каким оправданием этой цели и этого обширного труда?
Я должен с первого же слова предупредить читателя, что в моей книге не следует искать исследования о происхождении, развитии, о формах и технике искусства Нестерова; не следует искать в моей книге и эстетического анализа картин и стиля Нестерова.
Моя книга не есть и биография Нестерова, задачи которой – дать исчерпывающее изложение его «трудов и дней» в их последовательном историческом развитии.
Я озаглавил свою книгу «Нестеров в жизни и творчестве», и, думается, читатель, прочитавший книгу до конца, согласится, что это название достаточно точно передает ее содержание.
Я не мог не написать книгу о художнике Нестерове потому, что он хотел, чтобы я написал эту книгу. Для меня написание этой книги – исполнение воли человека, который сам называл наши многолетние отношения ответственным и драгоценным для меня именем дружбы.
Я с ранних лет полюбил искусство Нестерова и в течение нескольких десятилетий с доступной мне предельностью следил за путями и перепутьями его творчества, за отображением его в литературе и критике, за отзвуками его в обществе и т. д. Судьба рано дала мне радость войти в близкое общение с самим художником, превратившееся в дружбу, продолжавшуюся до кончины Михаила Васильевича.
В течение нескольких десятилетий я был в переписке с Михаилом Васильевичем; вел дневник, в котором тщательно записывал его беседы со мной и с другими лицами; собирал воспоминания и рассказы лиц, знавших его в различные эпохи его жизни; собирал все, что было возможно, о его жизни и творчестве: письма, документы, каталоги, статьи, книги, фотографии, гравюры и т. д.
Михаил Васильевич знал об этом моем собирательстве, и, когда я, еще в начале 1920-х годов, сделал первые попытки писать о нем, он отнесся к этому сочувственно.
Когда он познакомился с первыми законченными мною очерками, посвященными его картинам из жизни Сергия Радонежского, он писал мне (7 марта 1924 года):
«Рукопись Вашу я получил и прочел с большим вниманием. Какой огромный труд Вы предприняли, и все это связано с моим именем. Ну, не баловень ли я среди моих собратий! В Вас я ведь имею не только любящего мое художество писателя-современника, но также поэта, непосредственно чувствующего жизнь, красоту, душу природы и человека, их великое место в бытии. Я имею в Вас одновременно и ученого… вооруженного всем тем, без чего будет не полон труд, подобный Вашему…
Описание «Отрока Варфоломея», особенно пейзаж и еще более пейзаж «Юности» – проникновенно и непосредственно, благоуханно, как и та природа, которая была когда-то перед моим взором. Суждения Ваши о «Трудах преподобного Сергия» (читатель увидит, что суждения мои были неблагоприятны для этой картины. – С.Д.) таковы, что я подпишусь под ними обеими руками. Словом – т а к о моих «Сергиях» еще не писали».
Еще раньше, 19 сентября 1923 года, по поводу моего очерка о другой своей картине, «Димитрий Царевич убиенный», Михаил Васильевич писал мне: «Сегодня перечел Ваши «размышления, впечатления, домыслы», и мне захотелось не откладывая написать Вам. Написать так, как написаны Ваши «размышления», можно только о чем-нибудь любимом, любезном сердцу, хорошо понятом, почувствованном. О «Димитрии Царевиче» в разное время было написано много, и лучшее, совершенное все же – написанное Вами в «размышлениях»… Ваше определение в этой критике роли пейзажа в моих произведениях бывало и ранее, однако не с таким проникновением в психологическое соотношение пейзажа к действующим лицам, к теме картины».
Я решаюсь привести эти строки из двух писем М.В. Нестерова не потому, что в какой бы то ни было степени согласен с его оценкой моей работы, начатой мною в 1923 году, а потому, что мое описание «Отрока Варфоломея», любимейшего из образов, созданных Нестеровым, мое истолкование «пейзажа» на этой картине и на «Юности пр. Сергия» совпадают с собственным постижением этих картин автором; мне дорого, что творческая история «Трудов пр. Сергия», изложенная мною, и суждение мое об этой картине совпадают с суждением о ней автора истории; мне дорого, что мое понимание картины «Димитрий Царевич убиенный» ее автор находит наиболее близким к его собственному.
Страницы о картинах из жизни Сергия Радонежского и о «Димитрии Царевиче», вызвавшие эти отзывы их автора, включены в настоящую книгу: я имею право сказать, что эти страницы «авторизованы» художником.
У меня нет права повторить это о других страницах моей книги, написанных по большей части после смерти Нестерова, но все мое устремление в моей книге было к тому, чтобы ввести читателя в подлинную творческую волю художника, в его творческое «хочу», проявленное при создании тех или других произведений. Моей задачей было сохранить живой образ художника и человека, вкладывавшего свою мысль, чувство, волю, всего себя в свое искусство. Моим заветным желанием было показать, какие чувства, думы, мысли вложил этот человек и художник в свои создания. Моей целью было установить, какими творческими путями шел художник-мастер к заветным целям, которые ставил своему искусству.
Для того чтоб достичь этих целей и задач, необходимо было идти от самого художника, творческую историю возводить от самого творца. В течение десятилетий я всеми доступными мне средствами стремился возвести любую картину Нестерова к ее истоку – к творческому замыслу автора; я стремился любой его образ возвести «сквозь мир случайностей к живому роднику» – к действительному акту творческой воли художника.
Эту задачу я не мог бы решить без сочувствия, без помощи, без живого содействия самого художника.
С начала 1910-х годов все творчество М.В. Нестерова прошло на моих глазах, при непрерывном близком общении с художником.
Эта близость стала особенно тесной в советские годы. Творческая история всех портретов Нестерова, написанных в 1917–1941 годах, для меня запечатлена как повседневность замыслов, бесед, встреч, переписки, дневников, в которых отражалась вся работа Нестерова над новыми портретами. Они не только создавались на моих глазах – они, случалось, возникали в замысле, в плане не без тесной беседы со мной.
Портреты Нестерова долгое время оставались на запоре в его мастерской, мало кому доступной.
С ведома художника мне первому довелось в 1926 году в моем докладе в Государственной академии художественных наук объявить во всеуслышание, что у Перова, Крамского и Репина есть здравствующий наследник, что в русском искусстве существует новая галерея портретов – нестеровская.
Мне принадлежит первая статья о портретах Нестерова в советской печати («Тринадцать портретов Нестерова». – «Советское искусство», 1935, № 16; подпись – «Д. Николаев»), приветствовавшая вступление Нестерова на путь портретиста и его первую советскую выставку. Статья эта в свое время обрадовала Михаила Васильевича как первый печатный сочувственный отклик на его новую художественную работу – над портретами.
Все это я говорю лишь затем, чтобы указать, что в творческую историю последних 30 лет своей жизни меня посвящал сам художник, посвящал изо дня в день, из произведения в произведение, из замысла в замысел.
Но оставался большой период творческой жизни Нестерова, который мне не был известен непосредственно.
Я собирал здесь все, что мог, от художников, от писателей, родственников Михаила Васильевича – от всех, кто знал его раньше меня. Но было ясно мне, что без прямой помощи Михаила Васильевича я здесь беспомощен. Тогда он стал для меня историографом своего творчества.
После ознакомления с первыми же очерками моими о его картинах он решил помочь мне своими воспоминаниями, которые он слал мне в виде обширнейших писем; отрывки из них вошли в настоящую книгу.
В 1938–1941 годах Михаил Васильевич часто гостил у меня в Болшеве. Мы вели нескончаемые беседы. Я год за годом спрашивал его о его жизненном и творческом прошлом, нарочито втягивая его в рассказы о тех моментах (иногда годах!) его жизни и творчества, которые были неясно или неполно освещены в его письмах, сохранившихся от давних времен, и в его воспоминаниях (в разных видах и редакциях). Он охотно и много рассказывал о своей семье, о школе живописи, об академии и обо всем, «чему свидетель в жизни был». Я вел точные записи всех этих бесед. Записи эти помогли мне заново осветить многие эпизоды творческой биографии Нестерова (например, его отношения с В.М. Васнецовым, с М.А. Врубелем и т. д.).
Иногда, рассказывая мне о прошлом, Михаил Васильевич говорил: «Это для моей биографии ничего не значит, а вот это значит многое». Он не мог говорить о своем прошлом, «добру и злу внимая равнодушно», и вовсе не хотел этого «равнодушия» и в книге о нем. Вот отчего он не только рассказывал о себе, но и пересматривал критически свою жизнь и художественную работу: отвергал в них одно, утверждал другое и хотел, чтобы во всем, что говорилось о нем, не было ни «жития», ни «похвального слова». Это его желание я как мог старался исполнить в своей книге.
Необыкновенно правдивы его письма в родной дом – к родителям и сестре, писавшиеся в течение почти сорока лет. Они являются превосходным эпистолярным дневником, прямо и открыто повествующим о трудах и днях – по преимуществу о трудах – с конца 1870-х до 1913 года (год кончины его сестры А.В. Нестеровой).
Другой замечательный цикл писем Нестерова обращен к Александру Андреевичу Турыгину, художнику-любителю, с которым Нестеров сблизился еще в начале 80-х годов, встретившись с ним у И.Н. Крамского. Михаил Васильевич сам указал мне на эти письма как на надежный источник для его биографии.
Говоря о сорокалетней своей переписке с А.А. Турыгиным, Михаил Васильевич писал мне: «В этих письмах вся внешняя моя жизнь, а она все же была полная, разнообразная, деятельная». С письмами М.В. Нестерова меня познакомил сам их адресат. Покойный А.А. Турыгин знал о том сочувствии, которое М.В. Нестеров питает к моей работе о нем, и всячески помогал мне в этой работе.
К писанию собственных воспоминаний М.В. Нестеров приступил под прямым желанием помочь мне в воскрешении его творческого и житейского прошлого. Из автобиографических писем ко мне, как из зерна, выросли во второй половине 1920-х годов большие «Записки» Михаила Васильевича «О прошлом», не предназначаемые им к печати.
Из материала этих больших «Записок» и из новых, часто изустных воспоминаний прошлого у Михаила Васильевича уже в начале 1930-х годов возник ряд законченных очерков о прошлом. Я убедил его дать в печать некоторые из них и, по его выражению, «сосватал» их в «Советское искусство» и «Огонек». Когда этих автобиографических очерков набралось немало, Михаил Васильевич просил меня помочь ему отобрать то, что могло бы составить книгу. Так родились «Давние дни» (1941). По желанию Михаила Васильевича я вел корректуру и составил примечания к этой превосходной книге.
Книга начала печататься в 1940 году, и в это же время Михаил Васильевич, увлеченный воспоминаниями о прошлом, начал переработку своих «Записок» в новую автобиографическую книгу – «Жизнь прожить – не поле перейти». Если в «Давних днях» он, мало говоря о себе, рассказывал о замечательных людях, встреченных им на житейской дороге, то в новой книге он начал речь именно о себе, о своем жизненном и творческом труде… Смерть прервала эту работу на рассказе о второй поездке в Италию.
В ту же пору, уже во время войны, Михаил Васильевич начал и вторую, еще более краткую, переработку основных записок, по иному плану, попытка остановилась на первом же очерке – «Детство».
Все эти «повести о самом себе», написанные в разное время, с различными приемами изложения, при сопоставлении их с письмами и документами поражают прямотой своего рассказа – одна дополняет другую. К сожалению, все они не выходят из пределов дореволюционных лет.
Все эти автобиографические повести М.В. Нестерова были доступны мне в подлинниках, во всей их полноте и легли в основу моей работы.
М.В. Нестеров в беседах со мною о своем прошлом никогда не считал нужным обходить молчанием те или иные эпизоды и факты своей жизни, а рассказывал о них прямо и открыто, ничего не замалчивая. Семья М.В. Нестерова и до и после его смерти всегда следовала его примеру. Все рукописные материалы – письма, записки, рукописи, альбомы, рисунки, полотна М.В. Нестерова – семья покойного предоставила в полное мое распоряжение и всячески облегчала пользование ими.
Очень много было написано специально для моей книги вдовой и дочерьми покойного Михаила Васильевича, а изустный материал, полученный мной от семьи покойного при работе над моею книгою, не поддается никакому учету.
Перечитывая свою книгу, я ясно вижу многие ее недостатки, но я уверен в одном – в том, что биографическая основа книги крепка: она построена на обильном и достоверном материале, исходящем от самого Михаила Васильевича Нестерова и от его близких.
«Жил я своим художеством, – не раз говорил мне М.В. Нестеров, – и, худо ли, хорошо ли, прожил жизнь с кистью в руке». Это предрешило все построение моей книги. Она построена не по хронологической канве, а по путям, перепутьям и перевалам творчества Нестерова: жить для него – значило творить.
Работая над книгой «Нестеров в жизни и творчестве», я все время имел перед глазами одного самого страшного для меня читателя – самого Михаила Васильевича Нестерова. Я вспоминал, с каким дружеским вниманием, но и строгим беспристрастием читал он все, что я писал, и то немногое, что печатал о нем при его жизни. Ему принадлежит самый благорасположенный, но и самый требовательный отзыв о моей книжке «М.В. Нестеров» (М., 1942), изданной по случаю его 80-летия. Поправляя ошибки, журя за них, он писал мне за несколько дней до смерти (7 октября 1942 года):
«За книжку благодарю, благодарю на добром слове; быть может, я их не заслужил, но что с Вами поделаешь! Знаю, что у Вас лично идет все из лучших искренних побуждений… Так ли все, как Вы говорите о моем художестве, покажет время. Оно строже и справедливее самого Бенуа, все в свое время разберет и поставит на свое место».
Моя книжка, о которой так отзывался М.В. Нестеров, была конспектом той большой книги, которую я написал теперь.[1
Книга эта не могла бы возникнуть, если б я не встретил глубокую поддержку и помощь со стороны многих, кто знал о желании М. В. Нестерова, чтобы я писал о нем, и о моем страхе приниматься за большую книгу о нем.
Я уже говорил, что книга моя не могла бы быть написана без того исключительного участия, которое приняла в ней семья покойного М.В. Нестерова.
В мою книгу о М.В. Нестерове вложено много труда и любви тех, кому дорог был незабвенный наш художник.
Не умея учесть долю труда и любви каждого из них, от всего сердца приношу благодарность О.А. Алябьевой, Ю.С. Бирюкову, О.М. Веселкиной, А.А. Виноградовой, И.Ф. Виноградову, Г.С. Виноградову, А.П. Галкину, Н.Н. Гусеву, К.Г. Держинской, Т.В. Инешиной, А.Д. Корину, П.Д. Корину, И.А. Корину, И.А. Комиссаровой, В.И. Мухиной, П.М. Норцову, П.П. Перцову, Л.М. По, Н.А. Прахову, Е.П. Разумовой, Л.Б. Северцовой, А.П. Сергеенко, Е.В. Сильверсван, Н.А. Сильверсван, П.П. Славнину, З.С. Соколовой, Е.И. Таль, Л.Н. Титову, Е.Д. Турчаниновой, С.И. Тютчевой, Н.И. Тютчеву, А.В. Щусеву, С.С. Юдину, П.Д. Эттингеру.
Благодарю и всех, кто, и не упомянутый здесь, вниманием, сочувствием, советом принял участие в моей работе.
Если эта книга поможет советскому читателю понять трудный, но всегда прямой путь Михаила Васильевича Нестерова к искусству, одушевленному любовью к Родине и верой в ее светлое будущее, если эта книга заставит полюбить в Нестерове одного из величайших русских художников и вернейших сынов русского народа, моя задача будет решена, а мой долг дружбы и благодарности перед усопшим художником будет исполнен.
I
О своих предках Михаил Васильевич Нестеров рассказывал:
– Они были новгородцы, быть может, «новгородская вольница».
Один из Нестеровых, вольных крестьян из бывшей области Господина Великого Новгорода, устремившись на привольный Урал, поверстан был заводчиком Демидовым в крепостную неволю. Но еще при Екатерине II деду художника, Ивану Андреевичу, удалось из этой неволи вырваться. «Вольноотпущенный дворовый человек господ Демидовых» обосновался в Уфе и записался в гильдию. В течение двух десятилетий Иван Андреевич Нестеров был градским головой в Уфе.
Первый купец в Уфе по положению, Нестеров не был купцом по призванию. Карамзин, Жуковский, Пушкин – все эти «властители дум» 1810–1830 годов были желанными гостями в доме купца Нестерова. Он любил читать их вслух.
В доме Нестеровых устраивали любительские спектакли с участием градского головы и четырех его сыновей. Еще в то время, когда «Ревизор» был свежей новинкой, он был сыгран на домашнем театре у Нестерова. Это было первое исполнение знаменитой комедии в Уфе.
Вряд ли много было в конце 1830-х годов купеческих домов, где бы отважились играть комедию со столь неблагонамеренной репутацией, как «Ревизор». Один этот факт свидетельствует, как мало было у Ивана Андреевича Нестерова общего с Курослеповыми и Дикими.
Ни один из четырех сыновей Ивана Андреевича Нестерова также не выказал влечения к купеческому делу.
Я слышал, что у Михаила Васильевича был дядя, сосланный в Сибирь, и однажды в Болшеве, в августе 1940 года, попросил его рассказать об этом дяде. Сидя на любимой скамейке, между двух елей, Михаил Васильевич промолвил:
– Ну так и быть, расскажу. Только это ничего не значит для моей биографии. Я сам по себе… Дядя мой Александр Иваныч был старший из братьев моего отца и был помощником у деда. Я его видел уже стариком. Высокий, красивый, седой, с длинными волосами. Он вернулся тогда из Сибири. А попал в нее вот как. На Кокчетав-Ивановском (так, кажется?) заводе был бунт. Рабочих много сидело в тюрьме в Уфе. Они как-то дали знать о себе дядюшке, передали ему прошение на высочайшее имя, чтобы он отвез в Петербург. Дед послал дядю на Нижегородскую ярмарку. Дядя окончил там дела и оттуда – в Петербург, не сказавшись деду. Остановился где-то на постоялом дворе. Узнал, что наследник Александр Николаевич каждый день в такой-то час прогуливается в Летнем саду. Дядя – в Летний сад и подал прошение наследнику. Тот взял, спросил, где остановился, обнадежил дядю. А на следующий день дядю взяли с постоялого двора и увезли в Сибирь куда-то далеко. Там ему всю жизнь пришлось прожить. В Уфу вернулся стариком, в психике у него не все было в порядке, прожил недолго… Он перед Гарибальди преклонялся – это его герой был, папу Пия IX и Бисмарка ненавидел как личных недругов своих.
Из этих кратких воспоминаний вырисовывается драматический образ недюжинного человека, загубленного суровой эпохой.
Не были дюжинны биографии и двух других дядей Нестерова. Михаил Васильевич рассказывал:
– Другой дядя, Алексей, был врач-самоучка. Любил это дело. Всех лечил бесплатно. Женился стариком на молодой. Высокий, курчавый.
Третий дядя, Иван, уехал в Америку. Вести о себе не подавал. Все ждали: вернется «американским дядюшкой» с миллионами. Не вернулся, сгинул.
По-видимому, более прочно уложился в рамки обычного купеческого бытования четвертый из братьев, Василий Иванович, отец художника, но только по-видимому.
Василий Иванович всю жизнь прожил в Уфе, вел там немалое торговое дело, однако и он удивлял многих «лица не общим выраженьем».
– Мой отец всех тише был, – вспоминал Михаил Васильевич, – его дед к делу пристроил, но тоже был беспокойный. Читать любил. Много читал. «Войну и мир» с увлечением читал при самом ее выходе в свет. Историю любил читать.
У Василия Ивановича была большая торговля мануфактурными и галантерейными товарами, но торговал Нестеров по-своему, не по-купечески. Он продавал и покупал только за наличные деньги. Торговля сама по себе его не увлекала.
«Как и дед, отец мой не был истинным купцом», – говорил его сын. Это подтверждается всем, что удалось узнать о Василии Ивановиче Нестерове, а больше всего тем, что он вовсе не понукал сына перенять профессию купца.
Добросовестность, порядочность, честность Нестерова признавались всем городом. Он был одним из зачинателей общественного банка в Уфе; его единогласно выбрали в «товарищи директора». Имя Нестерова служило ручательством, что в банке не будет ни растрат, ни прочих подвохов. Работа в банке увлекала Василия Ивановича как общественное дело; материальной заинтересованности у него не было никакой; он в ту пору уже прикончил свое торговое дело, да и ведя его, никогда не прибегал к кредиту. А прикончил он свое торговое дело по редкой причине: убедился, что его сын и единственный наследник чужд всякого интереса к коммерции.
«Я благодарен ему, – писал Михаил Васильевич про отца, – что он не противился моему поступлению в Училище живописи, дал мне возможность идти по пути, мне любезному, благодаря чему жизнь моя прошла так полно, без насилия над собой, своим призванием, что отец задолго до своего конца мог убедиться, что я не обманул его доверия».
Письма Михаила Васильевича к отцу свидетельствуют о живом интересе, о теплом внимании и ободряющем участии, которые отец проявлял к работам сына. Внимание это было не только теплым, но и пристальным, участие не только горячим, но и требовательным.
Михаил Васильевич ценил эту заботливую пристальность и требовательность, вспоминая:
«Мой отец давно объявил мне полусерьезно, что все мои медали и звания не убедят его в том, что я «готовый художник», пока моей картины не будет в галерее» – в галерее П.М. Третьякова.
Сам Михаил Васильевич Нестеров согласился в свое время с этим критерием своего отца, предпочитавшего «вкус» и выбор Третьякова суду и выбору целой Академии художеств. С «Пустынника», приобретенного Павлом Михайловичем Третьяковым, Нестеров вел эру своей художественной зрелости, и нам через пятьдесят пять лет приходится признать, что художественный критерий, взятый уфимским купцом Василием Ивановичем Нестеровым, был лучшим из возможных в 1880-х годах.
Не раз приходилось мне слышать от Михаила Васильевича признательность его отцу вот по какому поводу:
– Бывало, предложат мне заказ на образа и предлагают хорошие деньги. Напишешь в Уфу: «Брать или не брать?» Из дому отвечают: «Не бери. Всех денег не заработаешь. Тебе картины писать надо». А я и сам так думаю – ну и с легким сердцем откажешься, бывало, от самых выгодных заказов.
Это дорогое признание. Василий Иванович был православный человек и купец, так естественно было ему вдвойне порадоваться на удачу сына: и дело предстоит богоугодное – писать образа, и деньги за него дают хорошие.
Но ответ был дан с редким пониманием того, в чем состояло подлинное творческое призвание сына: «Пиши картины».
Василий Иванович умер в 1904 году. Четыре дня спустя сын писал другу А.А. Турыгину:
«24 августа скончался отец (86 лет). Сделал все, что положено ему было, и сделал хорошо, что называется, по чести».
Мать Нестерова, Мария Михайловна, была родом из Ельца, из старинного купеческого рода Ростовцевых, одного из самых почетных в городе.[2
У Марии Михайловны была богатая натура и властный характер. В торговые дела, во все, что делал Василий Иванович вне дома, она не вмешивалась, но в доме ей принадлежало первенство. Она вела дом, и он был полной чашей. Весь уклад старорусского домоводства был, как никому, ведом Марии Михайловне. Когда Михаил Васильевич хотел похвалить хозяйку дома, где он гостил, за радушие, за уменье всегда выйти к гостям по пословице «со словом ласковым, с хлебом мягким», он неизменно поминал свою мать.
Михаил Васильевич любил вспоминать свою мать за рукодельем: за вышиванием, вязаньем, шитьем. На все была она тонкая мастерица.
Из всех рассказов Михаила Васильевича явствовало, что в образе матери запечатлен для него прекрасный облик русской женщины с тем старинным народным складом величавой красоты и спокойного достоинства, который так дорог был ему, как и Сурикову. Когда я спросил его, запечатлелся ли облик его матери в его творчестве, он сказал:
– Да. Я рисовал ее больную, перед смертью. Она не охотница была до портретов, но тут согласилась: «Ну что ж, нарисуй». И похвалила мои наброски. Я написал с нее схимницу – высокую, худую, спокойную, несмотря на недуг, – на большой картине «Святая Русь», последняя фигура справа. Такой она была перед смертью.
Мария Михайловна скончалась в ночь на 2 сентября 1894 года.
«Покойная была с ясным, разумным мировоззрением, – писал Нестеров А.А. Турыгину 7 сентября, – но с очень сильной волей и крайне деятельна; то, что она переделала в своей области, очень значительно и может служить красноречивым примером неутомимости в труде. Я потерял в ней не только мать, но и сознательно относящегося человека к моим планам, затеям».
У Марии Михайловны было двенадцать человек детей, но в живых остались лишь двое – дочь Александра и сын Михаил, названный в честь деда Ростовцева.
К единственному сыну Мария Михайловна питала исключительную любовь, вроде той, которую за семьдесят лет перед тем в той же Уфе питала Софья Николаевна Багрова к своему сыну Сергею, будущему автору «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука». Есть какое-то странное соответствие между ранними младенческими годами двух земляков – С.Т. Аксакова и М.В. Нестерова: оба они вырваны своими матерями из рук смерти.
– До двухлетнего возраста, – рассказывал мне Михаил Васильевич, – я до того был слаб и болезнен, что не чаяли, что и жив останусь. Чего-чего со мной не делали! Чем-чем не поили! И у докторов лечили, и ведунов звали, и в печку меня клали, словно недопеченный каравай, и в снег зарывали – ничего не помогало. Я чах да чах. Наконец совсем зачах. Дышать перестал. Решили: помер. Положили меня на стол, под образа, а на грудь мне положили образок Тихона Задонского. Свечи зажгли, как над покойником. Поехали на кладбище заказывать могилку. А мать так от меня и не отходила, пока наши были на кладбище. Приезжают с кладбища. А я и вздохнул! И отдышался. И здоровым стал. Ведь мне семьдесят восемь, а я жив, работаю.
Эта борьба матери за жизнь сына, кончившаяся победой ее любви, вызвала и в сыне столь же горячую привязанность к матери. Первое горе, испытанное Нестеровым в раннем детстве, это болезнь матери. Когда ей стало немного лучше (у нее было воспаление легких), мальчик стал приходить в комнату матери, ему позволяли взбивать ей перину, и ему казалось, что от усердия, с каким он это делал, зависело выздоровление матери.
«К моей матери, – писал Нестеров незадолго до смерти, – я питал особую нежность, хотя она в детстве наказывала меня чаще отца, а позднее, в юности и в ранней молодости, мать, по природе властная, проявляла свою волю так круто, что, казалось бы, мои чувства должны были измениться, и правда, они временно как бы потухали, чтобы вспыхнуть вновь и возрасти в последние годы матери, в мои зрелые годы, с большей силой. Каких прекрасных, задушевных разговоров не велось тогда между нами! Мне казалось, да и теперь кажется, что никто никогда так не слушал меня, не понимал моих художественных мечтаний, как жившая всецело мною и во мне моя мать. Сколько было в те дни у нее веры в меня, в мое хорошее будущее!»
Слово о матери, как и слово об отце, М.В. Нестеров всегда заканчивал глубокой благодарностью за то, что она рано распознала в сыне художника и приняла в свое сердце его искусство.
Михаил Васильевич Нестеров родился в свое любимое время: весною, 19 мая (по старому стилю) 1862 года, и в свое любимое время дня: в тихий вечер.
В один год с Нестеровым из художников родились В.Н. Бакшеев, Л.О. Пастернак, А.Е. Архипов, М.X. Аладжалов. Годом старше его были И.И. Левитан, К.А. Коровин, А.П. Рябушкин; годом моложе – А.Я. Головин, В.В. Переплетчиков, К.К. Первухин. Двумя годами моложе были С.В. Иванов, Н.В. Мещерин, И.И. Ендогуров, А.С. Голубкина. Тремя годами моложе Нестерова были В.А. Серов, Е.С. Кругликова; тремя годами старше – С.А. Коровин, А.С. Степанов, Н.Н. Дубовской.
Со всеми этими художниками, родившимися в семилетие (1859–1865), Нестеров был связан – с каждым по-разному – узами дружбы, школьного товарищества, художественного сверстничества, творческих исканий. Многие из этих художников оставили крупный след в жизни Нестерова, а все вместе – эти друзья, товарищи и сверстники – вместе с Нестеровым начали новую эпоху в русском искусстве.
Младенческие порывы к творчеству – вот с чего начинаются самые ранние воспоминания Нестерова. В первом проблеске памяти он уже видит себя с карандашом в руке.
«Самое раннее, что осталось у меня в памяти, – я лежу на животе на большом ковре, рисую нашу Бурку карандашом, зная наперед, что отец потом пройдет по карандашу чернилами, твердой рукой обведет все, что неясно, особенно достанется подковам, там появятся шипы, и все это заранее огорчает меня. Бурка потеряет свою легкость арабского скакуна, она прирастет своими подковами к земле, но я уныло молчу. В то время мне было года 4–5».
Рассказ этот характерен для всего облика художника, представляется он мне почти пророческим для судьбы Нестерова. Четырехлетний мальчик, конечно, «реалист»: он ничего не измышляет карандашом, он рисует свою домашнюю Бурку, отлично ему ведомую, верного конягу нестеровского дома, рисует с любовью, с сердечным не только увлечением, но с соучастием в бытии этой Бурки, и в то же время эта реальная уфимская Бурка с купеческого двора приобретает у мальчика-художника «легкость арабского скакуна», отрывающегося от земли в прекрасном, почти воздушном беге. Это пи не тот реализм, пропущенный через просветляющее чувство и сквозь обновляющее воображение, это ли не тот «поэтизированный реализм», в котором Нестеров, по его собственным словам, всегда видел самую сущность своего искусства?
А отец, «твердой рукой» борющийся с этой Буркой, превращенной любящим воображением художника в «арабского скакуна» (художник до старости верил, что в Бурке текла арабская кровь), а отец, усердно вытравляющий все «арабское», все «поэтическое» из уфимского коняги и тщательно вырисовывающий «шипы» на его подковах, не есть ли первый из целой цепи критиков, упрямо толкавших художника-поэта к натурализму добросовестного фотографа?!
«Все это огорчает меня».
Да, отсюда начались бесконечные огорчения, полученные Нестеровым от многих укорявших его за поэзию и легенду его картин, и отсюда же начался его ответ на их приговоры: «Я уныло молчу». Нестеров никогда не отвечал ни в печати, ни в диспутах ни на какие статьи, упрекавшие его за отсутствие натуралистической прозы в его поэтических созданиях. Или, вернее, он отвечал, но так же, как отвечал отцу на его натуралистическую поправку поэтизированного Бурки: продолжал упорно писать по-своему.
Следующее раннее-раннее припоминание себя на заре бытия также связано у Нестерова с тягой к творчеству, с первыми опытами творческого воображения.
«…Помню, как во сне: зимний вечер, мы с сестрой остались в горницах с няней. Сидим в столовой за круглым столом, я леплю какие-то фигурки не то из воска, не то из теста…
Фантазия моя в детстве была неистощима. Воплотить что-либо, оживить и поверить во все для меня было легче легкого».
Замечательно в этом отрывке признание о неистощимости детской фантазии и легкости, с какой фантазия эта воплощалась в образы игры и веры.
Нестеров в детские годы в родительском доме был религиозен, но важно не это – в ту эпоху сколько тысяч русских детей ходили в церковь, были вовлечены в обрядовый круг, в бытовой обиход православия! – важно то, что Нестеров еще в детстве нашел в этом кругу зерно народной русской красоты, сумел извлечь из этого обихода замечательный художественный материал для построения своего поэтического сказания о родине, о ее природе и человеке.
«Ранняя весна. Пасха. Солнце светит особенно ярко. В воздухе несется радостный пасхальный звон. Все веселится, радуется, как умеет».
Так вспоминает Нестеров свое детское впечатление от светлого весеннего праздника.
Нестеров любил находить отражение красоты народной веры старой Руси в созданиях искусства и любил тех, кто умел это делать: Сурикова, В. Васнецова, Рябушкина, Мусоргского, Достоевского, Лескова, Мельникова. Он восторгался описанием светлой заутрени у Л. Толстого в «Воскресении», а о его легенде «Три старца» говорил, что Толстой здесь на высоте народного искусства и сам делал рисунки к этой легенде.
Но в те же уфимские годы детства Нестерову был близок и творчески призывен совсем другой круг впечатлений, о которых молчали его биографы.
Меньше всего в детские годы Нестеров был тихим ребенком «не от мира сего».
– Шалун, баловник, озорник – вот его самоопределения об эту пору жизни.
И на пасхальной неделе влекла его к себе не только колокольня с красным звоном, но и карусели на народном гулянье, балаганы с их шумом, свистом и посвистом. И в зимнюю пору, когда в Уфе в феврале месяце начиналась ярмарка, мальчика манили к себе эти народные балаганы с их гулливым весельем. «На балконе, несмотря на мороз, – вспоминает Нестеров, – лицедействовали и дед, и девица в трико, и сам Зрилкин, без которого не обходилась ни одна окрестная ярмарка, ни одно деревенское празднество. Тут, конечно, был и знаменитый Петрушка».
Как эти стариннейшие утехи русского народного лицедейства, родственные древним скоморошьим, манили Нестерова-ребенка «русские народные картинки» и русская лубочная книжка! Мать еле могла оторвать его от классических лубочных картинок: «Еруслан Лазаревич», «Как мыши кота хоронили», «Райская птица Сирин», «Платов-атаман», – и столь же трудно было оторвать мальчика от лубочных книжек с картинкою на обложке: «Барон Мюнхгаузен», «Фома-дровосек», «Ведьма, или Страшные ночи за Днепром».
Одно из сильнейших, длительных, благотворных впечатлений детства Нестерова – это его первое посещение театра.
Михаил Васильевич повествует:
«Помню, как-то зимой отец, вернувшись домой, сообщил нам, что вечером мы поедем в театр. Это была для меня, восьми-девятилетнего мальчика, новость совершенно неожиданная. Вот пришел вечер, и нас повезли. Театр настоящий, всамделишный. Мы сидим в ложе. Перед глазами нарисованный занавес. Он поднялся, и я, прикованный к сцене, обомлел от неожиданности. Передо мной был настоящий лес, настоящий еловый лес, валил хлопьями снег снег повсюду как живой. В лесу бедная девушка; все ее несчастные переживания тотчас же отозвались в маленьком, впечатлительном сердечке. Шла «Параша Сибирячка». Что я пережил с этой несчастной Парашей! Как все было трогательно: и горе Параши, и лес, и глубокий снег – все казалось мне более действительным, чем сама действительность, и, быть может, именно здесь впервые зародились во мне некоторые мои художественные пристрастия, откровения. Долго, очень долго бредил я «Парашей Сибирячкой». Не прошла она в моей жизни бесследно».
Не прошла. След ее навсегда остался в живописной повести о душевной красоте и о горестной судьбе русской девушки, в повести, сложенной Нестеровым в его «Христовой невесте», «На горах», в «Великом постриге». В нестеровских девушках с самоотверженным сердцем, умеющим жертвенно любить, но не знавших счастья разделенной любви, есть прямая связь с образом самоотверженной Параши, так поразившим мальчика в мелодраме Николая Полевого.
И недаром во всех дальнейших впечатлениях от театра самыми «ильными, памятными и дорогими для Нестерова были впечатления от артисток, создававших апофеоз женской самоотверженной любви и великого страдания.
Стрепетова, Заньковецкая, Элеонора Дузе были любимыми артистками Нестерова, и все они – русская, украинская, итальянская, столь несравнимые в творческой судьбе их, были, каждая по-своему и каждая в духе своего народа, несравненными воплотительницами женского страдания и подвига.
С Заньковецкой Нестеров написал портрет кистью живописца. Со Стрепетовой он сделал эскиз пером, о Дузе он много писал в своих письмах. О всех трех любил рассказывать.
В октябре 1940 года, когда я вел корректуру книги Михаила Васильевича «Давние дни», я спросил его о первых его впечатлениях от живописи и графики, полученных в Уфе. Он отвечал:
– Видел я у тетки моей, Анны Ивановны Ячменевой, ее рисунок «Маргарита за прялкой». Где-то даже раззолочен он был. Вероятно, это она откуда-нибудь срисовала. Так мне этот рисунок тогда понравился, что я копию сделал. Это было еще до гимназии. Другая моя тетка была замужем за Киприяном Андреевичем Кабановым. Он был из крестьян. Долгое время был управляющим на рыбных промыслах Базилевского в Астрахани. Честный, хороший человек. У него брат был Иван Андреевич, академик.
Иван Андреевич Кабанов был настоящий академик: учился в Академии художеств, получал серебряные медали, в 1852 году получил 2-ю золотую за картину «Проповедь Иоанна Предтечи в пустыне», через год – 1-ю золотую за программу «Ахиллес, учащийся стрелять у кентавра Хирона», был послан на казенный счет за границу, жил в Риме и получил звание академика за картину «Спящая вакханка». Кабанов был земляк Нестерова; он происходил из удельных крестьян Бугурусланского уезда.
– Его итальянские виды, – вспоминал Михаил Васильевич, – висели на почетном месте у тетушки.
Я указал Михаилу Васильевичу, что один из таких видов висел у Павла Михайловича Третьякова в галерее: «Терраса в окрестностях Рима». Нестеров ответил:
– Таланта у него не было, но рисовал хорошо: все как надо, все на месте. Помню, была его картина: мальчик-пастух итальянец лежит с дудкой в руках, облокотись на камень. Шляпа на нем высокая. Я хорошо эту картину запомнил. Мне нравилось.
Был тогда в Уфе художник – Тимашевский. Портреты писал. Деревянные. Его в городе уважали. Художник был тогда в Уфе в диковинку. Он идет по улице, а на него пальцами указывают: «Тимашевский идет! Смотрите, вот он!»
Этот уфимский портретист был тоже не без академического достоинства: Матвей Тимашевский был в 1853 году «удостоен Академией художеств звания неклассного художника за написанный с натуры портрет».
Работы этого «неклассного художника» были первыми, по которым будущий автор «Портрета И.П. Павлова» познакомился с искусством портрета.
Но первый шаг к художеству мальчик Нестеров совершил в Уфе с помощью совсем другого человека.
Это был Василий Петрович Травкин – учитель рисования и чистописания в гимназии, куда Нестеров поступил в 1872 году в приготовительный класс.
– Высокий, бритый, с длинными волосами, в вицмундире. Пил сильно. Он в классе один из всех учителей меня приметил. Внимательно поправлял мои рисунки. Любил меня. Зазывал меня к себе. Жил он на окраине. Снимал комнату у какой-то старухи. Нищета полная. Ничего нет. Один вицмундир на гвозде висит. Все остальное пропивал. Был одинокий человек. Неудачник. Но способный, с искрой. Что-то влекло меня к нему, а его ко мне.
Я задумал нарисовать что-нибудь отцу в подарок к именинам. Травкин дал мне оригинал – какой-то замок, написанный акварелью. Я рисовал «Замок» мокрой тушью. Травкин говорит мне: «Я трону», – и рисунок стал совсем другой: все ожило. Он умел рисовать.
Имя этого безвестного учителя рисования, еще в молодых годах погибшего в захолустье от вина, одиночества и тоски, должно навсегда остаться в биографии Нестерова.
Этот нищий учитель чистописания первый почувствовал в озорном мальчике из степенной купеческой семьи будущего художника.
Отдавая себе отчет в истоках своего искусства, Нестеров с особой, ни с чем не сравнимой признательностью называл главной питательницей своего творчества, воспитательницей своего искусства Природу. Он и писал и произносил это слово всегда с большой буквы.
У Нестерова, еще у ребенка, было сильное влечение к природе, были чуткость к ее красоте, восприимчивость к ее великому языку.
«Какие дали оттуда видны! – вспоминал он раннюю-раннюю поездку в подгородный монастырь. – Там начало предгорий Урала, и такая сладкая тоска овладевает, когда глядишь в эти манящие дали».
Нестеров изобразил их на нескольких своих картинах: «На родине Аксакова» (картину можно было озаглавить «На родине Нестерова»), «Три старца» (изображено уральское озеро Тургояк), «Симеон Верхотурский». В своих воспоминаниях Михаил Васильевич восклицает: «Хорош божий мир! Хороша моя родина! И как мне было не полюбить ее так, и жалко, что не удалось ей отдать больше внимания, сил, изобразить все красоты ее, тем самым помочь полюбить и другим мою родину».
Нестерову не пришлось стать живописцем заволжских степей и уральских предгорий, как стал им земляк его С.Т. Аксаков, которому Нестеров посвятил одну из своих картин.
Судьба дала Нестерову другой почетный удел – быть певцом среднерусской природы, среди которой сложился весь нравственно-физический облик русского народа, среди которой окрепло его историческое бытие, среди которой выросли и явились миру Пушкин, Лермонтов, Толстой, Глинка.
В 1874 году, после недолгого неудачного пребывания в гимназии, где Нестеров увлекался лишь рисованием да шалостями, родители решили, что пора ему оставить отчий дом и «взяться за пауку» на чужбине, в Москве. Осенью 1874 года Нестеров был отвезен в Москву, отдан в реальное училище опытного педагога К. П. Воскресенского и с тех пор уже никогда не возвращался в Уфу на постоянное житье: он приезжал туда лишь гостем, на летний отдых или для уединенной художественной работы.
Михаил Васильевич всегда с теплой и благодарной памятью сердца вспоминал свое детство, проведенное в родном доме в Уфе. «Отцы» и «дети» с их взаимным непониманием и борьбою – это не тема биографии Нестерова. Наоборот, отец и мать – это неизменно привлекательные образы в его воспоминаниях, и не потому, что из «прекрасного далека» воспоминаний минувшее кажется привлекательнее, чем оно было в действительности. Письма Нестерова в Уфу за годы напряженной художественной работы свидетельствуют, что родной дом неизменно встречал участием, приветом и одобрением все, что было ему дорого в жизни: его «труды и дни» художника с их надеждами, скорбями и победами.
Но не одну хвалу раннему своему уфимскому прошлому, но и грустный вздох доводилось мне слышать из уст Михаила Васильевича.
Как-то в сентябре 1940 года, живя у меня, он читал письма Вл. Соловьева; в особенности захватила его переписка с Л.Н. Толстым. Он тужил, что раньше ему не довелось прочесть ее, и тут же не без горечи посетовал, что многого он не читал, многого не знает. Он говорил с нескрываемой болью:
– Серову хорошо. Перед ним все книги были раскрыты. Отец был даровитый композитор. Мать образованная. Серов четырехлетним мальчиком у Рихарда Вагнера на коленях уже сидел. Ему было легко. А нам – из Уфы! – приходилось до всего самим добираться. И Виктору Михайловичу (Васнецову. – С.Д.) – он из Вятки – семинария немного дала, да и с ней надо было бороться. Нам все самим, всего самим приходилось добиваться. Это нелегко. Я больше чую, чем знаю. Чутьем до всего доходил, до «своего».
И не один раз мне приходилось слышать от Нестерова подобные признания. За месяц перед приведенным разговором Михаил Васильевич читал письма М.А. Врубеля. Вспоминая художника, которого высоко ценил, он сказал почти то же, что о Серове:
– Врубелю было хорошо: родился в интеллигентной семье, окончил университет. Знал языки. А я попал из купеческой семьи в запьянцовскую среду. Как не погиб там совсем!
Михаил Васильевич разумел ту московскую «богему», среди которой ему пришлось жить в годы учения в Училище живописи.
Ни к самообличениям, ни к элегическим покаяниям Михаил Васильевич не был склонен. Во всех приведенных признаниях звучал прямой строгий вывод из искреннейших наблюдений, сделанных над самим собою.
II
Годы учения…
Под этими словами можно бы легко вместить не несколько юных лет, а всю жизнь Нестерова. Невозможно указать, когда кончились его годы учения. Я думаю, они кончились тогда, когда кончилась его жизнь. И перед самым концом жизни, после шестидесяти с лишком лет упорного труда, мне приходилось не раз слышать от него сожаления о том, что многое упустил он узнать, что хорошо бы съездить снова в Италию и поучиться там у великих мастеров.
В узком смысле слова «годы учения» Нестерова – в Училище живописи (1877–1880), в Академии художеств (1880–1883) и опять в Училище живописи (1883–1886) – длились девять лет.
Прологом к этим годам учения было трехлетнее пребывание Нестерова в реальном училище К.П. Воскресенского в Москве (1874–1877), куда его отдал отец, потеряв надежду сделать из него купца, но не утратив мечты увидеть сына инженером-механиком. Однако творческая природа мальчика была столь ясна и ярка, что с первых же его шагов в училище нельзя было не приметить, куда лежит его путь. Мальчик оказался в непримиримой вражде с математикой, с иностранными языками, в приятных отношениях с историей, географией, русским языком, с «законом божиим» и в горячей дружбе с рисованием.
Учитель рисования и здесь, как и в Уфе, разглядел Нестерова в шумной ватаге своих учеников.
Однажды Михаил Васильевич в веселую минуту спросил меня:
– Знаете, какое было в училище прозвище у вашего друга? – Он выдержал хитроватую паузу и сам ответил: – Пугачев! – Это прозвучало так неожиданно, что он тотчас же пояснил: – Я горазд был на шалости. Я был запевалой во всех проказах. Я всегда был неспокойный, таким и умру. Чего-чего только я не вытворял с воспитателями! Француза мы изводили. Немец Поппе от меня плакал. Они меня терпеть не могли. А учитель чистописания и рисования любил. Фамилия его была Драбов Александр Петрович. Тихий старичок с красным носом. Вот вроде того «Учителя рисования», что написал Перов. Он неудачник был. Учился в Академии художеств. А писал только образа. Мы рисовали у него с гипса. На мои рисунки он обратил внимание. Особенно хвалил голову Аполлона. Я ему благодарен. Он первый сказал: «Ему надо учиться живописи». Он сам, по своей охоте, стал приходить в училище по воскресеньям и учил меня работать акварелью. Я писал цветы с хороших оригиналов.
Робкий Драбов не усомнился открыть директору училища К.П. Воскресенскому, что в маленьком «Пугачеве» из Уфы таится художник.
«В один из уроков рисования, – вспоминал Нестеров, – у нас появился в классе Константин Павлович, а с ним какой-то приятный, с пышными седеющими волосами господин. Драбов с ним как-то особо почтительно поздоровался, а поговорив, все трое направились ко мне. Гость ласково со мною поздоровался и стал внимательно смотреть мой рисунок – хвалил его, поощрял меня больше работать, не подозревая, может быть, что я и так рисованию отдаю время в ущерб остальным занятиям (кроме шалостей). Простившись со мной, посмотрев еще два-три рисунка, Константин Павлович и гость ушли… После занятий я узнал, что это был известный, талантливый и популярный в те времена художник Константин Александрович Трутовский… Посещение Трутовского имело для моей судьбы большое значение».
Академик Трутовский, инспектор Училища живописи, ваяния и зодчества, подтвердил директору мнение учителя рисования, что в озорнике таится талант живописца. Мальчику были куплены масляные краски, и Драбов засадил его копировать образ архангела Михаила с оригинала М.И. Скотти.
Первая встреча Нестерова с современным искусством произошла на Передвижной выставке; директор послал его туда с воспитателем. «…Я совершенно был ошеломлен виденным там, – писал Нестеров в год смерти, – особенно остались в моей памяти четыре вещи». Это были «Украинская ночь» Куинджи, «Кобзарь» Трутовского, «Опахиванье» Мясоедова и «Сумерки» Ярошенко. Художники эти, замечает Нестеров, «были с поэтическими наклонностями, чем, быть может, и подкупали мое юное сердце, и я помню картины их до сих пор».
Сильнейшее впечатление произвела на юношу «Украинская ночь» Куинджи. «Она даже в отдаленной мере не была тогда похожа на изменившуюся за много лет теперешнюю «олеографическую» картину этого большого мастера. Была тогда
Вот что восхищало и опьяняло в ней тогда».
«Об Архипе Ивановиче Куинджи, – писал Нестеров годом раньше, – у меня навсегда осталась благодарная память. Он открыл мою душу к родной природе».
Как на Нестерова подействовала первая увиденная им картина Куинджи, так впоследствии на Куинджи подействовала первая же картина Нестерова. После «Пустынника» он навсегда стал искренним сторонником молодого художника и горячо защищал его от всех нападок.
К весне 1877 года директору реального училища Воскресенскому стало ясно, что место Нестерова в другом училище, на той же Мясницкой улице – в Училище живописи, ваяния и зодчества, и он убедил в этом отца Нестерова.
Отец, не без тревоги взиравший на путь художника, и директор, признавший этот путь неизбежным для своего ученика, объявили мальчику, что осенью он может держать экзамен в Школу живописи, но потребовали от него, «хорошенько подумавши, сказать, хочет ли быть художником и дает ли слово прилежно заниматься там, не шалить» и пр.
«Недолго пришлось ждать моего ответа, тотчас же пылко согласился я на все. Тогда мне не было еще и 15-ти лет, и я не подозревал, каких трудов, какой затраты сил, ответственности потребуется, чтобы преодолеть все препятствия и, спустя много лет, стать в ряды избранных».
Так впоследствии комментировал 79-летний мастер свой «пылкий ответ», данный за 65 лет перед тем. Но никогда в течение жизни у него не было мгновения, когда бы наволокнулась тень раскаяния в избранном пути.
В Училище живописи на приемном экзамене соседом Нестерова оказался А.Е. Архипов; оба были приняты за отлично нарисованную «Голову апостола Павла».
Учителем Нестерова в первом, «головном», классе был Павел Алексеевич Десятов, портретист, ученик С.К. Зарянко; во второй год пребывания в Училище живописи (1878–1879) Нестеров даже жил у него на квартире вместе с другими учениками. «Головной» класс Нестеров, в сущности, прошел еще с Драбовым в училище Воскресенского, и потому уже на третьем месяце за голову Ариадны был переведен в фигурный класс.
Здесь у Нестерова было два преподавателя, один из них, Павел Семенович Сорокин, когда-то обратил на себя внимание академической программой «Киевские мученики», но во времена Нестерова незаметно проходил он чреду иконописца; его эскиз «Триипостасное божество» счел нужным приобрести П.М. Третьяков.
Другой профессор фигурного класса был полной противоположностью Сорокину – живой, горячий Илларион Михайлович Прянишников, один из самых деятельных передвижников, одушевленный верой в свое дело.
У академического неудачника, Павла Сорокина, Нестеров работал, зевал, а когда его сменял Прянишников (профессора чередовались по месяцам), работа била ключом. В неоконченных набросках о своих «годах учения» Нестеров вспоминает о Прянишникове: «Острым глазом осмотрев нас всех, пишущих этюды, внезапно перелезай через табуретки, так что ученики едва успевали сторониться, пробирался к намеченному одному из нас (быть может, еще накануне), брал палитру и начинал поправлять, проще сказать – заново переписывать этюд ученика. Время шло, миновал час отдыха натурщице, а увлеченный сам и увлекший всех нас Илларион Михайлович писал да писал. Иногда написанное было столь живописно, жизненно – что хоть бы и Репину (тогда в полной поре) было бы в пору. Прописавши так час и два, а иногда и больше, Илларион Михайлович отдавал палитру ученику… Конечно, никто после него и не думал продолжать писать переписанный И. М. этюд. А на экзамене за этот этюд ставили «первый номер», что нимало не смущало Прянишникова».
Но этот свежий художник и добрый человек умел быть и строгим. Нестерова он скоро приметил в толпе учеников, даже, по словам Нестерова, «благоволил» к нему. Это не помешало Прянишникову попридержать Нестерова в фигурном классе, когда он заметил в способном ученике некую опасную самоуверенность: за отличный рисунок Антиноя вместо ожидаемого первого номера Нестеров получил 56-й. А затем, когда Прянишников убедился, что одаренный юноша вновь принялся за работу, Нестеров столь же неожиданно переведен был в натурный класс.
«Я лично много раз и за многое должен помянуть добром этого честного, прямого и умного учителя своего, – пишет Нестеров о Прянишникове. – Прянишников в расцвете своего таланта стал подлинным живописцем, чему свидетельствует его картина из быта северного края». Нестеров разумел «Спасов день на севере» с ее прекрасным привольным русским пейзажем, с ее бодрой поэзией теплого, ясного августа – месяца, когда деревня радовалась урожаю и щедро справляла свои праздники. Самое изображение крестьян у Прянишникова – тепло-любовное, спокойно-правдивое – Нестеров находил прекрасным но простоте и поэзии.
И в позднейшие годы отношения ученика и учителя оставались неизменно сердечными.
В натурном классе Нестеров встретился с двумя, также сменявшими друг друга профессорами, художниками из двух эпох русской живописи: с Евграфом Семеновичем Сорокиным, старшим братом Павла Семеновича Сорокина, знаменитым рисовальщиком старого академического закала, и с Василием Григорьевичем Перовым.
Евграф Сорокин был Обломов с развалистой поступью, с добродушно-картавой речью; это был художник почти без картин: их не позволяла ему писать непреодолимая мягкая лень; в галерее Третьякова висела всего одна его «Нищая девочка-испанка», написанная еще в 1852 году.
«Сорокин знал рисунок, как никто в те времена, – писал Нестеров, – но работать он не любил. Механически брал тряпку и уголь и, едва глядя на модель, – смахнув нарисованное учеником, – твердой рукой ставил все на место.
…Не любил он и писать. Писал – скорее намечал форму, чем цвет».
Нестеров с признательностью вспоминал Евграфа Сорокина: этот академик из Обломовки с зорким глазом и твердой рукой раз навсегда привел Нестерова к сознанию: без формы нет искусства, без рисунка нет живописи. Как бы ни пленяли Нестерова очарование красок и волшебство колорита на иной картине, он не мог ни на мгновение зажмурить глаза на шаткость формы, он угрюмо морщился от несовершенства рисунка. Он не прощал этого даже самым любимым художникам.
Невнимательную небрежность, а то и полное забвение рисунка он считал болезнью современных живописцев. Молодых художников, обращавшихся к нему за советом, он прежде всего вразумлял: «Полюбите рисунок. Поищите его. Не спускайте себе тут ничего. Научитесь рисовать». И говорил он это так искренне, так убежденно, что случалось, художник уже с немалым именем принимался за ту работу, которую сам Нестеров проделал в натурном классе у Евграфа Сорокина.
Любоваться чужими совершенными рисунками было одно из наслаждений для Нестерова. В 1940 году я писал работу «Врубель и Лермонтов» и показал Нестерову целую коллекцию больших фотографий с рисунков Врубеля к Лермонтову, в том числе и никогда не воспроизводившихся. Он рассматривал рисунки долго и отзывался о них с вовсе не свойственной ему восторженностью.
Сопоставляя рисунки Врубеля к «Демону» с рисунками Серова и Поленова к той же поэме, Нестеров воскликнул:
– Куда тут Серову! Разве он может так рисовать! А о Поленове и говорить нечего. Сравните его верблюдов («Три пальмы») с врубелевскими («Демон»). У Врубеля – мастерство, у Серова – мастеровитость.
Это говорил человек, высоко ценивший мастерство Серова-рисовальщика.
В своих воспоминаниях о Левитане, вызванных его кончиной, вспоминая годы учения, Нестеров с глубоким волнением писал: «То было весной, давно, когда Московская школа еще носила на себе тот своеобразный отпечаток страстного увлечения и художественного подъема, вызванного удивительной личностью и художественной проповедью Перова, когда, казалось, пульс жизни бился особенно ускоренно, когда там вместе с первым работали Саврасов, Прянишников, Евграф Сорокин, когда только что зарождалась мысль об ученических выставках, а в Петербурге Крамской во главе передвижников призывал молодежь послужить русскому искусству».
И сорок лет спустя, вспоминая о годах учения, Нестеров не мог без любящего волнения произнести имя Перова: Василий Григорьевич Перов был для него душою, сердцем, совестью школы.
«Сам Перов не был сильным рисовальщиком, – писал Нестеров в неоконченных воспоминаниях о годах учения, – и при всем желании не был для нас в рисунке авторитетом, как Евграф Сорокин, не давались ему и краски, которые мы уже начинали видеть у молодых Сурикова, Репина, В. Васнецова. Не в этом была сила и значение В.Г. Перова. Была она в проникновении в тайники души человеческой, со всеми ее радостями и скорбями, с чудесной правдой и гибельной кривдой. И Перов, владея своими скромными красками, рисунком, умел освещать, как Тургенев, Островский, Достоевский, Л. Толстой, глубоко скрытые язвы человеческой природы, его умный глаз сатирика проникал в тайники сокровенного. Ему была одинаково доступна «высокая комедия», как и проявления драматические. Его художественный кругозор был широк и разнообразен. Его большое сердце болело за всех и за вся. И мы знали, что можно и чего нельзя получить от нашего славного учителя. А он такой щедрой рукой расточал перед нами свой огромный опыт наблюдателя жизни. Все, кто знал Перова, не мог относиться к нему безразлично. Его надо было любить или не любить со всею пылкостью молодости, и мы, за редкими исключениями, его любили».
Будущий автор «Явления отроку Варфоломею» любил автора «Похорон в деревне» особенно горячо и страстно.
Это была любовь без исключений – к человеку, к учителю, к художнику, и без ограничений; любил Нестеров Перова тогда, когда, подражая ему, писал «С отъездом» (проводы купца из гостиницы, 1880) и вызвал похвалу Перова: «Каков-с!» – и не менее горячо и благодарно продолжал Нестеров любить Перова тогда, когда сам давно уже был автором картин из жизни Сергия Радонежского, и тогда, когда завершал свой путь изумительными портретами. Казалось бы, автор лирического «Пустынника» неизбежно должен был отрицать обнаженную нарочитую сатиричность «Сельского крестного хода на Пасху». Но я никогда не слыхал из уст Нестерова такого отрицания. В молодых годах Нестеров даже пробовал идти за «Крестным ходом» Перова. Сохранился его рисунок польским карандашом на корнпапире «Проводы иконы». После молебна в казенном заведении спускается по лестнице весьма убогий крестный ход. Его открывает старик дьячок с подвязанной щекой, несущий фонарь. Рядом с ним выступает плутоватый мальчишка с огромным «батюшкиным» зонтом и с внушительной кружкой для сбора пожертвований. За ним следует некто наподобие церковного старосты с подсвечником. Далее глуповатого вида парень и седой бородач несут «Угодника» в тяжелой ризе. За «Угодником» шествует престарелый батюшка в камилавке. По лестнице стоят бородачи, салопницы и инвалиды, кланяющиеся иконе. Все это изображено с сатирической усмешкой под Перова и подписано: «М. Нестеров. 1885 г.».
Значит, это рисовано за два года до «Христовой невесты», за три до «Пустынника».
В дальнейшем Нестеров уже не повторял таких опытов, но не мне одному пришлось слышать от него признание:
– Перов сделал свое дело: он написал людей, осквернявших родину своим существованием, а мне досталось писать тех русских людей, которые жили согласно с честью и умерли с чистой совестью перед родиной.
В картинах Перова больше всего волновала Нестерова тема народного страдания («Похороны в деревне», «Утопленница», «Тройка»). Она захватывала его своей безысходной трагической скорбью. Перов почти без красок, своим талантом, горячим сердцем достигал неотразимого впечатления, давал то, что позднее давал великолепный живописец Суриков в своих исторических драмах.
Во всех этих признаниях Нестерова запечатлена не охладившаяся с годами близость ученика к своему учителю.
«Задавили», «Жертва приятелей» и другие свои нехитрые жанровые рассказцы Нестеров покинул уже в середине 1880-х годов, но лирико-драматическая народная «душа темы» Перова, по выражению Нестерова, осталась ему навсегда близка, он дал ей глубоко искренний отклик в своих картинах на тему о страдальческой судьбе русской женщины.
Можно сказать больше: в последние годы жизни Нестеров как бы заново почувствовал, творчески обновил свою связь с Перовым. При посещениях Третьяковской галереи он долго простаивал перед портретами работы Перова, а в своем литературном портрете Перова, созданном в те же годы, писал: «А его портреты? Этот «купец Камынин», вмещающий в себе почти весь круг героев Островского, а сам Островский, Достоевский, Погодин – разве это не целая эпоха? Выраженные такими старомодными красками, простоватым рисунком, портреты Перова будут жить долго и из моды не выйдут так же, как портреты Луки Кранаха и античные скульптурные портреты».
Перов привел юного художника на его первую выставку. В 1879 году на 2-й ученической выставке появились его небольшие картины «В снежки» и «Карточный домик», и на ученической же выставке восемь лет спустя появилась «Христова невеста» – картина, показавшая, что путь ученичества для Нестерова окончен.
Школа Перова продолжалась для юноши Нестерова в другой школе, о которой он всегда отзывался с не меньшим уважением и любовью, – в галерее Павла Михайловича Третьякова. В годы учения он посещал эту школу в Лаврушинском переулке постоянно, упорно; радостно и благодарно вспоминал о том радушии, с которым Третьяков распахнул двери своего дома для всех интересующихся русским искусством.
Работая в 1940 году над книгой «Островский и русская действительность», я собрал большое количество снимков картин художников, воспроизводивших ту же действительность, что и Островский. Я просил Михаила Васильевича просмотреть эти снимки, забраковать то, что было слабо в художественном отношении. Он увлекся этим делом и с большим интересом пересмотрел целую коллекцию работ передвижников и их предшественников. Каждую из этих картин Федотова, Пукирева, Корзухина, Журавлева, Юшанова, А. Морозова, Шмелькова, Соломаткина, Неврева и других он встречал как старых знакомых и снабжал зоркой характеристикой, основанной на давнем пристальном знакомстве.
Почти все эти художники были чужды Нестерову по темам, влечениям, живописным приемам, но было ясно, что с каждым из них он близко познакомился еще в доме Павла Михайловича Третьякова и на передвижных выставках, которые устраивались в Москве в классах Училища живописи, и не менее очевидно было, что от каждого даже из некрупных передвижников он успел и умел многому научиться.
Корни реалистического искусства, к которым Нестеров прикоснулся в годы учения с помощью Прянишникова, Перова и передвижников, были настолько прочны и глубоки, что Нестеров всегда дорожил плодотворной крепостью этих корней.
8 февраля 1933 года он мне писал: «Как наступят ясные дни, пойду в галерею смотреть иконы, Иванова и, что греха таить, свои старые грехи. Не видал все это лет пять, соскучился о Крамском, Шишкине, о старых честных передвижниках».
Еще в конце 1870-х годов Нестеров впервые встретился с Левицким, Боровиковским, Кипренским, Брюлловым; портретисты XVIII и первой половины XIX века приковывали его своей живописной силой и красотой.
Перов подвел Нестерова к тому художнику, перед которым он, как ученик перед недостижимым учителем, благоговел всю жизнь.
– Василий Григорьевич Перов, – говорил мне Нестеров в 1926 году, – посылал своих учеников смотреть «Явление Христа народу» Александра Андреевича Иванова. Меня, мальчишку восемнадцати лет, заставлял писать в натуральную величину мальчика, выходящего из воды.
Когда в 1924 году я задал Нестерову вопрос о значении Александра Иванова в его жизни и творчестве, его ответное письмо превратилось в гимн великому художнику.
«Александра Андреевича Иванова люблю всего, но предпочтительно «Явление Христа народу», как нечто выраженное совершенно, как некое явление, открывшееся Иванову, как свидетельство того, чего он был очевидцем».
Необычайно высоко ценя глубокий внутренний реализм и живую действенность картины Иванова, Нестеров столь же высоко ценил ее чисто художественные достоинства:
«О совершенстве художественных форм я говорить не стану. Красочные и другие совершенства этой картины огромны. Недаром наши «сезанисты», не охочие до изучения формы-рисунка, говорят про Иванова, что форма-рисунок его совершенны до неприятного, так сказать, до неприличия…»
Нестеров всю жизнь не переставал учиться у великого художника.
С какой радостью отмечал Нестеров всякое внимание к Александру Иванову со стороны молодых художников, всякое желание поучиться у него мастерству рисунка, строгости формы, беззаветной преданности делу.
Я сопоставил рядом двух самых любимых учителей Нестерова, Перова и Иванова потому, что он сам всегда считал давно умершего Иванова таким же прямым, живым своим учителем, как Перова, который «трогал» ему этюды. Для Нестерова было характерно, что он умел учиться у мертвых так же, как у живых.
В московском Училище живописи Нестеров пробыл три учебных года (1877–1880), и его потянуло в Петербург, в Академию художеств.
Перов отговаривал, утверждая, что академия не даст Нестерову того, что он ждет от нее. Перов оказался совершенно нрав, но на несколько лет Нестеров все-таки оторвался от Московской школы, чтобы вернуться в нее впоследствии.
Причин временного переселения в Петербург было три.
Одну назвал сам художник: ему была всегда свойственна «охота к перемене мест». Певец тишины и тихости, он никогда не переставал внутренне мигрировать из места, ставшего слишком тихим, в места, еще посещаемые вихрями и бурями.
В Училище живописи Нестеров, по его собственным словам, «носился, как ураган: мне надо было всюду поспеть», но, стремительный и проказливый настолько, что старик сторож училища говаривал шалунам следующих поколений: «Сколько ни старайся, тебе до Нестерова далеко!», он все-таки инстинктивно чувствовал, что погружается в привычное бытование школы, в болотистый быт московской богемы.
«Жизнь училища не изнуряла нас, – вспоминает Нестеров в неоконченных воспоминаниях. – Где тратились силы, здоровье, время – это в филиалах школы: в трактирах, в учреждениях, ничего не имеющих общего ни с искусством, ни с наукой… Как мы, а до нас наши предшественники, доходили до этого? Путей было много: отсутствие семьи, молодечество, так называемый «темперамент», да мало ли что толкало молодежь на эти пути! Многие на этих путях гибли, особенно обидно гибли люди способные, талантливые, сильные».
Страшно было пьяное болото, засасывающее талантливых людей, разменивавших свой талант за гроши. Трактиры превращались в биржи, вспоминает Нестеров, «туда приходили наниматели, рядили их (художников. – С.Д.) на разные работы, в типографии, писать царские портреты, ретушировать фотографии. Да мало ли в те далекие времена кому нужен был наш брат художник!» Все эти работы отводили молодых художников от искусства, от творческого труда и делали их в конце концов рабами биржи и трактира, подсекавших под корень творческие и жизненные силы молодежи.
Внутренний здоровый инстинкт самосохранения заставил Нестерова хотя бы простым прыжком в Петербург разорвать опасный круг бытования, в который уже втянулись некоторые из его товарищей.
Но была и третья причина вылета на север из теплого московского гнезда: «Время шло, а я все еще не мог сказать себе, что скоро будет конец моему учению. Хотя и видел, что меня считают способным, но меня «выдерживали» и медалей не давали».
А медалей этих хотелось. Они были нужны для того, чтобы доказать и родной Уфе и в училище Воскресенского, что ни там, ни тут не ошиблись, пустив в Училище живописи. Настоящего, не ученического, а творческого успеха не было потому, что подлинная «лирическая» тема Нестерова не была раскрыта его художественной волей, и ни Сорокин, ни Перов не могли ему в этом помочь. В 1877–1880 годах Нестеров занят исключительно анекдотическим жанром, к которому никогда не возвращался впоследствии, и вовсе не тянется ни к пейзажу, ни к портрету, которым отдал столько любви в последующие годы.
Порыв в Академию художеств, быть может, был порывом к собственному творчеству, а не только к новому, усиленному учению и скорейшему признанию.
Но Перов оказался прав: Академия художеств за три учебных года (1880–1883) привела Нестерова лишь к полнейшему разочарованию. Она обдала пылкого москвича ледяным холодом позднего, самого унылого, растерявшего всю уверенность в себе академизма эпигонов П.М. Шамшина, В.П. Верещагина и др. Лучшее, что было в этом академизме, – любовь к рисунку – Нестеров уже взял у Е. Сорокина. В академических классах Нестеров чувствовал убийственную скуку, а медалей за нее отнюдь не давали.
Если бессмысленно скучно и оттого плохо работалось у бездарного Василия Петровича Верещагина, про которого говорили: «Это, знаете, не настоящий Верещагин», – то совсем уже не работалось у Валерия Якоби, сменившего свой ранний «Привал арестантов» на портреты модных дам и придворные жанры.
Завитой и подкрашенный Якоби должен был заменить Перова с его мятущейся душой, с его горячей правдой!
Самая мысль об этом казалась для Нестерова оскорблением.
Образ покинутого Перова встал между Нестеровым и другим профессором, антиподом Якоби. Это был Павел Петрович Чистяков, учитель Репина, В. Васнецова, Поленова, Серова.
«К Чистякову все льнут, – вспоминал Нестеров, – где остановится, сядет, там толпа. Пробовал и я подходить, прислушивался, но то, что он говорил, так было не похоже на речи Перова. В словах Чистякова и помину не было о картинах, о том, что в картинах волнует нас, а говорилось о колорите, о форме, об анатомии. Говорилось какими-то прибаутками, полусловами. Все это мне не нравилось, и я недовольный отходил. Душе моей Чистяков тогда не мог дать после Перова ничего. А то, что он давал другим, мне еще не было нужно, я не знал еще, как это будет необходимо на каждом шагу серьезной школы и что я постиг гораздо позже, когда усваивать это было куда трудней».
Нестеров говорил мне, что, написав «Пустынника» и «Отрока Варфоломея», он мечтал пожить в Петербурге и хорошенько поучиться у Павла Петровича Чистякова, но приглашение на работу во Владимирский собор в Киеве навсегда помешало осуществить это намерение.
Из академических лет у Нестерова гораздо ярче сохранился образ одного из учеников Чистякова, чем самого учителя.
Это был Михаил Александрович Врубель, получивший 2-ю серебряную медаль за эскиз «Обручение Марии с Иосифом». Нестеров всегда восхищался этим блестящим, академическим в лучшем смысле слова рисунком.
«Я же хотя за эту же тему и получил 1-ю категорию, но не медаль. Да и не стоил мой эскиз медали: он был сделан весьма «по Дорэ», что тогда вообще практиковалось, но не поощрялось».
Академию художеств Нестеров нашел для себя в Эрмитаже. Манкируя занятиями у Шамшина, Верещагина и др., там проводил он целые часы перед великими мастерами, наслаждаясь и поучаясь.
В академии было хорошее правило: прежде чем писать картину на золотую медаль, на тему, предложенную академией, необходимо было сделать копию с одного из великих мастеров. Нестеров сперва остановился на одном из второстепенных голландцев, затем увлекся «Неверием Фомы» Ван-Дейка (он всегда произносил и писал «Вандик»). Копия вышла отличная. Она была замечена Иваном Николаевичем Крамским, с тех пор подарившим молодого художника своим теплым участием.
Работы в Эрмитаже Нестеров вспоминал с особым чувством.
«Жизнь в Эрмитаже мне нравилась все больше и больше, а академия все меньше и меньше. Эрмитаж, его дух, стиль и проч. возвышали мое сознание. Присутствие великих художников мало-помалу очищало от той «скверны», которая так беспощадно засасывала меня в Москве».
Эрмитаж на всю жизнь оставался для Нестерова лучшей из Академий художеств, в которой он никогда не переставал учиться. Посетив после долгого перерыва Эрмитаж в 1923 году, Нестеров писал П.П. Перцову, автору столь любимой им книги о венецианской живописи:
«Эрмитаж все тот же. Бродил по нему, предаваясь воспоминаниям. Когда-то давно так много было воспринято там такого, что хватило на долгую жизнь. Редко гений человеческий так властно давал себя чувствовать, как то бывало в Эрмитаже в молодые годы. Вот и теперь, когда жизнь изжита, те же чарующие видения. Вот и мой Вандик, «Неверие Фомы», вот эти чудные принцы и принцессы, дальше Рубенс, а там таинственный золотой Рембрандт. А дальше еще Тициан, Беллини, Рафаэль…»
Молодой восторг и неутомимое упоение звучала в этих словах старого Нестерова.
Но чем глубже отдавался молодой Нестеров этим освобождающим влияниям подлинного искусства, тем скучней становилось ему в академии, тем сильней пробудилась в нем тяга вернуться на свою художественную родину – в Москву, в училище, к Перову.
Весною 1882 года Нестеров помчался в Москву с надеждой начать новую жизнь. Но Перов был уже при смерти.
«Горе мое было великое, – вспоминает Нестеров. – Я любил Перова какой-то особенной юношеской любовью». Он спешит запечатлеть на полотне красками образ угасшего учителя. Глубокое чувство – скорбь – вложило впервые в руки Нестерова кисть портретиста, и это же чувство сделало его реалистом: на своем этюде он добивался сохранить для себя подлинные черты дорогого покойника.[3
Возвращаться в Москву, в училище, без Перова, как будто не имело смысла. Но Нестеров таким одиноким и ненужным чувствовал себя в Петербурге, так много переболел там телом (два раза вынес тиф) и душою, что, пробыв в Петербурге еще зиму (1882–1883), в которую написал копию с Ван-Дейка, он весною 1883 года оставил академию, а с осени вновь поступил в Училище живописи.
III
На лето 1883 года Нестеров приехал в Уфу. В родном доме его встретили с холодком: опять без медалей, опять без наград! Переход его из академии в училище казался чем-то вроде перехода из университета назад в гимназию. Создавалась репутация беспокойного неудачника. Неудача была и с живописью: этюды не писались. На душе у Нестерова было смутно и беспокойно. Он с иронией писал об этом времени: «В Уфе дух «протеста» уфимского «Карла Моора» отражался на всех снимках знакомого фотографа, охотно снимавшего меня в более или менее «разбойничьих» видах. Так дело шло, пока однажды…» не произошла у Нестерова встреча, с которой, по его признанию, началась новая эпоха в его жизни и искусстве.
На благотворительной лотерее-аллегри в городском «Ушаковском парке» Нестеров встретился с двумя незнакомыми девушками, и с первого же взгляда потянулся к одной из них всем сердцем. «Смотря на нее, – писал он об этой встрече много десятилетий спустя, – мне казалось, что я давно-давно, еще, быть может, до рождения, ее знал, видел. Такое близкое, милое что-то было в ней. Лицо цветущее, румяное, загорелое, глаза небольшие, карие, не то насмешливые, не то шаловливые, нос небольшой, губы полные, но около них складка какая-то скорбная даже тогда, когда лицо очень оживлено улыбкой особенно наивной, доверчиво-простодушной. Голос приятный, очень женственный, особого какого-то тембра, колорита… Какое милое, неотразимое лицо, говорил я себе, не имея сил отойти от незнакомки. Проходил, следя за ними, час-другой, пока они неожиданно куда-то скрылись и я остался один, с каким-то тревожным чувством». Это было еще слепое чувство уже зарождающейся любви – первой и «самой истинной», по словам художника, которую он испытал за всю жизнь.
Вторая встреча с незнакомкой произошла на улице, в жаркий день, когда уфимский «Карл Моор» ехал верхом на Гнедышке – «и вдруг совсем близко увидал мою незнакомку, в том же малороссийском костюме, в той же шляпке, но только под зонтиком… Я решил высмотреть, куда она пойдет… Барышня шла, я подвигался вдали почти шагом. Долго так путешествовали мы, и я заметил, что незнакомка догадалась, что всадник едет не сам по себе, а с какою-то целью, и стала за ним наблюдать в дырочку, что была у нее в зонтике…».
Этот «конский топ» вслед за незнакомкой был так для него волнующ и так ему сладок, что он тогда же, в 1883 году, запечатлел его на милом рисунке, озаглавленном «Первая встреча». Это лучший из ранних рисунков Нестерова. Он овеян теплым юмором: лихо восседает на Гнедышке неудачливый уфимский «Карл Моор», еще лише заливаются на него две юркие шавки, – но так застенчиво-мила незнакомая девушка, прикрывающаяся зонтом не столько от солнца, сколько от «Карла Моора», чтобы получше рассмотреть его в дырочку!
Незнакомка оказалась девушкой из Москвы, Марией Ивановной Мартыновской (родилась в один год с Нестеровым). Она гостила в Уфе у брата Николая, преподавателя Землемерного училища; другой ее брат, Сергей, был сослан в Восточную Сибирь за участие во взрыве Зимнего дворца в 1880 году.
Все влекло Нестерова к этой девушке: «Имя простое, но такое милое… Необычайно добрая – все и всем раздаст, узнал про нее почти легенды. Все слышанное мне больше и больше нравилось. Тут где-то близко было и до «идеала», а о нем я, видимо, начал после Москвы и Питера задумываться». Первые же дни знакомства усилили все то светлое, теплое и чистое, чем повеяло от девушки при первой встрече.
Сближала их и природа, и русская песня, одинаково любимые обоими. И в старости со светлою радостью вспоминались Нестерову прогулки молодежи за город, особенно один из таких вечеров. Это было на берегу реки Белой, у Шихан-горы. «Скоро разбились на парочки, по группам. Кузнечики стрекотали, где-то за Белой горели костры у рыбаков, где-то внизу плыли на лодке, пели… Собрались вокруг зажженного большого костра. Кто-то затянул хоровую, все подхватили, и долго в ночной тишине плыли мелодические звуки старой, всем известной песни про Волгу, про широкое раздолье… Этот вечер сильно сблизил нас с Марьей Ивановной. Едва ли он не был решающим в нашей судьбе».
Сохранился набросок, относящийся к лету 1883 года. Он сделан карандашом, на обороте рисунка к «Запискам из Мертвого дома» Достоевского.
Река. На носу лодки сидят девушка – Мария Ивановна Мартыновская – и молодой человек – сам Нестеров. Он держит девушку за руки и горячо ей что-то говорит. На корме гребет лодочник. Молодая женщина – по-видимому, сестра Марии Ивановны – прислушивается к разговору.
До летней встречи с Мартыновской в рисунках, эскизах, этюдах и картинах Нестерова отсутствует женский образ. Он возникает только в это уфимское лето.
Ольга Михайловна Шретер (урожд. Нестерова) пишет мне о своем отце и матери: «Изображал ее часто по моде того времени с тонкой талией, в шляпе корзиночкой. В одном из писем он пишет, что, по словам его родных, «она приворожила его». Но чем? Красоты в обычном, трафаретном смысле в ней не было. Была лишь неуловимая прелесть, природная оригинальность (как говорил отец) и удивительная женственность, так привлекавшая не только отца, но и всех знавших ее».
Молодому художнику хотелось уловить это «лица не общее выраженье» любимой девушки.
«7 июня 1883 года» (собственноручная пометка) Нестеров зарисовал Марию Ивановну Мартыновскую в виде девушки, идущей с палкою в руке, и сам надписал на рисунке (он сделан карандашом и тронут белилами): «Богомолка».[4
Почему ему пришло на мысль изобразить любимую девушку в виде одной из тех юных богомолок, которые в старые годы с упованием в сердце шли по обителям вымаливать себе счастливую долю, столь малодоступную русской женщине, и часто, не найдя этой доли, навсегда оставались в этих обителях? Не потому ли, что через черты любимой девушки Нестеров впервые начал всматриваться в лицо русской женщины, носящее на себе следы уготованных ей жизнью многих скорбей и редких радостей?
На расставанье, перед отъездом в Москву, Нестеров подарил М.И. Мартыновской свой рисунок, озаглавив его «Вспышка у домашнего очага (сцена из мелкочиновничьей петербургской жизни)».
Это не что иное, как эскиз «Домашнего ареста», картины, написанной в том же 1883 году, с интерьером, взятым из родного дома в Уфе. Внизу, в углу, чернилами: «Ученик В.Г. Перова Нестеров М. Посвящаю свой первый труд и уменье Марии Мартыновской в память лета 1883 г.».
Очевидно, молодой художник гордился перед любимой девушкой своим званием ученика Перова и был доволен своим трудом, как ему казалось, в духе и в теме своего учителя.
В Москву Нестеров возвратился другим человеком. К нему вернулись бодрость, жажда работы, целеустремленность: Своей темы, своего творческого почина еще не было: в новых картинах («Дилетант», «Знаток») он даже откликнулся на вовсе ему чуждую тематику Вл. Маковского, занявшего в училище место Перова. Он удачно работал над эскизами, приналег на этюды и рисунки, «стал вообще иным» (по собственной строгой оценке). Но весною в Уфу он вернулся опять без медалей и без звания «свободного художника» – значит, усилил свою репутацию неудачника. Новое лето дало новые радости – Марию Ивановну он мог уже назвать невестой, но это же дало и много горечи: в родительском доме слышать не хотели о таком браке.
В Москве, в училище, он продолжал испытывать подъем духа и энергии: «Писать и рисовать я стал внимательней, снова стал видеть краски, а эскизы стали моим любимым делом. Я все лучшие силы отдавал им. Первые номера, награды сыпались. В эскизах я чувствовал, что я художник, что во мне есть нечто, что меня выносит на поверхность школьной художественной жизни стихийно. И я слышал, что эскизы настолько обратили на меня внимание школьного начальства, что оно решило меня не задерживать, полагая, что, чего недополучу я в школе, даст сама жизнь. Со мною все учителя были очень в то время внимательны, ласковы, и я ходил именинником. Озорство постепенно испарялось, я весь ушел в занятия».
Старшая дочь художника О.М. Шретер пишет мне под впечатлением переписки отца с матерью, тогда его невестой:
«Необузданной натурой 22-летнего юноши безраздельно владеют два чувства, две страсти: любовь к искусству и любовь к женщине, причем первая все-таки доминирует. Он пишет (в письме к невесте. – С.Д.): «Помни, ты соединишь свою судьбу не с обыкновенным смертным – чиновником, врачом или купцом, а с художником… Для меня в искусстве или совсем ничего, то есть смерти подобно, или то, чего хочу добиться, о чем мечтаю день и ночь, во сне и наяву…»
«Первый весенний цветок с его тонким ароматом. Никакого внешнего блеска, – пишет О.М. Шретер про свою мать. – Потому-то так нелегко объяснить исключительное чувство к ней отца. Почти через 60 лет вспоминал он о нем как о чем-то светлом, поэтичном, неповторимом. «Судьба», «суженая» – излюбленное слово их обоих в письмах. Была она крайне впечатлительна, нервна; несмотря на простоту и бедность, по-своему горда… Над всеми чувствами доминировала особая потребность не только быть любимой, но любить самой безгранично, страстно, не считаясь даже с условностями того далекого времени. При отсутствии таланта, образования, внешнего блеска именно в смысле красоты духовной не походила она, очевидно, на окружающих. Слова отца «Ты прекрасна своей душой» ярко характеризуют весь ее облик… Вот если можно уловить эту неуловимую прелесть, быть может, «не от мира сего» – будет и сходство, и понятно станет ее влияние на творчество отца».
Влияние это было столь же велико, сколь благотворно для всей творческой судьбы Нестерова.
Весной 1885 года Училище живописи наконец признало Нестерова зрелым для самостоятельной работы. На экзамен («последний третной») принес он пять эскизов, в числе их большой, на историческую тему – «Призвание М.Ф. Романова», написанный под влиянием суриковских «Стрельцов», и за все эскизы получил первые номера, а за «Призвание» – награду и редкое почетное решение совета училища: взять эскиз в «оригиналы». Это равнялось признанию его образцовым.
Но от всех волнений и трудов Нестеров тяжело заболел. Из Уфы на лошадях, в распутицу, приехала Мария Ивановна – и выходила своего жениха.
18 августа 1885 года они обвенчались вопреки воле и «без благословения» родителей Нестерова. «Невеста моя, – вспоминал художник в старости, – несмотря на скромность своего наряда, была прекрасна. В ней было столько счастья, так она была красива, что у меня и сейчас нет слов для сравнения. Очаровательней, чем была она в этот день, я не знаю до сих пор лица. Цветущая, сияющая внутренним сиянием, стройная, высокая…»
Началась жизнь, полная счастья и труда. От денежной помощи родителей Нестеров отказался.
Он ревностно работал для журналов, снабжая их рисунками на бытовые и исторические темы и иллюстрациями к Пушкину, Гоголю и Достоевскому.
– Я никакой иллюстратор, ничего здесь не умею и много здесь нагрешил, – говорил Нестеров в 1925 году, когда я собирал материал для доклада в Академии художественных наук «Нестеров как иллюстратор».
По его приблизительному подсчету, им было исполнено в 80-х годах до тысячи рисунков для журналов и книг. Он работал в «Радуге», «Ниве», «Всемирной иллюстрации», «Севере», иллюстрировал для издательства Сытина собрание сочинений Пушкина и много книжек для детского чтения (сказки, былины). С середины 80-х до начала 90-х годов имя Нестерова мелькает среди самых усердных рисовальщиков. Художник с улыбкой говорил в 1925 году об этом усердии: «Рисовал потому, что пить-есть надо было».
В рисунках этих годов Нестеров спешит отзываться на мелкие жанровые темы, готов быть рисовальщиком-хроникером (зарисовывает новые спектакли, изображает Нижегородскую ярмарку). Рисунки его по большей части тусклы, вялы, серы: он явно берется не за свое дело, как, впрочем, приходилось тогда браться не за свое дело и его любимому товарищу Исааку Левитану, изображавшему в дешевом журнальчике «Салтыковскую платформу» с отдыхающими дачниками. Отдыхать Нестерову-рисовальщику доводилось лишь тогда, когда он прикасался к близким для него темам – к русской сказке («Сивка-бурка, вещая каурка»), к Пушкину («Руслан и Людмила») и особенно Достоевскому («Братья Карамазовы»). В жанровых же рисунках художественная удача улыбалась ему лишь тогда, когда он давал волю теплому юмору, столь свойственному ему в живой речи, а по преимуществу тогда, когда сквозь скучные личины повседневности в том или ином женском облике проглядывал милый образ жены.
В начале 1886 года вышел «Альбом рисунков М.В. Нестерова и С.В. Иванова», изданный последним. В альбоме пять рисунков Нестерова, исполненных литографским карандашом. Два из них – простые зарисовки с его же картин «Дилетант» и «Знаток». На третьем – в бытовой уфимской сцене «На трапе» художник изобразил свою жену.
Но как ни упорна была эта работа в журналах и в издательствах, она давала очень мало, и приходилось искать любой другой работы. В сентябре 1940 года Нестеров рассказывал:
– Я был мальчишкой тогда. Дела мои были плохи. Ожидал Ольгу. Писал «До государя челобитчики». Ни гроша в кармане. Был тогда в Москве некий Август Августович Томашка, чех, принимал заказы на роспись потолка, стен, гостиных, работал с архитектором Клейном. Зарабатывал много, жирно, бил учеников, подмазков. Розы и лиры, букеты и арабески умел писать, а фигуры вовсе не умел. Вот он меня поймал как-то и предложил работать у него. Мы расписывали дом Морозовой на Воздвиженке. Томашка, когда уходил, запирал меня и ключ уносил с собой, чтобы, войдя случайно, когда я пишу фигуры, не увидел кто-нибудь, что он не сам их пишет. Он мне заплатил сто рублей. Я обомлел от радости: никогда у меня не было столько денег! А сам за эту работу получил 7 тысяч!.. Мне надоело все это, да и противно было смотреть, как он бьет ребят. Я ушел.
Тяжелая, поденная работа ради куска хлеба не нарушила ни счастья, ни творческих замыслов. В дешевой комнате на шумной окраине (за Красными воротами, Каланчевская улица, «Русские меблированные комнаты», № 11) он пишет эскиз, потом и картину на большую серебряную медаль и на звание классного художника – «До государя челобитчики». На большой холст, на натурщиков, на исторические костюмы (XVII в.) ушла сотня рублей, которой его снабдило училище. Но жена прекрасно позировала для отрока-рынды, предшествующего царю, выходящему к челобитчикам, а Василий Иванович Суриков, с которым только что завелось знакомство, охотно помогал своими советами, как превратить мишурные костюмы из театральной костюмерной в настоящие одеяния царя и бояр XVII века.
Энергии было так много, что ее одновременно хватало еще на две картины – «На Москве» («Проломные ворота») и «Веселая история»: художник рассказывает веселую историю натурщице во время ее отдыха от позирования. «Натурщицей» была опять Мария Ивановна, «художником» – скульптор С.М. Волнухин, впоследствии автор памятника первопечатнику Ивану Федорову в Москве.
Картина «До государя челобитчики» дала то, что от нее ожидали: большую серебряную медаль и звание «классного художника».
А всего через несколько дней, 27 мая, Мария Ивановна родила дочь Ольгу. «Этот день и был самым счастливым днем в моей жизни», – говорил Нестеров.
Но прошло не более полутора суток, и утром 29 мая (был троицын день, яркий, солнечный) в «деревянном домике прощалась с жизнью, со мной, со своей Олечкой моя Маша. Я был тут же и видел, как минута за минутой приближалась смерть. Вот жизнь осталась только в глазах, в той светлой точке, которая постепенно заходила за нижнее веко, как солнце за горизонт… Еще минута, и все кончилось. Я остался с моей Олечкой, а Маши уже не было, не было и недавнего счастья, такого огромного, невероятного счастья. Красавица Маша осталась красавицей, но жизнь ушла. Наступило другое – страшное, непонятное. Как пережил я те дни, недели, месяцы?»
Оставалось искусство, и в нем начал художник искать свою умершую жену.
Прощаясь с нею, он на клочке бумаги уже зарисовал ее осунувшееся, но все еще прекрасное лицо, в саване, в цветах, в гробу, и, пометив рисунок: «1 июня 86 года», написал: «Дорогая, прости».
Нестеров похоронил Марию Ивановну в Даниловом монастыре, там же, где лежал другой близкий ему человек – Перов. «Хорошо было там, – вспоминал Нестеров, – тогда и долго потом была какая-то живая связь с тем холмиком, под которым теперь лежала моя Маша. Она постоянно была со мною, и казалось, что души наши неразлучны. Под впечатлением этого сладостно-горького чувства я много рисовал тогда, и образ покойной не оставлял меня: везде ее черты, те особенности ее лица, выражения просились на память, выходили в рисунках и набросках. Я написал по памяти ее большой портрет такою, какою она была под венцом, в венке из флердоранжа, в белом платье, в фате. И она как бы тогда была со мной…» Портрет этот видел и одобрил Василий Дмитриевич Поленов, изредка навещавший Нестерова.
В суровую минуту – одну из тех минут, когда Нестеров становился беспощадным, даже пристрастным критиком самого себя, – он решил предать уничтожению этот посмертный портрет жены. Портрет и был уничтожен, но рука не поднялась на лицо дорогого человека. Прямоугольник с головой Марии Ивановны был вырезан художником и сохранился в собрании ее дочери. Краски на нем, и без того неяркие, почернели; белый флердоранж потускнел. Но лицо не утратило своей тихой прелести и светлой лукавости.
Сохранился эскиз к картине, которую художник замыслил написать в те скорбные месяцы.
Эскиз этот в коричневых тонах – живописная запись страшного часа.
Комната. Столик с ненужными уже лекарствами. Кресло. Постель. Высокие подушки. Любимая женщина умирает. Взор ее еще жив. Большие черные глаза на исхудалом лице безмолвно, с неумирающей любовью устремлены на покидаемого дорогого человека. А он, в черном сюртуке, стоит на коленях у постели, окаменев от горя.
Подобных эскизов, по словам Нестерова, было несколько: «они более или менее вовлекали меня в эту близкую, хотя и тяжелую тему». Ни один из этих эскизов не превратился в картину: не было сил поднять сызнова все горе, чуть не раздавившее там, у постели умирающей, и снова обрушить его на себя.
Хотелось увести образ любимой женщины от той житейской обстановки, в которой похитила ее смерть, хотелось бороться с самой смертью.
Такая борьба чуется в проникновенной акварели, написанной художником, вероятно, значительно позже названных этюдов.
Любимая женщина, вся в белом, изображена на постели. Ее голова прислонена к высоко поднятым подушкам. В ее исхудалой руке – белый цветок. На столике возле постели ваза с большим букетом розово-белых вешних цветов. На окне тоже цветы. Сквозь тонкую занавеску бледно-золотистый свет вешнего утра проступает нежно и примиренно. Этот мягкий, девственный свет озаряет лицо умирающей. Но не на встречу со смертью широко раскрыты ее большие, верные глаза и не тихий привет весеннего утра с грустью встречают эти глаза в последний раз. Нет, они видят что-то иное, более прекрасное, более прочное, над чем не властна смерть, и вместе с тем такая грусть по отходящей жизни брезжит в этих широко раскрытых, прекрасных глазах!
Под этой акварелью художник подписал:
«Последнее воскресенье. 1 июня 1886».
Как далека эта тонкая по исполнению акварель от живописного эскиза на ту же тему! Там художник хотел еще раз очутиться лицом к лицу пред суровой прозой «конца» той, в которой видел свою жизнь, – и изнемог перед этой задачей. Здесь весь реальный облик умирания пропущен через очистительный фильтр поэтического чувства. И вместо хмурого, тревожного этюда перед нами светлый образ нестеровской девушки, овеянный тою поэзией «возвышенного страдания», которую так проникновенно передавал Тютчев.
Много лет спустя Нестеров вернулся к этой акварели и возобновил ее художественное устроение и поэтическое настроение в своей «Больнушке», приобретенной А.М. Горьким.
Со слов Нестерова С.С. Голоушев записал: «Как-то в зимние сумерки художник ехал по железной дороге и, стоя на площадке вагона, смотрел на летящие мимо искры от паровоза. Огненно-красные искры, сверкающие на фоне сизого снега, и огни семафора вдруг поразили художника красотою своего аккорда, и в фантазии вспыхнул образ царевны с огненной звездой в короне».
В образе сказочной царевны, скорбно застывшей в безмолвном одиночестве на заносимом вьюгой языческом кладбище, Нестеров воплотил знакомые черты: лицо царевны – лицо умирающей жены с эскиза; те же огромные глаза из-под густых длинных ресниц, тот же взор прощания с его любящей скорбью, та же покорность неизбежному; все то же, только в эскизе больше ласки и человеческой сердечности.
Художник долго не расставался с этим образом: существовало три варианта «Царевны» (все относятся к 1887 году).
Образ нокойной жены являлся всюду, куда вольно или невольно устремлялся художник с кистью, пером или карандашом.
Когда в 1888 году Нестеров взялся за иллюстрации к Сочинениям Пушкина, незабвенные черты отразились и в образах любимого поэта: в царевне из «Сказки о семи богатырях», в царице из «Сказки о царе Салтане», в Маше Троекуровой («Дубровский»), в Маше – капитанской дочке. С рисунками к Пушкину у Нестерова приключилась странность. Ему не удалось все, в чем, по-видимому, его могла ждать удача: не удался «Борис Годунов»; не вышли ни Пимен, ни патриарх, и в 1925 году Нестеров сетовал: «А ведь как я любил «Годунова»! – и ничего не вышло!» И наоборот, ему удалась «Барышня-крестьянка». Разгадка же проста: ему удалось все, в чем мог сиять и вдохновлять милый образ. В проказнице Лизе – барышне-крестьянке – образ этот отразился так же, как в Маше из «Капитанской дочки», но только не в тихой грусти, а в светлом счастье. Этот милый образ внушил Нестерову рисунки к «Евгению Онегину». Сам Онегин, Петербург, Москва и усадьба 1820-х годов Нестерова мало интересуют. Образ Татьяны господствует над всем. У Нестерова нет «бала у Лариных», нет сцены дуэли, но зато у него есть Татьяна на уединенной прогулке в закатный час среди безмолвных полей; у него есть Татьяна с любимой книгой; у него есть очаровательный рисунок:
У него есть Татьяна, входящая в опустелый кабинет Онегина с горькой мечтой разгадать его загадку.
В 1888 году Нестеров создал ряд рисунков к «Песне про купца Калашникова» Лермонтова, и там также в центре внимания художника оказались не грозный царь, не лихой опричник и не удалой купец, а его верная жена Алена Дмитриевна; в образе верной жены купеческой проступает облик другой верной жены, умершей в 1886 году.
Из рисунков к поэмам Пушкина и Лермонтова любимый образ пришел вместе с художником в храм: «И еще долго в стенах Владимирского собора я не расставался с милым, потерянным в жизни и обретенным в искусстве ее образом». Так писал сам Нестеров. В лике «Равноапостольной княгини Ольги» (1892) светит взор его «Царевны», его «Алены Дмитриевны», его жены.
Нестеров – вопреки истории – представил Ольгу совсем юною[5, она прижимает крест к груди, как могла бы прижать первый весенний цветок: с такой же бережной нежностью. Княжеское одеяние на ней так же сказочно, как на его «Царевне». Только это царевна не из зимней, а из весенней сказки. Вокруг нее «утро года»: ранняя, еле брезжущая русская весна, настоящая «нестеровская» весна, с первыми клейкими листочками, с голубыми глазками робких первоцветов в невысокой траве. Со светлой задумчивостью смотрит Ольга на эту тихую юность года – будто прощается с нею, готовясь расстаться навеки.
«Этот образ он сам считал одним из лучших, – замечает О.М. Шретер. – Хорош он и по краскам, свежим и таким молодым. Он больше других образов того времени напоминает мать. Вот эта неуловимая прелесть линий, хрупкой женственности, где-то таившаяся и при жизни Матери, под впечатлением ее смерти засветилась внутренней духовной красотой».
В неоконченной автобиографии Нестеров писал:
«Образ ее не оставлял меня. Везде я видел ее черты, ее улыбку… Тогда же (1887) у меня явилась мысль написать свою «Христову невесту» с лицом Маши. С каким хорошим чувством писал я эту «картину-воспоминание». Мне иной раз чудилось, что я музыкант, что играю на скрипке, что-то до слез трогательное, что [то] русское, такое родное, задушевное, быть может, Даргомыжского. В этой небольшой картине я изжил долю своего горя. Мною, моим чувством руководило воспоминание о потерянном, невозвратимом, о первой и самой истинной любви».
«Небольшую картину» Нестеров поставил на ученическую выставку.[6 Она произвела сильное впечатление. Вот одно из свидетельств этого впечатления, исходящее от художника-современника: «Картина была очень бесхитростна. Это был просто небольшой этюд задумчивой девушки в темном платье и со стебельком травки в зубах, но в бледном лице и глубоких глазах сразу чувствовалось что-то новое и большое. Художник как-то по-новому заглянул в глубину человеческой души и рассказал о том, что там увидел, так, как не рассказывал до него никто. Перед этой задумчивой девушкой можно было подолгу стоять и часами думать над той же тайной жизни, о которой думает она. Потом в этих задумчивых глазах было столько знакомого и родного, такое раскрытие тайников народной души, что, смотря в них, вы невольно начинали вспоминать задумчивых героинь Мельникова-Печерского, его Фленушку…»
За год до «Христовой невесты» Нестеров создал рисунок «У креста»: среди широкого среднерусского простора девушка-подросток с лицом Марии Ивановны молится у покачнувшегося деревянного креста. Рисунок был отлитографирован для «Альбома», изданного С. В. Ивановым, но почему-то не вошел в него. В этом рисунке Нестеров как будто приближается к теме «Христовой невесты». Но какая разница между рисунком и картиной! Рисунок лишь содержанием отличается от обычных жанровых рисунков Нестерова. «Христова невеста» меньше всего жанр, между нею и жанровыми картинами Нестерова различие так велико, что они кажутся делом рук двух различных художников.
Свои жанры Нестеров робко писал по прописям Перова, по линейкам Вл. Маковского. «Христову невесту» он писал независимо от всех прописей и линеек. Его творческий почерк здесь самостоятелен, неповторимо своеобразен. У него здесь не только другие краски, у него другой подход к краскам. Вместо прежней грубой, суховатой черноты у него теперь иссиня-зеленая мягкая гамма красок, нежная и прозрачная. Недаром, когда художник писал эту картину, ему казалось, что он музыкант: в красочных аккордах «Христовой невесты» есть музыкальная стройность; это картина-элегия, выдержанная в одной глубоко прочувствованной и верно найденной тональности.
Но самое главное было не в новизне красочного звучания «Христовой невесты», а в том, что молодому художнику удалось создать новый поэтический образ – насквозь русский и глубоко народный.
Кто она, эта «Христова невеста»?
Обычно считают, что она юная инокиня, уже удалившаяся от мира в глухой лесной скит. Но она не инокиня. На ней темно-синий сарафан, белая рубаха. Голова покрыта темно-синим же платком так, как им покрывались все женщины в Нижегородском Заволжье. Это одежда русской крестьянской девушки и женщины, какая была в старину и какая еще в конце XIX столетия сохранилась в лесном Заволжье, в Олонецком крае, в Сибири, на Урале. «Христова невеста» она не потому, что уже произнесла обет иночества, а потому, что она уже не верит в счастье на земле и устремляет душу и сердце на иной, внутренний путь. Глубокая грусть застыла в ее больших глазах, и кончится или нет ее тропа в скиту – одно несомненно: для этой поэтической, чистой души все пути к счастью «заказаны».
До этой картины Нестеров не был пейзажистом. Среди его масляных этюдов и карандашных рисунков начала 80-х годов пейзаж отсутствует. Он любит природу, но ее еще нет в его искусстве. Однако эту девушку, столь выношенную в его сердце, он окружил чудесным, так же, как она, насквозь русским пейзажем. Глядя на эту северную тихость и кроткую ласковость природы, чувствуешь, что природа одна еще говорит скорбной душе одинокой девушки и будет говорить ей, в какое бы крепкое безмолвие ни ушла эта чуткая одинокая душа. И, ощущая этот тихий разговор скудной, но родной природы со скорбной девушкой, как было не почувствовать, что русская природа на этой картине впервые заговорила и с самим художником, что отныне Нестеров вступил безотходно в самый избранный тесный круг верных певцов и вдохновенных поэтов русской природы?
Когда эта крестьянская девушка в темно-синем сарафане впервые глянула с картины Нестерова, наиболее чуткими людьми почувствовалось явление нового, еще небывалого «я есмь» и в образе и в художнике, его создавшем.
Как Тургенев, написав Асю, Лизу и других их сестер и подруг, создал свой женский образ, и достаточно сказать: «тургеневская девушка», чтобы младшая сестра пушкинской Татьяны предстала пред нами, так достаточно назвать «нестеровская девушка», чтобы появился пред нами живой облик девушки из народа, поэтический образ, неразрывный с безмолвной печалью. Эта девушка в сарафане, рожденная Нестеровым из его скорби по утерянной подруге, повела за собою на его картины целую вереницу девушек и женщин, исполненных внутренней красоты и чистоты, но всегда отмеченных «возвышенной стыдливостью страданья».
«Любовь к Маше и потеря ее, – писал Нестеров в своих записках, – сделали меня художником, вложили в мое художество недостающее содержание, и чувство, и живую душу – словом, все то, что позднее ценили и ценят люди в моем искусстве».
Обдумывая в более поздние годы свой творческий путь, Нестеров свидетельствовал о «Христовой невесте»:
«С этой картины произошел перелом во мне, появилось то, что позднее развилось в нечто цельное, определенное, давшее мне свое «лицо». Он утверждал: без этой картины и без всего, что пережито с нею, «не было бы того художника, имя которому «Нестеров», не написал бы этот Нестеров ни «Пустынника», ни «Отрока Варфоломея», не было бы в Русском музее «Великого пострига», «Димитрия Царевича», не существовало бы и большой картины («Душа народа». – С.Д.) и двух-трех моих портретов, кои автор считает лучшими характеристиками из всех им написанных». Иными словами, с «Христовой невестой» и со всем, что обусловило ее появление, Нестеров связывал весь без исключения свой художественный путь: «Все пережитое мною в моей молодости… утвердило мою художественную сущность».
За «Христовой невестой» последовала картина «За приворотным зельем». Замысел картины был прост: девушка пришла к колдуну за приворотным зельем. По первоначальному варианту она была в богатом наряде боярышни, а «колдун» был тонконогий старик немчин, царский «дохтур». Художник скоро отказался от этого варианта как слишком «литературного»: это напоминало сцену между Любашей и Бомелием из «Царской невесты» Мея. Сцена представилась ему гораздо проще и обыденнее: девушка в душегрейке поверх сарафана могла быть из XVII столетия, а могла быть и из заволжской или уральской глуши, а колдун превратился из «дохтура» в старика мельника. Но смысл был один и тот же: девушка со слезным смущением и «поедучей тоской» пришла к колдуну с призрачной надеждой – приворожить «зельем» любимого и не любящего или разлюбившего ее человека.
По счастью, возможно проследить всю работу Нестерова над «Приворотным зельем» (во втором варианте), происходившую весною и летом 1888 года, одновременно с замыслом «Пустынника».
Я говорю – по счастью: в отсутствие Нестерова из Москвы в 1919–1920 годах из его мастерской были расхищены накопленные за много лет эскизы, этюды, альбомы с первоначальными набросками для картин. Уже после смерти Нестерова удалось набрести на след трех альбомов из числа похищенных.
Один из них дает возможность заглянуть в биографию «За приворотным зельем» и через это войти в творческую историю нестеровской картины вообще.
Небольшой походный холщовый альбомчик в 27 листов начат, по отметке самого художника, на пароходе: «Ярославль. 13 мая 88» года. Одна из предпоследних зарисовок в нем – А.Н. Волковича, товарища детства и юности Нестерова, помечена «4 июня 88 г.». В эти даты вмещается поездка Нестерова по Волге и недолгие гостины в родной Уфе; в эти же тесные даты вмещается упорная работа над «Приворотным зельем» и «Пустынником», над другими сюжетами, маячившими тогда перед Нестеровым. Ёся эта работа, исходя из внутреннего зерна – руководящего чувства и напутствующей творческой мечты – всецело опирается на жизненную основу, питается живыми впечатлениями действительности.
Листы альбома неопровержимо об этом свидетельствуют.
Внимание невольно задерживается на 7-м листе. Барышня в модном платье и шляпке, читающая книжку на трапе парохода, и повернувшийся спиной мужчина в казакине заслонены превосходно написанной головой старика крестьянина в черной поярковой шапке. Ему, верно, под восемьдесят, но это старость без дряхлости, лицо приметно умом, добротой, открытым здоровьем: в живых, зорких глазах светится ум и опыт; под густыми усами скрыта сдержанная, приветливая, но не искательная улыбка; голова в густой седине, как в пышном снегу, но эта та седина, про которую народ молвит: «Седина в бороду – ум в голову». На обороте 10-го листа набросан карандашом и пройден чернилами эскиз – молодая девушка в темном сарафане, в кичке в горести сидит рядом с пожилой женщиной в русском же наряде и раздумчиво, покорно слушает, что та ей шепчет. Девушка эта – та же «Христова невеста», та же нестеровская девушка, обойденная счастьем, а пожилая женщина – вероятно, ворожея, к которой пришла она за советом, как залучить себе любовь доброго молодца.
Это первый замысел картины «За приворотным зельем».
Замысел этот до двенадцати раз повторяется в набросках карандашом и пером в альбоме, но никогда не достигает композиционной четкости. Туманнее всего оставался для художника облик пожилой женщины в пышной телогрее. Кто она? ворожея? колдунья? или просто бывалая баба, сваха, сводница? Образ ее двоился у художника: «сводчица» ему была не нужна; в образе этом не могло быть поэзии, для «ворожеи» он не находил нужного обличья. Художника как-то не тянуло искать это обличье. С середины альбома «ворожея» исчезает навсегда.
На листе 11-м художник рисует с натуры старую, корявую избу из кондового леса и затем до десяти раз возвращается в альбоме к зарисовке вековой избы и ее верхних «венцов», «лап», «устья». Зарисовки эти исполнены с такою точностью и мерностью, как будто их делал архитектор, но это зарисовки художника, любующегося суровой простотой старорусского крестьянского жилья.
Зачем нужны были эти зарисовки Нестерову, обнаруживается на исподе того же самого 11-го листа: художник начинает строить по ним жилье мельника. Теперь к нему, к ведуну, к колдуну, на старую мельницу приходит девушка «за приворотным зельем». Вот она – таков первый набросок – сидит в тоске, потупившись, у еле набросанного старого сруба, откуда должен появиться этот хозяин-ведун: он лыс, брадат, приставил ладонь к глазам, чтоб зорче высмотреть девушку.
Дальше в альбоме Нестерова мелькает еще немало схваченных на лету сюжетов, но завладевает художником только одна тема: девушка у колдуна. В альбоме следуют друг за другом восемнадцать эскизов карандашом и пером, и все они близки к тому, что запечатлено на картине «За приворотным зельем». Композиция на всех восемнадцати эскизах почти не меняется: только на двух или трех девушка стоит, а на всех остальных она сидит то справа (как на картине), то слева от зрителя. Но какую большую взыскательную работу произвел художник над этою композицией, не разрушая ее основы! Нестеров смолоду и до старости был убежден, что ядро внутренней действенности – в портрете ли, в картине ли – всегда заключено в лице человеческом: из огня или пламени глаз, из теплой улыбки или смеха уст идет электрический ток действенности, приводящий в действие всю фигуру и все соприкасающееся с нею на картине. Эти поиски «лица» были первейшею заботою Нестерова при работе над любой из его картин. Так было и с «Приворотным зельем». Он упорно искал лицо колдуна. В альбоме можно насчитать свыше пятнадцати вариантов этого лица. Все они исходят из наброска, о котором уже говорилось, – от глубокого старика в поярковой шапке. Но это простое, умное и доброе лицо крестьянина с Волги художник подвергает многим бытовым, психологическим, физиологическим, стилистическим изменениям, чтобы превратить его в лицо знахаря, ведуна, колдуна, каким представлялся народному воображению мельник, водивший дружбу с силою неведомою и нечистою. И на некоторых набросках в альбоме Нестеров добивается того, что от лица старика крестьянина, освещенного волею художника тем же сумрачным светом, что и в народных поверьях, веет какою-то недоброю силою. В эскизах карандашом и пером эта трудная задача была почти решена художником; на картине она, к сожалению, осталась не вполне решенной.
Для девушки потребовалось меньше отдельных этюдов, не больше девяти, при девятнадцати эскизах ее встречи с колдуном: образ ее был давно близок художественному воображению Нестерова. Это образ умершей жены, прошедший через облики сказочной «Царевны» и «Христовой невесты». Но и этот образ запечатлелся в альбоме художественно значительнее, чем на картине.
Сумрачные ели, высокая осока, болотные цветы – все, что нужно было для картины, тщательно прорисовывалось в альбом, ничего «приблизительного» Нестеров не терпел. Его поэтичная «осока» из альбома годилась бы в ботанический атлас: так она строго верна своей природной форме.
Художник исписал карандашными и чернильными этюдами весь альбом до внутренней крышки переплета включительно. Он так был поглощен «Приворотным зельем», что ни для каких сторонних зарисовок в альбоме уже не оставалось места. И лишь один лист – 20-й – уделен был другой, задуманной в ту же весну картине – знаменитому «Пустыннику».
В холщовом альбоме было собрано все, что надо, для композиции «Приворотного зелья». Пришло время перейти к масляным этюдам с натуры.
Нестеров поселился под Москвой, в Сергиевом посаде, в местности, изобиловавшей остатками старой Руси: богомольцами и богомолками из разных губерний.
Через много десятилетий Нестеров вспоминал: «Я недолго думая стал писать этюды для «Приворотного зелья». Работа шла ходко. Все, что надо, было под рукой. И я скоро имел почти все этюды к этой картине».
К началу сентября все этюды к «Приворотному зелью» были написаны.
17 сентября художник делился с сестрой самыми заветными ощущениями, вызванными новой работой: «Вот уже 4-й день, как я начал картину. Все лучшие силы мои теперь направлены на нее. Героиня моей оперы-картины отличается глубоко симпатичной наружностью: лицо ее носит, несмотря на молодые годы, отпечаток страдания. Она рыжая (в народе есть поверие, что если рыжая полюбит раз, то уж не разлюбит). Ее, кроме меня, никто не видел, но я сердечно сочувствую ей, и слезы участия готовы показаться на глазах при виде ее. Но… это вижу я… Художник с поднятым до максимума воображением или холодная, жаждущая крови публика – тут есть разница. Но, кроме шуток, мне мою героиню шаль от души. И если пойдет далее дело так же, как при начале, и я доживу до выставки, то, может быть, на мою долю выпадут некоторые аплодисменты, а впрочем?..»
Как видно из этих признаний, Нестеров, работая над своей картиной, был далек от намерения писать исторический жанр или иллюстрировать историческую драму или роман. Он писал свою картину так, как его учитель Перов писал свои «Похороны в деревне» или «Утопленницу» – с «глубокой безысходной скорбью» (выражение Нестерова) над человеческим страданием; он писал в буквальном смысле слова со слезами сочувствия.
Однако чем дальше шла работа, тем менее оставался доволен ею художник. 6 октября художник извещал сестру: «Сегодня кончил свою картину, если предположить, что в недалеком будущем, может быть, перепишу ее от угла до угла. Она мне очень не нравится (сегодня). Чтобы в один из таких для нее нелестных моментов не покуситься на ее существование, думаю в субботу отправиться к Поленову в деревню и пробыть там несколько дней. Вообще я с этой картиной страшно устал, злой и нервный стал до крайности…»
17 октября Нестеров показал картину близким людям «как официально конченную… Приехал Поленов… Общее мнение благоприятное. Поленову, по-видимому, тоже нравится, но он заметил много такого, что необходимо нужно исправить и кое-что изменить. Я во многом с ним согласен и переделаю, конечно, не сейчас, а так через месяц, а то теперь картина эта мне надоела до боли».
Две недели спустя Нестеров писал в родную Уфу: «Картина моя («Приворотное зелье») не будет на Передвижной, это почти дело решенное, я давно сказал, что выставлю вещь лишь тогда, когда буду ясно видеть, что она будет из первых. «Приворотное зелье» будет замечено, но… это все не то… Конечно, надо много хладнокровия и воли, чтобы не поддаться искушению, но, бог даст, удержусь… Картина снята с мольберта и никому не показывается».
Нестеров сам не допустил свою картину до жюри Передвижной выставки: в этом выразился его приговор над нею. Суд же его, как видно из выдержек из писем, начался гораздо раньше. В первом письме Нестеров назвал «Приворотное зелье» «оперой-картиной», невольно указав на ту особенность, которая так его смущала впоследствии. В картине есть внешняя выразительность, в ней немало красивости, в ней достаточно правдив русский колорит, но в ней мало того, чем живет и волнует «Христова невеста»: правды живого чувства и поэтического трепета. Облик девушки на многих эскизах отмечен большею печатью внутренней тоски и сердечной истомы, чем на картине; облик старика мельника на картине дальше от сумрачного обличья ведуна-колдуна, чем на некоторых эскизах в альбоме. Безысходной кручиной не веет от этой встречи девушки с колдуном, как хотелось этого художнику. Он сам признал «За приворотным зельем» неудавшейся главой из своей повести о русской женщине.
Тогда же, в 1888 году, Нестеров начал было работать над новым вариантом «Приворотного зелья», но работа над «Пустынником», новый замысел цикла картин из жизни Сергия Радонежского, поездка в Италию, а затем работы во Владимирском соборе (1890–1895) надолго оторвали Нестерова от этой повести.
В 1898 году – десять лет спустя! – Нестеров написал третий вариант «За приворотным зельем» под названием «В сумерках». Но и этот вариант остался в стороне от основной повести, над которой он работал до конца дней.
В 1896 году (30 июня) Нестеров писал А.А. Турыгину:
«Здесь, в Уфе, работал усердно. Написал картину, сюжет ее простой, но довольно поэтический, концепция картины, кажется, удалась. Связь пейзажа с фигурой, так сказать, одна мысль в том и другом, способствует цельности настроения».
Эта картина – «На горах». Высоко над долиной Волги, над неоглядной ее ширью, над поросшей кустами ее луговой поймой, остановилась молодая женщина в темном сарафане, в белом платке: в ее руке несколько гроздьев алой рябины. Неоглядный простор манит неудержимою волей. А на душе у молодой женщины неизбывная кручина, такая же горькая, как эта рябина в ее руке. К воле зовет ее неисходимый простор родины, но где ей найти пути к этой воле? В чем исход смутным порывам, таящимся в душе? Кто и чем ответит на вольный зов, заслышанный душою?
Отвечает ей лишь природа своей лаской, вольная Волга – своей неуемною волей. От людей эта женщина, родная сестра «Христовой невесты», не ждет ответа. Она вслушивается лишь в смутный голос души да в светлые, ласкающие и зовущие голоса родной природы.
На картине всего одна женская фигура на фоне пейзажа, а между тем это подлинная лирическая драма.
Кто эта женщина «на горах»? Она старше своей младшей сестры – «Христовой невесты». Мы хорошо и давно знаем другую ее сестру. Та тоже бродила, грустила, исходила мечтой и порывом над Волгой.
«Отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела».
Это слова из «Грозы» Островского, слова Катерины, стоящей на обрыве, над Волгой, но так и кажется, что с этими же самыми словами только что вздохнула горько и сладко нестеровская женщина, стоя на горах над той же Волгой.
Нестеров не думал следовать за Островским, ему даже не приходила в голову родственность его женщины с Волги с Катериной, он лишь с той же любовью и верностью, как великий народный драматург, следовал за путями и перепутьями русской женщины, которыми вела ее жизнь, и потому на своем языке живописца он не мог не сказать о ней того же, что на языке драматурга сказал Островский.
«На горах» было лишь началом живописного сказания о судьбе русской женщины, задуманного Нестеровым.
В неизданных воспоминаниях о Нестерове профессора Г.С. Виноградова, автора работы о романах Мельникова-Печерского, читаем:
«С радостным удивлением среди малых и больших художников, отзывавшихся на творчество автора «В лесах» и «На горах», встретил я имя Нестерова. Подпись «На горах» под некоторыми его рисунками и этюдами заставляла предполагать какую-то связь замысла художника с повествованием романиста. Ту же догадку рождало сравнительное наблюдение над тематикой художника и мастера-бытописателя: тот же мир, та же среда».
Сам Нестеров говорил о Мельникове-Печерском (в беседе с Г.С. Виноградовым в Болшеве в 1938 году):
– Когда был молодой, романы его мне очень нравились. Читал я их и перечитывал – и все нравилось. Но вот что скажу: я не иллюстрировал их… Я не писал иллюстраций к роману Мельникова, – нет, нет! Я сам все это, старообрядцев-то, видел: стариков, мужчин, женщин с их одеждами, кладбища, молельни, книги, – сам все это видел, и у нас здесь, в Москве, и на Волге. Интересовался я этим…. А Мельников-то вот как тут пришелся; много раз читал я его и поддался, должно быть, задумал написать красками роман, роман в картинах… Не по Мельникову, не иллюстрации к нему, а свой! Ну, может быть, те же места (не все), конечно, тот же народ, а все лица, действия, роман-то самый, это все иначе, по-другому. Горячо я было взялся и много понабросал, понаписал, а потом время на другое пошло, так и отстал от своей затеи, так оно и осталось.
Картина «На горах» и была первою частью этого романа.
Вторая часть должна была повествовать о встрече его мятущейся женщины с гор с человеком, зажигающим в ней – как Борис в Катерине из «Грозы» – чистый пламень любви. Встреча должна была произойти в монастыре, куда они оба пришли на богомолье. Эта картина не была написана Нестеровым, но третью часть своего романа в картинах он написал в 1905 году.
Картина опять носит мельниковское название «За Волгой».
Для нее Нестеров счел нужным заново напитаться впечатлениями Средней Волги. «Прожил две недели в Ва-сильсурске, – пишет он в воспоминаниях, – где в то время были очень патриархальные нравы». Написав несколько этюдов для картины «За Волгой», художник уехал в Уфу, но скоро опять очутился на Волге, у «старого Макария», против Исад. Здесь было еще глуше, веяло стариною. «Пишу этюд нагорной стороны Волги. Чувствую себя отлично. Готов фон для «За Волгой».
На картине «За Волгой» – опять, как «На горах», – высокий берег Волги, опять широкий простор могучей реки. Но уже не лирический монолог звучит с картины, а драматический диалог: женщина с гор сидит, задумавшись над пучком цветов, а красивый молодец в щегольской поддевке, в картузе, в шелковой рубахе с надменным равнодушием смотрит на волжский окоем только для того, чтобы не смотреть на женщину, замолкшую у его ног в немом горьком укоре. Он все взял от нее, и она больше ему не нужна. Эта сцена размолвки, предсказывающая роковой перелом в судьбе женщины. И Нестеров весь тут на стороне женщины. Его щегольской «молодец», чем-то, несомненно, напоминающий Алексея Лохматого из «В лесах», красив, статен, строен. Это единственная на картинах Нестерова мужская фигура в поре физического цветения, но художник явно враждует с этим щеголеватым красавцем: его самодовольной, вызывающей мужескости художник противопоставляет тихую прекрасную женственность поникшей нижегородки. Художник так поставил на картине фигуру лихого щеголя в поддевке, чтобы зритель понял, что этому красавцу мужчине никогда не почувствовать ни прекрасной широты окружающей природы, ни красоты глубокой женской души, напрасно одаряющей его любовью и преданностью.
Нестеров не признавал эту третью часть своего живописного романа вполне удавшейся. Ему словно резала глаза эта бытовая мужская фигура Кудряша.
И в том же 1905 году Нестеров начал другую картину, под тем же названием «За Волгой». На ней также появился первоначально Кудряш, но он был соскоблен с полотна – и женщина, обиженная им, осталась одна. Она сидит одна над тем же волжским простором в скорбном раздумье. Цветы выпали из ее рук. Словно о ней сложена старинная песня:
Эта покинутая женщина встанет с волжской луговины, чтоб поискать скорбную дорожку в заволжский скит.
Там должна свершиться четвертая часть нестеровского романа в картинах.
Часть эта широко известна – это «Великий постриг», одна из самых излюбленных картин Нестерова.
«Великий постриг» писался в 1897 году. В июне Нестеров был в Нижнем Новгороде, но в старообрядческие скиты не заезжал, лишь ограничился тем, что «купил кое-какие фотографии из раскольнической обстановки» (письмо к О.М. Нестеровой 10 июня 1897 года). Старообрядцы же впоследствии отказывались верить, что Нестеров не бывал в их скитах: так глубоко было проникновение художника во внешний уклад и во внутренний дух старой веры.
«Великий постриг» писался в Киеве.
Как у большинства лучших картин Нестерова, у этой картины есть глубокая автобиографическая основа. Живя в августе 1897 года на Кавказе, Нестеров испытал то, что не в шутку называл «молниеносной любовью». Он встретился в Кисловодске с певицей Л.П. С-и, выступавшей в опере. Вот его рассказ об этой встрече, извлеченный из его воспоминаний:
«Л.П. не была ни в каком случае «красавицей». В ней поражало, очаровывало не внешнее, а что-то глубоко скрытое, быть может, от многих навсегда, и открывающееся немногим в счастливые минуты. Через веселую, остроумную речь сквозил ум и какая-то далекая печаль. В глазах эта печаль иногда переходила в тоску, в напряженную думу…»
Нестеров встретил нестеровскую девушку, истинное обаяние которой – в красоте просветленной печали.
«Через 2–3 дня, – продолжает он свой рассказ, – мы были друзьями, а через неделю мы уже не могли обойтись один без другого. Мы страстно полюбили друг друга…»
Нестеров представил Л.П. С-и как свою невесту любящей его семье художника Николая Александровича Ярошенко. Было решено, что Л.П. С-и допоет согласно контракту оперный сезон в Тифлисе, а затем, покинув сцену, станет женой Нестерова.
Но недаром в оперной певице была нестеровская девушка. Через два месяца он получил письмо из Тифлиса.
«Л.П. писала, что долгие думы обо мне, о моей судьбе, обо мне художнике привели ее к неизбежному выводу, что она счастья мне не даст, что ее любовь, такая страстная и беспокойная любовь, станет на моем пути к моим заветным мечтам, что она решила сойти с этих путей и дать простор моему призванию…»
Повторилось то, что было в 1886 году: Нестеров остался один, но не в одиночестве.
«Проснулся художник. Он помог мне и на этот раз в моем горе… Художник опять указал мне на мое призвание – оно должно было заменить мне страсть к женщине… и это горе я переболел. Скоро начал свой «Великий постриг». Эта картина помогла мне забыть мое горе, мою потерю, она заполнила собою все существо мое. Я писал с каким-то страстным воодушевлением».
23 сентября Нестеров извещал Турыгина:
«Теперь я усиленно работаю над новой картиной на предбудущий год… Тема печальная, но возрождающаяся природа, русский север, тихий и деликатный (не бравурный юг), делают картину трогательной, по крайней мере для тех, у кого живет чувство нежное».
14 октября Нестеров сообщает другу:
«Я дописываю свой «Великий постриг». Кто видел, очень одобряют; быть может, и в самом деле есть что-нибудь». И тут же проговаривается, что там есть самого заветного, дорогого для него: «Есть там «чистая голубица», кажется, любопытно».
Свою любовь-жалость к голубице Нестеров передает природе: «русский север, тихий и деликатный», как бы жалеет молодую женщину, уходящую от жизни в безмолвие кельи, и в то же время «возрождающаяся природа» не устает призывать человека к радостной правде весеннего возрождения.
Это правдивейшее сочетание молодой человеческой жизни, подневольно идущей к закату, с жизнью родной ей природы, с «улыбкой ясной» встречающей «утро года», делает картину «трогательной», как и хотелось художнику.
Не раз предпринимались попытки истолковать «Великий постриг» как своего рода поэтический апофеоз женского отшельничества, как лирическую апологию «ухода от мира».
Тем, кто знает автобиографические истоки этой картины, как и всего нестеровского «романа в картинах», эти попытки не могут не казаться безнадежными. «Великий постриг» не апология женского иночества, а лирическая элегия женского несбывшегося счастья.
«Роман в картинах» Нестерова не окончен; он обрывается на этом «надгробном рыдании», умиряемом тихою ласкою возрождающейся природы. Но, по замыслу художника, у живописного романа должна была быть еще одна, завершающая часть.
Его героиня, тщетно искавшая утоления мятущейся души в жизни и любви, не нашла его и в молитве и тишине скитской кельи. Художник вновь хотел привести свою «голубицу» на высокий берег Волги: она должна была найти покой там же, где нашла его ее сестра по духу и судьбе, Катерина, – в пучине Волги.
Картина эта не была написана, но помнить о ней необходимо, чтобы верно судить о всем замысле и об отдельных частях живописного романа Нестерова о судьбе русской женщины.
В романе этом обнаруживается связь Нестерова с передвижниками.
Он писал свой «роман» в те годы, когда передвижников усердно обвиняли в том, что у них нет живописи, а есть литературные рассказы и повести в красках. Обвинения эти предъявлялись не только Ярошенко и Вл, Маковскому, но и Перову и Репину. Не боясь подобных обвинений, Нестеров смело писал кистью не рассказ, даже не повесть, а целый роман. В этой небоязни «темы», которую надо обнаружить, и сюжета, который сердце велит раскрыть в картине, сказался ученик Перова, друживший с Ярошенко. Но влекла Нестерова к его роману в красках не литературная «сюжетность», а то, что он сам называл «душою темы».
И этой «душе» своей «темы» о русской женщине Нестеров остался верен на всю жизнь, он расстался с нею, только расставшись с жизнью. Ни увлечения другими темами, ни долголетние засидки на лесах соборов и церквей не могли устранить его от этой выстраданной темы, идущей из его автобиографической глубины.
Нижегородское Заволжье с его седыми лесами, с уединенными починками, с деревянными скитами, с застоявшейся в них старой Русью, где особенно внятна была исконная песня о женской недоле, неизменно продолжало влечь к себе Нестерова, и оттуда черпал он мотивы и образы для своих картин. Иные из них кажутся отрывками из большой лирической эпопеи, другие – главами из живописного романа, еще более обширного, чем ранее задуманный.
Такой главой из романа представляется картина «Думы» (1899): молодая женщина в темном сарафане и парчовой душегрейке, сбросив белый платок с черных волос на плечи, сидит на бережку, поникнув над прудиком, а над нею стоит, поглядывая, молодая женщина, в темном сарафане и черном платке. Вправо, к лесу, уходит «порядок» изб – может быть, скита, а может быть, просто деревни. Кто они, эти молодые женщины? По одежде стоящая – «скитница», сидящая – «мирская»; но по жизнечувствию, по темпераменту, наоборот, «мирская» – это грустящая Катерина (если опять вспомнить «Грозу»), «скитница» – это чуточку приунывшая Варвара. Быть может, это та же женщина «с гор», только что пришедшая в скит, но уже изнывающая в необоримой тоске. Эту картину, по словам Нестерова, особенно любил и ценил Левитан.
Нестерова – как Пушкина, Островского, Гончарова – всю жизнь занимали два темперамента, две судьбы. Татьяна – и Ольга, Катерина – и Варвара, Вера – и Марфинька – им найдется много параллелей в творчестве Нестерова.
11 февраля 1915 года он пишет Турыгину:
«Ваш Петроград на меня на этот раз подействовал целебно. Возвратившись на Донскую, я принялся за новую картинку… Серый, тихий день, берег Волги; вдали леса – Заволжье, а тут, на горах, скит. По двору скита идут две «сестрицы», сестрицы кровные, а «души» у них разные; у одной душа радостная, вольная, а другой – она сумрачная, черная. Вот и все».
«Вольная душа» не найдет, не может найти покоя и в скиту, и Нестеров спешит продолжить вновь захватывающую его старую повесть, с горьковатой шуткой сообщая старому товарищу:
«Теперь подожду денька три, примусь за другую картинку, тоже невеличку, «Усталые». Тут тоже девицы; бредут обе по опушке – устали они от дум, от таких, как ты, донжуанов. Пожалеть их надо. Вот я их и пожалел…»
«Пожалеть надо» – в этом заключена истинная сила одушевления, которую вложил Нестеров в свои картины, посвященные русской женщине: он умел «жалеть» ее (в русском народном языке «жалеть» значит «любить») так, как жалели ее Перов в «Утопленнице», Некрасов в «Мороз, Красный нос», Островский в «Грозе», Тургенев в «Дворянском гнезде», Гончаров в «Обрыве».
Эту тему «любви-жалости» Нестеров не исчерпал и в поздние годы своего творчества.
Не увлечение красочным старым бытом и художественной этнографией заставило его работать в 1917 году над картиной «В лесах». Опять мельниковское название – и опять нестеровская «душа темы»: «черницы» и «белицы» собрались у озера в лесах слушать подводный звон невидимого Китежа, а в сердцах у них звенит иной звон – к жизни, зов к счастью, гудят страсти, утаенные, но не заглушенные, и лес отвечает им зовущим, призывным, загадочным звоном.
Я помню, с каким увлечением и любящей тщательностью готовился Нестеров к этой картине, живя в Абрамцеве, как чутко выискивал он в юных лицах – много девушек и подростков перебывало в то лето в Абрамцеве – радость и печаль, любовь и тревогу и с каким волнением, перевоплощал он все это в образы своей картины – опять поэмы о любви и недоле.
В том же году Нестеров создал небольшую картину, одно из поэтичнейших своих созданий, «Соловей поет».
В ранний, светлый весенний вечер девушка из скита остановилась на лесной опушке и слушает, как в кустах поет соловей.
Соловей невидим на картине, но слышно, как он поет в благоуханной тишине весеннего вечера, отзывчиво внемлющей его песне, и внятно, о чем он поет: о юности, о счастье, о любви.
Но скорбной элегией не исчерпывается поэтическое сказание о русской женщине, сложенное Нестеровым.
Жестоко ошибаются те, кто готов видеть в этом сказании апологию женского страдания, любование печалью, забвение возможности других путей для женской доли, даже как бы поэтическое узаконение этого страдания: «Так было, так и должно быть».
На этой же выставке Нестерова в 1907 году, на которой была выставлена картина «За Волгой», появились тогда же написанные картины, вызвавшие изумление зрителей своей неожиданностью.
Это были «Свирель» и «Два лада».
В «Свирели» (акварель) та же ранняя весна, что и в «Великом постриге», те же только что проснувшиеся, по утрам зябнущие на вешнем холодке березки, те же хрупкие первоцветы в еще невысокой траве и та же – почти та же – девушка, что встречалась нам в «Думах»; но она погружена не в думы, она призакрыла глаза от сладкой вешней истомы – она слушает, как поет простая свирель немудрящего пастушка, льноволосого Иванушки из сказки, сидящего на бережку. Девушка слушает и пьет его песню о любви и счастье, как сладкий березовый сок из вешнего белоснежного ствола.
Кто она, эта девушка? Из сказки или из были? Многим показалось, что эта «девушка-берендейка» из сказочной Руси царя Берендея, а может быть, она из той всеобщей сказки, которая называется любовью и без перевода понятна всем народам и всем векам.
Но «Два лада», появившиеся на той же выставке, это уже несомненно из сказки, притом русской народной сказки.
Среди нестеровских «святых» и девушек-страдалиц эти «два лада» – юноша и девушка в древнерусском одеянии, овеянные раннею весною и первою любовью, – многим казались мимолетными гостями, а между тем это были одни из самых заветных образов художника, неразлучных с его мыслью и сердцем. На народно-русском языке «лад» – значит любовь, дружба, мир, согласие, а «ладо» и «лада» – значит один или одна из милой четы, связанных любовью и светлой верностью.
Лишь внешним толчком были известные отрывки из баллады А.К. Толстого:
Все это почти так у Нестерова, вся древнерусская костюмировка «Двух лад» налицо, но все остальное – другое…
Нестерову нужна была дальняя сказка, нужна была оболочка берендеевской Руси, с ее «красной горкой», с ее веснянками, ее хороводами в честь пламенного Ярилы, чтобы в седую и юную правду этой сказки вместить свой светлый домысел о том, как прекрасна была бы русская девушка в светлой доле – в любви-согласии, в любви-удаче. В условиях обыденной жизни и в истории этот домысел звучал бы вымыслом, в сказке он превращался в прекрасную правду.
Вот почему на своей выставке, где Нестеров желал собрать все изводы и отрасли своего сказания о родном народе и его природе, ему необходимо было наряду со страницами живописного романа-элегии («За Волгой») поместить страницы живописной сказки-идиллии о той же русской девушке» только тогда его «сказание» явилось бы в полноте, а стало быть, и в правде своей.
Насколько заветна была для Нестерова «душа темы» этой идиллии-сказки, явно из того, что он много раз возвращался к «Двум ладам» – и в масляных эскизах, и в акварелях, и в рисунках карандашом и пером. Ему все казалось, что он не так, как нужно, спел свою песню о счастливой любви, что в ней еще мало вешнего запаха, еще недостаточно солнечного тепла. Ни один из вариантов «Двух лад» он не считал удавшимся и искал все новых и новых воплощений «души темы», неизменно радовавшей его молодым теплом и неугасающим светом.
В последние годы жизни Михаил Васильевич имел обычай встречать Новый год новым рисунком в альбом, и всегда его новогодние рисунки были на бодрые темы – молодости и любви. Так встретил он и новый, 1941 год, 79-й год его жизни. Это был акварельный рисунок «Два лада»: «он» – с красным луком в руке, «она» – в белом платье и синей телогрее; оба особенно как-то бодрые, сильные, устремленные; казалось, он пустил стрелу не в обычную птицу, а в неумирающую жар-птицу; стрела не пронзит ее, а вырвет у нее только одно огненное перо, и его одного будет достаточно, чтобы навеки зажглась неопалимая купина счастья.
Человек рожден для счастья, а не для страдания: высшее земное счастье в любви – это исконный закон человеческого бытия. Так думал Нестеров.
«Два лада» начались, по сознанию Нестерова, на первой поре человечества. Это хотел показать он в задуманной в 1898 году картине «Адам и Ева». Нагие, прекрасные и свободные в своей наготе и невинности, они простирают руки друг к другу: Ева принимает цветущую ветвь, протягиваемую ей Адамом. И вся природа – стройные кипарисы и птицы: кроткий голубь на руке Евы, ширококрылый орел на плече Адама, – соучаствуют в их радости и любви.
Картина не пошла дальше отлично разработанного большого эскиза, но мысль о такой картине как о завершении всего творческого пути горела в художнике и в поздние годы, согревая и освещая его.
В 1907 году Нестеровым была задумана картина «Природа». Он вспоминал о ней:
«Весна была запоздалая. На пасхе уехал в Сунки, работал этюды к задуманной, но не исполненной картине «Природа»: на фоне южного весеннего пейзажа, среди цветов, по холмам, по полянам, взвяшись за руки (или навстречу друг другу), идут юные, крепкие, в чем мать родила, влюбленные. Они составная часть торжествующей «Природы-матери».
Картина не была написана, но и много лет спустя художник не расставался со своим замыслом.
Его повесть о русской женщине и о ее недоле в любви и счастье не была бы так искренна, правдива, глубока, если бы в душе самого художника не светил так высоко, не горел так неугасимо яркий пламенник веры в то, что человек рожден для счастья и любви.
Его неугасающий свет «сквозит и тайно светит» во всех без исключения сказаниях Нестерова о русской женщине. От этого в них так много тепла и света, утверждающих – вопреки всем туманам жизни и истории – неизбывную радость бытия.
IV
В иллюстрированном каталоге XVII Передвижной выставки (1889) под № 120 значится: «Нестеров М. В. (экспонент). Пустынник. (Собств. П.М. Третьякова)», на одной из следующих страниц картина воспроизведена автотипией.
Уже эти данные каталога свидетельствуют об исключительном успехе, выпавшем на долю первой картины Нестерова, попавшей на лучшую выставку того времени. Пометка «собств. П.М. Третьякова» указывала на то, что еще до открытия выставки картина была приобретена знаменитым собирателем национальной галереи, а помещение в каталоге, во всю страницу, репродукции с первой и единственной картины экспонента-дебютанта означало, что художественные достоинства ее были высоки в глазах требовательного жюри Товарищества передвижников (из 186 картин, бывших на XVII выставке, лишь 45 удостоились воспроизведения в каталоге).
По свидетельству Михаила Васильевича Нестерова, на Передвижную выставку «Пустынник» был принят единогласно и очень многим понравился».
Картина стала событием. По поводу ее, едва ли не впервые, зрителями, критиками и художниками было употреблено слово «настроение». Этим словом пытались передать то тихое веяние светлой грусти и догорающей осенней ласки, какое ощущал зритель от этого пустынного затишья со стынущим озерком, с полосой леса, теряющего свое золотое убранство. Зрителю передавалось теплое любящее умиление, с которым бредущий по бережку старец в лаптях взирает на «кроткое природы увяданье» и на эту худенькую, взъерошенную елочку, на последнюю алую ветку рябины, на прибрежную луговинку с первым, робким еще снежком.
Это русская осень, бывающая так, как она и изображена у Нестерова, только в одной стране в мире – в Средней России, и это русский человек, простой старик крестьянин, выросший на этих топких бережках, переживает пиршество осени так, как переживали его многие тысячи русских людей за долгие столетия обитания в этой лесной равнине: с ясною внутреннею бодростью, с последним ласковым приветом увядающей красе земли-кормилицы.
Какое сильное и глубокое впечатление производил «Пустынник», можно судить по письму В.М. Васнецова к Е.Г. Мамонтовой, посланному 14 января 1890 года из Киева, куда перекочевала Передвижная выставка:
«Хочу поговорить с вами о Нестерове – прежде всего о его картине «Пустынник». Такой серьезной и крупной картины я но правде и не ждал… Вся картина взята удивительно симпатично и в то же время вполне характерно. В самом пустыннике найдена такая теплая и глубокая черточка умиротворенного человека. Порадовался-порадовался искренне за Нестерова. Написана и нарисована фигура прекрасно, и пейзаж тоже прекрасный – вполне тихий и пустынный…
Вообще картина веет удивительным душевным теплом. Я было в свое время хотел предложить ему работу в соборе (неважную в денежном отношении) – копировать с моих эскизов на столбах фигуры отдельных Святых Русских; но теперь, увидевши такую самостоятельную и глубокую вещь, беру назад свое намерение – мне совестно предлагать ему такую несамостоятельную работу – он должен свое работать – познакомьте его с Праховым».
Примечательны последние слова этого письма: «Пустынник» впервые раскрыл автору «Аленушки» глаза на всю самобытность и значительность таланта молодого Нестерова.
Пейзаж «Пустынника» не одного Васнецова поразил своей полной самостоятельностью: так, как увидел здесь русскую природу Нестеров, еще не видел ее никто: не только далекие от него академики, не только пейзажисты-передвижники – трезвый «лесовед» Шишкин и пылкий экспериментатор Куинджи, но и те, кто был ближе к Нестерову: Саврасов и Поленов, учившие «пейзажу» в Училище живописи.
И среди пейзажей «молодых» – А. Васнецова, Левитана, Остроухова, Первухина, Ендогурова, бывших на той же выставке, – пейзаж Нестерова останавливал своею новизною: он давал неожиданную радость новой, еще небывалой встречи с русской природою.
Но, кроме небывалого пейзажа, на «Пустыннике» был еще сам Пустынник, также небывалый до Нестерова.
Его старец монах был равно далек и от холодно-официальных, благолепно-трафаретных «старцев» В.П. Верещагина (не «настоящего») и А.И. Новоскольцева, и от нарочито бытовых, сатирически-обличительных монахов у передвижников-жанристов А.И. Корзухина («В монастырской гостинице») и К.А. Савицкого («Встреча иконы»).
В каталоге XVII Передвижной выставки, кроме «Пустынника», значатся еще три картины видных «членов Товарищества» на монастырскую тему. М.П. Клодт выставил «Схимника» – голову седого монаха в схиме, Е.Е. Волков дал картину «В ските»: старик монах идет по воду к лесной речушке. Г.Г. Мясоедов – «Вдали от мира»: послушник средних лет в скуфье оперся руками на плетень и впился глазами в глухую чащу леса.
Все три вещи написаны как будто на нестеровские темы. Но как глубоко различие между ними и «Пустынником»! Холодные, серые полотна Клодта и Волкова не остановили ничьего внимания. С картиной Мясоедова случилось нечто более замечательное.
Нестеров в своих воспоминаниях рассказывает:
«Пустынник» выглядел, поставленный на место, оригинальным. Молодежь особенно горячо его приняла. Из стариков лучше всех принял его Ярошенко, хуже других – Мясоедов. И на то была серьезная причина: он сам написал и выставил пустынножителя… Монах, еще нестарый, «томится» где-то в лесу при закате летнего дня. Мясоедов посмотрел на моего «счастливого» старца и начал что-то в своей картине переписывать. А это плохой признак: «перед смертью не надышишься». Кончилось тем, что накануне открытия выставки он свою картину снял вовсе; на другой год выставил ее, но желаемого успеха не имел».
Но значит ли это, что Нестеров закрывал глаза на тех бытовых монахов, каких рисовали Корзухин и Савицкий?
Вот что пришлось Нестерову писать сестре 24 июня 1888 года:
«Вчера со мной был интересный случай. Отправился я в Данилов монастырь (на могилу жены. – С.Д.) и заказал панихиду. Приходит дежурный иеромонах, и после недолгих слов я увидал, что святой отец согрешил, выпив не в меру. Однако он начал, но с каждой минутой все более и более лукавый овладевал им, он на полслове икал, охал, останавливался и т. д. Наконец злой дух одолел праведного старца, и тот вместо следуемой печальной молитвы изрек следующее: «Нет, врешь, еще мы отслужим!» – после чего терпение мое лопнуло, я отправился к отцу архимандриту, который, успокоив меня, отслужил сам торжественную панихиду, а старца отдал под начало. Недурно?»
Этот эпизод, случившийся в то время, когда Нестеров уже задумал «Пустынника», мог бы послужить сюжетом для картины, которая вряд ли уступила бы в яркости и остроте перовскому «Сельскому крестному ходу на Пасхе».
Живя в небольшом монастырьке под Москвой, давшем художнику материал для многих его картин, Нестеров писал оттуда в 1895 году Турыгину:
«Вот уж 5 дней, как я… в монастырской гостинице в 2–3 верстах от Троицкой лавры, в так называемых «Пещерах «Черниговской». Пещеры эти однородны по характеру с Киевскими и похожи на катакомбы. В одной из пещер находится чудотворная, очень чтимая икона Черниговской Божией Матери. Икона эта собирает сюда многие тысячи богомольцев, которые несут и везут многие тысячи рублей. Обитель цветет, монахи грубеют и живут припеваючи, мало помышляя о том, о чем, по положению, они должны помышлять неустанно».
Горький контраст между народною верующею толпою и «живущими припеваючи» монахами и духовенством послужил темою к картинам Савицкого «Встреча иконы» и Репина «Крестный ход в Курской губернии», и нельзя сомневаться, что в наблюдениях Нестерова нашелся бы немалый материал для картин подобного содержания. Однако свою задачу Нестеров видел в другом.
Вспоминая свое детство и юность, он рассказывает в неоконченной автобиографии:
«Жил в ту пору в Уфе, в бедном приходе, за Сутолокой, в Солдатской слободке батюшка, – его все звали по его приходу «батюшка Сергиевский», – человек на редкость добрый, благожелательный, бескорыстный. Его все в городе любили, ставили в пример. Странный был этот отец Федор… Он был в душе поэт, художник, музыкант. Писал стихи, расписывал иконостасы в своей убогой кладбищенской церковке, играл на скрипке, а как пел!.. Его приятный, задушевного тембра голос шел в душу… Кто у него не бывал! Ведь он был никем не заменим, его любил простой народ в «Солдатской слободке», шел к нему со своим счастьем и несчастьем, шел доверчиво, полагаясь на его мудрый суд… На мою долю в жизни выпал не один такой отец Федор. Правда, я не искал иных, меня тянуло, как художника, к типам положительным. Мне казалось, что в нашей литературе, искусстве было совершенно достаточно выведено людей, позорящих себя, свою родину».
Когда бы и кому бы ни рассказывал Нестеров о своем детстве и юности, он всегда с радостною благодарностью вспоминал об отце Федоре. Существование «отцов Федоров» в русской жизни было для Нестерова столь же реально, как и существование тех монахов, о которых он то с кипящим, то со сдержанным негодованием писал в своих письмах.
И когда, вспоминая обличительные картины Перова, Савицкого, Корзухина, Нестеров замечает: «…в нашей литературе, искусстве было совершенно достаточно выведено людей, позорящих себя, свою родину», – он не отрицает ни значения, ни пользы этих сатирических произведений, а для их персонажей находит суровые слова осуждения. Но на свою долю Нестеров считает нужным взять иную задачу – показать «отцов Федоров», искреннюю веру соединявших с искреннею любовью к народу.
Нестеров с юных лет любил тех русских писателей, которые ставили себе и решали подобную задачу. Для Нестерова идеалом здесь, как и всегда, был Пушкин. Автор «Пустынника» указывал с восторгом, что в «Борисе Годунове» Пушкин с равным художественным совершенством и жизненною правдою изобразил бродягу Варлаама и летописца Пимена. Нестеров сетовал, что лишь немногие из русских писателей были в силах пойти за Пушкиным с его Пименом. В число этих немногих Нестеров включал Лескова с его «Соборянами», с его простецом-монахом Кириаком в повести «На краю света» и Л. Толстого с его рассказом «Три старца». На первое место Нестеров ставил здесь Достоевского с его главой «Русский инок» в романе «Братья Карамазовы».
Еще в 1884 – 1885 годах Нестеров задумал ряд рисунков к этому роману. Из четырех рисунков три посвящены теме «Русский инок»: «Старец Зосима благословляет народ», «Больную женщину подводят к старцу Зосиме» и «Посещение великого молчальника отца Ферапонта».
Эти рисунки утрачены. Михаил Васильевич об этом жалел: «В них было кое-что. Я плохой иллюстратор, но к Достоевскому меня влекло. Думается, тут я мог бы сделать что-то путное».
Влекло Нестерова ко многим образам Достоевского – к Алеше и Ивану Карамазовым, к «Запискам из Мертвого дома», к «Идиоту», но привлекал особо один образ – старца Зосимы. На Зосиме, как на пушкинском Пимене, Нестеров убеждался, что можно построить правдивый художественный и вместе народный образ из иного жизненного материала, чем тот, из которого строятся Варлаам с Мисаилом.
Но создать такой образ – своего Пимена, своего старца Зосиму – Нестеров мог лишь на основе собственного опыта чувств и мыслей, почерпнутых, как всегда, из живой действительности.
Мы уже заглядывали в холщовый альбомчик художника, где летом 1888 года он набросал два эскиза «Пустынника». Работая в Вифанке, под Сергие-Троицей, над этюдами к «нестеровской девушке», пришедшей к колдуну за зельем, художник не разлучался и с «нестеровским старцем».
В своих воспоминаниях Нестеров пишет:
«Я давно уже наметил себе у Троицы идеальную модель для головы «Пустынника». Это был старичок монах, постоянно бывавший у «ранней», стоявший слева у клироса Большого Троицкого собора. Любуясь этим старичком, я как-то не решался к нему подойти, попросить его мне позировать… Дни шли да шли… Однажды, уже в середине лета, прихожу я в собор, а моего старичка нет – пропал старик… Я спрашивал кого-то о нем – мне говорят: «Это вы об отце Гордее, так он помер. Поболел, да и помер». Я так и остолбенел: был старичок – и нет его. Что делать, стал вспоминать его образ, чертить в альбом: что-то выходит, да не то. Там, в натуре, куда было интереснее. Эти маленькие, ровные зубки, как жемчуг, эта детская улыбка и светящиеся бесконечной добротой глазки… Где я их возьму? И сам кругом виноват: смалодушничал!.. Прошло еще сколько-то. По старой привычке зашел в собор на свое место, с которого, бывало, наблюдал старичка. О радость, он опять стоит на своем месте, улыбается, подперев пальцем седую бородку. Значит, он не умер, мне солгали… Обедня отошла. Мой о. Гордей пошел своими маленькими, старческими шажками домой, я за ним. Заговорил. Он смотрит на меня и ровно ничего не понимает. Так и ушел от меня куда-то в монастырскую богадельню… Ну, думаю, нет же, я добьюсь своего, напишу с тебя! Так прошло еще несколько дней. Старичок все упирался, отговариваясь «грехом», на что я приводил примеры, его смущающие. Указывал на портреты митрополитов – Платона-митрополита и других… И наконец, с тем ли, чтобы от меня отвязаться, – о. Гордей неожиданно сказал: «Ну ладно, нанимай извозчика, поедем. Больше часу не мучь только…» Тотчас же я подхватил свою жертву, усадил на извозчика и марш на Вифанку. Приехал – и писать. Писал с жаром, взял все, что смог: этюд был у меня. Распростились с о. Гордеем… Теперь оставалось написать пейзаж, осенний пейзаж с рябинкой. Пока что написал молодую елочку…»
Эту «елочку» Нестеров запомнил и полюбил на всю жизнь, она была для него, как и старик монах, живым существом: с нею у художника было такое же любящее общение, как с самим пустынником. Переехав в Москву, Нестеров продолжал писать этюды для «Пустынника» среди тихих вод и старых деревьев малолюдного тогда Петровского-Разумовского.
В Москве «Пустынник» был начат, но не пошел – и был увезен в более пустынную Уфу.
Там, из тишины родного дома, вышли два «Пустынника» – первым тот, что в Русском музее в Ленинграде: бредущий старец изображен по колени; второй – «Пустынник» Третьяковской галереи, в лаптях, во весь рост.
Позже Нестеров рассказал:
«Мой старичок открыл мне какие-то тайны своего жития. Он со мной вел беседы, открывал мне таинственный мир пустынножительства, где он, счастливый и довольный, восхищал меня своею простотою… Тогда он был мне так близок, так любезен».
Личная биография Михаила Васильевича меньше всего похожа на житье пустынника. Он был одарен страстным темпераментом, неукротимой волей, неуемными чувствами, и живые голоса этих чувств и страстей не теряли в нем своего полнозвучия вплоть до того, как замолчали навеки. Но в его же душе всегда жила неутолимая тоска по внутреннему миру, по светлой тишине, которую он никогда не видел для себя в принудительном молчании кельи, а всегда видел, искал и находил в любящем соединении с природой, в ее радостном безмолвии.
Повинуясь этому зову, он долгие годы отвечал на него своим творчеством. Об этом он сам счел долгом сказать в предисловии к своим «Давним дням», подводя перед смертью итог жизни: «Я избегал изображать так называемые сильные страсти, предпочитая им наш тихий пейзаж, человека, живущего внутренней жизнью».
Успех «Пустынника» радовал Нестерова прежде всего потому, что самыми чуткими людьми в искусстве была почувствована та сердечная, углубленная правда о родине, о русском человеке и его стране, к которой Перов призывал своих учеников, и в то же время это была правда художника о самом себе.
С непотухавшею за полвека радостью вспоминал Нестеров:
«Вот я и в Москве. Нанял комнату в гостинице около Политехнического музея и развернул картину. Начались посещения приятелей-художников. Был Левитан, Архипов. Заходил Суриков, перебывали многие. Все хвалили мою новую вещь. Особенно горячо отозвался Левитан. Он сулил ей успех».
Из суждений художников для Нестерова самым важным было суждение Левитана. Он безоговорочно верил в углубленную чуткость этого певца русской природы, как никто умевшего распознать и передать и прелесть ее простоты, и красоту ее тихости.
– Я всегда больше всего ждал суда Левитана, – не раз говорил мне Нестеров. – Он был искренне расположен ко мне, но он всегда говорил правду. Ее-то мне и было нужно.
Суд другого замечательного художника – Василия Ивановича Сурикова – был так же благоприятен к «Пустыннику», но едва не повлек за собою беду.
«Суриков тоже одобрил картину, но, как «живописец», любитель красок, не был доволен этой стороной картины. И правда, в «Пустыннике» ни краски, ни фактура не интересовали меня: я тогда был увлечен иным, но Суриков сумел убедить меня, что «если я захочу», то и живопись у меня будет. Василий Иванович особенно не был доволен фактурой головы моего старика. По уходе Василия Ивановича я, недолго думая, стал переписывать лицо, а оно-то и было основой картины. Мне казалось: есть лицо – есть и картина; нет нужного мне выражения умиленной старческой улыбки – нет и картины. Мне, как Перову, нужна была душа человеческая, а я с этой-то душой безжалостно простился. С того дня десятки раз я стирал написанное, и у меня не только не выходила «живопись», но я не мог напасть на прежнее выражение.
Я стирал написанное по нескольку раз в день, рискуя протереть холст, и однажды, измученный, к вечеру опять написал то выражение, что искал. Велика была моя радость. Вскоре встретил бывшего моего учителя, хорошо ко мне относившегося, И.М. Прянишникова, он слышал о моей беде, спросил о картине и дал мне совет никогда не подвергать риску главное, самое ценное, основу картины ради второстепенного. В данном случае не живопись была главным, и я ради нее едва не погубил то, чем так долго жил. Такой урок был дап мне навсегда, и я никогда его не забывал».
Эпизод этот высокозначителен для всей творческой биографии Нестерова.
Скольким людям приходилось слышать от него уверения: «Я – не живописец!» – и никто никогда не слыхал от него: «Я – не художник». Это «я – не живописец» повторялось даже тогда, когда то, что он живописец, говоря грубо, выпирало из его полотен, как из портрета архиерея или из второго портрета А.Н. Северцова. Своими упорными заявлениями: «Я – не живописец», – Нестеров хотел сказать одно: что живопись ради живописи чужда ему, что основой картины для него никогда не была самодовлеющая живописность. Дорогой искусства он хотел вступить в прекрасную область познания человека и природы в их внутреннем бытии: как в человеке, так и в природе Нестеров всегда искал их «лица».
Лучшей и решающей оценкой «Пустынника» было в глазах Нестерова то, что его приобрел Павел Михайлович Третьяков. «Каждого молодого художника (да и старого) заветной мечтой было попасть в его галерею, а моей – тем более: ведь мой отец давно объявил мне полусерьезно, что все мои медали и звания не убедят его в том, что я «готовый художник», пока моей картины не будет в галерее…»
Третьяков посоветовал Нестерову послать «Пустынника» на Передвижную выставку – и не ошибся: там он был принят единогласно.
На сумму, полученную от Третьякова (500 рублей), Нестеров совершил первую поездку в Италию. За нею последовала новая работа, над «Отроком Варфоломеем», и работы во Владимирском соборе. Но как только Нестеров сошел с лесов этого собора, он опять взялся за тему «Пустынника», и как с повестью о русской девушке, так и с этим сказанием о благолепной, прекрасной старости он не разлучался в течение всей жизни.
До 1895 года Нестеров ограничивался лишь набросками па тему этого сказания, в их числе был сделанный в Абрамцеве в 1890 году для П.М. Третьякова «Старец удит рыбу» (другое название – «Пафнутий Боровский»).
Весною 1895 года, освободившись от киевских работ, Нестеров поселился в гостинице «у Черниговской» и там писал этюды к задуманной картине «Монахи».
Лесистые места вокруг Троице-Сергиевой лавры с небольшими монастырьками и скитами – родина многих картин и пейзажей Нестерова. Художник возвращался сюда много раз в течение всей жизни, приезжая сюда золотою осенью и, еще чаще, ранней весною.
В Троице-Сергиевой лавре и на посаде, ее окружающем, было пестро, шумно, людно, многозвучно, многокрасочно. Здесь – тихо, уединенно, малолюдно.
Тихие извивистые пруды окаймляли и замыкали спрятанные в гущине деревьев церковки и кельи; невысокие скитские ограды неотрывно смотрелись в неподвижные, тихие воды. Тихие скитские звоны не нарушали стоялой, умиренной навсегда тишины; она еще крепче и прочнее там, за скитскими стенами, где маленькие домики со столбчатыми крылечками окружали древнюю деревянную шатровую церковь начала XVII века, утопая в зелени, а по острым темным елям пробегали высоко-высоко быстрые белки.
В этих уединенных местах золото осени было особенно ярким, пышным, звонким, а мягкие зеленые тона весны были особенно прозрачны и нежны. В этих сквозных перелесках, березовых, осиновых, еловых, действительно можно было слышать тишину.
Весну 1895 года, проведенную впервые в этих местах, Нестеров всегда считал «утром года» для своего творчества, ожившего после долгой работы на лесах Владимирского собора.
В Уфу он уехал от Черниговской со свежими этюдами к картине «Монахи» и написал ее на родине. Так всегда называл он эту картину: название, под которым она известна в каталогах, – «Под благовест», подсказанное ему в Петербурге романистом Всеволодом Соловьевым, Нестеров не любил.
На картине этой все взято с натуры: деревянная церковь – из Гефсиманского скита, домики-келейки – оттуда же, прудок, березки, весь облик ранней весны, весь тонкий и нежный очерк утра года – из тихих мест «под Черниговской».
Сам Нестеров так истолковал С. Глаголю задачу, поставленную им себе в этой картине:
«На призыв монастырского колокола к вечерней молитве медленно бредут в церковь два монаха с книгами в руках. Оба они – представители двух разных типов, ярко выделяющихся среди монашествующего люда. Впереди – высокий юноша, сухой книжник, будущий холодный догматик. И здесь, в отрешении от мира, он так же хочет сделать карьеру, как и его собратья по типу делают ее за монастырской стеной. Это один из тех, которые становятся впоследствии архимандритами и архиереями. Другой, сзади – согбенный и уже ветхий деньми старец, но он полон наивного детства, благодушия и радости бытия. Несмотря на свои годы, он даже не иеромонах. Зачем ему этот сан? Он не знает честолюбия. Он весь в восторге перед тем, о чем говорит ему книга, полон чувств, которые в нем будят псалмы Давида, полон восторга перед теми чудесами, о которых рассказывают. ему жития святых, а порою и попадающая сюда из-за стен монастыря книжка какой-нибудь старинной географии и т. п. А вокруг – первые теплые дни пробуждения. Только что стаяли последние залежи снега, только что обмелели ручьи вешних вод. На деревьях еще не развернулись листья, но все полно напряженною жаждою жизни, и опьяненные ею пернатые обитатели леса наполняют воздух своим щебетанием. Чужим проходит среди этого опьянения природы монах-юноша, и в унисон ему живет душа монаха-старца».
В самом стремлении поставить перед лицом природы двух монахов: одного с сердцем, раскрытым на ее красоту и правду, другого с сердцем сухим, замкнутым – виден в Нестерове ученик Перова. Он весь на стороне старичка, который скорее убежал бы в лес, к медведям, чем надел бы архимандричью митру, и ему глубоко антипатичен молодой послушник, уже облачивший себя в честолюбивой мечте в пышные архиерейские одежды.
Нестеров писал своих «монахов» как реалист чистой воды. Оба инока – почти портреты монахов от Черниговской.
Русская весна на картине Нестерова так внутренне тепла, так ко всем без исключения приветлива, что в свою ласку и привет она вобрала не только этого кроткого старичка, но и этого высокого юношу в строгом ременном поясе: быть может, дальше с ним случится то, что предрек ему художник в своем замысле, но теперь, вот в этот предзакатный час, под тихие созвучные голоса весны и вечернего звона и он не вовсе чужд, не может быть чужд их умиротворяющего зова; порукой тому ветка вербы в его руке.
Если б это было не так, в картине был бы диссонанс, как есть он в картине «За Волгой» с ее ухарем-купцом и скорбной девушкой. А в «Монахах» этого диссонанса нет и следа. В ней безраздельно
осветляющая и освещающая всякие души человеческие.
Высокосуществен был для Нестерова отзыв Левитана об этой картине, полюбившейся и Сурикову, и В. Васнецову, и Куинджи: «Помнится, как-то зашел Левитан, которому очень понравились «Монахи», и сказал мне, что я «сумел заставить его примириться с монахами». Чуткий лирик русской живописи, как никто, сумел оценить способность Нестерова проникать за бытовые формы, сковывающие человека, и вникать в его глубокую лирическую сердцевину.
«Монахи» были представлены Нестеровым на Передвижную выставку и вызвали примечательные отзывы столпов передвижничества. «Всем вещь нравится, – писал Нестеров сестре 31 января 1896 года, – даже Ярошенко с Мясоедовым острят и придираются милостиво…»
Именно «Монахи» решили избрание Нестерова в члены Товарищества передвижников. Он прошел в члены, по его воспоминаниям, «огромным числом голосов, и лишь один Ефим Волков был против. За меня очень ратовал Шишкин, как за художника с ярко выраженным национальным чувством».
7 февраля Нестеров писал в родной дом о своем избрании: «Наконец-то мне развязали руки, теперь бы бог дал сил и здоровья, энергия есть, и можно бы поработать и сделать кое-что, не смущаясь страхами перед грозным Товариществом». Члены товарищества имели право выставлять свои картины без жюри.
Любопытно, что «Монахи» привлекли к Нестерову внимание и другой, только что еще возникавшей художественной группы: стоя перед «Монахами», А.Н. Бенуа познакомился с ее автором и тут же стал, по его словам, «искушать его участвовать с ними, с молодежью». Бенуа убедил княгиню Тенешеву приобрести картину Нестерова.
Через несколько лет, замыслив большую картину «Святая Русь», Нестеров решил обновить и умножить свое знакомство с монастырем и предпринял в 1901 году поездку в Соловецкий монастырь на Белом море.
Монастырь этот, основанный в XV веке, был обособлен от других монастырей своим географическим положением, историческим прошлым, бытом, укладом. На островах Студеного моря создалась крепкая крестьянско-монашеская община, ретиво отстаивавшая когда-то старую веру (знаменитая 7-летняя осада монастыря при Алексее Михайловиче) и отстоявшая свою бытовую и хозяйственную автономию от архиереев. Монастырская община, сплошь состоявшая из крестьян-северян, крепко вела свое хозяйство, промышляя рыбу и морского зверя, и сохраняла весьма старинный уклад жизни среди суровой, ничем не порушенной природы.
15 июля 1901 года Нестеров писал Турыгину из Соловков: «Тут много интересного, много своеобразного; но все это я как бы видел когда-то во сне и передал в своих первых картинах и некоторых эскизах. Тип монаха новый, но я его предугадал в своем «Пустыннике». Жизнь вообще очень неудобна, особенно тяжела общая «трапеза» и помещение».
На эти «неудобства» Нестеров сознательно шел: ему хотелось встретиться с северным крестьянином в рясе монаха, с настоящим «пустынником», а не архимандритом в золотой митре. «Я мог бы иметь письма к настоятелю из Петербурга или из Москвы. Тогда благоденственное житие в обители было бы мне обеспечено, но я предпочел оставаться невидимкой, чтобы видеть все то, что я хочу видеть, а не то, что мне соблаговолят показать».
Нестеров «невидимкой» бродил по острову, и художнику, забиравшемуся с красками в пустынные места Соловков, приходилось не раз слышать от монахов, работавших в лесу:
– Что греха таить, частенько с топором да пилою в лесу богу молимся.
«Это был народ крепкий, умный, деловой. Они молились богу в труде, в работе». Из этого народа, свидетельствует Нестеров, «попало ко мне на картину «Святая Русь» несколько лиц более или менее примечательных. Они вошли в другие картины. Двое из них стоят-мечтают в «Мечтателях» («Белая ночь на Соловецком»). Кое-кто попал в большую картину «Душа народа».
«Соловецкие мотивы» долго звучали в его работах. К этим картинам шло бы ко всем название «Мечтатели», данное одной из них.
Черноволосый монах средних лет и юный послушник после долгого дня, когда они «молились в труде», в «работе», вышли из-за древних крепостных стен на берег Святого озера и стоят, безмолвно внимая одухотворенной красе белой ночи. Только вольные чайки разделяют их уединение.
Художник вложил в них то, что чувствовал сам. «Писал я больше по ночам. Тишина. Сидишь, бывало, один-одинешенек, только чайки время от времени, просыпаясь, пронизывают воздух гортанными своими возгласами и вновь дремлют, уткнув головки под крылья».
Вот другая соловецкая картина.
Светлое озеро у подножия высокой лесистой Секирной горы, с маленькой скитской церквушкой. Два монаха – молодой и старый – в лодках: они удят рыбу. Не отрываясь от труда, они чутко внимают, как говорит вокруг светлое молчание природы. Так оправдано здесь название картины: «Молчание».
Вспоминая свою поездку в Соловецкий монастырь, Михаил Васильевич говорил в 1940 году:
– За трапезой архимандрит восседал на золоченом, красного бархата кресле барокко времен императрицы Анны. А у меня на картинах нигде нет этих кресел. Не найдешь у меня там ни архимандритов, ни архиереев. Мои монахи – простые. Самые простые. Из простых простые.
В этом действительная особенность картин Нестерова на русские монастырские темы. Своих монахов-простецов Нестеров выводит из келий, из церквей, из монастырских стен, уводит их в лесную глушь и оставляет там одних с их молитвой, лицом к лицу с животворящей природой, наедине с елочками да березами.
11 февраля 1915 года он писал: «Думаю начать после недельного перерыва «На земле мир, в человецех благоволение».
Как и все картины Нестерова из русской жизни, эта картина – поэтическое претворение действительности. Вот что рассказывает Нестеров в своих воспоминаниях о Соловках:
«Ездили мы и на Рапирную, и в Анзерский скит. На Рапирной, сопровождаемые монашком, помню, вышли мы на луговину. На ней сидело 2–3 дряхлых-дряхлых старичка. Они всматривались через деревья в далекий горизонт уходящего далеко-далеко Белого моря. Слева была рощица. Наш проводник внезапно обратился ко мне со словами: «Господин, смотрите, лиска-то, лиска-то!» Я, не поняв, что за «лиска» и куда мне надо смотреть, переспросил монашка. Он пояснил, что смотреть надо вон туда, налево, на опушку рощи, из которой выбежала лиса и так доверчиво, близко подбежала к старичкам…»
Картины Нестерова из жизни монахов-простецов – это прекрасное сказание о старости простого русского человека, живущего в чистоте сердца, в мире с совестью и людьми и в дружбе с природой.
Оно написано с той простотой и правдой, с какою сам народ передал это сказание в древнерусской летописи, повести и легенде.
V
Когда раннею весною 1889 года Нестеров приехал в Уфу, отец встретил его особенно радостно: «Пустынник» был приобретен Третьяковым, испытание на звание художника было сыном выдержано, Василий Иванович вручил ему 500 рублей на поездку в Италию.
Но Михаил Васильевич оставил эти деньги в России, а в Италию поехал на другие 500 рублей, полученные от Третьякова за «Пустынника»: «непременно на свои хотел ехать!»
Перед отъездом он перечитал несколько книг по истории искусств.
Он не знал ни одпого иностранного языка, но знал, по его словам, «что нужно от заграницы взять». За границу Нестеров ехал учиться – и «школы», где он хотел поучиться, были намечены им уже давно: Венеция, Флоренция, Рим и в заключение Париж с художественным отделом Всемирной выставки, собравшим сокровища живописи со всего света. Но не только учиться ехал Нестеров в Италию: у него в голове был замысел картины «Жены Мироносицы». Южная Италия ему, как Александру Иванову, должна была заменить далекую Палестину.
Нестеров выехал из Москвы 12 мая.
«Благословили меня мои старики, – вспоминал Нестеров свой отъезд из России, – и бодро отпустили в чужие края… Только просили чаще писать, и я им писал часто и обо всем. Да и с кем мне было так откровенно, так доверчиво поделиться теми чудесами, которые открылись передо мною, едва я перевалил границу моей родины?»
От этих писем Нестерова из Италии доныне веет свежестью впечатлений, пылом искреннего удивления, энтузиазмом перед открывающимися ему чудесами искусства, и в то же время эти письма – лучшая характеристика самого Нестерова в молодые годы: человек твердой воли, широкого порыва, большого, чисто русского по складу ума в них раскрывает себя с подкупающей правдивостью, искрящейся теплым юмором и блещущей метким, тоже чисто русским, словом.
Вена была для Нестерова лишь неизбежным перепутьем по дороге в Италию. Он до изнеможения бродил по музеям и картинным галереям: был в Бельведере, в галерее Лихтенштейн, в Академии художеств, на выставке «Отверженных»… Но Вена дала немного художественных впечатлений. «Выл совершенно восхищен «Инфантами»[7… Чем-то задержал меня Ян Матейко», – писал Нестеров.
Вена была покинута без особого сожаления. Горной сказкой промелькнул живописный Тироль с его охотниками в зеленых шляпах с соколиным пером.
«Аванти!»[8 – юркий поезд вынырнул из туннеля, и великолепное солнце Италии «пахнуло на нас как-то по-южному… Вот она, подлинная Италия! Какая радость!.. Я в Италии, один, с мечтой о том, что и не снилось моим дедам и прадедам. Тут все и сразу мне показалось близким, дорогим и любезным сердцу. Я мчался, как опьяненный, не отрываясь от окна… Туда, где жили и творили Тинторетто, Веронез, Тициано Вечеллио. Мог ли я думать, переживая мое страшное горе в мае 86 года, что через два года смогу быть так радостен, счастлив?.. Временами мне казалось, что я не один, что где-то тут очень близко и покойная Маша, что душа ее не разлучалась со мной и потому счастье мое сейчас так велико и полно».
Эти слова писаны 79-летним стариком, но в них столько же юного восторга перед страной Тициана и Рафаэля, сколько и в письмах молодого Нестерова.
Для него Италия, как для Ал. Иванова и Гоголя, была заветной страной красоты и вдохновения. Эта «молниеносная любовь» вспыхнула с первого взгляда на Италию и потухла лишь с последним взглядом Нестерова. Из чужих краев, где живал художник, – а жил он во Франции, Германии, Австрии, Турции, Греции, Польше, – только Италия отразилась в его творчестве, всецело отданном своей отчизне.
На родину Нестеров писал из Венеции: «Переехали через знаменитый мост, который тянется по Адриатическому морю, и очутились в Венеции. Вещи наши вынесли, уложили в гондолу, и мы каналами поехали в другой конец города, где помещается избранный нами отель «Кавалетто». Наш гондольер не был молодой гондольер, он не был ни весел и не пел, тем не менее мы чувствовали себя прекрасно. Была тихая южная ночь, и звезды, и месяц, и узкие улицы, еле освещенные фонарями, бесчисленные мосты; все это было ново и поэтично. Чувствуешь себя, как в опере. Впечатление это еще более усиливается, когда в тишине где-то послышится серенада, на мосту покажутся тени, затем снова звуки: приятный тенор кому-то не дает крепко уснуть. Хорошо…»
Эти звуки венецианской мандолины, аккомпанирующей тенору, слышались Михаилу Васильевичу и через полвека:
«Это нас приветствует дивная «владычица морей». Она хочет подчинить себе без остатка молодого дикаря-художника. Он твой, Венеция! Он тебя любит почти так же, как свою бедную, холодную родину…»
Он был поражен красотой площади Св. Марка – этой царственной приемной «владычицы морей», с ее живою, вечно праздничною толпою, с мраморным Дворцом дожей, с собором св. Марка, ослеплявшим своей жгучей белизною. Русскому художнику, пораженному этим храмом, сочетавшим пышность Византии с устремленностью готики и красочностью Возрождения, – русскому художнику вспомнился при этом лишь один собор и одна площадь, чем-то подобные этим, – Красная площадь с Василием Блаженным. На той и на другой кипела когда-то бурная народная толпа, творя историю.
Если во Дворце дожей Нестеров, по его воспоминаниям, «отдался весь любованью великим искусством Тинторетто, Тициана и Веронеза» и они стали «властителями» его «художественных впечатлений», то на следующий день в Академии художеств произошло его первое свидание с Витторе Карпаччо.
Нестеров в письмах и воспоминаниях не упоминает ни Беллини с его девственными мадоннами, ни Джорджоне с его «Концертом», где звуки превращены в краски, ни обоих Пальма – старшего и младшего, ни Тьеполо. Почему же после жгучих восторгов пред великолепным Тицианом, праздничным Веронезом и трагическим Тинторетто Нестеров остановился надолго пред наивным, простодушным, даже угловатым Витторе Карпаччо? Не потому ли, что в его цикле картин «Житие св. Урсулы» сквозь наивность композиции и сквозь робость красок проступала светлая прямота свежего чувства и младенческой веры? На это живописное сказание венецианского художника любящим взором смотрел русский художник, только что начавший свою повесть о русской девушке, уходящей от земного счастья, и уже замысливший свое «Житие» радонежского отрока.
Нестеров впервые за рубежом нашел в Карпаччо художника, чем-то родственного себе, и как бы получил от него доброе напутствие на свой творческий путь.
А о своем пути Нестеров не забывал и в Венеции: в его альбоме находим маленький, но тщательно разработанный эскиз «Святой старец ловит рыбу».
Из Венеции путь Нестерова лежал во Флоренцию.
По дороге он заехал в Падую – ради Джотто. Капелла дель Арена, освященная в 1305 году, была расписана Джотто тогда же: верхний ярус посвящен жизни Богоматери, нижний – Страстям Христа.
«Падуанский цикл Джотто своими несложными средствами выражения достигает подлинной классической зрелости и совершенства… Падуанский цикл… рождает в нас твердое убеждение, что средствами живописного изображения может быть сказано все то, что волнует художника, что нет такого переживания, нет лирического волнения, которое не может получить себе полного пластического выражения… Капелла дель Арена – замечательный пример того, как поток лирического вдохновения может быть включен в чеканную художественную оправу».[9
Вот примерно те чувства, которые Нестеров испытывал, стоя впервые пред фресками Джотто. Лирическое волнение, заветная область творческих устремлений Нестерова, доступно не одному поэту и композитору, но и живописцу: классический пример Джотто убеждал, утверждал, наставлял в этом русского художника.
Флоренция Беато Анджелико и Филиппо Липни превратила это убеждение в спокойную радость правды, обретенной навсегда.
Нестеров приехал во Флоренцию 21 мая и в тот же день успел уже надышаться ароматами Флоренции. Он не без сладкого сердцебиения вспоминал об этом и полвека спустя:
«Для Флоренции у меня была дана неделя времени, немного, да и кипучая моя натура требовала сейчас же деятельности. Через час я уже был в соборе, осматривал с жадностью баптистерий, двери Гиберти, словом, смотрел все то, что у меня было помечено, назначено еще в Москве для обзора. А вечером поехал отыскивать художника Клавдия Петровича Степанова, жившего здесь с семьей. По дороге туда восхищался Флоренцией, которая была вся в цветах, в чайных розах. У моего извозчика розы были на шляпе, у его лошади в гриве, в хвосте. Попадались экипажи, тоже украшенные розами…
Красива, своеобразна была Венеция, но и лицо Флоренции было прекрасно, и я с тех пор полюбил ее на всю жизнь.
Семья Степанова встретила меня приветливо. Там я познакомился с милейшим Николаем Александровичем Бруни…»
Внук знаменитого автора «Медного змия» предложил Нестерову поселиться у него в мастерской. 23 мая Нестеров писал оттуда в Уфу:
«Бруни был позван на обед к одним русским богачам, которые живут здесь, а я остался писать из окна вид. В мастерской окно сажени три. Картину можно писать аршин в 10… В окно видно горы, по ним стелются облака, наверху виден католический монастырь, ниже раскинулись то там, то здесь постройки, всюду кипарисы, каштаны, лимоны, а внизу бежит Арно, ближе к нам железная дорога, и потом снова кипарисы, сады, а в них розы, белые лилии… и все в этом роде… Липа отцветает. В воздухе что-то нежное, ласкающее. Словом, хорошо!..»
Спустя три дня Нестеров сообщал:
«Во Флоренции я многое видел, но если бы узнать и изучить все, на это понадобился бы год, а не неделя. Галереи Питти и Уфицци полны необыкновенных художественных богатств… Алессандро Боттичелли, Фра Беато Апджелико, Филиппо Липпи и другие полны высокой поэзии. Вот откуда берут свое начало Пювис де Шаванны и Васнецовы! Но понимание этого мира требует известной подготовки, и сила их есть сила внутренняя, внешний же вид настолько первобытен и прост, что разве и поражает чем, то необыкновенной наивностью. Завтра в последний раз пойду в эти галереи, с тем чтобы надолго оставить их в своем представлении».
Он оставил их там навсегда.
Мысль-наблюдение о какой-то связи Пювис де Шаванна и Васнецова с предшественниками Рафаэля он повторил в письме к Турыгину из Рима:
«В Питти и Уфицци есть необыкновенные по своей духовной силе и непорочности мысли вещи Фра Беато Анджелико, Боттичелли, Филиппо Липпи. Это прототипы Рафаэля, Пювис де Шаванна и нашего Васнецова с братией. Эти вещи нужно видеть и проникнуться ими…»
В числе этой русской «братии» Нестеров разумел и себя. Признание это свидетельствует, что Нестеров никогда не отъединял ни своего художества, ни русского искусства вообще от великих преданий и творческих школ большого европейского искусства. Ошибается тот, кто подумает, что Нестеров ставил здесь знак равенства между Васнецовым и Фра Беато Анджелико. Как раз наоборот: он видел правду Васнецова и идущих с ним в том, что они устремляются к подобному искусству «духовной силы и непорочности», ищут к нему русских путей, но ни за Васнецовым, ни за собою он не признавал права думать, что эта правда ими достигнута.
Чем выше ставил Нестеров искусство ранних флорентийцев, тем труднее и недостижимей представлялась ему художественная высота их непорочности. После второго посещения Флоренции Нестеров писал Турыгину:
«Сила и значение Боттичелли не в характеристике лиц, а в бесконечной лирике, музыке его картин, в его понимании особенностей природы, чисто психологических, доступных к пониманию не поголовно всем. Тут ни при чем его наивность, и, конечно, не она красит его картины, а тот «дух», который он вносит в картины своими комбинациями тонов, линий (последние могли бы без ущерба быть и более зрелыми). Все вместе и дает у этого автора тот «аккорд», который заставляет так сладко или томительно чувствовать присутствие высшей духовной силы среди нас, житейских прозаиков».
Отвергая здесь всякие сравнения, Нестеров рано почувствовал, говоря словами Гёте, «избирательное сродство» с художниками ранней Флоренции. Но это не мешало ему столь же глубоко и страстно отдаваться и другим впечатлениям от художников иного устремления и других темпераментов. Микеланджело волновал его бурно.
«Душа моя полна была новыми впечатлениями, – писал Нестеров в своих воспоминаниях, – я не мог их вместить, претворить в себе… Скульптура Микеланджело и фрески в кельях монастыря св. Марка – все это теснило одно другое, приводя меня в неописуемый юный восторг. Язычник Боттичелли легко уживался с наихристианнейшим Фра Беато Анджелико. Все мне хотелось запечатлеть в памяти, в чувстве, всех их полюбить так крепко, чтобы любовь эта к ним уже не покидала меня навек. Мне кажется, что искусство, особенно искусство великих художников, требует не одного холодного созерцания, «обследования» его, но такое искусство, созданное талантом и любовью, требует нежной влюбленности в него, проникновения в его душу, а не только в форму, его составляющую».
Один из альбомов Нестерова хранит уже поблеклые отзвуки этих впечатлений от Флоренции. С этого города начались и масляные итальянские его этюды, в которых запечатлена так горячо не только по чувствам, но и по краскам его любовь к Италии.
Пробыв во Флоренции неделю, он расставался с нею с трудом, хотя впереди и был Рим, а в сущности, не расставался с нею никогда.
Встречи с Вечным городом Нестеров ожидал с трепетом того благоговейного волнения, которое было хорошо знакомо Ал. Иванову и Гоголю. Но Рим не сразу подчинил Нестерова своей власти. Художник еще полон был любви к Флоренции. «Колизей, собор св. Петра, Пантеон, Форум и проч. производят грандиозное впечатление, – сообщал он Турыгину, – но тут нет того, что можно получить от Боттичелли… Рим до сих пор остается язычником».
В первый же день по приезде в Рим Нестеров писал (29 мая 1889 года):
«После оживленного обеда всей компанией (художников. – С.Д.) пошли в Колизей. Это чудовище полуразрушено. В лунную ночь этот гигант как бы дремлет, усталый тем, что видел на своем веку. Он, как голова из «Руслана», забылся тяжелым сном: ни стоны, ни кровь больше не трогали его…»
Нестеров вспоминал, что в лунные ночи любил бродить по Колизею. Что влекло туда русского художника: архитектурная и историческая слава римского памятника или лунная ночь, творящая сказочные образы из античных развалин?
12 июня Нестеров, пометив письмо: «Рим», описывал в родной дом поездку с русскими художниками в окрестности Вечного города:
«В Тиволи мы пошли смотреть водопад. Тут одно чудо сменяется другим, напрасно берусь описывать вам то, что здесь можно видеть. Громадные утесы, с вершины их стремглав, бурча с страшным шумом, спадают вниз и разбиваются об дикие утесы целые водопады… Радужная пыль стоит в воздухе. Гранитные облака нависли над обрывами, вдали древний храм богини Весты, он разрушен, но остатки его еще дают понять, что было когда-то… Наконец и вилла Адриана. Чудная местность: маслины, олеандры в цвету, многовековые пинии, пальмы ведут к знаменитым развалинам дворца. От былого великолепия остался один громадный остов… Порфиры, мраморы, мозаика – все это увезено в Рим – в разные церкви. В общем же на меня это сделало впечатление заброшенного кладбища… Старик же Беклемишев[10 охает, восхищается всяким кирпичом, что меня возмутило, и мы с ним горячо поспорили и всю дорогу не могли угомониться».
В этом описании поездки в Тиволи и на виллу Адриана все сочувствие художника отдано природе, и кажется, самые остатки античных памятников интересуют его лишь постольку, поскольку они стали частью этой пышной природы, войдя своими развалинами в пейзаж, дышащий жизнью и красотой.
Аналогичные чувства вызвала у Нестерова и античная Греция. После поездки в Грецию в 1893 году он писал Турыгину:
«Отправились в Акрополь… Осмотрев эти величавые развалины чуждой мне старины, полюбовавшись на Парфенон, побывав в музее архаики греческой, добывав везде, где осталось что-либо от античного зодчества, усталые вернулись домой. Пробыв пять дней в Афинах, осмотрев музей и проч., я не был, как и ожидал раньше, ни разу задет за сердце, хотя и испытывал прекрасное, вполне эстетическое наслаждение, например, перед статуей Гермеса (кажется, Праксителя работы). Я чувствовал себя все время между красивыми, быть может, хорошими и умными людьми, но, увы, язык мне их непонятен».
Нужно было иметь немалую смелость на такое откровенное, прямое признание. «Благоговенье» перед «святыней красоты» развалин Древней Эллады со времен Возрождения вошло в плоть и кровь человека европейской культуры, в особенности художника.
Ничего этого не чувствовал Нестеров. Он осматривал Акрополь с ученым-специалистом профессором А.А. Павловским, а в Риме встречался с такими исключительными знатоками классического мира, как М.И. Ростовцев и Вячеслав Иванов, Ему нетрудно было бы получить от них руководящее напутствие на верный путь от античных развалин к былому цветущему «сегодня» античности. Но Нестеров не признавал никакой археологической призмы, никаких искусствоведческих пособий, помогающих по части увидеть целое, по развалинам и обломкам восстановить в сознании то или иное высокое творение архитектурного и скульптурного гения Эллады!
Только одно «прекрасное, вполне эстетическое наслаждение» испытал Нестеров в Греции – перед Гермесом Праксителя, но и тот «не задел его за сердце». Тем слабее могли задеть его за сердце менее совершенные, менее прекрасные боги и полубоги Ватикана. Он о них и не упоминает в письмах из Рима, а в поздних воспоминаниях лишь подтверждает чувства, если не суждения, молодости:
«Повторяю, христианское искусство мне было понятней, родней. Чтобы его воспринять, мне не надо было делать никаких усилий. Искусство же дохристианское оставалось где-то по ту сторону моего сознания, чувства в особенности».
Но о каком «христианском искусстве», предпочтенном всему античному искусству Рима, здесь идет речь?
Это не первохристианское искусство катакомб. Нестеров посещал катакомбы, руководимый Н.А. Бруни, но ни в письмах в родную семью, ни в воспоминаниях, ни в изустных рассказах Нестерова нет ни слова о впечатлениях, вынесенных из катакомб в это первое итальянское путешествие.
О пышном искусстве торжествующего католицизма, о папском барокко Нестеров, наоборот, пишет.
В соборе св. Петра – этом правительствующем храме католичества – Нестерова, как раньше Гоголя, привлек только купол Микеланджело, величественный в своей простоте. Но внутри собор св. Петра, как вспоминал Нестеров, показался ему холодным: «Он не соответствовал моему представлению о христианском храме; он был слишком католическим, торжествующим, гордым для моего понимания той религии, которой он был посвящен. Это было небо, притянутое к земле, а не земля, вознесенная к небесам».
Какое же «христианское искусство» в конце концов Нестеров полюбил в Риме? Вот его ответ: «Время Возрождения и его живописные памятники искусства захватили меня всецело и без остатка».
Из статуй только одна покорила Нестерова раз и навсегда: «Моисей» Микеланджело. Нестеров любил возвращаться в старинную церковь Сан-Пьетро ин Винколи и там под величавые звуки органа созерцать образ древнего боговидца. «Сила духовная и физическая отражается определенно и ясно в Моисее… – писал Нестеров приятелю-художнику. – «Моисей» Микеланджело и его «Страшный суд» есть целый триумф возрождения итальянского искусства». В 1893 году Нестеров снова пишет из Рима: «Был я не раз (да и еще не раз буду) в Ватикане, в Сикстинской капелле, сидел там часами, созерцая образы, которыми некогда грезили Рафаэль, Микеланджело и др. Все это действительно велико и благородно, и не мне пытаться словом передать красоту виденного».
И еще тогда же: «Был в Ватикане, вспомнил опять то, чем наслаждался 4 года тому назад, любовался на Рафаэля, на лучшие его работы, писанные им в самый расцвет, от 25–28 лет».
В их числе была «Мадонна ди Фолиньо». Ее застенчивая нежность, ее утренняя чистота запали в душу Нестерова: он их искал в своих «Мадоннах».
Но когда речь заходила о Рафаэле, он всегда возвращался к «Пожару в Борго». В этой фреске Нестеров видел высокий образец истинного реализма: изображая ужасный пожар 847 года в затибрской части Рима, художник передает весь драматизм, всю бедственность события, но мудро отстраняется от натуралистических подробностей и остается на прекрасной высоте созерцания.
Однако как ни высоко ставил Нестеров Микеланджело и Рафаэля, он в первую же поездку решительно высказал мнение: «По живописи лучшей вещью в Риме неизбежно надо признать «Иннокентия X» Веласкеса».
Нестеров полюбил Рим не в одном его искусстве, но и в жизненном дыхании Вечного города. Нестерова – как некогда Ал. Иванова и Гоголя – заинтересовала народная жизнь Рима.
«…После обеда, – пишет он на родину, – поехали еле живые на народный праздник Сан-Джиовани Латерано (наш Иван Купала). Площадь против церкви С.-Джиовани Латерано и смежные с нею улицы покрыты миллионами разноцветных фонарей, всюду бенгальский огонь, факелы, везде продают цветы, овощи, сласти; тысячи народу идут и едут на этот ночной праздник (он всю ночь до утра). Тут целые семьи с детьми патриархально разгуливают или пьют вино, расположившись, кто где нашел свободный уголок».
В свой альбомчик Нестеров любовно зарисовывал и римские пинии, и мальчика из Альбано, и Пьяцца Испана с фонтаном, в котором в гоголевские времена освежались после веселой ночи русские художники.
Хоть Нестеров и оговаривался, что «лишь позднее я почувствовал Рим, его силу, как Вечного города», он и после первого пребывания в Риме сделал признание: «…Я все же чувствовал, что стал богаче; я своими глазами видел, своим умом постиг, своим чувством пережил великий Рим, все его великие моменты».
Нестеров покидал Рим с верою в Россию, в будущее русского народа, в свое призвание русского художника. Он писал на родину:
«Москва и вообще Россия никогда мне так не была дорога и любезна, как живя здесь; отсюда ясно видишь все, что там плохо и хорошо. Наше плохое – грубо, но эта грубость есть стихийная сила, избыток ее и следствие нашей природы, наших морозов и близости к Азии… А что верно, это то, что природа и великое прошлое Италии имеют в себе дивные красоты. Меня не интересует мир античный, но эпоха Возрождения поистине колоссальна в своем творчестве… Теперь пришла наша пора, и нужно только любить и верить в Россию, и о ней заговорит вся вселенная…»
Из Рима Нестеров поехал в Неаполь. В его окрестностях Нестеров мечтал найти природу и людей для задуманной картины «Жены Мироносицы».
На юге Италии письма Михаила Васильевича к родным превращаются в страницы дневника, пронизанные солнцем и пахнущие морем. Прочтем некоторые из них.
«Неаполь, 18 июня 89.
Поездка эта надолго останется у меня в памяти, многое видел такое, что трудно позабыть. Для моего художественного развития, думаю, тоже это не останется без следа; даже если я ничего здесь не успею написать, то все же я столько видел и еще увижу, что, приехав в Россию и позанявшись посерьезнее, можно надеяться, что недостатки, которые так крупны теперь, тогда понемногу исчезнут…
Задуманные картины в голове моей все более и более делаются ясными. Если не удастся сделать всех этюдов к «Женам Мироносицам», то по приезде в Москву попытаюсь начать этюды к «Преп[одобному] Сергию».
«Помпея, 22/4 июня 89.
Вчера в 8 часов я выехал из Неаполя, а половина десятого был в Помпее. В трех шагах от вокзала и гостиница «Диомеда», где я остановился и где уже раньше остановились земляки… Долго бродил я по этому мертвому городу, целые улицы с разрушенными домами, сохранились и названия…
А вон и Везувий. Это его соседство наделало тут такие чудеса. Он и теперь еще дымится, а когда смеркнется, то по его громадному остову текут огненные потоки лавы, а из главного кратера то и дело вырывается вместе с дымом огонь… Сегодняшний день я много работал. Выкупавшись, начал первый раз акварелью из окна вид на террасу и горы. Для первого раза вышло не худо… После завтрака пошел в Помпею и просидел 6 часов на одном месте, зато кончил этюд и завтра еду в Сорренто. В Сорренто Суриков рекомендовал: вино, апельсины и вид… посмотрим…»
«Сарп, 26/9 89.
Здесь я остановился в Отеле «Грот-Бле» (голубой грот).
Отель «Грот-Бле» находится на возвышенной местности на берегу моря, на горе город Капри. Лимонные, фиговые сады. Вид и воздух чудные. Встаю я рано, в 3 и иду на крышу писать мотив утра, затем с 5 ч. до 8 сплю, встаю, иду купаться, затем сажусь работать этюды…
На Капри, как ни хорошо, все же не все есть для меня, и я, вероятно, уеду отсюда числа 10–11 в Помпею, где и проживу до 15, там более подходят горные дали и камни…
Здесь многие художники оставляют о себе воспоминание, написавши что-нибудь, пишут на стенах, дверях и т. д. Я в своем № на двери тоже написал «Царевну», всем очень нравится…»
Упорная преданность молодого русского художника любимому делу, яркая талантливость его каприйских этюдов привлекли к нему внимание пестрого европейского общества, жившего с ним в гостинице. Интересовались его искусством и личностью и даже его чтением (а читал он тогда «Россию и Европу» Н.Я. Данилевского). Симпатия к Нестерову как к художнику стала общей, но вот то, что он русский художник, в этом международные доброжелатели склонны были видеть его несчастье: Россия – отсталая страна, русский народ – народ без культуры, русское искусство… да разве существует русское искусство?
Когда однажды все это было громко высказано одним из европейцев за табльдотом, Нестеров принял вызов и смело, горячо выступил на защиту родины.
Он писал в родной дом:
«На последях опишу вам свои последние дни на Капри. И здесь, несмотря на то, что, кроме доморощенного «волапюка», ни на одном иноземном языке не говорю, не обошлось без энтузиазма и спора о политике, Сурикове и Васнецове. Давно еще допытывались любознательные англичанки, что я читаю за обедом, и мне удалось им объяснить, что это политическое сочинение о России.
А третьего дня по этому поводу завязалря более настойчивый разговор, который перешел в общий спор, и я был осажден двунадесятью языцами. Голландцы, шведы, датчане, англичанки и итальянцы напали на меня со всех сторон, но мне все же после двухчасового боя удалось отстоять позиции, и хотя я и получил название «панслависта», однако же старый голландец (профессор живописи) предложил выпить мое здоровье, и все поддержали, я ответил общим тостом; кроме того, доказательством симпатии ко мне было то, что при прощании старики и дамы (сверх обычая) пожали мне руку…
Я, кроме 20 этюдов, сделал: небольшой портрет и расписал 2 двери. На одной – русскую сказку, на другой – нечто вроде «Христовой невесты», но гораздо лучше…» Картина «Жены Мироносицы», для которой писались эти этюды, была написана Нестеровым, но не удовлетворила его: нигде не выставив, он ее уничтожил, а эскиз к ней подарил профессору В.В. Матэ. Однако ни каприйские этюды, ни самый замысел картины не пропали. Через двадцать лет Нестеров вернулся к теме картины в своей стенописи в храме Марфо-Мариинской обители в Москве.
Итальянский альбом Нестерова мог бы страница за страницей иллюстрировать его письма. Все, о чем он пишет, там есть: дымящийся Везувий, Сан-Мартино со строгими пиниями над синим морем, мертвая улица воскресшей Помпеи, знойный жирный кактус, седой камень, просоленный волною, – все это живет и дышит югом в альбоме Нестерова.
Но чем ближе к концу альбома, тем сильнее чувствуется там другое дыхание – дыхание родины, менее горячее, но более глубокое, менее страстное, но более могучее.
В каприйском альбоме среди зарисовок гор, древнеримских строений и пышных кактусов возникают любимые образы из прошлого родной страны, запечатляются тихие облики русских старцев-простецов, раскидывается лесистая ширь среднерусского пейзажа, на лету воплощается тема из любимой оперы «Иван Сусанин» Глинки. Ваня, утопая в снегах, пробирается к стенам монастыря. Это все Россия, Россия, Россия. Она вытесняет Италию из итальянского альбома. Русские замыслы сменяют итальянские зарисовки.
11 июля Нестеров писал с Капри Турыгину:
«Как, брат, здесь ни чудесно, а как вспомнишь про родину… так тебя и тянет туда, на север».
Проезжая через Рим, Нестеров исполнил старый обычай:
«Я покинул Рим, бросив сольди (2 копейки) в фонтан Бернини и выпив из него воды: значит, есть надежда, что еще когда-либо увижу Рим».
Теперь Нестерова влек к себе Париж, влек своими художественными сокровищами. Лувр, Люксембург, Пантеон, Версаль, художественный отдел Всемирной выставки – вот круг парижских интересов и впечатлений Нестерова.
Нестеров пишет:
«Я был всюду, где мог взять хоть что-нибудь… Сам Париж, как город, лишь своим средневековьем пленял меня; то же, что давал этот Новый Вавилон, сейчас меня мало прельщало…
Я не был ни в каких Мулен-Руж, и это «лицо Парижа» (или, вернее, его «маска») мне осталось и в следующие приезды неизвестно, и вовсе не потому, чтобы я хотел быть или казаться целомудренным – нимало, просто потому, что «это» всюду одинаково грязноватое, пошловатое, и не затем я ехал за границу».
Почти предсмертное признание это вполне подтверждается письмами Нестерова от 1889 года. Его парижские впечатления, как и его впечатления от Венеции, Флоренции, Рима, а в дальнейшем от Константинополя и Афин, – это впечатления от искусства и от того, что в жизни есть от искусства же. Он и в Париж, в шумнейшую пору Всемирной выставки, ехал, как в мастерскую великих мастеров художества.
22 июля Нестеров пишет родным:
«По Сен-Жерменскому бульвару проехали вплоть до выставки, над которой, как над малыми ребятами, стоит великан – Эйфелева башня. Прошли, отдали билеты и очутились в отделе скульптуры, прошли ее мельком и начали с французского отдела живописи, 17 зал. Тут все лучшие вещи Франции, многие из них получили всемирную славу. Все это сперва ошеломляет, блеск удивительный, смелость необыкновенная, ходишь, как в чаду, ноги подкашиваются от усталости, а впереди все новое и новое… нет конца ему.
Пювис де Шаванн. Его четыре вещи; две из них, кроме того, что оригинальны, но и крайне симпатичны, везде представлены какие-нибудь эпизоды из жизни разных святых…
Первый и величайший из современных французов, по-моему, есть Бастьен-Лепаж. Каждая его вещь – это событие, это целый том мудрости, добра и поэзии.
Не стану описывать каждую вещь в отдельности. Скажу лишь про главную: Иоанна д'Арк у себя в саду, в деревне, после работы, стоит усталая; она задумалась, задумалась о своей бедной родине, о любезной ей Франции, и вот в этот-то момент восторга и чистоты патриотизма она видит между кустов и цветов яблони тени Людовика Святого и двух мучениц. Это так высоко по настроению, что выразить лишь можно гениальной музыкой, стихом или в минуту энтузиазма. Бастьен-Лепаж умер молодой…»
С первого же дня и шага своего в Париже Нестеров нашел себе двух любимцев среди современных живописцев – Бастьен-Лепажа и Пювис де Шаванна – и никогда с первым не расставался.
«Сегодня пятый день, как я в Париже, – писал Нестеров домой 12 июня. – На выставке был три раза. Художественный отдел обошел весь, с завтрого начну осматривать каждую залу (школу) отдельно, а затем остановлюсь уже на одном ком-нибудь. На ком, я уже знаю, конечно, и теперь. Кто может быть мне полезен, это Бастьен-Лепаж. Вот когда пожалеешь, что не Ротшильд: купил бы эту вещь… Как она исполнена, сколько любви к делу, какое изучение!.. Не говоря об настроении, глаза Жанны д'Арк действительно видят что-то таинственное перед собой. Они светло-голубые, ясные и тихие. Вся фигура, еще не сложившаяся, полна грации, простой, но прекрасной; она как будто самим богом отмечена на что-то высокое… Словом, где ни ходишь, а к ней вернешься. Публика довольно равнодушна к ней».
Сам Нестеров, наоборот, равнодушен к тому, к чему неравнодушна публика.
В конце концов он поднимался на Эйфелеву башню. Он посетил Grand Opera, где «ошеломляет не столько вкус, сколько богатство…». Он ездил в Версаль. Но не роскошь дворцов, не причудливость парков первенствуют в его впечатлениях: в Версале, утверждает он, «Ватто и Буше, конечно, первенствуют».
В неоконченной автобиографии Нестеров пишет:
«Лувр многим мне напомнил музеи чудесной Италии. Веронез великолепен. И все же вспоминался Ватикан и многое другое. Из новой французской школы умен, хотя и холоден, Давид. Дивный Курбе с его «Похоронами». Тогда еще свежие, не потемневшие «Барбизонцы», с очаровательными цветущими яблонями – Добиньи. Люксембургский музей, после виденного в Италии и Лувре, особого следа не оставил. Много мастерства. Хороша скульптура».
В художественном отделе Всемирной выставки перед Нестеровым проходили все школы и направления европейской живописи. Он был внимателен к ним. Но все, что смотрит Нестеров в новой живописи, он видит в ослепительных лучах итальянского Возрождения. Современная живопись слепнет в этих лучах. Лишь немногое у немногих продолжает светиться и светит собственным светом. Он пишет на родину:
«В Пантеоне, кроме «Св. Женевьевы»[11 Пювис де Шаванна, ничто не вызывало во мне сильных или новых, неиспытанных переживаний. Отличная выучка, знание, и нет того, что есть у старых итальянцев, да кой у кого из наших русских (Александр Иванов, Суриков). Пювис хорошо почувствовал, духовно возродил в своей «Св. Женевьеве» фрески старой Флоренции – то, что в них живет, волнует, поет до сих пор. Соединив все это с современной техникой, не заглушая ею красоты духа, он поднес своему отечеству не протокол истории Франции, а ее поэзию. Не все, что дал в Пантеоне Пювис, равноценно, и все же никто другой не достиг таких результатов, как этот бард старой Франции».
Пювис де Шаванн – и это высоко оценил в нем Нестеров – возродил в современном искусстве фреску.
Когда, неожиданно для себя, через год после парижской встречи с Пювис де Шаванном Нестеров был привлечен к росписи Владимирского собора, пред ним с новою силой встал образ французского художника, умевшего в своих фресках соединить глубокую лиричность «исповеди души» с монументальностью величавого сказания о прошлом.
Но если с Пювис де Шаванном Нестеров вновь и близко встретился позже – на лесах Владимирского собора, и еще позже – под сводами храма в Абастумане, то с Бастьен-Лепажем он лишь продолжал давнюю встречу, начатую еще в Москве, когда ходил в особняк С.М. Третьякова смотреть «Деревенскую любовь».
Это была любимая картина Нестерова. Он и в старости не мог без волнения говорить о ней.
В Абрамцеве в 1917 году у меня записано в дневнике: «После чаю рассматривали с Нестеровым альбом Бастьен-Лепажа. Увидев «Отдых в поле», он вскричал:
– Он – русский художник! Выше этой похвалы у меня и нет для него!.. Серов сам мне говорил, когда еще коллекция Сергея Михайловича Третьякова помещалась в его доме на Пречистенском бульваре: «Я каждое воскресенье хожу туда смотреть «Деревенскую любовь». А Серов знал, что смотреть, – еще молодым, еще юношей знал!»
В Париже Нестеров увидел Бастьен-Лепажа еще на большей высоте.
«Я старался постичь, – вспоминал Михаил Васильевич, – как мог Бастьен-Лепаж подняться на такую высоту, совершенно недосягаемую для внешнего глаза французов. Бастьен-Лепаж тут был славянин, русский с нашими сокровенными исканиями глубин человеческой драмы… Весь эффект, вся сила Жанны д'Арк была в ее крайней простоте, естественности и в том единственном и никогда не повторяемом выражении глаз пастушки из Дом Реми; эти глаза были особой тайной художника: они смотрели и видели не внешние предметы, а тот заветный идеал, ту цель, свое призвание, которое эта дивная девушка должна была осуществить».
Перед «Жанной д'Арк» стоял в 1889 году русский художник, только что замысливший изобразить мальчика-пастуха, такого же простого, как пастушка из Дом Реми, но, подобно ей, с зажегшимся в душе огнем внутреннего устремления, «заветного идеала».
В 1917 году, в беседе над альбомом Бастьен-Лепажа, Нестеров долго-долго не отрывал взора от «Жанны д'Арк».
– Какие у нее глаза! – воскликнул Михаил Васильевич. – Нет! Она не истеричка, она не больная, она видит их, она по-настоящему у него видит.
Он воскликнул это с такою живостью, как будто это была отповедь не только хулителям «Жанны д'Арк», но и тем, кто обвинял в «истерии» и «болезненности» «Отрока Варфоломея» и «Юного Сергия». И с горестью промолвил:
– Но краски его тухнут, чернеют. Вот на «Деревенской любви» настурции горели, а теперь только можно вспоминать: вот здесь были настурции.
– Отчего же это?
– От фабричных искусственных красок, от лака.
Нестеров тем более об этом сокрушался, что высоко ценил колористические богатства Бастьен-Лепажа. Исконною мыслью Нестерова было, что художник сам должен готовить себе краски, не доверяя никаким фабрикантам.
В.А. Серов писал 16 сентября 1889 года из Парижа И.С. Остроухову:
«На выставке рад был всей душой видеть Бастьен-Лепажа – хороший художник, пожалуй, единственный, оставшийся хорошим и с приятностью в памяти…» Через полмесяца, еще подробнее ознакомившись с художественным Парижем, Серов писал Остроухову: «По художеству я остаюсь верен Бастьену, его «Жанне д'Арк»… Она лучшая вещь на выставке».
Знаменательно это совпадение суждения столь противоположных во всем, но таких подлинно русских художников, как Серов и Нестеров. К их суждению примыкали и Поленов и Суриков.
Когда в 1906 году Нестеров гостил в Ясной Поляне и в разговоре с Л.Н. Толстым дело дошло до взглядов на искусство, Нестеров исповедал свою горячую любовь к Бастьен-Лепажу. Слышать из уст автора церковных росписей заявления восторга перед «Деревенской любовью» и ее автором было удивительно для Толстого и вызвало у него искреннее восклицание радостного изумления:
– Так вот вы какой!
Подводя итог художественным впечатлениям от выставки, собравшей образцы новой европейской живописи, и воздавая должное высоте ее техники, Нестеров писал:
«Нам недостаточно было, чтобы картина была хорошо построена, написана и проч. Нам надо было, чтобы она нас волновала своим чувством, выводила из благополучного состояния сытого «буржуа». Ум, сердце, а не только глаз должны были участвовать в переживаниях художника. Картина должна была захватить наиболее высокие свойства духовно одаренного человека. И вот на эти-то требования художественный отдел, при всем своем блеске, отвечал слабо».
Имел ли Нестеров право предъявлять эти требования к картине от лица русских художников?
Крамской писал в 1885 году: «Что такое картина? Такое изображение действительного факта или вымысла художника, в котором в одном заключается все для того, чтобы зритель понял, в чем дело… Художественное произведение, возникая в душе художника органически, возбуждает (и должно возбуждать) к себе такую любовь художника, что он не может оторваться от картины, пока не употребит всех своих сил для ее исполнения; он не может успокоиться на одних намеках, он считает себя обязанным все обработать до той ясности, с какою предмет возник в его душе».
Для Крамского картиной было лишь то произведение живописи, самый предмет которого возникал не в глазу, а в душе художника, и весь смысл творческих усилий живописца был заключен в том, чтоб картина, приковывая к себе взоры зрителя, властно захватила его чувство и мысль, возводя их на высоту лучших исканий и устремлений, доступных человеку.
Но то же, что говорил идейный вдохновитель передвижничества, повторял Чистяков, наставник в живописи Репина, Сурикова, Васнецова, Поленова, Серова, Врубеля и др. Чистяков предостерегал: «Картина, в которой краски бросаются прямо в глаза зрителю, приковывают его, ласкают своими сочетаниями, не есть серьезная картина. Нужно, чтобы краски помогали выразить идею. Картина, в которой зритель старается отыскать смысл – душу, понять содержание ее и краски коей не отвлекают его от вдумчивости и рассуждения, – высокая, серьезная картина».
В словах Крамского и Чистякова есть полное соответствие мыслям Нестерова о картине.
В Бастьен-Лепаже он увидел воплощение этих мыслей: его «Жанна д'Арк», как ни одно произведение европейской новой живописи, собранной в Париже, подходила под то определение картины, которое дано двумя водителями русских художников на их пути к искусству.
Вывод был ясен для Нестерова:
«Пювис и Бастьен-Лепаж из современных живописцев Запада дали мне столько, сколько не дали все вместе взятые художники других стран, и я почувствовал, что, если я буду жить в Париже месяцы и даже год-два, я не обрету для себя ничего более ценного, чем эти разновидные авторы… И я, насмотревшись на них после Италии, полагал, что мое европейское обучение, просвещение Западом, может быть на этот раз завершенным. Я могу спокойно ехать домой и там, у себя, как-то претворить виденное, и тогда, быть может, что-нибудь получится не очень плохое для родного искусства».
Теперь Нестеров мог возвращаться в Россию.
Но оставалась еще одна святыня искусства, не представ пред которой Нестеров не мог покинуть Европу. Это «Сикстинская мадонна».
«Сейчас же с вокзала поехал в галерею, – писал Нестеров из Дрездена на родину. – Вот, наконец, я подхожу к «заветной» комнате, тут стоит «Сикстинская мадонна» Рафаэля. Комната с громадным окном из цельного стекла обита темно-малиновым репсом, все скромно, по таинственно-величественно. Перед картиной поставлены по стенам диваны для зрителей, сама картина на возвышении в виде пьедестала из темно-малинового бархата, в богатой старинной, в помпейском стиле раме. Вышиной она аршин около 4. Первое впечатление чего-то крайне деликатного, чистого и благородного. Особенно бросается в глаза своей силой выражения маленький Христос на руках у божией матери. Он не по летам серьезен, глаза его полны необыкновенного ума. Святая же Мария отличается скромной и покойной постановкой позы и чистым, ясным выражением глаз. Она, может быть, с духовной стороны даже и ниже мадонн Боттичелли и Филиппо, но совершеннее последних по форме исполнения и тем превосходит своих предшественников…»
Для Нестерова эта последняя встреча с Рафаэлем была апофеозом непорочного искусства Италии. «Рафаэль, – утверждал Нестеров через полвека, – в этой своей Мадонне, как наш Иванов в «Явлении Христа народу», выразил всего себя, он как бы для того и пришел в этот мир, чтобы поведать ему свое гениальное откровение».
Впечатления этих двух дней, проведенных перед «Сикстинской мадонной», были так решающе сильны, что, когда через несколько лет русский художник вновь предстал пред нею, эти впечатления только углубились. «Мое отношение к «Сикстинской мадонне» не изменилось и по сей день, – писал Нестеров в 1928 году. – Я позднее лишь осознал крепче, ярче все то, что увидал 27-летним, начинающим художником».
Нестеров и через десятилетия не мог вспоминать без волнения о силе впечатлений, вынесенных от искусства Италии и Франции. «Я и теперь дивлюсь, – писал он мне незадолго до смерти, – как мое молодое сердце могло тогда вместить, не разорваться от тех восторгов и сладкого томления».
Но возвращался Нестеров из-за границы с чувством глубокой ответственности за те духовные богатства, которые там приобрел.
Из Дрездена он писал в Уфу:
«Вот я и был за границей – что-то будет дальше? Будет ли польза? Или выйдет так, как говорит пословица: «не в коня корм»?.. Не дай-то бог! По приезде домой отдохну дней 5 и за дело!»
Еще раньше он писал Турыгину:
«…А теперь работать, работать не покладая рук! Всю энергию, какая мне дана, употреблю на то, чтобы что есть, того не зарывать в землю. Другого исхода нет! Я должен быть художником».
VI
На одной из страниц итальянского альбома Нестеров начал набрасывать карандашом широкий пейзаж полюбившегося ему Капри со старинными постройками, с черными силуэтами пиний, с тонкой полоской моря, с далеким профилем Везувия, – но, не докончив наброска, круто перевернул страницу и на ее исподе развернул другую ширь – пологую среднерусскую равнину с лесным окоемом, с узкими полосками нив. Под старым кряжистым дубом стоит старец в черной одежде схимника; крестьянский мальчик с русой головой, без шапки, босой, остановился перед ним, с оборотью на левой руке, и тихо внимает словам старца.
Этот набросок – едва ли не самая ранняя зарисовка «Видения отроку Варфоломею». Будущая картина так ясно и глубоко сложилась в душе художника среди «прекрасного далека», что первым же касанием карандаша к бумаге он вызвал к бытию и тихого отрока, и чудесного старца, и пологую равнину с лесным окоемом.
На последнем листе альбома Нестеров попытался было изменить «Видение»: он потянул композицию вверх, укрупнил фигуру схимника, приблизил к нему мальчика, отсек от них широкую луговину, но тотчас же понял, что в первоначальном наброске нашел единое живое зерно, из которого только и может вырасти самый благоуханный цветок его искусства. Первый же набросок стал эскизом картины.
«Неаполь. Сан Мартино. 19 июня 89 г.»; эта помета сделана художником под видом Везувия с морским заливом, а на обороте листа опять Россия, опять любимый образ: юный Сергий с медведем, и опять карандашный набросок, пройденный чернилами, является уже эскизом к картине.
Следующая страница альбома занята беглым наброском какой-то женщины, сделанным в Дрездене, но на исподе его опять Сергий Радонежский, уже старцем в лесу.
В Италии Нестеров полно и ярко обрел свою излюбленную тему, над которой проработал всю жизнь. С циклом картин из жизни Сергия Радонежского сам Нестеров по преимуществу связывал то заветное слово, которое хотел сказать родному народу о нем самом. С молодых лет и до последних дней своих Нестеров убежден был в том, что «Явление отроку Варфоломею» – его лучшее произведение, наиболее полно и совершенно выразившее его художественный идеал. И если в присутствии Нестерова заходила речь об его искусстве и об его значении для русского народа, он всегда утверждал:
– Жить буду не я. Жить будет «Отрок Варфоломей». Вот если через тридцать, через пятьдесят лет после моей смерти он еще будет что-то говорить людям – значит, он живой, значит, жив и я.
Образ Сергия Радонежского – как народного святого – был близок Нестерову с детства. Он запомнил его лик и с семейной иконы, и с лубочной картинки, где Сергий-пустынножитель делился с медведем хлебом.
Историк В.О. Ключевский, высоко чтимый Нестеровым, говорит о Сергии Радонежском, жившем в XIV веке, в эпоху первого победоносного отпора, данного русским народом завоевателям-монголам:
«Чем дорога народу его память, что она говорит ему, его уму и сердцу?
Примером своей жизни, высотой своего духа преподобный Сергий поднял упавший дух русского народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее. Он вышел из нас – был плоть от плоти нашей и кость от костей наших, а поднялся на такую высоту, о которой мы и не чаяли, чтобы она кому-нибудь из наших была доступна. Так думали тогда все на Руси».
Говоря о Куликовской битве, о первой решительной победе русских над монголами, Ключевский пишет: «Преподобный Сергий благословил на этот подвиг главного вождя русского ополчения, сказал: «Иди на безбожника смело, без колебаний, и победишь», – и этот молодой вождь был человек поколения, возмужавшего на глазах преподобного Сергия и вместе с князем Димитрием Донским бившегося на Куликовском поле».
Нестеров с раннего детства привык разделять это народное воззрение на Сергия Радонежского и выделял его из всех русских угодников за его глубокую любовь к родине, за его теплое радение о русской земле. И из всех событий жизни Сергия Радонежского, из «чудес» древнего предания о нем Нестеров выбрал то, в котором народ запечатлел свою благодарную память о любви-заботе Сергия о родной земле.
В «Книге о чудесах пр. Сергия», написанной в 1654 году старцем Симоном Азарьиным, находится поведание «О явлении чудотворца Сергия Козме Минину и о собрании ратных людей на очищение государства».
В горькую пору смуты «муж бяще благочестив Нижнего Новгорода именем Козма Минин… Явися ему чудотворец Сергий, повелевая ему казну собирати и воинских людей наделяти и идти на очищение Московского Государства».
Простодушно-поэтический и вместе с тем такой народный по духу рассказ Симона Азарьина вдохновил А.Н. Островского на рассказ Минина в драматической хронике «Козьма Минин Сухорук».
В хронике Островского этим рассказом о явлении преподобного Сергия Минин сплачивает вокруг себя народ нижегородский, этим же рассказом, повторенным в воеводской избе, он заставляет бояр и дворян присоединиться к народному ополчению, и в битве за Москву слышится призыв:
И с этим криком: «За Сергиев! За Сергиев!» – 24 августа 1612 года русские одерживают первую победу над поляками под Московским Кремлем.
Нестеров пошел за Островским в творческом внимании к рассказу Симона Азарьина. Рисунок Нестерова «Видение Кузьмы Минина» – это графическое повторение «рассказа Минина» у Островского: та же «образница, вся облитая светом», тот же «муж в одежде схимника». Но Нестеров вносит изменение в сценарий Островского: Сергий застает Минина не на ложе сна, а бодрствующим, на полночной молитве за родину; как бы в ответ на эту молитву нисходит к Минину небесный гость, призывающий его к патриотическому подвигу. Но лицо Сергия явно не удалось художнику: это «схимник вообще», а не Сергий из Радонежа.
Не удовлетворенный рисунком и увлеченный темой, Нестеров тогда же написал эскиз в красках. Сергию приданы черты, исторически ему свойственные; он не бестелесный схимник, он деятельный «игумен земли русской», властно опирающийся на высокий посох. Но при явном, даже любовном сохранении его старческого земного облика чувствуется в нем некто небесноявившийся. Эскиз овеян прекрасным влиянием Александра Иванова, его библейских рисунков: не то чтобы Нестеров повторил хоть что-либо из композиции и красок Иванова, но у одного Иванова мог он в те годы поучиться той искренней смелости, той творческой свободе художественного «касания к мирам иным», по выражению Достоевского, без которого невозможны произведения на подобные сюжеты из библии и из «житий».
В декабре 1923 года Нестеров писал мне:
«Эскизы «Видения Минину» сделаны в раннюю эпоху – в 87-й, 88-й годы, когда появилась «Христова невеста». В ту пору я собирал материалы для большой (аршин 7–8) картины «Гражданин Минин», в чем помогал мне известный в свое время в Нижнем историк края Гацисский. Тогда был сделан ряд эскизов из жизни Минина, они были помещены в «Ниве» и в журнале «Север»…»
«Большой же эскиз «Гражданина Минина» сделан гораздо позднее с маленьких альбомных набросков. Он был на моей выставке 1907 года. Еще раньше того намерение написать с них картину было оставлено навсегда. Краски в эскизе были самым «живым» местом. Серый волжский пейзаж эскиза дает тон действию».
Живой по краскам, теплый и смелый по композиции, эскиз Нестерова – полная противоположность обычным, холодно-парадным, скучно-академическим «Мининым на площади в Нижнем Новгороде», которых немало написано в свое время. У Нестерова на эскизе все празднично, но правдиво. К Минину в ответ на его горячий призыв тянется толпа простых русских людей, охваченных сыновней заботой о родине, – тянется со своей трудовой копейкой и нищим грошом. Никаких пышных ларцов с драгоценностями, никаких «скрынь» с золотой казной тут не видно. И сам Минин – это тоже простой, сильный духом и чистый сердцем человек, о котором простодушно повествует Симон Азарьин: он не ораторствует перед народом, он делится с народом тем самым, что открыл ему Сергий в видении: сердечной заботой о спасении родины.
Летом 1888 года, работая над «Пустынником» и «Приворотным зельем», Нестеров впервые поселился под стенами Троице-Сергиевой лавры. Здесь он вновь, как в Уфе, в родном доме, вошел в мир народных верований и преданий, связанных с Сергием Радонежским. Первая же поездка, в том же 1888 году, в Абрамцево, находящееся в 12 верстах от Троицы, еще более увеличила творческую тягу Нестерова к житию и образу Сергия Радонежского.
Абрамцево, в 1840–1850-х годах принадлежавшее С.Т. Аксакову, было тогда «Подмосковной» писателей: кроме самого С.Т. Аксакова и его сыновей-писателей Константина и Ивана, в Абрамцеве находили творческий уют Гоголь, Загоскин, Хомяков, Тургенев, Ю. Самарин. В 1870–1890 годах, с переходом к С.И. и Е.Г. Мамонтовым, Абрамцево стало «Подмосковной» художников: Репин, В. Поленов, В. Васнецов, Суриков, Серов, Врубель, К. и С. Коровины находили здесь постоянное гостеприимство для себя и своих созданий. Это же случилось с Нестеровым: Абрамцево занимает одно из самых излюбленных мест в географии его творчества.
17 июля 1888 года Нестеров писал сестре об Абрамцеве:
«…Абрамцево (имение старого Аксакова) одно из живописнейших в этой местности. Сосновый лес, река и парк, и среди него старинный барский дом…
Темной, вековой сосновой аллеей вы выходите на небольшую поляну, посреди которой стоит чудо-церковка… Архитектура ее XII века, по типу она целиком напоминает древние церкви Ростова и Пскова. Каждая деталь, начиная от купола до звонницы и окон, высокохудожественна.
Из нескольких проектов (Репина, Поленова, Роппета, Васнецова и др.) принят был Васнецова…
Теперь упомяну лишь о Сергии того же Васнецова, тут, как нигде, чувствуется наш родной север. Препод. Сергий стоит с хартией в одной руке и благословляет другой, в фоне древняя церковка и за ней дремучий бор, на небе явленная икона Св. Троица. Тут детская, непорочная наивность граничит с совершенным искусством. Из православного храма отправились мы в «капище» или нечто подобное избушке на курьих ножках. Против нее – оригинальный киевский идол. Тут русский дух, тут русским пахнет, все мрачно, седые ели наклонили свои ветви, как бы с почтением вслушиваясь в отрывистый жалобный визг сов, которые сидят и летают тут десятками. Это чудное создание, не имеющее себе равного по эпической фантазии. Тоже дело Васнецова».
Посещение Абрамцева было для Нестерова встречей с Виктором Васнецовым, и впечатлениям, вынесенным из этой встречи, Михаил Васильевич остался верен на всю жизнь.
Сергий Васнецова – не нестеровский Сергий: он суровее в своей глубокой старости, он строже в своем иночестве; глядя на изможденное подвижническое лицо, вспоминаются сказания об его «жестоком житии»: его «бдение, сухоедение, худость ризная». Но это не византийский «святой вообще», это древнерусский человек среди среднерусского пейзажа, с березками и водой, за которыми виднеется его обитель.
Васнецовский Сергий как бы позвал Нестерова на долгую работу над тем же лицом и пейзажем.
В абрамцевском кружке художников – с их тягой к народно-русской теме – был живой интерес к живописному воплощению Сергие-Троицы в ее прошлом и настоящем.
Е.Д. Поленова работала над картиной из отроческих лет Сергия. Однажды, в 1917 году, мы с Нестеровым извлекли из одной из абрамцевских папок неоконченную акварель Сурикова: обедня в Троицком соборе. Михаил Васильевич не мог налюбоваться на акварель: «Какой силач! Какой размах в народной толпе, в огнях этих!» Сурикову же принадлежит акварель «Осада Троице-Сергиевской лавры».
Нестеров высоко ценил С.А. Коровина, много лет проработавшего над «Куликовской битвой». Сергей Коровин дал своего Сергия в проникновенных акварелях, изображающих простых крестьян, идущих к Троице-Сергию. Не раз подводил меня Нестеров к акварелям С. Коровина в Абрамцеве, радуясь на удачу этого уединенного художника в самом трудном – в изображении народной Руси.
Так в Абрамцеве Нестеров нашел и природу, и исторические воспоминания, и художественную среду, изнутри поддержавшие его в его замысле картины из жизни Сергия.
Не мудрено, что, когда замысел первой из картин этого цикла созрел в Италии, Нестерова, вернувшегося в Россию, потянуло на работу над Сергием под Абрамцево. Заглянув лишь в Москву, Нестеров нанял избу в деревне Комякине, подле Хотькова, в десяти верстах от Троицы, и принялся за этюды к «Видению».
В древнейшем «Житии преподобного Сергия», написанном его учеником Епифанием спустя всего двадцать лет по кончине Сергия, эпизод, послуживший сюжетом картины Нестерова, рассказан так.
Отроку Варфоломею, будущему Сергию, несмотря на любовь к чтению, плохо давалась грамота, и отрок «втайне часто со слезами молящеся богу: «Господи! Ты дай же ми разум грамоты сия, ты научи мя и вразуми мя»… Однажды «отец его посла его на взыскание клюсят (жеребят). …И блаженный отрок обрете етёра (некоего) черноризца, старца свята, незнаема, саном пресвитера, светолепна и ангеловидна, на поле под дубом стояща и молитву прилежно со слезами творяща… И яко преста старец и воззрев на отрока, и прозре внутренима очима, яко хочет быти сосуд избран Святому духу… и вопроси его, глаголя: «Да что ищещи, или что хощещи чадо?» Отрок же рече: «Возлюби душа моя паче всего учитися грамоту сию, еже и вдан бых учитися, и ныне зело прискорбна есть душа моя, понеже учуся грамоте и не умею; ты же, отче святый, помолись за мя к богу, яко да бых умел грамоту». Старец, «сотворя молитву прилежну», извлек из карманной «сокровищницы» частицу просфоры и подал ее отроку: «Приими сие и снешь, се тебе дается знамение благодати Божия и разума святого писания». Отрок же «отверз уста своя и снесть сие; и бысть сладость в усте его, аки мед сладя». И рече ему старец: «О грамоте, чадо, не скорби: от сего дне дарует ти Господь грамоте умети зело добре».
В приведенном повествовании Епифания заключены сюжет и композиция картины Нестерова. Но Нестеров отнюдь не писал иконы Сергия «по Епифанию». Не архив, не музей и не иконописная мастерская руководствовали художником в этой картине, как и в последующих его работах на близкие темы. В том, о чем повествует Епифаний, Нестерову виделось начало повести о «трудах и днях» русского человека древних лет, отмеченного благодарною памятью и любовью народною, и у народа и природы Нестеров только и надеялся найти помощь для творческой встречи с этим народным Варфоломеем – Сергием.
«Я принялся за этюды к «Варфоломею», – рассказывает Нестеров. – Окрестности Комякина очень живописны: кругом леса, ель, береза, всюду в прекрасном сочетании. Бродил целыми днями. В трех верстах было и Абрамцево, куда я теперь чаще и чаще заглядывал. Ряд пейзажей и пейзажных деталей было сделано около Комякина. Нашел подходящий дуб для первого плана, написал самый первый план, и однажды с террасы абрамцевского дома совершенно неожиданно моим глазам представилась такая русская, такая осенняя красота. Слева холмы, под ними вьется речка (аксаковская Воря). Там где-то розоватые осенние дали, поднимаемся дымок, ближе капустные малахитовые огороды, справа золотистая роща. Кое-что изменить, что-то добавить, и фон для моего Варфоломея такой, что лучше не выдумать. И я принялся за этюд. Он удался, а главное, я, смотря на тот пейзаж, им любуясь и работая свой этюд, проникся каким-то особым чувством «подлинности», историчности его: именно такой, а не иной, стало мне казаться, должен был быть ландшафт».
Нестеров сознательно выбрал осень для «Варфоломея»: в русской осени, по давнему и дружному свидетельству поэтов, есть та «сладкая тишина», та углубленная, спокойная «светлость», та хрустальная «лучезарность», которые так родственны высоким и тихим состояниям души, просветленной глубоким самопознанием и движимой порывами к высшей правде и красоте.
Нестеровский Варфоломей – русский мальчик с глубокой душой и светлым сердцем – мог грустить и радоваться только вместе с этою природою, только в этот «день хрустальный», когда так прекрасна и светла «тихая лазурь над грустно сиротеющей землей».
Двадцать восемь лет спустя после того, как писался «Варфоломей», художник говорил мне:
– Хотелось так написать осень, чтобы слышно было, как журавли кличут высоко в небе… Да разве можно так написать?.. Я не мог сделать всего, что хотел, в «Варфоломее».
Но именно так написал он русскую осень на «Варфоломее»: кажется, что журавли только что пронеслись клинышком над этими отдыхающими нивами, примолкшими лесами, и под их прощальный клич отрок Варфоломей увидел старца.
Небольшой этюд маслом, хранившийся у художника, дает возможность проследить путь претворения у Нестерова определенного куска ландшафта в пейзажную основу целой картины. Нестеровский этюд абрамцевской луговины – это первый его крепкий по мастерству пейзаж. В нем чувствуется, больше чем в любой пейзажной работе Нестерова, его близость к Левитану и Саврасову, с их лирическим вслушиванием в краски и голоса природы.
В этих тютчевских строках все «настроение» первой нестеровской «Осени», с ее чуть золотящейся луговиной, с березками, вспыхнувшими золотом над стынущей речкой, с высоким, туманным месяцем, тускло проступающим на медленно потухающем небе.
В этом пейзаже еще слишком много лирической тревоги, внутреннего томления, сладкой тоски, свойственных человеку конца XIX века, – их не мог знать безмятежный отрок XIV века. Когда этот абрамцевский пейзаж перешел на картину, из него исчезла и эта слишком субъективная, сладкая тоска, и это чрезмерно элегическое томление, и эта внутренняя тревога человека XIX века. В нем явилась прекрасная успокоенность, золотая ясность, лучезарная светлость – все то, что восхищало в русской осени такого русского из русских, как Пушкин, что умиляло Тютчева, – в нем явилось все, что могло умилять и радовать будущего Сергия, который «был плоть от плоти и кость от костей» русского народа.
И лицо своего Варфоломея Нестеров взял не из иконописного подлинника, а из русской деревни.
Нестеров вспоминает:
«Оставалось найти голову для отрока, такую же убедительную, как пейзаж. Я всюду приглядывался к детям и пока что писал фигуру мальчика, писал фигуру старца…
Время шло, было начало сентября. Я начал тревожиться, ведь надо было еще написать эскиз. В те дни у меня были лишь альбомные наброски композиции картины и она готовой жила в моей голове, но этого для меня было мало. А вот головы, такой головы, какая мне мерещилась для будущего преподобного Сергия, у меня еще не было под рукой.
И вот однажды, идя по деревне, я заметил девочку лет десяти, стриженую, с большими, широко открытыми удивленными и голубыми глазами, болезненную. Рот у нее был какой-то скорбный, горячечно дышащий… Я замер, как перед видением. Я действительно нашел то, что грезилось мне: это и был «документ», «подлинник» моих грез. Ни минуты не думая, я остановил девочку, спросил, где она живет, и узнал, что она комякинская, что она дочь Марьи, что изба их вторая с краю, что ее, девочку, зовут так-то и что она долго болела грудью, что вот недавно встала и идет куда-то.
На мое счастье, на другой день день был такой, как мне надобно: серенький, ясный, теплый, и я, взяв краски, римскую лимонную дощечку, зашел за моей больнушкой и, устроившись попокойнее, начал работать. Дело пошло ладно. Мне был необходим не столько красочный этюд, как тонкий, точный рисунок с хрупкой, нервной девочки. Работал я напряженно, стараясь увидеть больше того, что, может быть, давала мне моя модель. Ее бледное, осунувшееся, с голубыми жилками личико было моментами прекрасно. Я совершенно отождествлял это личико с моим будущим отроком Варфоломеем. У моей девочки не только было хорошо ее личико, но и ручки, такие худенькие, с нервно сжатыми пальчиками. Таким образом, я нашел не одно лишь лицо Варфоломея, но и руки его. В 2–3 сеанса был сделан этот этюд… Весь материал был налицо. Надо приниматься за последний эскиз красками. Я сделал его быстро и тут же нанял себе пустую дачу в соседней деревне Митине. В половине сентября переехал туда, развернул холст и, несмотря на темные осенние дни, начал рисовать свою картину. Жилось мне в те дни хорошо. Я полон был своей картиной».
На карандашных набросках поначалу зрителю было видно лицо старца – то в профиль, то в три четверти. На картине лицо его вовсе не видно для нас по реальной причине: оно скрыто краем схимы.
Нестеров так поставил фигуру старца по отношению к отроку, что то, что происходит на картине, воспринимается нами не как «Встреча отрока Варфоломея со старцем», а как «Видение отроку Варфоломею». Старец, мнится, не пришел к дубу, как вот пришел отрок по лугу, а «вдруг отделился от темного ствола большого дерева» – и предстал пред отроком, пошедшим за конями. Мы не видим лица старца, но это потому, что видение не нам, а ему, отроку Варфоломею. Этим устранением зрителя от видения и соотнесением видения исключительно к отроку художник установил тонкую внутреннюю связь между явившимся и пришедшим, между старцем и отроком, соединив их – и только их одних – в некоем чудесном событии.
Итак, на картине одно только видимое нами лицо и один центральный образ, в котором и композиционно, и красочно-живописно, и идейно-сюжетно заключен весь смысл картины – то, во имя чего ей быть: это сам отрок Варфоломей. Он дышит этим ясным, хрустальным осенним воздухом, он слышит тех, невидимых на картине журавлей, прощальное курлыканье которых художнику хотелось слышать в тихой осени его картины. Он пришел по этим золотым, еще не совсем растерявшим свои летние изумруды лугам. Он видит весь этот простор, тихие дали, стынущие светлые воды, золотеющие леса, приветно-простую церковку о двух главках, ему предстало это видение старца. В нем вся картина. От него одного зависит дать ей смысл и жизнь. Самые простые задачи в живописи всегда самые трудные: простота при решающей творческой удаче, постигающей художника, делает глубоким замысел и прекрасным его осуществление, но при неудаче эта же простота оказывается нестерпимой художественной нищетой. Нестерова постигла редкая и чудесная удача.
Работая над картиной в темноватой избе, в осенние укоротившиеся дни, Нестеров жил впроголодь, худел, лишился сна, но не мог оторваться от своего «Варфоломея» даже настолько, чтобы переселиться в Абрамцево, куда усиленно звала его Е.Г. Мамонтова, с особой любовью и участием относившаяся к рождающейся картине. Почувствовав, что он истощен до полной потери сил, а работа над картиной все усложняется, Нестеров свернул полотно и уехал в Уфу.
Но приехал он больной и слег в злой инфлюэнце. Еще не оправившись от болезни, он уже бросился к картине. «Полетели дни за днями, вставали все рано, и тотчас, как рассветет, принимался за картину. Я не был доволен холстом, слишком мелким и гладким, и вот когда была уже написана верхняя часть пейзажа, я, стоя на подставке, покачнулся и упал, упал прямо на картину. На шум прибежала сестра, а за нею мать, я поднялся, и мы увидели, что картина прорвана: большая дыра зияла на небе. Мать и сестра не знали, как меня утешить, как подступиться ко мне. «Ахать» было бесполезно, надо было действовать. Я в тот же день послал письмо в Москву в магазин Дациаро, прося спешно выслать мне лучшего заграничного холста известной ширины столько-то. И стал нетерпеливо ждать присылки».
«Время тянулось, казалось мне, очень медленно. Я хандрил. Близкие мои не знали, что со мной делать. Однако недели через полторы холст пришел, гораздо лучший, чем первый. Я ожил, ожили все вокруг меня. Скоро перерисовал картину, начал писать ее красками. Как бы в воздаяние за пережитое волнение, на новом холсте писалось приятнее, и дело быстро двигалось вперед. В те дни я жил исключительно картиной, в ней были все мои помыслы: я как бы перевоплотился в ее действующих лиц. В те часы, когда я не рисовал, я не существовал; кончая писать в сумерках, я не знал, что с собой делать до сна и завтрашнего дня… Проходила длинная ночь, а утром снова за любимое дело, а оно двигалось да двигалось. Я пишу голову Варфоломея – самое ответственное и самое интересное для меня место в картине. Голова удалась, есть и картина, «Видение отроку Варфоломею» кончено».
20 декабря 1889 года Нестеров писал Е.Г. Мамонтовой:
«…При разработке картины я держался все время этюдов, и, лишь удалив венчик с головы Варфоломея (Сергия), я оставил таковой над старцем-видением».
Снимая «венчик» (нимб) с головы Варфоломея, Нестеров сознательно уничтожил последний атрибут иконной святости в его изображении; венчик же над старцем, написанным в той же мягкой, тонкой, но реалистической манере, что и отрок, был нужен художнику, по его словам, для того, чтоб «показать в нем проявление сверхъестественного».
Москва встретила «Варфоломея» чутким вниманием и дружным приветом. Первым из художников, как всегда, увидал его Левитан. «Смотрел долго, – вспоминает Нестеров, – отходил, подходил, вставал, садился, опять вставал. Объявил, что картина хороша, очень нравится ему и что она будет иметь успех. Тон похвалы был искренний, живой, ободряющий». Отзыв Левитана был для Нестерова всегда основным, но на этот раз на картине была не только природа и человек, соединенный с нею душой и чувством, – на картине был отрывок из русского народно-исторического предания, и Нестеров ждал суда того художника, кто в своем творчестве никогда не выходил из русла этих «преданий старины глубокой», – суда Сурикова.
Михаил Васильевич всегда с признательностью вспоминал, что приговор автора «Боярыни Морозовой» был решительно в пользу «Отрока Варфоломея». В течение долгих лет знакомства жизненные отношения Сурикова и Нестерова принимали разный характер: менялось отношение Сурикова к живописи Нестерова, вплоть до самого отрицательного, менялось отношение Нестерова к личности (отнюдь не к живописи) Сурикова (вплоть до настороженно-отчужденного), но Нестеров знал и ценил, что никогда не менялось отношение Сурикова к «Отроку Варфоломею», раз навсегда положительное.
А.М. Васнецов, И.С. Остроухов, А.Е. Архипов, А.С. Степанов – вот те, кто горячо присоединился тогда к Левитану и Сурикову в высокой оценке «Отрока Варфоломея».
Присоединился к ней и Павел Михайлович Третьяков: он приобрел картину еще в Москве, до отправления ее в Петербург на Передвижную выставку. О том, что это значило для Нестерова, тот рассказал в книге «Давние дни». Третьяков стремился внести в свою галерею все новое, свежее и обещающее, что находил в мастерской художника, веря только собственному глазу, почти безошибочному в распознавании таланта. В доказательство, что это было так, Нестеров приводил Сурикова и себя самого:
– Он Сурикова заметил со «Стрельцов», которых просмотрел Стасов, самый громкий из критиков, и которых не понял Крамской, самый умный из художников. Он не только заметил, он понял, полюбил моих «Пустынника» и «Варфоломея» и взял к себе в галерею, несмотря ни на каких критиков.
«Варфоломей» ехал в Петербург на строгий суд передвижников, но оправдательный приговор ему в глазах Нестерова уже был произнесен: вместе с голосами Левитана и Сурикова голосу Третьякова тут принадлежало решающее значение.
В Петербурге тихий голос Третьякова прозвучал для Нестерова с особою силой. Без глубокого волнения он никогда не мог об этом вспоминать. Если «Пустынник» в строгом жюри передвижников не вызвал прений, то против «Отрока Варфоломея» поднялась громкая оппозиция.
В числе восставших против «Варфоломея» были пейзажист Ефим Волков, сентиментальный жанрист К. Лемох; ревностно продолжал свою оппозицию Мясоедов, боровшийся и против «Пустынника». К оппозиции пристал Вл. Маковский. Яростно нападал на «Отрока Варфоломея» Ге, явившийся на ту же XVIII Передвижную выставку с картиной «Христос перед Пилатом».
Центральным пунктом обвинений было то, что молодой художник привез на выставку картин икону, которой место в церкви и которая может быть интересна лишь для верующих. Утверждали, что порочна самая тема картины – «Видение отроку Варфоломею». Видения – область психиатра, а не художника. («Аргумент был для меня малоубедителен, – пояснял это суждение Нестеров, – если поверить моим судьям, пришлось бы упразднить «Орлеанскую деву» Шиллера, зачеркнуть у Пушкина рассказ патриарха в «Борисе Годунове».) Особенно резко нападали на золотой венчик вокруг головы старца, явившегося отроку.
Несмотря на эти нападения, картина была принята на выставку, и в числе голосовавших за картину оказались такие столпы передвижников, как Шишкин, Прянишников, Ярошенко. Но и тогда противники картины не сложили оружия.
Мясоедов упорно настаивал на том, чтоб Нестеров стер венчик (нимб) с головы старца.
Что было отвечать на советы Мясоедова художнику, недавно вернувшемуся из Флоренции, Рима, Парижа, Дрездена и благоговейно стоявшему там пред такими же «нелепостями» «видений» и «золотых кругов» на старинных фресках Джотто и полотнах Карпаччо, на новейших стенописях Пювис де Шаванна и полотнах Бастьен-Лепажа? Для Мясоедова и его единомышленников, очевидно, не существовало ни Беато Анджелико и Боттичелли, ни «высокого возрождения», ни старых немцев, ни английских прерафаэлитов, ни, наконец, искусства Китая и Японии, не говоря уже о забытом, никому тогда не ведомом искусстве старой русской иконы с ее обратной перспективой.
Но факт оставался фактом: «Отрок Варфоломей» был приобретен Третьяковым. Покупка картины Третьяковым для его галереи – в глазах русского общества – чуть ли не решала ее судьбу, во всяком случае, давала ей высокую оценку, утверждала за нею право на общественное внимание.
Группа противников «Варфоломея» решила лишить этого права криминальную картину молодого художника.
На предварительном, закрытом, вернисаже XVIII Передвижной выставки, куда допускались немногие избранные друзья передвижников, Мясоедов подвел к «Варфоломею» В.В. Стасова, трибуна-апологета передвижничества, Д.В. Григоровича, когда-то автора «Антона Горемыки», а теперь секретаря Общества поощрения художеств, и А.С. Суворина, редактора газеты «Новое время».
«Все четверо, – вспоминает Нестеров, – судили картину страшным судом; они согласно все четверо признали ее вредной… Зло нужно вырвать с корнем. Пошли отыскивать по выставке московского молчальника, нашли где-то в дальнем углу, перед какой-то картиной. Поздоровались честь честью, и самый речистый и смелый, Стасов, заговорил первым: правда ли, что Павел Михайлович купил картину экспонента Нестерова, что эта картина попала на выставку по недоразумению, что ей на выставке Товарищества не место. Задачи Товарищества известны, картина же Нестерова им не отвечает: вредный мистицизм, отсутствие реального, этот нелепый круг вокруг головы старика… Ошибки возможны всегда, но их следует исправлять. И они, его старые друзья, решили его просить отказаться от картины… Много было сказано умного, убедительного. Все нашли слово, чтобы заклеймить бедного «Варфоломея». Павел Михайлович молча слушал, и тогда, когда слова иссякли, скромно спросил их, кончили ли они; когда узнал, что они все доказательства исчерпали, ответил им так: «Благодарю вас за сказанное. Картину Нестерова я купил еще в Москве, и если бы не купил ее там, то купил бы сейчас здесь, выслушав все ваши обвинения». Затем поклонился и тихо отошел к следующей картине. О таком эпизоде в те дни передавал мне Остроухов, а позднее как-то в Москве, в кратком изложении, я слышал это от самого Павла Михайловича».
Когда XVIII Передвижная выставка открылась для публики, «Отрок Варфоломей» привлек к себе напряженное внимание.
«Теперь, – вспоминал в 1914 году С. Глаголь, – смотря на картину, нельзя даже представить себе впечатление, которое она производила на всех. Она произвела прямо ошеломляющее действие и одних привела в самое искреннее негодование, других в полное недоумение, третьих, наконец, в глубокий и нескрываемый восторг».
«Видение отроку Варфоломею» в свое время имело исключительный успех». Так резюмировал Нестеров в 1941 году и был в этом прав. Но в 1890 году он определял этот успех очень горьким словом. 6 марта он писал отцу и матери из Москвы:
«Лишь позавчера выбрался из Питера, и, проехав верст 100, уже почувствовал некоторое облегчение, и чем ближе подъезжал к Москве, тем мне было лучше, и лишь здесь, в Москве, я во всей силе представил себе тот ад, в котором прожил целый месяц».
Пройти через этот петербургский «ад» волнений, споров и обвинений, вызванных «Варфоломеем», Нестерову помог тот же тихий Павел Михайлович Третьяков. Вот что пишет Нестеров в этом же письме:
«С Третьяковым я виделся в Питере… Насилу мне удалось его уломать – прибавить черепа у мальчика и сбавить затылка; теперь и он находит, что лучше, и я спокойнее. Картина моя назначена в путешествие, но Третьяков хочет просить Товарищество взять ее в Москву… Третьяков еще раз подтвердил (хотя он все читал, что писано было в газетах), что все-таки бы он мою вещь купил бы и после того, что было, но, может быть, на других условиях…
Репортеры тоже стали ко мне помягче… Заметка о моей картине есть в «Русских ведомостях» и последнем номере «Всемирной иллюстрации» уже несколько мягче».[12
Сообщение это Нестеров заканчивает знаменательным признанием:
«Еще, между прочим, Третьяков, утешая меня, сказал то же, что и Вы, папа: именно, что много есть случаев и в литературе, что начинающего писателя ругают, а потом его же начинают хвалить и в конце поймут и полюбят, – ладно бы так-то. Хотя, правда, я своей вещью приобрел много самых горячих и рьяных сторонников, которым так же достается за меня, как мне за «Варфоломея».
Через пять дней Нестеров опять пишет отцу о Третьякове:
«Картина ему по сие время нравится, он дал мне прочесть статью Стасова в «Северном вестнике», где Стасов бранит меня, выдержку из статьи прилагаю здесь:
«Только одному из новопришлых я не могу симпатизировать. Это Нестерову. Еще не в том беда, что он вечно все рисует скиты, схимников, монашескую жизнь и дела, это куда бы ни шло: что ж, когда у него такое призвание, но в том беда, что все это он рисует притворно, лженаивно, как-то по-фарисейски, напуская на себя какую-то неестественную деревянность в линиях, пейзажах и красках, что-то мертвенное и мумиобразное. Нынче во Франции появилась целая школа таких притворщиков, с Пювис де Шавань во главе; одну из таких картин («Благовещение») привозили к нам недавно французы. Неужто же нам этому подражать и радоваться на это? Боже, сохрани нас. Подальше от этих пейзажей в виде сухих, тощих метелок, от красок, умышленно выцветших, как старый замаранный ковер. Нет, я все надеюсь, что г. Нестеров еще соступит со своего никуда не годного пути: обратится к действительной жизни. Пусть он хоть посмотрит на старейших своих товарищей. В картинах у них – какой неизмеримой жизнью веет…»
Для Третьякова статья Стасова была усиленным повторением его речи перед картиной Нестерова, и то, что Третьякову «Отрок» продолжал нравиться и после этой громовой статьи, Нестерова особенно ободряло. В это время профессор А.В. Прахов, заведовавший росписью Владимирского собора в Киеве, пораженный «Отроком Варфоломеем», уже звал Нестерова на работу в собор. Нестеров колебался принять это предложение. Наперекор советам Стасова его влекло к продолжению живописного «Жития пр. Сергия». Он уже делал наброски к следующей картине – «Сергий с медведем» – и, тая их от всех, посвятил в них Третьякова.
«Показывал Третьякову наброски следующей картины, – сообщает Нестеров отцу. – Композиция ему понравилась. После долгой беседы он проводил меня, поцеловавшись и пожелав всякого успеха. Между прочим, он, как и Поленов, советовал ехать в Киев, но не утруждать себя работой и поберечь силы на картины».
За совет «не засиживаться» на лесах собора в Киеве и вернуться скорее к картине Нестеров всю жизнь был благодарен Третьякову, а в конце жизни не без горечи сетовал, что «не послушался Третьякова и слишком долго засиделся на лесах соборов».
С конца марта 1890 года Нестеров на всю весну по предложению Е.Г. Мамонтовой переселился в Абрамцево.
О «Варфоломее» доходили из Петербурга лучшие вести: картина завоевывала прочный круг ценителей и друзей.
Но Нестеров ждет суда Москвы над «Варфоломеем».
Когда XVIII Передвижная выставка переехала в Москву, ближайшим соседом «Варфоломея» очутился «Портрет баронессы Икскуль» Репина, построенный на ярком контрасте черного и малинового. Смущенный этим соседством нарочито красочной репинской баронессы с тихим «Отроком Варфоломеем», Нестеров писал отцу из Абрамцева (8 апреля):
«Порасстроился опять и с выставкой. Картина моя, хотя и поставлена хорошо, но соседство Репина портит все дело. В общем картина в Москве, так же как и в Питере, не нравится, за исключением очень немногих чудаков. Оставляя в стороне сюжет ее, остается страшно слабая техника, что особенно заметно, когда картина стоит близко около таких сильных художников, как Репин и Серов.[13 Насколько мне удалось слышать, картиной остались недовольны как те, которые слышали про нее много хорошего, так и те, которые шли посмотреть небывалое безобразие, не нашли также и безобразия большого, – словом, и та и другая сторона не удовлетворена».
Однако интерес к «Варфоломею» был так велик, что передвижникам вопреки первоначальному желанию автора и Третьякова пришлось взять «Варфоломея» в путешествие по России.
В январе 1891 года, когда Нестеров уже работал во Владимирском соборе, Передвижная выставка перекочевала в Киев, 22 января Нестеров писал оттуда отцу:
«На днях пришла Передвижная выставка, и я свиделся с своим «Варфоломеем», и нужно сказать, что свиданье это было не из нежных. Я нашел «Его» подурневшим, похудевшим – словом, настолько не таким, как того хотел бы, что, думаю, сразу сам и подурнел и постарел лет на 20… На другой день я видел картину уже в раме и на месте, и первое невыгодное впечатление сгладилось немного».
Нестеров, по его словам, «с трепетом ждал прихода главного своего судьи» – Виктора Михайловича Васнецова.
Васнецов знал «Варфоломея» по фотографии, и еще в марте 1890 года Нестеров спешил порадовать отца: «Картина ему очень нравится, он находит ее интересной и вполне русской и не согласен с Праховым, который видит в картине влияние Запада». Теперь предстояло Васнецову увидеть «Варфоломея» в красках, а здесь Нестеров, сопоставляя свою картину с портретами Репина и Серова, упрекал себя в слабости, в отсутствии у него «живописи» и т. д.
«Наконец он (Васнецов. – С.Д.) пришел и утешил меня. Божится, что моя лучшая вещь на выставке, потом Дубовской, Серов, Репин».
Утешил Нестерова и другой художник – М.А. Врубель.
Будущий автор «Демона» тогда же и на всю жизнь полюбил «Видение отроку Варфоломею».
В 1926 году Нестеров вспоминал, как в Абрамцеве во время одной из встреч с Врубелем, уже автором нескольких «Демонов», он горячо хвалил картины Врубеля и советовал не обращать внимания на нападки, которым они подвергаются.
– Все это хорошо, – задумчиво ответил Врубель. – А Варфоломея-то у меня все-таки нет, а у вас он есть!
Шли десятилетия, и с каждым годом больше и чаще приходилось Нестерову встречать благодарность за «Варфоломея». К Левитану, Сурикову, В. Васнецову, Куинджи, Врубелю, оценившим «Варфоломея» при его появлении, присоединились целые поколения русских художников.
Эту картину любили в более поздние годы такие великие реалисты, как Лев Толстой и И.П. Павлов.
Картина Нестерова осталась живой и для зрителя революционной эпохи от А.М. Горького до рядового посетителя Третьяковской галереи.
Для Нестерова же «Отрок Варфоломей» на всю жизнь остался любимейшим произведением. Он не раз говаривал: «Кому ничего не скажет эта картина, тому не нужен и весь Нестеров».
В чем же тайна этой жизненности «Отрока Варфоломея»?
Что находили в этом «тихом пейзаже» и «тихом отроке» Нестерова такие не тихие люди, как Суриков, Лев Толстой, Горький или борец-ученый Павлов? Правду «чувства», услышанную в простом русском человеке XIV века, глубину сердца, остающуюся драгоценным достоянием русского народа во все времена его исторического существования.
Сразу после «Варфоломея» Нестеров принялся за следующую картину из «Жития» – «Сергий с медведем».
В «Житии» Епифания читаем: когда Сергий поселился в лесу, «звери приближахуся и окружаху его, яко и нюхающе его. И от них един зверь, медведь, повсегда обыче (имел обычай) приходити к преподобному; се же видев преподобный, яко не злобы ради приходит к нему зверь, но да возьмет от брашна (от еды) мало нечто в пищу себе, и изножаще ему от хижа (хижины) своея мал укрух хлеба, и полагаше ему или на пень или на колоду, яко да пришед по обычаю зверь, и яко готову себе обрете пищу, и едем усты своими и отхождаше».
Во всех своих эскизах Нестеров устранил это трогательное кормление медведя пустынножителем – он усилил мотив светлой дружбы человека со зверем, дружбы, на которую радуется окружающая природа.
Уже первый эскиз акварелью (14 апреля 1890 года) дает пейзаж картины. Это один из крутых, неожиданных поворотов темноводной Вори, замыкающей слева луговину, изображенную на «Видении». Поворот этот так крут, изогнут и остер, что он как бы врезывается в густую лесистую заросль обоих берегов; извив открывает узкий кусок темной воды, а за ней вздымается лесное взгорбье, то самое, которое изображено на левом крайнем плане «Видения».
На эскизе, как характеризовал сам Михаил Васильевич, «была ранняя апрельская весна, без зелени, когда почки только набухают, вот-вот закукует кукушка, – природа, пробужденная от тяжкого сна, оживает».
Сергий представлен стоящим на пороге своей убогой кельи (слева у самого края картины). У ног его ласково изогнулся огромный медведь. Глаза Сергия устремлены к небу. Эскиз по размерам продолговат, и фигура Сергия поставлена так, что окружающая лесная тишь его не объемлет сверху, снизу, с боков, как на втором эскизе и на картине. Этот эскиз Нестеров показывал Третьякову, и он Павлу Михайловичу понравился, но сам Нестеров вскоре к нему охладел.[14
Картина была замыслена теперь по другому эскизу. Эскиз по размерам приблизился к квадрату. Лес и церковка остались почти те же, но боковой кельи нет и следа.
Сергий в белом подряснике и манатейке стоит уже посреди всего окружающего его лесного безмолвия. Он объемлем отовсюду природой и тварями. У ног его, по-прежнему справа, в несколько иной позе медведь. Тут же несколько птиц, справа, подальше, заяц-беляк присел около кустов. Сергий моложе изображенного на первом эскизе. Руки так же крестообразно сложены на груди. Глаза обращены к небу: видно, что он не вышел только из кельи, где течет час за часом его жизнь, а живет он тут, в чащобе, с тварью, и не знаешь даже, нуждается ли он в келье – до того он с природой, в природе и как-то включен и вобран в природу.
Днем Нестеров продолжал обязательную работу для собора, к вечеру шел в лес на этюды для Сергия.
Тот «стилизованный» и будто бы «вымышленный» пейзаж, якобы заимствованный, по уверению Стасова, у сухих византийцев, в действительности, как всегда, на всех без исключения картинах Нестерова рождался из любовного изучения русского леса.
Из действительности же рождался и сам юный Сергий. Художник нашел себе подходящего натурщика, деревенского паренька лет восемнадцати, ушел с ним в лесную чащобу, одел там его в белый холщовый подрясник, писал с увлечением.
В начале августа 1891 года Нестеров перебрался в Москву, чтобы опять с натуры писать ту «тварь», среди которой жил юный Сергий. Художник добросовестно писал в Зоологическом саду медведей, лисиц, зайцев, птиц.
К концу августа у Нестерова накопилось уже много материала для картины. Для лица юного Сергия у него был этюд с Аполлинария Михайловича Васнецова. «Он был тогда худой, щупленький, – пояснял Нестеров в ответ на недоумение, каким образом 32-летний художник мог послужить для юного Сергия. – Он мальчишкой тогда выглядел». Черты А.М. Васнецова без труда узнаются в лице Сергия на втором эскизе. Но Нестеров тогда же пришел к заключению: «Не то! Не то!» Он ехал в Уфу, нагруженный эскизами, но с сознанием: «Одного не хватает: не напал я на лицо юного Сергия…»
В Уфе он начал картину аршина в четыре высотой; почти квадратную. Работа шла горячо, упорно, непрерывно; только обед да вечерняя тьма уводили художника из мастерской.
С пейзажем, как всегда, в работе Нестерова была удача: художник, проведший целую весну и лето в изучении северного леса, чувствовал, что он верно решает задачу, которую себе ставил.
«Пейзаж я видел так ясно, – пишет Нестеров в «Автобиографии». – Все, что чувствовал я в нашей северной природе чудного, умиротворяющего человеческую природу, что должно преображать его из прозаического в поэтический, все это должно быть в нем, – и мне чудилось, что на такой пейзаж, с таким лесом, цветами, тихой речкой, напал я».
Настоящая «симфония северного леса» – так определил Александр Бенуа пейзаж на «Юном Сергии».
Лес. Сколько раз изображали его в русской живописи и до Нестерова, но это был тот русский лес, каким он был для русских людей XIX века. Современный человек смотрит на лес как на «растительное сообщество», как на объект изучения, хозяйственного использования или как на временное, но прекрасное место отдыха и поэтического наслаждения.
Тот русский человек, кто, как Сергий из Радонежа, шел жить в лес в XIII–XIV столетиях, не так смотрел на его темную чащобу и глухие пущи. Он шел туда «спасаться» – от злых вихрей татарских междоусобиц, от суровой жестокости всего жизненного уклада, непереносного для людей с чистой душой и мягким сердцем.
В этом поэтическом обращении к «матери-пустыне» дошел до нас подлинный голос человека Древней Руси.
Но чем глубже входил Нестеров в прекрасную пустыню изображенную на картине, чем ощутимее чувствовал ее безмолвие и красоту, тем ответственнее для него становилось изображение того, кто дышал этим ароматом, кто впивал в себя это безмолвие – изображение самого юного Сергия.
«Стало труднее тогда, – вспоминает Нестеров, – когда подошел я к человеку, такому значительному в истории нашей культуры, нашей судьбы. Лицо это лишь мерещилось мне, как во сне, но не находило себе реального воплощения. И начались часы моих тревог, сомнений, страданий…»
В конце декабря 1891 года «Юность Сергия» была окончена. Но художник, по его признанию, был «смутно чем-то недоволен; больше всего недоволен лицом, быть может, размером картины, слишком большим, не соответствующим необходимости».
В январе 1892 года Нестеров привез «Юность Сергия» в Москву. Его письма в Уфу становятся теперь добросовестным дневником творческих сомнений, тревог и разочарований. Он вновь усердно работает над картиной.
«Рама, – пишет он 16 января, – изменила картину совершенно. Пейзаж выиграл к лучшему. Настроение весны определилось вполне, но голова для меня до сих пор остается неудовлетворительной». В.М. Васнецов увидел картину первым из московских художников, она ему понравилась, но он сделал и ряд критических замечаний, коснувшихся выражения глаз Сергия и общего тона пейзажа, недостаточно, по его мнению, согласованного с фигурой. 24 января Нестеров пишет на родину:
«Вскоре пришел и А. Васнецов. Посмотрел картину, и она ему не пришлась по сердцу… Апол. Васнецов брал картину в сравнении с Варфоломеем, и та ему показалась более доведенной в пейзаже, поэтичней, хотя по затее и по выполнению фигуры он ставит большую выше. Главное неудовольствие обрушилось на ту часть пейзажа, которая была замечена как неудачная и Виктором Михайловичем… На другой [день] с утра заперся и начал переписывать осинник, к вечеру вся задняя декорация преобразилась и общий тон картины сразу изменился к лучшему, появилась поэзия и т. д. Фигура вышла вперед и стала главным центром на полотне… На другой день принялся за голову и в час или 2, благодаря богу, она была изменена к лучшему, выражения не только не уменьшилось, но и прибавилось. За все это спасибо Васнецовым, так решительно толкнувшим меня…
Во вторник же я поехал к Архипову… С ним приехал к себе. Он от картины в восторге, находит ее выше «Мальчика»… На другой день чем свет приехал Левитан, тут не было конца похвалам, вещь ему страшно понравилась… Между прочим, он дал несколько дельных замечаний…
Вчера с утра был снова Ап. Васнецов с Кигном (Дедлов). Аполлинарий нашел вещь изменившейся до основания, расхвалил…
Часу во втором снова приехал Остроухов, встретились как нельзя лучше. Сергий ему очень понравился, находит, что картина много имеет лирической поэзии и т. д., сделал кое-какие замечания в мелочах и, пригласив в субботу к себе, уехал и, вероятно, у подъезда встретил Третьякова, который, как назло, пришел тогда, когда в мастерской не было видно ни зги (оттепель и туман). Встретились очень сердечно. Проводил в мастерскую и оставил на волю божию. Долго смотрел картину вблизи, потом сел, сидел около получаса, спрашивал про Уфу и т. д., но про картину не проронил ни словечка, как будто ее и не видал…»
Через два дня Нестерову передали «по секрету» мнение Третьякова о картине: «Нравится, но не все…»
В письме от 2 февраля Нестеров сообщает: «Что до Третьякова, то он упорно молчит и нигде своего мнения не обнаружил. Левитан хотел было его выпытать, но П.М. ограничился лишь тем, что, мол, этот сюжет я давно люблю, и тотчас же полный ход в сторону… Расположение духа у меня прекрасное, сам удивляюсь, на себя глядя. Весел… Мало тревожит меня и неудача, с спокойным духом сверну картину на вал и подожду Всероссийской выставки».
Через четыре дня Нестеров писал в родной дом:
«Вот и у меня здесь дела идут не лучше, а я держу голову высоко и гляжу будущему в глаза смело. Дня 3 уже, как мои акции неожиданно и повсеместно стали быстро падать… Павел Михайлович, не купив мою вещь, развязал всем руки, все как бы ждали его решения, чтобы громогласно высказаться против меня… Третьего дня был Поленов с женой и нашел картину интересной, с настроением, причем фигура ему нравится больше на последней, тогда как пейзаж на первой. Заметил кое-какие недостатки, которые я тут же уничтожил. В этот же вечер он высказал сильное опасение за вещь, находя кое-какие мелкие погрешности, к которым могут придраться и не принять вещь, – словом, по словам его, мне сильно нужно быть готовым ко всему худшему и даже лучше бы было не посылать ее в этом году, так как, по его, «в воздухе что-то есть такое, что не обещает хорошего». Все это мне экстренно передано А. Васнецовым утром вчера, когда картину уже упаковывали и я с твердым намерением решил идти наудачу, имея все самое невыгодное, – как скандал неприятия картины и т. п. – в виду… Еду в Петербург, как на 4-й бастион».
Эти московские письма Нестерова весьма примечательны. Его в эти трудные для него дни они рисуют таким, каким он был всегда: чутким на чужое мнение, если есть вера в его добросовестность, способным без конца работать над картиной, ища в ней настоящей правды, мужественным в отстаивании своего любимого дела.
Решив не сдаваться пред внешними препятствиями, Нестеров отвез картину в Петербург. Но в то же время – строгий судья своих созданий – он внимательно вслушивался в суждения, высказанные «за» и «против» картины: «То, что картина моя не заинтересовала Третьякова, заставило меня сильно призадуматься» («Автобиография»).
В Петербурге, еще не взяв ящик с картиной с железной дороги и осмотрев помещение Передвижной выставки, очень невыгодное для большой картины, Нестеров пришел к решению: картины не выставлять, а ехать в Киев на работу в соборе, картину отправить в Москву, а летом вновь приняться за «Юность Сергия».
Сообщая о своем решении, Нестеров писал в Уфу: «Вы не поверите, до чего я рад, что кончилось все так: я буквально ничего не проигрываю, все равно я бы после выставки стал картину переписывать или дописывать. Желал бы, чтобы и вы не придавали всему этому значения неудачи и трусости: я только берегу свою репутацию…»
В последнем, февральском, письме из Петербурга Нестеров писал на родину: «…Вчера приехали наши[15, и не было конца изумлению их. Сначала, как и Ярошенко, они начали браниться, но потом постепенно успокоились и согласились со мною, а Поленов, так тот просто поздравил меня с моим решением, дал очень дельные советы, которыми я и воспользуюсь».
В Киеве Нестеров с головой отдался работе во Владимирском соборе, далеко не всегда для него интересной, но к весне 1892 года он вернулся к «Юному Сергию». В Киеве и был написан новый этюд для головы юного Сергия, все еще не удовлетворявшей Нестерова на картине.
Этюд для головы юного Сергия, как и для отрока Варфоломея, опять был написан с женского лица.
– Мне для одного из моих соборных святых понадобилась натура, – рассказывал Михаил Васильевич. – В собор прислали девушку, ученицу Художественной школы. Лицо ее мне приглянулось для Сергия. Я написал с нее этюд на воздухе, у забора. На картину он вошел в сильно измененном виде».
Тяга к картине усиливалась с приближением лета. Нестерова вновь потянуло па север, в «радонежские» леса.
В троицын день, в самом конце мая, Нестеров уже поселился в любезном ему Хотькове. В течение месяца он заново набирался живописных впечатлений от этих мест, где жил и пустынничал юный Сергий; и чем больше накапливалось этих впечатлений в виде этюдов, зарисовок, набросков, тем тверже становилось решение художника – писать новую картину на тот же сюжет.
20 июня он писал из Хотькова отцу:
«Еще четыре месяца тому назад, когда я вернулся из Петербурга в Киев, сойдясь с В.М. Васнецовым, говорил я по поводу своей картины «Юность п. Сергия Рад.». Радуясь за мою решимость и перечисляя все недочеты и недостатки картины, он в числе первых и самых крупных [называл]… не точно угаданный размер картины. В.М. кажется (и что важно, он до сих пор глубоко убежден в этом и считает это главнейшим недостатком ее); пейзаж картины по пропорциям слишком крупен в отношении фигуры. Через это значение фигуры теряется и ей приходится оспаривать его у пейзажа. Тогда как по задаче все-таки главную роль играет фигура в картине, а не пейзаж. Пейзаж только оркестровый аккомпанемент…
Когда это было оказано Васнецовым в первый раз, то я не согласился с этим, но, проверяя сначала в памяти, а потом по присланному эскизу, а также делая другие композиции, я пришел к печальному убеждению, что опытный глаз Васнецова прав…
И вот, думая и гадая изо дня в день, переменяя свои решения почти ежедневно, я пришел к тому, что решил сделать повторение своей картины на 1/2 аршина меньше сверху и по 1/4 ар. с обоих боков.
За этот план и то, что первая картина остается нетронутой, тогда как одно время я хотел урезать ее и тогда подверг бы ее риску испортить то, что есть в ней. Мне же, по-видимому, все свои картины суждено переписывать на втором холсте. Так было с «Пустынником», «Варфоломеем», так пусть будет и с «Юношей Сергием». На новом полотне дела будет немного, на какой-нибудь месяц больше того, если бы я стал переправлять старый холст…
Где писать новую картину? Думал я, гадал и пришел к тому, что решил просить Вас принять меня с моей затеей к себе не больше как на 2 месяца».
Весь июль, август и половину сентября Нестеров проработал в Уфе над картиной. В конце сентября он отлучился ненадолго в Сергиев Посад (ныне Загорск), на торжество по случаю 500-летия кончины Сергия Радонежского, привлекшее тысячи народа. Нестеров сетовал, что не последовал за народным крестным ходом из Москвы в Сергиеву лавру и «пропустил возможный случай слышать необыкновенную речь проф. Ключевского… Одна надежда, что речь будет где-либо напечатана в журнале, и я ее прочту».
Ключевский говорил в своей речи: «Преподобный Сергий своей жизнью, самой возможностью такой жизни дал почувствовать заскорбевшему народу («заскорбевшему» в тисках татарского ига и княжеских междоусобиц. – С.Д.), что в нем еще не все доброе погасло и замерло: своим появлением среди соотечественников, сидевших во тьме и сени смертной, он открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым горел озаривший их светоч».
Для Нестерова речь Ключевского явилась в 1892 году сильным возбудителем в работе над Радонежским циклом. Все «отводы» от взятой им темы, которые он слышал от Стасова, Суворина, Мясоедова, Ге и других, были, в его глазах, упразднены одушевленным, проникновенным словом историка; писать о Сергии – значит восстановить в памяти народа память об одном из исторических «деятелей», внесших большое количество добра в свое «общество».
После поездки в Сергиев Посад и Москву (где он в Зоологическом саду «проверил» своего медведя на картине) Нестерову пришлось весь октябрь проработать в Киеве, в соборе, но с началом ноября он с приливом новых сил вернулся в Уфу к работе над картиной. Работал он, по его словам, «осторожно, вдумчиво», на новом холсте меньшего размера. Работа шла ровнее, без особых вспышек недовольства собою: легче давался общий тон картины, и, главное, в руках художника был теперь надежный этюд для головы Сергия.
Художник достиг теперь главного: в лице юного Сергия был внутренний фокус картины. С полотна смотрело милое худое лицо с большими очами, и это лицо русского юноши вмещало в себя ту «любовь, мир и радость», что разлиты повсюду кругом – и в добродушном молчании медведя, и в поющей птичке, и в светлом торжестве майской весны, сквозящем всюду: в деревьях, листьях, травах и мхах. Юный пустынник ушел в эту радонежскую пущу не для того, чтобы укрыться от голосов радости и спрятаться от вечного зова к бытию. Наоборот, он ушел сюда, в родную пустыню, для того, чтобы явственнее слышать неумолкающий голос этой радости, разделяемой всею природою. В этом воскресшем зеленом шуме юному пустыннику слышится благовестный зов к вечному бытию.
К новому, 1893 году работа над картиной была окончена. Нестеров повез ее в Москву. В письмах в родной дом начинается опять дневник тревог и радостей, вызванных второй встречей «Юного Сергия» с московскими художниками. 20 января Нестеров сообщает отцу: «Вчера (в среду) были Суриков и Сергей Коровин: как тот, так и другой наговорили мне много приятного: находят картину своеобразной, чисто русской, хорошо скомпонованной и рисованной, очень нравится тип и выражение лица. Суриков сделал кое-какие замечания, которые я уже исправил, а Коровин много раз благодарил меня за хорошее удовольствие».
30 января Нестеров продолжает дневник:
«На неделе, кроме товарищей-художников, была Е.Г. Мамонтова, картина и ей очень понравилась, по ее словам, это, бесспорно, моя лучшая вещь и что в этом сходятся все, с кем она говорила о картине… Все сказанное выше не исключает возможности ее непринятия, и это от меня также не скрывают… Волнуюсь я гораздо менее прошлогоднего, но устал изрядно: ни разу не лег раньше 12. На днях видел давно жданную «Сходку» С. Коровина. (В виде особой любезности Сурикову и мне эта картина была показана первым.) Не говоря о красках, которые обыкновенные, эта вещь замечательная, и судьба ее, вероятно, выдающаяся. Здесь показан мир божий как он есть, это диаметрально противоположная вещь моей. Это нечто вроде «Власти тьмы» Толстого.
Желательно, чтобы она была у Третьякова…»
Эта дневниковая запись показывает, с какой вдумчивой любовью относился Нестеров к художникам-сверстникам, разрабатывавшим иные темы, чем он, если видел в их картинах ту большую выстраданную правду о русской жизни, которую привык любить у Перова. Именно такой правдой привлекла автора «Юного Сергия» суровая, жесткая картина С. Коровина, изображающая встречу крестьянского «мира» с кулаком, заставляющим этот «мир» плясать под его дудку. С точки зрения Нестерова, они оба – С. Коровин и он – честно говорили двуединую правду о русском народе.
4 февраля утром Нестеров пишет уже из Петербурга. «Юность Сергия» – еще без названия – поставлена на суд жюри передвижников.
«Поставили хорошо, и она очень выиграла. Видевшие ее по постановке люди, мне далеко не симпатизировавшие прежде… были сильно смущены, и ряд самых крупных похвал был сказан мне… Новизна картины удивляет одинаково всех».
Вечерняя запись того же дня уже звучит тревогой за судьбу картины:
«Был в Академии художеств, и только что взошел, почувствовал, что что-то неладно… Встретился с Мясоедовым, Шишкиным, Максимовым и Волковым, все до приторности любезны, но о картине ни слова. Говорят, Шишкин очень долго и внимательно смотрел и потом развел руками и заявил, что, мол, ничего не понимаю!!.»
Приписка к этому письму звучит категорично:
«Сейчас узнал, что картина моя принята после жестокой битвы. Нишу эти строки на телеграфе. Из 148 картин принято 40. Не приняты Рябушкин, Менк, Симов, Киселев, одна из двух Пимоненко и т. д.».
Подробности битвы, возгоревшейся вокруг «Юности Сергия», Нестеров записал 10 февраля:
«Накануне и в день баллотировки были жаркие схватки молодежи с Ге, Мясоедовым и другими. Ге с яростью нападал на мою неискренность, приводил бывшего к (сожалению) конференц-секретаря Академии художеств г. Толстого, доказывал и ему весь вред, какой я представляю, но – увы! – не доказал ничего.
Картина прошла с огромным риском, одним только шаром…
На заседании был Куинджи и, не имея права голоса, с пеной у рта защищал меня (так что даже был два раза остановлен замечанием в своей бесправности). На другой день было заседание членов совета, где Суриков сцепился с Ге и, говорят, разнес его на всех пунктах…
Теперь несколько слов об отзыве Репина. Ему картина нравится по религиозному экстазу и присутствию творчества, но в силу того, что она символична, он ее причисляет к декаденству, то есть упадку искусства. Слово это, конечно, он проведет в печать, благо оно модное, и этим мне напортит немало. Много силы и крови придется потратить, чтобы доказать, что упадок не в этом…»
Прием, оказанный в Товариществе передвижников «Юности Сергия», никогда не изгладился из памяти Нестерова. С особой горечью он вспоминал всегда отношение к нему Ге, который с явным пристрастием воинствующего толстовца отнесся к «Юному Сергию».
Полною противоположностью было отношение к Нестерову самого «левого» по взглядам из тогдашних передвижников – Н.А. Ярошенко. Расходясь с Нестеровым во многом, он всегда видел в нем подлинно русского и подлинно народного художника, честно и одушевленно делавшего свое художественное дело. Добродушно подсмеиваясь иной раз над склонностью Нестерова «писать монахов», он на заседаниях передвижнического жюри всегда защищал молодого художника и отстаивал его право на ту собственную тему, которую тот разрабатывал в своих картинах. Из основных передвижников всецело на стороне Нестерова был Поленов.
С особым чувством вспоминал всегда Нестеров участие в бою за «Юность Сергия» Куинджи и Сурикова. Именно они яростней всех напали на Ге, предводителя противной группы.
И то, что картину Нестерова и его художественное и моральное право на ее сюжет и тему отстаивали знаменитейший пейзажист и лучший из исторических живописцев, повышало в глазах не одного Нестерова эстетическую ценность и художественный смысл этой защиты, а то, что оба они, Куинджи и Суриков, славились полною независимостью суждений и оппозиционным образом мыслей, увеличивало моральный и общественный вес их защиты Нестерова.
Суждение Репина было в общем за картину Нестерова. В том же 1893 году Репин причислил Нестерова к «уже определившимся и очень интересным русским художникам… Интерес наших «передвижных выставок, – отметил он, – значительно подымается всякий год молодыми московскими художниками».
16 февраля Кестеров писал в Уфу:
«Устал я сильно и душой и телом. По всем данным, картина не будет иметь того успеха, который можно было ждать по ее приему. Публика к ней равнодушна… Третьяков ее не взял… «Новое время» даже не напечатало в своем отчете и имени моего…[16 В иллюстрированный каталог картина тоже не войдет… Пойдет ли она в провинцию, тоже неизвестно, намекают на тяжесть рамы. Ну, словом, задуматься есть над чем, и я задумался…»
Осторожный и опытный в житейских делах В. Васнецов, как писал Нестеров отцу из Киева (21 мая), «настоятельно отсоветует мне посылать картину в провинцию; кроме того, что ее всю истреплют, свертывая наскоро (20 раз), это путешествие неудобно еще тем, что вещь, не имевшая успеха в Петербурге, в провинции будет совсем незаметна или же глупо осмеяна, последнее особенно будет неудобно в Киеве, для дела».
Нестеров готов был последовать слишком предусмотрительному совету Васнецова, но правление Товарищества передвижников, по примеру с «Варфоломеем», знало, что картина Нестерова, несмотря, а может быть, благодаря всем этим толкам составляет один из центров внимания зрителя на выставке, и настояло на том, чтобы «Юность Сергия» отправилась в странствие по России.
«Сергий» имел большой успех и в Москве и в провинции, включая Киев, неуспеха в котором так боялся Васнецов, и успех этот обнаружился в полной силе, когда Нестеров решил выставить «Юность Сергия» в 1896 году на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде.
Перед тем как послать картину на выставку, Нестеров опять много работал над «Юностью Сергия». Эта работа продолжалась и после выставки. Сам художник подписал под картиной дату: «94–97».
Но и позже в Нестерове не угасла тяга к работе над «Юным Сергием». В 1940 году он, приехав в Болшево, каялся мне:
– Побраните меня. Все суетится старик, машет руками. На днях встретил Лебедева из Третьяковской галереи и говорю ему: «Все хочу прийти к вам в галерею с красками, поработать над Сергием с медведем. Давно уже это меня тянет: Сергия надо увести с картины. Он не удался. Плох. А медведь – бутафорский или из магазина меховых вещей Сибирского торгового дома А. Михайлова, хотя я и ходил в Зоологический сад, когда писал его. А вот пейзаж – другое дело. Он, кажется, удался».
Лебедев мне на это: «Как хорошо, что «Сергий с медведем» теперь вещь казенная и ничего этого вам нельзя сделать!»
Кто из близких к Нестерову не знал эти суровые часы и минуты его строгого до жестокости, карательного суда над своими произведениями?
Одновременно с «Юным Сергием» Нестеров занят был работой над картиной из того же Радонежского цикла, но на тему, где «Житие» Сергия непосредственно вливается в русло русской истории.
В «Житии», написанном Епифанием, в особой главе «О победе, еже на Мамая», читаем:
«Слышано бысть: ординекий князь Мамай воздвиже силу велику, всю орду безбожных татар, идет на Русскую землю; и беху все людие в страсе велице утесняеми. Князь же великодержавный Дмитрий… прииде к святому Сергию, яко же велик» веру имея к старцу, вопросите его, аще повелит ему противу безбожных изыти… Святый же, яко услыша сия от великого князя, благословив его, молитвою вооружив, и рече: «Подобает ти, господине, пещися о врученном от Бога Христоименитому стаду. Пойди противо безбожных и, Богу помогающу ти, победищи и здрав в свое отечество с великими похвалами воз-вратишися». Великий князь… «восприемь благословение, отыде, поидя скоро».
Произошла Куликовская битва, увенчавшая русское воинство победой и славой.
Так записано участие Сергия в Куликовской победе его учеником в его «Житии». Но так же записано оно и в летописи, и в памяти народной. Летописец, как величайшую драгоценность, приводит письменный «увет» Сергия колеблющемуся князю, уже стоящему на поле Куликовом: «Чтобы ты, господине, таки пошел, а поможет ти Бог и Троица».
Показав своего Сергия в окружении природы, Нестеров мечтая создать и другой образ Сергия – горящего любовью к родине, участвующего в ее обороне от врагов из азиатских пустынь и степей.
«Во время болезни, – пишет Нестеров Е.Г. Мамонтовой в июне 1890 года, – был у меня один день, когда мне было лучше, я мог думать и воображение работало сильно, и я случайно напал на счастливую концепцию последующей картины из жизни пр. Сергия. Тема – «Прощание Димитрия Ивановича Донского с пр. Сергием» – была давно мною намечена к истории Радонежского чудотворца…»
«Действие происходит вне монастырской ограды, у ворот, все отъезжающие сидят на конях; тут и иноки Пересвет и Ослябя, тут и дядя[17 Донского – Владимир Андреевич. Сам же Донской в последний раз просит благословить его. Он на коленях, с молитвенно сложенными руками, – он весь под впечатлением минуты и сознания значения ее, глаза полны слез и благоговейного почтения. Сергий же сосредоточен: одну руку положил на голову князя, другой благословляет его. Димитрий Иванович Донской рисуется в моем воображении, как и большинство князей того времени, удальцом, несколько грубым, но добродушным, с натурой, склонной ко всему чудесному. Он настроен несколько поэтически. Он легко переходит от веселого пира и забав к вратам обители, тут он так же искренен, как недавно был искренне весел на своей княжеской потехе. Удастся ли все это когда-либо привести в исполнение? Пока же мне хотелось все это удержать, как мою тайну».
Этот план картины очень показателен для Нестерова.
Намечая свою трактовку темы, Нестеров спешит объявить: его Димитрий Донской не иконописный лик и не академический манекен в историческом костюме: он должен быть живым человеком, не только с верным историческим обличьем, но и с плотью, нравом и духом русского человека XIV века.
На поиски такого русского князя, одинаково далекого от иконы и от оперы, и отправляется Нестеров в своих набросках. Нестерова заботит общая сценировка прощания князя с Сергием: здесь историческую и поэтическую правду надлежит вырвать из академической рутины внешней парадности и театральности.
К осени 1890 года эскиз «Благословение Донского» был готов. 8 октября 1890 года Нестеров пишет из Киева сестре:
«У меня недавно был В.М. Васнецов. Я ему показывал эскизы «Сергия преп.» и «Донского»; как первый, так и второй ему очень нравятся, он находит в них много русского; между прочим, он сказал, что когда-то он сам хотел заняться историей преп. Сергия и теперь видит, что его мысль не испорчена».
Одобрение Васнецова тогда много значило для Нестерова, но еще больше значил для него собственный его суд «взыскательного художника», и вот он-то был неблагосклоннее Васнецова.
Нестеров так и не написал картины на этот сюжет. В письме ко мне от 1924 года на мой вопрос, почему это так случилось, он отвечал:
«Благословение Димитрия Донского» осталось в эскизах (их несколько), думается, потому, что острый интерес к теме пропал, насиловать же себя не хотелось: работая лишь «по долгу», нетрудно было впасть в холодную официальность; к тому же в это время явились новые темы, они и захватили мое непосредственное чувство».
Думается, на это была еще одна причина. Нестеров в годы художественной зрелости чутко сознавал природу своего дарования, объем своего художнического «могу». Он не чувствовал себя историческим живописцем.
А в «Благословении Донского» он как раз встретился с темой исторической по существу. Здесь его излюбленный Сергий окружен не тихой зеленой «пустыней» и не полевым окоемом, а воинской ратью и ее вождями: он поставлен в центр прямого исторического действия. Художнику неизбежно предстояло здесь создавать народный эпос или историческую трагедию в красках.
Ни к тому, ни к другому Нестеров не ощущал себя призванным.
Но, не написав большой картины маслом, Нестеров все-таки не мог расстаться с темой, дорогой ему по существу и столь необходимой в «Житии» Сергия.
В год завершения «Юности Сергия» (1897) Нестеров подвел итог и своим поискам Донского. Он написал акварелью, гуашью и карандашом «Благословение преп. Сергием Димитрия Донского на Куликовскую битву». Это не только эскиз к картине, это самодовлеющее произведение. Художник здесь шел не только от «Жития» Сергия, но и от «Задонщины» и других древних поэтических «поведаний» о Мамаевом побоище. Воинство князя Московского, с лесом вздымающихся острых копий пришедшее за благословением к Сергию, – это те самые «удальцы русские» из «Задонщины», что загремят на Куликовом поле «злачеными шеломами, червлеными щитами». От этой нестеровской «милой дружины» веет крепкой народной красотою, бодрою силою, светлою мощью. Рать эта безмолвствует, видя своего вождя, принимающего благословение от «игумена русской земли». Но в самой тишине, в самом благообразии воинского строя чувствуется здесь такая неодолимость, при которой, как говорит Димитрий Донской в «Задонщине», «туто надобе старупо-молодети». Таким – изнутри молодым своей верой в правду своего народа и в победу его рати – представляется на акварели и сам старец Сергий.
Во всем тоне акварели Нестерова ощущается радость предчувствия победы и славы: акварель выдержана в бодрой красочной гамме, переливающейся алым, зеленым, золотым (без сусального золота). Акварель кажется отрывком из праздничной народно-героической песни о победе – отрывком из живописной «Задонщины».
В 1892 году задумана, а в 1896 году написана Нестеровым другая картина из цикла о Сергии Радонежском, на тему, смежную с исторической, – «Труды преподобного Сергия».
Тема «Трудов пр. Сергия» – народная тема: она широко и любовно разрабатывалась древними и новыми его житиями, лубочными и литографированными картинками.
Верный народному представлению о жизни Сергия Радонежского, Нестеров не мог миновать столь близкую народу тему и ей посвятил третью законченную картину Радонежского цикла.
Картина не причинила Нестерову стольких тревог и терзаний, как две предыдущие, но не дала и той творческой радости, которой одарили его «Отрок Варфоломей» и «Юный Сергий».
Для «Трудов» Нестеров впервые в новом русском искусстве применил форму триптиха, столь излюбленную в средневековом искусстве Запада и любимую в Древней Руси в виде «деисусов» и складней. В самой этой форме уже заключена сложная композиционная задача. Триптих всегда строится так, что центральная часть, равная по размерам двум боковым, требует помещения на ней более сложного, обычно многофигурного изображения: в нем должно быть выражено главное содержание всего триптиха, или складня. Боковые изображения на створках являются дополнительными к центральному; завися от него по композиции, они обычно бывают однофигурными.
Для средней части складня «Трудов» художник избрал, следуя за Епифанием, сложную сцену – преподобный Сергий вместе с другими иноками строит обитель. Боковые части триптиха заключают в себе одного преподобного Сергия: направо – на фоне зимнего, налево – летнего пейзажа. Художник хотел выдержать все три части триптиха – лето (левая), позднюю весну (средняя), зиму (правая) в одной цветовой тональности, чтобы, связав их в одно живописное целое, колористически оправдать форму триптиха. Для этого и зима, и весна, и лето выдержаны в одном синевато-лиловом, матово-мягком тоне, впервые появляющемся здесь у Нестерова.
Лиловато-синяя гамма всей картины более всего подошла к «зиме» правой части. Этот лиловато-голубой снег на земле и на крышах, обильный, густой и пухлый, какой-то радостно-русский, такой скрипучий и приветливый в ясное морозное утро, эти маленькие лиловеющие столбики дыма из труб, лиловато-розовая полоска неба – все это прекрасно, подлинно, так родно и близко, что, кажется, слышишь, как скрипит этот радонежский снег под ногами старца Сергия, и чуешь, как крепко пахнет дымком и морозом в это такое русское бодрое северное утро.
На средней части триптиха этому лиловато-голубому надо было отвести много места, по необходимости для этой средней части картины быть центральной и в колористическом отношении, но как раз этой колористической центральности здесь не получилось: синевато-лиловые тени бревен на первом плане неубедительны и неудачны; синеватое пятно подрясника одного из несущих бревно, лиловато-синяя дымка, покрывающая купу берез и строящийся сруб с монахом в лиловом подряснике, не представляются равноценными по краскам убедительному, бодрому снегу правой створки.
На левой части триптиха лиловатыми отсветами, отдающими то в голубизну, то в синеву, мягко очерчены холмистые дали окоема, тронута епитрахиль на преподобном Сергии, подернута луговина, но все это также неравноценно «зиме» правой стороны, а кое в чем и спорное.
Три части «Трудов» дают различные образы преподобного Сергия, и это не к выгоде целого.
Сергий средней части самый молодой из всех. В его крепкой фигуре много исторической правды: из древнейшего «Жития» известно, что Сергий – устроитель обители – был телесно крепкий, сильный и на работу человек, мастер на всякое поделье и ремесло. Но от исторической схожести еще далеко до художественной выразительности и поэтической глубины.
В левой части триптиха Сергий идет один с водоносом в холмистой местности – художник по-прежнему поставил инока один на один с природой и мог шире и свободнее раскинуть пейзаж. Но облик Сергия и тут не вполне удался: не чувствуешь его близким ни отроку Варфоломею, ни юному Сергию: не могло это лицо, по-своему небезынтересное, выйти, мужая, из прекрасного лица юного Сергия.
Другое дело – правая часть триптиха. Вот где была бесспорная удача, настолько значительная, что эта правая часть превратилась как бы в отдельную, самодовлеющую картину. Сергий Радонежский здесь – старец, близкий к исходу дней. Все пережитое на земле у него уже в прошлом: и видение отрока Варфоломея, и пустыня с медведем, и те труды построения обители, которые изображены на средней части, и, может быть, в прошлом уже и прощание с князем Димитрием Донским. Пустыня осталась ему лишь внутренняя: на месте дремучего леса с медведем – монастырский городок, и безвестный юный подвижник Сергий – теперь славный «игумен земли русской». Но этот худенький, сухой старичок в легкой крашенинной одежде не по морозу, в рукавицах, опираясь на игуменский посох, идущий по снегу ранним зимним утром, – это тот же Сергий, что молился подле медведя. В лице его есть какие-то две-три черты, которые тонко и незаметно обнаруживают это родство. Преподобный Сергий вышел ранним утром. Он одинок на пустой улице монастырской: он один несет труд непрестанного бдения за всех, в его взоре чудится и глубокая обращенность внутрь, и будто некая покорная скорбь. О чем? О том ли, что нет уже его возлюбленной «матери-пустыни» вокруг него? О том ли, что мир изнемогает в бедах? О том ли, что этот мир с его тревогами и страстями неприметно закрадывается и сюда, за ограду обители? Кажется, Сергий не без скорби приостановился в раздумье, в глубокой длительной обращенности внутрь себя.
Еще большая удача была в самой монастырской улице. Эта тесная монастырская улочка между деревянными церквами, кельями, сараюшками и выше их поднимающимися елями, заваленная глубоким пустынным снегом, – непроезжая, тихая улочка обители в своей тесноте и морозной снежности напоминает, ни в чем не повторяя, другую знаменитую древнерусскую улицу, только городскую и также заваленную высоким снегом, ту, которую изобразил Суриков на «Боярыне Морозовой». Как там, так и тут в этом снеге и в этой тесноте – бездна самой подлинной русской истории. Все здесь – и сухонький старичок игумен, и высокие срубы келий с крылечками на столбиках, и сторожевые ели, и сплошной синеватый снег, и лиловый широкий дым, и морозное розовое небо, – все здесь овеяно и дышит тем историческим воздухом, который один и делает картину (и всякое создание искусства) верным истории и без которого никакая художественная археология и историческая правдоподобность не создадут истории ни в живописи, ни в поэзии.
«Труды преподобного Сергия» появились в 1897 году на XXV юбилейной Передвижной выставке.
Я живо помню впечатление, которое производила картина на Передвижной выставке в Москве.
Выставка в хмурых залах Училища живописи была полна обычных мелких передвижнических жанров на уныло-обывательские темы, они все, казалось, говорили: «Да, вот эти хмурые «семейные ссоры», эти пошловатые «друзья-приятели», «бытовые» чиновники, купцы, обыватели, эти серые люди, эти тоскливые пейзажи – это и есть все, что есть и было в России. Всему этому имя – тягучие будни». И вдруг посреди этой всяческой сероты – какой-то совсем иной, тихий, но бодрый голос говорит твердо: «Нет, это не все. Есть еще небо над русской землей, и есть не только скучное обывательское времяпрепровождение, но и тихое зимнее утро с трудящимся светлым старцем». Было поразительно и ободрительно слышать этот голос на хмурой выставке, где яркие полотна Репина и Серова терялись в бесчисленных жанрах передвижников-эпигонов.
Суд самого Нестерова над «Трудами пр. Сергия» достаточно суров. В 1924 году он писал мне: «Труды пр. Сергия» я считаю недостаточно удавшимися – это скорее «иллюстрация»[18 к «Житию».
В этом отзыве есть немалая доля справедливости. Если «Отрок Варфоломей» и «Юный Сергий» раскрывают целый мир народной красоты и неувядающей правды в русском человеке, то «Труды» вряд ли понятны большинству зрителей без комментария.
«Труды» (вместе с акварельным «Благословением Донского») заканчивали, по замыслу Нестерова, основной цикл картин из жизни Сергия Радонежского. Его облик русского мальчика, юного пустынножителя, труженика – основателя обители, русского патриота был уже дан на картинах. Художник имел право считать свой замысел осуществленным, и его стала заботить судьба его картин, писанных во исполнение глубоко сознаваемого долга художника перед своим народом.
30 марта 1,897 года Нестеров отправил из Москвы в Уфу письмо, обращенное к отцу, сестре и дочери Ольге, которой в то время было десять лет (матери художника в это время не было уже в живых):
«Теперь обращаюсь к вам ко всем. Соберите «семейный совет» и решите следующее, а решив, ответьте немедленно мне (хорошо бы телеграммой – одним словом: «согласны» или «нет»).
Давнишней мечтой моей было, чтобы все картины из жизни пр. Сергия были в Москве и в галерее.
Третьяков по каким-то причинам не взял их, – было ли это самостоятельное решение или чье-либо влияние, не знаю. Прав ли он или нет, тоже сказать трудно… 8а картины эти я получал немало крупных любезностей и, во всяком случае, они были замечены, их помнят. Все это дает мне право думать, что они галереи не испортят. Желание видеть их теперь же пристроенными в одной из московских галерей теперь у меня возросло до потребности, и я, продумав долго и много, решил предложить их (сначала) в дар Московской городской (Третьяковской) галерее: если же Павел Мих. отклонит мое предложение, то предложить Румянцевскому музею. Подарок это ценный – в 9–10 тысяч, которые, конечно, могут никогда не быть реализованы, но также и нельзя сказать и того, что ценность эта [не] может быть увеличена со временем. Словом, тут надо решить и за Олюшку – имею ли я право поступать согласно только моему чувству и не должен ли я только слушать рассудка…
Конечно, может явиться много вопросов о том, как кто на это посмотрит – художники, например. Но, во-первых, такие случаи были, только не такие крупные, а во-вторых, на душе у меня чисто и покойно. Картины деланы «не на продажу». Они по сюжетам своим связаны о Москвой, и где же, как не в Москве, быть им?..
Пристроить же каютины мне хочется именно теперь, уезжая из Москвы, в благодарность ей и уважение и любовь свою к ней… Решайте!!.»
К величайшей чести семьи Нестеровых, утвердительный ответ был прислан немедленно.
В тот же день получения ответа из Уфы Нестеров писал Третьякову, который еще в 1892 году принес свою галерею в дар городу Москве и состоял тогда пожизненным ее попечителем:
«Глубокоуважаемый Павел Михайлович!
Обращаюсь к Вам, как к основателю и попечителю Московской городской художественной галереи. Давнишним и заветным желанием моим было видеть задуманный мною когда-то ряд картин из жизни пр. Сергия в одной из галерей Москвы, с которой имя преподобного связано так тесно в истории России. Теперь, когда начатое дело может считаться доведенным до конца (частью в картинах, частью в эскизах), я решил просить Вас, Павел Михайлович, принять весь этот мой труд в дар Московской городской художественной галерее, как знак глубокого моего почтения к Вам. В настоящее время в распоряжение галереи может поступить картина «Юность пр. Сергия» и акварельный эскиз «Прощание пр. Сергия с в. к. Димитрием Донским». Картина же «Труды пр. Сергия» будет доставлена в галерею по окончании выставки в провинции…»
Ответ Третьякова сильно волновал Нестерова, и он делился своими волнениями с отцом и сестрой:
«Послал письмо Третьякову и теперь с волнением жду от него ответа – какой он будет?»
6 апреля 1897 года Нестеров снова писал в Уфу:
«Сегодня прождал весь день, ответа не было, волнения и сомнения мои увеличились, одного желаю, чтобы выяснилось скорее так или иначе».
Но уже на следующий день Нестеров радостно писал в Уфу всему семейному совету:
«Все вы – папа, Саша и Олюшка! – порадуйтесь со мною: мои планы сбылись. Третьяков был сегодня в 3-м часу и с искренней благодарностью, с самым теплым чувством и заметным волнением принял мой дар. Как картина, так и эскиз ему, видимо, понравились, картину при нем еще кончал по его указаниям. Он находит, что еще в Нижнем она была «хороша», эскиз тоже понравился. Я в подробностях и [со] спокойствием объяснил ему, чего я добивался в картине и вообще что было мечтой моей при работе этих всех картин. Просил Третьякова, чтобы он все повесил рядом – как имеющие связь одна с другою. Он дал на это свое полное согласие. Пока они будут висеть все, где этюды Иванова и где в первый раз висел «Варфоломей». Место очень хорошее и почетное…
Третьяков был долго, много раз принимался благодарить (а я его).
В заключение и на прощание П.М. еще раз «облобызал» меня, благодарил «за сочувствие к делу», и тут мы оба очень «разволновались». Вообще же я доволен своим «поведением», все было хорошо, и я, довольный, как не был уже очень давно, поблагодарил бога за то, что все устроилось, как желал».
Заветная мечта Нестерова осуществилась: его излюбленные картины навсегда водворились в Третьяковской галерее.
Через год после поступления Радонежского цикла в галерею умер Павел Михайлович Третьяков. Нестеров с горестью писал Турыгину:
«Гроб подняли на руках художники во главе с В. Васнецовым и Поленовым, художники же несли его и до кладбища; потом долго-долго не расходились, печально, грустно было оставить им дорогую могилу и жутко было остаться одним среди просвещенных невежд, среди людей-хищников, холодных, чуждых и далеких от всех наших грез, наших наивных мечтаний. Павел Михайлович был наш, он знал наши слабости и все то, что есть у нас хорошего. Он верил нам, сознательно, разумно нас поддерживал… С отшествием покойного закатывается блестящая эпоха русского искусства, эпоха деятельная, горячая и плодотворная, и он в ней играл важную роль. Павел Михайлович вынес ее на своих руках. Искусство вообще имело в нем друга искреннего, серьезного и неизменного. Я о кончине его узнал из газет в день похорон и не мог поехать поклониться ему, проводить его до могилы; пришлось ограничиться телеграммой семье да панихидой во Владимирском соборе, на которую почти никто не пришел, несмотря на оповещения…»
К личности П.М. Третьякова Михаил Васильевич постоянно и благодарно возвращался в своих воспоминаниях. Он видел в нем поучительный пример человека, который умел соединять искреннюю, мудрую любовь к искусству с ясным сознанием долга перед народом: собирая картины из собственной любви к искусству, он готовил в них высокий дар русскому народу.
Пример Третьякова был повелителен для Нестерова.
Он замыслил основать в родном своем городе художественную галерею и в 1909 году принес в дар городу Уфе свое собрание картин, этюдов и рисунков своих современников, всего свыше 100 произведений Архипова, Ал. Бенуа, А. и В. Васнецовых, К. и С. Коровиных, Левитана, С. Малютина, Остроухова, Е. и В. Поленовых, Репина, Рериха, Я. Станиславского, И. Шишкина, Ярошенко и др. В число этой коллекции входило свыше 30 картин и эскизов самого Нестерова.
Возгоревшаяся война 1914 года помешала созданию музея, задуманного Нестеровым. Свою коллекцию – уже в советские годы – он передал Уфимскому государственному музею, где она хранится доныне, составляя главную основу и лучшее достояние этого музея.
Радонежский цикл, принятый Третьяковым в галерею, не утолил, однако, творческой тяги Нестерова к излюбленному им русскому подвижнику. В самый год смерти Третьякова он замыслил новую картину из жизни Сергия Радонежского, исходя из давнего замысла, первый след которого сохранился еще в итальянском альбоме 1889 года: Сергий, уже старец игумен, один в лесной чащобе предается безмолвию, радуясь на ее красоту. 18 октября 1898 года он просил отца выслать ему из Уфы в Киев первый вариант «Юности Сергия», не попавший на выставку, а в ящик с картиной «засунуть и лапти с мантией». С обычной для Нестерова суровостью к своим нелюбимым детищам он решил на урезанном холсте «Юности Сергия» написать новую картину из его жизни.
Картина писалась в Киеве в конце 1898 года.
Общий композиционный план картины совершенно тот же, что и в «Юности пр. Сергия». Подобно юному Сергию, пожилой игумен один посреди безмолвия природы; вся фигура игумена Сергия есть композиционное повторение юного Сергия.
Но все не то кругом. Лес сохранился частым, сплошным только там, вдали, за обителью, а здесь, где остановился игумен Сергий, малые перелески, уже обнаженные косогоры и между ними еще узкая, но уже не зарастающая ленточка дороги. В левом углу картины виднеются из-за елей и сквозистых, нежных берез бревенчатые церковицы и узкие кельи обители. Прежнее уединение невозвратимо и невозможно. Сергий теперь игумен, наставник монахов, мудрый советчик приходящего люда всякого чина и звания, собеседник князей. Но не забыты им тихие радости былого уединения среди лесной пустыни. Сергий вышел один из своей обители; у него в руке посох игуменский, но в этот миг он тот же юный Сергий. Тихая, покорная грусть обволакивает постаревшее лицо Сергия – грусть о том, что тесная, неразрывная жизнь о «матерью-пустыней» осталась в былом, а эта весенняя одинокая встреча с нею мгновенна. Темная мантия и черный куколь на Сергии подчеркивают эту грусть: так суровы и печальны ее строгие очертания в сравнении со светлой зеленью ранней весны, а строгая, прямая линия игуменского посоха так противоположна вольным изгибам тонких белоствольных березок и пушистых верб.
Новая и иная лирическая тема проведена в самой живописи, в ее манере, в цветности картины. «Юность Сергия» – это «белое» в «сложно-зеленом»: в светлом, в ярком, в темном, в иссиня-глубоком. Центральное «пятно» «Юности» – это сияющая белизна самого юного Сергия: все «зеленое» вокруг нее представляется как бы зеленым сиянием, исходящим от ослепительной белизны юного Серрия. Наоборот, центральное «пятно» «Пр. Сергия» – строгая, спокойная, ненарушимая чернь одеяния и куколя пр. Сергия; все же светлое, нежно-сквозисто-зеленое, что есть в весеннем пейзаже, объемлющем эту строгую чернь игумена Сергия, не исходит от нее, а как бы грустно изъявляет свою инаковость, свою отстраненность от него. Кажется, еще немного – и наступит разлука между игуменом Сергием и матерью-природой. Радостно-грустная встреча с потревоженной и отъятой от него пустыней кажется прощанием с красотой вечно юной другини.
«Сергий» появился на выставке «Мир искусства» 1900 года, откуда был приобретен в Русский музей.
Но судьба его была очень тревожна.
В 1924 году Нестеров писал мне: «Написан «Сергий» на урезанном холсте первого «Сергия с медведем», который был уничтожен. Это не обошлось мне даром. «Сергий» музейный стал лупиться, и его пришлось дублировать, таким он и вошел в музей. Сейчас он гибнет: после неудачной дублировки на нем появились пятна, и его следует считать для музея непригодным. Помимо сказанного, я эту вещь считаю неудачной, кроме весеннего пейзажа. Лицо и фигура преподобного не проникнуты [ни] сосредоточенностью, ни полнотой чувства окружающего».
Этот мрачный взгляд художника на судьбу «Сергия» через четыре года прояснился: в феврале 1928 года Нестеров писал мне из Ленинграда: «В Русском музее был при мне реставрирован «Сергий», обреченный на гибель после старой, давней его реставрации, еще эрмитажной».
Михаил Васильевич был доволен, что «Сергий» возвращен к жизни, и сам уже не выносил ему смертного приговора.
В 1900 году на XXIX Передвижной выставке появилась маленькая картина Нестерова «На Руси» («Старец в пути»). Сам художник объясняет ее так: «Зима. Преподобный идет не то в Киржач, не то в Звенигород». Эта маленькая картина надолго замкнула цикл картин из жизни Сергия Радонежского.
К нему вернулся Нестеров много лет спустя, в советскую эпоху.
В начале апреля 1931 года я получил от Михаила Васильевича письмо.
Отвечая на мои слова о его прекрасном творческом прошлом и на мои надежды на молодость его творческого «сегодня», Михаил Васильевич писал: «Шлю вам и ваш эскиз, но временно пока что, его верните». Это был масляный эскиз новой картины.
Новая картина получила название «Дозор». Она не основана ни на каком древнем литературном источнике. 6 «Житии» Сергия Радонежского нет сказания, соответствующего картине. Но она выражает не одно лично нестеровское, но и древненародное представление о Сергии Радонежском. Сергия Радонежского давно уже нет на земле, но он не перестает пламенеть любовью к родине, болеть ее скорбями и заботиться ее заботами. Своей молитвой и бодрым бдением он сторожит покой родной земли. Вот и теперь, на заре, он верхом объезжает дремучий лес с темноводным лесным озером. И с немым укором остановился старец всадник над юношей послушником, крепко спящим на траве подле алого туеса, в который собирал он ягоды.[19
В ярком контрасте старческого бодрствования на службе родине и юного сна после собственной утехи заключается для Нестерова весь идейный и художественный смысл его живописного сказания. Творческая обработка картины велась художником в условии этого контраста: старец Сергий на коне, попирающем подножие тумана, невидимыми узами связан с этою чащей родных лесов, с этою ало-дымчатой зорькой, просвечивающей через суровый строй копий – лесных вершин: он для них свой, любимый, близкий, родной; а вот этот вольно раскинувшийся юноша в синем холщовом подряснике для них чужой: он, измяв траву с цветами, встанет, разбуженный утренним холодом, и пойдет себе досыпать свой сон в монастырскую келью. А старый всадник вновь тронется в свой дозор.
С каким новым творческим богатством разработан лес на картине! Это в самом деле стена: высокая, грозная, неодолимая, она, словно крепостная твердыня, прикрывает Русь от всех ее врагов – из азиатских степей и южных равнин.
Нестеров обратился и к другим сказаниям, связанным с памятью Сергия Радонежского, – историческому и легендарному, и к «Дозору» непосредственно примыкают две картины – «Пересвет и Ослябя» и «Небесные защитники».
В первой картине Нестеров возвращается к теме, затронутой в «Благословении Донского».
В никоновской летописи записано, что Сергий при прощании с Димитрием Донским «даде ему из монастыря своего, из братии своея, два инока, Пересвета и Ослябя, зело умеющих ратному делу и полки уставляти, еще ж и силу имущих и удальство велие и смелство (смелость)». По словам той же летописи, Пересвет пал в единоборстве с татарским богатырем: «Ударившись крепко, толико громко и сильно, яко земле потрястися, и спадоша оба на землю мертвии». В «Задонщине» героический подвиг Пересвета и воинская доблесть Осляби похваляется глубоко поэтическими словами. Пересвет говорит князю Димитрию:
«Лудчи бы нам потятым быть, нежели полоненым от поганых татар». Храбрый Пересвет «поскакивает на своем вещем сивце, свистом поря поля перегороди… И рече Ослябя брату своего Пересвету: «Уже, брате, вижу раны на теле твоем тяжки, пасти главе твоей на сыру землю, на белую ковыль… за землю Русскую».
У Нестерова на картине витязи-иноки на конях несутся на Дон, может быть догоняя войско князя, выступившее из Коломны. Художнику удалось воплотить их силу, их «удальство велие и смелство», отмеченное летописью. Родная природа, кажется, бодрым шумом напутствует всадников, устремившихся на встречу с врагом родины.
Этот же – новый для Нестерова – мотив устремления к борьбе и к победе разработан художником и в другой его картине, написанной почти одновременно.
24 апреля 1932 года Нестеров писал мне с иронией о своих художественных планах:
«…Напишу… о том, как во время осады Троицкой лавры в польском стане на утренней заре увидали паны-ляхи несущихся трех дивных старцев на белых конях и как эти старцы по утреннему туману промчались мимо них и скрылись во святых воротах».
Нестеров на этот раз обращается к сказанию Авраамия Палицына.
Троицкая лавра в 1608–1610 годах выдержала 16-месячную осаду от войск Сапеги и Лисовского с приставшими к ним русскими изменниками. Благодаря стойкости монастыря-крепости дорога к Москве с севера была закрыта для интервентов. В один из самых критических моментов осады осажденным, изнемогавшим от недостатка продовольствия и огнеприпасов, необходимо было послать гонца в Москву. Это удалось совершить, как утверждает народное сказание, передаваемое келарем Авраамием Палицыным, с помощью преподобного Сергия, который из-за гроба руководил обороной обители. Он явился к пономарю Иринарху и сказал: «Говори братии монастыря и всем ратным людям, зачем скорбят о том, что невозможно послать весть к Москве: сегодня в третьем часу ночи я послал от себя в Москву… трех моих учеников Михея, Варфоломея и Наума. Поляки и русские изменники видели их».
Эти-то три старца, «небесные защитники», пособляющие Сергию в его незримой обороне монастыря-крепости, и несутся на картине Нестерова на своих чудесных конях, навевая ужас на врагов и изменников родины.
Эти три картины Михаила Васильевича, написанные на протяжении каких-нибудь двух лет, составляют как бы трилогию на тему «Оборона родины есть великое святое дело».
Глубоко знаменательно, что этот второй цикл картин о Сергии Радонежском сложился у Нестерова в советское время, всего за девять-десять лет до Отечественной войны.
В разные годы по-разному возвращался Нестеров к любимому образу и всегда находил в нем разрешение своих дум о русском народе.
По поводу своих картин из жизни Сергия Радонежского Нестеров сказал мне однажды:
– Зачем искать истории на этих картинах? Я не историк, не археолог. Я не писал и не хотел писать историю в красках. Это дело Сурикова, а не мое. Я писал жизнь хорошего русского человека XIV века, лучшего человека древних лет Руси, чуткого к природе и ее красоте, по своему любившего родину и по-своему стремившегося к правде.
«Лучший человек» нестеровского «стародавнего сказания» – в крестьянском ли быту, в общении ли с природой, в тишине ли кельи за летописной хартией, на Куликовском ли поле, на площади ли Нижнего Новгорода перед народом, – этот лучший человек творил одно и то же дело любви к родине, обороняя ее от врагов, освобождая от всяческой неволи и поднимая родной народ на единый исторический подвиг культуры и просвещения. Через тихие дали легенды Нестеров умел почувствовать и горький стон народного страдания, и бодрый шум битвы за родину. Он любил в пожилые годы тайно прийти в Третьяковскую галерею и там встретиться вновь с героем своего творчества.
– Живет! Слава богу, живет! – не раз говаривал он мне после такого тайного свидания с Сергием своих картин, а иногда прибавлял к этому: – Вот ведь чудеса: смотрят его! Есть такие чудаки, что мимо не проходят. Остановятся – и смотрят!
К концу жизни Нестерова эти сообщения его становились все чаще.
– Любят его! – сказал мне однажды художник после одного из последних посещений Третьяковской галереи.
И в этих словах сквозила ничем не скрытая радость.
Он убедился, что навсегда дал родному народу прекрасный образ того, кто, по его словам, мудрой и простой «красотой просиял в нашей истории, в нашем народе».
VII
– Владимирский собор дал мне много: Васнецов, Прахов, – но взял немало. Как знать, туда ли бы я пошел, если б он не стал на дороге? Мне трудно было выйти на свою дорогу.
Так говорил мне Нестеров 28 сентября 1940 года, вспоминая путь жизни и творчества. За тридцать лет нашей дружбы он не раз возвращался к этой мысли: по-разному ее выражая, он неизменно утверждал, что его восхождение на леса Владимирского собора внесло перелом в его жизнь, иногда же перелом этот представлялся Нестерову таким крутым и решительным, что он казался уже ему разломом.
Во Владимирском соборе Нестеров начал свои работы 28-летним молодым художником, а окончательно отстранился от них, лишь вступив в шестой десяток. Отдав иконам и церковным росписям свыше двадцати двух лет жизни и труда – труда огромного, если вспомнить, что за эти годы Нестеров единолично расписал храм в Абастумане, церковь в Новой Чартории и храм Марфо-Мариинской обители в Москве, не считая работ в храмах, где художник работал не единолично.
Появление художника Нестерова вслед за Васнецовым на лесах соборов и церквей было в свое время громким событием. Та пора русского искусства, когда на леса церквей восходили такие великие художники, как Андрей Рублев, Феофан Грек или Дионисий, автор знаменитой росписи в Ферапонтовой монастыре (1500–1502), давно ушла в прошлое. Ушел в прошлое и расцвет фресковой стенописи у ярославских художников XVII века.
Роспись церквей и писание икон, по суждению художников и критиков XIX века, были законной областью богомазов-ремесленников.
Несмотря на то, что в росписи Исаакиевского собора в Петербурге (1830–1850-е гг.) участвовали Брюллов и Бруни, а в росписи храма Спасителя в Москве (1860–1870-е гг.) приняли участие Суриков и Семирадский, участие подлинного художника-живописца в подобных работах считалось в те годы как бы несообразным с достоинством художника, признавалось как бы нарушением его профессионально-творческой этики.
Из всего художественного наследия, оставленного Нестеровым, наиболее спорным для него самого было то, которое оставил он на стенах храмов. Острота его критического взора, требовательность художественного вкуса бесконечно возросли в последнюю пору его жизни, и они-то заставили его резко переоценить многое в наследии, оставленном им в храмах. И мало того: глубже и по-иному определить то значение, которое работы для церквей имели в его жизни и творчестве.
Вот почему эта глава одна из самых трудных в летописи Нестерова.
Сам Нестеров не сделал и шагу для того, чтобы взойти на леса Владимирского собора.
В 1887–1889 годах Виктор Васнецов работал во Владимирском соборе в Киеве. Главному руководителю работ, профессору истории искусств А.В. Прахову становилось ясно, что задача – расписать к сроку (он был назначен на 1894 год) огромный собор – не под силу одному Васнецову. Это же стало ясно и самому Васнецову. Прахов пытался залучить в собор Сурикова, Поленова и даже Репина. Все трое, занятые большими картинами, отказались. Прахов обратился тогда к двум начинающим художникам. Врубелю предложено было представить эскизы для «Воскресения», Серову – для «Рождества». Эскизы первого были отвергнуты комиссией, второй медлил с представлением эскизов.
В начале 1890 года в Петербурге на Передвижной выставке Прахов увидел «Отрока Варфоломея» и решил, что в лице его автора нашел художника для Владимирского собора. Знакомство Прахова с Нестеровым произошло тогда же в Москве, на домашнем спектакле у С.И. Мамонтова, и тут же состоялось приглашение Нестерова приехать в Киев.
Нестеров ответил согласием: там работал Васнецов, а в ту пору Васнецов был любимым художником Нестерова. В своих «Давних днях» он рассказал, что первоначально относился враждебно к «сказкам» Васнецова и только впоследствии, при взгляде на «Игорево побоище», у него раскрылись глаза. Он «горячо полюбил» Васнецова, Васнецова – большого поэта, певца далекого эпоса нашей истории, нашего народа, родины нашей.
«Никогда не забывая своего учителя В.Г. Перова, его значения в нашем искусстве, узнав и полюбив Васнецова, я стал душевно богаче, увидал обширное море краски».
Эти горячие слова сказаны в холодное время старости. Много раз в разговорах о Васнецове, когда я указывал на нарочитую нарядность и условность многих картин Васнецова, мне приходилось слышать жаркую отповедь Михаила Васильевича:
– Ваше поколение в долгу перед Васнецовым. Если в эпоху Владимирского собора ему слишком много придали лишнего, то вы слишком многого ему недодаете.
И тут Михаил Васильевич неизменно указывал на высокие достоинства «Аленушки», «Каменного века», «Трех царевен», эскизов к Апокалипсису и почти всегда прибавлял к этому списку «Алтарь Владимирского собора».
Во второй половине 1880-х годов этот список васнецовских ценностей был у Нестерова несравненно обширнее. На вопрос о том, что же потянуло художника в Киев, несмотря на скромную перспективу переводить чужие эскизы на стены собора, сам Нестеров отвечал в старости так:
«Там Виктор Васнецов, как гласит молва, «творит чудеса». Там мечта живет, мечта о «русском Ренессансе», о возрождении давно забытого искусства Андреев Рублевых и Дионисиев».
Ответ этот верно передает восторженное устремление молодого Нестерова принять участие в этом «русском Возрождении». В его письмах на родину из Киева (от 15 и 16 марта 1890 года) сквозит ничем не ограниченный восторг от встречи с Васнецовым и от знакомства с Владимирским собором.
«С наружной стороны он (собор. – С.Д.) не отличается ничем особенным от большинства киевских церквей… Спросив В. М. Васнецова, меня пропустили внутрь. Глазам моим представилась целая масса лесов, и лишь кое-где виднелась голова какого-нибудь гигантского святого, пророка, рука, часть аксессуара и т. д. …Наконец я увидел и его таким, каким он снят на фотографии: в длинной синей блузе, выпачканного краской и с большой палитрой в руке. Он спросил меня и, узнав меня, радушно поздоровался, расцеловался и поздравил меня с успехом… Затем начал водить по лесам, показывая одну за другой свои работы».
«Вчера я с утра снова осматривал собор, уже более сознательно и спокойно. Чудный памятник о себе оставит Васнецов русским людям… Вот как живые стоят Феодосий, Сергий Радонежский, Филипп митрополит Московский, повыше пророки. Тут типы равны Микеланджело…»
Безмерные восторги Нестерова пред «содеянным» Васнецовым в соборе подкреплялись прекрасным впечатлением, вынесенным тогда же от личности самого Васнецова. «Он человек интересный, своеобразный, говорит образно и остроумно», – с первой же встречи пишет Нестеров отцу.
Ив этих двух впечатлений – ошеломляющего от собора и глубоко положительного от его создателя – Нестеров сделал один вывод: он должен быть участником великолепного дела, творимого Васнецовым. Было решено с Праховым, что Нестеров напишет на стенах собора шестнадцать больших фигур святых с эскизов Васнецова, а самостоятельно Нестеров должен был разработать эскизы «Рождества» и «Воскресения» для приделов на хорах и эскизы росписи стен на сюжеты из жизни князя Владимира.
История Владимирского собора необычна. Храм был заложен в 1859 году на средства, собранные по всероссийской подписке, по проекту архитектора Беретти. Проект оказался неудачен во всех отношениях: плохая подделка под византийскую базилику, храм дал трещины, когда стали класть главный купол. Десять лет (1866–1876) недостроенный собор простоял «на испытании»; так как трещины не увеличивались, постройку довели до конца, укрепив стены контрфорсами, обезобразившими и без того некрасивое здание. Оконченный собор еще несколько лет простоял пустым, и только уже при Александре III возобновились работы в соборе, «и окончились бы так, – утверждал Нестеров, – как кончились сотни ему подобных, и расписал бы его какой-нибудь немец подрядчик Шульц, если бы не появился Прахов, сумевший привлечь к росписи еще молодого тогда, полного сил Васнецова».
Адриан Викторович Прахов был человек кипучей энергии, живого темперамента, красивого жеста, яркого слова и больших знаний. Он был одним из лучших в Европе знатоков и энтузиастов византийского искусства. Это был человек широкого и смелого почина. Во Владимирском соборе во всем размахе проявились все указанные свойства и качества Прахова.
Для Виктора Михайловича Васнецова же, рвавшегося от станковой живописи к просторам стенописи, Владимирский собор давал удовлетворение давней творческой мечты.
Для автора «Игорева побоища» – и в этом ему горячо сочувствовал Нестеров – Владимирский собор был народным памятником, сооружаемым во славу князя Владимира, зачинателя исторической славы русского народа. Тому, кто воплотил уже образы русских народных сказок и былин, кто затронул уже древнейшую праисторию родной земли, теперь предстояло сложить живописную эпопею в честь князя Владимира (ему посвящен главный алтарь собора), его мудрой бабки Ольги, его сыновей – витязей Бориса и Глеба (им посвящены приделы на хорах). Целый пантеон не только подвижников веры, но и подвижников русской культуры и истории предстояло создать Васнецову. Князей – оборонителен Руси от половцев, татар и немцев: Андрея Боголюбского, Михаила Черниговского, Александра Невского и др.; подвижников просвещения: Нестора Летописца, иконописца Алимпия и др.
Нестеров сам, независимо от Васнецова и Киевского собора, уже начал слагать свое живописное оказание об одном из подвижников этого русского народно-исторического эпоса.
Понятно, что для Васнецова, который только что изобразил Сергия Радонежского в алтаре Владимирского собора, Нестеров представлялся самым желанным из помощников по работе в русском пантеоне.
Вполне естественно и для Нестерова было принять предложение Прахова. В соборе ему предстояло дело, новое по технике (но при этом новое лишь отчасти: стенопись собора была масляной живописью, а не фресковой живописью водяными красками). Принять это дело было тем естественнее для Нестерова, что в то время, как на Передвижной выставке ему приходилось выдерживать натиск на тематику и стилистику его картин, здесь, в соборе, казалось ему, он, ценимый такими авторитетами, как Васнецов и Прахов, получит спокойные условия для работы.
Действительность весьма скоро поколебала эти мечты.
Живописными работами в соборе, как и всем его строительством, ведал не один Прахов, знаток и энтузиаст дела, а особый комитет, состоявший под председательством вице-губернатора и наполненный чиновниками, профессорами Духовной академии и протопопами. Любой сюжет и любая композиционная его разработка проходили бдительную цензуру комитета. Цензура эта была глубоко невежественна в художественном отношении. При первой же встрече с Васнецовым Нестеров мог в этом убедиться: эскизы из Апокалипсиса – лучшее, что создал Васнецов для собора, – были запрещены к исполнению.
Нестерову скоро пришлось узнать действие этой цензуры на самом себе.
Вице-губернатор Баумгартен был сентиментальный немец, глухой ко всему народно-русскому и слепой на все художественное. За вице-губернатором стоял еще более глухой и слепой – генерал-губернатор граф Игнатьев, за ним генерал-губернаторша с кружком влиятельных лиц, и все они в той или иной степени оказывали свое давление на комитет. Губернский архитектор, некий Николаев, человек бездарный, из-за личной вражды к Прахову всюду, где мог, вставлял палки в колеса. Члены от Духовной академии были вполне застрахованы от всякого понимания задач и требований искусства, но усердно предъявляли к художникам требования казенной ортодоксии.
Духовные члены тем подозрительнее относились к «затеям» художников, что сам киевский митрополит Иоанникий враждебно был настроен против «нововводителей» в церковно-живописную рутину.
Положение Нестерова, новичка в работе в соборе, было тем труднее, что ему уже вскоре пришлось взяться за ответственнейшие композиции («Рождество» и «Воскресение» – запрестольные образы двух алтарей), замещая двух замечательных художников, дарование и мастерство которых Нестеров высоко ценил, – Врубеля и Серова.
Для Владимирского собора Врубель сделал «превосходные эскизы», по суждению Нестерова, «но невежественная комиссия их забраковала».
Осенью 1940 года Михаил Васильевич рассматривал у меня «Мир искусства» и монографии, посвященные Врубелю, и восторгался этими эскизами «Воскресения» для Владимирского собора.
– Что бы он сделал, если б все это дали ему написать! Болваны!
Но и Нестерову пришлось работать в соборе с немалыми затруднениями.
21 октября 1890 года он писал отцу и матери:
«Вчера было заседание комиссии, и оно утвердило мое «Рождество» с небольшими изменениями (другие ясли, цвет одной одежды), «Воскресение» же придется вновь переделать, хотя последнее Васнецову и Прахову нравилось больше «Рождества». Нужно им (попам), чтобы Христос был лишь несколько прикрыт саваном, а не в хитоне, то есть так, как делают немцы, а не греки. Разозлился я вчера порядком, ну да, может быть, еще попробую, тем более что комиссия уполномочила Прахова войти со мной в соглашение насчет остальной работы на хорах… Прахов так и вьется около меня, предлагает разные варианты».
Письмо это начинает собою борьбу Нестерова за свою независимость как художника. То, что он нужен, даже необходим собору, это ясно не только для Прахова с Васнецовым, но и для комиссии: ответственные работы остаются за ним. Ему предлагают взять на себя ряд работ, и уже нет речи, чтоб он писал «по эскизам Васнецова». Однако с первого же шага Нестерову приходится считаться с нелепым вмешательством комиссии в его творческие намерения, в композицию его «Воскресения». И с первых же шагов в соборе он упорно обороняет от Васнецова и Прахова «свое дело» – дело свободного живописца, прежде всего поставившего своей целью создать живописный цикл картин (а не икон) из жизни Сергия Радонежского.
Прахов предлагал Нестерову взять на себя «все работы на хорах»; Нестеров в конце концов взял на себя лишь «Рождество» и «Воскресение» и образа в иконостасах.
5 ноября, сообщая Е.Г. Мамонтовой о предложении Прахова, Нестеров писал: «Желание работать, пока силы молоды и энергия есть, задуманную мною историю пр. Сергия в картинах удерживает меня немало, да притом в соборе, кроме «Рождества» и «Воскресения», интересного ничего не осталось, да даже и «Рождество» уже мало подходит к моим художественным симпатиям и настроению (а тут еще комиссия с ее странными требованиями). Остается, следовательно, сумма гонорара (правда, недурная), но мне думается, что в 28 лет, которые я имею, немножко рано для художника начать помышлять об гонораре, придавая ему руководящее значение в работах, тем более привычки у меня скромные, много денег же мне свободы не даст».
«Рождество» Нестерова сравнительно благополучно прошло через цензуру комитета.
С «Воскресением» его ждало гораздо более серьезное испытание.
Хотя Нестеров и принудил себя пойти на уступку комитету, комитет и в новый эскиз вмешался со своими невежественными требованиями. 18 декабря Нестеров писал Мамонтовой: «При представлении мною второго эскиза комитет включил в неприятную для меня обязанность уничтожить в композиции ангела; для меня же этот ангел был самым приятным и симпатичным местом (Виктор Михайлович разделяет это мое мнение и ратует за меня сильно), не говоря о прямой выгоде и важности его для цельности и интереса картины. Но решение отца протоиерея Лебединцева есть закон и не для меня одного: Виктор Михайлович немало попортил крови от непреклонного блюстителя православия».
Но Нестерову все же удалось отстоять свою композицию «Воскресения». Этому способствовало то обстоятельство, что как раз в это время эскизы Васнецова и Нестерова были отвезены Праховым в Петербург. Ему надо было доказать в высших сферах, что в работах этих художников нет ничего противного православию. Победоносцев, обер-прокурор Синода, представил нестеровский эскиз «Воскресения» Александру III. Царь остался эскизом доволен, и это решило его участь: не мог же комитет настаивать на удалении ангела с эскиза, одобренного самим Александром III!
В самом конце работ в храме Нестерову было предложено написать третью крупную картину в соборе – «Богоявление». 5 февраля 1894 года он сообщал в Уфу:
«Прахов вот уже несколько раз настоятельно приставал ко мне, чтобы я взялся написать для собора большой образ (5 и 3 арш.) «Богоявления» в крестильню… Прахов торопит заявить о согласии своем формально, а я медлю, и если решусь, то, думаю, не иначе, как с тем, что лишь в том случае буду работать, если комитет найдет возможным утвердить мой эскиз без существенных изменений».
По альбому Нестерова можно проследить, сколько художественного увлечения и труда вложил художник в эту свою работу.
Было бы легко взять фигуру Христа, стоящего в водах Иордана, с византийских мозаик и древнерусских икон и в соответствующей переработке перенести ее на стены нового собора. Так и поступал в соответственных случаях Васнецов.
Нестеров, наоборот, ко «Христу в Иордане» шел от живого человека в текущей воде.
На одном из листов альбома находим карандашный этюд нагих ног молодого человека, сделанный с явным любованием красотой и благородством форм; с любовным вниканием всматривается художник в живой трепет мускулов, в теплое дыхание жизни в стройном молодом теле.
А на одном из следующих листов альбома Нестеров ставит свою натуру – нагого юношу – в текущую воду и с явным увлечением рисует отражение ног в воде, любуясь зыблющимся рефлексом. Подле рисунка рукою художника отметка: «Лилов[ый] реф[лекс]».
Так из чисто реального материала и живописных впечатлений возникает у Нестерова фигура Христа на «Богоявлении».
Натурщиком пользовался Нестеров и для фигуры Иоанна Крестителя. «На неделе кончу рисунки с натуры, – пишет он отцу, – ходят по два натурщика в день».
В том же альбоме есть тщательно разработанный набросок одежды, сброшенной с себя человеком, вошедшим в воду; есть набросок голубиных крыльев в полете – для «духа в виде голубине» над Христом и т. д.
Религиозную композицию Нестеров разрабатывал на прочной реальной основе.
Первоначальный эскиз «Богоявления», с ангелами в небе, славящими событие, был вопреки обнадеживанию Прахова забракован комитетом по настоянию его духовных членов.
«Председателем комиссии по окончании Владимирского собора был генерал-губернатор, помощником – вице-губернатор, с ними еще можно было ладить, – вздыхал Нестеров чуть не полвека спустя, – но вот господа профессора Духовной академии вроде Малышевского, отцы протоиереи – беда! Упрутся бурсаки – ни тпру, ни ну».
«Бурсаки» требовали убрать с эскиза ангелов.
Требование комитета об удалении ангелов с «Богоявления» было в полном смысле слова невежественным: подобная композиция с ангелами встречается на древних византийских фресках и мозаиках, и одну из них, виденную в Палермо, Нестеров зарисовал в своем альбоме в 1893 году.
Нестерову пришлось пойти на удовлетворение требования комитета из желания сохранить в картине то, над чем он уже много и с любовью поработал: ее пейзаж. Но весь его творческий интерес к картине был подорван.
Непрерывное давление со стороны комитета разрушало неприкосновенность творческих замыслов Нестерова и упорно направляло его в сторону православно-казенного шаблона и упадочно-академической рутины. Положение Нестерова как художника было тем труднее, что он пришел в собор тогда, когда там уже завершены были Васнецовым все главнейшие его работы. Нестерову приходилось работать в соборе в атмосфере все более растущего признания Васнецова и со стороны художников, и со стороны духовенства и общества. Через полвека нам теперь трудно представить себе размеры и тона, в которых выражалось тогда это охватившее все более и более широкие круги признание Васнецова не только реформатором русской религиозной живописи, но чуть не зачинателем национального искусства в России.
Этот ничем не ограниченный шум хвалы Васнецову начинал порою смущать Нестерова, незадолго перед тем побывавшего в Италии и видевшего там Микеланджело и Рафаэля. «Слава последнего, – пишет он о Васнецове еще в 1891 году (18 февраля), – растет и крепнет, на днях была о его работах в соборе в «Киевлянине» рецензия некоего «Москвича»: хвалят так, что и Рафаэль бы стал просить отбавить».
Близость к Васнецову, соседство с ним по работе было опасно для молодого художника: легко было принять путь Васнецова, вызывавший такие восторги и надежды, за единственно возможный для данного времени и растерять на этом пути все достояние собственных исканий и достижений. Чего стоил в глазах Нестерова пример столь ценимого им Третьякова, который придавал такое исключительное значение работам Васнецова, что как бы перенес его Владимирский собор в Москву, приобретя для своей галереи все картоны и масляные эскизы Васнецова, числом 328!
Влияние Васнецова пронизывает немало работ Нестерова во Владимирском соборе, и нужно удивляться не тому, что оно было в силе, а тому, что оно не помешало Нестерову создать в соборе ряд вещей, независимых от Васнецова. Это относится по преимуществу к некоторым образам иконостасов на хорах, к образам русских святых: Ольги, Бориса, Глеба.
Внизу, в главном корабле собора, Васнецовым были уже написаны те же Ольга, Борис, Глеб, последние двое даже рукою Нестерова – по эскизам Васнецова, – но стоит только взглянуть на нижних и верхних святых, чтобы постичь всю самостоятельность Нестерова.
У Васнецова княгиня Ольга – византийский образ, написанный по русскому летописному сказанию: в образе есть и суровость и сухость. Это «честная вдова», жена, мать и бабка князей и сама правительница княжества, сносившаяся с византийским басилевсом и германским королем Оттоном I. У Нестерова Ольга – девушка, юница, христианка с весенних лет, тогда как историческая Ольга приняла христианство, когда ей было уже 65 лет. Образ нестеровской Ольги идет не от иконописного подлинника и не от византизированного летописного сказания, а от внутреннего и внешнего облика покойной жены художника. Но этот образ внутренне совпадает с поэтическим обликом Ольги, возникшим в стародавнем народном предании о ней, отраженном в древнерусской письменности.
В образе нестеровской Ольги сквозит отблеск русской сказки с ее задушевными и тихими «царевнами», неразлучными с грустью на злую силу, полонившую мир.
Еще независимей Нестеров в образах Бориса и Глеба.
Тут еще приметней связь Нестерова не с иконописным подлинником, не с каноническим «житием», а с одним из поэтичнейших памятников древнерусской словесности – «Сказанием о Борисе и Глебе». Князья Борис и Глеб рисуются в «Сказании» юными князьями – оборонителями русской земли, окруженными верною дружиною отроков. Борис по первому призыву отца, Владимира, пораженного недугом, «с радостию» устремляется «противу безбожных печенегов». Народное «сказание» с горестью оплакивает гибель Бориса и Глеба от убийц, присланных их братом, Святополком Окаянным, из зависти, что в юных братьях-князьях народ видит будущих крепких оборонителен – защитников русской земли. Народ чтил в Борисе и Глебе князей, не пожелавших терзать эту землю княжеской междоусобицей. Когда дружина осиротевшего Бориса предлагает ему начать поход против старшего брата Святополка, Борис предпочитает погибнуть, чем осквернить себя участием в междоусобии.
Художник представил князя Бориса юным, совсем без бороды; его прекрасное лицо несколько опущено долу: он погружен в молитву, в правой руке его небольшой крест – символ мученичества; левой рукою он твердо сжимает большой меч. Князь во всякое мгновенье готов извлечь этот меч из ножен, но только не для братоубийственной усобицы, а для защиты вот тех русских лесов и взгорий, которыми так любовно окружил князя художник.
Еще больше удался Нестерову Глеб.
Он в самой ранней поре юности, вернее, в поре позднего отрочества, обещающего цветущую юность. У него нет в руках меча, единственное его оружие – мученический крест, который он держит в левой руке, а правая рука, сложенная в крестное знамение, застыла на груди. Большие прекрасные глаза Глеба и все его лицо просветлено молитвою, а весь он мужественно устремлен навстречу страданию. Ласковое спокойствие природы, молодых елей и густого леса как бы оттеняет внутреннее мужество этого почти ребенка в княжеском одеянии.
Тема о неповинном страдании всегда была близка Нестерову, и именно от «Глеба» он перешел к своему «Димитрию Царевичу убиенному», где эта тема воплощена с особым проникновением.
«Глеба» Нестеров писал, не считаясь ни с какими желаниями комитета, без всякой оглядки на то, пишет ли он икону, на которую надо молиться, или картину, пред которою можно трепетать «радостно в восторгах умиленья» (Пушкин).
«Это новый тип», – сказал Васнецов про «Глеба», как вспоминал Нестеров в 1938 году, Васнецов хотел подчеркнуть, что это уже не «русский святой» васнецовского византизированного типа, какими полны стены Владимирского собора.
Удача Нестерова в двух иконостасах в приделах на хорах была так бесспорна, что комитет увидел себя вынужденным поручить ему написать образа в двух боковых иконостасах главного алтаря собора – так называемых жертвенника и диаконника.
У Нестерова как будто не было на этот раз сомнений – брать или не брать этот большой заказ: он уже втянулся в соборную работу, тем более что новый заказ свидетельствовал о победе его над предубеждениями комитетских и иных «отцов» и профессоров.
«Это последняя живописная работа в храме, – писал Нестеров Турыгину 9 мая 1893 года. – Она очень ответственная по своему видному положению (внизу) и по соседству с главным иконостасом, исполнением которого занят В.М. Васнецов. Я гляжу на эту работу серьезно и постараюсь отнестись к ней со всей искренностью и простотой художественного чувства».
В числе святых, назначенных комитетом в эти иконостасы, не было ни одного «русского»: тут были царь Константин и царица Елена, Кирилл и Мефодий, Николай Мирликийский и др. Нестерову впервые приходилось стать лицом к византийским ликам, созданным древними мастерами мозаики и фрески. Он почувствовал живую необходимость непосредственно и документально сблизиться с великими древними памятниками христианского искусства.
«Для знакомства с древнехристианским искусством в подлинниках на месте, – писал он тогда же, – думаю поехать… в Италию. На этот раз путешествие мое начну с Константинополя, где осмотрю что следует, и через Грецию (заеду в Афины и на Афон) проберусь на юг Италии, в Сицилию (Палермо), познакомлюсь с мозаиками Монреале и др. Что нужно, зачерчу и двинусь на север, осмотрю мозаики Рима, проеду потом в Флоренцию (это моя слабость) и затем кончу Венецией и Равенной».
Этот «византийский» маршрут был в точности (за исключением заезда на Афон) осуществлен Нестеровым летом 1893 года.
Впечатления этого путешествия отражены в письмах и в альбомах Нестерова. Там и тут он остается верен цели своего маршрута: он только изредка откликается на прямые впечатления жизни и природы и, наоборот, с упорною пристальностью всматривается в раннехристианские византийские памятники, вслушиваясь в их суровую речь, уясняя себе их строгий язык.
София Царьградская вызвала у Нестерова восклицание: «Тут небо сильною рукою опущено на землю. Это теперь: что же было тогда, при Юстиниане??!!» Через несколько десятилетий Нестеров не переставал восхищаться смелостью и благородством сочетания цветов в мозаиках Софии и тем полнейшим совхождением искусств одно в другое, которое заставляет воспринимать Софию как безмолвную музыку: «Здесь все приведено в такую дивную гармонию, торжественную, простую, великолепную. Уходя из храма, я чувствовал, что на предстоящем пути своем я не встречу ничего равного только что виденному».
За великой Софией последовала Малая София, бывшая церковь Сергия и Вакха, бывший храм Федора Студита и другие бывшие христианские храмы.
Начиная с этих храмов Нестеров поставил себе за правило зарисовывать в альбомы карандашом и акварелью все, что могло служить в подмогу его будущим работам во Владимирском соборе. Все эти «византийские» акварели пропали, но один из карандашных альбомов сохранился. Он может служить образцом художественной добросовестности. Вот, например, зарисовка изображения Христа с мозаики Фехтие Джамис. Она сделана карандашом, но художник заботливо обозначил все красочные элементы мозаики: «волосы светлые»; одежда – «красно-коричневый» хитон, «лиловый» гиматий; нимб вокруг головы Христа – «золотой», с «красной каемкой», с «серебряным» крестам. Видно по всему, что художника интересует цветовая гармония мозаик; он стремится определить излюбленные красочные тональности древних художников и тут же пытается выяснить для себя, каких красочных сочетаний они избегали как приводящих к цветовой какофонии. На одной из страниц альбома встречаем попытку обобщающего наблюдения:
«Цвета византийские. Белый. Розовый (иногда красноватый). Синий. Зеленый. Коричневый (кофейный). Все бледное».
Со страниц альбома Нестерова глядят десятки ликов и лиц с мозаик Царьграда, Палермо, Монреале, Чефалу, Рима, Равенны с такими отметами, по которым художник мог возобновить в памяти всю колористическую «плоть» этих изображений. Вместе с тем альбом переполнен зарисовками древних одежд, обуви, венцов, оружия, крестов, окладов, книг, хартий, бытовой утвари, зданий, колонн, окон, орнаментов и т. д. Художник как бы не доверяет своей памяти и заносит в альбом все, что может понадобиться при предстоящей работе.
14 июля 1893 года Нестеров писал в Уфу из Палермо:
«Со дня на день убеждаюсь, что эта поездка в Италию не будет похожа на первую, где не было ни задач каких бы то ни было, ни ответственности перед собой; ездил, наслаждался и отдыхал. Теперь другое дело: я не только что пе отдохну и не в состоянии простодушно радоваться, но, нагружая себя виденным, я еще больше устаю и с наслаждением предаюсь мечтам об отдыхе, который, кажется, будет необходим, хотя кратковременный. Ну да это видно будет!..»
Нестеров неустанно изучал тогда древнехристианское, византийское и итальянское искусство, и вряд ли какой другой русский художник его времени обладал к концу жизни таким творческим знанием этого искусства, каким обладал Нестеров. Я говорю – творческим знанием, потому что археологический и искусствоведческий подход к древнему искусству был органически чужд Нестерову. Перед картиной Рафаэля или перед остатками мозаик в Кахрие Джамис (храм Федора Студита), перед обломками архаической скульптуры в Афинах или перед Христом в Монреале – он всюду стоял художник перед художником; он ждал прямой, непосредственной связи с данным созданием художника, все равно нового или древнего.
Археологи и искусствоведы всегда казались ему похожими на «следователей по делам искусства», вынуждающих показания у художников и у их произведений. Показания эти он редко принимал на веру, хотя читал их не без любопытства, если следователь был талантлив и опытен, как Тэн.
После мозаик Константинополя и Дафни (близ Афин) Нестерова особенно привлекли мозаики Палермо.
«Пошел по соборам, – писал от оттуда Турыгину 12 июля. – Католический блеск и роскошь барокко в связи с пошлой банальностью живут в Италии всюду и дружно. И это надо не замечать с первых же шагов».
Это было правилом Нестерова, применявшимся им к древнему и к новому искусству. Он умел «замечать» лишь то, в чем видел отблеск вечности, или же то, на что не падала унылая «тень века сего», где не потух еще свет иных, более счастливых веков.
Сильнейшее впечатление произвела на него в Палермо Капелла Палатина (XII век):
«По великолепию своих мозаик и архитектуре деталей лучшего мудрено придумать; тут что ни капитель, то шедевр, что ни орнамент, то строгая, высокая красота. Мозаики лучшие по технике и разработке сюжета. Тут творение мира и человека, Ветхий завет и жизнь аи. Павла трактованы просто, ясно и с увлечением (конечно, при полной примитивности форм). Здесь, быть может, сила Византии сказывается более ярко, чем где-либо из виденных мною остатков этого искусства…»
Сильное впечатление вынес Нестеров и от древней церкви Мартерано, от собора в Монреале и от мозаик в городе Чефалу (все того же XII века).
Из Сицилии Нестеров переехал в Рим.
Сикстинская капелла, Рафаэль, Микеланджело, Веласкес – все снова привлекло к себе Нестерова, и он снова бросил свое сольди в фонтан Треви, благодаря за то, что вернулся в Рим, и запасаясь надеждою, что вернется вновь «в Рим, в этот мудрый и хороший город-старец».
Но работал на этот раз Нестеров не в музеях и картинных галереях, а в древних базиликах с мозаиками.
Судьба свела его в Риме с одним из знатоков христианского искусства ранних веков, Д.В. Айналовым. Ученый сдружился с художником и стал его проводником по христианскому Риму. 22 июля Нестеров писал домой:
«Все время отдыха работаю с фотографий Айналова, снятых им в Париже, с знаменитой Парижской библии.[20 Айналов, узнавши, что я тот самый, который написал «Отрочество Сергия», оказался большим моим почитателем, и мы теперь все свободное время проводим в разговорах. Он мне многое поясняет, и, словом, это знакомство в Риме для меня клад».
Нестерову предстояло писать во Владимирском соборе царей Константина и Елену и славянских первоучителей, Кирилла и Мефодия. Художник был озабочен найти их византийские прообразы. В небольшой церкви С. Куатро Коронати Нестеров нашел фрески из истории Константина Равноапостольного, а мозаика в С. Пуденциана была для него, по его словам, «важна, как единственный исторический документ, дошедший до нас о Иерусалиме времени Константина Великого и о том кресте, который воздвиг этот император на Голгофе». В церкви Св. Климента Нестеров нашел «фрески», где изображены Кирилл и Мефодий (это единственное, что осталось о них в искусстве).
Но никакая удача с поисками «документов» для будущих композиций на византийские темы не увлекала Нестерова так, как чисто живописные впечатления от древних мозаик. Он не выходил из церкви С. Мария Маджиоре: в этой древней церкви (IV в.), «одной из блестящих базилик Рима, сохранилась, кроме абсиды, еще серия мозаик из библейской истории, чудных по колориту; такого подбора цветов, их гармонической комбинации мне еще не удалось видеть. Они напоминают мне и служат как бы прототипом, в смысле красок, живописи Веронеза и Тициана».
Из Рима Нестеров проехал в любезную его сердцу Флоренцию, и у него «целая неделя прошла в Уффицциях и монастырях». Там вновь благоговел он пред Джотто: ради него съездил в Пизу и рада его же фресок в капелле дель Арена заехал в Падую, возвращаясь из Равенны.
«Быть может, в Италии нет города, равного Равенне, где бы Византия была выражена в такой совершенной форме, хотя теперь все это здесь запущено (не то, что в Палермо). Лучшее из всего виденного здесь мною – это церковь, выстроенная наподобие св. Софии Константинопольской – св. Виталия: там в алтаре, на боковых его стенах сохранились мозаики, изображающие царственных особ того времени с их свитой…»
Венецией с ее мозаиками св. Марка закончилось второе путешествие Нестерова по Италии.
Что увозил Нестеров с собою в Россию?
Из Италии он увозил па этот раз Византию в ее живом искусстве. Из Равенны Михаил Васильевич писал приятелю-художнику:
«В «Византии» я увлекаюсь не тем, чего нет вовсе или что было, но тем, что есть и в неприкосновенности дошло до нас, – я увлекаюсь заложенной туда живучей силой, которая только случаем была приостановлена в своем развитии… Верю в ее будущность, как и в будущность серьезной и творческой силы русского народа, в судьбе которого есть общие мотивы с Византией».
Нестеров уезжал из Италии, как четыре года тому назад, с вновь подтвержденной, с еще более окрепшей верой в Россию и в ее высокий творческий жребий в мировой культуре. Ее искусству – так верил теперь Нестеров – суждено в будущем принять на себя продолжение великого художественного дела Византии и Италии. В этой ответственнейшей работе, предстоящей русским художникам, Нестеров видел и свою долю труда и ответственности.
Зиму 1893/94 года Нестеров отдал работе над нижними иконостасами Владимирского собора. Четыре «византийских» образа первого из новых иконостасов были приняты, как ни одна из предыдущих его работ.
Некоторое сомнение таилось лишь у самого Нестерова. «Приняты они единогласно, – сообщал он в Уфу про своих «византизированных» святых, – замечаний тоже не было сделано никаких, но я сам по приезде и в иконостасах, когда будут готовы бронзы, пройду их еще раз».
Всмотримся в образ «Константина» и «Елены», для которых Нестеров много работал и в Италии, и в Киеве. Иконографическая «документальность» их вне сомнения. Художник мог бы представить оправдательные документы к композиции образов, к построению самых фигур византийских императора и императрицы и к каждой детали их одеяния. Этими оправдательными документами послужили бы и фотографии с древних мозаик, вывезенные из Константинополя и Италии, и зарисовки акварелью и карандашом в альбомах, и советы и указания такого византиниста с европейским именем, как Айналов.
Эту византийскую «документальность» лиц, одежд, деталей пейзажа Нестеров постарался привести в некую «иконность», которой вовсе лишены были «Борис» и «Глеб». «Константин» и «Елена» – это лики, а не лица, как у нестеровских юных князей. Тут нет вообще личных чувств, нет внутренних движений сердца, отображающихся на человеческом лице. Холодность и сухость – то, что менее всего свойственно Нестерову, – явно преобладают в этих его образах. Чувствуется самопонуждение художника писать по «документам» большого монументального стиля, но тут же ощущается и невозможность для него писать по этим древним «документам».
В результате новые образы – «Константин и Елена, Кирилл и Мефодий» – оказались весьма далеки по форме и стилю от тех мозаик, которыми Нестеров любовался в Италии, но еще дальше оказались они от творческого духа самого Нестерова. Ближе всего подошли они к тому, что многие, с Праховым во главе, принимали тогда за возрождение византийского искусства в России, – к «византизированным» угодникам Васнецова, наполнившим Владимирский собор.
Именно отсюда проистекал успех новых нестеровских работ у Прахова и «отцов» и профессоров комитета.
Однако Нестеров рано почувствовал, что не все благополучно у него с его «византизированными» святыми.
Словно испугавшись той холодности и сухости, к которым привело покорное следование византийским «документам», Нестеров, приступая ко второму иконостасу «диаконника», поспешил вернуться к человеческим документам. «Буду делать рисунки с натуры к «Арсению» и «Филарету», – писал художник на родину 12 февраля 1894 года. Когда же очередь дошла до образа «Великомученицы Варвары», натура до того одержала верх над византийским «документом», что привела Нестерова к резкому столкновению с комитетом.
С великомученицей Варварой связана одна из самых поэтических легенд раннего римского христианства: «Невеста Христова прекрасная», Варвара в юных годах была усечена мечом по воле ее отца, ярого язычника, возненавидевшего дочь за любовь к Христу.
В первоначальном эскизе, рассказывает Нестеров в записках, «я ее (Варвару. – С.Д.) изобразил на коленях, около нее меч, на главу ее в сиянии нисходит венец мученический. Но на заседании было постановлено, чтобы я изменил Варвару, сделал фигуру стоячей, убрал мученический венец и проч.».
«Пришлось подчиниться, – вспоминает Нестеров, – но я все же членам комитета, его председателю высказал, как тяжело мне расстаться со своей мыслью».
Все дело теперь сводилось для художника к лицу Варвары, здесь художник решил идти от живого, дорогого ему человеческого лица.
На одном из рисунков Нестерова, изображающем голову молодой девушки с некрасивым, но внутренне прекрасным чисто русским лицом, с густыми темными волосами, с лучистыми глазами, устремленными ввысь, находим подпись: «94. Киев. Е.А. Прахова».
Про Елену Адриановну Прахову Нестеров писал Турыгину 2 июля 1897 года: «Это прекрасная девушка, с которой я взял когда-то тип своей великомученицы Варвары и был недалек от того, чтобы влюбиться в нее и связать ее судьбу со своей».
Карандашный рисунок с Е.А. Праховой – первый эскиз головы «Варвары».
Нестеров отдался работе с радостным увлечением. На написание «Варвары» потребовалось менее месяца.
9 апреля 1894 года Нестеров писал отцу: «Великомученица Варвара» нравится… и я думаю, что все же это мой лучший образ в соборе…» После документальных «византийцев», весьма схожих с «угодниками» Васнецова, он почувствовал, что вновь нашел Нестерова в «любезной Варваре».
Мнение художника вовсе не разделил комитет, нашедший в «Варваре» забвение православных догм и византийских канонов.
Пошли обвинения в том, что Нестеров вместо иконы св. Варвары написал «портрет Лели Праховой». В кампанию против «Варвары» вступила генерал-губернаторша, графиня Игнатьева, будущая хозяйка известного контрреволюционного черносотенного салона эпохи 1905 года. Предводительствуемые ею губернские дамы, как рассказывает О.А. Алябьева, сестра Праховой, подняли истеричный вопль:
– Не хотим молиться на Лелю Прахову!
Как передавал мне Нестеров, вице-губернатор Федоров, стоявший тогда во главе комитета и хорошо относившийся к Нестерову, вынужден был передать ему, что комитет требует переписать голову Варвары, уничтожив сходство с Е.А. Праховой.[21 Нестеров вспоминал:
«Голова св. Варвары… была ненавистна киевским дамам, и они добились, чтобы меня вынудили ее переписать. С огромным трудом удалось Васнецову уговорить меня сделать эту уступку… Конечно, голова Варвары после этого потеряла то, что меня в ней радовало. Это была самая крупная неприятность, какую я имел за время росписи Владимирского собора».
Для того чтобы вознаградить себя за горечь насилия над любимой работой, Нестеров летом того же 1894 года задумал написать картину по первоначальному замыслу «Варвары». Как бы в отместку киевским судьям Нестеров сделал легенду еще легендарнее: усеченная глава Варвары покоится на земле, и широко раскрытые очи ее блаженно взирают на небо, а коленопреклоненное тело Варвары в белых одеждах еще продолжает простирать руки навстречу мученическому венцу, ниспускающемуся с высоты. Некий юноша с благоговением дивится этому «чуду», происходящему на фоне горного южного пейзажа.
Картине этой Нестеров дал название «Чудо», и на этот раз оказался он, быть может, ближе, чем когда-либо, к английским прерафаэлитам и Пювис де Шаванну.
Ни над одной картиной он так долго и упорно не работал, как над «Чудом»: работа – с большими перерывами – заняла двадцать семь лет. Написанная в Уфе летом 1895 года, картина не выходила из мастерской художника вплоть до 1898 года, и там же встретил ее большой успех у художников. Правда, В.А. Серов, по словам Нестерова, «от «Чуда» пришел в ужас», но зато «Чудо» понравилось Левитану, зато Васнецов, также по словам автора, «хвалил вещь как-то преувеличенно», а про И.С. Остроухова, далеко не благоволившего тогда к Нестерову, художник вспоминал: «Остроухов сказал, что «Чудо» – моя лучшая вещь, прибавив, что ставить ее на выставку необходимо…»
Картина появилась в 1898 году на «Выставке русских и финляндских художников», организованной Дягилевым.
Картина возбудила толки, споры, возражения, но интерес к ней был так велик, что Мюнхенское художественное общество «Secession» пожелало выставить «Чудо» на ближайшей весенней своей выставке. Перед отправлением картины в Мюнхен Нестеров вновь и немало поработал над нею.
Из Мюнхена картина Нестерова переехала в другой художественный центр Германии – в Дюссельдорф, – и ее сопровождал тот же успех.
Этот успех «Чуда» повторился в 1900 году в Париже, на Всемирной выставке: там Нестеров получил за эту картину и за картину «Под благовест» серебряную медаль. Но чем более рос успех картины, тем строже относился к ней художник: он вновь работал над нею. В 1923 году, когда решено было везти «Чудо» на выставку советских художников в Северную Америку, Нестеров писал Турыгину: «Я даю переписанное «Чудо» под названием «Святая Варвара»; теперь и прежде разница та, что прежде у Варвары голова валялась на земле, сейчас она на плечах; а тебе из опыта известно, что куда лучше, когда голова на плечах». Но и эта «перепись» картины заново, с резким усилением в ней реалистического элемента, не удовлетворила художника.
В конце концов автор картины вынес ей обвинительный акт: на мой вопрос о судьбе «Чуда» Михаил Васильевич отвечал (22 июля 1942 года):
«После американской выставки картина была мною уничтожена, и на ее холсте в разное время написаны небольшие этюды. Этим все и кончилось». От картины уцелели лишь фигура юноши и голова Варвары.
А к «Варваре» Владимирского собора, несмотря на порчу ее по воле комитета, Нестеров не охладел до конца: «Великомученица Варвара» осталась одною из любимейших его вещей.
Именно в «Варваре», где Нестеров вновь явился Нестеровым, сказался подлинный след его византийских впечатлений от Италии. В Равенне, в древней базилике Аполлинария Нового, на Нестерова особое впечатление произвели мозаики VI века. Он зарисовал их акварелью. Он признавал, что именно Равенна принесла ему большую пользу: в ее ранних мозаиках, по его словам, «все необыкновенно жизненно, нет ничего условного, как на мозаиках последующих веков».
И след Равенны в том и сказался на «Варваре», что, не подчиняясь никакой археологии византийского «документа», Нестеров в этом древнем искусстве простой веры и жизненного чувства нашел поддержку своим стремлениям внести правду чувства и прекрасной простоты в окаменевшую область религиозной живописи. Там, где, по-видимому, Нестеров был дальше всего от византийских «документов» – в «Варваре», – там оказался он ближе всего по духу к простым и светлым образам воистину древнего и воистину юного искусства Византии.
Равенна – и вообще художественная Византия – вложила в Нестерова мало сказать любовь, но настоящую ревность к строгой форме, к рисунку, монументальному в своей лаконической выразительности, строгости и законченности, она дала ему веру в то, что в любой, самой строгой форме стенописи и иконы можно быть искренним по чувству, свежим по жизненности красок, поэтичным по их внутреннему звучанию. В поздние годы Нестеров писал, вспоминая о византийской своей поездке в Италию, и о ее отображении в его работах: «Много я видел, многому научился, а если не сумел применить виденного так, как потом оказалось, то, значит, или еще не пришло время, или вообще, как часто я думал потом, я не был монументальным храмовым живописцем, оставаясь с самых первых картин своих художником станковым, интимным, каким некоторые меня и до сих пор считают».
Васнецов, напротив, считал Нестерова художником-монументалистом и «иконописцем», для которого, как для художника русского, обязателен не только византийский стиль, но и православно-археологический документ этого стиля.
Васнецовский религиозный стиль «был результатом реакции против станковизма, натурализма и светскости в религиозном искусстве. Васнецов искал опоры для своих опытов нового стиля в канонических традициях Византии и древнерусского искусства. Это был путь сознательной стилизации, может быть, более тщательной и выдержанной, чем раньше. Но Васнецов не мог до конца освободиться и от тенденций позднего академизма, и от чисто передвижнического реализма. Равнодействующей всех этих сил оказался типичный стиль модерн, характерный не только для Васнецова, но и для целой полосы новейшего искусства, русского и европейского.[22 Нестеров рано почувствовал всю опасность для него этого «васнецовского стиля».
Н.Н. Евреинов передает позднейшее признание Нестерова:
«А каких вообще усилий мне стоило потом освободиться от влияния Васнецова!»
Когда собор был окончен, вспоминал Нестеров уже в советские годы, «впереди открывались два пути! стать присяжным иконописцем, на что меня утверждал Васнецов, или, оставив храмовую роспись, заняться станковой живописью, вновь принять участие на выставках, к коим я никогда не имел особой склонности. Пришлось подумать, прежде чем остановиться на чем-нибудь. Я решил, что стану брать церковные заказы, не увлекаясь ими, вместе с тем буду писать картины на любимые темы».
Решение действительно было принято тогда то самое, какое указано в этих строках: еще в течение целых восемнадцати лет (1896–1914) Нестеров работал в храмах и для храмов, но и «подумал» Нестеров тогда действительно серьезно о своем творческом будущем и много положил сил на борьбу за его независимость.
Об этом свидетельствуют многие замечательные факты этих же лет его творческой жизни.
Еще в самом начале работ во Владимирском соборе, 14 февраля 1891 года, Нестеров писал сестре:
«…Я не могу обмануть себя и вижу яснее, чем нужно, свои силы. До сего дня я был и есть лишь отклик каких-то чудных звуков, которые несутся откуда-то издалека, и я лишь ловлю их урывками… истинный художник есть тот, кто умеет быть самим собой, возвыситься до независимости. В недавнем письме Соловьева к Виктору Михайловичу… он замечает в ободрение Васнецова, что у него есть уже последователи и именно – «Нестеров». Признавая гений Васнецова, колоссальное его значение в будущем, я могу лишь признать себя подражателем его относительно, в той же мере, как я подражаю Фраическо Франча, Боттичелли, Беато Апджелико, Рафаэлю, Пювис де Шаванну, Сурикову п не более, но никак не исключительно Васнецову. И последователь его я лишь потому, что начал писать после него (родился после), но формы, язык для выражения моих чувств у меня свой, и чувства эти исходят не из подражания Васнецову или кому-либо, а из обстоятельств, которые предшествовали моей художественной деятельности. Удастся ли что сделать в жизни действительно творческо е – вопрос остается открытым…»
Приведенное письмо поражает остротой и глубиной самопознания, обнаруженного здесь молодым художником.
Его искусство только еще начинает встречать первое признание в обществе и в литературе, а он уже предчувствует те опасности, которыми грозит оно ему.
Примечательно, что, называя таких художников, как Франческо Франча, Рафаэль и Пювис де Шаванн, Нестеров присоединяет к ним Сурикова: так ему дорого могучее, реалистическое касание этого художника к великому миру русской истории. И тут молодой художник вполне прав: в конце концов, ближе всего к Нестерову из его современников-художников был именно Суриков.
Но, быть может, самое замечательное в этом замечательном письме – это глубокая, искреннейшая неудовлетворенность Нестерова всем, что уже сделано им в живописи и что уже принесла ему известность. «Пустынник», «Отрок Варфоломей», работы во Владимирском соборе – это все еще только предвестия того, что ему хочется сделать, все это только лишь предчувствие того, что еще должно ему создать.
С суровой правдой самопознания молодой Нестеров ставит открытым роковой для него вопрос: «удастся ли что сделать в жизни действительно творческое?».
Вот борьбу за это «действительно творческое» Нестеров ведет и в эти молодые свои годы, и он не покидает борьбы за «действительно творческое» до последнего дня жизни, до конца оставаясь верен своему обету – сохранить за собою свободу творчества.
Отрадно и поучительно следить за перевалами этой трудной борьбы в годы, когда известность и слава церковного иконописца сама шла к художнику-живописцу Нестерову.
Всего через семь дней (21 февраля) после замечательного письма к сестре Нестерову вновь пришлось писать на родину: «Старики Терещенко строят в своем родном городе Глухове собор. …они порешили ввести туда хорошую живопись, – конечно, сейчас к В.М. Васнецову, но ему и некогда, да и вообще хочется отдохнуть. Он отказался… И теперь несколько раз Васнецов заговаривал об этом деле со мной, так, стороной и издалека, но я, слава богу, в себе имею благоразумие отклонять столь лестные предложения.
Это и правда так: при таком малом и неглубоком интересе к этому делу можно превратиться из маленького, но искреннего художника в большого ремесленника, «сих дел мастера».
Этого одного письма было бы довольно, чтоб навсегда заградить уста тем, кто, по примеру Александра Бенуа, готов был обвинять Нестерова в том, что из-за материальных благ и широкой известности он отдался безудержно «расписыванию соборов», изменив станковой живописи.
Отказ от Глухова Нестеров всегда считал своим счастьем и, наоборот, считал несчастьем участие свое в украшении храма Воскресения в Петербурге. Он радовался лишь тому, что удержался от согласия принять широкое участие в работах в этом храме, построенном в убогое подражание великолепному московскому Василию Блаженному. Участие Нестерова ограничилось лишь написанием образов – Воскресения и Александра Невского – и шести эскизов для стенописи внутри и снаружи храма.
Для Нестерова был свой художественный интерес работать для храма Воскресения: его образа и эскизы стенописи назначены были к исполнению мозаикой.
Эскизы стенописи были приняты комиссией с большими похвалами, а участвовавший в принятии образов Чистяков, учитель Васнецова, Поленова, Репина, Врубеля и Серова, «особенно ратовал» за Нестерова.
Но похвальному отзыву Чистякова об образах храма Воскресения Нестеров не поверил. Он считал работы свои в этом храме слабейшими из всего, что писал в церквах и соборах. В этих образах и эскизах, пожалуй, больше всего проявилось влияние Васнецова.
Еще в самый разгар работ во Владимирском соборе – весною 1893 года – завели речь об участии Нестерова в росписи православного собора в Варшаве.
Участие в Варшавском соборе было именно тем случаем, когда искусство требовалось правящим сферам только как средство «пропаганды». Таким средством Нестеров быть не хотел. Почти через четверть века он писал:
«…Я, занятый росписью дворцовой церкви, построенной Георгием Александровичем в Абастумане, имел полное основание уклониться от варшавского заказа. О чем никогда не сожалел».
Осенью 1895 года Нестеров получил приглашение принять участие в художественных работах в соборе св. Софии в Новгороде. Его звал туда археолог-архитектор В.В. Суслов, заведовавший реставрационными работами.
«С Сусловым тоже, конечно, кончилось ничем», – писал Нестеров Турыгину 14 августа 1895 года: он не согласился на условия Суслова.
Это несогласие делает честь Нестерову. Реставрация знаменитого памятника древнерусского искусства велась на глубоко ложных основах и вызвала в свое время на Суслова резкие обвинения в порче древней стенописи. Приглашенным Сусловым вместо Нестерова художникам А.П. Рябушкину и В.И. Навозову также пришлось устраниться от росписи: художники представили эскизы, но они были отвергнуты по настоянию Победоносцева, и роспись Софии была передана артели иконописцев Н.М. Сафонова, что и привело к плачевным результатам.
В год освящения Владимирского собора Нестеров отказался от предложения написать образа иконостаса для собора в Баку, а несколько позже отказался он от росписи большого приходского храма Казанской Богоматери в Москве.
Все эти «заказы» и «отказы» произошли в течение пяти лет; большинство «заказов» дано и «отказов» послано еще в то время, когда художник работал во Владимирском соборе.
Столь многочисленные отказы художника от новых работ с полной ясностью удостоверяют, с каким зорким вниманием относился Нестеров к художественной выполнимости этих заказов, заранее учитывая все условия – отнюдь не денежные, при которых придется ему работать.
И то, что в последующие годы ряд церковных заказов был им принят и исполнен, означало лишь то, что художественный, чисто творческий интерес их в те годы был для художника значителен или даже велик.
С таким первоначально живым интересом отозвался Нестеров на предложение расписать церковь Александра Невского в Абастумане.
В январе 1899 года Нестеров узнал из письма вице-президента Академии художеств графа Толстого, что наследник русского престола цесаревич Георгий Александрович выразил непременное желание, чтоб Нестеров расписал церковь во имя Александра Невского, построенную Георгием Александровичем в Абастумане, где, больной туберкулезом, он жил безвыездно.
Лишь в марте Нестеров выбрался туда с папкою первых эскизов. Эскизы без малейших замечаний были одобрены заказчиком. Художнику предоставлялась полная свобода в росписи храма. Не было ни комиссий, ни духовных цензоров. Не назначалось никаких сроков. Все дело отдавалось на творческую волю художника. Храм, который предстояло расписать, полюбился художнику: построенный архитектором Симонсоном из местного камня красивого горчичного оттенка, он радовал своими строгими формами в духе древней грузинской архитектуры. Стены по внутренним пропорциям были очень удобны для росписи. Поездка в селение Зарзма к остаткам древнего храма, послужившего прототипом для Абастуманского, вызвала в русском художнике изумление пред чудесами древнегрузинского искусства. Четверть века спустя Нестеров вспоминал: «Пред нами предстало чудо не только архитектуры, но и живописное чудо. Храм весь был покрыт фресками. Они сияли, переливались самоцветными камнями, то синими, то розовыми или янтарными. Купол провалился, и середина храма была покрыта снегом… Погибла дивная красота».
Нестеров горячо отстаивал перед цесаревичем необходимость спасти этот храм от разрушения, и именно Нестерову обязан этот прекрасный памятник древнегрузинского искусства тем, что были отпущены средства на его восстановление.
У Нестерова быстро созрел колористический план абастуманской росписи. Художник, по его словам, увидел во дворце «большой кинжал в ножнах слоновой кости, с дивной золотой инкрустацией; этот кинжал дал мысль покрыть Абастуманскую церковь тоном старой слоновой кости и по нему вести золотой сложный грузинский орнамент».
В своих художественных замыслах Нестеров далеко уходил от Владимирского собора и храма Воскресения, и это окрыляло его.
Заказчиком было высказано лишь одно пожелание: чтобы художник ознакомился с архитектурою и росписью древних грузинских церквей. Но Нестеров и сам, после поездки в Зарзму, рвался познакомиться с фресками и мозаиками Гелатского монастыря, храма в Мцхете, Сафарского монастыря, Сионского собора в Тифлисе.
Искусство Грузии предстало ему могучим, смелым, неувядающе молодым, подлинно народным, но вместе с тем и глубоко родственным великому монументальному искусству Византии, средневековой Италии и Киевской Руси. Этот вновь открывшийся перед Нестеровым мир величавой и светлой и вместе родственной красоты пробуждал в нем творческие замыслы, далекие от криков художественной моды.
На этот раз Нестеров, казалось, был полновластным зачинателем и свершителем большой художественной работы, радовавшей его новыми творческими перспективами, хотя и страшившей своими размерами: в истории русской живописи XVII–XIX веков не было примера, чтобы роспись целого обширного храма была делом рук одного художника.
Но в конце июня того же 1899 года внезапно умер Георгий Александрович, и, несмотря на то, что Нестерову свыше было заявлено: «Воля почившего будет выполнена до конца», – положение художника сильно изменилось: ему пришлось в течение многих лет постоянно отрываться от своей художественной работы на борьбу с придворными интригами, хищниками и ворами. На завершение работ в Абастумане Нестерову понадобилось вдвое, если не втрое, больше времени, чем он предполагал: на Абастуман ушло до шести лет работы.
Художественные замыслы Нестерова были свежи и смелы.
В своем «новом стиле» Нестеров хотел сохранить веянье грузинских мозаик и фресок, сверкающих самоцветами, но только веяние. Нестеров сохранял за собою свободу композиции и независимость красок от церковно-археологического «документа» византийской и грузинской старины. «Я не археолог и не реставратор», – упорно повторял он и еще упорнее настаивал на праве вносить свое чувство, свое «лирическое волненье» в образы святых, уводя их из застывших норм иконографического канона.
Задача поисков «нового стиля» была необычайно трудна сама по себе – она осложнялась еще тем, что Нестерову пришлось вступить в работу архитектора: заново готовить стены под роспись.
Весною 1902 года, когда в храме помощниками Нестерова[23 писались орнаменты по фону слоновой кости и шла их инкрустация золотом, мастера заметили, что по грунту стали выступать темные капли на фоне матово-белых с золотом стен. Это было следствием злоупотреблений и хищений при постройке храма: стены под живопись были загрунтованы по штукатурке на плохой, дешевой олифе.
Нестеров был человек решительный. Он написал обо всем в Петербург великому князю Георгию Михайловичу и графу Толстому, а в «качестве вещественного доказательства» послал несколько аршин грунта с позолоченным на нем сложным грузинским орнаментом. Грунт этот при малейшем прикосновении к нему ножа отставал от стен лентами.
Нестеров предложил на выбор: или все дело подготовки стен под живопись поручается ему одному, или он навсегда покидает Абастуман. В ожидании ответа он уехал в Москву.
Условия Нестерова были приняты.
Нестеров самолично закупил в Москве весь материал для новой загрунтовки и сам руководил работами по загрунтовке в Абастумане. Теперь стенной грунт стал прочен, как камень.
Явилась возможность вплотную приняться за роспись храма, но тут обнаружилась новая беда.
1 октября 1902 года Нестеров писал Турыгину:
«Купол, который Свипьин и Луценко перекрывали и сорвали там тысяч до 40 или более, с появлением осенних дождей протекает, протекает основательно, и работать в нем нельзя».
В Абастуман спешно приехал архитектор Свиньин.
«И те же господа, – негодовал Нестеров, – снова возьмутся за третье перекрытие, схапают снова, и снова, думаю, будет протекать по-старому».
Свиньинские починки купола, как и предвидел Нестеров, ни к чему не повели – купол продолжал протекать.
Но Нестерову несвойственно было отступать в борьбе за любимое дело. Ему удалось разоблачить архитектора Луценко, присланного Академией художеств, но покрывавшего хищения Свиньина.
Не доверяя больше никому, Нестеров на свой страх вызвал в Абастуман молодого архитектора А.В. Щусева, недавно окончившего Академию художеств. Щусев быстро обнаружил то, над чем ломали голову его предшественники: оказалось, снаружи купола, у креста, была небольшая щель, через которую вода просачивалась в пустотелый кирпич, из которого был сложен купол. Щусев посоветовал сделать вокруг креста медную воронку, плотно припаяв ее к кресту, а купол из пустотелого кирпича пробить в нескольких местах, чтобы выпустить оттуда воду. Из купола вылилось несколько ведер воды, а с устройством медной воронки течь прекратилась.
Борьба Нестерова с хищниками и интриганами длилась вплоть до окончания художественных работ в храме.
Из этой борьбы Нестеров вышел победителем. Но вышел ли он победителем из чисто творческой борьбы за «новый стиль»?
Храм посвящен Александру Невскому, одному из любимейших героев русского народного предания.
Образ мудрого защитника русской земли, победителя шведов на Неве, немецких рыцарей на льду Псковского озера, был одним из любимейших образов Нестерова.
Еще в 1894 году, работая над образом Александра Невского для храма Воскресения и чувствуя в первоначальных эскизах влияние Васнецова, Нестеров старался высвободить любимый образ из васнецовского трафарета «благочестивых князей». Как всегда, он искал русского князя-воина давних лет в русском же человеке современности. «Я нарисовал голову одного монаха молодого, родом ярославца, – пишет он 10 апреля 1894 года, – с него как будто списаны те св. князья, которые видны и теперь еще на стенах соборов ярославских, углицких и пр. Голова эта, хотя и спешно нарисованная, пригодится мне для «Александра Невского».
Она действительно пригодилась. На образе в храме Воскресения князь Александр представлен в цветущем мужестве, в расцвете воинской доблести, которую принуждены были признавать даже его враги.
В Абастумане Нестеров дал в стенописи вариант этого образа Александра Невского. Но на северной стене храма он развернул большую картину «Кончина Александра Невского». Выбор темы принадлежал самому художнику. Смерть Александра Невского в 1263 году в Городце, на Волге, на возвратном пути из Орды, была горестным событием для всей Руси. В Александре народ оплакивал защитника русской земли – мужественного на ратном поле и мудрого в мирном ее устроении.
Нестеров выбрал тот момент кончины Александра, который ярко передан в летописи. Княгиня с княжною, духовные, бояре, юноша дружинник в горести ожидают часа, когда «закатится солнце земли Русской». Лишь сам Александр мудро и тихо встречает свой закат, обращаясь к плачущим с увещанием (по летописи): «Не сокрушайте души моей жалостею».
Словно вняв этой предсмертной просьбе своего героя, Нестеров изображает его кончину с «печалью светлою». Это достойный эпилог мудрой и доблестной жизни, которой суждено вечно жить в памяти народа. Умирающий князь хотя и облачен уже в черные одежды схимника, но кругом него – свет и бодрость. В горнице празднично, как в светлый праздник. Одежды княгини и бояр переливают красками, как самоцветами. Карнизы горницы и постели, подоконницы, покров на постели, одеяния дружины – все покрыто ярким цветным узорочьем. Вся картина выдержана в бодрых, смелых красках – точно заря новой жизни, трудами Александра, уже занялась над Русью. Нестеров, подобно слагателям сказаний об умершем герое, в самом тоне – или колорите – повествования, светлом, солнечном, звонком, сумел выразить народное упование, что герой и по смерти будет жить в радости своего народа.
Такой красочной, народной иллюстрацией к народному сказанию о жизни и подвигах Александра Невского кажется эта стенопись Нестерова. В этом ее достоинство и в этом, быть может, ее недостаток. Достоинство потому, что она подводит зрителя к исконному народному представлению об Александре Невском как о живом лице русского историко-героического предания. Недостаток потому, что по стилю своему она превращается в иллюстрацию древней рукописи, переведенную на стену храма.
К «Кончине Александра Невского» примыкают изображения князя Владимира, княгини Ольги, князя Михаила Тверского, Сергия Радонежского – это также как бы образы-памятники героической эпохи русского прошлого.
И наоборот, на той стене, где «Кончина Александра Невского», мы встречаем «Моление о чаше» и «Голгофу», где художник искал совсем иное – новое для себя.
20 января 1900 года Нестеров писал Турыгину: «Я много работаю над «Голгофой»; она занимает меня своей новизной; трагедия для меня – задача небывалая. Да и формы, более строгие, чем обыкновенно, дают мне немало забот». Картина появилась на XXVIII Передвижной выставке – и не произвела особого впечатления. Нестеров не был никогда художником трагедии, и в его «Голгофе» трагическое проступает лишь в пейзаже – в тяжелых, иссиня-черных тучах, низко нависших над землей, погруженной в насильственный холодный, металлический мрак. На стену Абастуманского храма Нестеров перенес «Голгофу» с картины без малейшего изменения, и там она вошла в круг изображений на евангельские темы.
Этот «евангельский» цикл – количественно самый большой в храме, Нестеров здесь недалеко ушел от того, что сам писал во Владимирском соборе.
В левом боковом приделе художник изобразил «Явление Богоматери Равноапостольной Нине», просветительнице Грузии.
Это дань грузинским впечатлениям, властно захватившим художника в 1899 году. По древним преданиям, проповедь христианства принесла в Грузию Нина, сестра Георгия Победоносца; Богоматерь, вручив Нине крест из виноградной лозы, напутствовала ее на проповедь христианства в Грузии.
Русский художник именно этот эпизод древнегрузинского жития Нины изобразил на своей фреске.
«Святая Нина» пришла на стены храма с этюда, сделанного на холсте с простой смертной. «Лицо Нины было не совсем обычно, – объяснял Нестеров много лет спустя историю своей фрески на пилоне храма. – Написал я его с сестры милосердия петербургской Крестовоздвиженской общины, приехавшей отдохнуть, подышать абастуманским горным воздухом… Сестра Копчевская… обладала на редкость своеобразным лицом. Высокая, смуглая, с густыми бровями, большими, удивленными, какими-то «восточными» глазами, с красивой линией рта…»
Художник-реалист – как раньше было и со святой Варварой – построил образ святой на лице простой женщины.
В Абастумане Нестерову никто не помешал наполнить стены храма многими образами женской самоотверженной любви и кроткого подвига, и, за немногими исключениями, эти образы художественно значительнее, чем образы мужские.
В Абастуманском храме Нестеров не нашел «нового стиля» для росписи. Все наиболее удачное в ней стоит в стороне от его попыток обрести новую монументальность.
Подробный анализ абастуманских стенописей и икон показал бы, что в них Нестеров стоит дальше, чем во Владимирском соборе, от древнерусского искусства фрески и иконы и гораздо ближе к исканиям английских прерафаэлитов, Пювис де Шаванна и немецких неоидеалистов.
АбаСтуманский храм произвел сильное впечатление на современников не отдельными его композициями, не найденными в нем новыми образами старых святых, а общим своим колористическим ансамблем. Нестеров выразил это впечатление, сказав, что, когда он впервые оглянул храм, освобожденный от лесов, он увидел «стройную, элегантную игрушку из слоновой кости и золотой инкрустации».
Общее впечатление от храма было – яркой праздничности и весеннего цветения.
28 июня 1903 года Нестеров писал из Абастумана Турыгину:
«В начале этой недели совсем неожиданно заявился ко мне Максим Горький с женой и двумя верными своими спутниками. Он сильно поправился, настроение хорошее, бодрое. На первых порах пошли в церковь, водил я его всюду; мое художество ему, видимо, очень пришлось по душе. Особенно же понравилась св. Нина…»
Абастуманские работы Нестерова возбудили большой интерес в художественных кругах. С.П. Дягилев, редактор журнала «Мир искусства» и устроитель одноименных выставок, отвел абастуманским эскизам Нестерова чуть не половину 3-й выставки «Мира искусства» в 1901 году.
Появление эскизов на этой выставке совершилось помимо воли художника. «Дягилев, – вспоминал Нестеров, – настаивал, чтобы я выставил у него абастуманские эскизы. Пока я над этим делом раздумывал, он добился разрешения на постановку эскизов на своей выставке у наследника Михаила Александровича, о чем и телеграфировал мне. Волей-неволей эскизы были посланы Дягилеву».
Это происшествие с эскизами было одною из причин расхождения Нестерова с Дягилевым и его «Миром искусства».
Но, несмотря на это расхождение, Дягилев в год освящения церкви в Абастумане счел нужным посвятить эскизам Нестерова 12-й выпуск «Мира искусства» за 1904 год.
Все эскизы Нестерова к Абастуманскому храму были приобретены Русским музеем в Петербурге.
В 1907 году Нестеров выставил их на своей выставке в Петербурге и Москве. Но едва ли не вскоре же после этой выставки начался строгий суд художника над своими абастуманскими работами, закончившийся суровым приговором.
Очень характерно для Нестерова, что он до конца жизни любил наезжать в Киев и посещать Владимирский собор, но ни разу не посетил Абастумана.
Он неохотно говорил в поздние свои годы об Абастумане: больше и чаще речь шла о трудных условиях, в которых пришлось там работать. О самих же стенописях и образах абастуманских Нестеров отзывался иной раз с исключительной резкостью.
«Когда я, – рассказывает Н.Н. Евреинов о своей встрече с Нестеровым в 1911 году, – похвалил одну из «Мадонн» Нестерова, Михаил Васильевич криво усмехнулся и ответил мне буквально следующее:
– Я дал бы себя высечь публично, если бы изобразил теперь что-нибудь подобное!»
Этот отзыв, сделанный всего через семь лет после окончания работ в Абастумане, несравненно резче всех критических отзывов, ими вызванных. Все упреки в отсутствии монументальности, в модернистической изломанности поз, в миловидности лиц, в жеманности манер у святых и т. д., – все подобные упреки, которые пришлось выслушать Нестерову от критиков, с избытком покрываются приведенным отзывом самого художника. В конце жизни он готов был подписаться под самым суровым приговором Абастуману.
«Абастуман – неудача полная», – сказал он мне в феврале 1926 года и этот приговор оставил без пересмотра до конца жизни.
В этот же приговор включал Нестеров и еще две свои церковные работы, совершенные в тот же период 1899–1904 годов, – работы в церкви Петра Митрополита в Новой Чартории, б. Волынской губернии, и в Гаграх, на Черноморском побережье. Этого осуждения избежали работы Нестерова в б. Марфо-Мариинской обители в Москве.
Расписать храм в любимой Москве было давнею мечтою Нестерова. Нестеров делился этою мечтою с Щусевым; молодой, малоизвестный тогда архитектор был влюблен в церковную архитектуру Новгорода и Пскова XII–XV столетий. Он мечтал построить в Москве хоть часовенку в новгородско-псковском стиле, а Нестеров мечтал расписать ее.
Мечты обоих художников сбылись.
6 сентября 1907 года Нестеров писал Турыгину:
«Еще во время выставки в Москве[24 великая княгиня Елизавета Федоровна предложила… принять на себя роспись храма, который она намерена построить при «Общине», ею учреждаемой в Москве… Я рекомендовал ей архитектора – Щусева. Теперь его проект церкви и при ней аудитории-трапезной (прекрасный) утвержден; весной будет закладка… На «художество» ассигнована сравнительно сумма небольшая, а так как моя давнишняя мечта – оставить в Москве после себя что-нибудь цельное, то я, невзирая на «скромность ассигновки», дело принял… А приняв его, естественно и отдался этому делу всецело».
Радуясь, что храм строил выбранный им архитектор, которого он считал лучшим знатоком древнерусского стиля, Нестеров был счастлив тем, что был вполне свободен во всех своих художественных замыслах. Над ним не стояло никакой комиссии, как в Киеве, ему не приходилось бороться ни с какой фалангой темных дельцов, как в Абастумане. Всецело отдавшись новой работе, Нестеров переселился с семьей из Киева в Москву – и уже навсегда.
Закладка храма совершилась 22 мая 1908 года, а 13 сентября 1909 года Нестеров писал Турыгину:
«Теперь дело за твоим другом…»
В Москве Нестеров хотел уйти далеко от того, что он делал в Киеве и Абастумане. На этот раз Нестеров искал «самостоятельности» не только от Васнецова, но и от археологов, художников и нехудожников, толкавших его к тому или другому стилю.
Щусев строил храм в новгородско-псковском стиле XII–XV веков; естественно, он мечтал о том, что стены и своды нового храма будут отражать или даже повторять стенопись новгородского Спаса Нередицы, Успения в Болотове, Федора Стратилата или псковского Мирожского монастыря и Георгия в Старой Ладоге. Московский храм строился в эпоху, когда из-под потемневших слоев олифы воскресала древнерусская иконопись, когда художники Москвы и Петербурга, как праздник, встречали это открытие чудесного мира древнерусской живописи, необычайно богатой и смелой по краскам. В эту эпоху общим мнением стало, что только в формах древнерусских иконописцев желательна роспись храмов.
«В росписи храма мы не были солидарны со Щусевым, – вспоминает Нестеров. – Я не намерен был стилизовать всю свою роспись по образцам старых псковских, новгородских церквей (иконостас был исключением)».
Нестеров понимал, как усложняет задачу его росписи то, что в ней не будет согласованности с архитектурой, но решение его было твердо: «Я думал сохранить в росписи свой, так сказать, «нестеровский» стиль своих картин, их индивидуальность, хорошо сознавая всю трудность такой задачи».
Даже в орнаменте Нестеров решил остаться тем же, чем был в своих картинах: мотивы орнаментов были взяты исключительно из русской природы; сюда входили излюбленные художником березка, рябинка, елочка, полевые цветы. Основной тон всего храма должен был быть светлый, весенний, радостный.
Обитель была посвящена Марфе и Марии, женам-мироносицам, хотя храм строился во имя Покрова, – и Нестерова опять, в третий раз, потянуло в Италию, в те же места, где он в юности искал своих мироносиц. Эскизы его росписи уже были одобрены, но, чтобы перенести их на стены храма, задуманного светлым и радостным, ему нужны были солнце и краски Италии. В конце февраля 1908 года Нестеров уехал туда со старшей дочерью и сестрой, которой когда-то так восторженно описывал Рим и Неаполь.
Два месяца в Италии (март – апрель) были, в сущности, отданы работе для обители, но на этот раз Нестеров уже не наполнял альбома ликами и одеждами о византийских мозаик, как было во вторую поездку, во время работ для Владимирского собора. Он по-прежнему упивался живописью Возрождения в музеях и храмах, но учился он на этот раз больше у солнца и моря, чем у Беато Анджелико и Франческо Франча.
Работал он неутомимо: писал и море, и горы, и дали, и старинную церковку.
Все это осталось жить на его этюдах. Они и теперь радуют свежим привольем и южною теплотою красок. Голубое, синее, лиловое, опаловое – в легкой, хрупкой оправе золота: вот красочная гамма всех итальянских этюдов Нестерова.
Эти тона иссиня-лиловой гаммы настолько овладели художником, что он сделал их основными для всей марфо-мариинской росписи и прежде всего для двух боковых настенных композиций «Христос у Марфы и Марии» и «Воскресение».
Тот дворик, на котором у цветущего миндального дерева Христос, сидя на камне, беседует с мироносицами Марфой и Марией, та лужайка с пестрыми цветами, на которой сидит внимающая ему Мария, та седая стена какого-то древнего здания, на темноватом фоне которой так радостно выделяются белое одеяние Христа, бледно-синяя одежда Марии и розовато-белый цветень миндального дерева, – все это непосредственно перешло на стену московского храма с итальянских этюдов. Стенопись «Христа у Марфы и Марии» могла бы быть станкового картиною с названием «Весна» или «Весенняя беседа».
Отблеск Италии лежит и на нестеровских «Евангелистах» на царских вратах. Вопреки древней иконописной традиции изображать трех евангелистов средь «палат», а Иоанна – в пещере, в позе пишущих, Нестеров представил их всех на фоне гористого южноитальянского пейзажа, с крупными лавровыми деревьями, с густыми облаками, почти грозно объемлющими небо; под их сильным дыханием колеблются деревья, и, как бы чуя на себе это дыхание пустынного ветра, евангелисты оставили свои хартии и вслушиваются в то, как «небеса поведают славу божию» в дыхании надвигающейся бури.
Этой композиции нет соответствия ни в древнерусской иконописи, ни в том, что писали Васнецов и сам Нестеров в Киеве и в Абастумане. В прекрасной мужественности (особенно у самого молодого из евангелистов – у Марка), в строгой раздумчивости апостолов чуется такой же отзвук обновленных впечатлений от «Пророков» Микеланджело, как в пейзаже ощущается прямая связь с природой, ему родной. Но это другая Италия, чем на «Христе у Марфы и Марии»: более суровая, каменистая, пустынная; это та Италия, которую Нестеров так любил на картине Иванова.
Вздымаясь высоко над иконостасом и стройно сочетаясь с архитектурными формами алтарной абсиды, возвышается «Покров пресвятой Богородицы» – Богоматерь распространяет свой покров над миром. В ее чертах нет той «милоты» и «детскости», какими наделены «богородичные» образа Нестерова в Киеве и в Абастумане. Но в то же время она далека от византийской суровости и аскетической строгости. В ее руках, матерински покрывающих людей своим покровом, есть сила и власть, но эта сила вся отдана на помощь земле, а власть вся подчинена милосердию, в котором так нуждаются земные.
Нестеров так же независим здесь во внутреннем постижении образа, как в живописном его построении: его краски, при их благородной сдержанности, здесь ярки и сильны. Это тот образ, где Нестеров ближе всего, быть может, подошел к классическим нормам монументальной живописи.
Алтарь обители – по своей живописи – резко особится от всего храма, за исключением иконостаса. Если монументальная «Богородица» в абсиде далека по стилю от «Беседы мироносиц» с ее реальной Италией, то еще дальше она от основной работы Нестерова в обители – «Путь ко Христу» – с его еще более реальной Россией.
Вот где Нестеров резко разорвал со всеми традициями русской православной живописи!
Многовековая традиция не допускала на иконы и фрески никого, кроме святых и лиц, с кем связаны их «жития» и «деяния». В XIX веке эта традиция соблюдалась особенно строго: казалось оскорбительным для церковного благочиния и благолепия перенести на стены храма лица тех обыкновенных людей, которые идут в этот храм со своими нуждами и скорбями.
Нестеров сделал это. На его «Пути ко Христу» изображены не святые, даже не монахи и монахини, идущие ко Христу, а обыкновенные русские люди.
Эту Русь, идущую ко Христу, художник уже изобразил к тому времени на большой картине «Святая Русь», бывшей центром нестеровской выставки 1907 года.
Теперь ту же, но еще более приближенную к жизни и действительности тему Нестеров перенес на стену храма:
«В картине «Путь ко Христу» мне хотелось досказать то, что не сумел я передать в своей «Св. Руси». Та же толпа верующих, более простолюдинов, мужчин и женщин, детей, идет, ищет пути к спасению… Фоном для толпы, ищущей божьей правды, должен быть характерный русский пейзаж, весенний, когда в таком множестве народ по дорогам и весям шел, тянулся к монастырям, где искал себе помощи, разгадки своим сомнениям и где сотни лет находил их или казалось ему, что он нашел их».
Эту «бродячую Русь, Христа ради», молебствующую по глухим скитам и северным монастырям, давно знакомую Нестерову, он заново захотел увидеть и снова изучить для задуманной картины. Вернувшись из Италии, с ее ранней весною, он захватил русскую позднюю весну – вторую половину мая 1908 года – в излюбленных местах под Москвой, около Сергие-Троицы, у Черниговской, где родилось и воплотилось столько творческих замыслов Нестерова. Здесь он писал этюд за этюдом. «Пребывание здесь (у Черниговской), – признается он в одном письме, – для меня многое выяснило. Композиция большой стены созрела, окрепла на живых наблюдениях».
Но материал для картины на этот раз дал Нестерову не только пустынный скит, но и шумный город.
Монашествующие на картине «Путь ко Христу» на самом дальнем плане. На первом месте дети города: мальчик лет 12 в парусиновой форме гимназиста, девочка-школьница, девушка-горожанка, сестры милосердия. Эти русские лица все писаны с натуры, и такою же натурою остались они на картине.
Впервые появился на «Пути ко Христу» солдат, отсутствовавший на первой картине. Художник исполнил просьбу тенгинского рядового, который напомнил ему (в письме) о том, что нельзя изъять «воина» из «Святой Руси». Солдата с обвязанной головой, опирающегося на костыль, ведет сестра милосердия.
Больные, здоровые, слабые, сильные, большие, маленькие, образованные, простые – все они, с их скорбями и недугами, но и с их исканиями и радостями, все они «дети страшных лет России», о которых писал А. Блок. Тут во всех без исключения фигурах картины «Путь ко Христу» – Нестеров, прямой и открытый реалист, и его критики справа (их было много у его марфо-мариинских работ) укоряли его именно за то, что не «святую Русь» схимников и подвижников, а настоящую Россию 1908–1911 годов, обильную недугами и сомнениями, перенес он на стены храма.
Объясняя свою картину, поражавшую новизной сюжета и необычайностью ее места на стене храма, Нестеров указывал, что в основу ее положены евангельские слова: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененнии».
Давая верные действительности облики «труждающихся и обремененных» тяжестью русской жизни начала XX века, Нестеров не ведет ни к надрыву, ни к безысходности. Над всей картиной, над каждым в ней «царит весны таинственная сила» (Фет), русской, нежной, целительно-светлой весны.
Под этим вешним небом, в этом весеннем просторе нет и не может быть иной думы, как о возрождении: человек, как бы ни был он нищ и темен, не может не пробудиться к свету и бытию вместе с этой проснувшейся природой, такой ему родной.
В этой стенописи иконописец Нестеров безраздельно передал свою кисть Нестерову-живописцу: «Путь ко Христу» можно без изменений перенести на холст, поставить в галерею, и ничто не напомнило бы, что эта картина извлечена со стен храма, для которого писана.
Совсем иное – иконостас Марфо-Марииннской обители. «Иконостас я хотел написать в стиле новгородском, – пишет сам художник. – На образах этого иконостаса я хотел испытать себя, как стилизатора, и увидел, что при желании тот или иной стиль я мог бы усвоить, довести до значительной степени художественного совершенства. Но не это меня тогда занимало в храмовой живописи… Не о том мечтал я тогда».
Мечта была всегда одна и та же – о вольном, непосредственном, прямом выражении в красках собственных исканий и упований, лично пережитых, выраженных свободным языком своего искусства. И в образах марфо-мариинского иконостаса Нестеров не ушел и не мог уйти от этого вечно «своего», не поглощаемого никаким стилем и стилизацией под Новгород или Псков.
Его образа, несомненно, хранят на себе печать вдумчивого касания к древнерусской иконе. У древнерусских иконописцев Нестеров учился здесь строгой простоте композиции – глубокому лаконизму линий, предельной выразительности силуэтов, железной логике ритма, достигающего вершин трагической выразительности. Еще более влекла Нестерова в древнерусской иконе ее цветовая насыщенность, радостная сила или суровая мощь ее чистых красок, мастерство и смелость в сопоставлении целостных цветов.
У Нестерова никогда не было ни археологического, ни эстетико-живописного культа «русской иконы», которому предались художники, критики и собиратели как раз в ту пору.
Мне случилось однажды показать Михаилу Васильевичу складень строгановских письмен XVII века. Его не заинтересовала ни иконографическая сложность композиции, ни виртуозная тонкость ювелирной работы миниатюриста, он с обычной оговоркой, что «ничего в этом не понимает», холодновато заметил: «Что и говорить! Мастера были!» – но тут же живо, весь загоревшись, воскликнул: «Смотрите, как у Николы омофор белеет над киноварью! Как нарядно!»
Это типичный образец разговора с Нестеровым. Русские ли художники XIV века, итальянские ли возрожденцы, современники ли XIX и XX века, свои и чужие, были дороги ему именно как художники: дороги в своем художественно-творческом «я есмь», вне всякой обусловленности их оценки стилем, эпохой, древностью или новизной.
15 июля 1911 года Нестеров писал: «Сняли с церкви леса и в первый раз увидел церковь такой, какая она предстанет «на суд истории», – белая, нарядная… Похвал наслышался тьму, да и есть за что! Таково-то радостно, нарядно».
Эта радость от собственной удачи редка у Нестерова: удачу он чаще признавал в замысле, чем в исполнении.
Михаил Васильевич был прав, когда писал: «К нам, ко мне и Щусеву, московское общество, как и пресса, отнеслось, за редким исключением, очень сочувственно. Хвалили нас и славили». Но противоположные отзывы были не совсем «редким исключением».
Одну группу – художественную – составляли те, кто упрекал Нестерова за несоответствие его живописи с архитектурой Щусева: за то, что он не вошел за архитектором в стиль Новгорода и Пскова XII–XV веков, иначе сказать, за то, что он остался Нестеровым. В другой группе были люди, которые находили, что «Путь ко Христу», может быть, хорошая картина, но ей не место в храме, а «Христос у Марфы и Марии», может быть, и хорош, но в католическом храме в Италии, а не на Большой Ордынке, в Замоскворечье.
Последнюю работу для церкви Нестеров исполнил в 1913 году – для Троицкого собора в Сумах б. Харьковской губернии.
В Сумах, как в Киеве, Нестеров пришел в давно выстроенный храм и отстранил от себя всякую связь с архитектурой храма: не было и речи о том, чтобы он взял на себя роспись стен: он принял на себя лишь образа, далеко не все.
Столь ограниченное присутствие Нестерова в соборе было, однако, так ярко внушительно, что не поднималась даже мысль о приглашении кого-либо из других художников для росписи стен: стены остались без росписи и были украшены лишь орнаментами Щусева.
В шести больших образах – Христос, Богоматерь, Троица, Никола, архангелы Гавриил и Михаил – нет следа той нежной манеры, которой написаны лучшие работы Нестерова в Киеве и которая делает его масляную живопись похожею на акварель. Нет здесь и тех, надолго излюбленных Нестеровым, слегка затуманенных, голубовато-зеленоватых, иссиня-лиловых тонов, какие так характерны для «Беседы с мироносицами» и «Пути ко Христу».
Художник не хочет здесь умилять ласково-грустною улыбчивостью детских или полудетских лиц, которыми наделены его небожители в Киеве и особенно в Абастумане, где эта «детскость» переходила в приторную сентиментальность.
Его Христос родствен «Христу» из марфо-мариинского иконостаса – он завершает отход художника от тех заново канонизованных образов Христа, которые пошли от Васнецова, пытавшегося сочетать обычную византийско-иконографическую схему с поверхностною красивостью и внешнею нарядностью позднего академизма. Новый «Христос» Нестерова несравненно ближе к древнерусской иконе, но именно тем, что художник здесь зорче проник в силу цвета, могучего и полного, глубже вник в тайну ритма иконы, зависящего не от сюжета, а от внутреннего построения образа.
Один из лучших образов иконостаса – «Николай-чудотворец». Это древнерусский «Никола Можайский», близкий русскому народу не только по «житиям», но и по былинам и древним легендам. Это грозный воитель против неправды, это защитник правых, с большим обнаженным мечом в одной руке и с храмом в другой.
Образ, не выходя из иконного благолепия, не в сюжете, а в ритме своем исполнен глубокого драматизма.
Это вообще свойство всех образов Нестерова в Сумах: они полны внутреннего движения, выраженного в ритмах не сюжетных, а чисто живописных.
Краски Нестерова в Сумах целостны, ярки, сильны то прямою звучностью цвета, то смелостью сопоставления. Но эта звучность и звонкость никогда не переходят в крик красок: дополнительные тона умеряют внешнюю звонкость красок, лишь усиливая глубину их звучания.
В сумских образах нельзя искать того открытого мира простых чувствований, какими радовал и умилял Нестеров в Киеве. В Сумах нестеровские небожители живут иною жизнью: жизнью сокровенной думы.
Образа Нестерова в Сумском соборе остались вовсе неизвестны: их эскизы не появлялись на выставках, нигде не воспроизводились, а сам собор в Сумах, при своем освящении в 1914 году, не привлек ничьего внимания.
Но в глазах самого художника лучшее, что он сделал в области церковной живописи, были образа собора в Сумах. Об образах в Сумах всегда отзывался он как о своей удаче и неизменно прибавлял: «Тут я сам по себе. Тут кое-что я нашел». Образа Сумского собора – последняя церковная работа Нестерова.
Художественная удовлетворенность работами Сумского собора не помешала Нестерову покончить на них свою деятельность церковного художника.
Об этой деятельности, об ее истоках, путях и перепутьях существовали и существуют самые различные представления.
Для одних – Нестеров нашел себя во Владимирском соборе и продолжал «находить себя» в Абастумане и Марфо-Мариинской обители; для других (наиболее ярко выражено это Александром Бенуа в его «Истории русской живописи») – Нестеров погубил себя как живописец, променяв станковую картину на церковную стенопись; для третьих – церковные работы Нестерова были роковым заблуждением чудесного пейзажиста и великолепного портретиста, заблуждением, от которого он отказался лишь в годы революции.
Чем же была церковная, храмовая живопись для самого художника?
Ни в одном из ранних писем и высказываний Нестерова нельзя найти ни одного свидетельства об его органической тяге к монументальной живописи, к фреске, к религиозной стенописи, к иконе. В этом отношении он вполне противоположен Александру Иванову, Васнецову, Врубелю, которых издавна тянуло к стенным просторам.
С Нестеровым было наоборот. Его позвали туда без зова в его душе. Он написал «Видение отроку Варфоломею» – картину, но не икону из «Жития» Сергия Радонежского. Он замышлял ряд таких картин, когда его позвали расписывать храм и писать в нем иконы. Звавшие, хотя это был виднейший профессор истории искусств, плохо отличали религиозную станковую живопись от церковной росписи и молебной иконы. Нестеров же всегда чувствовал это различие и чем дальше, тем больше сознавал разность творческих путей к картине и к иконе.
«Своим делом» Нестеров считал картину, а не икону.
Он всю жизнь с благодарностью вспоминал тех, кто, подобно Третьякову и Поленову, предостерегал его от опасности из живописца превратиться в иконописца.
Нестеров сетовал впоследствии на то, что не вполне последовал этим советам: слишком задержался в Киеве.
Художнику всегда было не по себе, когда ему приходилось при церковных работах понуждать себя к творческому отклику на сюжеты, ему чуждые, но неизбежные по церковным правилам росписи.
Эта неизбежная обязательность тех или иных церковных сюжетов, эта узость пределов, в которых допускалась свобода их разработки, всегда тяготили Нестерова.
Самая неизбежность «выполнить заказ», писать определенное количество композиций без возможности уменьшить или увеличить их число, переменить или устранить тот или иной сюжет – суровая необходимость ради выполнения заказа в срок отрываться от собственных замыслов и начатых работ, приносить картину в жертву иконе, – все это глубоко волновало Нестерова, охлаждало его интерес к стенописи и иконе и влекло с новою силою к картине, где он ни от кого и ни от чего не зависел.
В Марфо-Мариинской обители Нестерову работалось и дышалось легче, чем под сводами других храмов. Там в самой работе было больше живописи, чем иконописи.
Но как ни увлекался Нестеров работой в Марфо-Мариинской обители, все-таки ни одно письмо его этой поры не обходится без мечты, что скоро все кончится и он примется за картину.
Приняв заказ на образа в Сумах, Нестеров увлекся здесь чисто живописными задачами. Но и это увлечение не помешало ему воскликнуть в письме к приятелю-художнику (29 декабря 1913 года): «Скоро надо браться за своих «угодников», – а если бы знал, как они мне надоели!» Работая эти живописные образа, Нестеров настолько остался в стороне от интереса к самому собору в Сумах, что даже не переступил его порога, тогда как во Владимирском соборе, в Абастумане, в Марфо-Мариинской обители он провел долгие годы! Какое разительное свидетельство угасания интереса Нестерова к церковной работе!
Подводя итог деятельности в церквах и соборах, Нестеров признавал (запись 20 августа 1940 года):
«Трех церквей не следовало бы мне расписывать: Абастуман, храм Воскресения, в имении Оржевской. Ну, Владимирский собор – там я был молод, слушался других… Там кое-что удалось: Варвара, князь Глеб. А затем надо было ограничиться обителью да Сумами. Там свое есть. Хорошо еще, что я взялся за ум – отказался от соборов в Глухове и Варшаве. Хорош бы я там был! Всего бы себя там похоронил, со всеми потрохами».
Большинство дней и годов, оторванных от станковой живописи ради стенописей и икон, Нестеров считал временем потерянным. Не забуду никогда, с какой суровой горечью пенял себя Михаил Васильевич в 1940 году (запись 13 июля): «Двадцать три года провел я на подмостках, чуть совсем там не остался…»
Не двадцать три, а гораздо больше годов мог бы провести Нестеров на «подмостках», опасных для творческой независимости художника, если б не предохранительно возраставшее в нем сознание этой опасности. Оно выразилось в многочисленных отказах Нестерова от церковных работ, отказах, все более учащавшихся по мере роста известности Нестерова как церковного художника.
Когда были окончены образа для Сумского собора, вопрос о дальнейших работах для церквей был решен Нестеровым раз и навсегда. 3 июля 1913 года Нестеров писал Турыгину:
«Хочется со всеми заказами кончить и больше не брать их; ненавижу я их как врагов своих!»
Это «хочется» Нестеров претворил в действительный отказ от церковных работ; основной, решающей причиной отказа было окончательно утвердившееся в нем сознание, что его призвание – станковая живопись, а не храмовая стенопись и икона.
Участие Нестерова в церковных работах всегда определялось для него степенью чисто художественного интереса, который возбуждал в нем тот или иной церковный заказ. Следуя только велениям совести художника, Нестеров отказывался от таких предложений, которые следовало бы принять, если б он руководствовался соображениями материальными (собор в Глухове, строившийся на средства миллионера Терещенки) или мотивами карьеры придворной (церковь в Кореизе по проекту великого князя Петра Николаевича) и политической (собор в Варшаве). Нестерову случалось отказываться от заказов, предложенных и самим императором. Поэтому для Нестерова всегда, и в молодости и в старости, было глубоко оскорбительно, когда про него утверждали, будто он при согласии на те или иные церковные работы руководился мотивами материальными и житейскими, а не чисто художественными.
На этой почве возник у Нестерова разрыв с художником С.В. Ивановым, товарищем его юности, соавтором по «Альбому рисунков».
Много лет спустя такой разрыв последовал с Суриковым, и по той же причине: на почве обвинений Сурикова, что во Владимирском соборе Нестеров искал денег и орденов. Ни денег, ни орденов, ни чинов Нестеров во Владимирском соборе не искал и не получил.
Быть может, одним из самых тяжелых дней в жизни Нестерова был тот, когда он прочел подобные же обвинения в «Истории русской живописи в XIX веке» Александра Бенуа, выходившей в 1900 году выпусками в виде дополнения к «Истории живописи» Р. Мутера.
Ал. Бенуа с шатких и узких позиций камерного эстетизма «Мира искусства» не мог ни понять народных истоков искусства Нестерова, ни оценить глубокого своеобразия его живописи и бросал обвинение за обвинением Нестерову – станковому живописцу: «Мятый, небрежный и местами даже неумелый рисунок фигур, дешевая подчеркнутость типов, подведенные, якобы экстатические глаза». «Он (Нестеров. – С.Д.) даже начинает впадать в салонный маньеризм…» Ал. Бенуа с особою резкостью нападал на Нестерова за его церковные работы. «Успех, – утверждал Бенуа, – толкает его на скользкий для истинного художника путь официальной церковной живописи».
Художественные же достоинства за церковными работами Ал. Бенуа отрицал начисто, видя в Нестерове лишь «последователя Васнецова, превратившего эффектный и энергичный шаблон своего учителя в нечто расслабленное, жидкое, истерическое… Техническая сторона… у Нестерова еще гораздо слабее, нежели у Васнецова».
Выступление Ал. Бенуа очень больно задело Нестерова. И декабря 1900 года он писал Турыгину:
«Читал ли ты новый выпуск «Истории искусств» Мутера, где А. Бенуа в статье о русской живописи разделывает В. Васнецова, а попутно и М. Нестерова (за образа). Хорошо теперь пишут историю искусств, хлестко. Лежишь, как карась на сковородке, а тебя то с того, то с другого бока поджаривают, маслица подбавляют».
Горечь, полученная Нестеровым от резкого выступления Ал. Бенуа, была вызвана публично высказанным несправедливым обвинением в том, что художник подчиняет свое искусство толчкам внешнего успеха и переходит на «скользкий путь официальной церковной живописи».
Справедливая горечь эта не помешала Нестерову, всегда строгому к себе, тогда же вдуматься в страстный и пристрастный отзыв Бенуа и извлечь из него нечто нужное.
19 марта 1901 года тому же Турыгину, в раздумье над тем же приговором Ал. Бенуа, Нестеров пишет:
«Как знать, может… Бенуа и прав, может, мои образа и впрямь меня «съели», быть может, мое «призвание» не образа, а картины – живые люди, живая природа, пропущенная через мое чувство, – словом, поэтизированный реализм».
Эти слова высокопримечательны, исключительно важны для понимания всего творческого пути Нестерова. В этих словах, вырвавшихся с полнейшею искренностью, он нашел лучшую формулу, определяющую его искусство в его подлинной сущности: «поэтический реализм». Самосознание художника здесь одержало победу над всеми иллюзиями временных увлечений и длительных отклонений от столбового пути его искусства. Недаром в самые поздние годы Нестеров не раз сам возвращался к этим давним строкам и повторял их как свою правду о себе самом. Эта правда выяснялась ему с каждым годом все яснее и яснее.
12 сентября 1902 года, в разгар церковных работ в Абастумане, получив письмо с разными хвалебными отзывами о своих картинах и иконах, Нестеров писал Турыгину:
«Гораздо более мне нравится то, что сказал в своей (второй части) «Истории искусств» обо мне Александр Бенуа. Горькая правда, сказанная им обо мне, глубже проникает в нутро и может заставить крепко задуматься».
Эта защита Александра Бенуа может показаться неожиданной в устах Нестерова. Он лучше всех знал, что образа не «съели» его дарования, что во многих из этих образов это дарование обнаружено с неоспоримою очевидностью. Несправедливость повального отрицания Александром Бенуа живописных достоинств церковных работ Нестерова была очевидна. Но никакая горечь, никакое неудовольствие не помешали взыскательному художнику распознать в отзыве Бенуа ту бесспорную правду, которую художник издавна чувствовал и сам: что настоящее его «свое дело» – станковая картина, а не фреска и не икона.
«Расписывая храмы, я давал себе отдыхи, их всегда употребляя на изучение натуры, природы, работая», – говорил Нестеров. Это живое, непрерывное общение с натурою и природою сказывается во всех церковных работах Нестерова. Сидя на лесах, он никогда не надевал на себя схиму иконографических схем и церковно-археологических канонов. Вот почему, когда Нестеров сходил с лесов и обращался к натуре – к природе и человеку, он лишь усиливал свое общение с ними, лишь отдавался ему в большей полноте и свободе.
В этом было счастье Нестерова. В этом была причина, почему он не остался навсегда на подмостках собора, израсходовав там всего себя без остатка.
В долгих «трудах и днях» Нестерова нельзя указать ни одного года, который он всецело, безраздельно отдал бы церковным подмосткам. Живая радость бытия, любовь к человеку и природе беспрестанно сводили Нестерова с церковных подмостков и влекли то под солнце Италии, то на простор Волги, то в подмосковные перелески, то на далекий север. Он как художник был чуток к живому дыханию русской народной жизни и верно чувствовал, что ни широты, ни глубины, ни свежести этого дыхания нельзя уловить, переходя с подмостков одного собора на леса другого.
Вот как он сам сформулировал свое решение – отказаться от работы в церквах – в своих записках:
«Я понимал, что, вступая на путь старой церковной иконографии, я должен был забыть все пройденное, пережитое за долгую личную жизнь – школу, навыки, мои субъективные переживания, – все это я должен был оставить вне стен храмов… Я делал проверку моих наблюдений, и решение мое отказаться от храмовой живописи медленно созревало».
Свой окончательный отход от монументальной стенописи Нестеров завершил монументальной картиной «Душа народа», к которой так порывался во время работы в Марфо-Мариинской обители.
Не менее знаменательно, что, окончив эту картину, в которой доказал, что как станковому живописцу ему доступно монументальное, он окончательно уже перешел от ликов святых к лицам человеческим. Живописец окончательно восторжествовал над иконописцем.
VIII
Нестеров мечтал о большой картине, которая вобрала бы в себя всю его тягу к народной Руси, весь опыт его творческого вчувствования в ее мятущуюся душу, в ее щедрое сердце.
Мечта о большой картине у Нестерова шла еще от Александра Иванова: Нестеров разделял эту мечту со своими старшими современниками, как Перов, Крамской, Суриков, Виктор Васнецов, Поленов, и со своими сверстниками, как Рябушкин, С. Коровин, Левитан.
Для Нестерова такой большой картиной должна была стать «Святая Русь».
«Пишу тебе из св. обители Хотьковской, – сообщает он Турыгину 27 июня 1901 года, – из тех мест, где когда-то жил маленький Варфоломей, потом св. Сергий…
Я усердно работаю этюды к моей будущей картине – к картине, где я надеюсь подвести итоги моих лучших помыслов, лучшей части самого себя. Два года жизни, два года хотя бы относительного здоровья и силы, думаю, достаточно, чтобы спеть эту свою «лебединую песнь». До половины этюдов собрано. Еще остается полтора месяца, в которые буду работать в Соловецком и Уфе. Пробуду в Соловках, пока не выгонят».
В Соловках Нестеров, как было уже сказано, работал много, заново знакомясь с «сермяжной Русью» богомольцев, «трудников» и иноков.
Поездкой в Соловецкий монастырь в июле 1901 года художник остался доволен: «Все, что было можно оттуда взять, взято… Для картины моей имеются несколько этюдов, которые мне помогут сказать то, что надо».
Наконец, 18 октября 1901 года он стал перед полотном, натянутым на большой подрамник.
«Вернулся в Киев и тотчас начал картину – счастлив безмерно! Сижу днями в мастерской, живу со своими «чудаками» среди русской природы, переживаю еще раз свою молодость. Стараюсь не думать ни об Абастумане, ни о чем другом в этом роде. Если все пойдет по-хорошему, в первых числах ноября начну красками».
Все шло по-хорошему – еще до 2 ноября художник уже стал с палитрой перед полотном: «Работаю я горячо, почти весь верх картины (пейзаж) прописал, – кажется, ничего, морозно! На днях перейду к фигурам, это будет потруднее, но и полюбопытнее».
В конце января 1902 года Нестеров оторвался от полотна ради поездки в Москву, нужной ему и для этюдов и для отдыха. С половины февраля Михаил Васильевич опять не отходил уже от картины и не отошел, пока не кончил.
15 апреля картина «вчерне кончена и показывается знакомым (видел и весьма одобрил ее Шаляпин). Картина, вероятно, будет называться «Святая Русь» (мистерия). Среди зимнего северного пейзажа притаился монастырь; к нему идут-бредут и стар и млад со всей земли. Тут всяческие «калеки», люди, ищущие своего бога, носители идеала, которыми полна наша «Св. Русь». Навстречу толпе, стоящей у врат монастыря, выходит Светлый, Благой и Добрый Христос с предстоящими Ему – святителем Николаем, Сергием и Георгием (народные святые). Вот вкратце тема моей картины, которая нравится, в которой есть живые места; но надо ее достойно кончить».
Это, кажется, единственный случай, когда Нестеров решился показать посетителям лишь «вчерне конченную картину». Молва о «Святой Руси» была так велика, желание ее увидеть у многих было так настоятельно, что художник нарушил на этот раз свое обычное правило. Он и сам хотел проверить себя на впечатлениях тех, кто любил его искусство.
С киевским показом «Святой Руси» связан жизненный перелом в биографии художника.
3 мая 1902 года Михаил Васильевич писал своему старому другу А.А. Турыгину:
«С тех пор как картина открыта, у меня перебывало много народа, преимущественно дам, знакомых и незнакомых. Раз, недели три тому назад, я узнал, что ко мне собирается классная дама института, мною невиданная ранее, молодая, красивая… Я дал свое согласие… и вот теперь эта девушка страстно, до самозабвения полюбила меня, а я влюбился, как мальчишка, в нее. Она действительно прекрасна, высока, изящна, очень умна и, по общим отзывам, дивный, надежный, самоотверженный человек».
Эта незнакомая девушка поразила художника необычным, сердечным и умным вниманием к его искусству; он тут же, у полотна «Святой Руси», разговорился с нею и из долгой душевной беседы понял, что она горячо любит все, что ему самому дорого в его искусстве. Беседы эти повторились, и затем он понял, что любовь ее к художнику неотторжима от ее любви к человеку.
7 июля 1902 года в Кисловодске совершилась свадьба Михаила Васильевича Нестерова с Екатериной Петровной Васильевой.
С тех пор в течение сорока лет она стала неразлучной, верной спутницей всего жизненного и творческого пути Нестерова и полностью оправдала то, что почувствовал он при первой встрече: «Дивный, надежный, самоотверженный человек».
Всю весну 1902 года «Святая Русь» была открыта для посетителей.
3 мая Нестеров писал: «Картина продолжает нравиться. Общий отзыв, что это лучшая моя вещь даже по технике. Посмотрим!..» Работы для Абастумана были помехой для завершения картины. Только 5 января 1904 года Нестеров написал: «Кончил картину».
От первого эскиза до этого «кончил» – и все-таки не окончательного, ибо работать над картиной художник продолжал вплоть до 1905 года, – заветный замысел Нестерова претерпел немало изменений.
На первоначальном эскизе встреча Христа с народной Русью, со страждущим русским людом, происходила в тихий летний день у небольшого озерка, затерявшегося в глуши лесов; сюда, в бедный скит, прибрели они на богомолье, и навстречу им из скита вышел не послушник-привратник, а сам Христос с угодниками.
На большой картине Нестеров, наоборот, развернул широкую, пологую долину с лесистыми крутосклонами, покрытую снегом; за нею простирается необъятный окоем полей и лесов, скованных безмолвием под снеговою пеленою. К зимнему пейзажу Нестеров перешел после поездки на Соловки, где впервые увидел русский далекий север.
Там, на эскизе с озерком, был «местный пейзаж» такого-то русского уезда, где-то за Волгой; здесь, на картине, это лесистая долина с далеким снежным окоемом – пейзаж «всея Руси». Полгода зимы – это исторический удел русского народа, это природное условие, в котором протекает большая часть его трудовой жизни.
Нестеров верно нашел и превосходно написал природное окружение для задуманной картины. Только суриковские зимы («Боярыня Морозова» и «Взятие снежного городка») могут сравниться по своей подлинности и «морозности» с этою нестеровскою зимой, могучею и строгою, прекрасною и широкою, как сама русская земля.
Из шестнадцати фигур на картине шесть мужских, десять женских. Все они, за исключением одной, связаны с деревенской Русью. Художник собирал этих людей из глубин народной жизни.
«Как-то забрел я далеко от монастыря, на кирпичный завод, – пишет Нестеров про свою соловецкую поездку. – Там попался мне типичный монах-помор. Он был в подряснике из синей крашенины, на голове самоедская меховая шапка с наушниками. Я попросил его посидеть, он согласился. Этюд, написанный с него, вошел потом в «Святую Русь»…»
«Однажды встретил я днем в стенах обители мальчика-монашка лет 16–17-ти, такого бледного, болезненного, с белыми губами, похожего на хищную птицу – на кобчика, что ли… Он был пришлый богомолец, такой неразговорчивый. Недуг одолевал его медленно и беспощадно. Его я тоже написал, и он попал в «Святую Русь».
Вводя этих соловецких знакомцев на картину, Нестеров ничем их не «облагообразил». Их облики на картине так же портретны, как на этюдах, с них писанных.
Молодой странник с желтовато-смуглым лицом и горящими глазами – по живописной силе родственный мальчику-горбуну с «Крестного хода» Репина – перенесен на картину живьем с этюда, писанного у Троицы с одного из странников.
Высокий старец монах в очках, опирающийся на палку, – это 80-летний монах от Черниговской, из-под Троицы. На сочном этюде с него сам Нестеров написал: «Отец Илья». Мальчик и девочка, на которых опирается этот почти слепой старик, писаны с крестьянских ребят в Мытищах.
Молодая монашенка писана с М.Г. Ярцевой, дочери художника-передвижника Г.Ф. Ярцева, молодая женщина в темном платке – с няни Серафимы из Уфы, послужившей натурою для многих девушек и женщин Нестерова.
В чертах заботливой пожилой женщины в ковровом платке, поддерживающей больную девушку в желтой душегрейке, отражены черты лица сестры художника, Александры Васильевны, отличавшейся большою участливостью к людям. Для лица схимонахини, как бы отрешенного от мира, художник воспользовался самым заветным для него материалом: зарисовками с умирающей матери, неустанной труженицы во всю долгую жизнь.
Второе название картины, взятое из евангелия: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененнии и Аз упокою вы», – точно выражает ее содержание. На картине действительно изображены «труждающиеся»: в ней нет ни одного лица, взятого из иной жизненной среды. Весь этот этюд (исключая детей) «обременен» тяжкой пошей жизни.
Но их «обременяют» и не одни телесные недуги и нужды. Почти в каждом лице трепещет внутренняя боль невысказанного чувства, проступает тревога снедающей мысли, тлеет огонь неосуществленной мечты. Все они ищут у Христа не одного утоления боли – они пришли к нему за ответом: где же правда на земле? в чем же истина бытия? где лежат к ней пути?
В первоначальном замысле художника было еще усилить это трепетание пытливой мысли, это искательство «своего идеала»: среди обремененных тяготою русской жизни он хотел ввести прямых представителей мысли и творчества.
В дни, когда Нестеров работал над картиной, он с увлечением отдавался искусству Шаляпина. Шаляпин, писал Нестеров 14 мая 1902 года, «возвышается до глубочайшей трагедии зла в «Мефистофеле», до эпоса Сусанина, заставляет бледнеть, плакать, делает то, что способны делать величайшие гении мира. Вот воистину «русский гений».
В Шаляпине, выходце из народа, Нестеров готов был видеть лучшее воплощение своей веры в творческий порыв русского человека, охваченного исканием правды в жизни и в искусстве, и недаром одному из первых он Шаляпину показал свою картину.
3 мая 1902 года он писал Турыгину:
«Ты спрашиваешь, есть ли у меня на картине «Шаляпины»? На пространстве 5 1/2 аршин изображено 20 фигур, из них 4 «святых». Остальные 16, женщины и мужчины, грешные и праведные, Шаляпины (Горький, может быть, Достоевский) и не-Шаляпины».
«Шаляпины» здесь – русские люди пытливой мысли, творческой силы и высокого душевного порыва.
Среди народных взыскателей правды с лицами, словно вышедшими из толпы «верующих баб» («Братья Карамазовы») и «подростков» Достоевского, так естественно было бы встретить и самого Достоевского. Но Горький, только что спевший свою «Песню о Буревестнике»?.. А между тем перед именем Достоевского у Нестерова стоит лишь «может быть», а Горький назван безоговорочно.
Нестерова влекло к Горькому с первых строк «Челкаша», прочитанного им в 1898 году. Нестеров любил вспоминать, какое чарующее впечатление оставили в нем рассказы Горького. Прочтя «эту чудесную, живую, такую молодую, свежую книгу», Нестеров восторженно делился впечатлениями и надеждами с Н. А. Ярошенко: «Сколько пророчеств и упований было тогда высказано по его адресу!» Нестеров навсегда остался приверженцем этих рассказов Горького.
Личное знакомство Нестерова с Горьким произошло в мае 1900 года.
«Мы почти сошлись сразу, – писал Нестеров 18 мая, – он оказался моим большим почитателем, и это самое почти всегда упрощает первое знакомство, поселяя доверие и симпатию, тем боле.е что и я очень люблю талант Горького и жду от него очень много впереди, как жду от Малявина и Шаляпина, этих трех мужиков, выдвинувшихся так ярко и быстро».
В 1900 году Нестеров еще не был автором портретов, он был лишь творцом картин из жизни Сергия Радонежского да таких полотен, как «Христова невеста», «Пустынник», «Великий постриг», и тем примечательнее, что автор «Песни о Соколе» оказался «большим почитателем» автора этих поэтических сказаний о людях духовного подвига. Не менее примечательно, что автор «Видения отроку Варфоломею» «очень любил» талант Горького – создателя «Мальвы» и «Бывших людей».
По пути в Соловки за этюдами для большой картины – в середине июля 1901 года – Нестеров посетил Горького в Нижнем Новгороде и провел два дня в беседах с ним: «Много, много было затронуто милых и любезных русскому человеку тем. Тут и Толстой, и Шаляпин, и Горький, и Васнецов с Нестеровым не были забыты» (письмо к Турыгину от 25 июля 1901 г.).
В эти два дня Нестеров написал масляный этюд о Горького. Этюд предназначался для большой картины.
Когда однажды в беседе с А.М. Горьким о Нестерове Павел Дмитриевич Корин, замысливший портрет Алексея Максимовича, сказал ему, что прекрасный этюд Нестерова, высоко им чтимый, писан для картины «Святая Русь», Алексей Максимович отвечал улыбаясь:
– Знаю. Я даже там побывал, на картине, в толпе богомольцев.[25
Но Горький недолго пробыл на «Святой Руси». Его лицо было заменено там лицом сестры милосердия, написанным с той самой сестры милосердия Копчевской, которая послужила прототипом для абастуманской святой Нины.
В этой замене Нестеров был прав. Путь Горького всегда лежал не в тихое пристанище христианского «упокоения», а к борьбе за нового человека и человечество, Горький был не «взыскатель» правды, а борец за нее – ему было не по пути с теми, кто так правдиво изображен на картине Нестерова. Художник верно почувствовал это в раннем Горьком (картина окончена до революции 1905 года) и увел его со «Святой Руси».
Любимейшей картиной Нестерова из всей русской живописи было «Явление Христа народу» Иванова. То, что задумал Нестеров дать в своей большой картине, было «Явление Христа русскому народу». На болезненный стон, на скорбный зов «труждающихся и обремененных», измученных тяжестью русской жизни, откликается тот, кого они зовут «Спасом». Он вышел навстречу «труждающимся» со святыми, в которых народ привык видеть своих заступников, – с Николой карателем обидящих, с Сергием Радонежским, радетелем за русскую землю, с Георгием Победоносцем – «Егорием Храбрым» народных былин.
Таков был заветный замысел художника, который он неоднократно открывал мне, говоря о «Святой Руси».
Он видел этот замысел осуществленным у Тютчева в его знаменитом стихотворении:
«Я не хотел писать расслабленного Христа, унылого, как его любили писать тогда, – говорил мне Михаил Васильевич в 1940 году. – К нему идут у меня унылые и расслабленные. А он должен быть иным».
Для Христа Нестеровым был написан этюд со священника Константина Алексеевича Руднева, который был настоятелем церкви в Абастумане.
Первое название картины «Святая Русь» вызвало при появлении картины на выставке много толкований, большею частью совершенно произвольных.
На основании многолетних разговоров с Михаилом Васильевичем Нестеровым на эту тему могу утверждать: меньше всего желал рн сказать этим названием то самое, что чаще всего ему в свое время приписывалось: «Вот эта-де Русь – несколько крестьян и монахов из крестьян, большею частью немолодых и недужных, – вот это-де Русь святая, а вся остальная, не вмещенная в эти лесные пределы, это Россия грешная». Подобное толкование было бы нелепо по одному тому, что, не говоря уже обо всем городском населении России, обо всем образованном обществе, среди «грешных» осталось бы тогда все сплошь духовенство, ибо никого из них нет на картине.
«Святая» не потому, что она «святая» в своей жизни, быте и истории, но потому, что в «святыне» она, как полагал Нестеров, видела свой «идеал».
И если на полотне оказалась одна только деревенская Русь, то это не потому, что она одна ставит себе этот «идеал» и что христиан нет нигде, помимо русской деревни, а потому, что эта деревня особенно изобилует «труждающимися и обремененными», и они в своей безысходности ищут «к ногам Христа примкнуть» (Тютчев).
5 января 1907 года в Петербурге, в Екатерининском концертном зале на Малой Конюшенной (д. 3), открылась выставка картин Нестерова.
До этого дня в течение семи лет ни одна картина Нестерова не появлялась на выставках. Он не ушел, а «отпал» от двух враждующих группировок – передвижников и «мир-искусников». Семь лет было отдано напряженному творчеству в самых разнообразных, иногда вовсе неожиданных для публики и критики направлениях.
Явившись с собственной выставкой из 85 произведений, художник словно хотел провести зрителя по всем путям своим и перепутьям.
На выставке были два эскиза основных, уже прославленных картин Радонежского цикла: «Видение отроку Варфоломею» и «Юность пр. Сергия». О любви художника к героической истории родины свидетельствовал превосходный по краскам, смелый по композиции эскиз «Гражданин Минин».
Из своего романа в красках о русской женщине Нестеров дал две главы с одинаковым названием «За Волгой» («Лихач Кудрявич» с девушкой и одинокая, покинутая им девушка). Русская девушка в монастыре – этой теме были посвящены две картины: «Тихая жизнь» и «Лето».
Но тут же были показаны и отрывки из поэмы-идиллии о любви и счастье: «Адам и Ева», «Свирель», «Два лада».
Автор «Пустынника» продолжал свою реалистическую повесть о русском монастыре – «Мечтатели» («Белая ночь на Соловецком»), «Молчание». А автор «сказаний» из религиозного прошлого своего народа дал «Зосиму Соловецкого» и «Симеона Верхотурского», святого с самым крестьянским житием: он был деревенский швец (портной), никогда не принимавший монашества.
Нестеров – церковный живописец – был богато представлен 36 эскизами для Абастумана и 7 для Новой Чартории.
Но появились на выставке и еще два Нестеровых, публике дотоле неведомых: Нестеров-пейзажист и Нестеров-портретист. Первый был представлен проникновенными «Осенними далями» и «Родиной Аксаковых», второй – «Портретом дочери» в амазонке, одним из шедевров русской портретной живописи, и прекрасными портретами Е. П. Нестеровой, Яна Станиславского и Н.Г. Яшвиль.
В сущности, на выставке был представлен весь Нестеров – в его настоящем (картины),прошедшем (церковные работы) и будущем (портреты).
Две картины были заветными для Нестерова на его выставке – «Димитрий Царевич убиенный» и «Святая Русь».
Первая уже выставлялась художником на XXVII Передвижной выставке, но над картиной, написанной в 1898 году, он много работал в позднейшие годы и считал, что лишь к выставке 1907 года он окончил ее со всею ответственностью за «содеянное» (любимое выражение Михаила Васильевича).
Истоки картины глубоки и многообразны.
Сказание об убиении Димитрия Царевича Угличского Нестеров знал с детства, но особую любовь к образу Димитрия Царевича ему внушил Пушкин. «Борис Годунов» был любимым произведением Нестерова, а рассказ патриарха о чуде, о царевиче Димитрии был любимейшим местом Нестерова во всей трагедии.
В 1895 году Нестеров, вырвавшись из Киева, захотел надышаться не только воздухом среднерусских лесов, но и веянием народной старины, сохранившейся в древних городах Верхнего Поволжья. Вместе с писателем В.М. Михеевым Нестеров побывал в июне этого года в Переславле-Залесском, Ростове, Угличе, Ярославле.
Михаил Васильевич вспоминал в «Записках»:
«С утра мы с Михеевым принялись ретиво за осмотр Углича. Побывали в музее, переделанном из дворца царевича. Там я видел много икон с изображением убиенного. Они все, как одна, совпадали с тем, что мне мерещилось о нем. Побывали мы и в церкви св. Димитрия Царевича на крови, где обрели удивительную пелену, будто бы шитую матерью царевича в его память шелками и золотом. Я сделал этюды с тех мест, которые по плану могли находиться во время убийства фоном этой загадочной драмы».
«А родился «Димитрий Царевич» просто, – рассказывал тогда же Нестеров. – Я ехал в Киеве из бани к себе домой. И вдруг все мне стало ясно, все вижу, все готово. Оставалось только писать».
Нет, оставалось еще пережить тяжелое отцовское горе, чтобы творчески проникнуться скорбью матери.
Осенью 1898 года, когда пришло время писать «Димитрия Царевича», заболела дочь художника, Ольга, двенадцати лет, учившаяся в Киеве в институте.
С сентября 1898 года по январь 1899-го, пишет Нестеров, «болезнь неустанно угрожала жизни больной, а я постоянно жил под страхом потерять свою дочку, и тем не менее в те дни и часы, когда не был в институте, я работал над своим «Св. Димитрием Царевичем» и над «Пр. Сергием». И как бы вопреки всему происходившему в картинах я находил свой мир отдохновения».
Название картины – «Димитрий Царевич убиенный» – Нестеров снабдил пояснением: «По народному поверью души усопших десять дней пребывают на земле, не покидая близких своих».
Так и убиенный Царевич на картине Нестерова посещает тихо и незримо те места, где протекла его короткая жизнь. Он мертв: он не сам идет детскими ножками в узорных сапожках – его влечет неведомою силою. Он скользит неслышно, как светлое, тающее облачко, над нежно-зеленою, вешнею луговинкой, по которой еще недавно бегал играя.
Ранняя утренняя заря. Роса. Все неподвижно: маленький древний Углич, его «стольный град», окруженный стеною дремучего бора, с шатровым белым храмом и палатами; чуть подернутая уже почти растаявшим легким туманцем луговина; тонкие трепетные березки с сквозистого, как зеленое воздушное облачко, листвою, вешнее, утреннее, нежно-облачное небо со слабою синевою – все неподвижно и тихо.
Убиенный Царевич идет неслышными стопами – и
(Пушкин)
«Димитрий Царевич убиенный» не икона (как и пушкинский «рассказ патриарха» не житие). И все-таки нечто от «иконы» взято художником для «картины»: композиционное положение фигуры Царевича, его головы, рук, ног и ее отношение к изображению Христа. Царевич как бы «предстоит» на картине Нестерова. Но всмотритесь в его лик, в тихое, грустное спокойствие всей его фигуры. Он весь еще в родном, в земном, среди этих угличских березок, еще со знаками страданья на лице. В весенней тишине, в нежной зелени чудесного утра чуется некое соучастие в светлой скорби, в неповинном страдании Царевича Димитрия.
В ответ на мой разбор этой картины Нестеров писал мне 19 сентября 1923 года:
«Единая душа» человека и природы, его окружающей, взаимно необходимы. Эта единая душа создает то единое действие, ту целость впечатлений, кои поражают нас у великих мастеров Возрождения, да и более поздних и менее великих художников, и нет нужды допытываться, обладал ли мастер этим секретом сознательно на вершинах культуры века своего или делал это в простоте душевной».
Выставка Нестерова явилась событием. Она имела исключительный успех, вызвав живой отклик в самых различных слоях населения Петербурга.
«Последние дни выставки, – вспоминает Нестеров, – публика валом валила на нее. В праздники бывало более чем по 2000 человек… Едва было можно пробиться через людскую гущу».
Успех выставки повторился в Москве. Я живо помню эту нестеровскую выставку.
Она радовала своим необычным внешним видом. На ней было празднично. Она утопала в цветах, была украшена чудесными многоцветными вышивками крестьянок Киевской губернии: удивительно дружно сочетались эти образцы современного народного творчества с работами художника, почти сплошь посвященными деревенской Руси.
Выставка поражала многолюдством посетителей, но еще более их пестротою, небывалою на других выставках. Тут встретилась Москва всяческая: архиерей в шелковой рясе и студент-химик в тужурке; боевой генерал с «Георгием» в петлице и «толстовец» во фланелевой блузе; профессор Московского университета и молодой рабочий с Пречистенских курсов. Было очевидно, что художник затронул широчайшие круги «стара и млада» тогдашней Москвы. Все смотрели выставку по-разному: иные долго, молча стояли пред эскизами абастуманских образов; другие как зачарованные простаивали перед «Портретом дочери»; третьи по получасу простаивали перед «Димитрием Царевичем убиенным»; для четвертых очарование выставки было в пейзажах.
Но ни один не прошел мимо «Святой Руси». Никто не остался пред нею равнодушен: она возбуждала признание и отрицание, любовь и вражду.
Художественный и политический диапазон споров был необычайно широк: от утверждений, что «Святая Русь» лучшее произведение Нестерова, до заявлений, что эта картина «может служить образцом недостатков Нестерова».
Первое впечатление от художественного произведения для зрителя, как и для самого художника, часто сильно рознится от того впечатления, когда то же произведение глубже освоено внутренним зрением и осмысленно длительным размышлением.
Так случилось и со «Святою Русью».
Но и при первом появлении приятие картины даже теми, кто ее принимал, не было целостным.
Христос не удался на картине – в этом сходились люди, смотревшие на картину с самых различных точек зрения. «Нестеров хотел написать русского Христа, – утверждает Максимилиан Волошин, цитируя тут же Тютчева: «В рабском виде царь небесный». – На картине же стоит лжеклассический Христос, который мог быть написан Сведомским, манекен в эффектной позе, а за ним несколько трафаретных васнецовских старцев. Нельзя найти достаточно плоских и напыщенных слов, чтобы передать всю театральность этого Христа».
Это самый резкий из отзывов, но он принадлежит художнику и поэту, высоко ценившему творчество Нестерова и впоследствии, в свой черед, высоко оцененному Нестеровым.
Святые тоже не были удачны на картине – Николай-чудотворец и Георгий Победоносец были простыми вариантами абастуманских образов, а Сергий Радонежский был переписан с правой створки триптиха «Труды преподобного Сергия». На святых сказалась усталость художника от иконописных заказов.
В Христе же чувствовалась не усталость художника, а чужесть этого Христа русским людям, пришедшим к нему.
Как в одеянии Христа, есть холодная чуждость и в этом повороте головы словно поверх пришедших, и в этом властном, ни на кого не взирающем взоре, и в этом безразличном бездействии опущенных рук, – есть холодная чуждость во всем облике Христа, будто он не видит или не хочет видеть тех, кто пришел к нему с таким устремлением, с таким страданием.
В бытность Нестерова летом 1907 года в Ясной Поляне домашний врач и близкий друг Толстого Д. П. Мако-вицкий показал ему страницу своего стенографического дневника, где с точностью записывались все слова и речи Льва Николаевича. Вот одна из записей, выписанная тогда же Нестеровым:
«Ю.И. Игумнова (художница. – С.Д.), приехав из Москвы, говорила о выставке Нестерова, которая ей нравилась, о Христе на картине «Св. Русь» говорила с недоумением: «Он мог его нарисовать, как на иконах». Лев Николаевич сказал: «Он должен был нарисовать его таким, каким его видят все эти люди, которые стоят перед ним. Они его не могут видеть в виде итальянского певца». Помолчав, Лев Николаевич сказал: «Это панихида русского православия». Софья Андреевна спросила: «Что панихида?» Лев Николаевич: «Картина Нестерова».
Под 29 июня 1907 года Маковицкий записал следующее:
«Сегодня я говорил с М.В. Нестеровым о его картине «Явление Христа народу». Я передал ему мнение Л. Н-ча об этой картине, что Христос изображен на ней не таким, каким могли его видеть те, которым он проповедовал, а итальянским тенором; и что эта картина – панихида по православию. М.В. Нестеров сам согласен, что Христос ему не удался: он у него властный, торжествующий. Случилось это потому, что он хотел изобразить его сильным не только духовно, но и телесно, никак не слабее тех людей, на которых он влиял».
Картина Нестерова – это «Явление Христа русскому народу». Но на картине «молящаяся Русь» как бы отмежевана невидимой чертой от того, кому она молится.
Хотел или не хотел того художник, но в толпе идущих к скиту нет общего движения к Христу, вышедшему из его стен.
Нет порыва (пусть у всех различного) к Христу, нет припадения к нему.
Наоборот, по воле или против воли художника, в толпе как бы не вырешилось еще самое отношение к явившемуся Христу.
Только в ясно-голубых глазах крестьянской девочки, любяще и кротко устремленных на Христа, светится радостное умиление. Но в умных, чистых глазах крестьянского мальчика нет этого умиления; на них легла первая дымка какого-то внутреннего раздумия.
На красивом лице молодой женщины в узорном платке, стоящей за крестьянскими детьми, нельзя прочесть никакого отношения к Христу: вся она замкнута в свою невеселую думу. Восьмидесятилетний старик монах с длинными прядями белых волос, опирающийся на плечо девочки, через очки, почти слепыми глазами пристально смотрит на Христа, но смотрит он с какой-то нарочитою зоркостью, со строгою озабоченностью, словно хочет распознать: кто же этот пришедший – Христос ли, которому он молился, или некто иной? Несомненно, смотрит на Христа болезненный подросток в синем подряснике, но какое внутреннее действие присуще этому странному подростку, точно сошедшему со страниц Достоевского? Во взгляде его скошенных на Христа глаз столько темного недоумения, столько осторожного недоверия!
Есть и другое подобное лицо на картине, оно так же превосходно написано Нестеровым-портретистом, написано с репинскою небоязнью прямо взглянуть в лицо жизни. Это молодой странник в скуфейке. Он стоит на коленях подле подростка в подряснике, но он вовсе не смотрит на Христа, а в сторону от него, странно сверкают белки его глаз на землистом, нездоровом лице; упрямо и круто вихрятся его черные жесткие волосы; узкою змейкой чернятся чуть пробившиеся усики; крепко стиснуты его губы, на которых вряд ли сверкала улыбка. Невозможно забыть этого лица, какой-то жутью, озорною сумрачностью веет от него! Оттого он и смотрит не на Христа, а словно заглядывает в темное, страшное лицо жизни.
У троих рядом стоящих – у сестры милосердия, у молоденькой монашки и старика в самоедской шапке-ушанке – как будто нет никакого отношения к Христу; они смотрят совсем не на него, а на зрителя – каждый по-своему, но без всякой связи с тем, что происходит перед ними.
Ошибка ли это художника, прямо перенесшего эти лица на картину с превосходных портретных этюдов и
не подчинившего выражение лиц, движение глаз общему смыслу происходящего на картине? Или это не ошибка, а намерение художника показать всю разность чувств и ощущений в толпе, вызванную появлением Христа, – от светлого умиления до спокойного равнодушия и острого недоверия?
Две группы правой стороны картины – бабы в поневах и больная девушка со схимницей и с попечительной пожилой женщиной – обособлены на картине. Они заняты своим делом: баба слепая бредет, опираясь на бабу плохо зрячую; лица их опущены ниц, и ни единого луча света не падает на них от «небожителей», вышедших из скита: бабы их просто не видят. Не видят «небожителей» и схимница с пожилой женщиной, бережно ведущие больную девушку в желтой душегрейке. Старая схимница с изможденным, землистым лицом погружена во внутреннюю молитву, а на лице пожилой женщины написана глубокая заботливость о больной.
Большие, страждущие глаза больной девушки широко раскрыты. Но видит ли она Христа? Если б она увидела Христа, в этих горестно раскрытых глазах должна была бы приутихнуть их блуждающая боль и неусыпная тоска.
И только двое – склонившийся на колени пожилой крестьянин да рухнувшая к ногам Христа женщина – полны движения к нему, но лиц их мы не видим, и оттого это движение не освещено внутренним движением их чувств и мыслей.
Свет тихого, радостного общения с Христом светит только в ясных глазах деревенской девочки.
Случайность это или не случайность? Не есть ли это следствие убеждения художника в истине евангельских слов: «Если не будете как дети, не войдете в царствие небесное», не увидите и Христа? На этих словах через несколько лет он построит другую картину на ту же тему.
Страждущая духом и телом толпа «труждающихся и обремененных» почти сплошь написана на картине с такою житейского силою, заставляющею в иных лицах вспоминать то о Сурикове, то о Репине, что она как бы подавила художника своей реалистическою правдою, и у него не оказалось достаточно вдохновения на святых с Христом.
Русский народ – в его страдании, в его томлении душевном и сердечном – есть на картине Нестерова; «яв-
ления» же «Христа русскому народу» на ней не произошло.
Нестеров уже при создании картины смутно чувствовал, что в левой части картины – у святых – у него что-то менее ладится, чем в середине и в правой части – у «грешных». Ни в одном письме его нет радостной пометы об удаче здесь, у святых. Наоборот, делясь с Турыгиным своей радостью, что «картина двигается успешно», он предостерегает не только приятеля, но и самого себя от преждевременного торжества: «Главное еще не написано», Христа еще нет.
7 мая 1924 года, после поездки в Ленинград, когда он видел картину в Русском музее, Нестеров писал мне про «Святую Русь»:
«Слаба она, ох! слаба она в главном… главного в ней нет – и это почти все».
Это окончательный отзыв Нестерова об его «Святой Руси». Но неудовлетворенность его «главным» в ней – Христом – началась у него вскоре после того, как картина была окончена.
В 1905 году Нестеров уже занят собиранием материала для новой картины на ту же тему под другим названием – «Христиане». Он работал на среднем плесе Волги, в Васильсурске и Пучеже, набираясь новых впечатлений от издавна любимой великой реки и ее кондового, яркого народа.
Действие новой картины должно было происходить на берегу Волги как коренной русской реки, средоточия исторической жизни русского народа.
В плане новой картины тема «Святой Руси» расширялась. В числе «христиан» должны были появиться не одни люди народной веры, но и носители русской мысли, и в их числе Лев Николаевич Толстой.
3 июня 1906 года Нестеров писал графине С.А. Толстой:
«Приступая к выполнению задуманной мной картины «Христиане», в композицию которой среди людей, по яркости христианского веропонимания примечательных, войдут и исторические личности, как гр. Л.Н. Толстой, для меня было бы крайне драгоценно иметь хотя бы набросок, сделанный непосредственно с гр. Льва Николаевича».
Ответ Софьи Андреевны был уклончив. Она желала успеха в замысле, но, ссылаясь на болезненность Льва
Николаевича, прибавляла: «Думаю, что Вы можете взять множество портретов Льва Николаевича и Вашим талантом, воображением создать то выражение, которое выразило бы Вашу мысль».
Нестеров так не думал. Ему, привыкшему даже святых воссоздавать из живых людей, нужен был живой Толстой, а не «сочинительство» по портрету.
В августе 1906 года он приехал в Ясную Поляну, делал наброски с Толстого, а в июне 1907 года вновь повторил поездку.
Но 6 сентября 1907 года он писал Турыгину из Абрамцева: «Что касается «Христиан», то их дело плохо. За лето к ним ничего не сделано, – отчасти потому, что… я запоем захандрил (хандрю и теперь), отчасти «Христиан» отодвигает другое дело».
Это была Марфо-Мариинская обитель, вновь увлекшая Нестерова к церковным работам.
Но желание продолжать работу над «Христианами» – новою «Святою Русью» – было в Нестерове так велико, что он выдвинул свою заветную тему в круг церковных работ, более того – отвел ей там первое место.
Это был пятнадцатиаршинный «Путь ко Христу», написанный в трапезной Марфо-Мариинской обители.
В этом новом варианте «Святой Руси» Нестеров отказался от многого, что было в старом.
Он изменил пейзаж. От зимы он вернулся теперь к ранней весне, своему любимому времени года. Пейзаж остался широк, просторен, как бескрайний русский окоем. Но вместо лесистой долины пред нами теперь светлое тихое озеро со сбегающими к нему, как к чаше, полями и перелесками, с луговиной, усеянной первоцветами, с частым березняком.
Толпа на «Пути ко Христу» тоже сильно изменена сравнительно с первой картиной. Это все люди современного города, деревни, школы, больницы.
Быть может, самым ярким отличием «Пути ко Христу» от предшествовавшей картины является то, что на ней нет монастыря и нет святых, спутников Христа.
Христос выходит к ним не из скита, не из церкви, а из светлого березового перелеска, овеянного зеленою и белою дымкой весны. Христос здесь связан с русскою природою, а не с храмом и монастырем. В белых одеждах, исполненный благодати и грусти, он протягивает левую руку тянущейся к нему больной простоволосой де-
вушке, а правую подает в помощь другой женщине, в платке.
Композиция картины построена как триптих. Такое построение картины естественно выделяет ее центр, но центром этого центра оказался не Христос, а народная группа притекающих к нему.
Не исцелитель боли, а эта народная боль и нужда в исцелении остались, как и на «Святой Руси», центром картины.
Но есть существенная разница в построении этих «труждающихся»: среди них нет таких сильно драматических фигур, как больная девушка в золотой душегрейке, нет таких острых лиц, как «ястребенок»-подросток и молодой смуглый странник. Нестеров писал на стене храма, и это удерживало его от образов и лиц, которые могли бы со «Святой Руси» перейти на «Крестный ход» Репина.
Основная заветная тема Нестерова была шире и объемистей, чем тот вариант ее, который довелось ему выполнить на стене храма. И, работая над «Путем ко Христу», он ни на минуту не оставлял мысль о «Христианах».
Большой эскиз «Христиан» был окончен прежде, чем Нестеров приступил к работам в Марфо-Мариинской
обители.
Насколько дорожил Нестеров эскизом «Христиане» как залогом будущей картины, говорит его собственноручная надпись на обороте эскиза:
«В случае, если картина «Христиане» с этого эскиза написана не будет, то эскиз этот должен поступить, как дар мой, в музей императора Александра III. М. Нестеров. 1907. 4 ноября. Киев».
Нестеров утвердился в мысли, что на картине, отображающей Россию в ее христианском бытии, должны быть высшие представители интеллигенции. На эскизе появились и вошли потом в картину Достоевский, Толстой и Вл. Соловьев.
29 мая 1931 года Нестеров писал мне: «Если я позволил себе показать в большой картине портретные изображения Толстого, Достоевского, Соловьева, то это было вызвано основной темой картины. Она без этих лиц была бы не полна, не закончена. Толстого, Достоевского и Соловьева нельзя было выкинуть из жизни народа, идущего по путям, скажем, богоискательства». Перешел с Николаевича, прибавляла: «Думаю, что Вы можете взять множество портретов Льва Николаевича и Вашим талантом, воображением создать то выражение, которое выразило бы Вашу мысль».
Нестеров так не думал. Ему, привыкшему даже святых воссоздавать из живых людей, нужен был живой Толстой, а не «сочинительство» по портрету.
В августе 1906 года он приехал в Ясную Поляну, делал наброски с Толстого, а в июне 1907 года вновь повторил поездку.
Но 6 сентября 1907 года он писал Турыгину из Абрамцева: «Что касается «Христиан», то их дело плохо. За лето к ним ничего не сделано, – отчасти потому, что… я запоем захандрил (хандрю и теперь), отчасти «Христиан» отодвигает другое дело».
Это была Марфо-Мариинская обитель, вновь увлекшая Нестерова к церковным работам.
Но желание продолжать работу над «Христианами» – новою «Святою Русью» – было в Нестерове так велико, что он выдвинул свою заветную тему в круг церковных работ, более того – отвел ей там первое место.
Это был пятнадцатиаршинный «Путь ко Христу», написанный в трапезной Марфо-Мариинской обители.
В этом новом варианте «Святой Руси» Нестеров отказался от многого, что было в старом.
Он изменил пейзаж. От зимы он вернулся теперь к ранней весне, своему любимому времени года. Пейзаж остался широк, просторен, как бескрайний русский окоем. Но вместо лесистой долины пред нами теперь светлое тихое озеро со сбегающими к нему, как к чаше, полями и перелесками, с луговиной, усеянной первоцветами, с частым березняком.
Толпа на «Пути ко Христу» тоже сильно изменена сравнительно с первой картиной. Это все люди современного города, деревни, школы, больницы.
Быть может, самым ярким отличием «Пути ко Христу» от предшествовавшей картины является то, что на ней нет монастыря и нет святых, спутников Христа.
Христос выходит к ним не из скита, не из церкви, а из светлого березового перелеска, овеянного зеленою и белою дымкой весны. Христос здесь связан с русскою природою, а не с храмом и монастырем. В белых одеждах, исполненный благодати и грусти, он протягивает левую руку тянущейся к нему больной простоволосой девушке, а правую подает в помощь другой женщине, в платке.
Композиция картины построена как триптих. Такое построение картины естественно выделяет ее центр, но центром этого центра оказался не Христос, а народная группа притекающих к нему.
Не исцелитель боли, а эта народная боль и нужда в исцелении остались, как и на «Святой Руси», центром картины.
Но есть существенная разница в построении этих «труждающихся»: среди них нет таких сильно драматических фигур, как больная девушка в золотой душегрейке, нет таких острых лиц, как «ястребенок»-подросток и молодой смуглый странник. Нестеров писал на стене храма, и это удерживало его от образов и лиц, которые могли бы со «Святой Руси» перейти на «Крестный ход» Репина.
Основная заветная тема Нестерова была шире и объемистей, чем тот вариант ее, который довелось ему выполнить на стене храма. И, работая над «Путем ко Христу», он ни на минуту не оставлял мысль о «Христианах».
Большой эскиз «Христиан» был окончен прежде, чем Нестеров приступил к работам в Марфо-Мариинской обители.
Насколько дорожил Нестеров эскизом «Христиане» как залогом будущей картины, говорит его собственноручная надпись на обороте эскиза:
«В случае, если картина «Христиане» с этого эскиза написана не будет, то эскиз этот должен поступить, как дар мой, в музей императора Александра III. М. Нестеров. 1907. 4 ноября. Киев».
Нестеров утвердился в мысли, что на картине, отображающей Россию в ее христианском бытии, должны быть высшие представители интеллигенции. На эскизе появились и вошли потом в картину Достоевский, Толстой и Вл. Соловьев.
29 мая 1931 года Нестеров писал мне: «Если я позволил себе показать в большой картине портретные изображения Толстого, Достоевского, Соловьева, то это было вызвано основной темой картины. Она без этих лиц была бы не полна, не закончена. Толстого, Достоевского и Соловьева нельзя было выкинуть из жизни народа, идущего по путям, скажем, богоискательства». Перешел с эскиза на картину и Алеша Карамазов, один из любимых литературных героев Нестерова.
Понятно появление в толпе идущих к Христу Иванова. Но в эскизе это самая неясная, менее всего живописно отлившаяся фигура. На картину она не перешла, думается, потому, что художник-ученик не нашел образа, достойного художника-учителя.
Упорная и порою увлекательная работа в Марфо-Мариинском храме не отстранила Нестерова от мечты об еще более увлекательной работе над «Христианами». Как только мог и где только было возможно, он урывал время и место для этюдов к «Христианам» и работал над ними с радостью живописца, окунувшегося в народную жизнь, богатую образами и красками. На хуторе Княгинине, близ Сунок Киевской губернии, в Березках Тверской губернии, в старых местах под Троицей, в самой Москве – всюду он искал и находил тех русских людей, которых видел на своей будущей картине.
Лето 1910 и 1911 годов урывками и лето 1912 года полностью Нестеров провел в Березках на берегу лесного озера.
Уезжая осенью из Березок, Нестеров мог подвести итог (письмо от 16 сентября 1912 года): «Несмотря на все препятствия этого лета, я все же «Христиан» сдвинул с места; написал к ним до 20 этюдов, из которых до десятка пойдут в дело».
Они действительно пошли в дело.
Один из них – этюд пожилого крестьянина с лицом, своею мужественностью напоминающим Моисея Микеланджело, превратился на картине в одну из самых выразительных фигур крайнего правого плана.
В 1910–1911 годах в Березках были написаны два яркоцветных, очень сильных по живописи этюда с одного и того же сельского черноволосого дьякона: один в золотом глазетовом стихаре, другой в стихаре из алого бархата.
Два пейзажных этюда пригодились для картины. Основой ее пейзажа послужила Волга, отлично изученная Нестеровым; но вереница домиков с церковью на верхнем берегу построена по этюду с Березок.
Окончательный эскиз задуманной картины был написан в 1914 году. Картина писалась в 1914–1916 годах – в годы войны с Германией, точно так же, как и «Святая Русь» оканчивалась во время войны с Японией.
Нестерову всегда – в течение всей жизни – было свойственно чувство высокой любви к родине. Годины ее исторических испытаний – а ему пришлось быть свидетелем четырех больших войн – он переживал как события личной своей жизни, умом и сердцем отдаваясь им горячо и трепетно.
22 июля 1905 года – в разгар русско-японской войны – он с горечью писал Турыгину: «Посмотри на наши выставки, в чем там и у кого отразились события – трагедия настоящей войны, – ни у кого; а если и есть два-три этюда войны, то и те описаны равнодушными Геллерами[26, а не нами, у кого должно сердце болеть, мысль работать страстно, горячо». В том же письме Нестеров сообщал: «Я с остервенением работаю. Написал эскиз „Минин“ (как видишь, в духе времени)». Это был его патриотический отклик на тревогу времени.
С горячим волнением встретил Нестеров первую войну с Германией.
«События огромной важности сменяются со страшной быстротой, – писал он из Москвы 24 августа 1914 года. – Нет Самсонова, нет десятков тысяч погибших под Сольдау. Взят Львов и Галич… Пойти хоть санитаром туда, в самое пекло».
В дни этих тревог о судьбе родины Нестеров вновь обратился к «Христианам».
Исторический рубеж для родины, остроту которого художник так явственно ощущал, заставил его глубже вдуматься в давний свой замысел.
На предыдущих картинах – «Святая Русь» и «Путь ко Христу» – он брал русский народ, полно или нет, в его настоящем. В первом эскизе «Христиан» (1907) также нет лиц, взятых из прошлого. Теперь же, стоя на историческом рубеже, он понял, что никакое изображение пути русского народа к добру и правде невозможно без творческого отображения его исторического прошлого. Тяжкий труд истории, поднятый русским народом и государством, был всегда предметом самых заветных размышлений Нестерова. Ему и Сергий Радонежский был особенно дорог тем – он не раз говорил мне это, – что из тишины иноческой кельи он выходил в шум истории, когда этого требовала нужда народа и государства. Он и в радонежском подвижнике видел героя Куликовского поля.
В новый замысел «Христиан» должны были войти трудники исторического дела России, которое неотделимо, по убеждению Нестерова, от духовного пути русского народа.
В картине, кроме безвестного иноческого «лика» и крестьянского люда, кроме жителей современного русского города, кроме высшего круга интеллигенции, должны были появиться исторические представители церкви учащей и правящей (священник, епископ), представители государственной власти, какою она исторически сложилась на Руси XV–XVII веков (царь), представители воинской силы, какою Русь оградилась от кочевников с востока и юга и завоевателей с запада (воевода с воинством).
Патриарх, священпик, царь, воевода с воинскою дружиной – такими, какими они были в русской истории, – вошли в окончательный эскиз, а с него перешли на картину. Но в них – это Михаил Васильевич всегда подчеркивал – он не желал изображать определенные исторические личности: царь и патриарх – это не исторический портрет, это исторический образ, вобравший в себя много портретов и еще больше творческих домыслов художника.
16 октября 1914 года Нестеров сообщил Турыгину:
«Последние дни кончал окончательный эскиз «Христиан». Теперь хоть и за картину приниматься, – все продумано, все естественно и, кажется, живет и движется…»
Но «гроза военной непогоды» долгое время не давала Нестерову сосредоточиться на работе над картиною.
Война своими тревогами не только отрывала Нестерова от работы, она ставила перед ним один за другим новые вопросы об исторических путях и перепутьях русского народа, о его доблестях и слабостях, обретенных им на этом пути. По мере роста военных неудач эти раздумья о судьбе родины овладевали художником и как бы отстраняли его от картины. Галицийское отступление, отход русских войск от Карпат и из Польши, приближенно войны к пределам коренной России произвело на Нестерова тягостнейшее впечатление.
В письмах этого времени весь Нестеров тех тяжелых месяцев, во всей неудержимой горячности своего темперамента, во всей горечи от исторических неудач и оплошностей своего народа, во всей силе своей любви к нему и умной, зоркой вражды к его врагам.
18 августа 1915 года из Туапсе, куда врачи послали его лечиться, Нестеров писал: «Все, чем жил годами, – «Христиане», выставка и там и сям, все теперь ушло далеко, стало малоценно, куда-то «поплыло», как в тумане. Война, Россия. «Что будет?» – это и стало вопросами жизни…»
После завершительного эскиза в 1914–1915 годах, томимый этою тоскою за родину, Нестеров лишь урывками писал этюды для картины. Только к осени 1915 года Нестеров нашел в себе силы вплотную подойти к картине. Как всегда, в творческом труде нашел он отрешение от своей скорби и тоски.
Лето 1916 года Михаил Васильевич проводил в Абрамцеве. Он жил в версте от абрамцевского дома, на Яснушке. Было тихо и пустынно в то лето. Мне часто приходилось встречаться с Михаилом Васильевичем в эту пору; он по-прежнему тревожно переживал все, что было связано с войной и судьбами русского народа.
Война не миновала и Абрамцева. Там, в бывшем «домашнем театре», был устроен лазарет для слепых солдат. Это были жертвы новой военной жестокости, изобретенной тогда немцами: удушливых газов.
У всех, кто жил тогда в Абрамцеве, было особое чувство любви, уважения, почти благоговения к этим солдатам с потушенными глазами. Все были одушевлены желанием помочь им.
Михаил Васильевич, отрываясь от этюдов, ходил к ним беседовать. Он восторгался в них красотой души и необычайной скромностью русского человека. Он решил, что именно такой русский солдат, ослепший от газов, должен появиться на его картине, замыкая собою исторический круг защитников Русской земли.
«Я писал с них этюды для первопланной фигуры», – вспоминает Нестеров про свои посещения абрамцевского лазарета для слепых.
«Позднее, уже осенью, я нашел для своего слепого превосходную модель. То был тоже солдатик из рабочих. Нашел я его в Арнольдовском убежище для слепых, что было на Донской. Это был красивый, с правильными чертами лица, высоко настроенный юноша. Написанный с него этюд и вошел в картину».
На картине фигура слепого юноши солдата оказалась важнейшей фигурой правой стороны, всего ее переднего плана.
Появление этой современнейшей из фигур заставило художника перепланировать весь правый край картины.
В Абрамцеве же был найден тот образ, который был Нестерову всего дороже на картине, который решал для него, «быть или не быть». Это образ мальчика, одиноко и бодро идущего далеко впереди этой «всея Руси», шествующей трудно и медлительно.
Единственному сыну художника Алеше в это время было девять лет. Именно ему довелось послужить для отца лучшей натурой для нового русского мальчика. В его фигуре, движениях художник упорно и долго искал то, что было нужно.
Однажды Алеша, в липовых лапоточках, онучах, портах из крестьянской пестрядины, показался ему так правдив, так подлинен, прост и выразителен, что, боясь утерять найденную позу, которая была не позой, а правдою, Михаил Васильевич решился на то, чего никогда не делал: он удержал эту Алешину позу на фотографическом снимке.
Эта поза и была разработана на картине. А основной этюд лица и фигуры (до пояса) был написан с Алеши в Абрамцеве, на воздухе, на теплом фоне влажной зелени, которою так богата была тогда Яснушка. На этюде какой-то утренней чистотой веет и от вешней светлой природы, и от светлой души этого русского мальчика.
Этим же веянием светлой чистоты, обаянием ясности и правды овеяна и фигура мальчика на картине.
11 августа 1916 года Михаил Васильевич писал уже из Москвы: «Картину за этот свой недельный приезд в Москву сильно двинул: написал почти весь первый план, и он ожил… Все еще не могу остановиться на названии – 1) Христиане, 2) Верующие, 3) На Руси, 4) Алчущие правды и, наконец, 5) Душа народная (или народа)».
Каждое из этих пяти названий в какой-то мере объясняло картину, но только какую-нибудь одну ее сторону, каждое удовлетворяло художника, но лишь до известной степени.
Под названием «Душа народа» Нестеров в январе 1917 года открыл картину и показывал ее друзьям. Я много раз слышал это название из уст Михаила Васильевича в 1917–1921 годах и позже. Но в конце концов не оно стало окончательным названием картины.[27
Работая над картиной, Михаил Васильевич не умел и не хотел отстранять себя от жизни. Работая с раннего утра по нескольку часов (не менее 4–5), он в остальное время жил той же напряженной жизнью сердца и мысли, которою привык жить всегда. Военные телеграммы по-прежнему то ранили, то ненадолго исцеляли его. Он по-прежнему отзывался на нужды учреждений и организаций, несущих заботу о раненых, беженцах, жертвах войны: рисовал обложку для благотворительного календаря, рисунок для открытки, выпущенной в 100 000 экземпляров, давал свои вещи на благотворительные художественные выставки (и только на такие, решительно отказываясь выступать на всяких других) и т. д. Он ни на минуту не прерывал живого общения с многими художниками, писателями, учеными, общественными деятелями. Он полон был новых художественных замыслов.
Эта неустанность мысли и труда – одновременно с огромной затратой сил на картину – привела к тому, что в середине января 1917 года, по словам Нестерова, доктор Ф.А. Гетье «выгнал» его из Москвы в Черниговский скит, в тишину, в одиночество, на отдых.
Но отдых был недолог, и через месяц (17 февраля) Нестеров уже писал из Москвы: «Работаю, написал небольшую картину. Работаю немного и над большой. Все время бывают желающие ее видеть».
Поток желавших увидеть картину лился непрерывно.
«Все картину хвалили, пророчили ей успех, – вспоминает сам художник. – Каждый влагал в нее свое понимание, давал ей свое наименование, искал подходящий текст для эпиграфа…»
Я впервые увидал картину Нестерова 19 января 1917 года.
Первое впечатление было полнейшей неожиданности. Здесь был какой-то новый Нестеров, новый не в основе своей, а в каком-то новом качестве, в ином своем свойстве, которого как будто не было прежде. Привычная лирическая ласковость живописного сказания Нестерова сменилась чем-то иным, мужественным и строгим.
Картина приковывала своей ширью и силою. Удлиненность картины и построение толпы по диагонали, причем ближайшие фигуры правой стороны писаны в рост человеческий, делали то, что представлялось, будто это плотная, тесная толпа идет по луговине, движется упорно и неостановимо, а за ближайшими ее рядами двигаются еще ряды, движется еще толпа, и нет конца этому народному движению, исходящему откуда-то из глубины, которую не измерить.
Ни на одной русской картине (кроме репинских «Бурлаков» и «Крестного хода») это движение, не устранимое, не задержимое ничем движение народной массы не передано с такой простотою, с таким лаконизмом, но и с такой силою, как здесь у Нестерова.
Левый берег Волги у Царева Кургана. За богатой «заливной луговиной», еще зеленой, но чуть уже тронутой золотом осени, расстилается широкий волжский простор, а за ним мягко поднимаются зеленые горы с волнистыми очертаниями; понизу, у воды, виден маленький приволжский городок, не то старинное большое село с каменной пятиглавой церковью, с одноглавой звонницей. По Волге буксирный пароход тянет две крутобокие расшивы.
На левобережной луговине доцветают «цветы последние»; топорщится косматая елочка; трепещет березка под дуновением свежего ветерка; тянется хрупкая изгородка; спускается к реке некрепкая цепочка кустиков, а за нею стелется желтая ленточка песков.
Серовато-жемчужное небо, все в облаках, привычно и кротко глядится в серовато-серебряную реку, спокойную, величественную – хочется сказать, до последней капельки родную, до дна знакомую и дорогую.
Все в природе здесь широко, привольно, прекрасно, но обычно.
Необычайна лишь спокойная, безмолвная толпа, движущаяся по этой луговине справа налево, по берегу Волги.
В ее сердцевине – двое пожилых, но еще полных сил крестьян в суконных поддевках и в сапогах, с благообразными, но обычными лицами несут большой образ Нерукотворного Спаса в старинном серебряном окладе. Несут древнюю чтимую икону с потемневшим ликом, по это не крестный ход: ни других икон, ни крестов, ни хоругвей никто не несет. Справа, рядом с одним из крестьян, несущих Спаса, шествует священник – это опять самый обыкновенный деревенский или городской старичок священник с добрым, но ничем не примечательным лицом, в одной простенькой епитрахили, с крестом в правой руке. Это привычная, всем известная фигура, похожая на тысячи таких же точно священников в городе и деревне. Рядом с ним, с горящей свечой в руке, молодая женщина в темно-синем сарафане, повязанная платком, – может быть, это скитница из заволжского старообрядческого скита, а может быть, и просто крестьянка из Заонежья или Зауралья.
Но по левую сторону от Спаса взор с изумлением находит фигуру из другого века, давно поглощенного историей. Это царь XVI–XVII веков. Он шествует в «большом царском наряде»: в златотканом платно, заменявшем у московских царей порфиру, в золотых бармах (оплечье), усеянных самоцветами, в шапке Мономаха, с золотым скипетром в правой, с державой в левой руке. Он идет со всеми, как и все, тихо и спокойно, но во всем наличии исторических знаков своего достоинства. По лицу, несколько полному, с рыжеватыми усами и бородою, он напоминает чем-то царя Алексея Михайловича, но это не Алексей Михайлович и никто другой, это русский царь в том образе, в каком он три века назад жил в сознании русского народа.
Рядом с ним патриарх – в святительском ало-золотом саккосе, в древней золотой митре-шапке с седою меховою опушью, с умным, строгим, но вовсе не иконописным лицом худого бодрого старца. И патриарх в обличье XVII века, опираясь на жезл, идет также совсем один, без свиты иподиаконов, протодиаконов, протопопов и архиереев. И это также не Иов, не Гермоген, не Филарет, это опять тот «святейший патриарх», каким он был исторически увиден, внутренне воспринят русским человеком XVII века.
Рядом с патриархом медленно движется столетний схимник в черных одеждах. Откуда он – из истории, как патриарх и царь, или из жизни? Таким он был при царях и патриархах, таким же Нестеров видел его в Соловках в 1901 году. История тут не двигалась.
Но за патриархом и царем опять виднеется фигура из глубокой старины: это «верховой воевода», в стальном шлеме, в броне, верхом на коне в богатой сбруе. Подле воеводы знамя князя Пожарского. Но сам он не князь Пожарский, изгнавший поляков из Москвы в 1612 году; это общенародный образ водителя русского воинства, оборонявшего рубежи русской земли от врагов с востока, с юга и с запада. И далеко над головами толпы виднеется частокол копий: это русское воинство, предводимое воеводой.
Это власть государственная (царь), церковная (патриарх), военная (воевода), доселе сопутствовавшая русскому народу в его историческом пути.
Но где кончается старая Русь, где начинается новая Россия? Трудно решить, и в этом была счастливая удача художника, в этом заключена правда в построении всей толпы. Она казалась единой, насквозь родственной, изнутри спаянной, а не намеренно подобранной. За схимником, патриархом и царем видно пять мужских лиц второго плана; из них в одном, по его охабню, можно узнать боярина, но по лицу он схож с другим седым стариком, в котором можно предположить купца, все равно, торговавшего при Грозном царе или во времена Островского; это все типично русские лица, умиренные внутренним благообразием. Также и три монашеских лица: старика «средовека» и юноши – они одинаково могли быть и в XIX и в XVII веках.
Левее схимника начинается женская часть картины.
И тут также не проведешь грани между XVII веком и XIX. Христова невеста – девушка в сарафане, в белом платке, с горящей свечой в руке – такою она была, когда впервые ревнители старой веры уходили в заволжские леса, и такою же два века спустя приходи па она на озеро Светлояр утолять свою печаль у стен Невидимого града Китежа. И пожилая крестьянка с обветренным лицом, в темной поневе и в лаптях, идущая рядом с Христовой невестой и схимником, быть может, так же шла некогда в «пустыньку» Серафима Саровского, неся туда многогорькую скорбь деревенскую, и сто лет спустя, должно быть, так же покорно шла она в голодный год в столовую, где Лев Толстой кормил голодающих тульских крестьян.
Эти женские лица современны в истории и историчны в современности.
Быть может, еще современнее в своей неотрывности от русской деревни три крайние бабы слева – все в белых холщовых поневах, две молодые, в лаптях, третья старая, в сапогах. Они в сильнейшем душевном движении сбились в кучку вокруг высокого, худого, нагого (прикрыты только чресла) старика с длинными седыми волосами и бородой. Извернувшись изможденным телом вполуоборот к идущей толпе, он запрокинул голову вверх и, подняв ввысь руки, словно отстраняет руками некую тучу, готовую низринуться на идущую толпу, или видит кого-то там, за этим облачным небом, и беседует с ним.
Этот нагой человек – Христа ради юродивый – тот, кто хочет посмеяться над всем, что люди считают важным и великим в жизни: над властью, богатством, человеческим судом, рассудком, кто добровольно принимает на себя облик безумца, для того чтобы внутри себя взрастить человека, живущего лишь по закону любви и правды.
Таких «нагоходцев» русская история знает с XIII века. Народная память сохранила имена многих из них как имена народных заступников, как обличителей неправды «сильных мира сего»: в летописях царствования Ивана Грозного и Бориса Годунова навсегда вписаны имена «нагоходцев» Василия Блаженного и Иоанна Железный Колпак.
Правдивая картина Древней Руси невозможна без исторической и глубоко народной фигуры юродивого. Это знал Пушкин и в «Борисе Годунове» показал Юродивого, смело обличающего царя в его неправде. Это знал Суриков и в «Боярыне Морозовой» показал юродивого, благословляющего на вольное страдание боярыню, противящуюся велениям царя и патриарха.
Это знал и Нестеров, сделав юродивого главной фигурой левого плана картины.
Крайняя правая группа, где люди взяты в подлинный рост, самая близкая к зрителю. Тут нет никакой истории. Молодой солдат, ослепший от ядовитых газов, опирающийся на руку сестры милосердия. Тонкое, нервное лицо интеллигентной девушки (по давнему этюду А.К. Чертковой). Горящее внутренним огнем беспокойной мысли лицо мужчины с черной бородой; острый профиль военного врача в белой шапочке с красным крестом – все это не история, а живая современность – года, дня, часа.
Ни один из художников не создал тогда фигуры солдата, сколько-нибудь приближающейся к нестеровскому юноше, ослепленному газами. В его лице было то, что Тютчев называл «возвышенной стыдливостью страданья». Страданье это побеждено красотой просветляющей правды, которою изнутри овеяло это юношеское лицо. Ни тени «жалостности» не вложил художник в лицо и фигуру человека, лишенного навсегда радости зрения. Это «жаление» было бы обидой этому мужественному юноше солдату. И не принаряжена эта фигура ни в какую позу героизма. Он слепой, но какою внутреннею бодростью веет от него! Сколько мужественной твердости в его походке!
Современнейшая фигура – здесь, повторяю, Нестеров был реалистом чистейшей воды – превращалась в фигуру историческую. Глядя на юношу солдата, верилось, несомненно, что такие, как он, были с Нахимовым в Севастополе, с Кутузовым под Бородином и еще дальше в глубь веков, с Пожарским под Москвою, с Донским на поле Куликовом.
Две фигуры правее слепого солдата – старушка монахиня с добрым лицом и крестьянин – сборщик на церковь – из тех, что бытовали в истории, бытовали и в жизни, когда Нестеров писал свою картину. Сборщик на церковь или на колокол был заметнейшей фигурою деревенской Руси. Это был род мирского подвига, избираемый то по покаянному влечению сердца, то по приговору крестьянского «мира», общими трудами воздвигающего сельский храм.
Образ сборщика-крестьянина у Нестерова так народен, так внутренне значителен, его простое лицо так прекрасно своей строгой думой и внутренней правдою, что оно не теряется среди тех, кем сборщик-крестьянин окружен на картине. А он окружен Достоевским, Владимиром Соловьевым, Львом Толстым.
В небогатой художественной иконографии Достоевского образ, созданный Нестеровым, стоит рядом с портретом, написанным Перовым. Ученик Перова ничем не разрушает образа, созданного своим учителем. Достоевский изображен в том же потертом сером пиджаке, так же чувствуется в нем усталый русский интеллигент, которому трудно жилось и еще труднее думалось о жизни.
Художником в облике Достоевского сохранен весь горестный налет житейских будней, бедности, трудов и болезней, но лицо его озарено высокою мыслью. Внутренний труд бестрепетного самопознания уже высветлил его взор, проникающий в глубь душ человеческих. Отблеск ясной тишины лег на это высокое чело. Чувствуется, что этот мыслитель и писатель не чужой и не сторонний среди этого простого народа: ему здесь, в народной толпе, легко и тепло; он живет общею с нею жизнью, одухотворен одним упованием.
Он был особенно дорог Нестерову, нужен ему на картине, потому что именно от Достоевского по преимуществу перенял он веру в народного Христа – в Христа «бедных селений», раскинувшихся на неоглядной русской равнине.
Для лица Достоевского на двух эскизах и на самой картине Нестеров воспользовался этюдом, написанным еще в 1899 году с доктора Л.В. Средина, жившего в Ялте.
Средин был похож лицом на Достоевского; но для Нестерова еще важнее был его внутренний образ: человека с горячим сердцем, с пытливой работою мысли, с высоким, благородным волнением души, освященным искреннею любовью духа. Эти черты, которые были дороги Нестерову в Достоевском, он нашел и в Средине, друге Чехова и Горького, умирающем от чахотки.
Достоевский, Алеша Карамазов, Влас – к этим трем лицам, спаянным у Нестерова единством внутреннего устремления, художник присоединил четвертое лицо, родное по духу, – Владимира Сергеевича Соловьева.
Как Достоевский взят художником в его последнюю пору, времен «Братьев Карамазовых», так Владимир Соловьев взят в эпоху предсмертных (1900) «Трех разговоров о войне, прогрессе и конце всемирной истории». Это седовласый человек с головой ветхозаветного пророка, с тревожно нависшими бровями, с глазами, опущенными долу под тяжестью снедающей мысли.
Вл. Соловьев взят на картине почти в профиль. Лев Толстой тоже, но у Толстого это профиль всей фигуры. Это последняя фигура справа: она как бы срезана рамой. Лев Толстой в светлой, летней блузе – «толстовке», подпоясан ремнем. Стоит он чуть-чуть поодаль от всех: не то он шел со всеми и приостановился, не то он и не шел, а вот-вот пойдет со всеми. Его явно никто не считает чужим, но он и не в общем движении, которое объединило здесь всех в одно.
Лицо Толстого благообразно, как лицо старого крестьянина, он тоже погружен в думу, как Достоевский и Вл. Соловьев, но смотрит он как будто внутрь себя. Он сосредоточен, самоуглублен, он весь – слух, обращенный к голосам своего разума, сердца и воли, которые вряд ли в полном согласии собеседуют друг с другом.
Отношение Нестерова к Льву Толстому было сложно. Он высоко чтил в нем великого художника. «Война и мир» была одна из любимейших книг Михаила Васильевича.
Любил он и некоторые народные рассказы Толстого.
Но к религиозно-философскому и морально-общественному учению Толстого, в особенности к учению о непротивлении злу, Нестеров относился отрицательно.
Личное знакомство с Толстым не сблизило Нестерова с его учением, но увеличило внутренний интерес к его личности. Тому же Турыгину он писал из Ясной Поляны:
«Да! Я страшно рад, что решился сюда заехать, живется здесь хорошо, а сам Толстой – целая поэма. В нем масса дивного мистического сантимента, и старость его прелестна: он легко устранил себя от суеты сует, оставаясь всегда в своих фантастических грехах». Дополняя эту свою характеристику Толстого, Нестеров тогда же писал: «В том, что он художник – его оправдание… за его «озорную» философию и мораль, в которых он, как тот озорник и бахвал парень в дневнике Достоевского, постоянно похваляется, что и «в причастие наплюет». Черта вполне «русская»… «Христианство» для этого, в сущности, нигилиста, «озорника мысли» есть несравненная «тема». Тема для его памфлетов, острот, гимнастики глубокомыслия сантиментального мистицизма и яростного рационализма. Словом, Л. Толстой – великий художник слова, поэт и одновременно великий «озорник». В нем легко уживаются самые разноречивые настроения. Он обаятелен своей поэтической старостью и своим дивным даром, но он не «адамант».
При первом чтении кажется, что это почти отрицательная характеристика. Но это совсем не так было для Нестерова. Самодумный во всем, Нестеров меньше всего хотел быть последователем Толстого, но в Толстом, даже в том, что называл в нем «озорством», Нестеров видел великого «русского человека», могучего во всем размахе своей личности, своих чувств и противочувствий, мыслей и противумыслей; и он ни на минуту не представлял себе своей картины без Толстого.
Фигура Толстого, быть может, более всего поражала на картине Нестерова своей неожиданностью. Духовные особы не скрывали своего хмурого возмущения: как на картине, изображающей путь русского народа к Христу, может быть человек, отлученный от церкви?
Нестеров отвечал им кратко, но твердо:
– Ничего не поделаешь. Надо там ему быть. Из песни слова не выкинешь. Русский он. Толстого от России не отлучишь!
Кто же ведет весь этот необозримый людской поток?
Никто.
Где тот, к кому толпа стремится в многовековом, многотрудном своем движении?
На первоначальном эскизе впереди этой толпы шествовал Христос в белых одеждах.
На картине его нет.
Художник отказался от мысли дать обобщенный образ русского Христа.
По мысли художника, у этой толпы, исторически и типологически обнимающей весь русский народ, есть Христос, в которого народ этот девятьсот с лишком лет верил, которому он молился. К нему и идет эта толпа.
Художник никого не избирает из этой толпы, чтоб выделить его личную тропу в этом общенародном пути как единственно правую и верную.
«Народу много, народ всякий, и получше и похуже; все заняты своим делом – верой! Все верят от души и искренне, каждый по мере своего разумения. И никого не обвинишь, что-де плохо верит, – верит всяк как умеет».
Он говорил это с глубокой любовью к родному народу, так много сердца, души, подвига, труда вложившему в свою веру. Но он далек был от того чтобы, как лирический поэт русской веры, восклицать: «Как прекрасна вот эта вера!»
Все верят от души и искренне, считал Нестеров, древние и новые, мудрые и немудрые, сильные и ничтожные, миряне и монахи, царь в золотом одеянии и юродивый вовсе без одежды, схимник, признаваемый за святого, и Лев Толстой, отлученный от церкви, – все верят «по мере своего разумения», и ни с одним из этих «разумений» художник не сочетается и не спорит, но всем говорит:
«А все же надо помнить всем и каждому, что «не войдете в царство небесное, пока не будете как дети».
Далеко впереди всей толпы, выделяясь одинокой фигуркой на фоне изжелта-зеленой луговины и серебристо-серой реки, идет крестьянский мальчик лет двенадцати. Это тот возраст, когда мальчик – в деревне – уже полукрестьянин: он и пашет, и косит, и ездит в лес за дровами, и управляется со всякой крестьянской работой. Он в белой рубашке, подпоясанной пояском, синих в полоску холщовых домотканых портах, в чистых белых онучах, в липовых лаптях. За спиною у него холщовая сума, с которою ходят на богомолье, ходят и на работу. В левой руке у него берестяной туес, расписанный пестрыми цветами. Правая рука положена на груди. Он без шапки. Идет он так же спокойно, истово, благоговейно, как все в толпе, но бодро идет один, далеко впереди толпы. Он один на всем левом плане картины. Его лицо прекрасно и светло. Это обычный крестьянский мальчик, но со всею чистотою души, не замутненной грязью жизни, не знающей ни темных борений мысли, ни лукавства воли. Это один из тех крестьянских детей, которых с такою грустною нежностью описывал Тургенев в «Бежином луге», которых с таким упоением учил, о которых с такой благодарностью вспоминал Лев Толстой в статьях своих о яснополянской школе. Чудесное лицо деревенского мальчика, из которого вырастет хороший русский человек, с любовью к родине, с теплою, простою верностью высшему закону любви и правды.
Его голубые глаза устремлены вдаль – не в экстазе какого-то видения, не в порыве веры, тревожной и опаляющей, но в тихом озарении веры детской, тихой и светлой, как утренняя звезда, веры, исходящей из простого, чистого сердца, полного любовью к белому свету.
«Если не будете как дети, не войдете в царствие небесное» – к этому ответу художник пришел путем всей своей жизни, искусства: высшая красота духа для него всегда была соединена с любящею чистотою сердца, с прекрасною простотой души. Именно эту красоту запечатлел он в самом любимом из своих образов – в отроке Варфоломее – и ее же отразил в простом и глубоком, сердечно обобщенном образе русского мальчика на картине. Он был счастлив тем, что сходился здесь с Достоевским и Л. Толстым, которые в детской сердечной любви всегда видели верховную силу любви, доступную человеку.
«Душа народа» – это была для Нестерова не метафора, не аллегория, не символическая формула. Это была для него живая сущность, проявлявшая свое бытие в жизни и в истории. Мальчик с котомкой, по существу, выражает «душу народа» в ее самом простом, но и самом истинном уповании.
«Зимой, за чайным столом, в общей беседе дочь Льва Николаевича Татьяна Львовна Сухотина защищала Метерлинка от нападок Льва Николаевича и говорила о роли настроения в его произведениях, между прочим сказала:
– Да это то самое, что у нас у Нестерова.
На это Леи Николаевич горячо возразил:
– Совсем нет; Нестеров передает настроение народной души, народной поэзии, чего у Метерлинка нет».
Этой выпиской из яснополянских записок доктора Маковицкого, полученною в июле 1907 года от него самого, Михаил Васильевич дорожил. Ему дорого было, что автор «Войны и мира», с такой великой силой передавший величие и мужество «души народа» русского в годину исторических испытаний, видел в нем художника «народной души».
Мне приходилось слышать немало всевозможных попыток истолкования картины Нестерова, сделанных в присутствии ее автора. Все попытки сводились к тому, что по различным философским, политическим и иным мотивам из толпы, изображенной на картине, изымался кто-нибудь один: патриарх, царь, юродивый, крестьянин, воин, схимник, Достоевский, – выдвигался на первый план и превращался в ведущего эту толпу за собою. И всегда Михаил Васильевич объявлял этого «ведущего» самозванцем. Идет сам народ, великий русский народ, общим путем труда и подвига отыскивающий свой крестный путь к истине и правде. И мальчик, идущий всех впереди, никогда не был в глазах художника ведущим.
Он никого не ведет за собою: он идет как все, но он ближе всех к цели, он, не ставивший себе никаких целей, на которые столько труда и усилий затратили многие.
Быть может, ближе всех к художественному смыслу запечатленного создания Нестерова были те, кто тогда же почувствовал, что чудесный лирик создал на этот раз прекрасную в своей строгости трагедию.
Весь образ толпы, идущей к верховной правде, исполнен у Нестерова высокого трагизма. Ни об одном из составляющих эту толпу невозможно сказать, что он придет туда, куда устремлена его воля. И это же должно сказать о всей толпе как о едином существе. Путь ее долог, труден, кремнист, но ничто не удостоверяет, что он завершится обретением того, чего ищет эта сурово-спокойная и вместе с тем насыщенная трагизмом толпа.
«Если не будете как дети, не войдете в царствие небесное». Эту надпись после долгих колебаний Михаил Васильевич в 1927 году написал рукою П.Д. Корина на самой картине, внизу слева.
А если они, эти русские люди, запыленные в древнем дальнем пути по русским равнинам и лесам, истомленные или, наоборот, закаленные в суровых грозах русской истории, – а если они не могут быть «как дети», а если они не захотят на радость детства обменять мужество своей воли или мудрость своей старости, каков тогда будет конец их жизненного и исторического пути?
Исходя из образов картины (а в них-то и заключена мысль художника), ответ может быть только один: «не войдете в царствие небесное», не обретете правды и красоты.
Ответ поистине трагический. Исходя из него, становится ясно, что Нестеров создал трагедию «души народа русского».
Нестеров чувствовал, что в своей «Душе народа» он как живописец нашел в себе ту строгую простоту, ту спокойную силу, ту благородную ясность, которые искал давно, и сохранил при этом свойственную ему поэтическую взволнованность, которая здесь, в создании монументальном, вместо звучания лирического обрела подлинно трагическую звучность.
– Выше этого я не поднимался, – сказал он однажды Корину про эту картину.
Картина еще не покинула мастерской художника, когда прогремела Февральская революция и русская история взошла на небывало высокий перевал, с которого стали видны иные неоглядные просторы истории.
IX
В долгой художественной жизни Нестерова была недолгая пора, когда он был по преимуществу жанристом, были годы, когда его влекло к живописной лирике чистой женственности, было время, когда он вкладывал всего себя в живописное сказание о лучшем человеке Древней Руси, наконец, была эпоха, когда он отдавал все силы церковной живописи.
Но всюду и всегда – в поэтическом образе, в исторической фигуре, в иконописном лике – Нестеров шел от лица человеческого, от этюда с живого человека.
Было бы удивительно, если б при этом постоянном нерасставании с живым человеком у Нестерова-художника не было бы тяги увидеть лицо человеческое в прямой непосредственности жизненного тепла, живого чувства, одухотворяющей мысли, – если бы Нестерова не влекло к портрету.
В действительности к портрету влекло Нестерова в течение всей его творческой жизни.
Первые его попытки рисовать связаны именно с портретом. 15-летний подросток, ученик реального училища Воскресенского, он сообщает на родину: «Я рисовал папашу с карточки в увеличенном виде, вышло не очень хорошо, потом татарина – тот хорош…»
В Училище живописи Нестеров встретил Перова и на всю жизнь не мог уже оторваться от его портретов. В поздние годы он критически относился к рисунку Перова, находя его «простоватым», он признавал «старомодными» его краски, но всегда утверждал: «Перов – подлинный, Божией милостию, портретист». Тем, кто пробовал оспаривать это утверждение, Нестеров отвечал решительной отповедью; он утверждал, что пишущих портреты много, а портретистов всегда было мало.
У портретиста должен быть особый глаз на лицо человеческое, зоркий и чуткий, у пего же должна быть особая любовь к человеческому лицу как средоточию всего человеческого в человеке. У кого нет этой любви, тот, по Нестерову, не может, более того, не смеет быть портретистом, каким бы мастерством рисунка, какою бы щедростью красок он ни обладал.
Примером любовного вглядывания в модель Нестеров приводил тот портрет Перова, в который так хорошо вглядывался сам, – портрет Достоевского. Перов нашел здесь труднейшую «душу темы» – трагической темы Достоевского.
Первый портрет, написанный самим Нестеровым, показателен для творческой генеалогии всех его портретов.
Болезнь и смерть Перова, по признанию Нестерова, «было первое мое большое горе, поразившее меня со страшной неожиданной силой» («Давние дни»). Явилась потребность сохранить для себя дорогой облик любимого учителя, явилась живейшая необходимость стать портретистом.
Этот образ, дорогой и горестный, Нестеров тогда же попытался передать маслом на полотне. Краски его пасмурны; исчерна-коричневатый тон подавляет безысходностью; рисунок совсем еще «простоват»; все писано по памяти, с тою приблизительностью, к которой позднее так враждебен был Нестеров, но при всем том портретный этюд умирающего Перова полон сердечного трепета.
В том же 1882 году Нестеров написал свой небольшой автопортрет.
Обычно первый автопортрет пишут, чтобы полюбоваться самим собой. Автопортретиста тянет на красивую позу, на поэтическую прикраску. Первым автопортретом художник часто платит первую и последнюю дань романтизму.
Нестеров вовсе не платит ее. Его автопортрет писан учеником Перова, строгим реалистом. Автор не красуется собой, а хочет узнать, постичь себя через портрет, и оттого мы через шестьдесят лет узнаем в этом юноше с острым профилем, с зорко взволнованными глазами того самого старика с острым лицом, который так взволнованно, с такой зоркостью к невидимому собеседнику ведет с ним по-юношески страстный, но мудро-победительный спор на портрете, написанном П.Д. Кориным (1940).
Тому, кто знает, какую творческую тревогу и творческую смуту переживал Нестеров в 1882 году, сбежав из Академии художеств в Москву, к Перову, лишившись Перова и стоя на горьком жизненном распутье – быть или не быть художником, – тому становится ясно, что всю эту внутреннюю тревогу и горестную смуту художник запечатлел на своем автопортрете. Этому юноше всего двадцать лет, но он много пережил и многое знает о себе нерадостного, но автопортрет был бы неверен, если б юноша художник погрузил себя во всю эту кручину без остатка. Нет! В портрете есть много убеждающего в том, что эти горькие туманы юности развеются, что жизненный путь этого юноши, пусть и кремнистый, будет долог и высок.
В профиле лица, в орлином изгибе носа, в твердом взлете густых бровей у юноши есть что-то необорное, крепкое, властное, и в зрачках его глаз чудится сквозь оболочку грусти умная зоркость, которой суждено увидеть в жизни несравненно большее, чем видит сейчас этот юноша на распутье.
Первый портрет, который юноша Нестеров решился показать публике, был портрет знаменитой украинской артистки М.К. Заньковецкой, написанный в 1887 году.
Это была первая из трех артисток, всколыхнувших его до глубины души: Заньковецкая, Стрепетова, Дузе. Все три артистки – украинская, русская, итальянская – создавали апофеоз женского страдания, все три были связаны с лучшими освободительными устремлениями своей эпохи и своего народа.
Особенно сильное впечатление Заньковецкая произвела в драме И.К. Карпенко-Карого «Наймычка».
«Появление ее на сцене, ее образ, дикция, идущий прямо в душу голос, усталые, грустные очи, – вспоминает Нестеров, – все, все пленяло нас, и мы, «галерка», да и весь театр, переживали несложную, но такую трогательную драму несчастной девушки. Однажды, когда, казалось, артистка превзошла себя… мне в голову пришла шалая мысль написать с Заньковецкой портрет в роли Наймычки».
Я не знаю ни одного портрета Нестерова, мысль о котором – «шалая», побуждающая или вдохновляющая, не явилась бы в порыве временного или длительного, но всегда подлинного увлечения данным человеком.
Просьба безвестного ученика Школы живописи была так горяча и настоятельна, что Заньковецкая дала согласие на писание портрета. Но очень характерно для скромного мнения Нестерова о себе как о портретисте, что он не дерзнул писать «портрет», а лишь «этюд» с знаменитой артистки.
«Я пишу этюд в полнатуры с тем, чтобы потом увеличить его, – вспоминал Нестеров эти счастливые часы. – Передо мной женственная, такая гибкая фигура, усталое, бледное лицо не первой молодости[28, лицо сложное, нервное; вокруг чудесных задумчивых, быть может, печальных, измученных глаз – темные круги… рот скорбный, горячечный… На голове накинут сбитый набок платок; белый с оранжевым, вперемежку с черным рисунком; на лоб выбилась прядь черных кудрей. На ней темно-коричневая с крапинками юбка, светлый фартук, связка хвороста за спиной. Позирует Заньковецкая так же, как играет, – естественно, свободно…
Этюд мой был кончен, вышел похожим… Дома работал портрет, и он не одному мне казался тогда удачным; помнится, хотелось уловить что-то близкое, что волновало меня в «Наймычке».
Но портрет был уничтожен художником: «Позднее, году в 1897, зашел ко мне Поленов, увидел портрет, остался им доволен, а я незаметно к тому времени охладел к нему и как-то однажды взял да разрезал его на части».
К счастью, истребление портрета Заньковецкой не было доведено до конца: от него уцелел этюд, писанный с натуры. Вражда Нестерова к портрету утихла, и он передал этюд вместе с другими своими вещами в Уфимский музей.
Этюд этот служит неоспоримым свидетельством, что художник был не прав в смертном приговоре, вынесенном портрету.
И на этюде и на портрете Нестеров искал того же, чего искал на всех своих портретах: лица, в котором живет и светит подлинное «я» человека. Нестеров писал артистку Заньковецкую в образе Наймычки, но на этюде нет (очевидно, не было и на портрете) актрисы в роли: это сама Наймычка в правде ее любви и страдания. Недостаток ли это для портретиста, берущегося писать известную актрису в ее излюбленной роли? Быть может, недостаток.
Но у Нестерова здесь есть своя правда. Он изображал артистку, слившуюся с образом, который она воплощала, и именно это ее полнейшее слияние было ему дороже всего и в театре и на холсте. На портрете девушка с кручиной в душе – одна из тех, которые с такой любовью запечатлены Нестеровым в цикле его «приволжских» картин.
В портрете Заньковецкой Нестеров впервые подошел к этой заветной своей теме, и жизнь заставила его вновь, еще глубже вдуматься в эту тему в следующем же портрете, написанном два года спустя, – в посмертном портрете жены.
Все эти портреты и другие портретные наброски карандашом, сделанные Нестеровым в 80-х годах, изобличают прямо влияние портретов Перова и Крамского.
У Перова-портретиста Нестеров не учился; он считал себя тогда жанристом и учился у Перова-жанриста. Но, по собственным словам, «влюбившись в Перова весь, по уши, с головой», он впитывал от Перова-портретиста то уважение к человеку, ту его душевную внимательность к труду, жизни данного человека, которая сквозит в каждом перовском портрете.
Когда Нестеров очутился в Петербурге, вдали от Перова, его повлекло к другому портретисту, особенно зоркому к лицу человеческому, – к Ивану Николаевичу Крамскому.
«Тогда в Петербурге, – записывал я за Нестеровым в 1925 году, – было два знаменитых портретиста – Константин Маковский и Крамской. Первого мы презирали, перед вторым благоговели. У К. Маковского была роскошнейшая мастерская… он зарабатывал до ста тысяч в год… К Маковскому-портретисту тяготели дамы, но кто посолиднее, посерьезнее, тот его избегал. Мужчины, все, кто поосновательней, шли к Крамскому. Там было все строго, благородно, аккуратно до мелочей. Слава Крамского-портретиста была огромна. Он был завален заказами…
Крамской работал ужасающе много, ибо работал необыкновенно добросовестно. Раз заказ взят, интересен он был сам по себе или нет, Крамской вкладывал в него все свое уменье, знанье, весь труд, который нужен был, чтобы достигнуть лучших результатов. Именно эта беспредельная добросовестность отнимала у Крамского все силы, и никак не «плодовитость»; при еще большей «плодовитости» Константин Маковский процветал и пережил Крамского почти на тридцать лет.
Мы, молодые художники, – подчеркивал Нестеров, – особенно ценили у Крамского «Портрет г-жи Ф. Вогау» и «Незнакомку».
При первом же посещении Крамского Нестерову пришлось стать непосредственным свидетелем его работы над портретом:
«Крамской был у мольберта. Он писал портрет какого-то мужчины с фотографической карточки, прикрепленной к мольберту. Он приветливо поздоровался, расспросил о том, о сем и, снова став у мольберта, сказал:
– Я буду работать. Это не помешает нам разговаривать.
Он продолжал писать портрет, то отходя, то приближаясь к мольберту, и в то же время беседовал со мной.
Кроме фотографической карточки, у Крамского был еще сюртук того лица, уже умершего, чей портрет он писал. Ему надо было хорошенько «разложить» на портрете складки сюртука, и он попросил меня надеть сюртук и стать в нужную позу. Смотря на меня, он стал поправлять кистью складки сюртука на портрете».
Подпустив однажды молодого художника близко к своей работе, Крамской звал его «заходить к себе» в мастерскую.
Посещения Нестерова и беседы с Крамским во время его работы продолжались.
Ученик Перова успел отлично узнать, как работает знаменитейший из тогдашних портретистов, но сам настолько не считал себя портретистом, что, нося к Крамскому на просмотр свои работы, показывал ему свои жанры, а отнюдь не портреты.
Тем не менее для Нестерова, будущего портретиста, знакомство с Крамским осталось навсегда достопамятно.
В Перове-портретисте увлекало Нестерова сердечное вчувствование во внутреннюю правду лица человеческого, в тайник его дум и скорбей. К Крамскому Нестерова привлекала его строгая добросовестность в изучении человеческого лица. Нестерову внушало уважение стремление Крамского точно документировать всю психическую наличность человека, отображенную в его лице. Нестеров не любил портретистов, которым свойственно «сочинять» человека. Он не любил портреты, где данная индивидуальность подогнана под заранее измышленный образ, сочиненный портретистом. В этом недостатке, с точки зрения Нестерова, повинен был иной раз даже Репин: Нестеров не выносил его портрета Льва Толстого под цветущей яблоней, находя, что на нем реальный облик автора «Воскресения» принесен в жертву произвольному, заранее измышленному образу «просветленного мудреца». Для Нестерова Крамской стал примером реалистической добросовестности в самом подходе к натуре. Он «презирал» Константина Маковского, нисколько не отрицая его большой, яркой живописной одаренности, именно за то, что пышный живописец был предельно невнимателен к тому, кого он писал, отдаваясь лишь поверхностному виртуозничанью кистью над человеческой моделью. И в старости Нестеров говорил о Крамском:
– Он любил голову у человека, он умел смотреть человеку в лицо.
«Голова – хоть бы Крамскому под стать», – это всегда было в устах Нестерова большой похвалой портретисту, и немногих он удостаивал этой похвалы.
Но, многому научившись от Крамского, Нестеров был очень далек от апофеоза сухости его красок, малой цветности его портретов, скудости его композиции. Когда Крамскому в том или ином портрете удавалось отрешиться от всего этого, Нестеров был просто счастлив. Вот почему любимейшей его с юности и до старости вещью Крамского была «Незнакомка» – портрет молодой женщины в коляске; он радовался, что Крамской здесь позволил себе быть живописцем.
Живопись прежде всего влекла молодого Нестерова к портретам Репина.
У него на всю жизнь, с молодых годов, осталось удивление пред огромностью чисто живописного дарования Репина.
В пожилых годах, в разгар своей работы над портретами, Нестеров вспоминает:
«На одной из передвижных выставок появился превосходный, наделавший много шума и тотчас же приобретенный Третьяковым портрет баронессы В.И. Икскуль фон Гильденбандт. Портрет был написан во весь рост, баронесса Икскуль была изображена на нем в черной кружевной юбке, в ярко-малиновой шелковой блузке, перехваченной по необыкновенно тонкой талии поясом, в малиновой же шляпке и с браслеткой с брелоками на руке. Через черный вуаль просвечивало красивое и бледное, не юное, но моложавое лицо. Это было время самого расцвета таланта Репина… Во всяком случае, мы тогда были в восхищении от нового шедевра Ильи Ефимовича».
Это описание известного репинского портрета я извлекаю из литературного портрета с той же баронессы Икскуль, написанного Нестеровым полвека спустя. В своем «литературном портрете» он как бы восполняет живописный репинский портрет. На взгляд Нестерова, это портрет не очень молодой, не очень красивой женщины, но отлично знающей, как имитировать молодость и красоту. Репин поддался эффекту этой красивости, отдался позе этой моложавости и принял их за подлинную молодость и красоту. В его портрете не разгадан человек в его подлинности.
Живописную мощь репинских характеристик в лучших его портретах Нестеров высоко ценил, но он почти всегда оспаривал полноту этих характеристик, сомневался в их глубине, не верил в их окончательность. Крамской был ближе к его идеалу портретиста, чем Репин.
Но в то же время Нестеров смолоду уже умел верно ценить достоинства живописца в портретисте.
Доказательством этому является ранняя и постоянная любовь Нестерова к великим русским портретистам XVIII века – Левицкому, Боровиковскому, Рокотову и приверженность его к романтическим портретам Брюллова.
Он не без негодования рассказывал в 1940 году, как один из современных художников, стоя на выставке около портрета своей кисти, весьма спокойно заметил:
– Тут вот я и перекликаюсь с Левицким.
«А мы, – с горьким вздохом заключил Михаил Васильевич, – имя это боялись произнести: так его почитали».
Благоговение (иначе не скажешь) Нестерова пред живописным могуществом, великолепным изяществом и внутреннею глубиною портретов Левицкого и Боровиковского было беспредельно.
Для Нестерова это были портретисты, сумевшие написать величественный портрет целой эпохи, и он не мог насмотреться на этот коллективный парадный портрет работы Левицкого, Рокотова, Боровиковского и Брюллова.
Тонкое чутье к живописной красоте портрета, обнаруженное Нестеровым в этом раннем увлечении Левицким и Боровиковским, помогло ему раньше других с полной безошибочностью распознать и приветствовать замечательное дарование Серова-портретиста.
17 июля 1888 года Нестеров писал сестре о посещении Абрамцева:
«Из картин и портретов самый заметный – это портрет, писанный Серовым (сыном композитора) с Верушки Мамонтовой. Это последнее слово импрессионального искусства. Рядом висящие портреты работы Репина и Васнецова кажутся безжизненными образами, хотя по-своему представляют совершенство. Эта милая девочка представлена за обеденным столом. Идея портрета зародилась так: Верушка оставалась после обеда за столом, все ушли, и собеседником ее был лишь до крайности молчаливый Серов. Он после долгого созерцания попросил у нее дать ему 10 сеансов, но их оказалось мало, и он проработал целый месяц. Вышла чудная вещь, вещь, которая в Париже сделала бы его имя если не громким, то известным, но у нас пока подобное явление немыслимо: примут за помешанного и уберут с выставки, настолько это ново и оригинально».
Эти горячие строки замечательны. Они делают высокую честь художественной зоркости молодого Нестерова.
Теперь, через полвека, «Девочка с персиками» – общепризнанный, классический образец русского искусства портрета. Тогда, в 1888 году, даже сам Серов писал о ней: «Верушку мою тоже портретом как-то не назовешь. Думаю даже, что ценители мне это поставят в упрек в придачу ко всему остальному: недоведенность, претенциозность и т. д. и т. д.».
Нестеров путается еще в терминах («импрессиональное искусство»), но он с редкою чуткостью уже улавливает новую живописную природу серовского портрета, он радостно воспринимает необычайную его свежесть, его смелую жизненность, он сознает его небывалость в русском искусстве. С полной независимостью суждения Нестеров утверждает, что портрет Серова по живописи – шедевр европейского масштаба.
До сих пор шла речь о русских портретистах, среди которых складывались первые впечатления Нестерова-портретиста. Но его вкусы и влечения к портрету, его требования к портретисту определялись с молодых лет еще и иными впечатлениями, властными и прочными.
Рассказывая о своих «годах учения», Нестеров с неизменным восторгом вспоминал о том, как от скучных занятий в Академии художеств он «удирал» в Эрмитаж и проводил там долгие часы.
Нестерова увлекали портреты Рембрандта, Рубенса и Ван-Дейка. Общение с ними было для него радостью, трудом, школой, вдохновеньем, утешеньем в течение всей его жизни.
Когда Нестеров в 1889 году впервые попал за границу, он усугубил там эту свою любовь к искусству портрета, продолжив свое знакомство с Рембрандтом, Рубенсом, Ван-Дейком и пленившись новыми встречами с другими великими портретистами Возрождения. Высшее, наисильнейшее впечатление произвел на него Веласкес своим портретом папы Иннокентия X. Молодой Нестеров признал его «по живописи лучшей вещью в Риме» и утвердился в этом мнении, сам создав целую галерею портретов.
Все восхищало его в этом портрете: и орлиная острота взора художника, и необычайная глубина характеристики, и смелая простота замысла, и всемогущество живописца, справляющего здесь свой вечный триумф.
Большой фотографический снимок с портрета всегда висел над постелью Нестерова. Мне нередко случалось слышать, как он посылал молодых художников к «Иннокентию X» в Рим – учиться видеть человека, распознавать его человеческое, претворять это человеческое в создании искусства.
Попав в 1889 году на Всемирную выставку в Париж, Нестеров много внимания уделял там искусству портрета. Из французов он хорошо знал (некоторых еще по московскому собранию С.М. Третьякова): портреты Давида, Энгра, из современников – Даньян-Буверэ, Бенжамэн-Констана, Бонна, Реньо («Маршал Прим»), Ренуара, Каррьера и других, но любовь свою он отдал проникновенному и простому «Портрету отца» своего любимого Бастьен-Лепажа.
Потребовалось бы много времени, чтобы даже бегло обозреть многообразные проявления постоянного интереса Нестерова к искусству портрета. Можно сказать: этот интерес, живой и горячий, был присущ ему всегда, с первого шага к мольберту.
И тем не менее решительный шаг к мольберту портретиста Нестеров сделал позже, чем к какому-либо другому роду живописи. Его страшило искусство портретиста: обязанность быть правдивым и верным натуре (иначе не будет сходства) казалась ему трудносовместимой с потребностью оставаться, подходя к человеку, таким же лирическим поэтом, каким он чувствовал себя, созерцая природу или свободно творя образы своих древних сказаний.
Встреча с великими портретистами Запада еще более утвердила его в мысли, что истинное искусство портрета – удел немногих, к которым он себя не причислял.
Когда он вернулся в Россию, он отдался работе над «Отроком Варфоломеем», где уже уходил в сторону от картины-портрета типа «Христовой невесты», а вызванное успехом «Отрока Варфоломея» приглашение работать во Владимирском соборе на долгие годы отвело творческое внимание Нестерова в сторону, противоположную портрету.
В те нечастые месяцы, когда Нестерову удавалось ненадолго спуститься с лесов соборов и церквей, он отдавался работе над картинами, продолжая свои давно задуманные циклы.
В это время он возвращался и к портрету, но как к этюду для картины.
И лишь иногда сердечная потребность вкладывала ему в руки карандаш или кисть портретиста. В 1894 году он делает проникновенные зарисовки с умирающей матери, как некогда писал умирающего Перова. Он отмечает портретными этюдами встречи с людьми, почему-либо остановившими его внимание.
За все время до начала 1900-х годов можно назвать только одну попытку Нестерова написать не этюд, а портрет, но и эта попытка вызвана тем же желанием – хранить «память сердца» о дорогом человеке, дни которого были сочтены.
Это был художник Николай Александрович Ярошенко.
Нестеров был связан с ним теплой дружбой, несмотря на разницу возраста (Ярошенко был на 16 лет старше Нестерова) и на различие в мыслительном и жизненном укладе. Артиллерийский полковник, Ярошенко слыл, по словам Нестерова, «самым свободомыслящим», «левым» художником; безупречный, строго-принципиальный, он был как бы «совестью» художников, тогда как их «разумом» был Крамской, и они в Товариществе передвижников выгодно дополняли друг друга. «Николай Александрович понравился мне с первого взгляда; при военной выправке в нем было какое-то своеобразное изящество, было нечто для меня привлекательное. Его лицо внушало доверие, и, узнав его позднее, я всегда верил ему (бывают такие счастливые лица). Гармония внутренняя и внешняя чувствовалась в каждой его мысли, слове, движении… У Николая Александровича была цельная натура. Он всегда и везде держал себя открыто, без боязни выражая свои взгляды, он никогда не шел ни на какие сделки, предлагаемых ему портретов с великих князей не писал, на передвижных выставках, при ежегодных посещениях царской семьей, не бывал».
Этот идейнейший и последовательнейший из передвижников чувствовал настоящее расположение к личности, таланту и искусству Нестерова, он оборонял первые шаги молодого художника на передвижных выставках и навсегда возбудил к себе благодарный отклик в чувствах Нестерова.
Узнав, что врачи нашли у Ярошенко горловую чахотку, что он уже лишился голоса, Нестеров в тревоге потерять близкого человека решился написать его портрет.
«Когда я приехал в Кисловодск (1897 год, лето. – С.Д.), то нашел его бодрее, свежее, и хотя голос к нему не вернулся, но говорить с ним было легче. Я предложил написать с него портрет тут же, около дома, в саду. Он охотно согласился и хорошо позировал мне… Я писал с большим усердием, но опыта у меня не было, и хотя портрет и вышел похож, но похожесть не есть еще портрет, не есть и художественное произведение».
Н.А. Ярошенко умер через несколько месяцев после окончания портрета.
Нестеров пожертвовал портрет в Полтавский музей как дополнение к картинам Ярошенко, которые принес туда в дар как один из душеприказчиков Ярошенко и его супруги.
В начале 1942 года Нестеров написал второй портрет Ярошенко – литературный.
Перед этим только что вышли его чудесные литературные портреты, собранные в книгу «Давние дни». Среди них не было портретов Репина, Шишкина, Серова, Врубеля. На портрет последнего я давно толкал Михаила Васильевича. Но он твердо сказал:
– Напишу об Ярошенко. – И очень обрадовался, когда редакция «Октября» с радостью приняла его очерк в журнал. Этот последний портрет, написанный Нестеровым, радует своей строгой выдержанностью рисунка и мягкой теплотою красок.
Было ясно: взыскательный художник в этом литературном портрете решил исправить погрешности, восполнить неполноту первого своего портрета с Ярошенко – живописного.
В своем очерке-портрете Нестеров рассказывал, что Ярошенко он обязан своим знакомством с Горьким:
«Как-то приехав Петербург по делу, я чуть ли не в тот же вечер был у Ярошенко. Это было тогда, когда роспись Владимирского собора в Киеве была окончена. Участников его росписи прославляли на все лады, но, конечно, были и «скептики», к ним принадлежал и Н.А. Ярошенко, не упускавший случая при встрече со мною съязвить по поводу нами содеянного. И на этот раз не обошлось без того, чтобы не сострить на этот счет, а тут, как на беду, попалась на глаза Николая Александровича книжка ранних рассказов М. Горького – «Чел-каш» и другие. Он спросил меня, читал ли я эту книжку? И узнал, что не только не читал ее, но и имени автора не слыхал. Досталось же мне тогда – и «прокис-то я в своем Владимирском соборе» и многое другое… Я, чтобы загладить свою вину, уезжая, попросил мне дать книжку, и дома, лежа в постели, прочел эту чудесную, живую, такую молодую, свежую книгу. На другой день на Сергиевской мы с Николаем Александровичем вполне миролюбиво рассуждали о прекрасном даровании автора».
Через два года произошло знакомство Нестерова с самим Горьким. И 18 мая 1900 года Нестеров писал Турыгину:
«На другой день познакомился с Горьким; это очень высокий, сутулый человек с простой широкоскулой физиономией, русыми волосами, в одних усах. Портрет Репина похож, но в нем, как и всегда почти у Репина, выдвинута отрицательная сторона человека, – и тут ускользнуло очень существенное выражение мягкости и доброты в лице Горького… Мы почти сошлись сразу».
С первой же встречи с Горьким Нестеров не только внимательно всматривается в черты его лица, поражавшие тогда всех своею необычностью в писательской среде, – он вглядывается в Горького как портретист в свою натуру, хотя Нестеров вовсе не собирался тогда быть портретистом.
Советский зритель, отлично знающий Горького – писателя и человека, не может не согласиться с Нестеровым: да, «выражение мягкости и доброты» присуще простому и даже суровому лицу писателя-борца, умевшего так горячо любить человека и так упорно бороться с его врагами.
В июле 1901 года произошла вторая встреча Нестерова с Горьким в Нижнем Новгороде, еще более сблизившая его с автором «Песни о Буревестнике».
«Я провел два приятных дня у Горького», – писал Нестеров Турыгину 15 июля, а 25 июля сообщал подробности:
«Написал с него удачный этюд, которым надеюсь воспользоваться в будущем. Горький здоров и весел, полон энергии и планов на будущее. Беседы с ним живые, увлекательные и интересные. «Высидка» его в нижегородской тюрьме не отразилась на нем угнетающе. Он вынес из нее много наблюдений и лишний раз убедился в добродушии русских людей».
Этюд, написанный тогда с Горького, принадлежит к удачнейшим изображениям писателя. В нем неувядающая бодрость и жизнерадостность Горького даны в самом колорите – свежем по-утреннему, светлом по-весеннему. В лице Горького уловлена мягкость и доброта, но взор Горького «полон энергии», а его юношеская моложавость не что иное, как цветение мужественности. Это самый поэтический из портретов Горького и в то же время один из самых правдивых.
– Похож необыкновенно. Такой он и был тогда, – заверила меня Екатерина Павловна Пешкова, когда речь зашла о творческой истории портрета, возникшего на ее глазах.
В ноябре 1901 года Нестеров сообщал Турыгину:
«Недавно получил подарок от Горького, все его сочинения с очень милой надписью».
Когда в 1902 году пьесы Горького впервые появились на сцене Московского Художественного театра, Нестеров явился их горячим приверженцем. После спектакля «На дне» он писал: «Тут показана такая картина, такие образы и типы, такая сила новезны и яркости изображения. Великолепный замысел Горького так дерзко, даровито воплощен артистами, что дух захватывает».
В 1903 году Горький, как мы уже знаем, посетил Нестерова в Абастумане на Кавказе и внимательно интересовался его церковными работами. Алексей Максимович провел у Нестерова целый день.
Когда через тридцать с лишком лет Нестеров встретил Горького на своей выставке (1935 год), он, по его словам, «рад был увидеть все такую же привлекательную улыбку, которая была у Алексея Максимовича в молодые годы», и рад был встретить со стороны Горького все ту же любовь к своему искусству.
Вспоминая свой этюд с Горького, Нестеров говорил мне в эту пору:
– Жалею, что написал с него маленький этюд, меньше, чем в натуру. Надо бы написать большой портрет, и пораньше.
Существующими портретами с Горького Нестеров не был удовлетворен. Исключение он делал только для портрета, написанного Павлом Дмитриевичем Кориным.
Вновь встретившись с Горьким в 1935 году, Нестеров, как и тридцать лет назад, написал с него этюд, только на этот раз не красками, а пером. Литературный этюд Нестерова оказался схож с оригиналом не менее, чем этюд живописный. Он вызвал теплый отзыв Горького: «Простой, душевный тон воспоминаний ваших мне очень понравился».
Последний штрих Нестеров провел по своему этюду уже после смерти Горького: «Ушел из жизни большой художник-поэт, яркий выразитель дум, скорбей и упований народных».
Михаил Васильевич не раз говорил, что, «засидевшись» на абастуманских лесах, он почувствовал настоящую тоску по натуре, и не только по природе, как бывало раньше, но и по человеку.
Порыв к натуре привел к портрету жены, которую захотелось написать теперь, в киевской квартире, в конце января 1905 года, в обычных условиях жизни, без всякой позы, помимо всяких исканий композиции, без малейших приготовлений.
– Я сидела однажды в кресле, у окна, в зимнее солнечное утро, около стола, на котором стоял букет ярких азалий… Михаил Васильевич остановился и сказал: «Вот так и написать. Сиди как сидишь».
Так, по рассказу Екатерины Петровны Нестеровой, зародился ее портрет – первый из портретов Нестерова, который он признал художественным произведением, достойным появиться на выставке.
На портрете ничто не выискано нарочито: ни интерьер, ни время дня, ни световые отношения, ни фигура, ни композиционный план. Было остановлено мгновенье жизни близкого человека, которое само остановило художника своей живой непосредственностью и свежестью. Эти непосредственность и свежесть стали художественными достоинствами портрета.
Впервые в жизни Нестеров писал современную комнату, интерьер, любуясь его предметностью и цветностью. Гладкие темно-синие обои; на стене картина Александра Бенуа «Сентиментальная прогулка» с купами серо-зеленых подстриженных деревьев, с пепельно-голубым небом; на деревянном столе работы абрамцевской мастерской – белая суконная скатерть с зеленой каймой; на столе портрет самого художника в белой деревянной рамке; другой портретик-миниатюра; белые цветочки в абрамцевской глиняной кубышке; большая купа пышных белых, розовых и малиновых азалий в другой абрамцевской гончарной кубышке, – все выписано художником с приметным любованием: это первый натюрморт Михаила Васильевича.
Из окна, завешенного белой тюлевой занавеской, льется мягкий свет ясного утра (сеансы происходили до завтрака, между 10–12 часами).
На деревянном массивном, тоже абрамцевском, кресле сидит молодая женщина нога на ногу; правую руку она опустила на колено, левую положила на спинку кресла, касаясь пальцами левой щеки.
На ней бледно-желтая кофточка английского фасона, черный галстук, черная юбка.
Это не костюм «для портрета», это «так, как всегда».
Во всей ее позе, в движении рук, во всем взгляде – одно остановленное мгновенье: молодая женщина, счастливая и этим красивым уютом и бодрым утром, присела на минутку – и задумалась…
Силуэт энергичного молодого красивого лица в густых темных волосах четко выделяется на прозрачном фоне белой занавеси; от льющегося сзади света лицо кажется чуть-чуть побледневшим, зато румянец на щеках кажется гуще.
Художника радовала трудная живописная задача – дать этот теплый женский силуэт на струящемся фоне света, льющегося из окна сквозь белый тюль.
Задача эта решена прекрасно. Портрет радует своей праздничностью, изобилием света. Это оптимистический портрет по живописи, по настроению, по внутреннему смыслу, это весенний портрет, писанный в зимний день.
Художник влил в него свою радость жизненную и творческую: он праздновал здесь праздник своего возвращения к натуре.
Нестерову легко работалось над этим портретом. Все было ясно художнику. Не понадобилось ни зарисовок, ни эскизов. Все рождалось сразу на холсте, и на все потребовалось всего 10–12 сеансов.
– Я опомниться не успела, как портрет был готов, – вспоминает Е.П. Нестерова. – Так это было молниеносно.
В 1907 году художник показал его на своей выставке. В 1914 году портрет был выставлен на Международной выставке в Мальме (Швеция); война и революция задержали портрет в Мальме на много лет. Нестеров считал портрет погибшим и жалел о нем. Но в 1923 году устроители выставки советских художников в Северной Америке обрели портрет в Мальме в полной сохранности и увезли его в Америку на выставку. Через несколько лет, по возвращении портрета в СССР, он был приобретен Третьяковской галереей.
Михаил Васильевич был рад этому: как портретист он считал этот портрет своим первенцем.
Май 1905 года Нестеров провел в Париже.
Вернувшись в Россию, он с жаром принялся писать этюды на Волге и готовить ряд произведений к задуманной выставке.
Но тяга к портрету не ослабевала.
Поздним летом 1905 года он написал второй женский портрет – княгини Натальи Григорьевны Яшвиль.
Как всегда у Нестерова, это был не заказной портрет, а дар давней дружбы.
В своих записках Нестеров пишет:
«Я познакомился с ней в стенах Владимирского собора в пору его окончания. Тогда Нат. Гр. была недавно овдовевшая молодая женщина… Кн. Яшвиль оставил большое, совершенно расстроенное имение Сунки близ Смелы, когда-то принадлежавшее друзьям Пушкина – Раевским. Молодая вдова осталась в тяжелых условиях. Одаренная волей, большим умом, Н. Г., урожденная Филиппсон, – род, ведущий свое начало из Англии, – …не пала духом. Разоренное имение скоро превратилось в благоустроенное, с виноградниками, с фруктовыми садами, с огромным, приведенным в образцовый порядок лесным хозяйством. В Сунках была построена прекрасная школа, где крестьянские дети обучались разным ремеслам, баня (в Малороссии их не знали, а с тех пор пользовалось все огромное село Сунки). Нат. Гр. устроила мастерскую кустарных вышивок, образцами коим служили музейные вещи XVII–XVIII веков. Вышивки скоро стали популярны не только в России – они шли в большом количестве за границу. В Париже сунковские крестьянки получили золотую медаль. Вышивки эти давали молодым женщинам и девушкам-крестьянкам отличный заработок, особенно в зимнее, свободное время…
Наши отношения крепли, выросли в дружбу…
Наталья Григорьевна в моей жизни заняла большое место. Она сердечно, умно поддерживала все то, что могло меня интересовать, духовно питать. Часто у нее я находил душевный отдых как человек и как художник. Ее богатая натура была щедра в своей дружбе, никогда ни на час не покидала в трудные минуты… Видя иногда меня душевно опустошенным, одиноким, она звала меня вечером к себе и частью в беседах об искусстве, частью музыкой – Шопеном, Бахом, а иногда пением итальянских старых мастеров, небольшим, приятным своим голосом возвращала меня к жизни, к деятельности, к художеству. Я уходил от нее иным, чем приходил туда…
За массой дел по имению, по разным светским и благотворительным обязанностям она успевала заниматься искусством. Она хорошо, строго «по-чистяковски» рисовала акварелью портреты, цветы… как-то сделала и мой портрет, но он, как и все с меня написанные, не был удачным.
Живя по летам в своих Сунках, Нат. Гр. однажды, когда я был уже вторично женат, предложила мне поселиться у нее на хуторе, в четырех верстах от Сунок. Хутор Княгинино был уголок рая. Это был сплошной фруктовый сад с двумя прудами: в одном водились караси, карпы и пр., в другом было преудобно купаться. Славный малороссийский домик был обставлен на английский лад. Мы прожили там с небольшими перерывами 9 лет – 9 прекрасных, незабываемых лет…
Я много работал. Там были написаны почти все этюды к Марфо-Мариинской обители. В Сунках же был написан портрет Натальи Гр-ны, бывший на моей выставке, потом у самой Нат. Гр. и после 17-го перешедший в Киевский исторический музей…
Н.Г. в… войну стояла во главе огромного госпиталя и… ездила в Англию для осмотра лагерей с нашими пленными. Поездка ее, говорят, дала хороший результат».
Что привлекало в княгине Яшвиль Нестерова-человека и Нестерова-художника?
Прекрасная мужественность этого женского характера, отсутствие в нем всего сентиментального, наличие в нем благородной действенности, равно отзывчивой на жизнь и искусство.
Нестеров любовался ее характером, всем складом ее личности, и это любование запечатлено на портрете.
Любой портрет Нестерова, за двумя-тремя исключениями, всегда запечатлевает факт настоящего жизненного, а не только художнического общения с тем, кого Нестеров пишет. Портреты Нестерова в подавляющем большинстве своем насквозь биографичны. Биографию своего «героя» (отрицательная биография для Нестерова невозможна) он обобщает в его образе на портрете.
Портрет Натальи Григорьевны Яшвиль служит тому прекрасным примером. Почему он написан, об этом легко судить, познакомившись с литературным портретом с того же лица.
Как он написан – в конце лета 1905 года, – об этом можно сказать кратко.
На портретном пейзаже (Сунки) Нестеров соединил все, что там любил: поле, лес, дальние лесистые холмы.
День позднего лета. Вечереет. На всем лежит золотистый отблеск двойного заката – совсем близкого захода солнца и близящегося захода лета; золотистые отсветы этих двух закатов приметны на пейзаже и на человеке.
В лице Яшвиль явны все те черты, которые художник через двадцать лет разовьет подробно в литературном портрете.
На портрете что-то островолевое, не по-женски энергичное чувствуется в четком до остроты профиле, в крепко сомкнутых губах, в спокойной энергии походки, в острой простоте костюма цвета старой слоновой кости, с перламутровыми пуговицами, с черной блузкой, высоко подпирающей острый подбородок. В лице и в фигуре все спокойно, просто и полно привычной, успешной энергии. И только, быть может, энергия больших серых глаз слегка тронута светлой грустью, порожденной одиночеством среди этого прекрасного простора. Уверенная энергия этой женщины только подчеркивается спокойствием этих полей, ждущих осеннего отдыха и покоя.
Этот второй женский портрет еще больше, чем первый, «остановленное мгновенье».
Художник остановил княгиню на обычной ее предвечерней прогулке и писал ее без всяких эскизов и набросков – еще быстрее, чем предыдущий портрет, всего в какие-нибудь полторы-две недели.
Писал с настоящим упоением и самозабвением.
Это был первый портрет из длинной вереницы портретов, на которых он изображал человека в прямом, тесном общении с природой.
Именно в таких портретах Нестеров нашел себя как портретиста. Он никогда не скрывал, почему это так случилось: он знал, что Нестеров-пейзажист тут властно помог Нестерову-портретисту.
Осенью 1905 года в Киеве Нестеров написал третий женский портрет – своей старшей дочери Ольги Михайловны.
Ей было тогда девятнадцать лет. В нее было вложено много забот, любви и надежд ее отца, тем более горячих, что ей пришлось расти без матери.
Причиной, побудившей художника взяться за портрет дочери, был страх потерять ее. Ольга Михайловна выдержала опасную операцию, потребовавшуюся из-за резкого ухудшения ее слуха. Но, рассказывает сам Михаил Васильевич, «слух ее снова ухудшился. Страх новой операции, трепанации черепа, пугал нас».
Опасная операция была неизбежна.
В тревоге за жизнь любимой дочери Михаил Васильевич, как бывало это с ним уже не раз, прибег к кисти портретиста: захотелось сохранить ее черты.
«Портрет, – писала мне Ольга Михайловна 8 января 1943 года, – написан во время мучительных головных болей и перед двумя трепанациями черепа. Отец будто умышленно подчеркнул болезненную бледность, «бесплотную» худобу фигуры, прозрачность рук. Не была я такой даже перед трепанацией. Вы хорошо знаете, что в своих изображениях женщин отец всегда предпочитал моменты душевного одиночества, грусти или обреченности… Да и настроение было обычное для того времени – нервное, киевское».
Портрет 1905 года отразил тревогу отца за жизнь дочери, отразил ее помимо воли художника, быть может, даже неприметно для него самого: он писал дочь не такой, какой она казалась себе и другим, а такой, какой казалась она его отцовскому сердцу, – хрупкой и слабой перед страшным испытанием, ее ожидающим.
В портрете действительно поражает «болезненность рук», удлиненность пальцев; бледное лицо девушки подернуто тенью болезненности. И превосходно выписанная белая шерстяная накидка на иссиня-черной подкладке словно укрывает девушку не от холода, а от внутреннего озноба.
Но это не портрет больной девушки. Такой портрет Нестеров напишет много лет спустя и там покажет, как он решает подобную задачу, если ее себе ставит.
В «Портрете дочери» 1905 года задача иная, даже противоположная.
Фигура девушки в песочно-серой кофточке с синими крапинками, в пепельно-черной юбке полна тонкого изящества. Девушка откинулась в высоком кресле черной кожи, не в болезненной истоме от недуга, а, наоборот, в каком-то внутреннем самоощущении своей молодости и очарования. В смелом изгибе накидки с исподом цвета воронова крыла чувствуется, как и во всем портрете, какая-то красивая уверенность молодого движения, знающего цену своей красоте и изяществу.
И окружающий интерьер, письменный столик девушки, уставленный портретами и безделушками, поддерживает своим уютом, своими бодрыми тонами не тему «болезни», а тему «молодости» и жизни.
Михаил Васильевич не считал этот портрет ответственной Художественной работой. «Это большой этюд», – говорил он и, недооценивая его живописные достоинства, не показал его на выставке 1907 года. Но уже в советские годы, долго не видав портрета, Михаил Васильевич залюбовался им и нашел, что он хорошо написан. «По живописи, – пишет мне О.М. Шретер, – отец его считал одним из лучших».
Меньше чем через год, когда тучи пронеслись над этой молодой жизнью, Нестеров написал второй «Портрет дочери».
Летом 1906 года, после усиленного писания этюдов под Москвой и на Волге, Михаил Васильевич поехал в родную Уфу, оттуда на Урал, где с тем же жаром писал этюд за этюдом.
«Суровая, вдумчивая и загадочная природа, – писал он в своем общении с родным Уралом, – она глубоко проникает в чувство, в душу человеческую, оставляя в ней след чего-то смутного, угрожающего. Суровый прекрасный край моя родина!»
Привычный уют старого родного дома помог сохранить творческую энергию, полученную от родной природы. Она вылилась в «Портрете дочери».
О.М. Шретер писала мне:
«Постараюсь вспомнить все, что знаю о портрете. Эскиза к нему отец не делал; заранее и отдельно написал этюд пейзажа. Писал он в Уфе на лужайке, в нашем старом саду. Сеансов было много, но сколько именно – не помню. Позировала я под вечер, при заходящем солнце. Иногда короткий сеанс бывал непосредственно после моей поездки верхом. Сама мысль о портрете в амазонке пришла ему, когда я как-то, сойдя с лошади, остановилась в этой позе. Он воскликнул: «Стой, не двигайся, вот так тебя и напишу». Отец был в хорошем, бодром настроении, работал с большим увлечением. В начале сеанса оживленно разговаривал, вспоминая интересные художественные или просто забавные случаи из нашего совместного перед тем путешествия за границу, в Париж, часто справляясь, не устала ли я, не хочу ли отдохнуть. Но постепенно разговор стихал, работа шла сосредоточенно, молча, об усталости натуры уже не справлялся. И только когда я начинала бледнеть от утомления и этим, очевидно, ему мешала, он спохватывался: «Ты почему такая бледная? Ну, ну, еще несколько минут, сейчас кончу». И снова все забывал в своем творческом порыве».
Этюд, легший в основу пейзажа на портрете, написан в окрестностях Уфы, где высокие, спокойные леса глядятся в полноводную извилистую Белую.
Река в окоеме прибрежных лугов и лесов взята в любимый Нестеровым час дня – в тонком золоте заката, одухотворяющем природу прекрасною ясностью и хрустального тишиною. Эта золотистая ясность ощущается в вечереющем небе и в окоеме лесов и лугов, мирно и четко отражающихся в реке. И сама река в этот час – хрусталь тишины, радующий своим чистым безмолвием и непорочною глубиною.
«Стой! Какою я теперь тебя вижу – останься навсегда в моей памяти!.. Это твое мгновение не кончится никогда». В этих тургеневских словах – пафос, композиция, музыка нестеровского «Портрета дочери».
Дочь «остановлена» у берега этой реки в черной амазонке, в юбке, подобранной сбоку в плавных, спокойных складках, с гибким хлыстом в руках. Малиново-красная шапочка покрывает остриженные густые черные волосы. Вся высокая фигура амазонки – воплощенная стройность и изящество. Ее силуэт – тонкий, строгий, четкий – с удивительной легкостью и непреложностью контура вписан в пейзаж.
Всадница где-то оставила коня, сошла к реке и на секунду задержалась, зачарованная золотою ласкою заката.
На ее лице приметны отблески вечереющего неба; эти отблески переданы художником тончайшими голубоватыми, тускнеющими бликами.
В молодом красивом лице нет ни грусти, ни думы. На нем тоже временная оттишь, как в реке в этот час. Еще миг, и взор девушки оторвется от заката и молодая жажда жизни, счастья, успеха зальет ее лицо волнами своего сладкого прибоя.
Портрет не вполне был закончен в Уфе. Нестеров продолжал над ним работать осенью того же года в Киеве. Он просил позировать в амазонке свою супругу Е.П. Нестерову. Берег Днепра, в Царском саду, напоминал ему берега Белой в Уфе – там художник дописал нижнюю часть костюма амазонки.
Он был доволен портретом и без колебаний поставил его на выставку 1907 года, откуда портрет был приобретен в Русский музей, – первый портрет Нестерова, попавший в общественное собрание картин.
Там он по достоинству вошел в превосходную галерею портретов, показывающую в исторической перспективе образ русской женщины почти за два столетия, – галерею, могуче начатую «Смолянками» Левицкого, продолженную портретами Боровиковского, Брюллова, Тропинина и Венецианова и завершаемую в конце XIX – начале XX века Серовым, Врубелем, Сомовым. «Портрет дочери» – один из лучших портретов этой галереи.
С ним случилось то, что ранее произошло с серовским портретом Веруши Мамонтовой, которым так восхищался молодой Нестеров: немногие помнят «Портрет В. С. Мамонтовой», но все знают «Девушку с персиками». Так и «Портрет дочери» превратился в «Девушку в амазонке». Как «Портрет дочери» – это индивидуальный портрет большого сходства; как «Девушка в амазонке» – это образ русской девушки начала XX века.
Эта «девушка в амазонке» могла не быть дочерью Нестерова, но она любила его картины, она читала Блока, она слушала Скрябина, она смотрела Айседору Дункан, точно так же как «Смолянки» Левицкого читали тайком Вольтера, слушали «Тайный брак» Чимарозы, играли на арфе и танцевали балетные пасторали.
У публики есть чутье на подобные поэтические документы современности. Когда появляются (что случается крайне редко) портреты подобной жизненной обобщенности, психологической емкости и художественной яркости, они сразу перерастают рамки индивидуального портрета. Целое поколение готово признать такой портрет за свой собственный; целая эпоха авторизирует его.
Так случилось с «Портретом дочери» на выставке 1907 года. Критика прошла мимо него. Но, по словам О.М. Шретер, у публики он «на выставке имел неожиданно большой успех – открытки, фотографии с него быстро раскупались».
Удача с этим портретом была так очевидна для художника, что в августе он написал еще два – портрет-этюд с Е.П. Нестеровой и большой портрет Яна Станиславского.
1 августа 1906 года Нестеров писал сестре из хутора Княгинина, где его семья проводила лето:
«Здесь я нашел все в порядке. Екатерина Петровна значительно поправилась… Начал большой этюд с Екатерины Петровны в китайском халате на воздухе – халат сестры Драевской, которая недавно уехала, прогостив полтора месяца».
Китайский халат сестры милосердия, вывезенный с Дальнего Востока, очаровал Нестерова своим синим шелком превосходного глубокого и нежного тона. Он написал в нем жену в жаркий день, на зеркальном фоне пруда. В чуть рябящемся серебряном зеркале пруда отражены веселое июльское небо и обильные купы серовато-зеленых деревьев. Ивовая ветка свисает над молодой женщиной. Она стоит на берегу, возле плотины, подняв правую руку к лицу; на синем фоне халата ярко выделяется белый обшлаг большого рукава, покрытый малиновым узорочьем.
Глубокое сочетание густо-синего (халат) с серовато-зеленым (берег) подчеркивается зеркальным фоном пруда.
Художника влекла здесь непосредственная радость цвета и света; этот портрет-этюд для него был праздничным отдыхом.
В том же письме от 1 августа Нестеров писал:
«Сегодня приезжают Станиславские (они гостят недалеко отсюда и были уже у нас третьего дня). Бедный Иван Антонович тяжело болен, у него нефрит… Станиславский еле ходит, от него остался только остов старого толстяка. Настаивают, чтобы его везти в Египет, климат Кракова для него губителен. Теперь в тепле ему лучше. Жаль его страшно. Жена его в полном отчаянии и рада тому, что я предложил написать с него портрет. Пробудут они у нас с неделю, после чего все из Княгинина разъедемся – Станиславские в Киев, я в Ясную Поляну».
Опять Нестеров брался за портрет в тревоге за близкого человека, которому грозила опасность.
Польский художник Ян Станиславский был действительно близким человеком Нестерову. Нестеров первый из русских художников горячо полюбил и высоко оценил этого замечательного польского пейзажиста. «Это польский Левитан», – не раз говорил Михаил Васильевич.
В своем очерке «Ян Станиславский» Нестеров рассказывает:
«Я познакомился со Станиславским… в семье Прахова, в годы росписи Владимирского собора. Помнится, с первых же дней нашего знакомства мои симпатии были отданы этому грузному по внешности, симпатичному и тонкому по духовной своей природе, прямодушному и благородному человеку. Добрые отношения наши, однако, развивались медленно, в них не было порывов. Мы оба на протяжении многих лет пристально вглядывались друг в друга, и только последние годы, несмотря на то, что ни один из нас не в силах был поступиться ни одной чертой из заветных мечтаний наших, мы могли, наконец, сказать себе, что дружба наша истинная, крепкая и неизменная, ибо и непоколебимость взаимных верований мы привыкли уважать. Скорбь его понятна была мне, моя печаль доходила до него. В киевской моей жизни последних лет Станиславский играл особенную роль. Его наезды из Кракова были желанными для меня, встречались как праздник, как отдых души; осенние же встречи в Киеве были для нас взаимной проверкой минувшей рабочей поры.
Своими небольшими картинами-этюдами умел Станиславский говорить о мирном счастье, о хорошей молодости, и с ним так хорошо мечталось! В его искусстве таилось прекрасное сердце.
Поэзия украинских вечеров, днепровских далей, итальянских городков, какой-нибудь Вероны или Пизы, с их былой культурой, с задумчивостью переживших свое славное прошлое старцев, во всех этих этюдах-песнях кроется так много той славянской меланхолии, которая и нам, русским, столь мила и любезна и так сладко щемит наше сердце. Вслушиваясь в песни этого поэта Украины, невольно в размягченном сердце своем забываешь историческую драму, разъединившую два народа».
Когда Нестеров звал Станиславского погостить к себе, на хутор в Княгинине, близ Смелы, он звал польского художника в его родные места:
«Ян Станиславский родился в сердце Украины, недалеко от Смелы и Корсуни, в деревне Олынанах, близ родины Шевченко, которого старая няня Станиславского хорошо знала. Знала она множество народных песен и певала их будущему художнику».
«Станиславские решили остаться у нас погостить, – продолжает Нестеров. – Какое-то смутное чувство подсказало мне воспользоваться его пребыванием у нас, написать с него портрет, на что он охотно согласился.
В тот же день я начал работать, работая с особым нервным подъемом…»
Композиция портрета подсказана была Нестерову всем, что любил Станиславский в родной природе и искусстве. Ничего не надо было искать, все любимое Станиславским было перед его глазами: вечереющее сине-пепельное небо, тронутое золотом; скошенный луг, вновь запестревший поздними цветами; высокие круглые стога сена; ослепительно белая хата с темно-желтой соломенной кровлей. Все это трепетно писал Станиславский на своих небольших пейзажах: «Летние облака», «Украинская хата», «Ужин», «Ветряки», «Подсолнечники», «Гумно». Эти небольшие пейзажи были созданиями высокого искусства и пламенной любви к родине. Так воспринимал его пейзажи Нестеров.
Он посадил Станиславского на стул на лужайке перед огородом, окаймленным небольшою изгородкою, обсаженной, как всегда на Украине, цветами, усадил в спокойной, удобной для больного позе, в обычной его одежде: в черной крылатке, в исчерна-серых, почти черных брюках, с желтой палкой и белой фуражкой в левой руке. Станиславский был большого роста, тучной фигуры, но в пору писания портрета болезнь уже пожрала тучность. Только в руках – больших, деятельно-выразительных – еще сохранилась сила этого большого жизнерадостного человека.
Нестеров работал с увлечением, с самозабвением. Когда он уставал и принимался отдыхать, Станиславский поворачивался, сидя на том же стуле, лицом в другую сторону и принимался писать на маленьком холсте тот же самый пейзаж с хатой и стогами, который Нестеров писал на портрете.
Меньше чем в две недели портрет был готов; к нему не потребовалось ни подготовительных набросков, ни эскизов.
Когда портрет был окончен, вспоминает Нестеров, «Станиславский заметил: «Хороший это портрет для моей посмертной выставки», и, заметив наше огорчение его словами, он обратил их в шутку, и нам так хотелось, чтобы это было если и не шутка, то и не роковое предчувствие.
Конченый портрет я подарил жене Станиславского, причем ими было выражено желание завещать его в свое время в Краковский музей».
Станиславский тут же подарил свой пейзаж Нестерову.
Предчувствие его сбылось: его портрет работы Нестерова действительно оказался «хорош» для посмертной выставки Станиславского в Кракове, Варшаве и Вене в 1907-1908 годах.
Свои воспоминания о Станиславском Нестеров заключает словами:
«Не стану говорить, сколь велика была наша печаль! И теперь, когда Станиславского нет среди нас, позволительно сказать: счастлив тот народ, светло и лучезарно будущее страны, где не переводятся люди, подобные усопшему, нежно любившему свою родину, как и искусство, любовью деятельной, созидательной, прекрасной».
Портрет Станиславского впервые появился на выставке Нестерова в 1907 году.
Вместе с тремя другими портретами тех же лет – «Портретом жены», «Портретом кн. Н.Г. Яшвиль» и «Портретом дочери художника» (в амазонке) – он составил особую группу картин на этой выставке, где Нестеров подводил итог своему творчеству за 30 лет. Этими четырьмя портретами Нестеров, уже прославленный художник картины, иконы и стенописи, дебютировал как портретист.
Все видные журналы и газеты того времени не обошли молчанием выставку Нестерова, уделяя много внимания его картинам и церковным работам, но с какой-то странною слепотою не приметили его портретов. Отзывы о них редки, кратки, беглы и случайны.
Примечательно, что никто из критиков, даже заметивших и по-своему оценивших портреты Нестерова, не понял, что с портретами художник вступает в какую-то новую пору своего творчества, что портреты уводят Нестерова в сторону от иконы, которая обильно была представлена на выставке абастуманскими эскизами.
Из всех писавших в 1907 году о портретах Нестерова только один Максимилиан Волошин, поэт, художник и критик, приметил «Портрет дочери»:
«Стоит только посмотреть на портрет его дочери – на эту стройную и элегантную фигуру молодой женщины в коричневой амазонке на фоне вечернего пейзажа. В ней гораздо больше таинственного трепета, чем в раскольничьей девушке в синем сарафане, в придуманной позе, на соседней картине «За Волгой».
В портрете его дочери есть успокоенность и дымка вечерней грусти, соединенная с четкостью и законченностью истинного мастера».
Волошин не прав в том, что не чувствует поэтическую и жизненную правду в картине «За Волгой», но он единственный из тогдашних критиков почувствовал в «Портрете дочери» замечательное произведение.
Как велико было уже тогда влечение Нестерова к портрету, явствует из истории портрета Льва Николаевича Толстого, написанного им в год выставки.
В Ясную Поляну еще в 1906 году привела Нестерова совсем не мысль о портрете с Толстого. Нестеров высоко ценил портреты с него, писанные Крамским и Ге, и не собирался сам писать Толстого. С Льва Николаевича ему был нужен, как мы знаем, этюд для картины «Душа народа». Направляясь в Ясную Поляну, Нестеров составил себе, как вспоминал впоследствии, строгую программу поведения: оставаться самим собою и делать то, для чего туда ехал, – писать этюды. Он никак не рассчитывал на желанность его приезда для Льва Николаевича; напротив, полагал, что к его искусству Толстой, высоко ценивший нестеровского антипода Ге, должен относиться отрицательно. С этим предположительным мнением Толстого о своей деятельности Нестеров приехал в Ясную Поляну 20 августа 1906 года. Через два дня (22-го) Нестеров писал оттуда Турыгину:
«Вот уже третий день, как я в Ясной Поляне. Лев Николаевич, помимо ожидания, предложил мне позировать и за работой и во время отдыхов. И я через 2–3 часа по приезде сидел у него в кабинете и чертил в альбом, а он толковал в это время с Бирюковым, его историографом… Лев Николаевич сильно подался… Гуляет во всякую погоду».
Нестеров с растущим увлечением художника всматривался в Толстого. Всматривался и Толстой в Нестерова.
«Первый день меня «осматривали» все, и я тоже напрягал все усилия, чтобы не выходить из своей программы. На другой день (21-го. – С.Д.) с утра отношения сделались менее официальные. Старый сам заговаривал и, получая ответы не дурака, шел дальше. К обеду дело дошло до «искусства» и «взглядов» на оное, и тут многое изменилось. В общем со Львом Николаевичем вести беседу не трудно, ибо не насилует мысли. Вечером наш разговор принял характер открытый, и мне с приятным удивлением было заявлено: «Так вот вы какой!» (Разговор был о Бастьен-Лепаже, его «Деревенской любви».)
В Ясной Поляне Нестеров внезапно прихворнул, что вызвало участливую заботу о нем Льва Николаевича. «Во фланелевом набрюшнике великого писателя земли русской и его дикой кофте… меня уложили в постель, – иронизирует Нестеров над своей болезнью, – и драгоценная для России жизнь теперь вне опасности, и сегодня поздно вечером я, вероятно, уеду в Москву, сделав несколько набросков со Льва Николаевича в альбом и получив обещание графини выслать мне в Киев ряд снимков с Льва Николаевича (у нее их до 600)».
Всматриваясь в черты Толстого, Нестеров пересматривал в своей памяти портреты, написанные с него, и приходил к тому же выводу, что и при встрече с Горьким: что лицо Толстого не исчерпано портретистами, что можно еще прочесть в нем нечто никем не прочтенное.
22 августа Д.П. Маковицкий писал в своих записках:
«…Нестеров изучает внешность Л. Н-ча для какой-то картины-группы. Делает эскизы. Говорил мне, что Л. Н. в жизни, в обращении мягкий, в нем ничего нет деспотичного. На портретах Репина и других художников и в своих писаниях кажется суровее; они неверно изображают его; может быть, он такой был раньше».
Нестеров покидал Ясную Поляну, испытав большую радость общения с Толстым.
«Расстались прекрасно, – писал Нестеров 24 августа из Москвы. – Сам звал на прощанье заезжать в Ясную Поляну, еще и высказал о моем искусстве, что «теперь он понимает, чего я добиваюсь»… Понимает моего «Сергия с медведем» и просит ему выслать все снимки со старых моих картин, которые я сам более ценю, и с новых, обещая высказать мне свое мнение о них подробнее. Словом, конец уже совсем неожиданный».
Еще более неожиданным был тот вывод, который Нестеров сделал тогда же из посещения Льва Толстого:
«В Толстом же я нашел громадную нравственную поддержку, которой мне недоставало последние годы».
Этот вывод остался для Нестерова неколебимым на всю жизнь.
Перед смертью, в книге «Давние дни» Михаил Васильевич повторил его, обогатив его оттенками: «В Толстом я нашел того нового, сильного духом человека, которого я инстинктивно ищу после каждой большой работы, усталый, истощенный душевно и физически».
Этот твердо установленный Нестеровым итог от личного знакомства с Толстым многих поразит неожиданностью. Но в биографии Нестерова таится еще немало таких неожиданностей. Он был человек широкого жизненного охвата. В том, чем изнутри питалась его личность и творчество, он не ставил себе никаких искусственных ограничений – подспудные ключи его творчества были гораздо глубже и разнообразнее, чем это принято обычно думать.
По возвращении из Ясной Поляны Нестеров послал Толстому фотографии с картин «Видение отроку Варфоломею», «Мечтатели», «Юность преп. Сергия» и «Святая Русь». Лев Николаевич ответил письмом:
«Михаил Васильевич! благодарю вас за фотографии. Вы так серьезно относитесь к своему делу, что я не боюсь сказать откровенно свое мнение о ваших картинах. Мне нравится «Сергий-отрок» и два монаха на Соловецком. Первая больше по чувству, вторая еще больше по поэтически рассказанному настроению. Две другие, особенно последняя, несмотря на прекрасные лица – не нравятся. Христос не то что не хорош, но самая мысль изобразить Христа, по-моему, ошибочна. Дорога в ваших картинах серьезность их замысла, но эта самая серьезность и составляет трудность осуществления. Помоги вам бог не унывать на этом пути. У вас все есть для успеха. Не сердитесь на меня за откровенность, вызванную уважением к вам».
Это письмо сурового автора «Что такое искусство?» было для Нестерова той большой поддержкой, о которой он с такой благодарностью вспоминал вплоть до кончины.
Нестеров издавна знал автора «Войны и мира»; теперь, после Ясной Поляны, он узнал Толстого – «нового, большого человека», и его потянуло написать его портрет, хотя он, все еще не признававший в себе портретиста, продолжал уверять себя, что ему нужен лишь большой масляный этюд с Толстого для большой картины.
«На моей выставке, – писал Нестеров Турыгину из-под Киева, – встретил я гр. С.А. Толстую. Она меня спросила, не приеду ли я в Ясную, не хотел ли бы я написать портрет с Льва Николаевича. Отвечаю: «Конечно, очень хотел бы, но Лев Николаевич так не любит позировать…» Софья Андреевна говорит, что это и так и не так, что все можно будет устроить. Я поблагодарил, простились: «До свиданья в Ясной». Вот сейчас, вернувшись с Урала, нашел ответ Софьи Андреевны. На мой запрос о времени приезда к ним ответ таков: «Всегда рады вас видеть».
23 июня 1907 года Нестеров был уже в Ясной Поляне, и на этот раз приезд его отметил в своей записной книжке Лев Николаевич, редко отмечавший в ней приезды многочисленных посетителей Ясной Поляны.
Под 23 июня находим запись в записной книжке Льва Николаевича: «Приехали Сергеенко и Нестеров».
24 июня Толстой отмечает там же: «Нестеров писал». Через три дня, 27 июня, Лев Николаевич делает две записи о Нестерове, одну – в записной книжке: «Портрет пишут», – другую в дневнике: «Живет Нестеров – приятный».
Эта дневниковая запись как бы подводит итог пребывания Нестерова в Ясной Поляне: Толстой, лаконичный и прямой в оценках, даваемых в дневнике яснополянским посетителем, дает безоговорочно положительную оценку Нестерову.
«Труды и дни» Нестерова в Ясной Поляне легко восстановить по запискам добросовестнейшего ее летописца – Д.П. Маковицкого:
«24 июня. Многолюдно. Л.Н. усталый и возбужденный. М. В. Нестеров начал писать его портрет за шахматами на крокете (Л.Н. не позировал ему[29).
25 июня… После обеда Л.Н. хотел позировать М. В. Нестерову, играя в шахматы, но пришел молодой человек, с которым Л.Н. говорил довольно долго, повел в дом и дал много книжек. Потом сел играть в шахматы…
26 июня… Сегодня М.В. Нестеров был доволен писанием портрета Л. Н-ча (в профиль). Вчера был совсем не уверен, удастся ли; сегодня же он у него «схвачен», и писание, по его словам, очень подвинулось. Хотя М.В. Нестеров и живет в доме, но его как если бы и не было: он человек тихий, мало говорит, но если его расшевелить, рассуждает очень интересно…
27 июня. Сегодня М. В. Нестеров писал вид у большого пруда, там, где 50-летние елки, посаженные Л. Н-чем. За ними через улицу избы и вид в поле. По его словам, это характерный уголок в усадьбах Центральной России.
28 июня… После обеда Л.Н. стоя позировал Нестерову. Одет был в светло-синюю фланелевую блузу…
29 июня. После обеда я в одеянии Л. Н-ча позировал М.В. Нестерову у пруда. М.В. Нестеров доволен тем, что приехал писать Л. Н-ча; доволен и своей работой. Помогла ему С.А., склонившая Л. Н-ча согласиться на писание портрета.
За чаем на террасе Л.Н. говорил с М.В. Нестеровым о Киево-Печерской лавре и о монахах. (М.В. Нестеров живет теперь в Киеве.) Л.Н. хорошо знает лавру. По его словам, он был там в 80-х годах…»[30
Письма самого Нестерова из Ясной Поляны живо передают его увлечение общением с Толстым и работой над портретом.
30 июня Михаил Васильевич писал из Ясной Поляны Турыгину:
«Я уже вторую неделю работаю над портретом Льва Николаевича. Выходит не плохо, находят сходство и даже некоторые – большое… Пишу на воздухе. Позирует Лев Николаевич, сидя за шахматами с Чертковым; позирует плохо, все время развлекается, то говоря с кем-нибудь, то поучая ребят, то просто засмотрится на воробьев… В фоне будет пруд и часть еловой аллеи, им лет пятьдесят тому назад посаженной. Когда нужно, Лев Николаевич стоит (фигура стоячая), но не подолгу, разговаривая с кем-нибудь.
Вообще же он сразу согласился на мое предложение, а теперь даже настаивает, чтобы я довел до конца».
Это было особым знаком расположения Толстого к Нестерову.
«Отношение ко мне прекрасное, – свидетельствует Нестеров, – и мой «прием» быть тем, что я есть, только избавил обе стороны от ненужной осторожности в мнениях».
Портрет писался возле террасы яснополянского дома.
В воспоминаниях Б.Н. Демчинского, посетившего Ясную Поляну как раз в эпоху писания портрета, сохранилась зарисовка Нестерова, пишущего портрет Толстого:
«Я подъезжаю к балкону барского дома. Перед балконом – площадка. На ней в неподвижной позе стоит Толстой, позируя художнику Нестерову, который кладет краски на холст широкими мазками и, очевидно, спешит, стараясь полнее использовать свет догорающего вечера…
В сопровождении одного из друзей Толстого я пошел бродить по Ясной Поляне. Когда мы вернулись к дому, вечер совсем погасал. Нестеров так же размашисто клал краски на холст, а Толстой стоял в одной из типичных своих поз – руки назад, в руках палка».
Нестеров досадливо морщился при виде этих яснополянских туристов, затруднявших ему работу над портретом: «Чуть ли не ежедневно появляются и исчезают разные Брешко-Брешковские, Борисы Демчинские и прочая мошкара из газет».
Портрет Толстого был написан Нестеровым в течение одной недели (23–30 июня).
«Портрет мой нравился, – писал художник четверть века спустя, – хотя Лев Николаевич и говорил, что он любит себя видеть более боевым. Для меня же, для моей картины Толстой нужен был сосредоточенный, самоуглубленный».
Любопытно сравнить отзыв Толстого о нестеровском портрете с его отзывом о новом портрете работы Репина. В письме к Черткову от 26 сентября Лев Николаевич писал: «Здесь Репин пишет портрет Софьи Андреевны и мой вместе. Пустое это дело, но подчиняюсь, чтоб не обидеть». А два месяца спустя (24 ноября) Толстой писал Т.А. Кузьминской: «Портрет преуморительный: представлен нализавшийся и глупо улыбающийся старикашка. Это я, пред ним бутылочка или стаканчик (это что-то похожее было на письменном столе), и рядом сидит жена или скорее дочь (это Соня) и грустно и неодобрительно смотрит на клюкнувшего старикашку».
К Нестерову-портретисту Толстой оказался куда милостивее, чем к Репину.
6 июля Нестеров уже писал сестре из Княгинина:
«В Ясной Поляне все обошлось как нельзя лучше. Портрет закончил (голову), сделано к нему несколько этюдов и сняты фотографии. Портрет остался до сентября у Толстых, вышлют его прямо в Киев, где я его и закончу…
Лев Николаевич проводил меня очень мило и ласково сказал: «Я рад был, истинно рад поближе узнать вас и думаю, что мы с вами еще увидимся».
Сам художник до конца жизни продолжал утверждать: «Это большой этюд, а не портрет».
Но это, конечно, портрет, хотя Толстой на нем не тот Толстой, каким он сам привык себя видеть на портретах Крамского, Ге, Репина. У Крамского Толстой в синей блузе, только что оторвался от писания «Анны Карениной»; он чуть-чуть нахмурился даже, что вместо того, чтобы писать, ему приходится позировать; кажется, у него пальцы в непросохших чернилах. Ге написал Толстого за письменным столом, за работой над «В чем моя вера». Репин писал Толстого в разные годы по-разному, но все его портреты подходят под его же определение Толстого: «Грозные нависшие брови, пронзительные глаза – это несомненный властелин», – и все эти разные портреты Толстого, столь неравноценные в художественном отношении, внушены Репину одним чувством: «Его страстные и в высшей степени радикальные рассуждения взбудораживали меня до того, что я не мог спать, голова шла кругом от его беспощадных приговоров отжившим формам жизни».
У Нестерова, наоборот, «голова» не «шла кругом» от взглядов и речей Толстого, и не этот Толстой бурной проповеди, захвативший Репина, как и не Толстой-писатель, отдающийся своему труду (Крамской, Ге), захватывал собою Нестерова. Его потому и влекло в Ясную Поляну, что с Толстым-писателем он был уже знаком у Крамского и Ге, Толстого-проповедника и борца он уже много раз видел у Репина, а вот Толстого, углубившегося в свою сокровенную думу, всматривающегося в свою душу в тихом окружении яснополянской природы, с детства до старости ему милой и родной, – такого Толстого, без пера в руке и без учащего слова на языке, Нестеров не знал, не видел и такого-то именно и хотел видеть и знать.
Такого Толстого Нестеров и написал на портрете.
До Нестерова, сколько знаю, никто не писал Толстого на фоне яснополянского пруда и еловой аллеи. На портрете Нестерова он один с самим собой, но не одинок, потому что с ним природа, любимая им с детства. Он стоит, погруженный в себя, но любуясь ею и через нее общаясь с вселенной. Догорает закат. Вот-вот старик окинет прощальным взором все привычное, дорогое, природное, что перед его взором, и уйдет в свою комнату, раскроет дневник и, может быть, перечтет то, что писал полвека назад, детом, в той же Ясной Поляне:
«Смотришь на закат солнца в июле, а потом на зелень. Она голубовата переливами, как будто под дымкой. В самый жар воробьи лениво, однообразно перепрыгивают и чирикают под застрехой амбара.
Вечером сидишь на балконе, стрижи делают круги над домом, иногда один отделяется и, как пуля, звуком пролетает над головой… Ночью после дождя иду по саду домой. Все тихо, за аллеей яблоко падает на мокрые листья. В ущерб месяца месячная заря имеет характер волшебный. От дождя пол балкона темно-серый, зелень выставленных цветов темная».
Портрет Толстого в 1913 году был приобретен Третьяковской галереей. Теперь он в Толстовском музее.
Там, в окружении многих других изображений Толстого, стало ясно, как богат нестеровский портрет внутренней правдой и как просто и волнующе передает он красоту личности «нового и большого человека», каким сам Толстой был для Нестерова.
В 1925 году для книги Н.Н. Гусева «Молодой Толстой» он написал свежую и бодрую акварель «Толстой и дядя Ерошка» – в светлом, мужественном облике молодого Толстого в белой черкеске Нестеров в последний раз выразил свою приверженность к личности и творчеству автора «Казаков» и «Войны и мира».
«Портрет Л. Толстого» завершает собою круг портретов, написанных Нестеровым в 1905–1907 годах. Всего за три года, когда Нестеров был совершенно свободен от церковных заказов, он написал семь портретов.
В тот самый год – 1907-й, – когда Нестеров написал портрет Толстого, он согласился взять на себя роспись храма Марфо-Мариинской обители и шесть лет (считая дополнительную роспись купола, осуществленную в 1914 году) он отдал этой работе, а также писанию образов для собора в Сумах.
Лишь по окончании работ для Марфо-Мариинской обители и для собора в Сумах, вновь очутившись в Сунках под Киевом, он испытал ту же тягу к портрету, что и девять лет назад, после окончания работ в Абастумане.
В июле 1914 года он написал портрет дочери, Натальи Михайловны Нестеровой.
Тут, как в большинстве портретов 1905–1906 годов, опять было «остановленное мгновенье»: никаких подготовок, замыслов, исканий. Сразу полюбилась вот эта поза бойкой, впечатлительной девочки; только что сидела с книгой на дереве, увлекаясь и чтением, и летним привольем, спрыгнула с ветки на скамеечку, и – книга пересилила приманку лета и солнца: зачиталась, склонившись над быстро мелькающими страницами. За скамейкой пышная, густая, сочная зелень, насыщенная теплом.
Вот и вся композиция портрета. В сущности, ее нет, а есть живая действенность какого-то счастливого часа беспечальной жизни десятилетней девочки в упоительном приволье украинского щедрого лета.
Этот холст кажется большой страницей из записной книжки.
20 июля, на третий день начавшейся войны, Нестеров писал приятелю:
«Написал портрет Натальи среди пейзажа, вышло, кажется, не плохо», – и тут же прибавил: «Нет, кроме шуток, если воевать, то надо победить во что бы то ни стало! Эх, лучше бы сидеть нам с тобой смирно; ты бы читал «Фрегат «Паллада», ну, а я писал бы начатый автопортрет, а теперь, н?-поди!»
Это единственный автопортрет Нестерова, написанный на воздухе, на фоне широко, но несколько обобщенно развернутого пейзажа с извивающейся, как петля, речкой, с луговой поймой и более далекой полосой леса. Художник изобразил себя в рост, до колен, в пальто и черной шляпе.
В передаче и без того характерных черт своего лица художник пожелал выявить их с особой четкостью, даже с резкостью. Выражению лица придана острая зоркость. Но художник не нашел на этот раз теплой и тесной связи между человеком и природой, как то обычно бывает на его портретах на фоне пейзажа: фигура художника кажется лишь вписанной в пейзаж без внутреннего сочетания с ним.
Подобно предыдущему портрету, этот холст также лишь страница из записной книжки, и эта беглая живописная запись заканчивалась едва ли не наспех, тогда, когда все мысли были не о ней, а о той военной грозе, которая только что загрохотала.
Нестеров не придавал значения этому автопортрету и очень озадачил семью, сказав как-то: «А я продал автопортрет».
Портрет купил какой-то купец в Астрахани. Лишь много позже, в годы Великой Отечественной войны, этот автопортрет оказался в Москве и был приобретен закупочной комиссией Комитета по делам искусств.
Лето 1917 года Нестеров проводил в Абрамцеве. В долгих прогулках с Михаилом Васильевичем по абрамцевским лесам, тогда еще густым и малолюдным, мне не раз приходилось слышать от него «похвалу русской природе», схожую с той «похвалой пустыни», которая так любвеобильна была на устах древнерусского человека.
Случалось, после таких прогулок мы заходили в старый абрамцевский дом. Войдя в залу-столовую дома, строенного еще до Аксаковых, Михаил Васильевич оглядывал портреты Репина, В. Васнецова, Н. Кузнецова, висевшие на стене, и останавливал взор на портрете В.С. Мамонтовой.
Он был написан Серовым в той самой комнате, в которой смотрел на него Нестеров; то же окно в сад, та же фарфоровая статуэтка на столике, тот же большой обеденный стол, накрытый льняной скатертью, – все то же было и на портрете.
Михаил Васильевич долго не отрывал от него взора и не мог уже смотреть ни на чей другой портрет. Только раз или два он подошел ближе к стене и рассматривал небольшой портрет С.И. Мамонтова в черном берете, на ярко-красном фоне, портрет, подписанный: «Minelli, 1891». Михаил Васильевич знал тайну этого портрета: это был Врубель, шутки ради подписавшийся модным итальянцем. Помнится, он даже промолвил однажды:
– Вот только Врубеля можно смотреть после «Верушки». Но это совсем другое. Совсем.
В Абрамцеве была большая коллекция портретных рисунков карандашом: тут были Репин, В. Васнецов, Серов – их лучшей поры.
В ненастные дни Михаил Васильевич любил пересматривать эту коллекцию. Разговоры на тему о портретах велись часто и излюбленно и всегда кончались его заключением:
– У новых французов «Портрет отца» Бастьен-Лепажа, у нас «Верушка».
Во второй половине лета поездки его к Троице стали особенно часты и непрерывны. Было ясно, что он на старых местах начал новую картину.
Он написал полотно, которому дал название «Философы».
«Философы» родились из впечатлений января – февраля 1917 года, когда художник в связи с беседами, вызванными «Душой народа», ближе подошел к философским кружкам Москвы. Но в этом полотне сильно сказалась тяга к портрету, которой Нестеров мог теперь отдаться свободно, и тяга к природе, как всегда, проснувшаяся в нем в Абрамцеве.
«Философы» написаны с подлинным увлечением – «одним духом», как говорил сам Михаил Васильевич, без эскизов и этюдов.
По дорожке в предвечерней прогулке идут двое: один – в белом летнем подряснике, в черной скуфейке, с длинными волосами, другой – без шапки, в обычной пиджачной паре, в пальто, наброшенном на плечи.
Идут они рядом, погруженные в беседу, они заняты одними и теми же мыслями, но какие они разные!
Тот, кто в подряснике, идет опустив голову. Это ученый-интеллигент, проштудировавший Канта, изучивший Лобачевского, это человек обостренной мысли, изощренный в гносеологическом анализе, усталый от напряженного мыслительного внимания ко всему, что видит, слышит, знает. Он в простом холщовом подряснике, в самой обыкновенной скуфейке, с посошником-тростью в руке, но он вовсе не «нестеровский человек» с его простодушной верой, с его светлой, открытой душой, обращенной к природе и богу. Гонимый жадною пытливостью ума, терзаемый горькою способностью всякий факт бытия превращать в проблему познания, он бесконечно одинок в замкнутом кругу своей мысли, но поник он головою, а не мыслью, не волей к мысли.
Тот, кто идет с ним рядом, накинув пальто на плечи, – человек иного темперамента, другого жизненного склада. Если у его спутника темперамент мысли, и он чувствуется во всем его облике: четком, худом, строгом, то у человека в пальто темперамент сердца, преданного неустанным волнениям «проклятых вопросов» о смысле бытия, о сущности религии, о судьбе родины.
Ему сильно за сорок; у него, вероятно, есть семья; у него, конечно, есть ученая профессия; но на его простом, типично русском лице с непокорно всклокоченными волосами лежит такой явный отпечаток тоски о нерешенных вопросах, что остается что-то юное, что-то – хочется сказать – вечно студенческое в этом немолодом уже лице русского человека из интеллигентов.
О чем идет беседа этих двух философов?
Они пошли гулять, усталые от города, они искренне порадовались тихой свежести перелесков, «нестеровских» березок, но, увлеченные разговором на ходу, делясь друг с другом метафизическими домыслами и умозрениями, они забыли теперь и про березки и про природу; они захвачены своей беседой на тихой дорожке.
Пейзаж на «Философах» – один из самых совершенных нестеровских пейзажей, но он вовсе не «фон» для двойного портрета, как и этот, превосходный сам по себе, двойной портрет, вовсе не исчерпывает художественного содержания всего полотна. Пейзаж и портрет сливаются неразрывно в предвечернюю элегию «тихого разговора», исполненного внутренних трагических переживаний для двух собеседников, идущих путем, которым шло столько «лишних людей» Тургенева, Достоевского, Лескова, Чехова!
Михаил Васильевич – это чрезвычайно редко случалось с ним – был доволен этим полотном, написанным в конце лета 1917 года. Он всегда считал «Философов» одною из лучших своих работ. Его радовали живописная точность характеристик философов, крепкая связь их фигур с пейзажем и общий колорит полотна – мягкий, свежий, теплый, выдержанный в его излюбленной, по-новому найденной гамме: бледно-синее, зеленое, светлосерое.
В ту же осень 1917 года, но позднее, Нестеров написал «Архиерея».
Нестерову по его долгим работам в соборах довелось узнать многих архиереев – митрополитов, архиепископов, епископов, – но он не чувствовал особого интереса к их личности и деятельности.
Но одного архиерея Нестерову давно хотелось написать – Антония (Храповицкого). Нестеров знал его неординарную биографию. Антоний был потомок знаменитого статс-секретаря Екатерины II, но презирал и своего прадеда за раболепство перед Екатериной II и Екатерину II за ее «вольтерьянство»; он был тот юноша, который упал в обморок у ног Достоевского в то время, когда великий писатель произносил свою Пушкинскую речь, потрясшую сердца; он был тот молодой архимандрит, а потом архиерей, сотрудник «Вопросов философии и психологии», который в курсе «Пастырского богословия» цитировал Достоевского наряду со «святыми отцами» и за религиозное своедумство был изгнан из Московской духовной академии в Казань, а оттуда в захолустную Уфу, где его и увидал впервые Нестеров в соборе за службой.
А затем Антоний из опального архиерея, усланного Победоносцевым на смирение в уфимскую глушь, превратился во влиятельнейшего члена Святейшего синода, заступившего по своему значению место Победоносцева – этого, по определению Нестерова, «Великого Инквизитора».
Антоний стал колоритнейшей фигурой синодального православия в его последнюю, предреволюционную эпоху. Никто из архиереев не обладал таким самочувствием «князя церкви», как Антоний, и вряд ли кто другой был. таким мастером пышного обряда, внешнего архиерейского великолепия и красноречия.
В одном своем письме 1908 года (20 июля) Нестеров, рассказывая о Киевском черном соборе, на котором первенствовал Антоний, так характеризовал его: «…Антоний… человек огромного дерзновения и великого честолюбия…» – и заключил письмо словами: «Скажу тебе на ушко: более, чем с Васнецова, чешутся у меня руки написать портрет с Антония-архиепископа».
Только в 1917 году, через девять лет, руки Нестерова оказались свободны осуществить это намерение.
На предложение Нестерова позировать для «Архиерея» Антоний согласился с первого же слова.
Нестеров написал Антония в церкви Петровского монастыря. На амвоне перед закрытыми «царскими вратами» архиерей говорит «поучение». Сзади него – великолепная золоченая, пышная резьба иконостаса и иконы в ризах, тускнеющих густою позолотою.
Архиерей изображен по пояс. Он в лиловой шелковой мантии. На голове его – черный монашеский клобук с бриллиантовым крестом, на груди – золотые панагия и крест, усыпанные драгоценными камнями.
Обеими руками Антоний опирается на архиерейский золотой жезл.
Руки Антония – это первый нестеровский «портрет рук». Весь человек виден в них, в этих пухлых, холеных руках, не знавших никогда труда; эти руки привыкли к тому, что их «лобызают», как святыню; чем они немощней, бескровней при всей их пухлости, тем больше в них гордости.
Каковы руки, таково лицо. Из-под тяжелого черного клобука бледно-желтоватое лицо кажется одутловатым, вялым. Большая, тщательно расчесанная, холеная борода рыжеватого цвета еще больше подчеркивает эту мучнистую бледность, эту одутловатость лица архиерея. В лице Антония есть пышность, как в его бороде, привыкшей лежать на золотой парче. Он проповедует как власть имеющий, как князь церкви, он пользуется своим умным искусством быть смиренным в слове, и, умиляясь сам своим искусством, он умиляет свою «паству».
Вот отчего так благолепно лицо архиерея, так благообразна его «брада», так властно-неподвижны его руки, опирающиеся на «жезл правления».
«Архиерей» – превосходная живописная работа.
В ней живописец радостно отдается своему искусству, не приневоливая себя к аскетизму краски, не боясь задержаться на том, что живописно-красиво, красочно-заманчиво, и нигде не перестает он быть реалистом, не терпящим живописного «сочинительства» того, чего нет в натуре. Живописною красотою насыщен каждый вершок на этом портрете.
Удивительна лепка лица Антония: смелая, сочная, живая; удивительна незабываемая портретность рук. Художник ничего не подсказывает в характеристике Антония. Ни одного сатирического штриха нет на портрете. Превосходно выписан иконостас, пленяющий своей изысканно-изящной золоченой резьбой. Чудесно отливает всеми оттенками лилового, фиолетового, аметистового пышная шелковая мантия Антония. Суровою чернью своих строгих, почти геометрических линий выделяется клобук Антония на причудливом фоне золотой резьбы.
Но каким жутким холодом веет от этой архиерейской пышности! Лицо его кажется личиной, надетой так же на время, как надета на нем эта лиловая мантия.
Никакой ни психологической, ни историко-описательной задачи Нестеров себе не ставил, когда писал Антония. Задача была чисто живописная: его интересовало это пышное лицо, очень трудное для портретиста, его увлекала богатая красочность архиерейских одежд, его занимало это сочетание золотого с черным и лиловым, на котором колористически построено все полотно. Именно живописец, только живописец оказался создателем этого обобщенно-характерного образа, исторически емкого портрета.
Когда при Нестерове заводили речь об его живописи, он всегда недовольно морщился:
– Какой я живописец!
Но когда ему называли «Архиерея», он принужден был умолкать: невозможно было спорить, что это полотно – создание блестящего живописца.
В самые поздние годы, когда уже написано было им несколько десятков портретов, он в иной час сам обмолвливался:
– По живописи «Антоний», пожалуй, лучше других…
Бродя под Абрамцевом и уезжая к Троице и к Черниговской, Нестеров по-прежнему любил посещать те места, которые смолоду населял он своими отроками, пустынниками и «Христовыми невестами». Но он уже не скрывал тягу к встрече на полотне со своими современниками. Часто приходилось слышать от него: «Кабы я был портретист, написал бы того, другого». Было ясно: скоро Нестеров возьмет кисть портретиста и уже никогда не выпустит ее из рук. Его тропинка к портрету, робко вившаяся в 80-х годах, совсем было заглохла в 90-х годах (один портрет в десять лет); в начале 900-х годов, в эпоху первой русской революции, тропинка эта превратилась было в дорогу, приведшую художника к таким шедеврам, как «Портрет дочери» (в амазонке). Но в дальнейшие, пореволюционные, годы дорога эта опять суживается до еле заметной тропинки (два почти случайных портрета в 1914 году).
Великая эпоха новой жизни, открывшаяся для родины Нестерова в Октябре 1917 года, стала новой эпохой и для его творчества. Октябрьская революция преображает его дорогу к портрету в широкий, могучий творческий путь, прямой путь мастера портрета, приведший художника к вершинам удачи и общенародному признанию.
Великая революция дала вторую молодость художнику, вступившему в пятьдесят шестой год жизни, в сорок первый год художественной работы.
X
Нестеров, подходя к грани революции, с полным правом мог говорить о достигнутом.
Он, несомненно, вписал своим творчеством новую главу в историю русской живописи. Его картины в Третьяковской галерее и Русском музее принадлежали к числу излюбленных зрителями. Его участия на выставках добивались все важнейшие группировки художников перед революцией.
Его имя хорошо известно было в Западной Европе по художественным журналам и по международным выставкам.
Все это и многое другое (кресло члена совета Академии художеств, неоднократные приглашения стать во главе мастерской в Академии художеств и т. д.) Нестеров имел бы полное право назвать славой.
Но когда в 1908 году после исключительного успеха его выставки, почти сплошь приобретенной музеями и частными лицами, его верный друг Турыгин действительно и назвал это славой, Нестеров с глубокой иронией отвечал старому товарищу:
«Да! «слава» моя растет, – «Нива», календарь Гатцука и, наконец, епископ Евлогий – все это «марки серьезные»; впереди «табакерки» и войлочные ковры с изображением «Великого пострига», «На горах» и т. д., вплоть до славы Якобия и Айвазовского последних дней. И тем не менее я «горю в огне творчества». Написано 25 этюдов».
Уходя от этой «славы» в поиски еще не воплощенного, еще таящегося тут же, в родной природе и человеке, Нестеров искал и находил в этом новом, в обновляющем труде сильное противоядие обывательской «славе», останавливающей развитие художников, топя их талант в море самодовольства.
Знаменитый мастер для других, для себя он всегда оставался учеником.
В Нестерове жил подлинный страх перед опасностью самоповторения, перед печальнейшею для художника участью стать ремесленником собственного искусства, копиистом собственного творчества.
Когда от Нестерова ждали писания «под самого себя», подсказывали ему темы, казавшиеся нарочито «нестеров-скими», он резко, даже не сдерживая этой резкости, нападал на «нестеровщину». Это было его слово, такое неожиданное, но и такое суровое в его устах.
Нестеров не выносил разговора о «нестеровских березках» – он боялся «канонизации» этих худеньких березок и зыбких осинок как обязательных атрибутов русского пейзажа – и на восторги перед «березками» отвечал:
– Ох уж эти мне березки! Куда ни пойдешь, всюду на нестеровскую березку наткнешься. Будто и нет других деревьев, кроме берез?
Русская жизнь и родная природа дают художнику неисчерпаемый материал для творчества.
– Работать надо, любить надо! – восклицал Нестеров, обращаясь к художникам и прежде всего к самому себе, указывая на красоту русской природы и русского человека.
Октябрьская революция помогла художнику решительно перейти рубикон, за которым началась новая высокая область его творчества.
Жажда отдаться живописи, набираться живописных впечатлений от натуры, от человека и природы была огромна в Нестерове предреволюционных и революционных лет.
Меньше чем кто-либо Нестеров был поклонником левых формалистских течений в русской живописи предреволюционной поры. Он с негодованием относился к травле Репина, предпринятой футуристами краски и пера. Он едко высмеивал колористические экстравагантности «Бубнового валета». Ему органически противна была шумливая претенциозность «дерзателей» из «Ослиного хвоста».
Ко всем этим явлениям, характеризующим тупик, в который зашло искусство перед Октябрьской революцией, Нестеров относился с открытым отрицанием.
Но еще менее одобрительно относился он к проповедникам застоя в искусстве, к консервативным проповедникам незыблемости канонов.
27 марта 1916 года в переписке с художником-сверстником, воинствующим против современности, Нестеров отвечает ему почти гневно:
«Ты пристаешь с ножом к горлу к Кустодиеву: скажи да скажи, что он ищет?.. Ищет он внутреннего удовлетворения, жажды красоты, а в чем? – в разном: в красках, в быте. Ищут ее в формах, ищут миллионами путей через постижение личное, рефлективное, отрицательное головой, сердцем, и «сколько голов, столько и умов». И никакого «канона», тем более никакого «дважды два – четыре» в поисках нет ни у кого».
Это свое отвращение к «канону», эту неразрывную связь своего искусства с живою природою и с живым человеком Нестеров засвидетельствовал и в замечательной самохарактеристике, в письме к Турыгину от 8 декабря 1916 года: «Относительно Нестерова тебе (как и мне) мешает мыслить и особенно говорить вслух его близость к нам с тобой. Однако Нестеров все же может быть назван тоже художником. Менее одаренный, чем В. Васнецов, он, быть может, смотрел пристальней в источники народной души, прилежно наблюдал жизнь и дольше старательно учился, не надеясь на свой талант, как Васнецов, он бережней относился к своему и все время держался около природы, опираясь во всем на виденное, пережитое».
Признание это глубоко искренне: оно насыщено страстным искательством художественной правды, и тот, кто вдумается в значение этих признаний именно в устах Нестерова, художника с завершенным, как казалось тогда почти всем, творческим путем, тот поймет, почему за гранью революции для Нестерова мог открыться и действительно открылся новый путь в новую область искусства.
И когда – с началом революции – народная жизнь повернула в иное русло, когда поток этой народной жизни забушевал в весеннем разливе, он, еще крепче «опираясь во всем на виденное, пережитое», превратился из иконописца, из живописца – летописца прошлого, в живописца – портретиста строителей современности.
Нестеров не сжег своих старых нестеровских тем.
И в годы революции он писал «нестеровских» отроков, юношей, девушек и старцев, дописывал он и свое сказание о лучшем человеке Древней Руси. Но, завершая свое сказание, начатое еще в молодые годы, Нестеров усиливает в нем героическую тему.
Столь же ясное «обмирщение» постигает в советские годы и другую тему Нестерова – тему «Христовой невесты».
В 1917 году он пишет картину «Соловей поет», один из самых поэтических вариантов своей темы о судьбе русской женщины. Здесь также изображена Христова невеста, но художник на этот раз выводит ее из стен скита в тихий майский вечер к лесной опушке, пронизанной душистым теплом весны, и соловьиная песня любви и весны побеждает в этот миг все ее обеты послушания, молитвы и «ухода от мира».
Призыв к воле и любви всегда был присущ Нестерову. Он ярко отражен в его картинах на тему «Два лада». Картина под названием «Весна» (1933), бывшая на выставке Нестерова в Москве, варьирует эту же тему: юноша со свирелью идет один со своей песней по бережку озера, весь погруженный в ее сладкую истому; его одинокая песня сливается с радостными голосами весны, раздающимися в этих сквозящих перелесках.
Эта «весенняя песня» варьируется Михаилом Васильевичем в советские годы во многих картинах, акварелях, рисунках.
Тему женской борьбы за любимого человека Нестеров разрабатывает в картине с названием «Соперницы» (1932). На лужайке перед монастырем (архитектурный пейзаж, столь редкий у Нестерова, взят с Новодевичьего монастыря в Москве) встретились две женщины: одна в одеянии Христовой невесты, другая – в алой душегрейке. Луг широк, но встретились они на узкой тропинке, на которой им не разойтись мирно: слишком напряженна их борьба за любимого человека.
В этой картине нет уже и малейшего веяния той тишины, которою овеяны девушки и женщины Нестерова в его прежних картинах. Здесь любовь – «поединок роковой», приводящий к прямой жизненной драме.
Но не в этих картинах с обновленной тематикой лежит центр деятельности Нестерова в советские годы.
Революция помогла Нестерову прямо, непосредственно взглянуть в лицо жизни, взглянуть на человека, строителя этой жизни, глазами реалиста. Нестеров увидел теперь человека без ореола святости, без дымки, без волшебной призмы легенды. Он увидел теперь в русском человеке своего современника: в борениях его мысли, в устремлении его мечты, в напряжении его воли, – увидел и нашел, что человек может быть прекрасен без обаяния святости и очарования легенды, что он может быть прекрасен в непосредственном своем жизненном деле.
Именно революция раскрыла перед Нестеровым русского человека в непосредственной его жизненной данности, и Нестеров уже не мог оторвать глаз от своего современника, погруженного в труд жизни как в творчество нового бытия.
Революция дала исход его смолоду намечавшейся тяге к тому роду живописи, который прямо, непосредственно отображает живого человека.
Нестеров стал портретистом.
Он бодро, упорно, увлеченно работал теперь над портретом. Он жил творчески этой работой, он молодел в ней и над нею. Теперь хронология его художественной жизни уже определялась датами новых портретов. Он теперь не мог не быть портретистом: он кончал один портретный холст, а его тянуло к другому. Еще не окончен был другой, как он думал уже о третьем.
Когда по окончании портрета не находилось поблизости натуры, которая увлекала бы к следующему портрету, Михаил Васильевич, случалось, говаривал мне:
– Посватайте мне кого-нибудь для портрета. Руки чешутся пописать еще.
«Сватать» ему кого бы то ни было (разумеется, из людей, ему хорошо знакомых) было очень трудно. «Отводы» «сватываемых» были многочисленны, но если в конце концов натура приходилась по душе художнику, он точно молодел.
– Спасибо свату, пишу, – говорил он на ухо, и это «пишу» звучало как «живу», «дышу».
Он действительно «дышал» в годы революции, как воздухом, этой свежей, бодрой, молодящей работой над портретами. В минуты откровенности он сожалел, что «не занялся портретами раньше, лет двадцать-тридцать назад».
Но бесплодных сожалений Нестеров не знал никогда, и если он не мог отдать портретам многие минувшие годы, отданные церковным работам, то он сумел, преодолевая недуги и старость, отдать портрету четверть века вдохновенного труда.
В эти четверть века – в эти советские годы – Нестеров бесспорно и навсегда вписал свое имя в золотой список русских портретистов: советский художник Нестеров стал одним из классиков портрета.
Гражданская война надолго отрезала Нестерова от Москвы.
Семья художника проводила зиму 1917/18 года на Кавказе. С трудом пробравшись в 1918 году к семье в Армавир, Нестеров пережил на Кавказе тяжелую болезнь, от которой оправлялся трудно и медлительно. При первой же возможности с окончанием гражданской войны, с установлением Советской власти на юге Нестеров поспешил возвратиться с семьей в Москву. Это случилось в 1920 году. Только с водворением в Москве, любимом своем городе, Нестеров мог вернуться к художественной деятельности, которая почти совершенно замерла на юге.
Первая же его крупная работа, предпринятая по возвращении с Кавказа, была работою портретиста.
В июле 1921 года Нестеров писал Турыгину:
«Я живу в деревне, у приятеля, художника Бакшеева, который «крестьянствует». Мне он отдал свою отличную мастерскую… Я постарел, но много работаю, еще порох есть».
В это время у Нестерова родилась мысль написать «Мыслителя», что и было осуществлено в тех же подмосковных Дубках в июле 1922 года.
Замысел полотна был прост: он близок к «Философам». Там двое «философствуют» за уединенной прогулкой. Здесь тоже уединенная прогулка: идет человек средних лет, без шляпы, в черном пальто и одиноко беседует с собою. В руке у него книга, развернутая на странице, которая заставила его задуматься глубоко. Он всецело углубился в свою мысль, беспокойную, сложную, длительную.
Его лицо – с бледно-рыжеватой бородкой, с такими же поредевшими волосами на голове, с емко очерченным лбом – довольно обычное лицо русского интеллигента. Но теперь, в этот уединенный час, это лицо все, без остатка, взволновано мыслительным волненьем, охвачено бурным взлетом идеи-силы, теперь оно и значительно, и прекрасно.
Суровым, неумолимо четким силуэтом выделяется фигура мыслителя на фоне бледно-зеленого луга, белесоватого озера и облачного неба. Вся его фигура исполнена в почти трагическом ритме неукротимого беспокойства, неутолимой тревоги, настойчивого устремления.
Художник шел в этом полотне как живописец на опасное самоограничение; все полотно – это почти сплошь белое и черное: белое небо, белесо отражающееся в озере, и черный силуэт мыслителя, врезанный в эту белизну. Все остальные краски – лишь подголоски этих двух голосов, сплетающихся в единое трагическое звучание.
Но нестеровское «черное и белое» возникает из сложнейших цветовых элементов: черно-белая гамма необыкновенно богата красочными звуками, слагающимися в единый гармонический аккорд.
«Мыслитель» – одна из сильнейших по живописи вещей Нестерова и одно из самых гармонических его созданий, превосходных по композиции, предельно простой и выразительной.
Лето 1923 года Михаил Васильевич опять проводил с семьей в Дубках, у В.Н. Бакшеева.
«По случаю дождей, – писал оттуда Михаил Васильевич 20 августа, – пришлось почти все лето проработать в мастерской (прекрасной, специально выстроенной). Написал 8 вещей, из них 3 новые картины – «Старец», «Дозор» и «Молитва», 4 повторения для Америки и портрет Натальи на воздухе».
Очень характерно для Нестерова этих лет, что для новых картин он ограничивается одними названиями, не уделяя им больше ни слова, а о портрете, наоборот, пишет с видимым увлечением, стараясь показать его словом:
«Вышел, говорят, не хуже, чем в молодые годы, – свежо, нарядно. Она сидит у пруда в серый день, в голубом платье типа «директория», в белой косынке на плечах и белой шляпе соответственного фасона».
Возник портрет самым простым образом. «Папа скучал без работы в деревне, – пишет мне Н.М. Нестерова, – и, увидав меня как-то на скамейке в синем платье, решил писать с меня портрет. Лето было холодное и дождливое. Я мерзла, кусали комары, а отцу мешали часто дожди, прерывали его работу, поэтому портрет писался долго и трудно, и оба мы были рады, когда его одолели».
Но чем меньше было предварительных намерений и планов, тем прекраснее, художественно свободней оказался портрет, сразу же получивший от всех, в том числе и от самого художника, название «Девушка у пруда».
Это одно из самых ярких проявлений того «поэтического реализма», который Нестеров признавал своим творческим методом.
«Девушка у пруда» – как портрет Н.М. Нестеровой – отличается разительным сходством с оригиналом. В портрете нет никакой «приблизительности»; портретист раз навсегда нашел то «неповторимое», «неразложимое» в лице своей дочери, что присуще было ей в момент писания портрета, что было у нее в детстве и что останется в ее лице во все его возрасты. Здесь найден, так сказать, «подлинник» человека, который не может исчезнуть ни под какими житейскими бурями.
Нет ничего естественнее, проще той позы, в которой изображена девушка; нет ничего обыденнее положения ее рук – с нервными, худыми кистями: присела на деревянную скамью, оперлась о нее ладонями, повернула голову к пруду – вот все. Неба не видно; но, верно, оно в низких, серых облаках. Дождя нет. Выпал короткий роздых между дождем утренним и дождем вечерним. Но в парке сыро. В дождливое лето зелень густа, влажна, как-то особенно глубоко зелена, и эта тяжелая влажность зелени, плотных зеленых куп за прудом, превосходно передана художником. Поверхность пруда покойна; чувствуется по его зеленой неподвижной теми, как он полноводен в это лето. Немногие светлые блики водяных лилий подчеркивают его темное спокойствие, и только дальняя осока у берега светло зеленеет на каких-то слабых, заблудившихся лучах солнца.
Это совсем не «нестеровский пейзаж», каким его привыкли видеть. Есть какая-то влажная дремотность в густой темной зелени парка. Все здесь далеко от Нестерова, поэта светлых перелесков и открытых березовых полян.
И это не «нестеровская девушка» прежних тихих лет и тихих мест. Она присела на минуту. Она сейчас встанет, побежит на голоса жизни, на зов молодости, такой для нее еще безоблачной и светлой. И смотрит она куда-то вдаль, поверх этого спящего пруда; в ее умном, зорком взгляде, во всем устремлении ее красивого, тонкого лица запечатлен порыв в даль, воля к жизни, к борьбе за жизнь.
Ни в один из предыдущих периодов своей работы Нестеров не мог бы написать такого портрета.
Это была первая из работ, написанных в эпоху революции, которую Нестеров решился показать публично. Портрет под названием «Девушка у пруда» был выставлен на выставке 1935 года под номером 1. Он впервые открывал для советского зрителя портретную галерею, созданную Нестеровым за годы революции.
Перед портретом долго стоял Горький. Как-то он выразился о «Девушке у пруда»:
– О каждой нестеровской девушке думалось: она в конце концов уйдет в монастырь. А вот эта девушка – не уйдет. Ей дорога в жизнь, только в жизнь.
Долгое время лето было временем года, когда Нестеров особенно охотно брался за кисть портретиста.
В 1924 году, опять летом, Нестеров написал портрет своей средней дочери – В.М. Нестеровой (по мужу Титовой). История этого портрета помогает уяснить творческую историю нестеровских портретов.
В письме ко мне В.М. Титова рассказывает об этом портрете:
«Начал он его летом 1924 года в деревне Зайцеве у художника В.Н. Бакшеева на даче… Папа задумал писать меня в белом платье на фоне распустившихся яблонь, но ничего из этой затеи не вышло: папа никак не мог уловить моего лица, которое, по его словам, так ему было близко и понятно; а приступая к нему, он всегда со скорбью говаривал мне: «Почему ты мне не даешься? И если бы ты знала, как трудно тебя мне писать и как я хочу преодолеть эту трудность и не могу». Работая над моим портретом, как первым, так и вторым, он всегда был до крайности напряжен, безумно уставал, и, кончая сеанс, я видела, что его нервы были напряжены до крайности. Во время работы он раздражался, и мне порядком от него доставалось. Мне бывало его бесконечно жаль, и его неудача в работе невольно передавалась мне. Я сидела на сеансах грустная и со скорбью в душе. Папа писал меня, вернее мое лицо, без конца – во всяком случае, более месяца. Предполагаемые яблони давным-давно отцвели, распустились на полях цветы, и папа решил мне в руки дать букет полевых цветов, но, увы! и это не пришлось осуществить. В один из сеансов, сидя в легком белом платье, я так остыла, что пришлось ставить мне горчичники. Папа, опасаясь за мое здоровье, решил надеть на меня пальто, и оно, конечно, изменило картину всего портрета, а лицо все не давалось. Был момент, когда, отчаявшись в себе, папа решил оставить совсем писать. Я еще более стала грустна, и если он продолжал его, так только для моей матери, не хотя ее этим обидеть. Портрет был закончен. По счету я и не помню, какое количество сеансов было на него потрачено, но я, по словам папы, «сижу на скамейке, как галка с разинутым ртом». Опущенная рука держит одинокий полевой василек вместо предполагаемого букета полевых цветов… Папа считал портрет формально похожим, и только».
Эту «формальную похожесть» Нестеров никогда не считал признаком, определяющим художественное достоинство портрета.
Задача оказалась нерешенной. Портрет был окончен, но искомый образ не найден. Женская фигура, сидящая на скамье, кажется случайно вписанной в пейзаж: в ней нет внутреннего вхождения в него. В конце концов наиболее портретна на холсте рука с васильком. Она, усталая и бессильная, а в ней василек, сверкающий живым самоцветом, являются художественным центром холста, а не лицо дочери художника.
Неудачу портрета художник признал решительно: никому его не показывал, никогда о нем не говорил и сразу же стал обдумывать другой портрет, вполне противоположный первому.
Здесь встречаемся мы уже не в первый раз с явлением, необычайно характерным для Нестерова-портретиста: раз подойдя к человеку с кистью в руке, он не любил отходить от него навсегда – ему хотелось вновь и вновь отображать это лицо на полотне.
К новому портрету В.М. Титовой Нестеров приступил через четыре года, в 1928 году. Он решил на этот раз писать свою дочь, идя, так сказать, «от противного»: не в саду, а в комнате; не в обычной жилой комнате, а в одной из гостиных старого дома Хомякова, превращенного в «Музей 1840-х годов». Решил писать дочь не в будничном летнем платье и в пальто, а в парадном бледно-розовом платье, в котором можно было бы, в 1840-х годах, явиться на вечер в дом Хомяковых. Тут, на втором портрете, девушка тоже присела ненадолго, но не на садовой скамейке, а на диванчике красного дерева, обитом штофом с цветами.
Художнику явно хотелось если не прямой парадности, то некой эстетической повышенности всего сценария и костюмировки модели. Но Нестеров не был бы Нестеровым, если бы ставил себе только эту формальную задачу. Новому портрету он ставил большую внутреннюю задачу.
Он давно думал о «лирическом портрете» и эту свою думу связал с новым портретом дочери. Б апреле 1928 года Нестеров писал мне, говоря о себе в третьем лице: «М. В. мечтает летом написать портрет с его Веры. «Лирический портрет». Посмотрим, остался ли у старика «порох в пороховницах», или это уже «шлюпик»…»
Вслушаемся в рассказ В.М. Титовой, как писался этот ее портрет:
«Не желая помириться с неудачей, он вторично начинает писать с меня портрет в музее 40-х годов. …Но лицо, лицо опять не дается папе. Оно грустно и идет вразрез моему наряду… Папа и на этот раз был недоволен собой, но писал его с большим подъемом, чем первый портрет. Доставалось мне жестоко во время сеансов, заслуженно и незаслуженно, а так же и всем, кто попадался ему под горячую руку… Сравнивая эти два портрета, надо сказать, что первый портрет лицом более похож, но он будничный и, по словам папы, «скучный», а второй – нарядный и праздничный, но менее напоминает меня. Но папа считал оба портрета совсем неудавшимися».
Перед самым окончанием портрета Михаил Васильевич писал мне:
«Кончаю «Лирический портрет», быть может, назову его иначе. Выходит (если сегодня не испорчу) свежо и «не на 65 лет». Когда кончу, напишу о нем поподробней».
Но не написал. Из слов же его знаю, что и этот портрет он не считал удачным.
А между тем портрет написан действительно «свежо» и вовсе «не на 65 лет». В нем есть тонкое изящество в профиле девушки, есть живописное любование ею, как нарядной бабочкой на цветущем кусту. С видимым удовольствием, с красочною утехой выписаны легкое, бледно-розовое платье, стильный диван красного дерева.
Но Нестеров ставил себе совсем иную задачу. Он писал «Лирический портрет», от которого – такова его творческая задача —
Но этого «волненья» портрет не дает. Художник сам почувствовал это, когда писал мне про портрет: «Быть может, назову его иначе».
Когда в 1935 году собирали работы на маленькую выставку Нестерова, он наотрез отказался дать этот портрет.
Наоборот, художник сам назначил на выставку небольшой «Женский портрет», написанный в 1925 году. В портрете этом Нестеров не ставил никаких особых задач «лирики», «драмы», «характеристичности».
Молодая женщина[31 присела в старинное кресло у стола, покрытого шелковой скатертью, и улыбнулась сама на свою мысль, на какую-то счастливую, светлую думу.
Как на портрете, которому назначалось быть «лирическим», здесь есть старинная мебель, старинные ткани, но взор портретиста, а за ним и взор зрителя лишь скользит по ним. Прекрасно выписано темно-синее платье с белоснежным откидным воротником, скрепленным камеей. Но и на нем не задерживается взор художника и зрителя.
Все устремлено на лицо молодой женщины. Это «одно из славных русских лиц», с чертами неправильными, но исполненными той внутренней душевности, сердечной чистоты, приветливой теплоты, которые составляли подлинную красоту русской женщины.
Улыбка тонких уст сливается с улыбкою больших, широко раскрытых глаз в единый привет всего лица.
Весь «Женский портрет» – одна запечатленная улыбка.
Когда я говорил об этом Михаилу Васильевичу, он ответил:
– Хорошо, коли так. Я писал и думал: улыбнется – есть портрет, не улыбнется – нет портрета.
Словно стремясь показать разносторонность своего дарования портретиста (на самом деле этого стремления, конечно, не было), Михаил Васильевич в том же 1925 году написал портрет совсем не лирический и с человека меньше всего лирического – с Алексея Николаевича Северцова.
Профессор зоологии сначала Киевского, потом Московского университета, Северцов был одним из виднейших русских эволюционистов, последователей и продолжателей Дарвина. Работы Северцова по теории эволюции доставили ему европейскую известность. В советские годы он был избран в действительные члены Академии наук СССР.
С Северцовым Нестерова связывало давнее знакомство и старая приязнь. Он знал Северцова еще по Киеву; приязнь эта еще укрепилась в Москве, куда ученый переселился вскоре после приезда Нестерова.
Северцов был человек большого, несколько скептического ума, разносторонних жизненных влечений, философских интересов. Это был человек с острым, зорким взглядом на жизнь и человека и поистине блестящий собеседник. Знаменитый ученый, он тонко чувствовал, своеобразно воспринимал искусство. Его иронических замечаний, выраженных в безукоризненно вежливой, но беспощадно острой форме, боялись, но и желали художники слова, звука, краски.
Такой человек был всегда интересен и близок Нестерову, больше всего ценившему в людях живую независимость их творческого «я». Северцов, в свой черед, высоко ценил независимый, разносторонний ум Нестерова и любил его искусство.
Биограф Северцова пишет:
«Нестеров интересовал Алексея Николаевича не только как художник, картины которого он высоко ценил, но, по его словам, и как «такой непосредственно умный и тонкий человек, такой умный и тонкий знаток искусства», какого он редко встречал. В Киеве они виделись довольно часто, помногу спорили, «царапались», как выражался Алексей Николаевич, так как по взглядам и по темпераменту были очень разными людьми… Большее удовольствие доставляли Алексею Николаевичу беседы с М.В. Нестеровым об искусстве, особенно о русской живописи, старинной и новой, великим знатоком которой он его считал. Вспоминал он и о совместных с ним посещениях Третьяковской галереи, где Нестеров показывал ему свои любимые картины, «одним метким словом умея подчеркнуть то, что в них есть хорошего и талантливого,, выделить их художественную суть».
Еще в 1920 году Нестеров сделал прекрасный карандашный рисунок с Северцова. Раннею весною 1925 года Нестеров задумал написать портрет Северцова в кабинете. Портрет этот родился из долголетних бесед мыслителя-художника с другом-ученым. Это был акт дружбы, завершающий долгие годы.
«Портрет этот чрезвычайно удался, – утверждает Л.Б. Северцова. – В нем не только мастерски изображен его внешний облик, но превосходно уловлена и внутренняя его сущность… Портрет писался долго, что-то около 20 сеансов или больше. Но сеансы, происходившие на квартире у Алексея Николаевича, не особенно утомляли его – и благодаря удобной позе и потому, что Нестеров во время сеансов, с целью придать лицу Алексея Николаевича нужное ему выражение, занимал его интересною беседою. В результате «модель» после окончания утреннего сеанса чувствовала себя еще довольно бодро; зато художник бывал измучен вконец».
Алексей Николаевич Северцов изображен художником сидящим на диване у стола, заваленного грудою книг. Северцов в обычной пиджачной паре, в черной шелковой шапочке на голове. Левая рука его оперлась на пачку исписанных листов, положенных на широкую рукоять кресла. В правой руке, покоящейся на пестрой диванной подушке, застыла дымящаяся папироса.
Всматриваясь в нервно, тонко написанную левую руку ученого, чувствуешь, что она заботливо прикрывает свежую рукопись, перечитываемую в процессе еще длящейся работы. Ученый на миг оторвался от этой работы: его поза глубокого погружения в кресла изобличает усталость, отдых, покой. Но в лице его, в умно-настороженных глазах, в строгой сосредоточенности всего выражения, больше того, всего устремления лица, нет этого покоя, нет этого отдыха. В нем работает мысль, в нем упорствует размышление, в нем додумывается новая идея…
Лицо Северцова – это превосходно найденное лицо ученого, внешне бездейственного, вынужденного усталостью на отдых, но внутренне поглощенного умственной работой.
Портрет Северцова изумил близких художника при знакомстве с ним: в нем был совершен решительный уход художника от обычной сценировки не только его картин, но и портретов.
Здесь художник впервые писал современника своей эпохи, ее практического деятеля, ученого – борца за новое мировоззрение и науку, писал в обычных условиях его умственного труда. В портрете нет налета опоэтизирования, который приметен на «Философах», нет драматического контраста, который есть в «Мыслителе», где мятущаяся фигура находится в драматическом диссонансе со спокойствием среднерусской природы. В портрете Северцова Нестеров – прямой ученик Перова и Крамского по непосредственной простоте подхода к человеку в условиях простой, ясной, ничем не измененной действительности не только его бытия, но его бытования. Но этот насквозь и до конца реалистический портрет написан мастером, который в композиционном построении портрета, в сложной простоте и силе колорита далеко превзошел своих учителей.
Портрет Северцова был высоко оценен его моделью и, по-видимому, удовлетворял его автора. Казалось, что портрет будет окончательным. Но это только казалось. Художник продолжал всматриваться в модель, продолжая и углубляя свою дружбу с нею.
Прошло несколько лет.
Научное имя Северцова стало еще более веским и четким, Северцов занял одно из ведущих мест в Академии наук как ученый с мировым именем. Нестеров задумал новый портрет с Алексея Николаевича. Ему давно начало казаться, что прежний портрет сух по живописи, что в нем не сказалось все, что хотелось сказать о Северцове, что Северцов ярче, красочнее того ученого в черном, который изображен на портрете. Началась вторая творческая влюбленность в свою натуру.
Как вспоминает Е.П. Нестерова, еще в Киеве, до 1910 года, Михаилу Васильевичу случилось однажды быть в лаборатории Северцова. Был яркий солнечный день. Острый сноп света падал на лицо Северцова, оживленное дружеской беседой, и его ухо просвечивало и алело на фоне окна. Михаил Васильевич залюбовался и сказал Екатерине Петровне, придя домой, что ему хочется написать портрет Северцова.
Теперь, в 1934 году, Нестеров шел от этого киевского красочного видения и был так ему верен, что даже ухо ученого заалело на портрете, как когда-то в лаборатории. И весь портрет – в полный контраст первому – был написан в самой теплой, яркой, насыщенно-бодрой цветовой гамме. Откровенной живописностью, прямой красочностью второго портрета художник словно возмещал строгость колористического поста, который добровольно наложил на себя в первом портрете.
«Никак не могу уняться, – писал Нестеров П. Корину 30 октября 1934 года, – написал еще один портрет с Алексея Николаевича Северцова. Задачу себе поставил трудную, чисто живописную, а как вышел из положения, придете, сами увидите. Те же, кто видел, не ругают, а я и рад…»
Если первый портрет писал ученик Перова и Крамского, то о втором портрете можно было сказать, что его писал современник Репина, сверстник Серова, сотоварищ Константина Коровина, изведавший все очарование красочного мажора.
Северцов сидит, полулежа, в глубоком кресле; нет никакого интерьера; нет книг, окружавших ученого на первом портрете; у ног академика выглядывает черная мордочка щенка бульдога – этот маленький четвероногий друг попал на портрет по непременному желанию его хозяина.
На первом портрете внутренним его стержнем был мыслительный труд, преодолевающий минутный роздых, вызванный усталостью ученого. Действенный стержень нового портрета совсем другой – это отдых ученого. На академике теперь не обычный пиджак, в котором он читает лекции, а пышный, великолепный бухарский халат; его шелк отливает цветами: фиолетовым, оранжевым, золотистым, синим, – именно отливает: шелк кажется живым. Он напоен теплом и светом, и в ярких пятнах восточных полнокровных цветов краски на халате кажутся сверкающими бликами света, отливающими то одним, то другим самоцветом радуги.
Светом, струящимся из невидимого окна, облита теперь и голова Северцова.
Он сильно постарел сравнительно с первым портретом; серебристая седина низко подстриженных волос открыта, напряженные жилки на виске изобличают натруженность, утомленность всего лица, взятого в профиль.
Глаза Северцова устремлены в небольшую книгу, которую он держит в правой руке, – он читает – и весь сосредоточен в этом чтении, хотя по формату и типу книжки вряд ли это ученый труд: это одна из тех книг из области поэзии и искусства, которыми ученый любил услаждать свой досуг. Левая рука – исхудалая, осунувшаяся, словно удлинившаяся сравнительно с первым портретом, – покоится на ручке кресла.
Жизнь этого человека почти прожита; труд его почти завершен.
«На портрете, – свидетельствует Л.Б. Северцова, – изумительно переданы болезненная хрупкость этого когда-то атлетически сильного человека, тишина и покой его закатных дней».
«Но смотрите, – как бы хочет нам сказать художник, – сколько благородства в этом облике ученого, отдавшего всю жизнь мысли, смотрите, сколько достоинства и красоты в этой седой голове, в этих натруженных руках, утомленных в неустанном труде!»
Портрет при своем появлении вызвал восторг в кругу художников, вхожих в мастерскую Нестерова. Всех пленила его ликующая живописность, его колористическая мощь.
На этот раз и сам Нестеров не отрицал своей удачи. Он ею был счастлив.
Когда речь заходила о его портретах, он говорил теперь:
– По живописи второй Северцов в числе трех лучших…
Только что окончив первый портрет Северцова, Нестеров принялся – в апреле 1925 года – за новый портрет – опять мужской, опять в интерьере.
Это был портрет художника Павла Дмитриевича Корина, имя которого тогда было мало кому известно.
В выборе модели опять не было ничего случайного и ничего внешнего.
С Кориным Нестеров встретился при работе в храме Марфо-Мариинской обители: в крестьянине из Палеха, в робком ученике так называемой «Иконописной палаты» разглядел он замечательного художника.
Павел Корин и другой юноша были присланы к Нестерову из «Иконописной палаты», чтобы сделать копии с его марфо-мариинских образов для одного издания.
Сам художник пишет об этой первой встрече:
«Оба юноши были разные и по внешнему и по внутреннему своему облику. Один выглядел заурядным ремесленником, другой с тонким, серьезным, немного сумрачным лицом, похожим на тех юношей в парчовых одеяниях, что написаны на фресках у Гирляндайо, Пинтуриккио. Сколько первый из них был тороплив, столько второй сдержан. Мои симпатии определились скоро. Когда оба принялись за дело, они утвердились за вторым, за юношей с фресок Гирляндайо. Это и был Павел Дм. Корин. Копия первого была вялая, без признаков дарования. Настолько же у второго дарование было очевидно. С первым юношей я распростился навсегда, второй стал время от времени заходить ко мне. Получал кое-какую работу и исполнял ее не только добросовестно, но с умом и талантом.
Но что особенно в нем было ценно – это его глубокая порядочность, какое-то врожденное благородство. Тогда Корину было лет 16–17».
С этой совместной работы в Марфо-Мариинской обители творческое и жизненное общение между палеховским юношей и знаменитым художником углубилось, вылившись в конце концов в крепкую дружбу. Нестеров непоколебимо верил в талант Корина. Корин проходил в общении с Нестеровым настоящую школу мастерства и любви к искусству.
В 1925 году Корин, несмотря на некоторые его церковные работы и превосходные рисунки и этюды маслом, был никому не известный художник. Для Нестерова же он был талантливый молодой мастер, прошедший с честью и надеждой уже четырнадцать лет трудного жизненного и художественного пути. Он решил написать портрет Корина.
Как сообщает мне П.Д. Корин, «в первых числах апреля 1925 года Михаил Васильевич начал портрет у себя, в своей квартире, позировал я ему в столовой. Композиция была другая. Я сидел. Михаил Васильевич рисовал углем». В конце второго сеанса писание портрета было прервано известием о смерти лица, дорогого и художнику и его модели. «Ну, покамест давайте отложим», – сказал Нестеров и уже не возвращался к начатому портрету.
«Перерыв вышел довольно большим. М.В. начал работать над моим портретом только в первых числах июня». Портрет писался на этот раз в мастерской Корина, на чердаке дома № 23 на Арбате.
«Я позировал стоя…
Михаил Васильевич тогда задумал портрет В.М. Васнецова. Начиная мой портрет в июне, он говорил: «Вот выйдет ваш портрет, тогда решусь писать и Виктора Михайловича, а не выйдет – нечего старика мучить».
Портрет мой был написан в десять или одиннадцать сеансов, считая и рисунок углем. Никаких подготовительных работ к нему я не знаю, портрет был начат прямо на холсте».
Небольшой портрет этот – большое художественное произведение. Юноша художник изображен почти поколенно, в левой руке его большая палитра с крупной кистью. Это один из редчайших у Нестерова портрет «без рук»: виден только палец левой руки, придерживающий палитру.
За правым плечом художника виден угол старинной картины в тяжелой золотой раме.
И сам художник стоит перед невидимым для зрителя мольбертом. На его палитре – пестрое обилие красок: кажется, от палитры пахнет масляного краскою, так живо передана старым художником эта пахучая, издавна ему любезная атмосфера мастерской с живою кухней красок. Но молодой художник на минуту оторвался от картины. Его взор устремлен в сторону – куда-то далеко-далеко.
Оценку Нестеровым этой его работы Корин передает коротко: «После окончания моего портрета Мих. Вас. начал писать портрет В.М. Васнецова». Это значило, что он счел, что выдержал экзамен на право писать портрет с Васнецова.
Написать портрет Виктора Михайловича Васнецова было давнею мечтой Нестерова. Еще осенью 1908 года он собирался приняться за этот портрет, а задуман он был гораздо раньше. Но начавшаяся работа в Марфо-Мариинской обители отвлекла Нестерова от портрета. И лишь в годы революции он мог осуществить давнюю мечту – всего за год до кончины Васнецова.
Уважение Нестерова к личности Васнецова было так велико, что он взялся за его портрет только после того, как убедился в твердости своей руки портретиста.
Для меня несомненно, что к этому времени была закончена Нестеровым и другая, более трудная подготовка к портрету Васнецова – в его душе окончательно сложился тот образ Васнецова, человека и художника, над которым он то восторженно, то скептически размышлял в течение более сорока лет своих сложных, то очень близких, то далеких, отношений с Виктором Михайловичем Васнецовым.
Нестеров всегда, даже в самую раннюю пору, противился искусственному сближению своему с Васнецовым; всегда остро чувствуя свою инаковость, он упорно отстаивал свою независимость от Васнецова.
6 декабря 1916 года, окончив огромное полотно «Душа народа», Нестеров с чувством большого удовлетворения писал:
«Надо думать, большая картина положит окончательно разделение Нестерова и Васнецова, и это не будет к умалению ни того, ни другого».
Мысль об «умалении» Васнецова была всегда чужда Нестерову. Если он скоро отказался от своих молодых неумеренных восторгов перед Васнецовым, доходивших до сравнения его с Рафаэлем, если он в конце концов из всего васнецовского Владимирского собора выделял лишь алтарь, если картины Васнецова, написанные после соборных работ, не вызывали признания Нестерова, то и того, что он признавал теперь из художественного достояния Васнецова, было, с его точки зрения, совершенно достаточно, чтобы утвердить за Васнецовым высокое и важное место в русском искусстве.
Уже после смерти Васнецова Михаил Васильевич писал мне (27 ноября 1926 года, из Гаспры), вспоминая наши многолетние беседы:
«Я не раз говорил, что ваше поколение воспиталось уже не на самом Васнецове, а на тех художниках и архитекторах, которые получили весьма многое в своем искусстве от Виктора Михайловича. Правда, они, развивая то, что открыл впервые Васнецов, нашли свой язык, им очаровали вас, очаровали роскошью красок, богатством вымысла и проч. Но ни один из этих счастливцев, любимых вами, не дал тех образов, той глубины чувств, той необыкновенной музыкальности, которую сохранил Виктор Михайлович до конца дней своих».
На другой день после смерти В.М. Васнецова Нестеров писал мне:
«Васнецова не стало. Ушел из мира огромный талант. Большая народная душа».
Вот этот окончательный, обобщенный образ Васнецова, сложившийся в душе Нестерова, он перенес на полотно его портрета.
Нестеров как истый портретист, имеющий дело только с настоящим, написал Виктора Михайловича таким, каким он был в 1920-х годах, на закате своих дней.
Все, что дало Васнецову высокое место в русском искусстве, все это уже создано и дает право на полный отдых, насыщенный воспоминаниями о содеянном.
Старый художник сидит в деревянном высоком кресле работы абрамцевской мастерской, столь любезной ему по поискам старорусского стиля. Васнецов написан в комнате, где хранилось его собрание древнерусской иконописи. Кресло придвинуто близко к стене с иконами, и на темном фоне явственно выделяется большой новгородский образ святителя в кресчатых ризах. Иоанн Златоуст композиционно обращен к старому иконописцу, сидящему в кресле: его белая кресчатая риза как-то соответственна летнему пиджаку художника цвета светлой слоновой кости. На плечи Васнецова накинута черная шерстяная накидка-плащ, своими спокойными линиями составляющая гармонический контраст с белым пиджаком и жилетом. Какой-то тонкий мотив старческой зябкости, драгоценной хрупкости внесен этой деталью в облик старого художника.
Правая рука Васнецова покоится на правом колене, левая с низко опущенной кистью опирается на спинку кресла.
Лицо Васнецова Нестеров писал с какой-то особою строгостью к себе – с тихою, любящей, почти благоговейною внимательностью он всматривался в давно известные ему черты старого художника, словно боясь упустить хотя бы малую черту этого старческого благообразия. Он явно любовался и хотел, чтоб залюбовались этою умиренною красотою старости.
Васнецов позировал Нестерову, преодолевая старческую слабость. Эта слабость, предвещавшая смертную истому, немало смущала Нестерова. Он боялся, что она подавит на портрете то, ради чего создавался самый портрет: ослабит, умалит образ замечательного художника, дорогого русскому народу, и на холсте останется лишь глубокий старик, удрученный годами.
Тревога эта оказалась напрасной. На портрете воплощен внутренне правдивый образ славного художника, который и в старости своей являет красоту духа, запечатленную в стольких замечательных созданиях его кисти.
Васнецов был тронут самым намерением Нестерова писать его портрет, видя в этом проявление искреннего дружества, а когда портрет был написан, он принял портрет с нескрываемым чувством глубокого удовлетворения. Как человек он почувствовал, что в портрет вложено много-много любви; как мастер живописи он понимал, что портрет – одно из лучших произведений Нестерова.
Престарелый художник решил ответить на свой портрет работы Нестерова портретом, написанным с Нестерова.
Писание портрета отнесено было на весну следующего, 1926 года.
Нестерова очень тронуло это намерение Васнецова отплатить портретом за портрет, и в то же время его тревожило это желание старого художника вступить в соревнование. Васнецов давным-давно не писал ничего с натуры, а над портретами и вообще мало работал даже в цветущие свои годы.
По уговору с Васнецовым Нестеров, позируя, не смотрел на его работу. 14 июля 1926 года Нестеров впервые написал мне о портрете:
«Портрет с меня почти написан. Сходство, кажется, большое, но то, что поставил себе художник (написать автора «Варфоломея» и проч.), – задача не из легких…
Нравится он и мне… но годы берут свое… В чем, полагаю, я не ошибаюсь, это в том, что в портрете нет ничего вульгарного, дешевого…»
Это сообщение о портрете написано с какою-то неуверенностью, столь мало свойственною Нестерову. Он больше уверяет себя в достоинствах портрета, чем уверен в них.
Всего через несколько дней, 23 июля 1926 года, Виктор Михайлович скончался.
Когда прошло с полгода после кончины Васнецова, Михаил Васильевич с горечью признался мне, что испытал мучительное чувство в тот момент, когда, открыв портрет, Васнецов произнес: «Ну вот, осталось только тронуть его кое-где слегка», – и, зорко всматриваясь в лицо Михаила Васильевича, ожидал его отзыва.
– Что я скажу? На холсте был какой-то ехидный старичок из Достоевского, в помятом сюртучке. А Виктор Михайлович стоит, ждет, вот-вот догадается. Как я нашелся что-то сказать в похвалу, как удалось, что он поверил мне или показал вид, что поверил, сам не знаю. Бог помог!
Портрет Васнецова Нестеров всегда считал одной из удачных своих работ. Впрочем, много лет спустя мне пришлось однажды слышать от художника, что напрасно он написал Васнецова на фоне старых икон. Вызывалось ли это сожаление тем, что этот фон подчеркивал в Васнецове иконописца, а не сказочника, каким его больше любил Нестеров, или это сожаление вызвано было соображениями чисто живописного и композиционного характера, я не берусь решать.
Десять лет спустя Нестеров написал второй портрет Васнецова – литературный. Включенный в портретную галерею «Давних дней», этот небольшой портрет дает яркий облик Васнецова в самый разгар его творчества – в эпоху сказок и Владимирского собора.
Портрет Васнецова был высоко оценен в среде художников. «С того времени, – вспоминает И.Э. Грабарь, – каждый новый портрет Нестерова – крупное событие в художественной жизни Москвы. Его ждут с нетерпением, передавая из уст в уста слухи о том, кого пишет в данное время художник».
1925 год дал четыре нестеровских портрета: А.Н. Северцова, П.Д. Корина, В.М. Васнецова и «Женский портрет».
Следующие годы были отданы по преимуществу другим работам.
Но Михаил Васильевич скоро затосковал по портретной работе. Он мечтал написать портрет скульптора Анны Семеновны Голубкиной.
Нестеров любил в Голубкиной независимого художника, сурово подчиняющего всю свою жизнь творческой думе, любил в ней своеобразного человека, ни на кого не похожего по жизненной поступи, по зоркому огляду на жизнь.
Голубкина не меньше любила Нестерова за то же, за что он любил ее: за верность искусству, за ненарушимую самобытность.
Михаил Васильевич упорно добивался от Голубкиной, чтоб она согласилась ему позировать, и столь же упорно встречал отказ.
Портрет остался ненаписанным.
Еще за полтора года до смерти, перечитывая книжку Голубкиной о ремесле скульптора, он сетовал мне:
– Вот с кого страстно хотел написать портрет! Я ей говорю: «В ноги поклонюсь – дайте только написать портрет». А она мне кричит басом: «А я на колени стану – не пишите рожу старую, безумную». Не далась. Что с ней поделаешь? Не мне чета – Серов хотел ее писать – два раза отказала!
В конце 1926 года жажда вновь приняться за портрет так была велика у Нестерова, что он как-то сказал мне на ухо:
– Посватайте мне кого-нибудь.
Круг «сватанья» был тесен: ограничен теми, кого Михаил Васильевич знал и к кому относился он с уважением и признанием.
После некоторого размышления я назвал ему Николая Ивановича и Софью Ивановну Тютчевых, родных внучат великого поэта, столь любимого Нестеровым.
Они жили в Муранове, в бывшей подмосковной поэта Е.А. Баратынского, в усадьбе, которую посетил однажды Пушкин, в которой гащивали Н.В. Гоголь и С.Т. Аксаков. В более поздние годы усадьба перешла к И.Ф. Тютчеву, сыну поэта, родственно связанному с Баратынскими и Аксаковыми. В этой литературной усадьбе все сохранилось, как было при Баратынском и Тютчеве. В первые же годы революции Мураново превращено было в Музей-усадьбу Ф.И. Тютчева, пожизненным директором которой был назначен его внук, Н.И. Тютчев, человек тонкой художественной культуры, знаток живописи и быта первой половины XIX века.[32 Михаил Васильевич любил бывать в Муранове, живя там подолгу летом, написал там несколько этюдов парка, деревни, пруда, окрестностей Муранова. Некоторые этюды вошли в его картины 20-х и 30-х годов.
На это мое «сватовство» – написать в самом Муранове портрет тех, кто так любовно хранит в нем память двух великих поэтов, – Михаил Васильевич отозвался с живостью, благодарил меня, весь загорелся этой мыслью.
21 апреля 1927 года Михаил Васильевич писал мне:
«Хотелось бы повидаться с Вами, кое о чем поговорить. Бродят кое-какие мысли насчет одного портрета».
При свидании с ним я узнал, что он окончательно решил писать двойной портрет с Тютчевых.
Далее передаю слово Н.И. Тютчеву:
«Еще в 1926 г. летом, когда Нестеров гостил у нас в Муранове, я заметил, что он внимательно присматривается к моей старшей сестре, а затем и ко мне… Весной 27-го года он сообщил мне о своем намерении и просил нас позировать для портрета. Зная проницательность М. В. и его умение и стремление выявить в портретах внутренний облик тех, кого он пишет, я был в некотором недоумении, отчего он выбрал для двойного портрета мою старшую сестру и меня. Дело в том, что мы с сестрой мало имеем общего и в характере, и во вкусах, и в интересах, и во взглядах на многое – и мне казалось, что такой двойной портрет будет неестествен и не будет иметь внутренней связи. Конечно, я не решился сказать этого М.В. Начались сеансы на балконе флигеля в Муранове, причем мы редко позировали вдвоем, а большей частью поодиночке. Не помню, сколько было сеансов, но работа над портретом продолжалась почти все лето с некоторыми перерывами, когда Нестеров уезжал в Москву. Портрет моей сестры сразу удался, и сам М.В. был им доволен; не так было со мной. Писал он меня долго и, наконец, кончил и показал всем моим, которым он понравился, хотя они находили, что портрет сестры более удачен. Нестеров уехал в Москву, оставив портрет в Муранове в своей комнате. Без него я неоднократно рассматривал портрет и пришел к заключению, что это не один общий портрет, а два портрета, не имеющих между собой внутренней связи…
Вернулся М.В. в Мураново. На другой день утром иду к нему в комнату и вижу, что он что-то делает с нашим портретом. Увидав меня, он отошел от портрета, развел руками и жестом пригласил меня посмотреть: я увидел наш портрет без моей фигуры, которую он всю без остатка соскоблил. Оказывается, что, вернувшись из Москвы и увидав портрет, он пришел в ужас от моей фигуры: «Это карлик с длинным туловищем и короткими ногами, и как я мог так написать! Где же у меня были глаза?» Когда я ему сказал, что все находили голову мою удачной, он ответил, что и она никуда не годится и что он будет вновь меня писать…
И вот он опять приступил к писанию моего портрета. Во время сеансов, когда Нестеров был в хорошем настроении, я старался вызывать его на разговор, и часто, особенно когда его что-либо задевало за живое, он бывал блестящ и увлекателен… Наконец портрет окончен, он показывает его всем жителям усадьбы; заметно, что сам Нестеров не удовлетворен своей работой. Нестеров уезжает в Москву и увозит с собой портрет».
25 декабря Нестеров писал мне из Москвы кратко:
«Моими летними работами я недоволен. План был неверен. Следует единое разделить на два отдельные задания. И если я доживу до весны, то и постараюсь осуществить это».
Я отвечал на это Михаилу Васильевичу:
«Реформам, предстоящим с портретом внучат великого поэта, радуюсь, в том смысле, что вместо одного портрета будет два. Конечно, внук, природы не любящий, должен быть изображен в кабинете, со Сфинксом Пушкина на столе, с редкими вещами 20-х годов, с книгами в оливковом сафьяне с червонным золотом: ведь это все он, и без этого он немыслим. Наоборот, внучке все это чуждо и не нужно, а вот в саду она не только гуляет, но и работает. И если вместо внука прибавится саду, будет отлично: по саду-то этому ведь кто гулял? Баратынский, Гоголь, Тютчев! Кажется мне, что сами предметы кабинета впишут в себя очерк лица внука и подскажут краски.
Думается, что много могут навеять старые деревья парка и тихие комнаты дома, связанные со столькими поэтами русскими!»
Продолжаю рассказ Н.И. Тютчева:
«Приехав в начале зимы в Москву, я, придя к Михаилу Васильевичу, узнал от него, что моя фигура вновь соскоблена. На мой вопрос, зачем он это сделал, он сказал мне: «Эта затея не по мне, не по моим силенкам, не вышло то, что мне хотелось…»
Из дальнейших разговоров я понял, что он считает портрет неестественным: нет той внутренней связи, которой он добивался, что это два отдельных портрета, а что то, что он хотел изобразить на этом двойном портрете, ему совсем не удалось, да иначе и быть не могло».
Тут же Михаил Васильевич прибавил, что весною приедет в Мураново, «чтобы закончить портрет моей сестры, несколько его удлинив и изменив тон, а с меня будет другой писать портрет, и не на воздухе, а в одной из комнат музея».
В феврале 1928 года Михаил Васильевич писал мне об одном своем живописном замысле:
«Что сказать вам о Нестерове? Он хандрит… Придется довольствоваться Нестерову написанием портрета (отдельного) с внука другого поэта, который в свои семьдесят лет, как соловей, пел свои зоревые песни. Затем придется убрать одну фигуру с прошлогоднего, оставив лишь женскую. Словом, «починки» и ничего нового или почти ничего».
На самом деле «починок» не было, а была живая творческая работа с превращением одного портрета в два. Н.И. Тютчев рассказывает:
«Летом 1928 года М.В. приехал в Мураново и закончил портрет моей сестры, который с моей дилетантской точки зрения одна из лучших вещей Нестерова. Он удлинил портрет с правой стороны, пришив новый холст, и заменил пейзаж – вид с балкона – другим, также мурановским пейзажем, этюд с которого подарил мне.
Во второй половине августа 1928 г. Нестеров приступил к работе над моим портретом. Долго мы выбирали с ним комнату, кресло, пепельницу и т. д. Наконец все это было сделано и М. В. приступил к писанию моего портрета в библиотечной комнате музея. Всего было 18 сеансов, насколько я помню, но предлинных, иногда по 2 раза в день; все шло гладко, но с моей головой и лицом он долго возился, и очень нервничал и волновался, и все говорил, что не может уловить то мое выражение, которое ему бы хотелось изобразить. Помню, что это меня смущало, и думаю, что выражение моего лица от этого делалось неестественным. Нестеров говорил моей младшей сестре, что «легко было бы передать его прелестную улыбку (извиняюсь за нескромность, но привожу слова М.В.), но время не то». Бывали временами и длинные разговоры, но, к сожалению, содержание их передать не могу – все это было так давно. Зато когда он нервничал, к боялся проронить слово, чтобы его не раздражить еще больше.
По окончании моего портрета, которым, по-видимому, он не был удовлетворен, он выставил оба наши портрета в столовой музея и пригласил всех домочадцев посмотреть их. Все молча любовались, как вдруг сторож музея (из местных крестьян, служивший у нас более 40 лет) прервал молчание и, обратясь к М.В., возгласил: «А портрет Софьи Ивановны более укомплектован». Нестеров, обратясь к нам, сказал с некоторою горечью: «Прав Яков Сергеевич: портрет Софьи Ивановны более укомплектован».
Затем оба портрета были увезены Нестеровым в Москву. В 1932 г. М.В. подарил мне мой портрет. Впоследствии, приезжая ежегодно к нам в Мураново, он каждый раз подолгу рассматривал мой портрет и всякий раз мне говорил: «Нет, Н.И., с вами я не справился. Не то, не то, что мне хотелось».
Когда устраивалась в Музее изобразительных искусств его закрытая выставка, он не захотел выставлять моего портрета».
История двойного портрета, рассказанная Тютчевым, чрезвычайно ярко рисует ту исключительную строгость, ту его способность самой резкой самокритики, которая была его редким и драгоценным свойством. Раз усомнившись во внутренней правде того, что он создал на полотне, он был беспощаден к своему детищу, скольких бы трудов оно ему ни стоило.
Он в любом портрете хотел найти и выразить всю доступную ему правду о человеке, и раз она, по его мнению, была не найдена или была неполна, он продолжал искать ее упорно и сурово.
В портрете Тютчева, строгом и сдержанном в колорите, Нестеров дает вдумчивую его характеристику. Художник чутко разбирается в психологических деталях умного и тонкого человека, перенявшего от своего великого деда изящество мысли и благородство вкуса. Но, вглядываясь со временем в портрет, Нестеров испытывал какую-то тоску по его живописной недовершенности. Ему казалось, что нужно еще больше изящества в абрисе фигуры, еще больше тонкости в чертах лица, он укорял себя, что не высмотрел, не сумел передать тех или иных психических деталей на лице Тютчева.
Приговор портрету он вынес отрицательный и не позволял подвергать его никакому пересмотру.
Наоборот, портрет С.И. Тютчевой заслужил оправдательный отзыв автора. Портрет был задуман, как писал мне Нестеров, «с тютчевским пейзажем в фоне». Это был последний нестеровский портрет, где человек неразрывно слит с пейзажем – дышит с ним одним дыханьем, впивает в себя этот пейзаж, родной с детства. Над пейзажем Нестеров здесь отвел душу. Его мурановская осень – действительно тютчевская осень:
Вот в такой осенний, тютчевский день внучка великого поэта сидит в лиловой кофте на террасе, в зеленых летних плетеных креслах, седая, молчаливая, с взором, устремленным на осенний букет, на спокойный кругозор осени. Во взоре ее тихая, давно привычная грусть и теплая благодарность: благодарность к этой среднерусской деревенской природе, любимой с первоначальных лет до старости, грусть о былом, которое невозвратимо.
Михаил Васильевич писал мне об этом портрете, выдержанном в благородной, ясной гамме лилового и изжелта-зеленого:
«Софья Ивановна – теперь в одиночестве на фоне мурановской деревни. Осень на душе старой дамы. Осень и в природе – осенний букет (астры, рябина) на столе…
Вышло столько же портрет, сколько и картина, – появился смысл», лирический смысл осенней песни без слов.
Портрет впервые показан был на нестеровской выставке 1935 года.
Со времен ранней молодости Нестерова не тянуло к автопортрету. Написанный им в 1882 году долгое время оставался единственным и никому не известным; через тридцать один год Нестеров написал автопортрет, который как случайную, проходную работу продал в частные руки.
С началом советского портретного периода деятельности Нестерова его повлекло и к автопортрету.
В 1918 году он сделал автопортрет карандашом. Это голова с неполным оплечьем. Поворот головы взят труднейший. Художник читал книгу (на носу у него пенсне), кто-то вошел, он поднял голову и глянул на вошедшего: вот движение, остановленное на портрете. Остроте рисунка здесь соответствует быстрота и острота взгляда. В нем все содержание этого маленького, но столь значительного автопортрета. Нет в нем и следа поисков какой-нибудь красивости линий, декоративной эффектности; нет никакой «приятности» в трактовке головы, лица, взора. Можно даже сказать, взор этот почти обжигает своей пристальной зоркостью. От него нельзя уйти тому, на кого он обращен.
В начале зимы 1927 года, после неудачи с двойным тютчевским портретом, сам Нестеров «сосватал» себе другую модель – самого себя.
16 февраля 1928 года Нестеров писал мне бодро и радостно:
«М.В. написал свой автопортрет. Кто его видел, одобряют, говорят, что он из лучших, какие этот старый человек написал за последние годы. Он ходит по этому случаю «гоголем», позабыл свою старость и некоторые душевные невзгоды, на него напавшие.
Я еду сегодня в Питер. Хочу вспомнить и увидеть новый Эрмитаж. Говорят, дивный в его настоящем виде».
Вернувшись из Ленинграда с большим запасом новых сильнейших впечатлений от Эрмитажа, от заново созданного музея Академии художеств, от Русского музея, Михаил Васильевич не разочаровался в своем автопортрете и охотно показывал его. Он писал мне в самый разгар этих смотрин:
«Автопортрет всем без исключения нравится, как по сходству, так и по характеристике. Отзывы о нем разнообразны. Кто находит его несколько старше, чем сам «молодцеватый такой» оригинал. Кто такое мнение отрицает. Находят его «острым». Что он очень «динамичен», что выражает собою всю сумму содеянного этим господином. Он так же схож, как Антоний («Архиерей». – С.Д.), как Северцов. Словом, хвалят взапуски. А автор «хоть бы что».
Автор в конце концов не присоединился к этим похвалам, во всяком случае, далеко не разделял их полностью.
Автопортрет 1928 года – полная противоположность рисунку 1918 года. Вот там действительно была острота, даже резкость характеристики, такая явная, резкая острота, что можно было подумать, что это не автопортрет, а портрет, сделанный чьей-то чужой, решительной рукой.
В автопортрете, написанном через десять лет, нет ни резкости, ни остроты. В нем найдено очень большое сходство с оригиналом.
Но Михаил Васильевич был человеком сильного темперамента, бывал неуемным на высокий, яркий всплеск этого темперамента, бывал неудержим на предельно заостренное суждение, на остро режущее слово. Такого Нестерова нет на этом портрете.
Таким, как на автопортрете, Нестеров бывал в иные часы, чаще – получасы своей жизни и работы. Таким он бывал в те незабвенные моменты, когда, поставив свей новый холст на мольберт, он оглядывал его испытующе, заботливо, внутренне добрый, готовясь показать друзьям свой новый труд, на который положено было много дум и усилий. В автопортрете есть какая-то внутренняя умиренность, словно слышится из уст художника: «Я сделал, что сделал, а вы или порадуйтесь со мною содеянному, или, если содеянное – мало, примите уж меня таким, каков есмь».
Но ошибались те, кто, смотря на автопортрет, думал, что он «выражает собой всю сумму содеянного этим господином». Сам автор автопортрета так не думал. Подобные отзывы (с какою иронией он их сформулировал!) его не только не удовлетворяли, а, наоборот, ставили перед ним необходимость работы над новым портретом, в котором была бы отображена та творческая тревога, та вечная неуспокоенность, которую знал за собою художник.
Написанный в январе автопортрет он подарил дочери В.М. Титовой и не выставил его на выставке 1935 года. А летом того же 1928 года он принялся за новый автопортрет, ничем не схожий ни по композиции, ни по краскам, ни по внутреннему образу с январским.
Новый автопортрет написан был в Москве, в конце июля – в начале августа 1928 года. «Работал его недели две, – писала мне Е.П. Нестерова 5 сентября этого года, – и очень усиленно, часов иногда по 5–6. Похудел, извелся, но добился хорошей вещи… Новый автопортрет нельзя ставить рядом с зимним, настолько тот кажется убогим и жалким. Новый – большой, по колена, в белой блузе, которая написана с большим мастерством. Голова и фигура нарисованы очень строго и красиво. Словом, это серьезная, сильная вещь, лучше всех предыдущих».
Второй автопортрет писался в явное дополнение, а точнее сказать, в явную замену первого.
Художник воспроизводил себя на работе, в ее разгар, в ее пылу и тревоге – вот в таком точно подъеме, который действительно испытывал, когда писал автопортрет. «Похудел, извелся…» Эти слова его супруги вспоминаются, глядя на фигуру Михаила Васильевича на автопортрете. Весь волевой, насквозь деятельный, в пенсне (которое надевал только во время работы или чтения), он пристально всматривается… не в зрителя, а в новый, еще не оконченный холст на мольберте, который, предполагается, стоит там, где находится зритель. Испытующий взор – точно сталью – пронзает новый холст, пахнущий красками. Сбоку, под левой рукой, на столике стоит большой лубяной туес (кузовок), раскрашенный пестрыми цветочками; туес этот, привезенный Нестеровым из Соловков, не раз появлялся на его картинах и много послужил ему при работе: в него втыкал он кисти. Вот и теперь все они воткнуты в туес под левой рукой художника.
Облик его строг: он весь собран во взыскательную мысль о своем деле, которому только что предавался с увлечением страстным, вплоть до похудения от непомерной работы.
И взор художника беспощадно строг; это взор судьи.
Вспоминается любимейший поэт Нестерова:
18 сентября 1928 года Нестеров писал мне:
«Последнее время написал второй (большой) автопортрет – его хвалят одни неумеренно, другие (меньшинство) находят старее оригинала, а В.А. Тернавцев (философ, давний знакомец Нестерова. – С.Д.), недовольный, заявил, что «ему было бы приятнее видеть гостеприимного хозяина», что едва ли совпадает с тем, о чем думал автор, который мечтает, полагать нужно, войти в «Историю русского искусства» не как «гостеприимный хозяин», а как-то по-другому. Видевшие портрет спецы галереи (Третьяковской. – С.Д.) одобряют».
Высокозначительный, как автобиография художника, этот автопортрет превосходен по живописи: его поверхность точно вычеканена рукой мастера, умевшего сочетать силу выражения с тонким изяществом формы.
У Нестерова было желание, чтобы автопортрет был приобретен Третьяковской галереей: свой портрет, написанный С. В. Малютиным, находящийся в галерее, он не любил.
Желание художника осуществилось: автопортрет Нестерова – один из лучших автопортретов русских художников – стал украшением Третьяковской галерии.
В начале июля того же 1928 года Михаил Васильевич, только что окончив портрет В. М. Титовой и задумав уже портрет Н.И. Тютчева, делился со мною своими планами:
– А потом еще два портрета. Один другого замечательнее. Но вы спросите: откуда этот неугомонный старик возьмет сил? Думаю: «Бог даст», – не иначе.
Один из ближайших проектов: больная, лежащая много лет в ожидании смерти, девушка прекрасная, с такими глазами, каких не удалось написать Нестерову ни на одной «Варваре». Она, эта милая, с темными локонами больнушка, когда узнала о моем намерении, будто бы сказала, что «она этому рада, что если это исполнится, то она будет думать, что жизнь ее прошла недаром». Каково! И к чему это обязывает художника!
Это «обязательство» Нестеров выполнил с подлинным вдохновением.
Девушку эту он не знал раньше. Как сообщила мне Е.П. Нестерова, больнушка – Зоя Владимировна Буркова. «Приехала она с матерью в Москву после землетрясения из Ялты и, кроме тяжких ее страданий, ничем не замечательна. Когда Михаил Васильевич впервые посетил ее, она лежала в той же позе, на той же подушке и в той же кофточке, что он написал. Только роза стояла на столике у постели, а не лежала на одеяле».
«Больнушка» – так назвал Нестеров почти неизвестную ему девушку из Ялты; с тою же сердечностью, с которою звучит это имя, написан портрет с болящей девушки; это одна из тех работ художника, где почти осязаема его ласка человеку, где почти ощутима его радость от сознания, что и в самых тяжких страданиях может проявиться нетленная красота человечности.
Композиция портрета-картины необычайно проста. Однажды на заре своего искусства Нестерову уже привелось присутствовать при подобной трагической композиции – при раннем угасании молодой жизни: он писал умирающую жену. Есть что-то близкое в композиции давней акварели «Последнее воскресенье» и этого портрета-картины, написанной полвека спустя. Но это не припоминание старой композиции, это композиция жизни и действительности, чутко воспринятая художником и проведенная им через осветляющую призму любви и поэзии.
В чисто живописном отношении задача портрета-картины была очень трудна. Все белое вокруг больной – кофточка, постельное покрывало, подушка, предсмертного белизною недуг покрыл лицо и руки больной, бессильно простертые на белом покрывале. Бледное лицо болящей обрамлено густою волною черных волос.
Но на полотне Нестерова «белое» – это целый колористический мир, сложный и прекрасный; это цвет, излучающий свет. Белотканость переходит в белоснежность, насыщенную светом. Льняные тонкие ткани кофточки, покрывала, наволочки то серебрятся «сияньем розовых снегов, то отливают нежным перламутром весенних облаков».
Больная девушка точно окружена белым сиянием весенней чистоты и небесной нежности.
Не болезнью и смертью веет от этого полотна, изображающего тяжело страдающую девушку. От пего излучается свет чистой человечности и женственности, от него веет победою духа жизни над предсмертным страданием и смертною истомою.
Всю первую половину 1928 года Нестеров мечтал написать «лирическую поэму» и сокрушался в письмах ко мне, что не привелось ему написать ее.
Михаил Васильевич ошибался: он написал ее, только не там и не так, как замышлял. Он создал «лирическую поэму» жизни и света из портрета умирающей девушки.
И недаром этот портрет-картина, выставленная на выставке Нестерова в 1935 году под названием «Больная девушка», привлекла исключительное внимание такого поэта жизни, как А.М. Горький. Он долго-долго стоял перед «Больной девушкой» и не захотел с нею расстаться. Он тогда же приобрел этот холст, «Больная девушка» висела в спальной Горького.
1928 год был особенно счастлив для Нестерова. Шестидесятишестилетний художник чувствовал особый прилив творческих сил и почти все, без разделу, отдал их портрету (что не мешало ему и в это кипучее время повторять: «Нет, я не портретист»).
С января по сентябрь он написал два автопортрета, портрет В.М. Титовой, Н.И. Тютчева, «Больнушку», большой этюд-портрет с А.М. Щепкиной, с которой ранее написал «Женский портрет», «Этюд девушки в розо-гом сарафане» (с дочери Н.М. Нестеровой) и переработал двойной портрет Тютчевых в портрет С.И. Тютчевой. Итого восемь портретных работ за восемь месяцев, не считая пейзажных этюдов.
Стало несомненно, что именно в портрете проявляется второе яркое цветение живописного дарования Нестерова, что именно тут проявляется в эти годы во всей полноте и силе творческая воля художника.
В 1930 году Нестеров вернулся к мысли о двойном портрете. То, что так удалось в «Философах» и не далось в «Тютчевых» – отразить на полотне две разные индивидуальности в двуединстве их общего чувства и объединяющего устремления, – вновь стало увлекать Нестерова как творческая задача и как дружеское дело.
Он решил написать портрет молодых художников братьев Кориных, Павла и Александра. В их лице он видел радостное явление русской народной жизни, на которое хотелось ему отозваться приветом и признанием. «Братья Корины» как тема для двойного портрета была органична для Нестерова: это были две яркие разные индивидуальности, объединенные общей любовью к искусству как единому для них жизненному делу. В Кориных Нестерову предстояло писать наследственных художников-палешан – современных живописцев, которые вышли из древнего гнезда русских иконописцев, издревле утолявшего народные потребности в живописи.
«У нас в Палехе, – пишет мне Александр Корин, – имя Нестерова было не только известно каждому, оно для всех нас было гордостью».
Как уже сказано, Павла Корина, ученика московской «Иконописной палаты», Нестеров узнал в 1911 году и привлек к работам по росписи храма в Марфо-Мариинской обители.
«О такой чести мы и думать не смели. Мы радовались успехам Павла», – вспоминает Александр Корин, который и сам в 1911 году был принят в «Иконописную палату». В 1913 году и ему суждено было обратить на себя внимание Нестерова. В «Иконописной палате» была открыта выставка ученических работ.
«Я увидел, что к нам идет Нестеров… – вспоминает А. Корин. – Прошло немного времени, слышу, кричат: «Корин, Корин, где вы? Идите сюда, вас Нестеров зовет». Ну, думаю, теперь пропал: попадет мне сейчас за мою живопись. Вхожу и вижу: Нестеров с директором дожидается около моих работ. «Так вот он какой! Ну, здравствуйте! (жмем друг другу руки). Смотрел вашу «Троицу». Хорошо, очень хорошо! И, по-своему, живописец вы, от эскиза далеко ушли: он условнее. Так и дальше работайте, всегда идите от натуры!» Так произошло мое знакомство с Михаилом Васильевичем».
Это знакомство с Нестеровым двух юношей палешан, поступивших вскоре в Училище живописи, ваяния и зодчества, превратилось в тесное, глубоко воспитательное для них общение со знаменитым художником.
Оно особенно усилилось и углубилось в годы революции, после того как в 1920 году Нестеров вернулся с юга в Москву.
«Михаил Васильевич был очень приветлив, – пишет А. Корин. – Я стал постоянно бывать, показывать все свои работы и советоваться с Михаилом Васильевичем обо всем». То же делал и Павел Корин со своими работами.
Общение старшего художника с младшими было глубоко своеобразно. Тут не было ученичества в обычном смысле слова: «учителем» Нестеров никогда и никому не хотел быть и не был. Тут не было житейского и творческого покровительства знаменитого художника начинающим. Тут было жизненное и творческое единение старого мастера с молодыми мастерами в единой любви к искусству как к жизненному делу художника. Для Кориных была раскрыта большая книга богатейшего творческого опыта Нестерова. Как художник, на редкость щедро и тесно соединявший в себе страстную веру в русское искусство с любовью к искусству Возрождения, Нестеров открывал Кориным самые заветные свои мысли о русских путях в мировые просторы искусства. Нестеров ничего так не опасался для живописцев, как сужения их художественного и культурного горизонта. Он – усерднейший ученик великих мастеров Византии, Италии, Франции, России – призывал Кориных к этому непрерывному ученичеству у мастеров мирового искусства – не одной живописи, но и поэзии и музыки.
Благоговевший перед Александром Ивановым, Нестеров был прямо счастлив, когда увидал чудесную копию «Явления Христа народу», сделанную Павлом Кориным. Он высоко ценил упорную любовь этого молодого художника к классической строгости рисунка и, случалось, высказывал, не обинуясь, что такому-то и такому-то признанному живописцу современности не худо пойти поучиться рисунку у Павла Корина.
9 января 1930 года Михаил Васильевич писал мне:
«Корин-младший сделал удивительную копию с леонардовской «Мадонны Литта». Копия такова, что те, кто много видал копий по заграничным музеям, уверяют, что лучшая и совершеннейшая – только что сделанная. Ее «техника» равна тому содержанию, тому высокому художественному смыслу, что вложил в нее Леонардо да Винчи».
В самый разгар работы Александра Корина в Эрмитаже над его копией с Леонардо да Винчи Михаил Васильевич писал ему (2 декабря 1929 года из Гаспры):
«Спасибо вам за письмо. Оно порадовало меня тем, что вы работаете то, о чем давно мечтали, что вам по душе.
Вы говорите, что на работе этой учитесь.
Ах, как хорошо это слово! Как содержательно оно и как жаль, что оно выходит из моды, что его смысл так часто и от многих бывает сокрыт. Мы начинаем постигать его великое значение тогда, когда и волосы и зубы повыпадут. (У вас-то и то и другое в великолепном порядке.)».
Нестеров считал счастьем для Кориных, что Горький, чуткий ко всему самобытно-талантливому, взял их с собою в Италию в 1931 году, раньше всех, вместе с Нестеровым, поверив в художественную одаренность братьев-палешан. Нестеров следил за художественным путешествием Кориных с любящей внимательностью. Корины и путешествовали по Италии с кратким путеводителем, собственноручно написанным для них Нестеровым.
Во время второй своей поездки в Италию (1935 год) Павел Корин писал Нестерову из Вечного города:
«Михаил Васильевич, каждый день, здесь мною проведенный, я ценю как величайший дар, как величайшее счастье.
В 1911 году мне, палешанину-иконописцу, выпало большое счастье встретиться с Вами, Вы бросили мне в душу Ваш пламень. Вы виновник того, что я стал художником.
От всей души, отсюда – из Рима, Вас благодарю».
«Михаил Васильевич, – вспоминал позже Александр Корин, – заходил к нам на чердак на Арбате, помещение очень удобное для работы. Мы обставили его по своему вкусу. Комнаты украшены античными гипсами: Венера Милосская, Лаокоон, Боргезский боец, на стенах укреплены плиты фриза Парфенона, висят древние иконы, на столах уставлены рукописные и старопечатные книги, лежат папки с древними иконописными рисунками, среди них рисунки наших прадедов и всякие старинные вещи, привезенные из Палеха. Михаилу Васильевичу нравилось у нас.
В начале 1930 года Михаил Васильевич не раз говорил, что ему хочется написать нас, братьев, вместе с нашей обстановкой».
17 апреля Нестеров писал мне о своих планах (как обычно, в третьем лице):
«Вместе с праздниками к нам приходит и весна, она ранняя, такая шумливая, как сама молодость.
Ах, молодость, молодость! Ее «контрастность» со старостью, с 69-ю годами, так чувствуется сейчас, когда набухают почки, когда того и гляди они лопнут, появится новая жизнь в зеленых листочках, в этих новорожденных матери-природы.
Хорошая пора юности, грустна она у тех, что уходят…
Перейду к Вашему молчаливому другу. Он хотя и киснет, но искра жизни где-то еще, очевидно, в нем теплится. Хвастается, что не сегодня-завтра начнет писать двойной портрет с братьев Кориных. Я говорил ему, что трудная тема, а он свое: «Ну так что же, что трудная, зато интересная».
Один ему кажется каким-то итальянцем времен Возрождения, другой – русак-владимировец с повадкой Микулы Селяниновича, с такими крупными кудрями…
Оба брата даровиты, оба выйдут в люди…
Подумайте, разве тут какие резоны помогут? «Хочу, и больше ничего». И я махнул рукой, пусть пишет… А весна идет, молодая жизнь вступает в свои права…
Да здравствует жизнь! Не так ли, дорогой друг?»
В письме этом чувствуется преодоленная старость; оно дышит молодым вдохновением: по-юному звучит это теплое переживание весенней радости, по-молодому трепещет нескрываемый восторг перед новыми творческими задачами, молодая смелость перед трудностями этих задач, и лишь одного нет в этом юном письме старого художника: нет молодой самоуверенности в том, что эти задачи будут решены, а трудности преодолены.
Писанье портрета было решено.
Как всегда в удачнейших работах Нестерова, все – и композиция, и красочная гамма портрета Кориных – было выношено в душе художника до конца прежде, чем он приступил к работе. Никаких «поисков» на самом полотне, перемарываний, перемазок, никакой «кухонной стряпни» на холсте он не любил. Если работа, по его строгому суждению, приводила к неудаче, он начинал ее на новом холсте, а старый истреблял, «сдавал в архив» или писал на нем новую вещь.
«29 апреля, – вспоминает Ал. Корин, – Михаил Васильевич пришел к нам, показал нам два маленьких эскиза на одном листе, сделанные акварелью. Попросил нас стать в позы, как на эскизе, и пояснил нам, что он хочет написать нас стоящими и рассматривающими античную терракотовую фигурку. И попросил достать на время работы где-нибудь подлинник».
Два акварельных наброска незначительно отличаются один от другого; на первом Павел Корин опирается левой рукой о стол, а в правой держит темно-оранжевую та-нагрскую статуэтку; на втором он держит ее обеими руками.
Этим двум наброскам, показанным братьям Кориным, предшествовали два наброска, оставшиеся им тогда неизвестными.
Один, акварельный, в точности повторяет первый из набросков, показанных Кориным, но в руке у Павла не танагрская статуэтка, а лист бумаги. Под этим наброском карандашом рукою Нестерова подписано: «11–12 марта 1930 г.». Это первая дата работы над портретом.
Но наброском автор остался недоволен. Что держит в руке старший Корин? Собственный рисунок? Старинную гравюру? Прорись из иконописного подлинника? Можно было гадать об этом. А надо было, чтоб зритель без всяких гаданий знал, что в руках у художника Корина настоящее произведение искусства.
И на следующем наброске – карандашом – Нестеров поднял руку старшего Корина кверху, но еще затруднялся: что же дать ему в руку?
На эскизах, показанных братьям Кориным, старший уже высоко держит в руке подлинное создание античного искусства – маленькую статуэтку.
Композиция портрета была найдена в этих акварельных набросках.
Изменения, внесенные на холст сравнительно с эскизом, несущественны.
На эскизе не было старинных «кожаных» книг на столе; не было и деревянной подвижной модели нагого человека, которую портретист поместил, чтобы подчеркнуть приверженность молодых художников к строгому изучению своего ремесла. Стеклянные банки с красками радостно играют киноварью, лазурью, кобальтом, как драгоценными камнями.
«На стене висит античный барельеф с Парфенона (гипс), на портрете изображена его часть, – писал мне Павел Корин. – Танагры, такой, какой хотел Мих. Вас, нам найти не удалось. Тогда я попросил у А.В. Живаго из его собрания небольшую греческую вазочку, показал ее Мих. Вас, она ему понравилась и была написана вместо танагры».
Вазочку эту на портрете Павел Корин держит одной, а не двумя руками, как на эскизе; профиль же его лица и фигуры остался неизменным. Сразу стал на свое место и Александр Корин: на холсте лишь усилен поворот его головы влево, в сторону вазочки, показываемой старшим братом.
На эскизах братья-художники изображены в рабочих шерстяных блузах темно-синего цвета; на полотне Нестеров взял более трудный, но более строгий черный цвет. Нестеров не боится его «внеживописности»: он умеет открыть в черном всю полноту, всю выразительную подвижность живописного цвета. На портрете Кориных черный цвет как нельзя более подошел к силуэтному построению фигуры старшего брата.
На эскизах были найдены и перешли в портрет крепкий, красновато-коричневый тон дубового стола и серовато-беловатый, с прозеленью тон гипсового барельефа.
На холсте эти дополнительные тона были разработаны с любовным вниманием, приведены к стройному, спокойному звучанию – превратились в сдержанно-стройный аккомпанемент к живой действительности человеческих фигур.
Показав Кориным два акварельных эскиза, Нестеров тут же, не теряя минуты, приступил к делу, которое считал решающим для портретиста; не сделав никаких дополнительных зарисовок ни с интерьера, ни с утвари, ни с самих фигур Кориных, он счел необходимым тут же сделать два тщательных рисунка карандашом с их голов.
«Михаил Васильевич, – вспоминает младший Корин, – рисовал с видимым увлечением и все говорил: «Как любопытно: в натуре совсем другое дело; теперь мне все ясно, я могу начинать работать на холсте».
«Увлечение» художника ясно видно на этих превосходных рисунках, зорко и любовно отработанных.
Павел Корин на рисунке взят в том же остром профиле, как на эскизе, и от рисунка идет та виртуозная законченность этого отточенно-строгого, благородного профиля, родство которого с юношами Гирляндайо давно заприметил автор. Полнота характеристики и красота внешнего выражения профиля в этом карандашном рисунке так велики, что художнику легко было перевоплотить его в красках на холсте.
Наоборот, голову Александра Корина Нестеров, рисуя с натуры, значительно изменил. На эскизе в глазах молодого художника было слишком много спокойствия, в лице – мало движения; голова была взята почти анфас. На рисунке художник повернул голову младшего Корина влево, взял ее в три четверти.
«Когда был приготовлен холст, – рассказывает А. Корин, – Михаил Васильевич тщательно все нарисовал углем, закрепил рисунки и начал писать. Позировали мы то оба вместе, то порознь. Работал он стоя, все время отходя от холста – и быстро налетая на него. Во время работы М.В. разговаривал и нас вовлекал в разговор – должно быть, ему это нужно было для работы. Говорили обо всем. Любил он вспоминать Италию, а мы слушали и расспрашивали его о том, что особенно нас в Италии интересовало. У нас обоих была заветная мечта побывать в Италии, чтобы в подлинниках увидеть все, чем мы любовались только по фотографиям и слепкам. Это неожиданно для нас исполнилось. Год спустя в мастерскую пришел А.М. Горький посмотреть наши работы и предложил нам поехать вместе с ним в Италию».
Работу в красках Нестеров начал с Павла Корина, шел с левого верхнего угла, как всегда.
Работая головы на холсте, он только беглыми мазками обозначал соотношение общего фона с лицом. Во время работы Нестеров дважды менял очки, говоря:
– Плохо вижу.
В очках подходил вплотную к натуре, смотрел пристально в лицо, приговаривая:
– Вот как! А я и не вижу! Вон как!
Это было любование богатством психологических и живописных деталей лица, радостное изумление пред неисчерпаемым обилием этих чудесных деталей.
С настоящим упоением писал Нестеров руку Павла Корина, держащего драгоценную древнегреческую вазочку.
– Я уж боялся, – вспоминает П. Корин, – что вазочка вывалится у меня из руки. Рука затекла. Держу вазочку или нет, я уже и не знаю. Боюсь разбить.
Всю руку Михаил Васильевич написал в один раз, не отходя от холста.
Когда лицо и фигура старшего Корина были написаны, Нестеров начал младшего брата. Голова ему не сразу давалась.
«Работая со мной, – вспоминает А. Корин, – Михаил Васильевич говорил: «Ваше лицо для меня особенно трудно. Мне надо в вас увидеть, докопаться и выразить то, благодаря чему вы написали вашу «Мадонну». Работал Михаил Васильевич обыкновенно с десяти до часу, иногда немного дольше».
Окончив фигуры, Нестеров приступил к интерьеру.
В конце лета портрет был написан. Михаил Васильевич некоторое время заканчивал его у себя дома, обобщая главным образом фон.
Построение двухфигурного портрета по вертикали – одна из труднейших композиционных задач, редко кем удачно решенная. Нестеров решил ее блестяще. Портрет поражает своим единством, целостностью, нерушимой стройностью замысла, композиции и исполнения.
Если двойной портрет Тютчевых распался на два портрета оттого, что в нем не было идейного и художественного центра, объединяющего двух субъектов в единстве их волевого устремления, то в «Кориных» такой центр был найден при зарождении самой мысли о портрете. Два брата-палешанина, столь разные по характеру, темпераменту и внешнему облику, жили единой любовью к живописи, питались творчески единодушным влечением к ее истокам. Так было в жизни. Так стало на портрете.
По-разному стоят на портрете два брата-художника.
Есть прекрасная пластическая строгость, классическая сдержанность в неподвижной, силуэтной фигуре старшего брата: он держит в руках драгоценное наследие вечно юного прошлого, и его скованность – это боязнь расплескать хотя бы каплю из вечного напитка искусства:
Младший брат стоит совсем в другой позе: его широкоплечая фигура взята во всю ее ширь и мощь. Его сильные рабочие руки крепко, но спокойно держатся за простой ремень пояса: это привычная, излюбленная поза, он весь преисполнен внутренним волнением, но силится скрыть его.
Но при разных, даже диаметрально противоположных позах, выражающих всю разность их характеров и темпераментов, оба брата объединены общим устремлением: их взоры прикованы к чудесной эллинской вазе.
Взоры эти по-разному – у старшего брата с внутренним самоуглублением, у младшего с ликующим изумлением, – но одинаково радостно вбирают в себя это несомненное бытие красоты, льющееся из древнего сосуда.
Этот строгий портрет писан поистине любящей кистью. В нем любование русскими юношами, нашедшими свой верный путь к великому в искусстве, выражено с какой-то благородной гордостью за них, за свой народ, который в «племени младом, незнакомом» (Пушкин) таит законных наследников мирового творчества.
Нестеров хорошо знал, что он написал произведение исключительной свежести и мастерства.
Когда в 1932 году организаторы выставки «Советское искусство за 15 лет» настоятельно просили Нестерова принять в ней участие, он из всей галереи портретов, созданной им к тому времени, выбрал этот один «Портрет художников бр. Кориных», только этот один портрет он считал настолько художественно зрелым и законченным, что счел возможным выйти с ним в люди впервые после двадцатипятилетнего отсутствия на выставках.
«При виде этого портрета, – вспоминает И.Э. Грабарь, – невольно приходила в голову мысль – вот произведение, достойное Эрмитажа и Лувра, но ни в чем не повторяющее старых мастеров – современное и советское».
«Портрет Кориных» остался навсегда одним из немногих любимых произведений Нестерова.
«Еще в 1929 году Северцов, Шокальский, Борзов начали поговаривать о том, что мне следует написать портрет с И.П. Павлова, – так начинает Нестеров свое повествование «И.П. Павлов и мои портреты с него». – Нас сватают… Показывают мне его портреты… Я смотрю и не нахожу ничего такого, что бы меня пленило, «раззадорило». Типичное лицо ученого, профессора, лицо благообразное, даже красивое и… только. Я не вижу в нем признаков чрезвычайных, манящих, волнующих мое воображение… и это меня расхолаживает».
Но когда Нестеров узнал от «сватов»-ученых, что Павлов готов позировать ему, он, нисколько не предрешая вопроса о портрете, без всякого замедления согласился увидеться с Павловым, которого заочно уважал как ученого и человека.
Первая же встреча с Павловым решила все дело.
«Не успел я осмотреться, сказать несколько слов, ответить на приветствие супруги Ивана Петровича, как совершенно неожиданно, с какой-то стремительностью, прихрамывая на одну ногу и громко говоря, появился откуда-то из-за угла, из-за рояля сам «легендарный человек». Всего, чего угодно, а такого «выхода» я не ожидал. Поздоровались, и я вдруг почувствовал, что с этим необычайным человеком я век был знаком. Целый вихрь слов, жестов неслись, опережая друг друга. Более яркой особы я и представить себе не мог. Я был сразу им покорен, покорен навсегда. Иван Петрович ни капельки не был похож на те «официальные» снимки, что я видел, и писание портрета тут же, мысленно, было решено. Иван Петрович был донельзя самобытен, непосредствен. Этот старик 81 года был «сам по себе», и это было настолько чарующе, что я позабыл о том, что я не портретист, во мне исчез страх перед неудачей, проснулся художник, заглушивший все, осталась лишь неутолимая жажда написать этого дивного старика».
Эти строки драгоценны для понимания того, как и когда «непортретист» Нестеров становился портретистом, до самозабвения преданным своему делу. Невозможно точнее и ярче передать то радостное «приятие» человека, которое выражено в этих пламенных словах; такое «приятие» человека было необходимо Нестерову для того, чтобы стать за мольберт портретиста. Он должен был вдохновиться человеком, чтобы писать его на полотне, и только это старое слово «вдохновение» (слово, любимое Нестеровым) помогает выразить то, что он испытал, переходя от первой встречи с Павловым к первому штриху углем на холсте его портрета.
Очарование «человеческим» и творческим друг в друге было взаимно у художника и у ученого: на все пять лет жизни, оставшихся Павлову, они сделались друзьями с Нестеровым.
Нестеров, гостя у Павлова в Колтушах, готовился к портрету, внимательно всматриваясь, вслушиваясь, вдумываясь в «дивного старика».
«Осмотревшись, я начал обдумывать, как начать портрет: условия для его написания были плохие. Кабинет И.П., очень хорошо обставленный, был совершенно темный: большие густолиственные деревья не пропускали света; рядом была застекленная с трех сторон небольшая терраса; возле нее тоже росли деревья, и все же на террасе было светлей; пришлось остановиться на ней.
Я заказал сделать подобие мольберта, подрамок; холст, краски были со мной.
Начал обдумывать композицию портрета, принимая во внимание возраст, живость характера И.П., все, что могло дать себя почувствовать с первых же сеансов.
И.П. любил террасу, любил по утрам заниматься там; вообще это было единственное место в его апартаментах, где было светло и уютно. Прошло дня два-три, пока не утвердилось – писать портрет на террасе, за чтением. Это было так обычно, естественно для И.П., вместе с тем давало мне надежду на то, что моя модель будет сидеть более терпеливо и спокойно…»
Сеансы начались тогда, когда модель и не подозревала, что они уже начались. Не прибегая к карандашу, Нестеров упорно, из часа в час, зарисовывал в душе своей сложный, увлекательный облик «необычайного человека»: он создавал ритмический рисунок портрета.
«За чаем поднимались разговоры, они обычно оживлялись самим И. П-чем, бывали импровизированные, блестящие лекции по любимым предметам. Один из учеников их записывал, я наблюдал, стараясь понять, уяснить себе мою трудную, столь необычную модель.
Светлый ум И. П-ча ничем не был затемнен: говорил ли он о биологии, вообще на научные темы или о литературе, о жизни – всегда говорил ярко, образно, убежденно. То, чего не понимал он, в том просто, без ложного самолюбия, признавался. Во всем он был законченным человеком; мнения свои выражал горячо, отстаивал их с юношеским пылом. Шекспир, Пушкин, Толстой были его любимцами. Слабее обстояло дело с музыкой, живописью, скульптурой».
Внутренний ритмический рисунок Павлова оказался близок внутреннему ритмическому рисунку самого Нестерова: эта пламенность переживаний, эта прямота и чистота их выражения, это не течение, а кипение бытия в этом старом человеке – все это было органически близко Нестерову: чем дольше он вслушивался и всматривался в Павлова, тем ближе ему становилось его мудрое и юное «я есмь» – и тем увлекательней являлась задача: запечатлеть на полотне это родственное «я есмь».
Переход с этих «сеансов» без полотна и палитры к сеансам перед мольбертом совершался незаметно для Павлова.
«Тотчас после чая начинался сеанс, мы уходили на террасу, И. П. садился за рабочий стол, брал книгу, иногда это был любимый Шекспир, иногда книга была научного содержания».
Но не всегда книга удерживала великого ученого от превосходных вспышек его чудесного темперамента бойца и новатора.
– Я едва усадил его за стол, – рассказывал мне Нестеров про один сеанс. – Неуемный старик: сидеть не любит. Все бы ему кипеть, бурлить. Наконец сел за стол, раскрыл свежую книжку английского журнала. Ну, думаю, будет спокойно читать. Где там! Как ударит кулаком об стол! Страницу не листает, а рвет! Это он гневается па автора статьи, который возражает против его учения об условных рефлексах. Доказывает мне нелепость возражений, спорит с ним, грозя очами, негодует! Ну, на втором портрете я так и написал его с кулаками. Пусть грозит глупцам и невеждам! Шли минуты, я, положив палитру с кистями, смиренно выжидал конца. Иван Петрович стихал, сеанс продолжался до следующей вспышки.
На первом портрете худая, умная, натруженная в работе рука великого ученого поддерживает раскрытую книгу. Он погружен в чтение.
Но это чтение – не успокоение за книгой, услаждающее мозг эстетическим отдыхом. Павлов не читает: оп сквозь книгу беседует с тем, кто ее написал: сейчас, в данную минуту, беседа эта идет спокойно. В глазах старого ученого запечатлена углубленность в чужую мысль и слово. Свежее, бодрое лицо его с чистейшим серебром бороды и усов овеяно теплым, мягким сиянием лета, струящимся через густую бодрую зелень деревьев, которые точно стучатся своими ветвями в окна террасы. Ласковая, щедрая свежесть зелени удивительно гармонирует с этой розоватой и серебряной свежестью бодрого лица седого юноши-мудреца.
Но чувствуется: еще минута – и этот дружный разговор с кем-то через книгу прервется вспышкою затаившейся борьбы за новую истину, трудно дающуюся людям.
В портрете – при всей его мягкости и теплоте – заключена чудесная «взрывчатость», свойственная Павлову-ученому в мысли и Павлову-человеку в темпераменте.
«Наши отношения день ото дня упрощались, – вспоминает Нестеров, – портрет наладился, близился к концу.
Ивану Петровичу он нравился, и решено было показать его близким. В Колтуши приехала супруга Ив. П-ча, Серафима Васильевна, и сын их; портрет ими был одобрен так же, как и сотрудниками и приехавшими иностранцами».
Портрет потребовал от Нестерова большого напряжения сил. Он, с добродушной оглядкой на Павлова, жаловался своему врачу-другу Елене Павловне Разумовой:
«Левая рука от лопатки до кисти руки болит, и не знаю, что с ней мне делать – купаться ли во всякую погоду, как советовал Иван Петрович, или играть в чурки…»
На выставке Нестерова в 1935 году портрет привлекал общее сочувственное внимание. Успех был полный.
«И лишь я один, – пишет Нестеров, – не был доволен портретом. Я мог тогда уже видеть иного Павлова, более сложного, в более ярких его проявлениях, и я видел, что необходимо написать другой портрет этого совершенно замечательного человека, но кем и когда этот портрет будет написан – сказать было нельзя…»
Сказать было можно: портрет мог написать только Нестеров, как никто подошедший близко к образу замечательного русского человека и полюбивший его крепко.
Получив от Нестерова к своему 85-летию повторение своего портрета, Иван Петрович Павлов, сердечно благодаря за «теплый привет и подарок», слал пожелание Нестерову:
«Дай Вам бог еще находить радость в нашей художественной творческой работе, как я все еще в моей научной работе переживаю не увядающий интерес – жить».
Эту «радость» Нестеров скоро вновь нашел в «художественной творческой работе» над новым портретом Павлова, написанным в конце августа 1935 года.
Удивительна была эта крепкая дружба двух столь несхожих между собою людей.
Еще в первый приезд Нестерова великий ученый пожелал ввести художника, очень далеко стоявшего от вопросов физиологии, в суть своего научного эксперимента. Нестеров пишет:
«Иван Петрович давно хотел показать мне опыты искусственного питания, преподать мне его знаменитую теорию условных рефлексов».
Из дальнейшего изложения Нестерова очевидно, что он действительно сумел из опытов и объяснений Павлова весьма точно уяснить себе существо его учения об условных рефлексах.
В беседах с Павловым Нестерова привлекал истинный мудрец, стоявший на вершине современного знания, но строго сознающий, что «тема жизни все же остается для него и теперь необозримо сложной и величественной».
Нет сомнения, что и Павлова привлекал в Нестерове истинный художник, преданный мастер высокого искусства, человек независимого ума, емкого и глубокого, человек большого сердца, отзывчивого на жизнь.
Два замечательных русских человека, переживавших в старости кипучую молодость творчества, становились необходимы друг другу. Павлов звал Нестерова гостить в Колтуши. Нестеров гостил там летом в 1933 и в 1934 годах. «Разговоры, чтение, споры со мной об искусстве, – вспоминает Нестеров об этих своих гостинах. – Наше художественное образование с Иваном Петровичем в молодости шло разными дорогами, и он воспитывался не столько на Сурикове и Репине, сколько на Владимире Маковском, Дубовском и иже с ними, потому искусство для него и было лишь необходимым отдыхом, его жестковатым, но любезным диваном, а не высоким наслаждением, к которому нас призывали великие мастера Возрождения, гениальные поэты и музыканты».
«..Работая умственно, И.П. все же до конца не забывал своих давних навыков: утром и вечером он по два часа занимался физическим трудом… Теперь он чистил дорожки своего сада, а я тогда на ходу его зарисовывал. Рисовал я и по вечерам, после чая, когда все собирались на террасе перед сном. Ум И.П. неустанно работал; казалось, в любой час дня и ночи он был способен к ясным, точным выводам, недаром на его новом доме было начертано: «Наблюдательность, наблюдательность…»; где бы он ни был, что бы ни делал, он оставался наблюдателем, экспериментатором».
Этому лозунгу следовал в Колтушах и Нестеров: он неустанно «наблюдал» Павлова – «экспериментировал» над ним с карандашом в руке. Эксперимент этот был необходим для будущего портрета.
Тяжелая болезнь Павлова в марте 1935 года была для Нестерова грозным предупреждением: портрет, которому предстояло вобрать в себя сердечные наблюдения и рисовальные эксперименты за пять лет, должен быть написан немедленно.
В августе 1935 года Павлов возглавлял XV Международный конгресс физиологов в Ленинграде. Конгресс закончился в Москве приемом Советским правительством делегации конгресса во главе с Павловым в Большом Кремлевском дворце.
Павлов с семьей дружески посетил Нестерова на Сивцевом Вражке, а затем увез его с собою в Колтуши – писать новый портрет.
К портрету Нестеров приступал с большим душевным и творческим расположением, но и с большой заботою: «Приступаем к портрету более сложному, чем первый; нам обоим 158 лет; удастся ли преодолеть все трудности для одного – позирования, для другого – писания портрета?»
Нестеров стал искать тех естественных условий, в которых Павлов, не покидая своей обычной кипучей деятельности, не превращаясь в «модель» для художника, стал бы ею на деле, но совершенно незаметно для себя.
Он приметил: «Во время утреннего чая приходит заместитель И.П. по биостанции, Виктор Викторович Рикман, спокойный, вдумчивый, очень ценимый И.П. …остается с докладом по биостанции, потом идет общая беседа – и я вижу, что никто так умиротворяюще не действует на И.П., как Рикман, и я вижу, чувствую, что он один может мне помочь; но согласится ли он во время наших сеансов сидеть за столом против И.П., беседовать с ним не один час, а, быть может, много дней?»
Согласие было получено.
«Приступаем к делу. Я сажаю И.П. против Виктора Викторовича, их разделяет стол, на нем цветы: левкой, любимый цветок И.П., и «убор невесты», цветок провинциальный, но такой изящный; его белые лепестки, как звезды; к тому же он закрывает собою собеседников.
Иван Петрович недолго остается молчаливым, начинает задавать вопросы; на них с обычным спокойствием, деловитостью отвечает В. В.; чем дальше, тем беседа делается оживленнее; я принимаю в ней посильное участие. Уголь мой скользит, прыгает по полотну, я хочу скорее оформить мою мысль, хотя бы схематически. И.П., оживляясь, имеет манеру для большей убедительности пристукнуть по столу кулаком, что дало мне повод ввести в портрет столь свойственный И.П. жест, рискуя вызвать протест окружающих и близких его. Ничуть не бывало – все мою мысль одобрили: жест остался.
Сеансы шли за сеансами, портрет подвигался вперед. Бывало, проработаю больше обычного времени, и, заметив, что Иван Петрович еще с увлечением говорит, я, переглянувшись с В.В., продолжаю писать до тех пор, пока освещение совсем менялось, тогда я объявлял сеанс законченным, а Иван Петрович, посмотрев на часы, узнавал, что просидел часа два. Все, довольные, веселые, расходились до следующего утра».
Михаил Васильевич забывает при этом прибавить, что на работу эту он затрачивал больше сил, чем их имел: так велико было его увлечение этим новым творческим общением с замечательным русским человеком.
9 сентября Михаил Васильевич писал П. Корину: «Я работаю с остервенением, по 5–8 часов простаиваю у мольберта (Елена Павловна разрешила не больше двух, как же, так я и буду ее слушать!).
Портрет почти закончен, голова вышла, бьюсь над руками характерными, а старик бедовый; сидеть смирно не может, к тому же погода неустойчивая: то солнце, то серо или дождь; замучился, спал с тела, и все же дело двигается, осталось на 3–4 сеанса, а потом сушка; хочу портрет привезти с собой (и рама уже заказана)».
Из переписки с врачом Е.П. Разумовой явствует, что 73-летний мастер, работая в невероятных темпах, трудился над портретом больной, в гриппе, дорабатывался до головокружения и все это преодолевал своим вдохновенным трудом. Нестеров любил пушкинскую заметку:
«Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии».
Вот это «расположение души», устремленной на воссоздание прекрасного облика великого русского человека и друга, охватив всего художника, давало ему силы, преодолевая возраст, усталость и болезнь, писать портрет Павлова в темпах, которым ужасались его врачи, но не ужасался сам Павлов – человек таких же темпов в жизни и такого же вдохновения в науке.
Трудности Нестеров испытывал не в работе над лицом и фигурой Павлова.
«Много заботы, – вспоминает он, – мне доставлял фон портрета: в окна был виден любезный Ивану Петровичу «Павловский городок», с его коттеджами, службами и проч., но такой ландшафт не был живописен: коттеджи были стандартные, игрушечные, и я подумывал последовать совету Виктора Викторовича – написать в окне просто местный пейзаж, но я видел и знал, что И.П., хотя и примирится с этим, но в душе будет огорчен, что я изобразил его не на фоне любимого им детища, который мог придать ему (портрету. – С.Д.) некоторую историчность, и я решил написать «городок».
Как живописец Нестеров впоследствии не раз тужил об этом как о самом слабом месте портрета; но как портретист он был прав, что «городок» остался на этом портрете Павлова, запечатляющем облик ученого в момент высшего признания его научного дела делом общенародным, важным для всего человечества.
«Портрет был кончен. Близкие И.П. его одобрили, пригласили всех сотрудников для осмотра, и все в один голос нашли портрет более похожим, чем первый».
С этим согласился и сам автор.
Это один из самых оптимистических портретов Нестерова. Портрет писался осенью, но его колорит – весенний. Вся фигура старика ученого словно овеяна весенним теплом, светом, воздухом. В противоположность первому портрету на втором нет никакой лиственной, древесной преграды между ученым и его любимыми Колтушами. Свет привольно, изобильно наполняет террасу и напояет всю фигуру сидящего ученого, мягко овевая светлыми бликами его лиловато-серый пиджак. Солнечным теплом и светом согреты белые звездочки «убора невесты» – скромного цветка в простом глиняном горшке.
На розовато-сиреневой скатерти лежит график работ биостанции, поданный поутру ее хозяину.
Павлов написан в профиль. Его руки опущены на беловато-голубой листок графика.
За эти кулаки – худые, старчески обостренные, но сильные, нервные, властные – Нестеров сильно опасался: они ему были необходимы на портрете, но «кто же изображает ученого, да еще великого, с кулаками»?
Для Нестерова этот жест есть пластический сгусток всего характера и темперамента Павлова.
Павлов сидит точно после удара по невидимому противнику – мы с радостью ощущаем в этом жесте тот «натиск пламенный», тот «отпор суровый», который был так свойствен великому ученому, борцу за новую науку о человеке.
Сейчас, в этот светлый утренний час ранней осени, похожей на позднюю весну, эти кулаки мирно, быть может, с некоторой усталостью опущены на итоговый график кипучих «трудов и дней» любезной ему биостанции. Так ясен этот погожий день, так чист этот вольный воздух, наполняющий террасу, что радостен старому ученому этот мгновенный покой.
Но и в самом прекрасном покое своем, в утренний час перед трудовым днем, Павлов на нестеровском портрете не мыслитель-созерцатель, а воинствующий боец.
На лице Павлова и на всей его фигуре – отпечаток светлой бодрости. Этот человек переживает весну своего творчества. Нестеров всегда был чуток на красоту старости. На портрете Павлова Нестеровым заново найдена эта красота старости, присущая русскому человеку, честно завершающему свой жизненный путь в строгости к себе и в непоколебимой верности своему призванию. В благообразии лица и седин Павлова есть что-то роднящее его с величаво-добрыми и простыми старческими лицами из народа. Но на его лице так явственно выражено сияние большого интеллекта. Лицо одухотворено пытливой мыслью, неразлучной спутницей всей этой восьмидесятишестилетней жизни. Ни следа мыслительных разочарований, тревог, борений нет на этом лице. Все это уже в прошлом. Теперь все осветлено радостью обретенной истины, чувствуется, что этим старым человеком – этим мудрецом – мир и человек, несмотря на все противоречия бытия и бури истории, приняты до конца, чувствуется, что непоколебима его вера в победу человека над «звериным способом решения жизненных трудностей».
В своих «темпах», с которыми Нестеров спешил написать портрет Павлова, художник не обманулся: не прошло и года, как Иван Петрович Павлов скончался.
Михаил Васильевич тяжело пережил смерть Павлова. В августе 1936 года он писал мне:
«Вот я на днях еду в Колтуши, заранее зная, что и там найду пустое место, ибо душа Колтушей отлетела, ее нет там сейчас, и я буду слоняться там же, не находя того, чего уж нет».
Вскоре после кончины Павлова Нестеров написал третий портрет с него – литературный. И если второй живописный портрет, в красочной репродукции, украсил собой первый же том посмертного издания «Трудов» И.П. Павлова, то без третьего, литературного, портрета не обойдется ни одна книга о Павлове – человеке и ученом: столько тончайшей наблюдательности и мудрой любви вложено Нестеровым в этот портрет.
Когда появился второй портрет Ивана Петровича Павлова, он произвел сильнейшее впечатление. Добивались его видеть ученые, актеры, журналисты – все, кто чтил великого ученого, и все, кому дорого было его имя.
За портрет И.П. Павлова – как за лучший образец волевого портрета, столь близкого нашей эпохе строительства новой жизни, – Нестеров при первом присуждении Государственной премии в 1941 году получил премию первой степени.
Портрет получил широкое распространение во множестве репродукций. Но и тут Нестеров остался самим собой: когда одно издательство предложило ему крупную сумму за право первого издания портрета Нестерова, Михаил Васильевич ответил решительным отказом, сказав: «Мое дело – написать портрет, а издает его пусть всякий, кто хочет!» Ему было дорого, что его портрет замечательного русского человека станет свободным достоянием русского народа.
В августе 1931 года я получил от Нестерова грустное письмо:
«Что сказать вам о себе? Живу, доживая свой век, иногда работаю, но мало. И что особенно досадно – то, что портрет, задуманный мной на это лето, не написался: модель, Ольга Михайловна Веселкина, в Муранове проболела больше месяца и вчера уехала на место службы».
Речь шла о давней знакомой Нестерова, любимой его собеседнице, занимавшей кафедру иностранных языков в одном из высших технических институтов в Свердловске. Он даже делал наброски для портрета О.М. Веселкиной, но остался ими недоволен. Далее он писал мне:
«Мы, однако, от мысли о портрете не отказались. Если будем живы, здоровы и проч., то приступим к написанию его на будущий год… Это все же утешение, а то подумайте, ни одного портрета за весь год!»
Это было уже в горесть и в горечь «непортретисту» Нестерову.
Во второй половине 1931 года он успокоил свою тревогу в работе над портретом сына, Алексея Михайловича Нестерова.
Алеша Нестеров остался жить во многих образах на полотнах своего отца.
С него писан в 1916 году тот мальчик, которому принадлежит, в замысле художника, первое место на картине «Душа народа». В 1921 году Нестеров писал с сына юношу, играющего на свирели, который появлялся несколько раз на картинах 1921–1923 годов. В 1922 году с сына написал крестьянина на пашне на картине «Вечерний звон».
На всех этюдах, вошедших в эти картины, Нестеров искал в сыне черты русского мальчика и юноши с глубокою внутренней жизнью, с заветной мечтой в душе, с сердцем, навсегда подернутым облаком грусти. Художник не ошибался, извлекая все это из внутреннего облика своего сына. В сыне художника – по специальности он был коневод – жил настоящий поэт. Он тонко чувствовал поэзию русских степей. Его влекло работать на уединенных степных конных заводах, среди табунов, теряющихся в диком ковыле. Он чувствовал и любил это русское приволье в степных просторах, в удали протяжной русской песни, в неутолимой грусти и вольности поэзии Лермонтова.
Он сам писал стихи с несомненным талантом.
Но Нестерова влекло к сыну и как портретиста. Он, по верному замечанию Е.П. Нестеровой в одном из писем ко мне, «всегда восхищался его лицом, вполне сознавая его некрасивость». В молодом лице этом не было ничего расплывчатого и тусклого. Его можно было любить или не любить, но его нельзя было не заметить, а раз увидев, не запомнить. Это было одно из тех неповторимо характерных лиц, которые так любил Рембрандт: прирожденный портретист не может не плениться их сумрачным своеобразием.
Осенью в 1940 году, когда А.М. Нестеров был уже болен туберкулезом, я записал в свой болшевский дневник:
«Был Алеша. Он очень худ. Михаил Васильевич смотрел на него с любовью, заботой и тревогой и вдруг сказал:
– Как легко тебя писать! Бери краски и пиши – только и всего. Все ясно в лице. Все ярко. Белки как у Отелло».
Еще в 1919 году, в Армавире, Нестеров написал два портретных этюда с сына; они писались с одного-двух сеансов и были отзвуками на вот такое, чисто художественное впечатление от лица сына.
В январе 1929 года Михаил Васильевич сообщал мне, по обыкновению в третьем лице: «Нестеров, говорят, пишет портрет с сына». В феврале он писал: «Слышно, вами любимый портретист написал портрет со своего «единственного». По обыкновению, говорят, «приукрасил» и вышел сущий Дориан Грей».
Мне не пришлось видеть этого портрета, но полуироническое упоминание о том, что сын превратился будто бы в утонченного эстета, в героя романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», не предвещало доброй судьбы этому портрету. Действительно, Михаил Васильевич его уничтожил, находя очень слабым.
А к работе с сына он вернулся в конце 1931 года. Это был этюд головы в профиль, возникший почти случайно. «Сын, – рассказывает Е.П. Нестерова, – вернулся из командировки от Зоотехнического института в Рязанскую губернию измученный, наголодавшийся, он сидел в нашем черном кресле у стола. Михаилу Васильевичу понравилось освещение и его цвет лица, и он написал этюд в несколько сеансов – 3–4, не больше 5».
Этюд получился исключительный по живописной экспрессии, по психологической глубине. Это одно из сильнейших произведений Нестерова-живописца. В этюде он
суровый реалист, беспощадный, даже жестокий правдоискатель. Когда однажды при мне один из художников, любуясь портретом, похвалил его «рембрандтовское освещение», Нестеров только повел на него недовольно глазами. Он не искал в портрете никакого «освещения», но искал здесь правды о близком человеке, одной правды. В том-то и дело, оттого-то этот небольшой «этюд» и превращается в большой портрет, что здесь чисто живописное восприятие лица в определенном освещении неразрывно соединено с углубленно-психологическим восприятием характера. Красочная гамма – черное, темно-коричневое, блекло-желтое, цвета старой слоновой кости – на этюде неразрывно спаяна с гаммой психологической: усталость, погруженность в себя, неотвязчивость тяжелых дум, волевая замкнутость в себе, напряженность в покое – вот из чего складывается эта психологическая ткань этюда сына.
Своей живописной силой и психологической глубиной этюд преобразился в трагический портрет.
Даже сам Нестеров склонен был соглашаться с тем, что в этом этюде он живописец.
В 1933 году Нестеров написал «Портрет сына в испанском костюме». Его и здесь увлекла чисто живописная задача: смуглое лицо сына с яркими белками глаз, точно сошедшее с портретов Греко и Сурбарана, дать в испанском «оформлении» (шляпа, рубаха, куртка). Испанское «оформление» (включая крупные перстни на худых, длинных пальцах) не осталось эффектной декорацией для лица и рук сына, оно помогло выявить какие-то новые черты, присущие его лицу, оно оттенило яркую психологическую своеобразность этого лица, его сумрачную значительность.
8 февраля 1933 года Нестеров писал мне про посещение И.Э. Грабаря:
«Портрет-этюд с Алеши превозносит выше облака ходячего. А этюд самый обыкновенный по живописи и разве немного забавный по тому, в каком виде изображен там Алексей».
Но в том-то и дело, что этюд был совсем не «обыкновенный по живописи», а поражал ее дерзкой свежестью, ее виртуозной крепостью.
В 1937 году Нестеров вновь увлекся «испанской темой» в портрете сына. А.М. Нестеров представлен на этом втором «испанском» портрете-этюде в малиново-красном платке на голове, в белой рубашке, с горящей сигарой в руке; лицо взято в три четверти, почти в профиль. Портрет-этюд писался с большим увлечением, в 4–5 сеансов, и явно радовал художника своей красочностью, свежестью в передаче цвета, непринужденной живописностью.
Но ее нельзя назвать самодовлеющей ни в первом, ни во втором испанских этюдах: там и тут Нестерова прежде всего интересовало лицо сына – он не «стилизовал» его под испанца, а искал в нем того же, что искал всегда: правды в передаче человеческого лица.
Художественный интерес Нестерова к лицу своего сына не был исчерпан этими работами. Е.П. Нестерова пишет мне о муже: «…Последнее, что ему хотелось писать перед смертью, в сентябре – октябре, – Алешу в тюбетейке, в том черном кресле. Но он говорил: «И ты устанешь сидеть, и я устану писать».
Портрет остался ненаписанным: 18 октября скончался Михаил Васильевич, а 8 ноября скончался его сын.
В 1933 году Михаил Васильевич задумал портрет хирурга Сергея Сергеевича Юдина.
Выбор натуры для очередного портрета по обыкновению держался в секрете, но, когда секрет просочился в среду знакомых Нестерова, он породил немало недоуменных вопросов. Какая же «нестеровская» фигура этот энергичнейший из советских хирургов? Нестеров – это воплощенная душевность: что ему делать с мастером хирургической кухни, имеющим дело только с человеческим телом, телом и телом? Тут надо Репина с его «Портретом хирурга Е.В. Павлова».
Но говорившие так (а их было немало, и говорилось все это от искренней любви к художнику) плохо знали Нестерова.
Они не знали главного: что портрет начался с увлечения личностью С.С. Юдина.
Так же, как в свое время в Горьком Нестерова поражала и привлекала непочатая свежесть его личности, совершенная самобытность, творческая смелость, так в молодом советском хирурге Юдине старого художника привлекала эта своеобычность жизненной поступи, острота индивидуальности.
Не слава блестящего хирурга, мастера научной смелости и решительного почина влекла Нестерова к Юдину, а разносторонность, широта, яркость его личности. Ближайший сотрудник Юдина по институту Склифосовского, хирург Б.А. Петров, свидетельствует:
«Его клиника и институт в целом рады видеть в нем не только выдающегося по способностям хирурга, автора многочисленных печатных трудов, неутомимого искателя новых путей и методов, но и разностороннего увлекающегося человека, ценителя всего прекрасного. Поэт в душе, обладая замечательной памятью, С.С. является знатоком творений великого Пушкина. Он любит живопись и музыку, хорошо чувствует природу, он страстный спортсмен, охотник и рыболов».
Нестеров любовался на эти дополнительные тона и цвета личности Юдина-ученого. Его радовало это полнообразие жизни в ученом-хирурге. Он не любил, он скучал с людьми, у которых вся жизнь, вся личность сведена к одному знаменателю узкого профессионализма – в науке ли, в искусстве ли. Его радовало, когда бытие проходит через человека всей своей многоцветной радугой, играя в его душе чудесными самоцветами жизни и искусства. Нестеров порою подтрунивал над охотничьими увлечениями хирурга Юдина, но порою же с видимым удовольствием рассказывал о том, сколько горных баранов и на какой альпийской высоте застрелил охотник-хирург. Михаил Васильевич качал головой при вести об автомобильных увлечениях Сергея Сергеевича, но сам же и садился в его машину, увлекаемый быстрою ездою шофера-хирурга. А споры об искусстве! Михаил Васильевич, случалось, горячо, упорно, почти сердито нападал на некоторые суждения Юдина о живописи и живописцах, но, споря, любил его за неравнодушие к искусству, за то, что есть о чем спорить с этим хирургом, который охотится на Кавказе на джейранов, и знает наизусть Пушкина, и признается в одном письме к Нестерову: «Ваша картина «За Волгой» лично на меня действует куда сильнее… «Гибели Помпеи».
Михаил Васильевич легко мог бы написать портрет Юдина без его хирургии – на материале одного этого общения в разговорах и спорах, на материале его любви к искусству.
Но в том-то и дело, что Нестеров никогда не отделял человека от его жизненного дела, он любил (или не любил) человека в этом его деле.
Вот отчего Нестерову мало было видеть Юдина у себя, у своих картин – ему надо было узнать, увидеть, полюбить Юдина в его деле, в операционной хирурга.
Михаил Васильевич не раз посещал операционную в институте Склифосовского. Это было вовсе не для портрета. Это было для того, чтобы узнать знакомого человека в его любимом деле. Он рассказывал об этих посещениях с видимым увлечением. Было ясно, что Юдин в своих операциях был для Нестерова не просто опытный мастер, а художник своего искусства: Нестерова восхищала в Юдине его творческая смелость, целеустремленное изящество его движений, их артистическая законченность.
Ученый-хирург пишет о Юдине: «Сергей Сергеевич… поражал мастерством хирурга, которому удается большое и трудное… В его операциях все планомерно, просто и очень ясно, к тому же сделано точно и тщательно. Если к этому прибавить свойственный С.С. радикализм, решимость, смелость и всегда присущее воодушевление, то станет понятно значение С.С. как хирурга».
Этого художника хирургии Нестерову захотелось запечатлеть на полотне – в ответственнейший момент его человеколюбивого искусства.
Но Нестеров не собирался писать картину «Операция», его интересовал портрет хирурга, но портрет хирурга в действии.
Задача была взята труднейшая.
Нестеров решил ее со смелой находчивостью и остроумием в композиции.
Он написал Юдина не в самый момент операции, а в прологе к ней: в момент, когда хирург подвергает больного анестезии, предоперационному обезболиванию.
Как тончайший реалист, Нестеров попадает здесь в самую «суть» хирургического искусства Юдина: он переносит на полотно то самое, за что Юдин вел упорную борьбу: спинномозговую анестезию.
Но он не писал на своем полотне иллюстрации к процессу спинномозгового обезболивания. Он писал портрет хирурга и взял из хирургического процесса, который не раз наблюдал в верхней голубой операционной Юдина (она изображена на портрете), только то, что нужно для характеристики человека, преданного своему любимому делу.
Перед нами край операционного стола. Лица больного нет на полотне: перед нами только его обнаженная спина. В этом виден замечательный расчет мастера композиции: если бы мы видели лицо больного, оно своим выражением испуга, боли, страдания отвлекло бы наше внимание от лица хирурга; полотно, раздвоив свой центр, потеряло бы значение портрета. Но лица больного на полотне нет, спину его видим мы лишь как объект действия хирурга.
Две хирургические сестры в белых халатах и повязках на голове и у рта, обращенные к нам одна лицом, другая спиною, своим безмолвием, почти безликостью (лишь у одной из сестер из повязки, скрывающей нижнюю часть лица, видны глаза, устремленные на руки хирурга) выделяют и подчеркивают глубокую действенность лица и рук хирурга.
Он, этот энергичный, суховатый человек в белом халате, в гуттаперчевом фартуке, в белой повязке, в строгих черных очках, он единственный центр и источник действия. На нем сосредоточено все наше внимание. И сам он весь воплощенное внимание, собранность, целеустремленность.
Волевой ритм личности Юдина превосходно передан на портрете. В данный момент он весь – лицо, глаза, руки, мускулы – весь целеустремлен в спинномозговой центр больного. Миг – и все это страждущее тело потеряет чувствительность и подчинится безбольно, безвольно ножу хирурга.
Как портретист рук, Нестеров был, как никто, на месте за портретом Юдина: портрет рук хирурга здесь не только композиционный, но и идейный центр полотна. В руке хирурга чувствуется не одна стальная ее твердость, строгая и изящная уверенность, но в кисти, прикасающейся к страждущему телу, чувствуется мужественная ласка: эта стальная рука воистину «рука помощи», как говорили в старину.
Портрет, как только Нестеров показал его близким, захватил своим бодрым реализмом.
Но сам художник не был доволен портретом.
Дело доходило до того, что портрету грозило прямое истребление.
В конце концов портрет выжил, но остался жить на положении как бы «пасынка». Мотив был:
– Тут дело живописца, а не мое. Взялся не за свое дело.
А между тем было несомненно, что «дело было свое». Нестеров дал наглядный урок того, что следует называть реализмом, живым и действенным, в отличие от натурализма, мертвенного и слепого.
Самого художника не удовлетворяла живописная сторона его работы. «На спину не смотрел бы», – жаловался он. Мало удовлетворяли его и фигуры хирургических сестер.
Гораздо больше удовлетворения давала ему голова хирурга.
Но его влекло к новой работе. Не раз он признавался мне:
– Посматриваю на «Сережу» – чешутся руки еще написать его.
Унять «чесанье рук» было возможно только новым портретом.
Написать второй портрет с того же человека – значило для Нестерова «вернуть ему недоданное» (его выражение), возвратить то, что казалось почти отнятым у этого человека, через что он обеднел. Так было и теперь.
В 1935 году – через два года после первого – Нестеров написал второй портрет Юдина, Юдина-лектора. Для него самого Юдин-собеседник, живой, остроумный, на все отзывчивый, всем увлекающийся, часто парадоксальный, всегда занимательный, – для него самого Юдин в его живом слове всегда был интересен, заманчив, свеж, он отлично понимал, что живое слово для Юдина – такая же творческая стихия, как его хирургический ланцет.
Юдин на новом портрете Нестерова – это увлекательный лектор-собеседник.
Как-то, близко к пушкинскому юбилейному году (1937), у Нестерова зашла речь о дуэли Пушкина.
– Пушкин остался бы жив, если бы его лечили современные хирурги, – сказал Сергей Сергеевич.
Михаил Васильевич с подзадоривающею усмешкою отозвался на это, что-де очень жаль, что Александра Сергеевича не отвезли с дуэли к Сергею Сергеевичу.
Юдин ответил на это блестящей, страстной отповедью: да, безмерно жаль, что великий поэт погиб оттого, что в его время не умели лечить ран брюшины, которые теперь с успехом излечиваются в институте Склифосовского.
Михаил Васильевич, не скрывая удовольствия, слушал эту блестящую импровизацию.
Это было уже после второго портрета, но Михаилу Васильевичу не раз случалось быть слушателем блестящих импровизаций Юдина, где мысль хирурга воплощалась в художественный образ импровизатора, чуткого к искусству. Михаилу Васильевичу было легко писать Юдина за лекцией-собеседованием.
Портрет писался в кабинете Юдина в его институте.
На этот раз Нестеров отказался от всяких «дополнительных» людей на портрете: как ни остроумно «вписаны» эти дополнительные люди (две сестры и больной) в портрет с анестезией, они, несомненно, чем-то стесняли художника – хотя бы тем усилием, которое нужно делать, чтобы удержать портрет от превращения его в жанр.
Тем не менее у Юдина, ведущего лекцию-беседу, есть слушатели, только не на полотне.
В этих слушателей, увлеченных его живою и живящею беседой, по воле художника, превращаемся мы сами, смотрящие на портрет.
Профессор сидит за своим рабочим столом, заваленным книгами, журналами, бумагами: чернильница, пепельница, стеклянные банки с хирургическими препаратами в спирту – вот все, что есть на портрете из предметов. И притом нет никакого живописного обыгрывания этих предметов.
Льется мягкий свет из невидимого окна. Какой-то благородной, безукоризненно строгой белизной выделяется полотняный халат хирурга; деловито и сдержанно белеют бумаги на столе, нужные для лекции.
Голова хирурга – в черной шапочке, крепко сдерживающей волосы, – выделяется темным профилем, почти силуэтом на фоне белой занавески. Силуэт головы вычерчен какою-то тончайшей стальною кистью: так строга его острая четкость, так безукоризненно крепка его линия, словно это предельно властная, безмерно ответственная линия жизни-смерти, проводимая рукою самого Юдина.
Его острое, энергичное лицо обращено на слушателей своей устремительной мыслью, покрывшей глубокими складками лоб профессора. Из полуоткрытого рта только что вырвалось какое-то слово, острое, летучее, несущее новую мысль, вонзающее ее в мозг, в сердце слушателей…
И мы, слушатели вне рамы портрета, мы слышим это слово, мы любим эту мысль, мы готовы волноваться ее новизною, готовы, быть может, спорить с тем, кто уколол нас этой мыслью, но одного мы не можем: не слушать этого человека с острым профилем, не можем не поддаваться обаянию его мысли.
Но смотрим мы не столько на лицо, сколько на руки Юдина. Руки его говорят сильнее, чем его голос, острее, чем его слова.
У профессора Юдина, произносящего лекцию, руки действующего хирурга.
Одна из них, правая, лежит на бумагах, нужных для лекции; по-видимому, она бездействует: папироска потухла между указательным и безымянным пальцами. Но какая умная сила, какая волевая мощь проступает в этой руке сквозь стальную напряженность жил и артерий! Эта рука все может в своем деле, она будет бестрепетна при самом трудном в этом деле; это рука человека – борца за новое. Эта правая рука много говорит своим спокойным молчанием, даже отдыхом своим.
А левая рука, высоко поднятая над столом, говорит, повествуя, рассказывает, убеждая, призывая к чему-то трудному, новому, но такому увлекательному для ученого-творца, такому необходимому для жизни. Эти тонкие, необыкновенно чувствительные пальцы могли бы быть пальцами музыкального художника – пианиста, скрипача; эта благородная, почти обнаженная нервность всей кисти могла бы принадлежать ваятелю, привыкшему побеждать действием рук косную стихию вещества. Но это именно руки хирурга: их преимущество есть красота их профессиональной неутомимости, их тонкая артистичность есть нежная мужественность художника жизни, которому приходится иметь дело с драгоценнейшим из всех материалов – с человеческим телом.
Истинный портрет Юдина на этом замечательном портрете заключен в портрете рук. Они написаны Нестеровым с какой-то особой любовью, с исключительной удачей.
Но несправедливо выделять этот «портрет рук» из этого «портрета лектора».
Все здесь гармонично и потому неотделимо одно от другого.
Второй портрет Юдина был вскоре после написания приобретен в Третьяковскую галерею.
Удовлетворенный вторым портретом Юдина, Михаил Васильевич стал милостивее относиться и к первому.
И в 1938 году он писал дочери:
«Я могу тебя утешить… Русский музей приобрел его первый портрет (во время операции). Таким образом, его ежедневно будут в двух музеях демонстрировать… Сам С.С. на Кавказе, охотится на туров…»
В кусочке этого письма сквозит своеобразное любование своеобразной личностью Юдина. Любование это продолжалось до конца жизни Михаила Васильевича – и раза два приходилось от него слышать, что он не совсем отгоняет от себя мечту и о третьем портрете Юдина.
Мечта эта не осуществилась, как и многие нестеровские мечты о новых портретах.
8 июня 1934 года Нестеров писал В.М. Титовой о том, как провел дни своего рождения и именин:
«Народу в том и другом случае было много, было шумно, весело. 5-го пел Кузмич[33 (хорошо) и играла Юдина – превосходно. Играла Бородина (перезвон) и Бетховена (Лунная соната). Из новых еще были супруги Шадры (скульптор) и еще кое-кто…
Думаю попробовать начать портрет с Щадра (Иванов-Шадр)».
Портрет с Шадра – пример того, как Нестеров был способен загораться человеком, когда писать портрет с него становилось для художника потребностью дня, минуты, дыхания.
Иван Дмитриевич Иванов, работавший под художественным псевдонимом «Шадр» (от родного города Шад-ринска б. Пермской губернии), проник к Нестерову из искреннейшей любви к его портретам и картинам и сразу очаровал старого мастера своей личностью и искусством.
В 1935 году на вопрос А.П. Сергеенко, почему он пишет тот или другой портрет, Нестеров отвечал:
– Когда вошел ко мне Шадр, запрокинул немного голову назад, все в нем меня восхитило: и молодечество, и даровитость, полет. Тут со мной что-то случилось. Я почувствовал, что не могу не написать его.
При свидании со мной, после первого знакомства с Шадром, Михаил Васильевич был полон радостного оживления, спешил яркими словесными красками зарисовать пленительную личность нового знакомого.
Он не мог налюбоваться своеобразностью его жизненного склада, красочностью его речи, сочной, смелой, истинно народной, не мог нахвалиться бойким, жизнерадостным юмором его рассказов про трудный его жизненный путь.
Сын плотника, Иван Иванов (фамилия как у сотен, тысяч, имя как у миллионов русских людей!), еще служа «мальчиком» в купеческом доме, дружил с карандашом и увлекался театром. Художник или актер – за эту мечту о призвании мальчик, отрок и юноша боролся страстно и упорно. Из Шадринска он попал в Екатеринбург, из Екатеринбурга – в Петербург. Страницы биографии Шадра повторяют собою многие давние страницы таких же биографий, удачливых или неудачливых, русских самородков.
Сильный, сочный голос, живая, прочувствованная песня ввели Ивана Ивановича в театр: режиссер и актер Александрийского театра Дарский помог юноше поступить на Высшие театральные курсы.
Но не театр, а скульптура оказалась его действительным призванием.
С тонким юмором рассказывал однажды Шадр у Нестерова, как, задумав разом решить: художник он или нет (дело шло еще о живописи), он сложил в огромную папку все свои рисунки и этюды и ринулся с ними к Репину, в Куоккалу.
Репин принял юношу с огромной папкой, пересмотрел один за другим все его рисунки и этюды и промолвил весьма предупредительно:
– Через пятнадцать минут отправляется последний поезд в Петербург. Вам надо тотчас идти. Иначе вы опоздаете.
С большим благодушием, с широкой мягкой улыбкой признавался при этом Шадр, что не то ему было обидно, что Репин ничего не сказал о его рисунках, а то, что ничем не покормил и не оставил переночевать:
– А по молодости лет есть так хотелось! А на свежем-то воздухе вздремнуть было бы так сладко!
И тут же добавлял:
– А впрочем, он все ведь мне сказал, посоветовав сложить мои рисунки. Они были дрянь.
Михаил Васильевич восторгался яркости, простодушию и беззлобию рассказов Шадра о его тяжелом прошлом. Его радовало в Шадре его прекрасное упорство в прокладывании своего жизненного пути.
Своими рассказами и всем своим обликом Шадр напоминал Нестерову двух близко ему знакомых выходцев из народной глубины – напоминал Горького и еще больше Шаляпина.
В Шадре, в его суровом, мужественном и вместе пламенном искусстве Нестеров видел подтверждение своей веры в неисчерпаемость творческих сил русского народа.
Познакомившись ближе с работами Шадра, с его проектами, набросками и планами, Нестеров, исключительно строгий на оценки, раз навсегда и всем без исключения заявлял:
– Шадр – лучший из советских скульпторов.
И быть может, лучшим доказательством этой высокой оценки Шадра как художника служит то, что Нестеров еще в начале знакомства с ним захотел писать его портрет.
28 июня 1934 года Нестеров сообщал В.М. Титовой:
«С портретом дело обстоит так: Иванов-Шадр (скульптор) согласился с большой охотой, но где писать его, еще не выяснено: если у него в мастерской, так слишком далеко (за Нескучным, за Окружным мостом) и высоко (5-й этаж), у меня – неинтересно: необходима соответствующая обстановка, но, во всяком случае, этот портрет откладывается до возвращения моего в Москву».
Но через день вопрос был уже решен: найдено место для писания, и портрет пишется до отъезда в Ярославль к дочери – так хотелось Нестерову приняться за портрет Шадра.
«Завтра, 30-го, – сообщал Нестеров 29 июня, – я начинаю работать портрет с Иванова-Шадра (скульптор) в мастерской Александра Корина, который уезжает в Палех. Модель интересная, физиономия и «повадка» в характере Шаляпина. Позировать согласился с удовольствием (мечтал-де об этом). Посмотрим, что выйдет, заранее волнуюсь, едва ли буду хороню спать и прочее, что обычно сопутствует в такие дни».
Сохранились четыре карандашные зарисовки Шадра, сделанные Нестеровым для портрета.
Как показывает сравнение рисунков с портретом, образ Шадра сложился у Нестерова полно, емко и точно задолго до того, как он обратился не только к краске, но и к карандашу.
Дышащая энергией, молодостью, волей к жизни, страстью к творчеству фигура скульптора одна и та же на всех четырех зарисовках и на портрете, и всюду она в рабочей одежде ваятеля, в белом фартуке. Одна и та же всюду и голова ваятеля: крепкая, мускулистая шея; коротко подстриженные сзади волосы, упрямой, легкой волной вздымающиеся над высоким лбом; умная, веселая пристальность привычно зорких глаз; бодрость, сила, уверенность, легкость в самом повороте головы – все это с первого наброска оставалось неизменным.
В рисунках Нестеров искал не образ, не сходство, а движение.
И на первом наброске Шадр вглядывается в свою новую, сырую работу, от которой он отошел в сторону, чтобы лучше увидеть ее, распознать в ней плохое и хорошее. Обе руки его опущены вниз; они не участвуют в этом зорком всматривании художника в его рождающееся детище. Смотрит одно лицо.
Это не удовлетворило художника. Во втором наброске он заставил ваятеля поднять правую руку, устремить ее к невидимой зрителю скульптуре. В фигуре прибавилось жизни, устремления; но левая рука ни в чем не участвует.
В двух следующих рисунках усиливается движение правой руки. Но появляется и левая рука – только кисть ее, между пальцами которой зажата папироса. Прервав на минуту работу, художник закурил ее ради отдыха, но папироса успела погаснуть, а он все всматривается в детище свое.
Лицо ваятеля на первых трех набросках было взято в строгий профиль, на последнем – оно чуть-чуть повернуто к «трем четвертям», и оно стало от этого несравненно оживленнее, устремленней; чувствуется, что и левый глаз так же напряженно всматривается в творимое изваяние, как и правый.
Этот поворот головы Нестеров перенес на полотно и там с особой мужественной нежностью разработал эту голову – молодую, сильную, умную – и, несомненно, «буйную», по ласковому определению народной песни: упрямою вольностью, могучим буйством бытия веет от нее.
Но движение и взаимоотношение рук ваятеля Нестеров разработал на полотне иначе, чем на рисунках. Он, идя на немалый композиционный риск, отнял от правой руки ее движение вперед, к творимому ею детищу, движение, было установившееся на трех последних рисунках. Теперь на полотне в левой руке у ваятеля по-прежнему догасает папироса, зажатая в чутких, гибких, стальных пальцах. Но правая рука спокойно опущена вниз вместе со стекой, которой только что работал ваятель.
Все движение художник перенес внутрь, во внутреннюю творческую взволнованность скульптора, в тревожную прикованность его взора к творимому изваянию, в требовательную зоркость упрямых строгих глаз, в озабоченную хмурость бровей и эти тревожные складки молодого, насквозь русского лица.
На последнем рисунке появился в беглом наброске и массивный гипсовый торс, занимающий такое большое место в композиции портрета.
Торс этот был из числа тех гипсовых слепков с античных скульптур, которые находились когда-то в Училище живописи, ваяния и зодчества, были выброшены оттуда футуристами, одно время завладевшими училищем, и подобраны чуть не на улице братьями Кориными. Один из спасенных ими барельефов попал на их портрет, торс – на портрет Шадра.
«Вглядываясь в полотно, – пишет биограф Шадра, – узнаешь в этом торсе произведение античной древности, исполненное больше чем две тысячи лет тому назад.
Но почему же живописец поместил в портрете современного человека этот торс?
Раздумывая об этом, я понял, что М.В. Нестеров решил подчеркнуть таким путем творческий облик Шадра, главные черты его дарования.
И действительно, Шадр придавал своим произведениям патетическую взволнованность, роднящую их с созданиями поздней античной культуры. Потрясающее напряжение «Битвы богов с титанами» вполне соответствует его творческому темпераменту».
В этих словах верно, но не совсем полно угадано намерение Нестерова. Он не хотел давать на портрете образцов скульптуры самого Шадра по глубоко обдуманному основанию: пусть сам зритель вообразит то изваяние, над которым трудится скульптор. Художнику же достаточно передать самое волнение, творческое устремление ваятеля к его образу, воплощаемому в глине. Зритель по одному этому творческому волнению, волевому напряжению скульптора, изображенному художником, должен вообразить себе, как увлекателен этот воплощаемый образ и как труден творческий путь к нему.
Древний античный торс массивен, грузен, неподвижен, изранен ударами времени и судьбы. Но в нем нет никакой косности. Полное внутренней игры жизни, это огромное титаническое тело полно ее живительной теплоты в каждом трепетании мускулов этой могучей груди. Художник мудро сопоставляет творческую тревогу молодого русского ваятеля, взволнованного даже в самом отдыхе своем, с этой прекрасной, вечной тревогой – теплотою жизни, запечатленной древним художником в обезглавленной временем, обезрученной судьбою глыбе, в которой вопреки всему тело человеческое дышит жизнью: чуется в нем не разрушимый ничем прекрасный облик человека.
Между гипсовым торсом статуи, которой исполнилось два тысячелетия, и молодым русским ваятелем, погруженным в работу, старый мастер нашел удивительно бодрую, радостную связь и труднейшую композиционную задачу – слить в одно творчески целое мертвый обломок и живого человека – решил блистательно. С особой четкостью и красотою силуэт – профиль фигуры ваятеля выступает на беловато-сером фоне древней скульптуры, продолжающей жить неумирающей жизнью.
Нестеров работал над портретом Шадра с редким увлечением. 5 июля он писал В.М. Титовой:
«До своего отъезда надеюсь фигуру кончить, весь же портрет кончу по возвращении из Ярославля. Вот какие дела-то!»
Так и было сделано: с фигурой Шадра Нестеров не расстался, пока не перенес ее на полотно. Недоработаны были только руки и античный торс.
В самом конце июля Нестеров вернулся из Ярославля в Москву и тотчас же устремился к портрету. О встрече с портретом он оживленно писал в Ярославль В.М. Титовой:
«Помывшись, наевшись и проч., я отправился к Александру (Корину. – С.Д.) в мастерскую… Посмотрел портрет, остался доволен, постучал к Александру. Он пришел и очень похвалил работу, сказал, что Шадр выпадает из всех моих портретов. Что это едва ли не самый из них сильный – реальный».
Всего через пять дней Нестеров уже мог сообщить дочери:
«Я кончил портрет, он удался, многие уже видели, очень хвалят, находят его одним из самых лучших моих портретов… Я тоже думаю, что портрет удался, живой, свежий, реальный, как ни один из предыдущих. Вот какой старик молодец!..»
И августа Нестеров писал: «Вчера был Грабарь и восхищался и критиковал портрет. Посмотрим, как дело пойдет дальше».
Дальше дело пошло так же, как началось: портрет удивил всех своей «неожиданностью». Было такое впечатление, что молодого скульптора Шадра написал его сверстник, молодой живописец.
Портрет советского скульптора, творца памятника Ленину в ЗАГЭСе[34, автора превосходных проектов двух памятников Горькому, Нестеров написал с глубоким вниканием, чисто реалистическим внедрением в его внутренний дух, склад, в его творческую волю советского художника, не только строящего, но и прославляющего новую жизнь и ее строителей.
В числе немногих своих вещей Нестеров показал портрет на своей выставке 1935 года.
Через семь лет после окончания портрета И.Д. Шадра Нестеров послал ему замечательное письмо. Вот оно:
«Недавно я был в Третьяковской галерее, видел там поразившую меня по силе таланта, страстей, мастерства – так, как, бывало, умел это делать Ф.И. Шаляпин – скульптуру, мною раньше невиданную. Рабочий, молодой рабочий, в порыве захватившей его борьбы за дорогое ему дело, дело революции, подбирает с мостовой камни, чтобы ими проломить череп ненавистному врагу. В этой великолепной скульптуре, так тесно связавшей талантом мастера красоту духа с вечной красотой формы, всем тем, чем жили великие мастера, чем дышал Микеланджело, Донателло… а у нас старики и иногда еще один, неизвестно зачем покинувший Родину…[35 Стою зачарованный, обхожу кругом – великолепно! Спрашиваю – чье? – Говорят – Ивана Митрича… В восхищении смотрю и снова возвращаюсь, чтобы любоваться моим другом, моим истинным художником. Мысленно целую его, крепко желаю, чтобы он поскорее поправился и дал «такое», чтобы все любящие его возликовали, а завистливо ненавидящие обкусали себе когти. Спасибо, дорогой Иван Митрич, за ту радость, какую вы мне дали».
Письмо это, исполненное высокого волнения и горячей любви, было послано Шадру 28 марта 1941 года, а 3 апреля вечером Иван Дмитриевич скончался. Письмо до него не дошло.
Но оно должно остаться в биографии Шадра и Нестерова: в нем заключена лучшая характеристика лучшего произведения Шадра – «Булыжник – оружие пролетариата». Это письмо старого мастера было бы и лучшей характеристикой самого Шадра, художника и человека, если б не было характеристики еще более жизненно полной и художественно совершенной, – если б не было портрета Шадра, написанного Нестеровым.
В 1934 году, кроме портрета Шадра, Нестеров написал второй портрет с А.Н. Северцова, блестящий по живописи.
Следующий, 1935 год дал три портрета – все с различными творческими почерками для решения новых художественных задач.
Два из них – второй портрет Павлова и второй же портрет Юдина – нам уже известны.
Третьим портретом, их предшественником в этот год, был портрет Владимира Григорьевича Черткова.
История этого портрета совсем иная, чем портретов Шадра, Северцова, Юдина и Павлова.
С другом, единомышленником, издателем и редактором Л.Н. Толстого – с Чертковым Нестеров был знаком давно, еще с 1889 года, встречаясь с ним в Кисловодске, где они оба тогда гостили у художника Н.А. Ярошенко.
Много лет спустя, уже в советские годы, Нестеров зарисовал эти встречи:
«Чертков тотчас же вносил свой особый тон, и, как бы ни было перед тем шумно и весело, с его появлением на балконе все замирало – замирало под его тихими, методическими, все прощающими речами. Со мной Владимир Григорьевич был ласков, внимателен, он был гораздо осторожнее со мной, чем страстный южанин Н.Н. Ге. Чертков не терял еще надежды обратить автора «Отрока Варфоломея» в свою веру – дело ладилось плохо, и только упрямство еще заставляло его со мной возиться. Я же чем больше к нему приглядывался, тем дальше уходил от него».
Чертков и после безрезультатных разговоров в Кисловодске не оставлял молодого художника своим вниманием. Так, в 1892 году Нестеров писал из Киева своим родителям: «Недавно я получил очень любезное письмо от Черткова и подарок от него, только что изданный «Посредником» альбом с картин русских художников…»
По-видимому, у Черткова был искренний интерес к деятельности и к личности молодого Нестерова.
В 1907 году судьба свела их в Ясной Поляне. Чертков был рад помочь Нестерову в устройстве сеансов для писания портрета с Л.Н. Толстого. Нестеров был признателен ему за это.
Но в отношении его к Черткову, сколько мне приходилось от него слышать, всегда было некоторое чувство обвинителя: он полагал, что именно Чертков «совращает» Толстого в толстовство, отводит его от художественного творчества в область моральной философии. Между тем сам Нестеров, по его словам, «питая восторженное преклонение перед гениальным художником Толстым, не чувствовал влечения к его религиозно-философским воззрениям».
Много раз приходилось мне доказывать Михаилу Васильевичу, что интерес к религиозно-философским, моральным и социальным вопросам был присущ Льву Николаевичу еще тогда, когда Черткова не было па свете, но доказательства были тщетны. У Нестерова оставалось убеждение, что упрямый, своевластный, «методический» Чертков отстранял Толстого от его «романов» к его «писаниям», моральным и религиозным. Их Нестеров действительно не любил и резко от них отталкивался.
Но одной чертой в Черткове – даже в том Черткове, образ которого он сам себе создал, – он всегда восторгался: его властной расправой с самим собой. Михаил Васильевич всегда любил людей с характером смелым, с натурой крупной и сильной, способной на жизненные переломы, падения и восстания. Таков, по его представлению, был Чертков. Он не мог не восхищаться тем, что этот родовитый богач, блестящий гвардеец, «красавец мужчина», пленявший великих княгинь на придворных балах, сумел переломить себя, отбросить в сторону все блестящее, шумное, яркое, как ненужную ветошь, и пошел учиться к мужику, ища простоты, правды труда.
Однако до писания портрета с Черткова было очень далеко.
Но в 1934 году Черткову исполнилось 80 лет. По желанию сотрудников Комитета по юбилейному изданию академического Собрания сочинений Л.Н. Толстого, возглавлявшегося В.Г. Чертковым, с него была снята хорошая фотография.
– Он похож был на старообрядческого архиерея, – вспоминал А.П. Сергеенко, личный секретарь Черткова, – большая голова, седая борода, истово читает книгу. Благообразное лицо. Явилась мысль: нельзя ли заказать портрет Черткова от комитета?
Сергеенко отправился к Нестерову.
Нестеров приветливо встретил посланца, к фотографии «старообрядческого архиерея» отнесся критически. От писания портрета отказался.
Чем больше настаивал Сергеенко, тем сильнее был протест. Но в конце концов, и совершенно неожиданно, Нестеров сказал:
– А ну-ка покажите фотографию.
Он залюбовался Чертковым на только что раскритикованной фотографии.
– Каков красавец! Интересное лицо. Сильный человек. Но писать я не стану. Я заказов не принимаю. – Но тут же обронил вопрос: – А где же это можно бы устроить?
Чертков был болен; почти лишился речи, сохранив превосходно память и сознание; писать было необходимо у него. Михаил Васильевич задумался и совсем неожиданно спросил:
– А когда бы мы могли поехать?
Ему было отвечено, что за ним будут приезжать на автомобиле и отвозить в Лефортово к Черткову. Михаил Васильевич решил съездить, но заметил:
– Но имейте в виду, что я никогда заказов не принимаю. Ну какой я портретист? Не думайте, что я согласился написать портрет. Напишу эскиз, попробую. Но, вероятно, ничего не выйдет. Если даже я начну писать, то портрет будет мой.
В январе 1935 года Нестеров впервые поехал к Черткову в Лефортово.
С Чертковым Нестеров давным-давно не видался. Чертков встретил его ласково. Нестерова поразил его вид – красота его старости: он впервые видел его старым. И не скрывал, что восхищается им с художественной стороны.
При первом же свидании Нестеров сделал с Черткова эскиз карандашом, начав с головы. Но нашел, что эскиз не удался. На обратном пути говорил Сергеенко: «Вряд ли что выйдет. Какой я портретист?» Сергеенко решил, что портрета не будет. Но при прощании Нестеров сказал: «Заезжайте как-нибудь».
Сергеенко воспользовался этим приглашением и повез Нестерова в поселок Сокол, где Чертков жил у своего сына.
В Соколе был сделан второй эскиз. Эскиз опять не удовлетворил Нестерова. Он пожаловался на тесноту комнаты, на плохое освещение. Но в заключение сказал:
– И комната не виновата, и освещение не виновато, а просто я никуда не гожусь!
«Вид у него был сконфуженный, – вспоминает Сергеенко, – как будто экзамен не выдержал, провалился. Был неразговорчив. Даже не предложил вновь приехать за ним. Но я приехал. Он стал отказываться, говоря:
– Какой я художник! Вот Корин – другое дело. Ну куда я гожусь?!
Я сказал на это, что был свидетелем того, как Л.Н. Толстой сомневался в своих силах, говоря, что он не писатель. Это привело Михаила Васильевича в восторг:
– Так вот и надо! Так вот и надо!
Я думал, что он не поедет со мной, и был страшно удивлен, что он успел уже заказать подрамник для портрета. Поехали с подрамником.
И он начал в Лефортове портрет углем. Все оказалось хорошо – и комната, и освещение, и все. Он сам выбрал кресло, обитое материей в серых и зеленых полосках. Сам выбрал для Владимира Григорьевича куртку – бархатную, коричневую. Сам усадил его в кресло».
Нестерову, приветливо и почтительно, подсказывали тот образ, который желали увидеть на портрете.
«Мне хотелось, – признается Сергеенко, – увидеть Владимира Григорьевича на портрете патриархом, вот как на фотографической карточке: «старообрядческим архиереем», – а он меня разочаровал: – Барин!»
«Я даже не был тактичен, – признается Сергеенко, – я даже сказал Михаилу Васильевичу, что хотелось бы видеть старца… А он ответил что-то вроде: «Не суйтесь не в свое дело».
Он был доволен углем.
Близкие к Черткову, наоборот, не совсем-то были довольны. Художнику указывали, что возраст и внутренняя работа над собой изменили характер Черткова. Он сознавал в себе недостаток – властность, и поборол его.
На это Нестеров рассказывал Сергеенко, как Чертков в Кисловодске хотел его обратить в свою веру: «Чертков – он нетерпимый. Он крутой и властный».
«Мы сказали, – вспоминает Сергеенко, – Михаил Васильевич, это у вас Иоанн Грозный.
А он:
– А он такой и есть. Силища!»
Портретом как художественной задачей Нестеров увлекся.
По словам Сергеенко, «он ехал на каждый сеанс как бы в некотором подъеме, как новичок волнуясь перед выходом. Он, бывало, отправлялся на сеанс с Сивцева Вражка в Лефортово как бы в торжественном настроении. Был возбужден, много и оживленно говорил. Иногда, наоборот, признавался: «Не очень хорошо себя чувствую. Плохо спал. Сил нет». Но приезжал, работал, об усталости не было и помину, сеансом был доволен. И сам делился своим недоумением: «Какая тайна это? Так нехорошо чувствовалось, а работать хорошо. Отчего это? Какая тайна!»
Работа была трудна тем, что Чертков был очень стар, почти утерял речь, легко впадал на сеансах в дрему. А художнику хотелось написать не развалину-человека, покрытую мирным инеем зимы, а живого человека, с не-развалившимся, стройным зданием своего характера, своей личности. Чтобы бороться с дремой Черткова, решено было, что Сергеенко станет читать вслух.
«Начали читать «Смерть Ивана Ильича», – рассказывал мне Нестеров. – Чертков плакал. Писать было невозможно. Тогда в следующий раз решили читать что-нибудь менее сильное – читали разные письма к Л.Н. Толстому».
Сергеенко вспоминает:
«Когда стало обнаруживаться жестокое выражение лица на портрете, Черткова это стало смущать. Он попросил принести свои последние фотографии и показывал их Нестерову, желая убедить его, что на них он похож больше, чем на портрете».
Но Нестеров был непреклонен. Он делал не красочный снимок с расслабленного старика, желающего перед смертью быть мягким и добрым со всеми, – он писал портрет с В.Г. Черткова.
Окружающие Черткова начали понимать, что у Нестерова есть образ-идея этого портрета, от которой он не хочет и не может отойти.
«Идея это была, – верно формулирует ее Сергеенко, – сильный человек с крепкой волей». Что интересовало его, это роль Черткова около Толстого.
– Друг-то друг, – говорил Михаил Васильевич, – это так, но он и давил на Толстого. А все-таки не мог заставить его уйти из Ясной Поляны раньше.
– Михаил Васильевич, ну как Чертков мог его заставить?
– Чертков? Он все мог заставить.
От Нестерова не раз приходилось слышать, что портрет Черткова для него в некотором роде исторический портрет. Это портрет не только того, кто написал книжку «Злая забава» против охоты, стал вегетарианцем, опростил свою жизнь, издавал книжки «Посредника» для народа, переписывал и распространял запрещенные произведения Л. Толстого, – это и портрет того, кто был когда-то блестящим гвардейцем, которого прочили во флигель-адъютанты к царю, это портрет наследника огромных степных имений, равных по населению целому немецкому «великому герцогству», это портрет потомка тех властных бар, придворных вельмож и степных магнатов, которые безответно властвовали над тысячами крепостных душ.
Нестеров засматривался в Черткове на эту гордую родовитость, на эту вельможную стать, скрывающуюся под блузой толстовца, Нестеров всматривался зорко в эту веками окрепшую властность, не истребленную никаким «непротивлением», в эту породистую красоту, не усмиренную никаким «безубойным питанием», и все это хотел отразить и отразил в чертах Черткова на своем портрете.
Этот портрет меньше всего годится для иллюстрации к жизнеописанию первого из толстовцев. Но он превосходно выражает подлинного Черткова – не в часы его мирного старческого истаиванья, а того Черткова, который, порвав с придворным кругом и «не противясь злу», на деле яро боролся с царским правительством, с православною церковью, устраивал переселения духоборов в Канаду и всячески «воинствовал» за Толстого, ради Толстого, вокруг Толстого – воинствовал, случалось, и с самим Толстым.
На последних двух сеансах (их было всего пятнадцать, по три часа каждый) Нестеров объявил:
– Кажется, кончил. Если дальше буду работать, буду портить.
По словам Сергеенко, «на последнем сеансе он чрезвычайно удлинил кресло, и вместе с тем удлинил руку Черткова.
Я спросил:
– Почему это?
Михаил Васильевич ответил:
– А так это нужно.
– У Владимира Григорьевича серые глаза. А они написаны синими. Отчего это?
Ответ Нестерова был:
– А я их вижу синими».
В глазах Черткова Нестеров нашел удивительное сочетание чего-то драгоценного, спокойно-сапфирного с ястребиным по зоркости, по пылкости.
А руки Черткова, в особенности правая, – величаво лежащая на ручке кресла, – принадлежат к лучшим у Нестерова.
В один из сеансов с Чертковым зашла речь о руках. Кто-то вспомнил, что Л.Н. Толстой однажды сказал: «Руки – один из самых выразительных органов человека».
– Он совершенно прав! – пылко отозвался Нестеров. – Руки говорят.
Портрет простоял несколько дней у Черткова.
Вот что я записал в 1939 году со слов М.В. Нестерова:
«Когда портрет был окончен, Чертков обратился к Михаилу Васильевичу с просьбой написать на его лице слезу.
Давнему последователю учения о самосовершенствовании и непротивлении хотелось, чтобы на лице его было умиление и благость.
Нестеров отвечал:
– Я не видел у вас никакой слезы, видел только, как вы плакали при чтении «Ивана Ильича». Но это другое дело. А чего не видал, того я не могу написать.
Нестеров выставил портрет Черткова на своей выставке 1935 года.
Портрет радовал мягкой бархатистостью тона, какой-то матовой теплотою и изяществом колорита – и поражал вместе с тем силою характеристики, ее смелым реализмом при изящном благородстве всего облика Черткова.
Горький, остановившись вместе с Нестеровым на его выставке перед портретом Черткова, признался:
– Не люблю я этого человека.
А сам Нестеров в ответ на полупохвалы, полуупреки близких Черткова отвечал прямо:
– Им не очень нравится портрет. Они считают, что Чертков добрее. А вот у Горького, за жесткими его усами я чувствую эту доброту, а у Черткова нет.
В 1936 году Нестеров написал два женских портрета. Всегда к женским портретам он приступал с какою-то особою мнительностью – неуверенностью в себе. Но к женским портретам Нестерова тянуло, и особенно усилилась эта тяга именно к концу жизни; большинство портретов конца 1930-х – начала 1940-х годов – женские.
Оба портрета 1936 года – Елены Павловны Разумовой и Елизаветы Ивановны Таль – Нестеров считал портретами-этюдами, хотя работал над ними так же упорно, как над теми, которые называл просто портретами.
3 июля 1936 года Нестеров писал дочери В.М. Титовой:
«Я пишу Елену Павловну. Жара дикая».
Это был дар большой дружбы. Доктор Елена Павловна Разумова была домашним врачом Михаила Васильевича Нестерова. Она горячо любила его искусство и с сердечным попечением, любящим вниманием относилась к самому художнику, оберегая его как драгоценный сосуд. Маленький намек на недомогание – и она уже была при нем и принимала все меры, чтобы прогнать недуг и скорее вернуть его к любимой работе художника. Елена Павловна в совершенстве изучила организм своего пациента, великолепно знала психологию своего больного и, как никто, умела успокаивать его мнительность, принимать те врачебные меры, которые, помогая больному, меньше всего препятствовали художнику заниматься насущным делом творчества.
Нестеров умел ценить эти умно-сердечные заботы своего врача-друга.
Для Нестерова было невозможно не написать портрет Е.П. Разумовой. Замечательно то время, которое выбрал Нестеров для писания портрета своего врача: это было время ее тяжелого семейного горя, и живописец захотел быть врачом своего врача: он врачевал своим портретом, как теплым дружеским участием.
Было до двадцати сеансов (считая уголь). Портрет писался так, чтоб было удобнее, покойнее модели: в ее комнате, на диване, в руках – подушка с дивана, чтоб и рукам было покойно. Во время сеансов Михаил Васильевич с теплой откровенностью рассказывал о себе, о своем прошлом, о былых скорбях, перенесенных им, о сменивших их надеждах, рассказывал все, что впоследствии вошло в его книгу «Давние дни», и многое, что в нее не вошло, и этими рассказами он отвлекал от еще неостылого горя, а портретом как бы хотел показать другу, что в ее душе есть еще силы пережить горе: в лице запечатлена воля к жизни, к труду.
Портрет-этюд, скромный по чисто живописным задачам, дает прекрасную, теплую и простую характеристику Е.П. Разумовой. Это полотно, писанное не для выставок; это интимный, дружеский холст, до конца понятный лишь в тесном дружеском кругу, как сердечное письмо к другу понятно до конца лишь тому, кому оно написано.
19 июля Нестеров сообщал Александру Корину: «Я сейчас кончаю портрет с Елены Павловны, сам еще не знаю, что выйдет. Вот приедете, рассудите, быть может, помилуете, а бывает, и казните…»
А 8 августа Михаил Васильевич писал мне в Коктебель:
«Я кончил портрет Елены Павловны. Он по снисходительности ко мне друзей и знакомых нравится им, меня «подхваливают», а я, не будь дураком, не верю. Так-то лучше…»
Осенью Нестеров принялся за другой женский портрет, совсем иной по мотивам внутренним и внешним.
Этот портрет Е.И. Таль Нестеров называл просто «Лиза Таль». Он писал школьную подругу своей младшей дочери, советскую девушку.
Он с того и начал, что залюбовался ее молодостью, умным выразительным лицом, прислушался к ее разговорам, почувствовал в них ум, характер, живость. Его потянуло сделать карандашом рисунок с девушки, он его и сделал по обычному своему принципу: «Остановись, мгновенье: ты прекрасно!» От рисунка карандашом до портрета маслом прошло четыре года. За это время девушка успела выйти замуж, исчезла веселость, жизнь успела наложить тени на лицо, но опять пришло мгновенье какой-то внутренней красоты, неповторимого обаяния, и художнику вновь захотелось «остановить это мгновенье», но уже на холсте, кистью. Так явился – неожиданно для многих – портрет «Лизы Таль».
Вот рассказ самой модели о том, как ее писал Нестеров:
«В течение многих лет моего пребывания в нестеров-ском доме Михаил Васильевич не раз говорил: «Эх, Лиза Таль, будь бы я помоложе, я бы обязательно написал ваш портрет!» Как-то в 1932 году, когда я сидела в черном кресле, Михаил Васильевич вдруг взял блокнот и велел мне не двигаться, за несколько минут набросал карандашом рисунок, сидя на краешке стула против меня.
Мысль о моем портрете родилась совершенно неожиданно как для меня, так и для всех окружающих, а также, по-моему, и для самого Михаила Васильевича. Это было в 1936 году. М.В. после тяжелой и длительной болезни (воспаление легких) никуда не выходил, томился бездельем и добродушно-насмешливо жаловался на строгости врачей и домашнего режима, которым должен был подчиняться, хотя, по его словам, чувствовал себя прекрасно. Один раз Михаил Васильевич обратил внимание на чрезвычайную бледность моего лица, сравнив его с белизной мраморной «флорентийской девы», стоявшей в углу за диваном, и вдруг сказал:
«Вот бы сейчас ваш портрет написать. Да что об этом говорить, вы, как всегда, заняты!» Я ответила, что в настоящее время совершенно свободна, так как дело было во время каникул.
Неожиданно и быстро этот вопрос был решен. Михаил Васильевич предупредил меня, что ждет от меня серьезного отношения, точности прихода на сеансы и пр. Тут же М.В. посадил меня на диван под «флорентийскую деву».
Помимо моей позы, М.В. уделил большое внимание окружающим мелочам – подушкам, а особенно цветам, стоявшим в вазочке около бюста. Екатерине Петровне было дано поручение отыскать свежие цветочки-ягодки к следующему дню…
Первый сеанс состоялся на следующий день. Никаких предварительных эскизов и рисунков не было. В первый же день весь портрет был сделан углем. Помню, что М. В., усадив меня на диван, несколько раз повторил, что его интересует поворот головы, на который он мне указал, в остальном он велел мне сидеть удобно и свободно, руки держать так, как мне хочется.
К сожалению, не помню, сколько было сеансов, не более 10–12. Сеансы обычно продолжались 3–3 1/2 часа, иногда и больше (но редко).
Сеансы проходили в непринужденных и часто веселых разговорах и шутках…
Но иногда Михаил Васильевич замолкал, особенно когда писал лицо. Тогда он, всматриваясь напряженно, подходил совсем близко, как бы впиваясь взором в мое лицо, иногда отходил далеко и, забыв обычный полунасмешливый тон, твердил: «Чудная матовость! Ах, какой прекрасный бледный тон!»
Рассказ Е. Таль ценен своей непосредственностью. Эта простая свежесть рассказа поможет будущим исследователям верно понять, в какой атмосфере полнейшей непринужденности, внутренней и внешней независимости художника и его натуры создавались портреты Нестерова. Отвергнув раз и навсегда все заказные «натуры», кем бы они ни были в жизни, Нестеров отдавался художественной встрече с моделью так же легко, непринужденно, дружески, как встрече с нею в жизни, если, надо непременно добавить, хотел этой встречи.
Портрет «Лизы Таль», как и портрет Е.П. Разумовой, писался с тонким, сердечным участием художника к жизни, к судьбе молодой женщины.
Но художник «остановил» это умное, матовое лицо, похудевшее от внутренней боли, не для того, чтобы плакать над этою болью, а для того, чтобы порадоваться внутреннему прекрасному мужеству молодой женщины, смотрящей в лицо жизни взором сосредоточенно-ясным, бодрым и прямым.
Поворот головы молодой женщины повторяет на портрете поворот головы мраморной флорентийки, также погруженной в светлую печаль.
Художник не боялся этого открытого параллелизма в композиции. Он знал и верил, что живой человек подчинит себе мраморное изваяние. Белизна мрамора флорентийской девушки контрастирует с чернотою строгого платья молодой женщины, и так же, при сходстве композиции, контрастирует весь их облик.
Там, в чертах мраморной девушки, застыло неземное спокойствие; глаза ее потуплены в холодном небытии.
Здесь, в чертах молодой женщины, несмотря на матовую бледность лица, сквозит воля к бытию, а в глазах ее сверкает мудрый огонь жизни.
Кисти рук ее покоятся на коленях, но они скрещены друг с другом, пальцы в пальцы, так крепко и уверенно, что и в этом жесте сквозит не скорбь и не усталость, а та же готовность на борьбу за жизнь.
Сам Михаил Васильевич, увлекшийся этой трудной задачей, как бы в раздумье стоял перед оконченным портретом.
Помню, поставив его на мольберт, он по обыкновению отошел в сторону, предоставляя судить о нем без всяких авторских напутствий, но, отойдя в сторону, все-таки шепнул мне: «Кое-что затеял было в портрете, а что вышло – не знаю».
И с некоторым удивлением увидел, что портрет приковал общее внимание, что его хвалят.
29 октября 1936 года Нестеров писал Александру Корину:
«Я плетусь в хвосте художественной жизни. Написал что-то вроде портрета, да боюсь, что заругаете, опять потом бессонная ночь, думы, чем и как на вас потрафить. Вот до чего довели бедного старика!
Беда с вами, «молодняком», нам, людям века минувшего».
Портрет Е.И. Таль был приобретен у художника Русским музеем в Ленинграде.
Два женских портрета 1936 года повели художника к третьему. Только что окончив «Лизу Таль», Нестеров вздумал писать портрет артистки Большого театра, народной артистки СССР Ксении Георгиевны Держинской.
Нестеров с молодых лет был любителем вокальной музыки, и особенно оперы. Глинка, Чайковский, Бородин, Мусоргский увлекали его смолоду до старости. У него была чуткость ко всему значительному в музыкальном театре. Он почти с первых шагов распознал в Шаляпине могучего художника и связан был с ним дружескими отношениями. Высоко и рано оценил Нестеров лирическую прелесть вокального искусства Собинова. Эта любовь к вокальной музыке полностью сохранилась у Нестерова и в пожилые годы.
Встреча с вокальным искусством народной артистки СССР Ксении Георгиевны Держинской, так же как в давние годы встреча с Шаляпиным и Собиновым, привела к дружеским отношениям.
7 июня 1937 года Михаил Васильевич писал К.Г. Держинской под впечатлением ее пения у него на Сивцевом Вражке, в день его рождения:
«Сумею ли я выразить в письме то чудесное чувство, кое вы вызвали у меня и всех, вас слышавших, гостей моих своим пением: «Я помню чудное мгновенье», «Форель», также арии Лизы и «Тоски»?.. Непосредственно я глубоко был тронут этими чудными звуками, образами, но «непосредственное» чувство это нечто неуловимое, малоосязаемое, а мне хотелось бы сказать вам нечто более существенное, понятное…
Когда-то я слышал больших мастеров пения: Марчеллу Зембрих, Ван-Занд, Марию Дюран, «оперную Дузе» – Беллинчиолли (в «Тоске») и наших лучших своего времени… У вас счастливо совпадает (говорит с вами художник) такая приятная внешность, ваше милое лицо, с чудесным тембром, фразировкой, с вашим искренним, «пережитым» чувством. Такое сочетание даров божьих со школой, умением дают этот эффект, коим вы так легко покоряете слушателей – старых и молодых, восторженных или рассудочных. Важно то, что вы их покоряете «комплексом» «данных» вам природой и хорошей старой школой.
Вот в чем ваша большая сила и «магия», и я ей был покорен на минувшем прекрасном вечере, коего вы были и радостью и украшением, и я безмерно вам благодарен…
Я ваш должник, но не неоплатный».
Подписано письмо: «Преданный и очарованный Михаил Нестеров».
Еще после первых встреч с Ксенией Георгиевной Держинской Нестеров отвечал на ее искусство своим искусством, которое было так дорого Держинской. Еще в 1935 году, в день ее именин, он писал ей:
«К сожалению, я не могу поздравить вас лично, и мое поздравление передаст вам Варвара, но не та, что вы видели как-то у меня, а другая, киевская «Св. Варвара» из Владимирского собора. Буду рад, если эта киевлянка напомнит вам о чем-нибудь хорошем, о юности, что ли».
На горячую радость, с которою Держинская встретила эту нестеровскую «Варвару», он отвечал ей: «Я рад, как всегда бываю рад, когда слышу, что мое искусство вызывает в ком-либо отзвуки: ведь в нем так мало мастерства, а оно так необходимо…»
Портрет с самой певицы должен был быть отплатой за ее искусство и дружбу.
Осенью 1936 года Михаил Васильевич объявил Держинской, что хочет писать ее портрет.
В письме ко мне К.Г. Держинская пишет: «Присматривался» он ко мне долго. Часто, когда я приезжала к М.В., он отойдет от меня – я сидела на диване – и смотрит – то прямо, то отходя в сторону. Много раз он смотрел на руки. Мне он ничего не говорил, но я стала замечать, что он следит за мной. Сначала я далека была от того счастья, которое я потом узнала – о желании Михаила Васильевича писать мой портрет. Под конец стала догадываться…»
26 ноября Нестеров сообщал своей дочери В.М. Титовой:
«Сейчас говорил с Ксенией Георгиевной: она на декабрь будет занята на репетициях «Руслана», и едва ли поэтому «сеансы» начнутся скоро, чем я, конечно, очень огорчен, так как это время не знаю, на что употребить. Слоняюсь без дела».
Декабрь месяц Михаил Васильевич считал самым невыгодным месяцем для писания портрета, но он решил пренебречь и пасмурностью декабря и короткостью зимнего дня: так ему хотелось писать.
Он начал сеансы 3 декабря, выбрав первый ясный морозный день.
Как известно, большинство портретов Нестерова написаны без нарочитых поисков позы, костюмировки, обстановки: художник останавливал мгновенье, прямо подсказанное жизнью. Ему приходилось говорить своей натуре: «Стой так, как есть, и там, где стоишь».
С портретом Ксении Георгиевны Держинской было иначе: художник искал и позу, и костюмировку, и обстановку.
Нестеров не раз говорил мне, что ставил себе в этом портрете большую трудную задачу: теплая правда характеристики должна быть выражена в форме парадного портрета большой артистки, привыкшей выступать в великолепном оперном театре, залитом огнями. Как редко бывало с Нестеровым, на этот раз он, как костюмер, художник для сцены, одевал артистку для портрета. Внимательно, быть может, даже придирчиво (по крайней мере сам говорил об этой дружеской придирчивости) всматривался в лицо, в прическу артистки, точно готовил ее к ответственному публичному выступлению.
Вот как рассказывает об этом сама К.Г. Держинская:
«Позу искал два сеанса. Выбрал ее сам. Но он хотел обязательно позу, где видны были бы мои руки… Сначала он хотел писать меня сидя».
Сохранился карандашный двухцветный набросок этого «сидя»: артистка сидит, откинувшись в кресле, с руками, протянутыми как будто к невидимым клавишам; набросок дает впечатление, что артистка поет себе самой что-то любимое и дорогое.
Но уже на втором наброске, точно таком же по размеру и приемам, артистка изображена в той самой позе, что и на портрете. По словам К.Г. Держинской, «когда решил писать стоя, то очень долго искал место для руки – хотел, чтобы она была как бы приподнята (все для того, чтоб лучше была видна вся рука – и кисть и пальцы). Я встала сразу, посмотрела в окно и случайно руку приложила к щеке – эта поза до известной степени мне свойственна. Михаилу Васильевичу чрезвычайно она понравилась.
Я живо помню, как я ему сказала, что хотя это и «моя» поза, но она немного неестественна. М.В. и тогда, и во все время работы неоднократно говорил: «За позу меня будут осуждать, но неважно, зато рука вся видна: и пальцы, и даже кисть другой руки видна – я доволен».
Когда я его спросила, в каком платье он хочет, чтобы я была, он мне сказал: «Я буду писать вас как артистку – покажите концертное платье». Я надевала для него четыре платья: черное бархатное; белое; белое, крытое шелковым тонким тюлем, и то, в котором он меня написал. Он сразу выбрал это четвертое. Сам М.В. выбрал тонкий браслет, нитку дымчатого топаза, соединенного лишь в некоторых местах аметистами. Платье у меня не спадало с плеч. Он попросил его как-нибудь уладить так, чтобы его спустить с плеч.
Место выбрал сам. Ваза стояла не на том месте, как на портрете, но он ее просил перенести и поставить, – она ему нравилась. Время дня, т. е. утро, выбрал он сам. Сеансы были с 10 ч. утра до 1 ?, иногда с 9 ? (очень редко)… С декабря 1936 года по конец марта 1937 года писался портрет. Всего сеансов было 27. Сеансы были продолжительные – 3–З ? ч. с небольшим перерывом, во время которого М.В. пил черный кофе.
Начал он портрет с фигуры. Углем было 7–8 сеансов. Обстановку часть писал при мне, и два сеанса он приезжал без меня».
Тот сильно бы ошибся, кто на основании всего сказанного сделал бы заключение, что в работе над портретом Ксении Георгиевны Держинской Нестеров отступил от своей всегдашней заботы искать в натуре прежде всего трепет человеческого сердца и самую работу превращать в живое, непосредственное общение с человеком. Держинская пишет:
«В период работы он говорил мне, что, конечно, портрет не только артистки он пишет, но человека. Беседовал он во время работ много. Говорил он больше, чем я… Помню, что много говорил М.В. об искусстве, – вспоминал свои впечатления о произведениях искусства в первую поездку свою в Италию, как сильны были эти впечатления. Очень много говорил и много раз возвращался к вопросу о взаимоотношении людей, о людских душах и сердцах, о том, как складываются дальнейшие пути человека после пережитых потрясений. Однажды он сказал, что, уйдя от окружающей жизни «на леса» (он подразумевал работы в храмах), он только вспоследствии понял и увидал, как много в жизни интересного, большого, мимо которого он прошел. Часто давал мне советы; исключительно внимательно и много времени уделял он мне в вопросе воспитания моего сына: он знал, что я воспитываю, его одна, без отца, и что это сознание доставляло мне много сомнений, забот и волнений».
Нестеров был захвачен работой; 5 декабря он писал В.М. Титовой:
«Работаю с увлечением с К. Г-ны, пока еще углем; она страшно довольна; начну красками, когда будет посветлей; сейчас у нас снег растаял, слякоть, дождь, тьма, и мы барахтаемся во всем этом до нового снега, до светлых дней».
4 января 1937 года Михаил Васильевич писал:
«Я вчера начал красками портрет, а вечером накануне Нового года К.Г. привезла целое цветущее дерево сирени и… большую для меня игрушку – деда-мороза с елкой и выпивкой в руках».
В начале января 1937 года Нестеров почувствовал сильное недомогание. 12 января он писал дочери: «Была Елена Павловна (Разумова. – С.Д.). Она так и ахнула. Сейчас же, не медля ни минуты, уложила меня в постель, измерила температуру – того хуже. Вот и взялась за меня Е.П. со всей ей свойственной энергией… На вторые сутки к вечеру мне полегчало, я мог встать с постели…
Сейчас я на ногах, работаю, дело идет на лад. Ксения Георгиевна в полном удовольствии. Сделано больше половины и самой трудной».
21 января Нестеров писал дочери под сильным впечатлением, вынесенным из нового, полного общения с одним из любимейших своих художников:
«У нас открылась третьего дня выставка (удивительная) Сурикова… Сурикова можно поставить сейчас же после Иванова, Брюллова».
О своей же работе Нестеров пишет сдержанно!
«Мой портрет двигается.
Модель находит, что она на портрете «душка», а я ей говорю, что мне душку не надо, а надо Держинскую.
В общем надеюсь, недели через две кончить, и, быть может, тогда ты его увидишь если не у меня, то у нее».
В этих письмах есть любопытная черта: «модель» портрета с первых же сеансов проявляет свое удовольствие портретом, а автор умеряет ее восторги. Ему надо не «душку», а «Держинскую», не умилительную красивость, а подлинную правду жизненной характеристикой. В дальнейшем это расхождение отзывов о портрете модели и автора пошло еще дальше.
«Возвращаясь к работе над портретом, – рассказывает Держинская, – скажу следующее: портретом он был недоволен. Не самим портретом, а лицом. Сначала сделал он улыбку. Позвал сына, спросил: «Похожа мама?» Кирилл не сразу ответил, стоял молча. М.В. неожиданно вдруг стер низ лица. Сказал: «Иди, Кирилл, ты прав – мама не похожа». Кирилл сконфузился и начал лепетать, что он ведь еще ничего не успел сказать. М.В. ответил: «Вот в том-то и дело: если бы мама была похожа, ты бы сказал это сразу». Я была потрясена, заплакала… М.В. стал меня утешать, был весел, но я чувство/вала, что это была неестественная веселость.
Он кончил сеанс в обычное время и, уезжая, сказал: «Улыбка – это не ваше, чужое. Как я этого сразу не понял! Ведь вошли вы ко мне в первый раз какою? Ведь я такою вас хочу написать».
А пришла я в первый раз в жизни к М.В. очень уставшей, что меня заботило (конечно, как женщину!): я понимала, что иду к Нестерову. Заботила меня моя смертельная бледность в тот день. Была я в гладком черном платье. Как артистка, я все же понимала, что усталость людей не красит… а вышло по-иному!»
Замысел портрета Держинской сложен: популярная оперная певица, превосходная исполнительница Глинки, Бородина и Чайковского перед выездом на концерт остановилась не то перед окном, не то перед большим зеркалом.
Это окно или зеркало невидимо для зрителя; зритель сам это окно или зеркало. Он видит артистку почта во весь рост. Он видит и пышный интерьер ее комнаты: золотистую фарфоровую вазу на высоком постаменте красного дерева, тяжелую портьеру, причудливый столик с электрической лампой под шелковым абажуром, безделушки из фаянса, другую вазу с живыми цветами на изящном столике. В окно льется тускловато-белесый свет неяркого зимнего дня; он ложится серебристо-матовым покровом на паркет, льнет к сиреневому платью артистки каким-то мягким жемчужным отсветом. Все это красиво и парадно.
Хозяйка этой изящной квартиры – артистка. В облике ее много благородной женственности и изящества. В лице ее много врожденной приветливости.
Но – удивительное дело для Нестерова, который написал уже столько портретов с творческой думой, с внутренней тревогой на лице, – на этом красивом, добром лице артистки нет следа этой думы, нет оттенка этой тревоги. Оно красиво и благородно, это лицо под волнистым серебром седых волос (чем-то напоминает это прекрасное серебро и это лицо Лизу из «Пиковой дамы», любимую роль Держинской), но в лице артистки нет творческого волнения, оно лишено внутреннего движения.
Кажется порой, что артистка не поедет на концерт, где ей предстоит петь Глинку и Чайковского, а останется дома, вот в этих прекрасных комнатах, наполненных изящными вещами, и станет радушно встречать гостей, собравшихся провести интересный вечер под гостеприимным артистическим кровом.
И портрет рук подтверждает это предположение. Из рассказа самой Держинской видно, как много заботился о них Нестеров: руки, с тонким изяществом старых мастеров, выписаны на портрете, но они не складываются на этот раз в тот жизненнодейственный жест, который так помогал Нестерову раскрыть внутреннюю сущность, обнаружить сокровенную устремленность героев и героинь его портретов.
Все это становится ясно не сразу, а после более внимательного общения с портретом Держинской.
Помню, при первом показе портрет дал зрителю такое яркое впечатление красочной парадности, живописного мастерства (все неотрывно залюбовались на чудесно выписанную, отливавшую золотом фарфоровую вазу, на топазо-аметистовую нить на шее артистки), что все искренне поздравили художника с новым успехом – с прекрасной живописной работой.
27 марта 1937 года Нестеров писал Держинской:
«Портрет видят многие, не бранят».
Сам же Нестеров воздержался поздравлять себя с успехом. Живописные достоинства портрета были ему ясны. Но он, все глубже и глубже присматриваясь к портрету, давно уже сомневался, кого же в конце концов он написал на портрете: «душку», красивую женщину в изящном сиреневом вечернем туалете, владетельницу изящного интерьера, или «Держинскую», создавшую на образцовой русской оперной сцене прекрасные образы Ярославны, Наташи («Русалка»), Лизы («Пиковая дама»)?
Даря своей «модели» два первоначальных карандашных эскиза ее портрета, он снабдил их выразительною надписью: «Ксении Георгиевне Держинской на память от непортретиста-художника. Мих. Нестеров. 1937. Февраль».
Несомненные, большие, чисто художественные достоинства портрета делали его крупным произведением блестящего мастера. Портрет по достоинству был приобретен Третьяковской галереей.
Но именно там, в окружении других портретов Нестерова, он вызвал к себе полное охлаждение его автора.
Самокритика автора была беспощадной – и он ее не скрывал.
Ксения Георгиевна Держинская рассказывает:
«Недовольство портретом росло с каждым годом, а может быть, и месяцем. М.В. мне говорил: «Я плохо вас знал, когда писал. Я теперь напишу вас другою. В черном бархатном платье, овальный портрет. И, конечно, без всякой мишуры – комнат, ваз и т. д. До половины обязательно будет видна рука». М.В. хотел писать меня, но я захворала, надолго. Это был 40-й год. Так собирались до 41 г. Вина была большая моя. Я часто уезжала, болела. М.В., со своей стороны, все время мне напоминал и просил не трогать – оставить платье, пока он меня напишет в нем…»
Нет сомнения, к портрету Держинской Нестеров был безмерно суров: живописные достоинства портрета, а стало быть, и его право на бытие, неоспоримы. Но в одном художник несомненно прав: в том, что в этом портрете нет того радостного раскрытия внутреннего «я есмь» человеческого, которое так поражает и радует в других портретах Нестерова.
Образы Васнецова, Северцова, Павлова у Нестерова непререкаемы: такими, какими видим мы их на портрете, они были в жизни и иными быть не могли; с этим чувством непререкаемости, несомненности отходит зритель от этих нестеровских портретов, навсегда унося с собой живые образы. А «Держинская»? Быть может, да, такая, как на портрете; а может быть, и нет, не такая – иная. Портрет дает зрителю право гадать о том, какой же была певица-артистка Держинская на самом деле. Это гаданье – самая возможность его – есть уже неудача портретиста, хотя это вовсе не означает неудачи живописца.
Нестеров это чутко понял и навсегда отвернулся от портрета.
Он избегал разговоров о нем. Нового портрета ему не суждено было написать.
Но к портрету Ксении Георгиевны Держинской Нестеров вернулся еще раз – не к самой артистке, а к созданному ею образу: он написал «в двух вариантах» Держинскую в роли Ярославны из оперы «Князь Игорь» – в одном из самых поэтических образов, созданных талантливой артисткой. В акварели сквозь женственную верность и прекрасную мужественность древнерусской княгини, рвущейся сердцем к своему князю, сражающемуся в половецкой степи за Русь, проступают и черты самой артистки, которую Михаил Васильевич душевно уважал как человека и сердечно ценил как чуткого художника, сросшегося сердцем с высшими вдохновениями Глинки, Бородина и Чайковского.
Мы прошли по длинной галерее портретов, написанных в течение многих лет, и не нашли пи одного портрета, который Нестеров написал бы по заказу. У каждого портрета, как мы видели, есть не только творческая, но и сердечная история, у каждого есть свое большое или малое место во внутренней автобиографии художника.
Но был случай, – кажется, единственный, – когда Нестеров не «отклонил» писанье портрета с лица, ему тогда лично незнакомого.
Это был портрет академика Отто Юльевича Шмидта.
21 мая 1937 года на Северном полюсе высадилась советская экспедиция, руководимая О.Ю. Шмидтом.
Нестеров с большим подъемом отнесся к этому событию, столь неожиданному для всего мира.
Оно было в его духе: в смелом замысле, в еще более смелом и мужественном успехе этой неслыханной воздушной высадки на Северном полюсе Нестеров видел торжество того неудержимого, все преодолевающего волевого порыва, который свойствен русскому народу в его сложной и трудной истории.
Нестерова восхищало спокойное мужество, с которым была произведена эта советская высадка на недоступный полюс. «Вчера встречали полярников», – пишет он дочери В.М. Титовой 27 июля, и близкие Нестерова помнят, как интересовался он подробностями этой народной встречи с героями неслыханного полярного полета.
Когда немного спустя один из устроителей Выставки индустриализации предложил Нестерову написать портрет О.Ю. Шмидта, он не отказался, как все ожидали, от него, а сказал, что «подумает».
В августе 1937 года Михаил Васильевич уехал в Колтуши гостить к осиротевшей семье Павлова и там «думал» над портретом Шмидта. В альбоме художника сохранился маленький набросок портрета, сделанный пером и карандашом и помеченный: «10 августа 1937. Колтуши». Шмидт изображен здесь в профиль, ниже пояса, в меховой одежде летчика-полярника, с правой рукой, поднятой вверх, как бы указуя путь к полюсу. Замысел портрета был эффектен, но Нестеров отказался от него – быть может, именно из-за его эффектности: в портрете он широко применял творческий домысел, но не терпел вымысла. Он не видал Шмидта в этой летной полярной одежде, с головой, прикрытой меховым капюшоном, он не видел его в летных условиях – и не хотел поэтому «сочинять» то, чего не видал.
Шмидта он решил писать в прямом смысле слова с натуры – в московских условиях его повседневного труда по должности главного начальника Северного морского пути.
21 сентября 1937 года Нестеров писал дочери:
«Что тебе написать о себе? Я работаю, мне предложено написать портрет с О.Ю. Шмидта (полярного героя), и я пишу его уже 8 сеансов. Сам Шмидт интересный, красивый, привлекательный человек, пишу его с удовольствием. Портрет большой (размер тот, что Держинской, только в длину). Позирует охотно».
23 сентября 1937 года Михаил Васильевич писал мне:
«Половина дела сделана, но сейчас предстоит наиболее трудное – окончить портрет. Сделать настоящего Шмидта, а это не так уж легко, хотя портрет ему и нравится, а нужно, чтобы он нравился и мне, – это трудней.
Портрет, по моему обыкновению, не заказной, а будет мой, а там что бог даст…
Вот видите, я какой, а вы все меня не хвалите…»
Сообщая мне тут же о намерении написать портрет с К.С. Станиславского, Михаил Васильевич признавался:
«Эти оба портрета меня интересуют – хватит ли «силенки» – посмотрим, увидим».
Заказа и здесь Нестеров не принял, хотя все художники работали на Выставку индустриализации именно по заказу, с предварительными авансами. Отказавшись от заказа и от аванса, Нестеров и в этом случае, как во многих других, говорил:
– Заказ, в особенности государственный, не трудно взять, но его трудно исполнить. Нужно исполнить хорошо, нужно не даром взять деньги с государства, а разве может быть уверенность, что исполнишь его хорошо? Художество – дело прихотливое: может выйти, а может и не выйти. Этого мало: заказ нужно исполнить точно в срок. Я старик – я могу заболеть – как же я могу брать на себя обязательство написать Портрет к сроку? Напишу, выйдет хорошо, покажу – если понравится, берите; не понравится – не надо. Я ничем не связан: портрет – мой, а заказной – я еще его не написал, а уж он не мой.
О писании портрета с Отто Юльевича Шмидта Михаил Васильевич мне рассказывал:
– Я сижу в сторонке, смотрю на него, рисую, а у него капитаны, капитаны, капитаны. Все с Ледовитого океана. Кряжистые. Он озабочен: в этом году ждут раннюю зиму, суда могут зазимовать не там, где следует. Теребят его телеграммами и звонками. Он меня не замечает, а мне того и надобно. Зато я его замечаю.
В высшей степени характерно для Нестерова-портретиста последних лет, что он непременным условием портрета со Шмидта поставил – писать портрет не у него на дому или где-нибудь в другом тихом месте, а у него в рабочем кабинете, в самый разгар трудового его дня.
В том же колтушевском альбоме находится и первый карандашный набросок портрета таким, каким он явился на полотно. Шмидт сидит за письменным столом, принимая какого-то посетителя, невидимого зрителю, слушая его доклад о североморских делах. Карандашный эскиз сделан на скорую руку, чтобы не забыть найденной композиции всей фигуры Шмидта. Бегло, сжато набросано и лицо его, но, подойдя к глазам, рука художника оставила свою беглость и перенесла на бумагу пристальный и сосредоточенный взгляд этих глаз.
Когда Нестеров позвал меня впервые взглянуть на портрет, переехавший из Комитета Северного морского пути на Сивцев Вражек, он, установив портрет на мольберт, предоставил новой работе говорить самой за себя.
Я долго не отрываясь смотрел на портрет и, наконец, сказал:
– Я был на Ледовитом океане. У него, – указал я на лицо Шмидта, – иссиня-зелепая волна океана отражена на глазах. Он о ней, видно, всю жизнь мечтал и теперь уже не может оторваться от нее никогда. Все будет она влечь его к себе.
Михаил Васильевич молча обнял меня и горячо заговорил:
– Этого хотелось, чтобы так было, а так ли вышло, не знаю. Наш брат любит, чтоб его хвалили. Поверить-то хочется, что так, а вдруг не так?
Но, верно, поверил, а еще вернее – сам знал, что так, потому что тут же добавил:
– «Шмидт? Это который с бородой?» Надоела мне эта борода. Сколько раз его рисовали, и все не его, а бороду. Бороду рисовать легко. Но в ней ничего и нет, кроме бороды. А я решил: попробую заглянуть в глаза. Там у него кое-что найдется получше бороды.
В портрете Шмидта Михаил Васильевич остался верен себе: он изобразил Шмидта в его давней мечте, в его внутреннем порыве к ее осуществлению. Вот отчего в глазах этого «настоящего Шмидта» так трепетно отражена беспокойная, влекущая волна иссиня-зеленого Северного океана.
И более того: ведь Шмидта Михаил Васильевич писал тогда, когда папанинцы еще плыли на льдине по этому самому грозно-таинственному океану, и в лице Шмидта, в его глазах с их мечтой о победе над океаном и полюсом Нестеров изображал давнюю мечту этих смелых людей, воплощал свою веру в эту победу русских людей над грозной северной стихией, замыкающей пределы нашей родной земли.
Когда папанинцы благополучно завершили свое беспримерное плавание на льдине, Нестеров переживал праздник.
Михаил Васильевич, считая себя художником и только художником, всячески уклонялся от каких бы то ни было выступлений в печати, не связанных с вопросами искусства, но тут он нарушил свой зарок и напечатал сердечное, трогательное приветствие героям Северного полюса и героической льдины. «С восторженными слезами, – писал он, – узнал я о завершении героической эпопеи всем нам дорогих папанинцев. Долгая жизнь моя окрашена событием непостижимым!»
Портрет О.Ю. Шмидта остается навсегда свидетелем преклонения замечательного русского художника перед научным героизмом советских людей, самоотверженно работающих в интересах всего человечества.
Следующей работой Нестерова после портрета Шмидта должен был быть портрет К.С. Станиславского.
23 сентября 1937 года Нестеров писал мне:
«Впереди, если жив буду, попробую написать Станиславского, с которым виделся, он охотно согласен посидеть мне, но когда – это еще не договорено, быть может, в декабре, январе, когда он снова переедет в Барвиху».
Михаил Васильевич был знаком со Станиславским давно, очень любил его в лучшей его роли – в «Докторе Штокмане» Ибсена, и хоть стращал себя тем, что «он ведь знаменитый актер, а я актеров не умею писать: они особый народ», но, видимо, всей душой влекся к портрету. Можно было ожидать отличного нестеровского портрета.
Станиславский с радостью откликнулся на предложение Нестерова. М.П. Лилина писала из Барвихи:
«…Ваша просьба, дорогой Михаил Васильевич, очень нам лестна. Вы правы: хороших портретов Константина Сергеевича нет. Оставить потомству портрет, написанный вами, было бы очень, очень приятно, но как согласовать время? Сейчас на отдыхе это было бы легко и удобно; но во время работы, которая не вполне регулярна, это надо будет сговариваться ежедневно…
Во всяком случае, верьте, дорогой Михаил Васильевич, что ваше предложение принято с восторгом и глубоко нас тронуло. Ваша искренняя поклонница – Мария Лилина.
Константин Сергеевич шлет вам самый нежный, самый горячий привет».
К сожалению, досадная задержка с получением письма Нестерова привела к тому, что он, долго не получая от М.П. Лилиной ответа на свое письмо с предложением написать портрет Станиславского, дал согласие на другой портрет – О.Ю. Шмидта.
Сожаления Михаила Васильевича о том, что он не может тотчас же по возвращении в Москву приняться за портрет Станиславского, усилились после получения им письма от самого Константина Сергеевича:
«Дорогой, любимый, глубокочтимый Михаил Васильевич!
Прежде всего позвольте мне от всего сердца поблагодарить вас за большую честь, которую вы мне оказываете предложением написать мой портрет.
Я с волнением и радостью принимаю это предложение и выискиваю средства помочь вам в вашей работе.
Если в ближайшие дни вы соберетесь в Барвиху, то я буду счастлив принять вас, крепко пожать вашу руку и подробно поговорить о деле…
В радостной надежде увидеть вас и возобновить знакомство я шлю вам привет от неизменного почитателя вашего гения, вашего восторженного поклонника.
К. Станиславский.
1937, 4/IХ, Барвиха».
Но портрету не суждено было явиться на свет: то юбилей 75-летия, то усиливавшееся недомогание Константина Сергеевича отсрочивали его встречи с Нестеровым, а 7 августа 1938 года Станиславский скончался.
Зиму 1937/38 года Михаил Васильевич очень томился без портретной работы. Приходилось мне «сватать» ему в эту пору то одно, то другое лицо из тех, кто мог его заинтересовать как портретиста, но тщетно: «сватанья» не удавались. «Хороший человек, уважаю, люблю, но… – он разводил руками, – но ничего не говорит мне как художнику».
У него была – как часто бывало и раньше – потребность встретиться с каким-то новым, неприглядевшимся лицом (и, однако же, лицом не чужим, не равнодушным «натурщиком» для портрета) и вспыхнуть от него творческим огнем.
Так, к счастью, и случилось.
В одно из майских утр 1938 года он как-то особенно был уныл и жаловался Б.П. Нестеровой, что у него пропал весь интерес к работе, что ему, видно, «капут как художнику», что он уже не коснется кисти.
Но этим же днем пришла к Нестеровым Н.А. Северцова, дочь покойного академика, и привела с собою ленинградскую гостью – художницу Елизавету Сергеевну Кругликову.
Нестеров был давно знаком с художницей. Он ценил ее тонкое, трудное, изящное искусство офорта во всех его видах – игловый офорт, мягкий лак, акватинта, цветной офорт, цветная монотипия. Особенно привлекали его своим тонким любовным мастерством офорты Кругликовой, посвященные Парижу и Петербургу-Ленинграду. Он находил, что художница умела смело и зорко проникать в «души» этих двух столь непохожих городов, которым она отдала свою любовь.
В Ленинграде Нестеров встречался с Кругликовой у А.А. Рылова и у А.П. Остроумовой-Лебедевой и всегда находил в Елизавете Сергеевне острую, тонкую собеседницу, восхищавшую его своей молодой энергией и умным темпераментом русской парижанки.
Встреча с Кругликовой в майский день на Сивцевом Вражке была для Нестерова вполне неожиданной. Художница была в черном костюме с отливом воронова крыла и на фоне майского дня поразила его изяществом своего силуэта (недаром она была неподражаемым мастером силуэта!).
Он воскликнул:
– Вот кого мне надо писать! – и тут же предложил Кругликовой позировать для портрета. Она согласилась и осталась в Москве на три недели вместо намеченных трех дней.
Сеансы происходили в квартире Н.А. Северцовой, у рояля, в той самой позе, в которой Кругликова представлена на портрете; сидит у рояля, нога на ногу, облокотившись на него правой рукой с дымящейся папироской, а левою оперлась о бок.
24 мая 1938 года Нестеров писал В.М. Титовой:
«Сейчас неожиданно начал новый портрет, писаке и его модели (женской) обоим 150 лет!.. Модель очень интересная, острая, в ней есть что-то птичье». Работаю с удовольствием, но приезжаю «без задних ног», да и передние, что зовутся руками, тоже как плети».
4 июня Нестеров писал:
«Вот и отпраздновали 76-летие мое…
Устал я жестоко, едва волочу ноги, а тут еще этот портрет, он что-то не ладится… Хотя «модель» и интересная, старая 73-летняя офортистка Кругликова, жившая лет 20 в Париже».
Увлечение Нестерова работой над портретом Е.С. Кругликовой поглотило все его силы. Когда, окончив портрет, он приехал гостить ко мне в Болшево, он был в состоянии большой усталости, но усталости бодрой, приятной. Он задорно подсмеивался над собою, «семидесятишестилетним красавцем», но чем задорнее были насмешки, тем живее чувствовалось, что портрет писался с увлечением до головокружения.
Погостив в Болшеве и Муранове, Нестеров писал 14 июля из Москвы своей дочери:
«Я переутомился с портретом, и меня Елена Павловна уложила в постель, лежал суток двое, была температура и проч.
Портрет всем очень нравится, да и я нахожу, что он вышел любопытней двух предыдущих (то есть портретов Держинской и Шмидта. – С.Д.). Очень уж модель эта интересная».
30 октября Нестеров писал:
«Третьего дня у меня была «Закупочная комиссия Третьяковской галереи». Наметили для галереи портрет Ксении Георгиевны (Держинской. – С.Д.) и Кругликовой. Это дело почти решенное. Портрет Кругликовой оспаривает Русский музей, от которого были вчера…»
От портрета Кругликовой Нестеров чувствовал особенно легкую, живую, непосредственную творческую радость. Он был просто счастлив, когда на холсте ему удалось чутко и тонко схватить углем зыбкий и острый силуэт русской парижанки, виртуозно владеющей иглой офортиста и тончайшими ножницами силуэтиста. Он увлекся этим силуэтом и разработал его в угле так виртуозно, так полно, что залюбовался сам и – величайшая редкость у Нестерова – позволил видеть, допустил залюбоваться других.
С угля на холсте была снята прекрасная фотография Ф.А. Петровским, переводчиком Ювенала и Марциала, и благодаря этому мы можем любоваться этим виртуозным рисунком. Но «уголь» этот не существует в действительности: он покрыт красками на холсте портрета.
В масле Нестеров ввел только два – но какие характерные! – отступления от угля. В «угле» на рояле стояла изящная фарфоровая пепельница; оставив – в красках – художницу курящей, он убрал пепельницу и заменил ее белой розой в хрустальном бокале. Перемена эта внесла в портрет какой-то теплый элемент женственности и изящества. На стену – пустую в «угле» – художник повесил одну из монотипий Кругликовой – Неву с Петропавловскою крепостью, и как-то радостно стало смотреть на строгий сумрачный пейзаж и думать: «Он – дело этих худых, старых, но все еще прекрасных рук прилежной художницы, влюбленной в великий город на Неве». Как характерно для Нестерова-портретиста, что он не захотел и здесь отрывать человека от дела его жизни, художника – от его художества!
Утонченный, острый портрет не исчерпал для Нестерова художественного интереса к личности Е.С. Кругликовой, наоборот, как это часто с ним бывало, он продолжал особенно внимательно жизненно общаться, творчески всматриваться в свою модель, ища и находя в ней новое, ранее неусмотренное, прежде непрочувствованное.
И однажды, встретясь с Елизаветой Сергеевной в Ленинграде у Павловых, где она была в легком белом костюме и золотистом жилете, он воскликнул:
– Вот так бы надо было вас написать!
Второй портрет был решен. Но в противоположность первому от решения до осуществления протекло много месяцев – так много, что Е.С. Кругликова усомнилась было в том, что второму портрету суждено явиться на свет.
Второй портрет был начат Нестеровым ровно год спустя после первого.
10 июня 1939 года Нестеров писал В.М. Титовой:
«Я начал портрет с своей престарелой «Красавицы». Она вся в белом, в золотистом жилете. Интересна, оживлена, а что из всего этого выйдет – посмотрим, увидим недели через 2. Тогда и сообщим тебе».
Портрет писался не с меньшим увлечением, чем первый – и с большей оплатой этого увлеченья здоровьем.
Как сообщила мне Е.П. Разумова, после третьего сеанса Михаил Васильевич признался ей по телефону:
– Я устал. Не могу найти на портрете, что нужно. Сил нет. Я стар.
Е.П. Разумова велела фельдшерице-массажистке, массировавшей старого художника, перевести его на камфару, впрыскивая ее перед сеансами, и все пошло хорошо.
«Он не знал, что и как, – рассказывала мне Елена Павловна, – работал спокойно. Однажды звонок ко мне:
«Все прекрасно. Я закончил портрет».
29 июня Нестеров писал В.М. Титовой:
«А я за это время кончил второй портрет с Кругликовой, и, по общему признанию, он вышел «моложе» первого. Это, вероятно, оттого, что сам я все молодею и молодею. Что вполне естественно в мой возраст».
Нестеров написал на этот раз Кругликову в той же квартире Северцова, на большом черном диване, в спокойной позе, с лицом почти анфас, облокотившейся левою рукою о ручку дивана, с карандашом в правой руке. На первоначальном карандашном наброске (в колтушевском альбоме) у художницы на коленях лежал альбом, и она в него что-то зарисовывала; на портрете нет этого альбома, и только карандаш остался в руке художницы.
Беседуя со мною как-то в закатный час в Болшеве, тотчас после писания портрета, Нестеров говорил:
«Кто бранит последний портрет; говорят: первый острее, но большинство хвалит. У Габричевского есть няня, старушка восьмидесяти лет. Та Кругликовой сказала:
– На этом (втором) портрете, Елизавета Сергеевна, вы – умная!»
Нестеров радовался этому определению: не «элегантная», не «красивая», а только «умная».
Показывая мне новый портрет Е.С. Кругликовой, он сам определил его, чего почти никогда не делал:
– Этот попроще. Тут она старая. Ничего не поделаешь: старая. Ручки-то в склерозике.
И опять вспомнил изречение старой няни: тут она «умная».
Он ценил это простое определение простого человека за то, что оно попадало в самую его цель, которую он ставил себе при втором портрете: отойти от эффектности позы, отстраниться от остроты первого портрета, вглядеться пристальнее и глубже в лицо немолодой художницы, поискать ее там и там же поискать и ее искусство: найти в лице красоту-правду этой яркой женщины и вместе с тем ничего не утаить из натуры: ни этих «годочков» (по его выражению), которые, и правда, на этом втором портрете куда виднее, чем на первом, и даже этого «склерозика», которого на первом нет и следа.
Нестеров с нового портрета устранил парадность и праздничность. Больше нет ни рояля, ни розы, ни монотипии с видом Петербурга, ни эффектной позы. Все буднично. Все просто почти до скудости. Художник как бы призывал зрителей:
– Вам нравилась там седая юность этой прекрасной русской парижанки, ее непобедимое годами изящество? Но седая юность все-таки есть старость. Посмотрите же теперь на бодрую старость, посмотрите просто и дружественно, не обегите глазом и эти руки в склерозе, много потрудившиеся иглой и кистью, а главное, всмотритесь хорошенько в лицо этой пожилой женщины: сколько в нем сердечного ума, благородства! Сколько покоя ярко прожитой жизни, знавшей радость в труде и не покидавшей труда в радости искусства.
В самом деле, лицо Кругликовой – на этом портрете – одно из лучших нестеровских лиц.
В глазах пожилой художницы давно застоявшаяся грусть, и в этой спокойной грусти теплится тот редкий огонь сердечной мудрости, который зажигается только в конце жизни у тех, кто не боится своего конца, давно познав, что бытие неистребимо, а прекрасное вечно.
Нестеров – во втором портрете – вернулся к тому, что для него дороже всего на всех его картинах и портретах: к познанию человека в его лице, яснее, полнее всего являющем человеческое, только человеческое, в человеке.
Нестеров любил второй портрет Кругликовой больше, чем первый, и был рад, что написал его.
Портрет был приобретен в Русский музей в Ленинграде, чем были довольны и автор и модель, радовавшаяся, что останется навсегда жить в ее любимом городе, вдохновлявшем ее на творческий путь.
Е.С. Крутикова умерла в Ленинграде в июле 1941 года.
В 1939 году неожиданно для себя Нестеров начал второй портрет – Веры Игнатьевны Мухиной.
Он был прекрасного мнения о ней как о скульпторе. Скупой на похвалы, особенно в тех случаях, когда художник брался за тему высокого значения, Нестеров с горячим сочувствием встретил скульптуру Мухиной «Рабочий и колхозница», венчавшую собою Советский павильон на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Нестеров радовался, что ваятель стоит здесь на высоте задачи – найти образ, достойно выражающий живое устремление целой страны в будущее. Он отмечал смелую действенность скульптуры Мухиной, соединенную с прекрасною монументальностью. На опыте зная трудность построения двойных портретов, Нестеров считал, что Мухина решила мудреную задачу: фигуры рабочего и колхозницы, отлично передающие их русский облик, она слила в едином порыве, страстном, стройном и победном.
Хорошо знакомый с лучшим созданием В.И. Мухиной, Нестеров не был знаком с нею лично.
Знакомство состоялось осенью 1939 года; автор «Рабочего и колхозницы» произвел на Нестерова такое же прекрасное впечатление, как его скульптура. Как и при встрече с Кругликовой, у Нестерова сразу возникло желание написать портрет В.И. Мухиной.
«Она интересна, умна, – писал Нестеров П. Корину. – Внешне имеет «свое лицо», совершенно законченное, русское… Руки чешутся написать ее, она согласна».
29 октября 1939 года он сообщал В.М. Титовой:
«Мое здоровье не так плохо, я чувствую себя лучше, начал портрет с Веры Игнатьевны Мухиной, чудесного нашего скульптора (она и Шадр лучшие и, быть может, единственные у нас настоящие ваятели).
Начал работать портрет с меня и Павел Дмитриевич (Корин. – С.Д.); выходит необыкновенно интересно. Хорошо бы было, если бы оба портрета были окончены».
Своего высокого мнения о дарованиях Мухиной и Шадра Нестеров держался до конца жизни, добавляя иногда:
– Он (Шадр) талантливей и теплее, она – умней и мастеровитей.
Непременным желанием Нестерова было писать Мухину во время работы.
В.И. Мухина рассказывала мне:
– Я всегда любила Нестерова как художника и высоко ценила его портреты. Ему нравились мои рабочий с колхозницей. Мне было дорого его желание написать мой портрет. Но, признаться, я терпеть не могу, когда видят, как я работаю. Я никогда не давала себя фотографировать в мастерской. Но Михаил Васильевич непременно хотел писать меня за работой. Я не могла не уступить его настоятельному желанию.
Первый карандашный набросок портрета Мухиной находим в колтушевском альбоме. Ваятельница взята на рисунке почти в той же позе, что и на портрете. Она «обряжает» обеими руками чей-то большой бюст на грузном двухэтажном постаменте. Фигура ваятельницы несколько удлинена сравнительно с портретом.
Рисунком этим Нестеров был недоволен. Он жаловался на то, что «истукан» (бюст) все место отнял и что в нем «ни красы, ни радости». Не был он доволен и фигурой ваятельницы, находя ее вялой, холодной, равнодушной к своему делу. И тут же, в оправдание ей, пояснял, что к такому-де «истукану» и руки не тянутся.
Но 25 октября 1939 года он уже говорил мне (запись в моем дневнике):
«А я начал Мухину. Что-то выходит. Я ее помучил: так повернул, эдак. А ну поработайте-ка. Чем вы работаете?
– Чем придется: пальцем, стекой.
Как принялась над глиной орудовать – вся переменилась. «Э! – думаю. – Так вот ты какая! Так и нападает на глину: там ударит, здесь ущипнет, тут поколотит. Лицо горит. Не попадайся под руку: зашибет! Такой-то ты мне и нужна».
Вот так и буду писать. Но это куда труднее Держинской. Не оборвусь ли?»
Помня «творческие истории» всех портретов Нестерова за двадцать с лишком лет, я впервые заметил за ним этот страх «оборваться» на только что начатом портрете. Он явно волновался, тревожился и развивал мнительные страхи за судьбу портрета – и в то же время был увлечен им.
В действительности большая часть мнительности связана была с тем, что он принялся за портрет одновременно с длительным позированием П.Д. Корину и работал усталый от чужой работы. Одна из причин вялости была и в том, что портрет был начат в хмурые, холодные дни поздней осени, понижавшие бодрость и зоркость 77-летнего художника.
4 декабря Нестеров писал дочери о своем позировании П. Д. Корину:
«Портрет двигается к концу, сегодня 34-й сеанс! Очень уж темно, работать трудно, ничего не видно. П.Д., кажется, доволен…
За Мухину примусь, если буду здоров, едва ли раньше января, так как темно, и мне необходимо обусловить машину, чтобы не ждать подолгу на холоду. Вот тебе какие дела-то…»
Работа над портретом Мухиной была прервана не до января, а до весны.
В мае 1940 года Михаил Васильевич гостил у нас в Болшеве и крепко задумывался «насчет Мухиной». Еще усиленнее становились вопросы-раздумья: «Справлюсь ли? Приниматься ли опять за портрет?»
Я усиленно, как только мог, поддерживал в нем желание писать портрет, боровшееся с этими сомнениями и колебаниями. Мне было ясно: отказ от трудного, но увлекательного портрета равнялся бы для художника, которому наступал 78-й год, признанию своей инвалидности.
23 мая Михаил Васильевич писал мне:
«Я так рад, что мой приезд не наделал вам особых, чрезвычайных хлопот, а со мной и это могло случиться… Стар я стал…
Дни бегут, я их не вижу, так быстро они мелькают.
Работать (портрет Мухиной. – С.Д.) не начинал. Начну, если будет все ладно, после 1-го; таким образом, едва ли смогу до окончания портрета побывать у вас в Болшеве…
Был сегодня в морозовском музее. Любовался «Деревенской любовью», какая прекрасная любовь там изображена!..
Вообще, несмотря ни на что, там много такого, что напомнило мне Италию, Венецию, былое».
День 78-летия Нестерова прошел благополучно: кажется, никогда у Михаила Васильевича не было на его дне рождения столько друзей и близких, и он, бодрый и смелый, принялся за портрет Веры Игнатьевны Мухиной.
Расхолаживавший художника «истукан» был забракован навсегда.
Вера Игнатьевна рассказывала мне:
«Михаил Васильевич хотел писать меня за работой. Я и работала непрерывно, пока он писал… Из всех работ, бывших в моей мастерской, он сам выбрал статую Борея, бога северного ветра, сделанную для памятника челюскинцам. Он сам выбрал все: и статую, и мою позу, и точку зрения. Сам определил точно размер портрета. Все – сам.
Работал он всегда со страстным увлечением, с полным напряжением сил, до полного изнеможения.
Я должна была подкреплять его черным кофе. Во время сеансов велись оживленные беседы об искусстве. Но когда он входил в азарт, все умолкало. Он с самозабвением отдавался работе».
К рассказу В.И. Мухиной надо добавить: врачами давно указан был Нестерову строго определенный срок для сеансов – полтора-два часа: этого требовал его возраст и состояние его здоровья. Но он, всегда нетвердый в соблюдении этих охранительных сроков, сплошь нарушал их в работе над портретом Мухиной.
Редко каким портретом Михаил Васильевич был так увлечен, как этим, и редко о каком портрете он слышал столько похвал.
Понятно, почему Нестеров из всех скульптур Мухиной перенес на полотно Борея: он – весь движение, он – весь устремление ввысь, он – единый порыв, преодолевающий все препятствующее, все, встающее на пути – и на каком пути: безоглядном, беспредельном, бескрайнем, вперед, ввысь, всюду!
Фигура ваятельницы поражает своим спокойствием. Гипсовый Борей, кажется, еще миг – сорвется с постамента и, как и подобает северному ветру, унесется в неоглядные просторы, все круша и оледеняя на своем бурном пути. А та, из чьих рук готов он взлететь, со спокойствием – хочется сказать: с привычным трудовым спокойствием – удерживает его на месте. Руки ваятельницы с особою любовью выписаны художником: «Самый лучший инструмент при работе по глине руки… Руки и ноги так же выразительны, как и лицо», – эти две заповеди из книжки Голубкиной «Несколько слов о ремесле скульптора», – книжки, любимой Нестеровым, – он слил в одно целое: прекрасные руки Мухиной необыкновенно «выразительны», они сполна убеждают в том, что «самый лучший инструмент при работе» ваятеля – рука. С какою профессиональной уверенностью, с какою зоркостью рук ваятельница касается статуи, но и с какою материнскою бережливостью, как к прекрасному, но хрупкому ребенку!
Эта профессиональная уверенность, трудовая выносливость, энергичная стойкость, – это прекрасное спокойствие мастера чувствуются во всей фигуре Мухиной. И Нестеров был полностью прав, когда решительно отводил от себя упрек в том, что в фигуре ваятельницы «мало динамики». Он и не хотел этой внешней «динамики» в фигуре Мухиной; он знал, что она может повести к пластической декоративности, к театрализации позы. А он передавал трудовой час опытного мастера, который знает, что для успеха его художественного труда нужна не вспышка «динамики» – мгновенного порыва, а артистическая зоркость глаза, бестрепетная меткость руки, как «лучшего инструмента» ваятеля. Все это и передано в фигуре Мухиной.
Но всмотритесь в ее лицо: вот где она – мать этого стремительного Борея, вот где она – вся в творческом устремлении!
Нестеров сам пришел к мысли, выраженной А.С. Голубкиной, чей портрет он так мечтал написать:
«Движение, подобно конструкции, должно быть почувствовано внутри: ассирийцы и египтяне передавали стремительное движение при неподвижной одежде. А головы, отбитые от статуй греков, сохраняют движение целого».
Вот именно так Нестеров передал движение в портрете Мухиной; ее рабочая блуза – почти «неподвижная одежда», а в ее «голове» воплощено «движение целого», «почувствованное» художником «внутри». Это глубокое внутреннее движение – подлинно творческое движение – сосредоточено в крепко сомкнутых устах, в озабоченно прихмуренных строгих бровях и в необычайной, сторожкой, ищущей зоркости серых глаз, пронизывающих своим острым взором бурное детище этих спокойных рук.
В этих глазах раскрыта поразительная энергия творческой воли, в этой голове выражен целый мир творческих дум и устремлений.
Краски портрета намеренно скромны, благородно сдержанны: пепельные волнистые волосы, темно-синяя блуза ваятеля, белая легкая кофта, поверх которой надета блуза, круглая красная брошь, скрепляющая ворот кофты, синевато-лиловый отсвет блузы на деревянном постаменте, на котором стоит белый гипсовый Борей.
Вот и все. Но эта мудрая сдержанность красок, это благородное спокойствие тонов только увеличивают смелую стремительность ритма, только усугубляют страстную действенность всего портрета.
Портрет Мухиной – вершина советской портретной галереи Нестерова: в нем старый художник оказался моложе молодых в своем глубоком вчувствовании в творческую волю своего современника, в своей горячей любви к нему. Могучий ритм революционной эпохи есть внутренний ритм этого удивительного портрета.
И не мудрено, что при своем появлении в мастерской художника и в Третьяковской галерее портрет этот вызвал всеобщий восторг.
Вспоминается мне эпизод, случившийся вскоре после появления «Портрета Мухиной» в отделе советской живописи в Третьяковской галерее.
Перед портретом долго стояли два матроса, так долго и неотрывно рассматривали его, что я невольно обратил на них внимание. Один из них подошел ко мне и спросил:
– Кто написал этот портрет?
– Нестеров.
– Он молодой художник?
– Нет, старый, едва ли не старейший из наших художников. Молодые вот там, – я указал на картины других советских художников.
Матрос, не скрывая неудовольствия, отвернулся от меня.
– Ну, это вы ошибаетесь. Старому тут делать нечего. Это наш брат, молодняк. Художник этот, верно, так же хорошо стрелять умеет, как кистью писать.
Отзыв был справедлив. Нестеров не умел стрелять, но умел любить свою страну по-молодому и верить в силу своего народа по-юному.
Еще в сентябре 1940 года, как-то в Болшеве, за вечерним чаем, Михаил Васильевич по секрету открыл мне, что собирается писать портрет Алексея Викторовича Щусева, с которым был связан долгой дружбой и работой.
– Щусев был как-то у меня. Народ еще был кто-то. Он рассказывал, шутил, шумел, но так весело, так хорошо: стоя, откинулся весь назад, руки в стороны, хохочет. Я и говорю ему: «Вот так вас и написать!» А он мне: «Так и напишите!» – «И напишу». Ударили по рукам. А теперь вот боюсь. Я никогда смеющихся не писал. Это трудно, а я стар. А назад идти нельзя. Обещал. Я ему скажу как-нибудь: «Мы оба старики. Вам не выстоять на ногах (я-то уж привык). Я вас посажу и портрет сделаю поменьше размером». А теперь думаю: писать или нет?
Это был прямой, настоятельный вопрос, и я твердо ответил:
– Пишите, Михаил Васильевич. Ведь вы Алексея Викторовича любите, отлично знаете лицо и все. У него и улыбка отличная.
– Да, он добрый человек.
Писать было решено, и тут же Михаил Васильевич признался, что у него в замысле второй портрет В.И. Мухиной и портрет Е.Е. Лансере.
Летом 1941 года замысел щусевского портрета одолел все другие, и Михаил Васильевич принялся за работу.
Алексей Викторович Щусев по моей просьбе сам написал 28 июля 1944 года «историю своего портрета».
«22 июня 1941 г. Михаил Васильевич Нестеров утром вошел ко мне в квартиру на Гагаринском пер., д. 25, с твердым намерением начать писать с меня портрет, который задуман был им несколько лет тому назад. За ним несли мольберт и небольшой холст на подрамнике, а также ящик с красками и любимыми мягкими хорьковыми кистями.
Вид у Михаила Васильевича был бодрый и решительный; по обыкновению мы обнялись, и он, улыбнувшись своей ясной и широкой улыбкой, сказал: «Решил начать, боюсь, что силенки мало осталось, а потому размер холста небольшой, но писать буду в натуру».
Действительно, М.В. уже было под 80, и он, похварывая, возился с докторами. Писать меня он хотел давно, приходил с альбомчиками в 40-м году, выбирал позы, зарисовывал, но все это его не удовлетворяло. Ему хотелось чего-то простого, жизненного, хотелось написать мой смех в разговоре, который иногда ему нравился, но он все боялся, что сил ему не хватит и он не справится.
Как-то раз, перебирая в ящике разные вещи, я наткнулся на 2 бухарских халата, которые купил в Самарканде в 1896 году во время работы над обмерами ворот-мавзолея Тимура, которые я исполнял по поручению Археологической комиссии.
Халаты в то время были новенькие, ярких цветов – бухарский пестрый в крупных ярких пятнах и другой, желтый в мелких черных полосках, из крученого гиссарского шелка. При них черная тюбетейка в тонких белых разводах.
Зная, что М.В. любит красочные восточные вещи, я решил показать ему и мои халаты. М.В. пришел от них в полный восторг, попросил меня накинуть их на себя, полюбовался, что-то про себя подумал и сказал, что будет писать с меня портрет в этих халатах – с утра, когда я, напившись утреннего кофе, беседую у себя в кабинете, а он меня слушает и работает.
Позу он дал мне простую и лицо в профиль, так как боялся, что с фасом не справится, сил мало.
Возле меня на столике, как бы случайно, была поставлена вазочка темной бронзы на мраморном пьедестале.
Долго усаживались, искали освещения без рефлексов от розового дома напротив, ставили мольберт и холст так, чтобы писать стоя, так как сидеть во время работы М.В. не любил, и, наконец, когда все было согласовано, М.В. начал рисовать углем на холсте…
Не успели мы начать работу, как вдруг из столовой входит моя жена и говорит нам ошеломляющую новость: немцы ворвались на нашу территорию, разбомбили города и ордой движутся на нас без предупреждения и объявления войны.
Мы оба были ошеломлены, но работы М.В. не прервал и проработал более 3 часов, тогда как ему врач разрешил только 2-часовые рабочие сеансы. Но его нервная и порывистая натура остановиться не могла: он являлся, не пропуская дней, каждое утро около 11 часов и работал 3, а то и 4 часа. Домой ему после сеанса уже идти одному было трудно, он шатался, и приходилось моей дочери или знакомым соседкам проводить его домой под руку, а жил он совсем недалеко, в Сивцевом Вражке.
Когда начались воздушные бомбардировки и приходилось не спать по ночам, М.В. 3 или 4 раза на сеанс не пришел, но все-таки проработал весь июль, и только к 30 июля портрет был совсем готов…
Сеансы были для М.В. физически трудными, но работал он с охотой и страстью, приговаривая, что я-де мог быть настоящим живописцем, если бы строго следовал своим влечениям и не брал бы больших заказов.
О Серове он говорил: «Вот он был настоящий живописец, а я доходил до высот живописи, которую люблю и понимаю, только в немногих вещах. Я чувствую, что в этом портрете мне также удастся быть живописцем, и это бодрит и увлекает меня».
Действительно, гамма моих халатов была звучная, а складки шелка с восточными окаймлениями были очень красочны и живописны. В этом вихре красок мое смуглое бритое лицо в черной тюбетейке казалось строгим и серьезным.
Рисунок и сходство в свободной позе ему дались легко; а приступив к живописи и разложив хорошие заграничные краски на палитре, он писал с большим увлечением, неустанно беседуя, принимая резкие позы.
Вспоминали мы в своих беседах и Киев, и Москву, и Академию художеств, где ему мало пришлось поучиться. Вспоминали знакомых, друзей: художников, артистов, архитекторов и ученых. М.В. любил говорить о людях большого таланта, разбирать их жизненный путь и делать выводы…
Много теплых и хороших воспоминаний прошло перед нами на сеансах М.В., несмотря на гром взрывов от немецких бомб и разрушения в городе.
Держался М.В. спокойно и стойко, как философ и герой. Беседы наши вспоминаются мне как последние светлые страницы его жизни, и сам он, сухонький и острый старик, как провидец, смотревший в будущее и желающий умереть в искусстве».
Старый художник был весь захвачен работой. Он до головокружения, до полного изнеможения работал над портретом, с упоением отдаваясь радости творческого самозабвения.
На мой настоятельный зов переехать к нам в Болшево, где жилось тогда несколько спокойнее и безопаснее, чем в Москве, Михаил Васильевич отвечал мне письмом от 9 июля:
«Дорогой Сергей Николаевич!.. Благодарю за приглашение, но едва ли им скоро воспользуюсь, так как работаю с азартом, по 2 и 2 ? часа стоя. Едва доводят до дома».
В Болшево Михаил Васильевич вырвался только тогда, когда был окончен портрет.
Михаил Васильевич был доволен своей работой, хотя на похвалы по обыкновению махал рукой со словами:
– Это не портрет. Это фрагмент портрета.
«Фрагмент» этот взял много сил у художника, но и дал ему новый заряд бодрости, удивительный в 79-летнем художнике, утомленном напряженною работою в небывало тяжелых условиях.
Между первыми картинами Нестерова и портретом Щусева лежит больше полувека труда, их соединяет целая галерея картин и портретов, созданных в разное время, в различных условиях работы, но если б можно было написать биографию каждой картины и портрета, она бы включала общий для всех мотив: вдохновенной радости труда.
Нестеров любил цветуще сложную жизнь родного народа, уважал его творческую волю к новой жизни и оттого-то с такою радостью дал исход этому волевому устремлению на своих портретах, где любящей рукою запечатлены наши современники в красоте их вольнолюбивых мыслей, созидательных чувств и творческих деяний.
Нестеров в своих портретах оставил вековечный памятник своей эпохе и ее замечательным людям.
Пройдут годы, исчезнут все знавшие В. Васнецова лично, и все будут представлять себе автора «Аленушки» и «Богатырей» так, как явил нам Нестеров на портрете: найдено лицо – найдено все. Это такой же окончательный портрет Васнецова, как окончательны портреты Пушкина, писанные Кипренским и Тропининым.
Нет сомнения, так же окончательны портреты Нестерова, писанные с Павлова, Северцова, Мухиной и многих других современников.
Это потому, что, как Кипренский и Тропинин нашли и запечатлели у Пушкина то, что нам более всего дорого в нем, – великого поэта, – так Нестеров запечатлел в своих портретах то, в чем выражается истинное богатство личности наших современников, то, чем они дороги их родному народу, – их творческое лицо.
XI
«Природа моя была отзывчива на явления жизни, на людские поступки, но лишь Искусство было и есть моим истинным призванием. Вне его я себя не мыслю, оно множество раз спасало меня от ошибок, от увлечений».
Этими словами, написанными в июле 1940 года, Михаил Васильевич Нестеров как бы подвел итог своей жизни и определил тот единый внутренний стержень, на котором вращалась его жизнь, длившаяся восемьдесят лет.
Из них шестьдесят пять было отдано труду ради искусства.
Нестеров вступил на путь художника еще в те дни, когда Лев Толстой только что закончил свою «Анну Каренину», когда Достоевский писал и печатал своих «Братьев Карамазовых», когда Фет впервые начал зажигать свои «Вечерние огни», а Чехов еще не принимался за свои рассказы; Нестеров начал вслушиваться в мелодию краски и искать гармонию цвета еще тогда, когда Мусоргский продолжал работать над «Хованщиной», а Бородин – над «Князем Игорем», когда Римский-Корсаков успел написать лишь одну «Псковитянку», когда Чайковский еще писал «Онегина» и не был автором «Пиковой дамы» и Шестой симфонии. Нестеров взялся за кисть живописца еще тогда, когда доживали свой век старые «академики» времен Брюллова и Бруни, когда передвижники переживали еще весеннюю бурю своего протеста против старой академии, когда Репин и Поленов были еще молодыми художниками, когда Виктор Васнецов оставался еще правоверным жанристом, когда не существовало еще ни «Стрельцов», ни «Боярыни Морозовой» Сурикова.
Иначе сказать, Нестеров начал свою деятельность еще в классический период русского искусства и сам был последним классиком русской живописи. Перейдя за великий исторический рубеж, называемый Октябрьской революцией, пятидесятипятилетним человеком, с сорока годами художественной работы, Нестеров нашел в себе силы и творческую волю вновь «встать с веком наравне», сделаться, как свидетельствуют его портреты, классиком советской живописи.
Это произошло, конечно, потому, что в Нестерове был необычайно крепок тот стержень художника, вокруг которого, свободно подчиняясь ему, расположил все свои дни и годы, думы и влечения Нестеров-человек. Искусство действительно «было истинным призванием» Нестерова. Он еще смолоду почувствовал это всем своим существом и никогда не изменял, даже не соблазнялся изменить этому призванию.
Это не значит, что Нестеров был человеком только искусства, еще того менее – только художником, только живописцем.
Как раз наоборот. По его собственному, вполне верному определению, его природа «была отзывчива на явления жизни». И как отзывчива!
Он был наделен от природы вольным, глубоким жизненным дыханием, большим темпераментом, могучей жаждой жизни.
Узкая теоретичность, склонность к схемам, стремление вогнать жизнь в схему, опутать теоретическими тенетами человека были органически чужды Нестерову.
Он был вольнолюбив по природе. Свободный вздох и выдох своего «я» в чувстве, слове, деле были для него первым и важнейшим условием существования. В человеке Нестеров ценил не только его глубину – мысль и думу, он ценил в человеке и его широту: жизненный размах, раздельность желаний, силу влечений.
Вот отчего Нестеров так любил живопись Сурикова с его героями, охваченными буйством бытия. Вот отчего он так резко, с такой подчеркнутой иронией отстранялся от теории «непротивления злу» и так радовался, если в жизни, в творчестве Лев Толстой сам нарушал эту теорию. Вот отчего Нестеров с такою исключительностью ставил Пушкина превыше всех поэтов, русских и чужеземных: Пушкин был для него олицетворением гения жизни, символом ее неисчерпаемости, оправданием широты и глубины русского человека.
В жизни самого Нестерова вплоть до последних дней трепетал пульс увлечения, порыва, страсти. Страницы его жизни отмечены бурями не только весенними, но и осенними.
Но как бы ни был полон, говоря языком Лескова, «сбор всех страстей» в душе Нестерова-человека, в биографии Нестерова-художника нельзя указать не только страницы, но даже строки, которая была бы неверно написана, искривлена, смазана, зачеркнута под дыханием этих весенних, летних и осенних бурь, врывавшихся в мастерскую художника. В этом смысле биография Нестерова-художника глубоко своеобразна, целостна, неповторима.
Он умел подчинить свою жизнь велениям своего искусства. Житейская биография Нестерова с ее щедрым богатством чувств, устремлений и страстей была лишь подтекстом его творческой повести.
Независимость формы, внутренняя неприкосновенность, целостность содержания, полная свобода течений этой творческой повести всегда была для Нестерова верховной задачей в жизни. Он отдавал все силы на то, чтоб эта задача была решена верно, честно, до конца.
В 1935 году он написал в моем альбоме рисунок.
Тихая заводь большой северной реки. Вдали синеет лесами речной берег. Осень. Две тонкие березки еще хранят свое последнее золото и янтари. Рябинка, растеряв свои листочки, еще сберегла свои кораллы и сердолики. Кудрявится маленькая елочка. На пологом берегу доцветают в поблекшей траве последние цветы. Девушка в темно-синем сарафане, в белом платке сидит на траве – и ей
Эту столь обычную нестеровскую повесть художник Вписал акварелью в мой альбом как повесть о самом себе и подписал под нею чернилами:
«В художестве, в темах своих картин, в их настроениях, в ландшафтах и образах я находил «тихую заводь», где отдыхал сам и, быть может, давал отдых тем, кто его искал. Беспокойный человек думал найти покой в своих картинах, столь не похожих на него самого».
Это лучшая характеристика Нестерова. Невозможно точнее указать связь между его жизнью и искусством, как сделал здесь он сам.
Художник первенствовал в Нестерове. Даже в те годы, когда Нестеров почти не выходил из соборов, расписывая их стены, религия не подчиняла себе его искусства. Нестерова никогда не терзал вопрос о первенстве религии над искусством, как терзал он Гоголя и Льва Толстого, как мучил он Александра Иванова, как превращал он Н.Н. Ге из живописца в проповедника. Художник, только художник решал в Нестерове, браться или не браться за те или иные сюжеты.
«Я – художник, только художник», – сотни раз приходилось слышать от Нестерова. В этом самочувствии и самосознании он находил лучшее применение своим жизненным силам, открывал свободный исход своим творческим устремлениям.
«Истинный художник есть тот, кто умеет быть самим собой, возвыситься до независимости».
Это писал Нестеров сестре в 1891 году и этому остался верен всю жизнь.
Можно всячески относиться и к искусству и к личности Нестерова, но в одном нельзя отказать ему – в полной «независимости», в «уменье быть самим собою». На всем, к чему он ни прикасался творчески – картина, фреска, пейзаж, портрет, – на всем лежит печать «нестеровского». Можно не любить этот пейзаж, можно отрицать этот тип русской женщины, но достаточно сказать: это «нестеровский пейзаж», это «нестеровская девушка», как всем станет ясно, о чем, о каком явлении русской природы и жизни идет речь.
Пушкин – любимый поэт Нестерова, а эти стихи – любимейшие его стихи.
Независимость художника Нестеров оберегал и охранял в себе всеми силами с той ранней юношеской поры, когда нашел и определил в себе «я есмь» художника.
Семья – и искусство; обязанности мужа и отца – и долг художника; требования интересов семьи – и высокие заветы творчества, – к каким жизненным драмам вели столкновения этих противоположностей в биографиях многих художников! В биографии Нестерова нет этих столкновений.
Биограф Нестерова должен засвидетельствовать, что никогда и ни в чем не принес Михаил Васильевич высших требований искусства в жертву материальным интересам семьи.
Художнику и здесь, в этой глубоко интимной области, принадлежал в Нестерове решающий голос, которому умели подчиняться и он сам и его близкие. Все, что по его самочувствию и самосознанию препятствовало ему быть художником, все, что покушалось на свободу его творческой воли, Нестеров отсекал и отстранял со своего жизненного пути беспощадно.
Выше приводилось большое число отказов Нестерова от выгодных художественных работ, не совпадавших с его творческой волей и художественным устремлением. Список этих отказов можно бы сильно умножить. Вряд ли в биографии какого-либо другого художника подобных отказов, по мотивам чисто художественным, найдется больше, чем в биографии Нестерова. И ни в чьей биографии из русских художников не найдется того полнейшего отказа от заказных портретов, которому Нестеров оставался верен всю жизнь.
Худо ли, хорошо ли, Нестеров всегда делал в искусстве только свое дело – только то, что в данный момент было согласно с его совестью художника. Он считал преступлением лгать в творчестве.
Но если страшен для художника отказ от своего творческого почерка, то не менее опасно, если художник не знает меры своих сил, не сознает природы своего дарования, не ощущает его естественных границ и органических пределов.
Множество раз приходилось слышать от Нестерова: «Я не исторический живописец», – далее следовало почтительное указание на Сурикова; «я не иллюстратор» – далее именовались Александр Бенуа п Лансере; «я не пейзажист» – далее с любовью поминался Левитан. В последние два десятилетия он твердо и просто утверждал: «Я станковый живописец; не мое дело писать иконы».
В этих утверждениях, как мы знаем, чересчур много непомерной, даже пристрастной строгости к себе (все признания «я не портретист»), но в этих же утверждениях, не частых у художников, сказывается замечательная черта Нестерова: как истинный художник, он умел себя самоограничивать и этим самым увеличивал крепость и глубину своего искусства-мастерства.
Режиссер В.П. Шкафер, ставивший в Мариинском театре «Сказание о граде Китеже» Римского-Корсакова (1907), пишет в своих воспоминаниях:
«Как раз в то время, как мы готовили «Китеж», художник Нестеров сделал выставку своих произведений, на осмотр которой я и пригласил артистов, участвовавших в «Сказании». Это было очень кстати; художественные полотна Нестерова во многом нам помогли. Дирекции театров следовало бы своевременно заинтересовать его постановкой «Сказания», поручив написание декораций хотя бы первой картины – «леса» и последней – «у врат райской обители», – картин, из которых первая у Н.А. Клодта «резко нарушала» музыкальное настроение своими «грубо-реалистическими красками», а вторая у А.М. Васнецова «была формально-суховата».
Михаил Васильевич с интересом читал воспоминания Шкафера у меня в Болшеве, но по поводу приведенного отрывка заметил:
– Так и было сделано. Просили меня написать декорации к «Китежу»: ваша, мол, тема. У вас выйдет чудесно. А я знаю: ничего не выйдет! Писать картины – одно, а для театра – совсем другое: другой глаз нужен, другая рука. У Кости Коровина все это было, у меня ничего этого не было. Хорошо, что я настоял на своем – отказался. Провалился бы, взявшись не за свое дело.
Самопознание художника Нестеров считал долгом пред искусством и постоянно проверял себя с этой стороны. Художник, по его крайнему убеждению, должен нести на полотно лишь то, что выстрадано внутри, что обдумано сердцем, осветлено разумом.
– Слово художника на картине должно быть сдержанно и веско, – говорил мне Нестеров в январе 1926 года. – Сказано – как отрезано.
Мастерская живописца для Нестерова всегда была не комфортабельной комнатой для ожидания слетающего вдохновения, а местом упорного, не покладая рук, труда.
В его биографии нет нетрудовых не только лет, но месяцев и недель. Обыкновенно после успеха нового произведения художникам свойственно отдыхать. У Нестерова было наоборот. Чем больше был успех его картин, тем спешнее принимался он за новую работу.
После большого успеха картины «Под благовест» на выставке в Мюнхене (1898), после хвалебных статей в иностранных журналах, после признания Академией художеств, давшей ему звание академика, Нестеров пишет не об этом успехе, а о работе, которая предстоит ему.
«Жить до 40 лет надобно, необходимо, неизбежно: говорят, что я еще не сказал последнего своего слова; и это правда, и я его сказать обязан, – это слово я знаю.
Вчера принялся за работу… Вообще, несмотря на физическую немощь, азарт есть, работаю охотно».
Строгая серьезность, полная искренность, с которою Нестеров отдавался художественной работе, поражали всех, кто знал художника.
Уважением к творческой личности Нестерова, к его независимости, к трудовой преданности искусству был полон А.М. Горький во все 35 лет знакомства с Нестеровым. Эту же высокую серьезность творческого труда Нестерова сумел понять и оценить Л.Н. Толстой.
За свою долгую жизнь Нестеров работал в столь противоположных областях, как икона и пейзаж, «лирическая поэма в красках» и портрет, но всюду и всегда он шел от живого человека и живой природы.
Пройдя период ученичества у Перова и Крамского, Нестеров вовсе не отказался от реализма, как это представлялось критикам его «Отрока Варфоломея» и «Юного Сергия», а пришел к собственному ощущению «реального» в искусстве, к лично выработанному представлению о художественной правде и о реализме в живописи.
Когда А.А. Турыгин, ученик Крамского, впал в смущение от новых работ Нестерова эпохи «Юного Сергия» и задал ему в письме вопрос, действительно ли он сказал кому-то из передвижников, что отрицает их правду в живописи, Нестеров отвечал старому товарищу замечательным письмом (от 20 апреля 1893 года, из Киева):
«Постараюсь возможно просто выяснить, что я подразумеваю под ответом моим по поводу «правды» или натуры в искусстве. Не помню, отвечал ли я так кому или нет, но если да, то ответ такой, конечно, был не Поленову, не Сурикову, ни даже Репину, а одному из тех ограниченных господ, «правда» которых есть уже шаблон, выработанный тридцатилетней бесталанной практикой.
«Правда» эта не идет у них дальше валяного сапога, написанного с «натуры», и, если так можно выразиться, «правда красноносая».
«Правды» такой я не люблю, и она мне не дорога. Мила же и любезна мне она тогда лишь, когда олицетворяет собой внутренний поэтический смысл характера – человека, природы или животных. А так как при этом я называю художником того лишь, кто имеет индивидуальность, то, следовательно, и правду художественную я признаю «индивидуальной», и дело гения или таланта навязать, заставить людей верить в его личную правду, а не условную какую-то «передвижническую» или «академическую».
Подчеркивая свое полное отстранение от мелких «натуралистов» передвижничества, от бытовых анекдотистов типа Вл. Маковского, Нестеров резко подчеркивал в письме, что без правды для него нет искусства: живописец только тогда и художник, когда из общения с человеком и природой умеет добыть свою правду о них, раскрываемую средствами искусства. Когда Нестеров подчеркивает, что правда художника должна быть «индивидуальной», он хочет сказать, что она должна быть искренней, непосредственной, лично добытой и пережитой, и меньше всего он хочет замкнуть ее в рамки личного произвола художника: эту свою правду Нестеров извлекает из широкого дыхания родной природы и человека.
В том же письме Нестеров отстраняет от себя упреки в «декадентстве», упреки, которые автору «Отрока Варфоломея» приходилось в ту пору слышать и справа – от «академистов», и слева – от «передвижников». (Мясоедов, Вл. Маковский, Киселев). «Что касается «декадентства», то с ним я знаком поверхностно, – пишет Нестеров Турыгину, – я далек от него, хотя и не раз мне друзья и недруги навязывали его».
В одном из своих позднейших писем Нестеров писал:
«Так называемый «мистицизм» в художественном творчестве я понимаю как отражение сокровенных, едва уловимых движений нашей души, ее музыкальных и таинственных переживаний, оздоровляющих и очищающих ее от всякие скверны… Мне, однако, совершенно чужд и антипатичен мистицизм, хотя бы и религиозный, но болезненный и извращающий душу. В искусстве нашем меня всегда больше всего привлекала не внешняя красота, а внутренняя жизнь и красота духа. Я верю, что живой дух творит форму и стиль, а не наоборот. Сам по себе стиль, как условная форма «духа живого», не создает ничего. В моих созданиях моим постоянным желанием было возможно точно, искренне подслушать свое собственное чувство, свою веру, свое волнение, найти и передать в природе то, что вызывало во мне восторги, умиление, печаль или радость, при этом устремляя свои помыслы на сокровеннейшие стороны души человеческой и окружающей его природы, я всегда предпочитаю наиболее натуральные формы как наиболее убедительные, даже в созданиях таких фантастических, как «Видение отроку Варфоломею» или «Димитрий Царевич».
Эту реалистическую природу своего дарования Нестеров ощущает как подлинную надежнейшую основу своего бытия как художника.
19 мая (ст. ст.) 1908 года, в день своего рождения (ему исполнилось сорок шесть лет), Нестеров писал Турыгину:
«Сегодняшний день я отпраздновал хорошо… Много поработал – написал в день 3 этюда, 2-х баб и пейзаж. …Если бы ты знал, как народ и всяческая «природа» меня способны насыщать, делают меня смелее в своих художественных «поступках», – я на натуре, как с компасом. Отчего бы это так? Не скажешь ли ты, мудрец? Натуралист ли я, или «закваска» такая, или просто бездарен: но лучше всего, всего уверенней всегда я танцую от печки. И знаешь, когда я отправляюсь от натуры, я свой труд больше ценю, уважаю и верю в него. Оно как-то крепче, добротнее товар выходит».
Это сознание глубочайшей связи правды своего творчества с несомненною правдою бытия природы и народа было свойственно Нестерову всегда, и оно особенно обострялось тогда, когда художнику приходилось, как он выражался, «засиживаться на соборах»: тогда в нем возникала настоящая, благодетельная для него тоска по непосредственному творческому общению с природою и народом.
Вырвавшись из Киева в любезное ему Подмосковье, покончив с работами во Владимирском соборе, Нестеров писал (23 апреля 1895 года):
«Вот уже 5 дней, как я в деревне…
…Я теперь свободная птица, но беда в том, что сильно поразучился петь по-птичьи, да и крылья не могу до сих пор путем расправить. Очень уж засиделся в клетке. Начал писать этюды, пока очень робко, как школьник…
Одно несомненно хорошо – это природа. Господи! Сколько она содержит в себе звуков, мыслей, отрывков чувств, сколько в ней мечтаний, и не бессмысленных, как у образцовых земств наших, а глубоких, вдумчивых, вековечных.
Вот и сидишь, да и слушаешь, что природа говорит, что рассказывает лес, о чем птицы поют, – слушаешь и переживаешь юность, сравниваешь свою весну с весной природы и видишь, сколько упущено, как мало, неполно понята была своя весна и с грустью видишь, что поправить ничего нельзя, все минуло и не вернется, и грустно станет, и защемит, заноет сердце».
В письме этом сквозит горькое сожаление о месяцах и годах отрыва (который, впрочем, никогда не был полным) от природы как от великой наставницы художественной правды.
Нестеров жил и, старея, молодел этой работой своей в великой творческой мастерской природы.
В 1908 году он отпраздновал день своего рождения, уединившись на этюды в деревню. В 1926 году он так же точно отпраздновал день своего творческого 40-летия (считая со дня окончания Школы живописи).
Весною этого года государственная Академия художественных наук решила отметить этот день заседанием, посвященным Нестерову. Я должен был читать доклад о его творчестве. Он, было, обещал мне быть на заседании, на которое собралось много художников и почитателей его таланта, но вместо этого в то же утро уехал в деревню, к В.Н. Бакшееву, и весь день юбилея провел на этюдах, писал, был счастлив и молод, «танцуя, – как трунил он над собой, – как институтка, от печки», – от природы, вечной возбудительницы его творчества.
Нестеров писал как-то другу, что видел правоту своего художественного пути в том, что, «не надеясь на свой талант», он смотрел пристально в «источники народной души» и все время держался около природы, опираясь во всем на виденное, пережитое».
Эти «источники народной души», эта опора на «виденное и пережитое» оберегали поэтическую «легенду» Нестерова от художественной фальши, от реакционной лжи официально творимой легенды, а это «держание себя около природы» охраняло творческую личность Нестерова от раннего расслабления, от болезненного ухода в самодовлеющий вымысел, в отвлеченное сочинительство, охраняло от всех недугов, постигающих живописца, как только он перестает быть реалистом, прочно чувствующим почву родной страны под ногами.
Что случилось с Нестеровым в годы революции?
Ответ заключен в приведенных выше словах из письма его старому товарищу.[36
Нестеров творил в годы революции, еще больше, еще уверенней «опираясь во всем на виденное, пережитое». Он еще зорче «видел» вокруг себя – видел людей, творящих новую жизнь, – и их-то перенес он на полотна своих портретов.
«Наблюдая источники народной души», он сумел почувствовать новый трепет этой «народной души», новый опыт ее бытия, и в своих портретах он запечатлел не только образы своих современников, но и Образ своей Современности, ее творческую взволнованность, ее волевую действенность, ее устремленность к преображенному будущему.
Нестеров смолоду и до старости принадлежал к числу тех немногих художников, которые туго шли на выставки, относясь с особой строгостью к показу своих картин публике.
В выставочных каталогах 1880–1890-х годов имя Нестерова – одно из самых редких имен.
С самого начала 1900-х годов Нестеров отказывается от участия на выставках обеих конкурирующих группировок – передвижников и «Мира искусства». После собственной выставки 1907 года он отказывается от самых почетных предложений участвовать в выставках (международной в Венеции (1907), «Салона» С. Маковского (1908), «Союза русских художников» и т. д. и т. п.).
Отсутствие Нестерова на советских выставках 1920-х годов было лишь продолжением этого давнего его отхода от выставок.
Отход 1900-х и 1910-х годов был вызван работами над монументальной картиной «Душа народа» (и двумя ее предшествовавшими вариантами). За отходом 1920-х годов крылось то труднейшее творческое состояние, которое в театральном мире называется «переход на другое амплуа»: «иконописец» и слагатель живописных «сказаний» о минувшем превращался в портретиста, то есть в живописца, имеющего дело только с современниками. Переход этот был ответствен и труден, требования, которые предъявлял теперь к себе Нестеров, были так высоки и строги, что, пока он сам, «взыскательный художник», не убедился в том, что труд его не бесплоден, для него было немыслимо появление на выставках.
Живя в действительности самой напряженной творческой жизнью, Нестеров как бы исчез, сгинул с широкого художественного горизонта.
Но, не выступая на выставках, тем не менее Нестеров никогда не держал своих картин и портретов в заколдованном кругу, куда доступ еле возможен даже для избранных.
Когда вещь – картина или портрет, над которыми он работал, – была готова и он был хоть сколько-нибудь удовлетворен результатом работы, он был рад показать ее тем, кто по-настоящему дорожил его искусством. Не надо было быть специалистом дела – художником, живописцем; не надо было быть даже вообще причастным к искусству или литературе, чтобы получить доступ к еще не просохшему полотну Нестерова.
Скорее даже наоборот: Михаил Васильевич, по крайней мере в последние тридцать лет его жизни, охотнее, радостнее показывал свои новые вещи неспециалистам, чем узким профессионалам кисти. Он считал, что живописец пишет не для живописца, а для всех, кто ищет тепла и света от искусства, как от солнца.
Поставив картину на мольберт и озаботившись, чтобы она была хорошо освещена, Михаил Васильевич не делал никаких предисловий, пояснений и примечаний к ней, он молча отходил в сторону, оставляя зрителя лицом к лицу с картиной. Картина сама должна говорить за себя.
Но что она говорит зрителю, за этим Михаил Васильевич незаметно, но зорко следил. Он безошибочно чувствовал, захватывает ли картина или портрет зрителя, овладевает ли его сердцем и воображением или, наоборот, оставляет это сердце холодным, а воображение мертвым.
Он был чуток не к форме, а к существу отзыва зрителя.
Отзыв мог сводиться к простой благодарности, к короткому «спасибо» за показанную картину, к безмолвному рукопожатию, и такой безмолвный отзыв вполне удовлетворял Михаила Васильевича.
И наоборот, отзыв мог быть самый восторженный – и Михаил Васильевич еле сдерживал свое недовольство, а иногда и не сдерживал.
Трафарет суждений и шаблон похвал был для Нестерова нестерпим именно потому, что он препятствовал ему видеть, какой след оставляет его искусство в душе зрителя.
Он был необыкновенно строг ко всяким сравнениям кого бы то ни было со знаменитыми художниками прошлого, был чрезвычайно скуп на всякие похвальные эпитеты, присоединяемые к именам художников. Он желал и требовал, чтоб скупы были на эти эпитеты и строги на сравнения, когда речь шла о нем самом.
В 1940 году Нестеров говорил мне:
«Все говорят, любят говорить: «Величайший, гениальный!» А это редко. Вот Пушкин гениальный – это, наверное, так. Рафаэль, Микеланджело гениальны. Вот это тоже наверное… Из русских живописцев вот Александр Иванов был гениальный.
У Врубеля были проблески гениальности, но только проблески».
Нестеров любил, когда в отношении к художнику предъявляется любящая строгость и внимательная требовательность. В строгой взыскательности к художнику и к его картине Нестеров видел знак уважения к жизненному делу художника, знак почитания к самому искусству.
Он радовался, когда кто-нибудь оказывал ему это уважение, будь то старый, всеми признанный мастер, как А.С. Голубкина, А.А. Рылов или Е.Е. Лансере, или молодой художник, сам пришедший к Нестерову учиться начаткам мастерства. При показе новой своей работы он дорожил вдумчивыми замечаниями Павла Корина, а про младшего Корина говорил: «У Александра глаз верный: от него не спрячешься: все мои грехи заприметит».
13 мая 1940 года он сказал мне с истинным сожалением:
«Ничего не узнаешь про себя, ничего нельзя сказать».
Невольный самообман художника в оценке им «содеянного» он считал величайшим несчастьем.
Вспоминается разговор с Нестеровым по поводу одного из его портретов; он был недоволен им. Я попытался привести какие-то оправдательные соображения. Но он прервал меня:
– Нет, тут дело все в том, что мне в первый раз семьдесят восемь лет.
В другой раз (февраль 1926 года) ему передали, что Поленов, которому было тогда 72 года, признается:
– Когда у меня покупают теперь этюды, то нюхают: пахнет свежей краской или нет; если пахнет, то дают дешевле.
Михаил Васильевич выслушал и содрогнулся:
– Не дожить бы до этого!
Но он дожил до обратного: его новые портреты, пахнувшие свежей краской, ценились все выше и выше, – его старость оказалась творчески цветущей.
Его день от «солнцеповорота не убывал, а только рос». Так было только с ним одним в русском искусстве.
Это почувствовали все, когда впервые в 1933 году Нестеров, которому исполнился 71 год, вышел из своего многолетнего затвора с двумя портретами на выставку «Пятнадцать лет советского искусства».
Все новое и заветное, над чем усиленно работал Нестеров со времени революции, он показал на этой выставке новому, советскому зрителю, рожденному революцией.
На эту выставку, задачей которой было подвести итог развитию советского искусства за пятнадцать лет его существования, Нестеров мог дать свои произведения в большом обилии: целая галерея портретов была в его распоряжении. Но из всего этого богатства он сделал предельно строгий выбор: он признал возможным дать лишь «Портрет Кориных».
Больших усилий стоило устроителям выставки упросить строгого к себе художника дать сверх того блестящий «Этюд сына».
Но, выйдя на выставку из своей мастерской всего только с двумя произведениями, Нестеров произвел ими поистине огромное впечатление.
«Его не видно было на выставках что-то около двух с половиной десятилетий, – писал тогда Абрам Эфрос. – После классической серии «отшельников» он добровольно подвел черту и как бы сошел со сцены. Так сходят мудрые и большие актеры, когда чувствуют переломный толчок возраста. Нестеров продолжал что-то делать, но у себя и для себя».
Об этом «что-то» – о портрете братьев Кориных и небольшом этюде сына – критику приходится воскликнуть в полный голос, с нескрываемым изумлением:
«Какие превосходные, подлинно музейные вещи! Какая в них крепость, убедительность, непреложность жизненности и мастерства! А ведь Нестеров – старейшина художественного цеха, ему семьдесят два года. Он бы мог иметь право если не на чисто физическую усталость зрения и руки, то хотя бы на самоподражание, на повторение того, что им уже было найдено и выполнено раньше. Но именно этого-то и нет. Нестеров все еще ставит себе новые задачи и заново решает их. Тут настоящее, творческое долголетие большого мастера. Перед этими работами стоит постоять. Стоит вглядеться не только в нестеровскую характеристику своих моделей, но и в чисто живописную кухню, в месиво красочного слоя, который Нестеров составляет так смело и разборчиво. Это редкая кухня, куда заглянуть можно, не испытывая поташниванья от смеси фальсификатов с настоящими специями и от соседства палитры с грязью… Урок Нестерова, урок долголетия мастерства, блестящ. Не одному из наших молодых старичков, не говорю уже о средних поколениях, а даже среди так называемых «кадров», нужно бы, прежде чем пойти любоваться собственными произведениями, сначала помедлить перед нестеровскими портретами и пораздумать над их несдающейся крепостью».
Всем было ясно, что талант Нестерова жив, свеж, ярок, силен.
Но редко кто знал, что талант этот, как никогда, был самим собой, что к этим двум реалистическим портретам Нестеров тогда же мог прибавить более дюжины других, подобных же портретов, а в замысле своем держал их целую вереницу, которую и осуществил в последующие годы.
В 1935 году Нестеров согласился, наконец, устроить небольшую выставку из своих произведений самых последних лет (1923–1935).
Отбирал вещи он сам – и никакие советы, просьбы и мольбы не могли расширить пределов выбранного. А они были очень тесны: всего шестнадцать вещей. Из произведений на так называемые «нестеровские» темы на выставку попали лишь три вещи: «Элегия» (слепой монах, играющий на скрипке), «Весна» (пастух со свирелью) и «Лето» (написаны в 1928–1933 годах); все эти «лирические поэмы» в красках говорят о радости бытия.
Остальные тринадцать вещей были отобраны из новой портретной галереи художника. Но с какою строгостью!
В число отобранных не попали такие полноценные полотна, как большой (первый) портрет А.Н. Севорцова в черно-коричневых тонах, как портреты П.Д. Корина, В.М. Титовой (в обстановке музея 40-х годов), Н.И. Тютчева, первый автопортрет.
Были выставлены «Девушка у пруда» (портрет Н.М. Нестеровой), «Женский портрет», портреты В.М. Васнецова и С.И. Тютчевой, «Больная девушка», Автопортрет, портрет И.П. Павлова (первый), «Этюд» (портрет сына), портрет братьев Кориных, С.С. Юдина (первый), И.Д. Шадра, А.Н. Северцова (второй) и только что оконченный портрет В.Г. Черткова.
Выставка помещалась в прекрасном парадном зале Музея изобразительных искусств. Нестеров терпеть не мог «нарочитости» выставок: этой сбитости и скученности различных произведений в одно случайное помещение, этой утомительной тесноты и пестроты, неизбежной при множестве картин, этой шаткости «условных» стен, к которым привешены картины.
В Музее изобразительных искусств этого не было: восемь картин на одной стене и восемь на другой висели так, точно всегда, спокойно и прочно, украшали этот зал.
Выставка была назначена всего на три дня – 2, 3, 4 апреля, но пришлось прибавить еще два дня: так много было желающих заглянуть в мастерскую художника, ненадолго приотворившего в нее дверь.
Выставка подтвердила, углубила, усилила впечатление, произведенное два года назад двумя портретами. Было ясно: из многолетнего затвора вышел на свет новой жизни не изможденный, потерявший зрение «отшельник», а наш современник, полный сил, с глазами, зорко и широко раскрытыми на обновленную жизнь.
Не только молодежь из художников, но и люди более осторожного и менее пылкого возраста чувствовали, что галерея – теперь уже галерея! – а не «случайность» двух портретов, как полагал кое-кто из скептиков, – что галерея нестеровских портретов – это событие в советском искусстве.
Горький долго ходил по выставке с Нестеровым, и чувствовалось, что Горький радуется на молодость, правду и силу своего старого друга. Горький очень хотел приобрести «Девушку у пруда», но это была семейная вещь, не предназначенная к продаже, и Алексей Максимович приобрел «Больную девушку».
Год спустя Горький благодарил Нестерова за свой собственный «литературный портрет» – «простой, душевный» – и заканчивал письмо знаменательными словами: «Слышал, что вы написали еще один портрет И.П. Павлова, и говорят – еще лучше первого. Крепко жму талантливейшую вашу руку».
«Нестеров ушел из жизни еще до революции, – писала «Правда» по поводу выставки в Музее изобразительных искусств. – Он словно принял схиму и не выходил на выставки шумного буржуазного искусства. Да и что ему было делать среди футуристской крикливости, среди манерничанья и кривлянья эпигонов? О нем стали забывать… В кругу художников знали, что есть, живет академик Нестеров, знаменитый некогда художник. Но что он делает, что он пишет? И вот впервые Нестеров снова выходит к людям из своей кельи… Замечательное мастерство почти во всех произведениях…
На портрете профессора Павлова, на портрете академика Северцова играют сочные реалистические краски – такие, от которых в панике открещиваться стали бы прежние поклонники Нестерова».
В «Известиях» Нестерова приветстовал один из ведущих художников Советского Союза, К.Ф. Юон:
«Крупнейший художник М.В. Нестеров после длительного перерыва показал на кратковременной выставке в Музее изящных искусств несколько своих работ за последние годы. Выставленные им четырнадцать портретов-картин и два идиллических пейзажа являются замечательными документами особого, чисто нестеровского мастерства. Специфическим свойством его художественной культуры является органическая цельность, спаянность живописной техники со всеми малейшими изгибами его чувствований и настроений и прочувствованность каждого цвета, каждого оттенка, каждого движения кисти. Вся живописная манера художника всегда так тесно связана с идейной насыщенностью его образов. В этой органичности нестеровского мастерства – его основная художественная ценность.
Все показанные Нестеровым портреты фактурно написаны более плотно, более предметно и более реалистично, чем это было обычно для дооктябрьских работ художника. Для всех портретов характерен стиль глубокой содержательности».
Через год исполнилось официальное 50-летие художественной деятельности Нестерова: прошло полвека со дня окончания им Училища живописи и получения серебряной медали за картину «До государя челобитчики».
К этому дню Третьяковская галерея приобрела второй портрет Павлова, написанный осенью 1935 года.
Портрет И.П. Павлова, завершивший пятидесятилетний творческий путь художника и посланный по решению правительства на Международную выставку в Париж в 1937 году, встретил высшую оценку, которую только может встретить художественное произведение в нашей стране.
Было радостно сознавать, что молодое искусство старого мастера отвечает на глубокие запросы народа и выражает лучшие устремления его Родины, нашедшей новые пути.
К началу 1941 года уже одиннадцать портретов работы Нестерова красовались в советских залах Третьяковской галереи.
В этом году состоялось первое присуждение Государственных премий за «выдающиеся работы в области искусства и литературы», и старейший из советских живописцев М.В. Нестеров получил премию первой степени – «за портрет академика Павлова, законченный в 1935 году».
В статье «Замечательный художник» руководящий орган партии изъяснял художественный, культурный и политический смысл присуждения Нестерову премии:
«Для подавляющего большинства русских художников, доживших до Великой Октябрьской социалистической революции, советский этап их работы был периодом высокого творческого подъема, нового расцвета сил. В.Н. Бакшеев, В.К. Бялыницкий-Бируля, И.Э. Грабарь, В.Н. Мешков, К.Ф. Юон и многие другие художники, как и покойные Архипов, Касаткин, Кустодиев, Малютин, Рылов, сумели создать ряд значительных произведений, дать яркий пример новой творческой молодости. Но совсем особое, выдающееся место занимает советский период в творчестве Нестерова.
Творческая жизнь Михаила Васильевича, как известно, началась в живой связи с движением передвижников. В последующие годы, когда страна находилась под гнетом тяжелой политической реакции, Нестеров ушел в мир своеобразной романтики, главным образом и прославившей его имя. Нам чужды эти стилизованные религиозные панно Нестерова. Но и в них то и дело проглядывал реальный человек и большой художник, силою своего таланта остро схватывающий облик страдающего народа. И еще одно было непререкаемым в картинах Нестерова: пейзаж – трогательный и лирический образ родной земли, красивой, печальной и как бы чего-то ожидающей. Нестеровский пейзаж по своей своеобразной прелести – одно из самых волнующих явлений русской живописи…
Когда пришла Октябрьская революция, казалось, можно было ожидать, что Нестеров уже «отошел в историю» и останется красивой страницей прошлого русского искусства где-то рядом с замечательными сказками В. Васнецова и видениями Врубеля. Но вот один за другим начали появляться портреты Нестерова и сразу же привлекли внимание нашей общественности.
Что нового вносят нестеровские портреты в столь богатую высокими образцами портретную галерею русского искусства, в чем их отличительная особенность? Своеобразная увлеченность портретиста своею моделью – необходимая предпосылка этого жанра. Когда просматриваешь весь прекрасный ряд нестеровских портретов, лишний раз убеждаешься в этом. В свое портретирование Нестеров включает акт этической оценки, своего рода суда, положительного приговора. Продолжая великую традицию общественного, этически ответственного искусства, художник ставит себе задачу гораздо более глубокую, чем передача одной только внешней формы. Эта форма, которую он чеканит с тщательностью ювелира, все время выступает в картине как выражение внутреннего мира изображаемого лица. Нестеров раскрывает его, находя для каждого портрета наиболее выразительные движения, наиболее выразительный жест…
Вот почему портретное искусство Нестерова, глубоко национальное, глубоко общественное по своим истокам и содержанию, по праву может быть отнесено к числу классических произведений советской живописи».
В течение нескольких недель к Нестерову устремлялись телеграммы, письма и всяческие письменные и устные приветствия – приветствия эти ясно показывали, что многие сотни людей как бы соучаствовали в этом присуждении премии своему народному художнику.
На полученные приветствия и письма Михаил Васильевич, сколько было сил, отвечал письменно: его радовали эти непосредственные, иногда наивно-простодушные, иногда глубоко взволнованные отклики на его творчество, они радовали его больше, чем статьи в газетах и журналах: он всегда утверждал, что художник творит не для критиков и рецензентов, а для народа, и не их суда должен бояться, а суда народного.
В последние годы жизни Нестерову суждено было стать тем, чем он избегал быть всю жизнь: мудрым наставником молодежи на ее путях к правде в искусстве и к мужеству в мастерстве художника.
Нестеров никогда не был преподавателем живописи и никогда не хотел им быть.
Он дважды отказался, в междубурье между 1905 и 1917 годами, от предложений занять место профессора, руководителя мастерской в Академии художеств. После одного из отказов он писал А.А. Турыгину: «Я продолжаю еще считать себя недостаточной древностью и бесполезностью в мире живущих, чтобы пленяться участью Беклемишева и Киселева. У меня еще «кровь играет».
Академия тех лет художественного упадка и казенного благополучия была для Нестерова синонимом безмятежного сна, сытого покоя и чиновничьего равнодушия. Профессоров-снотворцев, патриархов казенного благополучия, бывших людей для искусства Нестеров знал очень хорошо: и этому профессорству в ватном халате он резко противопоставлял горение Перова и живую мысль Прянишникова, своих учителей-передвижников.
Это не значило, что Нестеров отрицал целиком всю академию: он видел в ней замечательного наставника художников, истинного мастера художественной педагогики П.П. Чистякова и высоко ценил его.
Но сам в себе Нестеров не чувствовал никакого призвания к этому искусству художественной педагогики, а быть ремесленником педагогики не хотел. Вот почему он решительно отказался от двукратного предложения занять кафедру в дореволюционной Академии художеств, и через много лет он не менее решительно отказался занять кафедру и в новой, уже советской, Академии художеств.
Это не означало, конечно, что Нестеров был равнодушен к судьбе молодежи, ищущей знаний в искусстве, желающей научиться мастерству в живописи. Как раз наоборот: Нестеров всегда болел судьбою этой молодежи, рвущейся к профессии живописца, и был пламенным поборником художественной школы и непрерывного совершенствования художника в его мастерстве.
В апреле 1936 года Нестеров написал тогдашнему председателю Комитета по делам искусств П.М. Керженцеву письмо, живо и глубоко поднимавшее вопрос о молодежи и ее путях к мастерству. Письмо это тогда же было обнародовано в «Советском искусстве».
Многоуважаемый Платон Михайлович.
Наш беглый разговор о делах искусства, что был во время Вашего посещения, оставил ряд затронутых, но далеко не выясненных вопросов. Мы говорили о необходимости школы, о грамотности в живописном деле, без которой немыслим прогресс в нем. Нельзя строить не только большого, но и малого, но истинного искусства, не имея хорошо поставленных школ; они должны быть обеспечены высококвалифицированными кадрами учителей, и только тогда будет польза – не только людям большого дарования, но и той неизбежной массе посредственностей, которая всегда пригодится в огромном государственном хозяйстве. Тот реализм, к которому сейчас призывают работников искусств, который был у передвижников их расцвета, должен быть подлинным, основанным на знании, на серьезном изучении природы и человека, в ней живущего, действующего. Тут нужна полная «дезинфекция» от того нагноения, извращенности «правды природы», что мы когда-то переняли от Запада и что так вредно отразилось на ряде поколений нашей, по существу, здоровой молодежи. Эта извращенность, эта надуманная «теоретичность», этот «формализм» подвинули молодежь на легкий и нездоровый путь.
Оздоровление необходимо и естественно должно идти через школу, через познание природы и жизни, через примеры в нашем искусстве, через Иванова, Брюллова (портреты), Репина, Сурикова, Серова и других, знавших цену знанию, создавших вполне доброкачественное искусство. (Я не касаюсь здесь тематики.) Художник обязан знать свое дело, быть в нем сведущим, как хороший врач, инженер, знать технику дела. Необходимо не только уметь распознать болезнь, но и излечить ее. Примеры историй академий, школ гласят, что в деле искусства обучение, овладение мастерством часто зависят не от даровитости учителя, как артиста-художника, а от особого призвания его к учительству, способности отдавать свои знания, увлекать, оплодотворять ими…
Вы спросите меня: где же выход из создавшегося положения? Как «ликвидировать безграмотность» с ее следствиями, как приблизиться к желанному расцвету нашего искусства?.. Школа без преподавателей (грамотных) немыслима, наличие их невелико, старики ушли навсегда, царивший долгие годы «формализм» не мог дать здоровых ростков ни в чем, не дал он и грамотных учителей. Конечно, «земля наша велика и обильна», талантами природа нас не обидела, но нужны время и выдержка, чтобы возместить потерянное. Тут нужна та работа, которая была проделана за эти годы нашей армией. И вот тогда, когда наша молодежь будет грамотна, когда она научится смотреть на природу и жизнь трезвым глазом исследователя, она увидит в событиях нашего времени тысячи тем, увидит их впервые, восхитится ими, и это не будет «халтурой», а будет истинным творчеством, наступит подлинное возрождение нашего искусства.
Как видите, мой 50-летний опыт в живописном искусстве не был опытом учителя: я был лишь живописцем-практиком, который по мере сил осуществлял то, что любил, чем был увлекаем… Но мой долгий опыт наблюдателя дал мне возможность убедиться в том, что нашему великому Отечеству необходимо здоровое искусство – и я верю, что оно у нас будет.
Ведь художник, как и ученый, призванный к служению своему народу, к его просвещению, должен дать ему лучшие, самые здоровые образцы своего творчества. От великих греков, Ренессанса и до наших дней, до Пушкина, Менделеева, Павлова так повелось…
Это замечательное письмо проникнуто самым живым чувством современности.
В письме Нестерова звучит искренняя надежда на живые силы советской молодежи, звучит вера в то, что будущее принадлежит в искусстве только правде, одной прекрасной правде.
Нестеров никогда никого не называл своим учеником, но он умел создать такую прекрасную атмосферу дружеского общения с молодежью, что его свободное творческое воздействие стоило гораздо больше иного школьного наставничества и учительства.
Это проявилось не на одних братьях Кориных.
Над гробом Нестерова – в Третьяковской галерее – В.С. Кеменов справедливо и достойно говорил: «Нестеров чутко ценил все настоящее, талантливое, глубокое в искусстве… С отеческой заботой следил Нестеров за ростом молодых художников. Посмотрев работы Н. Ромадина, Нестеров тепло о них отзывался: «Талант есть, только бы хватило характера». Часто с любовью Нестеров говорил о Кукрыниксах:
– Вот мне все про них говорили: барбизонцы, барбизонцы… А у них в пейзаже настоящая русская нота есть. У всех трех. И карикатуры их я понимаю. Это – настоящее…
Внимательно, подолгу рассматривал Нестеров рисунки Д.А. Шмаринова, помогая своими советами, одобрением, переходя от частных замечаний к общим вопросам искусства…
Нестеров регулярно посещал выставки молодых художников, вдумчиво всматривался в произведения малоизвестных авторов, радуясь каждому ростку таланта, даже незрелого».
Вот письмо к Нестерову из далекой Лапландии, из «Заповедника» в Хибинских горах. Старому мастеру пишет начинающая художница В.Л. Савранская: «Помните, была у вас в начале марта, – а письмо помечено 1 декабря 1939 года, – показывала вам скверные масляные этюды и альбом фантастических картинок? Вы были такой внимательный и добрый, сказали мне так много хорошего и полезного и даже разрешили мне прийти в ноябре. А я не пришла… В октябре мы приехали сюда… живем в лапландском заповеднике, на берегу большого озера Чуна, в лесу у подошвы горы. Тишина, глушь, безлюдье…
Рисую, но сейчас мало света, а при керосиновых лампах очень худо и глаза болят. Надо ждать весны света, уже в марте будет светло. Акварелью на улице уже нельзя рисовать, вода замерзает на бумаге, а маслом не хочу. Вы сказали, что оно у меня очень скверное, пробую пастелью, но не знаю, как вы к ней относитесь… Я очень счастлива…
Я чужая вам, это правда, но вы мне не чужой, – очень близки и дороги моей душе ваши картины, а ведь они – это вы. Вы не любите, когда о них говорят, когда восхищаются ими. Это верно, о них нельзя говорить словами, как нельзя рассказать, что наполняет тебя, когда уходишь от них.
Ах, если б вы могли увидеть мое царство – всю эту бесконечную красоту, такую скромную и сдержанную, услышать эту тишину, как все это вам бы понравилось.
Разрешите прийти к вам еще раз: я приеду в январе или феврале. Немного у меня есть что показать, но ведь важно не количество. Очень помогают мне ваши указания».
Не нужно никаких пояснений к этому письму из дальней северной глуши к знаменитому художнику. За тысячу верст он вносил «весну света» в жизнь и труд молодой художницы, жившей за Полярным кругом.
Был ли Нестеров невзыскателен, уступчив, так сказать, ласкателен к молодости только потому, что она молодость?
Если всегда был Нестеров строг ко всем, кто занимается искусством, и к себе первому, то к молодежи он был особенно взыскателен. По опыту жизни он знал, что в двери искусства ломятся толпой, а в действительности правом на вход обладают лишь немногие. Он считал губительным всякую лесть молодежи, всякое перехваливание ее сил и возможностей; своими советами он желал помочь молодым художникам в самопознании – прежде всего в ответе на основной вопрос: есть ли основание отдавать свои силы, посвящать свою жизнь искусству? – или этих оснований нет, и лучше, честнее, полезнее для Родины отдать свои силы совсем другому делу?
Мне приходилось быть свидетелем довольно суровых сцен, когда, всмотревшись, вдумавшись в показанные работы начинающего художника, Михаил Васильевич так прямо и говорил: «Нет, на художество у вас нет сил». Правда, он обычно добавлял при этом: «Зайдите ко мне месяца через три, поработайте, покажите еще что-нибудь, посмотрю еще», – но редко-редко эта добавка изменяла суть дела. В иных случаях молодого художника, принесшего ему масляный холст, он посылал в Музей изящных искусств порисовать с гипсов и на обиженное противление уже беспощадно отвечал: «Вам надо начать все сначала. Какие же краски без рисунка? А вы вовсе не умеете держать карандаш в руке».
Из светлой истории отношений Нестерова к молодым художникам я остановлюсь только еще на нескольких страницах, быть может, самых светлых.
Это его отношения к слепой ваятельнице Лине Михайловне По.
Эти отношения были для него самого так внутренне значительны, что он посвятил им небольшой очерк.
Первая же встреча с Линой Михайловной По произвела на Нестерова сильное впечатление, и он пригласил слепую ваятельницу посетить его.
«Она приехала такая беспомощная, хрупкая. Говорили, конечно, об искусстве, об ее искусстве – скульптуре… Говоря о своих темах, персонажах, Лина Михайловна говорила, как о живых, ей близких, родных людях. Эти люди жили одной жизнью с ней вместе, радовались и огорчались, она им сочувствовала, говорила их словами, мыслила их мыслями – словом, перевоплощалась в них…
Так началось наше знакомство, которому суждено было развиться и так часто радовать меня.
Бывая у Лины Михайловны, я убеждался в ее несомненном даровании, в ее художественной природе, помогавшей ей раньше, до болезни, до гриппа, до последовавшей за ним слепоты, чаровать своими танцами милых восхищенных киевлян. Спасибо тому врачу в больнице, где лежала Лина Михайловна, только что пережив страшную утрату, потерю зрения: врач, видя горестное состояние больной, наблюдал за нею – над тем, как она мяла своим тонкими руками хлеб, бессознательно облекая его в формы, – и догадался предложить ей заняться лепкой. Появился вместо хлебного мякиша пластилин, Лина М. незаметно пристрастилась к нему, и стали появляться подобия человеческих образов…
И так день за днем, незаметно Лина По стала художником, скульптором.
Дарование Лины По – особое дарование «внутреннего видения»… Рядом с ним идет страстное искание внешних форм, законов искусства; она понимает их значение, красоту. Она изучает их на себе, на случайных посетителях, на классических формах античной скульптуры, изучает путем осязания своими нежными, чувствительными пальцами. Осязание как внутреннее видение – ее новое зрение. Работает Л.М., несмотря на все трудности, страстно, порывами… Работы ее делаются все совершеннее.
Я недоумеваю – как и те выдающиеся скульпторы наши, с которыми мне приходилось говорить об искусстве Лины По, – перед тем необъяснимым фактом – как путем лишь одного осязания может слепой передавать не формы, даже не сходство, где на помощь можно призвать опыт, знание, наконец, прекрасную память, а самое тонкое, неожиданное выражение, как говорили в старину – «экспрессию». Вот пред этой-то экспрессией невольно поражаешься, становишься в тупик. Спрашиваешь, где предел человеческой способности?»
Нестеров как друг, советчик, мастер вошел в темные «труды и дни» слепой ваятельницы и внес в ее подвижническую жизнь свет сердечного участия и творческой помощи.
27 марта 1941 года Лина Михайловна По писала Нестерову из Киева:
«Последнее время меня часто тяготит какая-то беспричинная тревога и грусть. В такие дни я молчалива и ухожу вся в себя, а в голову лезут страшные, нехорошие мысли, и бороться с ними мне не под силу.
И вот, совсем неожиданно, пришло ваше чудесное, замечательное письмо. Боже мой! Что это была за радость! Если б только вы могли видеть, что сталось со мной, когда мне читали его. Когда я узнала о том, что вы довольны моей работой «Девушка расчесывает свои волосы»!
Все плохое мгновенно рассеялось. Страшно захотелось жить, работать, работать и учиться.
Искренне признаюсь вам: это были минуты такого счастья, какое я испытывала впервые в своей жизни.
И как я вам благодарна за них! Вы и представить себе не можете, что значит для меня каждая ваша похвала, как драгоценно каждое ваше указание, каждое слово.
Я храню их в своем сердце, как святыню. Они окрыляют меня и возбуждают во мне ураган новых чувств и замыслов, а главное, неудержимое желание познавать и учиться.
Обещаю вам, мой единственный дорогой учитель, работать до тех пор над «ручками», пока вы не останетесь ими довольны…»
Вряд ли в истории русской живописи, а быть может, и мирового искусства найдется другой подобный пример, когда помощь старого мастера молодому была так насущно необходима, так жизненно-спасительна и так человечески прекрасна, как та, какую Нестеров оказал ваятельнице Лине По.
Нестеров был рад каждой творческой победе в рядах советской молодежи, но, конечно, ближе всего ему была молодежь, работающая кистью и карандашом.
К ней обратился он в 1941 году через журнал «Юный художник» с замечательным письмом:
К молодежи
Обращаюсь к вам, наша советская молодежь, к тем из вас, кто учится искусству, кто хочет стать художником-живописцем, кто желает быть полезным Родине.
Обращаюсь не как учитель: им я не был, а как старый, немало поработавший старший собрат ваш.
Крепко желаю вам, чтобы вы познали природу и ее украшение – человека. Среди вас есть немало людей способных, даровитых, к ним особо обращаюсь я. Учиться можно не только в школах, академиях, у опытных людей, можно и должно учиться всюду и везде, в любой час.
Ваше внимание, наблюдательность должны постоянно бодрствовать, быть готовыми к восприятию ярких происходящих вокруг вас явлений жизни. Природу и человека надо любить, как «мать родную», надо полюбить со всеми их особенностями, разнообразием, индивидуальностью. Все живет и дышит, и это дыхание и нужно уметь слышать, понимать. Искусство не терпит «фраз», неосмысленных слов, оно естественно, просто. Имейте терпение, мужество, развивайте в себе волю к познанию живущего, не забывайте «подсобных» средств (анатомии и пр.).
Не мешкайте привыкать к композиции картин, к их построению. Учитесь у художников Возрождения их красноречивой лаконичности и снова обращайтесь к природе, к совершающейся вокруг вас жизни, – так учат вас великие учителя от Микеланджело до Иванова, Сурикова…
Не злоупотребляйте «громкими словами», не обесценивайте глубокий, подлинный смысл их.
Минуты «вдохновения» редки, фиксируйте их тотчас, в зародыше, в набросках, эскизах, чтобы не забыть главное, драгоценное…
Всякую тему, как бы она ни была хороша, губит бездушное, холодное исполнение. Такое искусство недолговечно. От него со школьной скамьи до последних дней вашей жизни бережно охраняйте себя.
1941, февраль.
Михаил Нестеров
Нестеров вложил в это короткое письмо к советской художественной молодежи свой богатый творческий опыт и еще более драгоценное свое свойство – чувство глубокой ответственности художника перед искусством и перед Родиной.
Всю жизнь отдавший русскому искусству, всю жизнь болевший скорбями своего народа и радовавшийся его радостями, 79-летний художник переживал тревоги и испытания войны с необычайным волнением.
Мужество этого старого и больного человека было поучительно для молодых и сильных. Он так верил в несомненную победу, так убежден был в том, что Москва останется твердыней, недоступной врагу, что не допускал мысли о своей эвакуации из Москвы.
Он упорно говорил всем склонявшим его к отъезду:
– Я начал портрет Щусева в Москве и в Москве его окончу.
Ему казалось нелепым, недостойным его лет и его звания русского художника прерывать начатую работу только из-за того, что какой-то Гитлер задумал стать подражателем Наполеона и захватить Москву.
«Этому не бывать», – сказал в душе своей старейший русский художник и, несмотря на все налеты немецких воздушных разбойников, продолжал свою работу над портретом.
Жить ему было трудно, как всем, кто жил в Москве осень и зиму первого года войны, годы и болезни усиливали для него эту трудность, но никогда не слышалось от него ни слова ропота, малодушия или недоверия к силам сражающейся Родины.
Наоборот, его всегдашняя вера в силы родного народа, в его необоримую крепость возросла в эти суровые дни.
Он любовался на рост этой силы во многих и во многом, что его окружало.
Когда под вой сирен и залпы зениток он кончил портрет Щусева, он приехал отдохнуть в Болшево.
Днем Нестеров глотал газетные, известия о ходе военных действий, и, когда известия эти становились все тревожнее и тревожнее, а немцы все ближе и ближе продвигались к Москве, он с полным спокойствием заявлял:
– Немцу все равно в Москве не бывать.
С неба сыпались осколки зенитных снарядов, а легко могло посыпаться и нечто гораздо худшее. Михаил Васильевич рвался наружу. Он с живейшим участием следил за тем, как световые щупальца прожекторов ищут летящего врага, и однажды ему удалось видеть действительно необычайную по яркости картину: немецкий самолет был защемлен между двух ослепительных щупалец, был обстрелян зенитками, вспыхнул, как комета, и низринулся в темноту, оставляя огненный след в воздухе.
Михаил Васильевич был в восторге. Он питал особое восхищение к деятельности наших летчиков, и у него для них было одно слово: «Молодцы! Что уж там говорить – молодцы!»
В бомбоубежище Михаил Васильевич шел с неохотою, почти по принуждению или в виде руководящего примера для семейных. У него не было никакой тревоги за себя. Не без мнительности относившийся ко многим своим старческим недугам, иной раз преувеличивавший их опасность, в действительной опасности суровых будней он обнаруживал бодрящее спокойствие и твердую высоту духа.
Нестеров почти никогда не выступал в печати по вопросам политического дня. Единственным его выступлением подобного рода было письмо по поводу советского завоевания Северного полюса.
Но в суровые, тревожные дни, которые переживала Москва в середине октября 1941 года, когда гитлеровцы уже определили «календарные сроки» своего торжества над сердцем России, Нестеров нарушил свое обычное молчание в пламенных строках:
МОСКВА
- Москва… как много в этом звуке
- Для сердца русского слилось!
- Как много в нем отозвалось!
Пушкин, Евгений Онегин
В дивных стихах поэта вложено все, что могло бы почувствовать, пережить самое чуткое любящее сердце в дни радостей, равно как и печалей Родной Земли.
В грозные часы истории Москва, как символ, как народная хоругвь, собирала вокруг себя лучших сынов своих.
Более пятисот лет тому назад в ее пределах явился восторженный отрок, затем юноша, а позднее мудрый старец. Его знала земля московская от князя Дмитрия Донского до последнего крестьянина, верила ему, – то был Сергий Радонежский.
Куликовское побоище решило судьбу Москвы, а с ней и народа московского…
…Наступило лихолетье. Явились Прокопий Ляпунов, князь Пожарский, гражданин Минин. Москва вновь стала знаменем народным.
Шли годы. Лицо земли нашей менялось, проходили события. Появились новые люди, явились новые герои.
Наступил тяжелый, но славный 12-й год, Кутузов стал во главе наших войск. Мудрый старик своим опытным оком предвидел многое, и многое из предвиденного им сбылось. Завоеватель достиг Москвы, но… не достиг ее Сердца. А Сердце Москвы великая тайна есть, и познать эту тайну не было дано завоевателю: он, гордый, упоенный славой, подвигами, поразивший Европу, нашел в Сердце Москвы гибель свою…
Минул и роковой 12-й год. Москва продолжала жить своею особою жизнью «до времени», до часу.
Пришел и этот час. Пришли дни первой Революции, а через 10 лет и второй. Лицо земли нашей – Земли Московской – изменилось до основания, а Москва и до сего дня осталась символом «победы и одоления» над врагом.
Явились новые герои, им счета нет: ведь воюет вся земля в собирательном слове «Москва».
Она и только она, зримая или незримая, приготовит могилу врагу.
Дух Москвы есть дух всего нашего народа. Этого не надо забывать никому, ни явному, ни тайному врагам нашим.
История Москвы не кончена, перевернута лишь страница тысячелетней книги, и только.
Впереди грезятся мне события, и они будут светозарными, победными. Да будет так!
Михаил Нестеров
Эти высокопатриотические строки, как ничто другое, помогают познать и понять, что вкладывал Нестеров в свое искусство, в свое излюбленное «Сказание о Сергии Радонежском», – не мистическое умиление безмолвным отшельником, а горячую любовь-благодарность к верному сыну русского народа, благословлявшего его на борьбу с лютым врагом Руси.
Нестеров отдал свое обращение к Москве в «Советское искусство», и оно появилось в номере от 16 октября. Статья Нестерова была передана по радио.
В опустевших улицах Москвы, приготовившихся к бою с подступающим врагом, на ее площадях, по которым проходили войска, двигались танки и мчались грузовики с военными грузами, слово старого художника о непобедимости Москвы, сердца народного, звучало с особой силой и великой уверчивостью.
7 декабря – в самый разгар решающих боев под Москвой – он писал мне:
«Живу я по-старому, надеждой, что мы скоро прогоним врага и супостата в его логово. Довольно он у нас набедокурил, пора и честь знать».
Надежда Нестерова, что «мы скоро прогоним врага и супостата», полностью оправдалась.
Нестеров был счастлив тем, что от Москвы началось освобождение Родины от полчищ Гитлера и Москва, как всегда в русской истории, высоко подняла знамя освобождения. До последнего своего дыхания Нестеров радовался каждой вести о военных подвигах во имя освобождения и поддерживал и приветствовал всех, кто вносил свой труд в дело освобождения.
В 1942 году Кукрыниксы работали над совершенно новой для них по жанру, высокоответственной по теме, большой картиной «Таня» (Зоя Космодемьянская). Картина должна была, по замыслу художников, запечатлеть в простых и величавых чертах героический подвиг девушки-комсомолки: возбуждая чувство любви к девушке-героине и народной гордости ее подвигом, картина должна была вместе с тем быть призывом к борьбе с палачами русской девушки-подростка.
Труднейшая задача!
В ее решении много помог художникам Нестеров. Он со строгим вниманием вникал в работу Кукрыниксов над картиной, тщательно, зорко знакомился с их этюдами к картине, откровенно обсуждал их достоинства и недостатки и в конце концов помог художникам выбрать лучший из эскизов, по которому и была написана картина – один из лучших, наиболее совершенных откликов советской живописи на Отечественную войну.
Многим приходилось в годы войны слышать от Нестерова сожаление о том, что он не участвует в общем труде.
Резкое ухудшение здоровья, тяжкие условия московской зимы 1941/42 года, холод в квартире, частое отсутствие света не позволяли семидесятидевятилетнему художнику работать кистью. В феврале 1942 года дом, где жил Михаил Васильевич, оказался без отопления. При общем резком ухудшении в состоянии его здоровья это обстоятельство заставило Е.П. Разумову перевести Михаила Васильевича в клинику Института рентгенологии и радиологии на Солянке, где он пробыл до 1 мая в возможно лучших для того времени условиях тепла, света, питания и медицинского ухода.
Всем, кто его навещал там, он неизменно повторял: «Да, живу, ничего не делаю. Все работают, а я вот бездельничаю. Лодырь стал».
Это была неправда.
Из писем и изустных заявлений многих людей тыла и фронта он не мог не знать, как много делал он в эти суровые дни своим словом, мыслью, участием и как безмерно много делал своим искусством, которое, свидетельствуя о высоте духа русского народа, внушало веру в его светлую будущность.
Но и в прямом, рабочем смысле слова Нестеров продолжал работать, несмотря на усилившуюся слабость и болезненность.
В Институте рентгенологии он написал свои прекрасные воспоминания о Н.А. Ярошенко, идейном вожде левого передвижничества. Я передал этот прекрасный литературный портрет в журнал «Октябрь», и он появился там в третьей книжке за 1942 год.
Это очень порадовало и подбодрило Михаила Васильевича.
Но самой большой его радостью в тяжелую зиму 1941/42 года, радостью, которую разделяли с ним многие, был выход в свет его книги «Давние дни».
Было что-то бодрое, радостное, неожиданное в том, что эта книга появилась в опустелой Москве, в самом начале 1942 года.
Книга изумила всех не только своим выходом, но и своим содержанием: знаменитый художник оказался превосходным писателем.
Литературная деятельность Нестерова началась в 1900 году небольшой статьей «Памяти И.И. Левитана» в «Мире искусства». Это была дань дружбе с безвременно умершим художником. Через шестнадцать лет Нестеров опять выступил в печати (в «Русских ведомостях»), и опять это была дань памяти умерших – Сурикова и Прахова.
В советскую эпоху к печати Нестеров пришел тем же путем.
Из памяти сердца он извлекал образы дорогих ему людей: Перова, Крамского, Третьякова – тех, с кого не смел, не успел или еще не умел написать в свое время портреты красками, и писал теперь их литературные портреты.
Написав такой портрет пером, он отдавал его на суд самых близких людей. Я был среди них «писатель», и потому в большинстве случаев мне одному из первых приходилось быть на уединенных вернисажах «литературных портретов» Нестерова. Художник требовал замечаний прямых, открытых, строгих.
Как правило, Михаил Васильевич был строже к своим «литературным портретам», чем его слушатели.
Но когда «литературный портрет» был закончен, он не терпел в нем никаких подмалевок и переписок, сделанных чужой рукою. На сокращение текста Нестеров шел, но никаких изменений, подправок, а тем более чужих вставок он решительно не допускал.
Этим он и в печати сохранил глубокое своеобразие своих «литературных портретов»: его творческий почерк в них так же смел, жив, непосредствен, ни на кого не похож, как и в его живописных работах.
Когда В.С. Кеменовым было предложено Нестерову от лица Третьяковской галереи издать книгу его очерков о прошлом, он и в подборе материала для книги был так же независим, тверд и прям. Он долго совещался со мною о порядке расположения материала, попросил составить к нему примечания, вести корректуру книги.
Когда дело дошло до названия книги, он сказал мне что-то вроде: «Старая голова не работает. Придумайте, как назвать».
Я набросал ему семнадцать вариантов названия книги.
После долгих размышлений он решительно остановился на тех заглавиях, в которые входили слова: «Дальние – Дни, годы, встречи», – и, вслушиваясь в эти близкие, но вовсе не одинаковые по смыслу и звучанию слова: «дальние, далекие, давние», – решительно выбрал: «Давние дни».
Оно и стало названием книги.
Корректура книги прошла еще в 1940 году; наступила война; надежда на издание книги была потеряна, – тем большей радостью для Нестерова был ее выход.
Критики и читатели склонны считать «Давние дни» воспоминаниями и мемуарами художника. Это неверно, сам Нестеров качал на это головой: «Какие же это мемуары? Мемуары ведут день за днем, год за годом, описывая всю жизнь. У меня ничего этого нет».
Он прав: его книга совсем не мемуары и не записки. Художник вводит нас во вторую портретную галерею, созданную им.
Здесь есть писанные пером портреты тех, кого Нестеров раньше писал кистью: Толстого, Горького, Васнецова, Павлова, но большинство портретов здесь – это портреты тех, кого Нестеров писал только пером. Среди них мы встречаем имена крупнейших русских художников: Перова, Крамского, Верещагина, Ге, Сурикова, Левитана, К. Коровина – и друга художников Павла Михайловича Третьякова. Другую группу портретов составляют портреты актеров: Заньковецкой, Стрепетовой, Артема – любимого актера Чехова – и др.
Литературного автопортрета самого Нестерова здесь нет, но в каждом портрете этой галереи чувствуется присутствие самого художника, с его неуемным темпераментом, с его постоянными «противочувствиями» (слово Пушкина), с его резкой своеобычностью подхода к людям и явлениям. В некоторых портретах Нестерова нет полноты характеристики – и он сознательно уклонился от нее. Он, например, не хочет писать портрет с Ге: есть беглая зарисовка, есть маленький, почти мгновенный эскиз с этого большого художника, но тот, кто захотел бы написать большой портрет с Ге, уже не сможет обойтись без нестеровской зарисовки – с такой жуткой меткостью схвачены на ней черты толстовствующего учительства, какими отмечен был Ге последнего периода его жизни и творчества.
Но там, где Нестеров подходил к своей натуре с глубоким уважением, с преданной признательностью, там его портреты поражают своею полнотою. У него Перов, Крамской, Третьяков выдержаны в спокойных, мягких и вместе мужественных тонах. Перов был художником суровой правды – таким он смотрит и с портрета Нестерова. Нестеров гордится той глубиной и силой требований, которые Перов предъявлял к таланту и художественной совести своей и своих учеников.
С благодарным уважением, с теплой и строгой простотой написан портрет Третьякова.
Говоря о Третьякове, Нестеров особо выделял одну сторону его деятельности.
– Вы, писатели, – говаривал он мне, – должны быть особенно благодарны Павлу Михайловичу: не будь его, у вас не было бы портретов Достоевского, Островского, Л. Толстого – и скольких еще! Достоевский был бедный человек, а Перов был знаменитый художник. Достоевскому и в голову бы не пришло «заказать Перову» свой портрет. Где у него были деньги на портрет? Третьяков сам послал к нему Перова, сам понял, что нельзя оставить Россию без портрета Достоевского!.. Так было и с Островским, с Мельниковым-Печерским, с Далем. Ко всем им Павел Михайлович посылал Перова! А к Льву Толстому послал Крамского! Заставил написать Толстого в лучшую его пору, когда «Анну Каренину» писал… Третьяков не только собирал картины, он создал русскому народу целую галерею портретов его лучших людей.
Нестеров не хотел умереть, не оставив сам портрета Третьякова.
С большой силой, с подлинной страстностью написан Нестеровым портрет Сурикова. Нестеров глубоко любил этот «торжественный, потрясающий душу талант. Суриков поведал людям страшные были прошлого, показал героев минувшего…». И сам Нестеров в своем портрете Сурикова рисует автора «Ермака» одним из тех мятежных, могучих людей, какими были его герои. У Нестерова к Сурикову такой же подход, как и к его героям: он и любуется мятежной смелостью их порывов, и страшится их загадочной для него ярости.
Совсем по-другому написан портрет Левитана. Тут Нестеров – тонкий лирик, искренний поэт, пишущий элегию о рано погибшем поэте русской природы. Краски Нестерова становятся почти прозрачными, его рисунок приобретает доверчивую нежность, когда он пишет своего «верного товарища-друга».
В предисловии своем к «Давним дням» Нестеров пишет: «В портретах моих, написанных в последние годы, влекли меня к себе те люди, путь которых был отражением мыслей, чувств, деяний их».
Это справедливо по отношению и к тем портретам Нестерова, которые написаны кистью, и к тем, что писаны пером. Одна портретная галерея дополняет, поясняет, углубляет другую, и оба вместе составляют прекрасное достояние советской современности.
Книга Нестерова имела огромный успех. При первом слухе о ней в Третьяковскую галерею обращались сотни лиц из Москвы и провинции с просьбой записать их в число первых получателей книги.
Оказалось, к удивлению Михаила Васильевича, что книгу его давно ждали сотни людей по всей стране, уже зачитавшиеся с половины 1930-х годов его очерками в журналах и газетах.
О том, как читалась книга Нестерова в его родном городе Уфе, писала художнику Лина По.[37]
«В вашей чудесной книге «Давние дни» всего только на двух-трех страничках проходит большая, трепетная жизнь человека, о которой никогда уже нельзя забыть. Так тепло, так правдиво, сочными, сильными мазками дан образ каждого. Такой галереей портретов поистине может гордиться художественная литература. Сейчас книжку перечитывают мне во второй раз.
Художники Уфы узнали, что у меня есть ваша книжка, собираются по вечерам слушать ее.
Однажды вечером жюри выставки «За Родину» просматривало мои работы. Уходя, кто-то предложил остаться на часок и почитать некоторые главы из вашей книги. Предложение приняли с восторгом…
Все устроились поуютнее и стали слушать. Рассказ окончен. Несколько секунд полной тишины.
И вдруг заговорили все разом. Восторгались, восхищались, перебивая друг друга…
Кончили чтение поздно. Разошлись сияющие, обновленные, в приподнятом настроении».
Вскоре Союз советских писателей избрал «молодого» писателя М. В. Нестерова в число своих членов: книга «Давние дни» давала ему все права войти почетным соучастником в круг советских писателей.
Можно было подумать, что война ослабит связь художника с теми, кто дорожил его искусством и учился у его мастерства: «Когда говорят пушки, молчат музы» и безмолвствуют не только художники, но и друзья их муз.
С Нестеровым было не так. Никакие пушки не помешали говорить его музе, и никакие преграды войны не воспрепятствовали беседе с ним чуткой советской молодежи.
Он был поражен, взволнован до слез теми письмами, которые получал с фронта и с тыла: они – так мне казалось тогда, так кажется и теперь – впервые раскрыли ему глаза на ту большую, все растущую любовь к его искусству и к нему самому, которая жила в советском народе и прежде всего в молодежи.
Еще шли бои под Москвой, когда он получил письмо с фронта, помеченное 11 декабря (день предельного боевого накала под Москвой), от неизвестного ему И. Васильева:
«Простите мою дерзость. Мы с вами не знакомы, но это не останавливает меня перед тем, чтобы написать вам. А писать я должен.
До войны, будучи студентом Художественного училища в Ленинграде, у меня не раз возникало это желание, но боязнь показаться дерзким всегда останавливала на последнем шагу. Сегодня же я, наконец, убедил себя в том, что ничего дерзкого в письме быть не может, даже если адресуется оно незнакомому человеку.
То есть как незнакомому?! Я-то вас знаю, и еще как знаю! Сколько часов мы с товарищами простаивали перед вашими холстами в Русском музее… Сколько мыслей проносилось в голове, и с какой чистой душой, с какими твердыми убеждениями шли мы в свои классы, принимались за рисунки и этюды! Сколько часов выстояно нами перед портретом вашей дочери, перед «Сергием» и «Вечерним звоном»! Есть в музеях вещи, о которых часто споришь. Но есть несколько мастеров, перед которыми преклоняются. И среди двух имен, особенно часто произносимых, – Серов и Врубель – так же часто стоит и ваше имя: Нестеров.
Сегодня у меня праздник, хотя наше время и не располагает праздниками. Я встретил друга, с которым вместе учился, с которым не виделся вот уже шесть месяцев… И загорелась беседа, всколыхнувшая в душе все самое дорогое. И опять повторялись Иванов и Суриков, опять говорилось о Серове и Врубеле. Из красноармейских мешков извлечены были небольшие книжечки их писем. Но почему же нет у нас ничего о третьем дорогом имени, о Нестерове? Михаил Васильевич, почему? Если бы вы видели, с каким удовольствием рассматриваются репродукции с вас, в простых открытках, которых, кстати, тоже немного… Вы в долгу перед нами. Погаснет война, мы будем снова учиться. А вы, так много видевший, знающий и испытавший, вы до сих пор не дали нам ничего о себе, лишь, как загадку, показав свои полотна. Михаил Васильевич, время не убило мечты о великом прошлом, а вы его видели, знали, поняли. Мы ждем, наш дорогой учитель, вашего доброго слова, оно нужно нам, оно необходимо».
Это письмо из окопов потрясло Михаила Васильевича, и мне кажется, именно подобные письма были толчком, заставившим его в эти тяжелые месяцы войны вновь потянуться к перу, чтобы попытаться начать свою «Автобиографию».
Вот другое подобное же письмо также от художника, Аркадия Пластова, находившегося в армии (от 14 января 1942 г.); с волнением читал в нем Михаил Васильевич такие строки:
«Живая, непосредственная беседа – дело теперь неосуществимое… Нас, желающих быть в общении с Вами, бесконечно много, а Вы один, и расхищать Ваше время и силы, я не думаю, у кого-нибудь хватит совести. Ну, вот и остается третье, на что Вы, наверное, улыбнетесь добродушно и скажете: «Ну, ну, валяйте, что с вами сделаешь!» Это вот что: мне хочется увидеть Вас, чем-нибудь услужить, порадовать, обнять, крепко-крепко поцеловать душевно, со всей любовью, на какую способно мое сердце, принять от Вас ласковое слово на творчество, на труд, на правду жизни, как это было весной 41 г., и через то почувствовать себя причастным чему-то невыразимо светлому, бесконечно хорошему, войти в радость прекрасного и вечного… Я теперь лишен возможности что-либо знать о Вас, и до какого времени? Это мне страшно, не знать о Вас, и если Вам можно и Вы меня пожалеете – черкните одну строчечку: жив, здоров…»
Эти и подобные им письма, полученные Нестеровым в дни войны, в самый тревожный ее период, свидетельствовали, что у художника создалась тесная, глубокая связь с родной страной и с ее молодым поколением.
Это с полной очевидностью обнаружилось в день 80-летия Михаила Васильевича Нестерова.
На этот раз он не пытался помешать, как делал всегда, не «юбилею» (слово это он всегда произносил в кавычках), а открытому выражению любви к нему, прямому признанию заслуг художника перед искусством.
1 мая он переехал домой из Института рентгенологии, но и дома он должен был по состоянию здоровья выдерживать строгий лечебный режим. Ему приходилось много лежать. «За эту зиму я постарел на десять лет», – говорил и писал он мне.
Но ему было радостно все, что пришлось пережить в связи с его 80-летием.
30 мая в Центральном Доме работников искусств СССР состоялось торжественное заседание Комитета по делам искусств СССР и Оргкомитета Союза художников, посвященное Михаилу Васильевичу Нестерову.
На заседании собралась вся тогдашняя художественная Москва.
Торжественное заседание открыл председатель Всесоюзного комитета по делам искусств М.Б. Храпченко яркими, прочувствованными словами, в которых сжато, но четко обрисовал значение Нестерова для русского искусства, отвел ему высокое почетное место – старейшего и славнейшего мастера – в рядах советских художников.
Доклад о жизни и творчестве М.В. Нестерова и о его значении для советского искусства был поручен Комитетом по делам искусств пишущему эти строки. Доклад этот издан был в несколько расширенном виде издательством «Искусство» под названием «Михаил Васильевич Нестеров. Очерк».
В докладе этом я старался обрисовать творческий путь Нестерова фактами его жизни и словами, почерпнутыми из его записок и писем.
Михаил Васильевич не мог по болезни присутствовать на заседании, но с нетерпением ждал вестей о нем. Он не мог заснуть до возвращения с заседания Е.П. Нестеровой и с волнением слушал ее рассказ о том, сколько любви и уважения к нему и его делу было проявлено всеми на торжественном заседании.
1 июня Михаил Васильевич лежал в постели, и до вечера его старались ничем не волновать. Две его комнаты утопали в цветах.
Когда вечером соседняя комната наполнилась до тесноты всеми, кто хотел приветствовать Нестерова в день его 80-летия, – близкими, друзьями, знакомыми и вовсе незнакомыми, – Михаил Васильевич вышел к гостям бледный, взволнованный и явно пораженный неожиданным множеством людей, пожелавших приветствовать его.
Он стоя хотел выслушать приветственный адрес от Комитета но делам искусств, но его заботливо усадили на диван за стол. Далее последовало чтение других адресов, немногих из множества приветствий, полученных Нестеровым.
От лица всех московских художников М.В. Нестеров получил единодушное, горячее заверение: «В грозные дни Отечественной войны ваш яркий талант и искусство, полное веры в силу, мощь родного парода, особенно нужно и ценно нашей Родине».
Утром 2 июня М.В. Нестеров прочел в «Правде» Указ Президиума Верховного Совета СССР:
«За выдающиеся заслуги в области искусства, в связи с 80-летием со дня его рождения наградить академика живописи, художника Нестерова Михаила Васильевича орденом Трудового Красного Знамени».
Другой Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, подписанный так же, как и первый, 1 июня, присваивал М.В. Нестерову звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Оба Указа были тогда же переданы по радио.
Высокая награда правительства была лучшим отзывом на 80-летие жизни, на 63-летие художественной деятельности Нестерова.
Много сходных по содержанию, близких по мысли, подобных по чувствам писем и приветствий получил Нестеров в июне – июле 1942 года, но одно письмо заслуживает того, чтобы привести его:
«Действующая армия. 4 июня 1942 г.
Позвольте мне, многоуважаемый и дорогой сердцу каждого русского человека Михаил Васильевич, поздравить вас с вашим новолетием и пожелать вам долгие годы жизни и творчества во славу дорогой и любимой нашей Родины…
На рубежах обороны великого русского города, на холмах, о которые разбился вражеский шквал, в день вашего юбилея вспоминали мы, бойцы и командиры, бывшие работники искусства, вас – великого художника нашей земли. И хотелось дать знать вам, что ни грохот разрывающихся снарядов, ни пулеметная трескотня, ни тысячи смертей, свидетелями которых мы были, – словом, все, что сопутствует войне, не лишило нас способности видеть и любить прекрасное.
Больше того, тяга к нему сейчас сильнее, чем когда-либо. И среди прекрасного правдивого искусства нашего народа ярко вставали в памяти чудесные лирические повествования – картины ваши – свидетельство живой и горячей любви к нашей великой Родине.
В солнечно-ярком грядущем, в которое все мы горячо верим и ради которого сейчас боремся, ваше творчество будет одним из сильнейших средств воспитания любви к Родине.
Воспитать это чувство в наших детях, в нашем юношестве – почетная задача педагогов. Но любовь к Родине – это не абстрактное чувство, – это любовь конкретная, живая любовь к родной природе (как бы она ни была, казалось, бедна), родной истории, нашим великим предкам и современникам. И всему этому так чудесно учить на вашем творчестве.
…Счастье же нам выпало какое – жить с вами в одну эпоху и еще и еще ждать ваших новых творений, верю, еще более великих, ибо зоркий глаз ваш увидит в нашей страшной и прекрасной борьбе чудесных людей и великие дела. Рука же ваша воздаст им славу их.
Будьте же здоровы долгие годы, великий наш художник, учитель правды и любви. Радуйте всех нас своим благополучием и бодростью духа. Творите на радость и счастье всех, любящих нашу Родину.
Ваш А. Холодилин».
Это безвестное письмо из окопов, как бы вобравшее в себя главную мысль всех полученных Нестеровым приветствий, призывало его к бодрости и труду, преодолевающим старость и недуг.
Начиналось новое, девятое десятилетие его жизни.
Тот поток любви и признаний, который лился на него в день его 80-летия, казалось, должен оживить и укрепить его.
В нем вспыхивали горячие огоньки бодрости и радости.
Но им не суждено было разгореться.
Ему оставалось жить меньше чем полгода.
«Тяжело умирать, легко умереть», – это не раз слышал я от Михаила Васильевича в последние годы его жизни.
И тут же прибавлял он обычно: «Заживаться нам, старикам, не следует». Он боялся «жизни во что бы то ни стало», превращавшейся в житейское прозябание зажившегося человека, растерявшего здоровье, бодрость, дарование, разумение, все, кроме остатков жизненного дыхания.
Он внимательно прислушивался к себе, проверял себя: как он живет? Только существователем или настоящим человеком, с живым сердцем, бодрою мыслию, творческой волей?
Ему нелегко было признаваться и себе и близким в усталости, в упадке сил, в «одолении», как он выражался, старостью.
Уезжая из Болшева в последний раз, он говорил:
– Умирать пора, а вот с природой жалко расставаться. – Он оглянул широкий окоем луговины, реки, леса и тихо произнес: – Умирать буду – и все природу вспоминать. Не расставался бы с ней!
Осенью наступило обострение застарелой болезни, возникла необходимость операции. 8 октября был созван консилиум профессоров С.С. Юдина и А.П. Фрумкина. Решено было срочно оперировать.
На другой день, 9-го утром, я был у Михаила Васильевича.
Он оживленно, много, с увлечением говорил со мною.
Прежде всего речь зашла о моей книжке о нем, только что вышедшей в издательстве «Искусство».[38] Он благодарил за нее, отмечал лучшие места, побранил за погрешности и кончил, как всегда, сердечными словами признательности за дружбу и труд.
Тут же объявил мне Михаил Васильевич о предстоящей операции.
Операции он, видимо, боялся.
Он высказал свое намерение писать очерк о Риме для второго издания «Давних лет»: эту работу он предполагал сделать в больнице, подобно тому как в Институте рентгенологии он написал очерк о Ярошенко.
Перед отъездом в Боткинскую больницу, 10 октября, Нестеров был на концерте Н.А. Обуховой, который она давала для него на квартире профессора Игумнова. Этот необычайный концерт перед операцией состоялся по желанию самого Михаила Васильевича, который ценил и уважал Обухову как высоко одаренную артистку.
Н.А. Сильверсван рассказывает, что, когда он на следующее утро зашел к Михаилу Васильевичу, тот встретил его словами: «Какой чудесный голос, какое обаяние в ее пении, какое наслаждение я вчера получил! Вот если бы я раньше был с ней знаком, я бы непременно уже с нее написал портрет… Я рад, что услыхал ее именно перед отъездом и перед операцией… Если все будет благополучно, буду просить Надежду Андреевну позировать мне: старик ведь неугомонный, никак не может успокоиться… А теперь попрошу вас передать ей вот этот рисунок-акварель. Хотел вчера закончить и отдать ей, да не успел, все народ да народ. Сегодня утром встал и кончил. Так, нестеровщина».
«Нестеровщиной» Нестеров обозвал прекрасную акварель на излюбленную тему: одинокая девушка открывает свою скорбную душу безмолвным ласкам родной природы.
Это была последняя работа Нестерова.
Судьба пожелала, чтобы автор «Христовой невесты» простился с искусством своей проникновенной элегией о русской женщине.
Е.П. Разумова сообщает о последних днях Нестерова:
«Воскресенье, 11 октября, по словам близких, провел в большом обществе, внешне спокойно, но нервное напряжение, конечно, не оставляло Мих. Вас. В понедельник М.В. уехал в Боткинскую больницу в отделение проф. А.П. Фрумкина для оперативного вмешательства. На 15 октября предположительно была назначена операция, а утром 15 октября в 5 час. Мих. Вас. потерял сознание – у него был инсульт – спазм мозговых сосудов, поведший за собой упадок сердечной деятельности, сопровождающийся отеком легких.
16 октября М. В. пришел в сознание, хотел видеть меня; утром в субботу я была у Мих. Вас. в больнице.
Когда я вошла в палату, то для меня было ясно, что Мих. Вас. погибает – предагональное состояние и большой нервный озноб… Был короткий период, когда Мих. Вас. поверил в свое выздоровление, но одышка брала свое… Скоро последовала агония, и Мих. Вас. скончался после полуночи на руках жены своей Екатерины Петровны.
Скончался Мих. Вас. от инсульта головного мозга; нервная система не выдержала напряженного ожидания операции, которой он так боялся всю последнюю жизнь, а затем уже наступила сердечная слабость и паралич сердца».
Похороны М.В. Нестерова по решению Совнаркома СССР были приняты на счет государства.
Его гроб утопал в живых цветах и зелени. Венки от правительственных и общественных организаций, от друзей и почитателей Нестерова были увиты белыми и черно-красными лентами.
В день погребения, во вторник 20 октября, с раннего утра зал Третьяковской галереи переполнен был народом, пришедшим проститься со славным русским художником. В почетном карауле у гроба почившего беспрестанно сменялись художники, писатели, артисты, ученые, общественные деятели, друзья и почитатели.
Гражданскую панихиду открыл председатель Комитета по делам искусств М.Б. Храпченко. С речами о почившем выступили А.М. Герасимов – от Оргкомитета Союза советских художников, В.В. Журавлев – от Московского отделения Союза художников, Г.В. Жидков – от Третьяковской галереи, В.С. Кеменов – от имени Всесоюзного общества культурной связи с заграницей.
Последнюю, заключительную речь над гробом М.В. Нестерова выпало на долю произнести мне. Я пытался выразить чувства многих тысяч людей, горячо и преданно любивших Нестерова.
Два года назад Михаил Васильевич говорил мне:
– Что бы ни говорили, что бы ни писали обо мне, жить буду не я – жить будут, если будут, мои картины. Но в том-то и штука: если будут. Вот посмотрим. Пройдет лет двадцать пять – тридцать. Вот если тогда «Варфоломей» скажет что-нибудь подошедшему к картине, значит, он жив, значит, жив и я. Высочайшее из званий – так я думал всегда, так и думаю и теперь – это художник. Немногие имеют на него право. Ничего бы я так не хотел, как заслужить это звание, чтоб на моей могиле по праву было написано: художник Нестеров.
Какие поразительные слова!
В них – весь Нестеров.
Эти слова произнес человек, который безмерно долго – шестьдесят три года – поработал для родного искусства; их произнес человек, который создал целую галерею картин и портретов, прославивших его имя на Родине и сделавших его широкоизвестным в Западной Европе и Северной Америке, а между тем этот прославленный мастер еще сомневался в своем праве на звание художника! Так велико было у него представление о назначении художника, так высоко было в его сознании значение искусства для Родины!
Под звуки похоронного марша гроб с телом Михаила Васильевича Нестерова был поставлен на траурный автомобиль. Он медленно двинулся к Новодевичьему монастырю, месту последнего успокоения славного художника.
В надвигающихся сумерках пасмурного осеннего вечера гроб с телом М.В. Нестерова был опущен в могилу, вырытую вблизи могилы его верного друга И.И. Левитана.
На могильном камне написана краткая, простая, но правдивая и мудрая в своей простоте надпись:
ХУДОЖНИК
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
НЕСТЕРОВ
Основные даты жизни и творчества М.В. Нестерова
1862 – Родился 31(19) мая в Уфе в купеческой семье. Мать – Мария Михайловна Нестерова (урожденная Ростовцева). Отец – Василий Иванович Нестеров.
1872–1874 – Учится в Уфимской гимназии.
1874–1877 – Переезжает в Москву. В частном реальном училище К.П. Воскресенского.
1877–1880 – В московском Училище живописи, ваяния и зодчества. Перов. Увлечение «удивительной личностью и художественной проповедью» Перова.
1879 – Дебютирует на 2-й ученической выставке Училища живописи картинами «В снежки» и «Карточный домик».
1880–1883 – Переезд в Петербург. Учится в Академии художеств. Подолгу работает в Эрмитаже. Знакомится с Врубелем. Крамской. Приезжает в Москву с намерением вернуться в Училище живописи, к Перову, но Перов при смерти. Пишет умирающего Перова. Возвращается в Петербург, в Академию художеств. Покидает академию.
1883 – Лето в родной Уфе. Знакомство с М.И. Мартыновской. Рисунок «Первая встреча» («Конский топ»), положивший начало многим изображениям Мартыновской. Пишет эскиз картины «Домашний арест», дарит его Мартыновской с подписью, содержащей слова: «Ученик В.Г. Перова…» Снова в Училище живописи.
1885 – На экзамене в Училище живописи получил за все эскизы первые номера, а за эскиз «Призвание М.Ф. Романова» – награду и почетное решение совета училища взять эскиз в «оригиналы». Женится на М.И. Мартыновской.
1886 – Альбом рисунков Нестерова и С.В. Иванова. Получает звание классного художника и большую серебряную медаль за картину «До государя челобитчики». Рождение дочери Ольги и смерть жены. Пишет посмертный портрет Мартыновской. Эскизы картины, изображающей умирающую, акварель, подписанная художником: «Последнее воскресенье. 1 июня 1886 года».
1887 – Три варианта «Царевны», где художником снова запечатлен образ покойной. Пишет «картину-воспоминание» – «Христову невесту» с лицом жены.
1888–1889 – Поездка по Волге. Недолгое пребывание в Уфе. Делает наброски «За приворотным зельем». Одновременно работает над «Пустынником». Поселяется под Москвой, в Троице-Сергиевом посаде. Впервые посещает дом Мамонтовых в Амбрамцеве. Знакомится с художниками – Поленовым, Репиным, Суриковым, Серовым. Встреча с творчеством В. Васнецова. Дебютирует «Пустынником» на XVII выставке Товарищества передвижников. Картина приобретена П.М. Третьяковым. Едет в Петербург. Первая поездка за границу (Вена, Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь, Капри, Париж, Дрезден).
1889–1890 – В Троице-Сергиевом посаде и в Москве работает над «Видением отроку Варфоломею». Картину в Москве смотрят Левитан, Суриков. Куплена Третьяковым. Показана на XVIII выставке Товарищества передвижников.
1890–1895 – Переезд в Киев. Близкое знакомство с В. Васнецовым. Работа для Владимирского собора. Сближение с семьей Прахова.
1891 – Работает в Киеве над «Юностью Сергия Радонежского». В Москве, в Зоологическом саду, пишет «лесную тварь» для картины. Продолжает работу над картиной в Уфе.
1892 – Привозит картину в Москву. Показывает ее братьям Васнецовым, Третьякову. Возвращается в Киев и работает над головой Сергия.
1893 – «Юность Сергия» после горячих дебатов принята жюри Товарищества передвижников. Поездка за границу (Константинополь, Греция, Италия).
1895 – Весною поселился в окрестностях Троице-Сергиева – «у Черниговской». «Под благовест». Поездка по старым русским городам (Переславлъ-Залесский, Ростов, Ярославль, Углич).
1896 – Избран членом Товарищества передвижников. «На горах» – первая часть «романа в картинах».
1897 – В июне – Нестеров в Нижнем Новгороде. Август – «молниеносная любовь». В Киеве пишет «Великий постриг».
1898–1899 – Пишет: «Димитрий Царевич убиенный». Выставляет «Чудо», «Под благовест» на художественной выставке в Мюнхене. Избран академиком живописи (по представлению Репина, Поленова и Васнецова).
1899–1904 – Росписи в храме Александра Невского в Абастумане.
1900–1901 – Встреча с Горьким (в Ялте), начало их дружбы. Работа над этюдами к «Святой Руси». Поездка на Белое море, в Соловецкий монастырь. Портретный этюд Горького. Знакомство с Художественным театром, сближение с Шаляпиным.
1901–1905 – Работает над картиной «Святая Русь».
1902 – Женится на Е.П. Васильевой.
1905 – Едет в Париж, а затем – по Волге и Каме. Пишет «За Волгой» – третью часть «романа в картинах». Портреты – Е.П. Нестеровой, Н.Г. Яшвиль, О.М. Нестеровой.
1906 – Портреты – Яна Станиславского, О.М. Нестеровой («Амазонка»). Поездка к Л. Толстому в Ясную Поляну.
1907 – Большая персональная выставка в Петербурге и Москве. Выставлены «Святая Русь», «Димитрий Царевич убиенный». Всего 85 произведений, в том числе – неожиданные для зрителя – «Свирель», «Два лада». Вторая поездка в Ясную Поляну. Портрет Толстого.
1908 – Поездка в Италию (Неаполь, Капри). Отклоняет предложение стать профессором Академии художеств.
1908–1911 – Роспись церкви Марфо-Мариинской обители в Москве.
1909 – Участвует в Международной художественной выставке в Мюнхене. Дарит свою коллекцию картин русских художников Уфе (она составила основу музея, открытого в 1920 г.).
1910 – Окончательный переезд из Киева в Москву. Избран действительным членом Академии художеств.
1911 – Поездка в Италию (Рим, Венеция, Сиена, Орвиетто, Виченца). Участвует в Международной художественной выставке в Риме.
1913–1914 – Работа для собора в Сумах.
1914 – «Лисичка». Портрет Н.М. Нестеровой.
1914–1916 – Пишет «На Руси» («Христиане», «Душа народа»).
1914–1917 – «Философы», «Архиерей», «В лесах», «Соловей поет».
1918–1919 – Автопортрет. Поездка на Кавказ, пребывание в Армавире с семьей.
1920 – Возвращение в Москву.
1921–1922 – «Мыслитель».
1923 – Портрет Н.М. Нестеровой («Девушка у пруда»).
1925 – Портреты А.Н. Северцова, П.Д. Корина, В.М. Васнецова. Женский портрет.
1926 – Празднование 40-летия творческой деятельности Нестерова в Государственной академии художественных наук. Начинает писать воспоминания («Давние дни»).
1927–1928 – Портреты С.И. и Н.И. Тютчевых.
1928 – Автопортрет (два варианта). Поездки в Ленинград и Киев. Портрет В. М. Титовой. «Больная девушка», «Элегия».
1930 – Портрет П.Д. и А.Д. Кориных. Первый портрет И.П. Павлова.
1931 – Портретный этюд А. М. Нестерова.
1933–1934 – Первый портрет С.С. Юдина.
1934 – Портрет И.Д. Шадра. Второй портрет А.Н. Северцова.
1935 – Портрет В.Г. Черткова. Выставка 16 картин Нестерова в ГМИИ в Москве. Второй портрет С.С. Юдина. Второй портрет И.П. Павлова.
1936 – Портрет Е.П. Разумовой. Портрет В.И. Таль. Празднование 50-летия творческой деятельности.
1936–1937 – Портрет К. Г. Держинской.
1937 – Портрет О.Ю. Шмидта.
1938 – Первый портрет Е.С. Кругликовой.
1939 – Второй портрет Е.С. Кругликовой.
1939–1940 – Портрет В.И. Мухиной.
1941 – Получает Государственную премию первой степени за портрет И.П. Павлова (1935). Портрет А.В. Щусева.
1942 – Выходит из печати книга Нестерова «Давние дни». Чествование Нестерова в связи с его 80-летием. Награждение его орденом Трудового Красного Знамени и присвоение ему звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. Последняя картина – пейзаж «Осень в деревне». Скончался 18 октября, на 81-м году жизни.