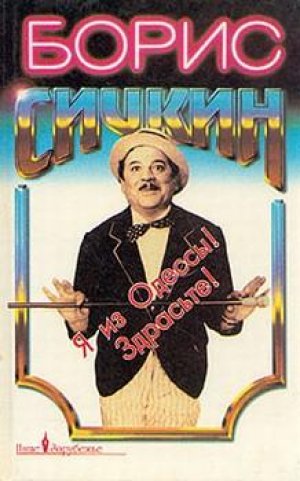
ОТ АВТОРА
Эта книга написана о юморе. Я убеждён, что юмор спокойно может бороться с ностальгией, депрессией, инфляцией, девальвацией, с безденежьем и другими недугами. Если юмор здоровый — он обязательно победит.
Многие родители оставляют своим детям в наследство нефтяные вышки, фабрики, большие деньги. Это, безусловно, хорошо, но не менее важно оставить детям в наследство чувство юмора. Конечно, при чувстве юмора одна нефтяная вышка не помешает. Пусть качает нефть для смеха.
Меня удивляет и смешит таможня. Её сотрудники выворачивали мои чемоданы, карманы в поисках ценностей, но никто из них не мог догадаться, что они спокойно дают мне возможность перевезти через границу юмор.
О, сколько людей, событий и организаций пытались отнять у меня юмор. Особенно старалась советская власть.
Но ничего не вышло. Я шутил, шучу и буду шутить. Потому что я не могу иначе.
Меня юмор спасал от всех невзгод и дал возможность выжить. Меня тоже иногда посещают мрачные мысли, но я тут же беру свою книгу и прочитываю на одном дыхании несколько страниц. Смеюсь, получаю удовольствие, и настроение опять потрясающее. Если у вас есть сомнения по этому поводу, пожалуйста, прочтите эту книгу.
Глава I
«ХОЧУ ОТКРЫТЬ ВАМ МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ…»
Я родом из Киева. По происхождению дворянин, так как родился во дворе. Справа от нашего двора был «Евбаз», еврейский базар — культурный центр города, напротив — колония малолетних преступников — высшее учебное заведение закрытого типа. Неплохое окружение выбрали родители для моего воспитания.
Мне было четыре года, а старшему брату четырнадцать, когда умер отец, наша семья, чтобы отвлечься от голода, всё время пела и танцевала. Старший брат был танцором-самородком и обучил нас всевозможным танцам. Это не только спасло меня от голода, но и сделалось со временем моей профессией.
Когда пришло время, сосед, старик Абрамович, отвёл меня в школу. В классе, когда распределяли общественные нагрузки, я взялся за огород. Попросил всех учеников принести картошку, рис, вермишель, фасоль, огурцы, помидоры и так далее. Дома из этих продуктов мы варили супы. Пришло время сбора урожая, я посетовал на неурожай. Тогда класс мне дал ещё один шанс. Естественно, вторая попытка окончилась так же, как и первая — супом. После чего соученики отказали мне в доверии. Агроном из меня не получился.
Вскоре после этого сосед, бывший старше на четыре года, соблазнил меня поехать в Москву. Тогда я впервые увидел Ленина в гробу. Поездка длилась десять дней, и всё это время нас разыскивала милиция.
Первое путешествие мне обошлось довольно дорого. Меня исключили из школы. Сочли, что от дурного примера надо скорее избавиться. Я подался в цыганский табор. Какая там была жизнь! С едой проблем не было, все гадали, все воровали, а потом до глубокой ночи пели и танцевали. Табор стал для меня университетом. И уже потом, став профессиональным артистом, я лихо исполнял в ансамблях и театрах цыганские танцы.
Чем я только не занимался в те давние годы: торговал ирисками, папиросами, был подручным маляра, кровельщика, водопроводчика. Но, к сожалению, нигде долго не задерживался. Как правило, подводила страсть к шуткам и розыгрышам.
В нашем доме поселилась проститутка. Красивая, лет тридцати, аппетитная блондинка. Мне она платила деньги, чтобы я распускал во дворе слухи, что она портниха. А мне что? Я мог пустить слух, что она мать Миклухи-Маклая или его дочь. Ей приносили вещи для шитья, она снимала мерку и отдавала шить портнихе.
Именно тогда состоялся мой дебют на профессиональной сцене. Первыми, кто оценил мой талант, были киевские уголовники. Поверьте, нет более благодарной аудитории, чем уголовники. Это я понял тогда, в юности, и утвердился в своём мнении, проведя в тамбовской тюрьме в их обществе год и две недели.
По соседству с нашим домом был Троицкий рынок. Когда базар к вечеру стихал, там собирались карманники, домушники, налётчики и их возлюбленные. Я для них выступал. На деревянных стойках я бил чечётку, цыганскую пляску, яблочко, блекбот, барыню и ещё Бог знает что. Мне часто приходилось менять репертуар, так как зрители изо дня в день оставались прежние. Со временем я перешёл на синтетический жанр — танец с разговорами и танец с куплетами. Уголовники ко мне относились хорошо, а главное, они спасали меня от голода.
ХАИМ
Неожиданно у меня появился партнёр по эстраде. В нашем доме умер человек, и его сын Хаим остался круглым сиротой. Худой, шея как спичка, одетый в длиннополую солдатскую шинель, которая в зимние месяцы спасала его в отсутствие обуви: он выработал волнообразную походку, так что полы шинели стелились впереди него на снег, и он на них наступал.
Хаим понял, что жалость к себе не вызовешь — всем плохо — и сыт ею не будешь. Он выучил весёлые фривольные куплеты на бытовые темы, ездил в трамваях и пел.
Хаим знал, когда какой апостол родился и когда он умер, все праздники — православные и еврейские. По его внешности было трудно определить его национальность, поэтому он спокойно работал на два фронта. Во время Рождества Христова он приходил к православным, молился, обвинял евреев, что они нечестно и некрасиво поступили с Иисусом Христом, тут же получал подарки и еду; во время Пасхи кулич и крашеные яйца.
Когда наступали еврейские религиозные праздники, тут он был царём. Вскользь упомянув, что молитвы сироты доходят до Бога быстрее всего, что, естественно, должно было придать им большую ценность (в материальном выражении), Хаим принимался за работу. Со слезой в голосе он читал молитвы на древнееврейском языке, рыдая, бил себя в грудь, вспоминая умерших, желал счастья и перечислял родственников, живущих в других городах, чьи имена и отчества он каким-то образом узнавал. Получив всевозможные подношения и продукты, он опять благодарил их и Бога за то, что есть хорошие люди, и дай Бог, чтобы они были вечно. Во время благодарения речь обрывалась рыданием и он уходил.
Когда умер отец Хаима, их жилье отобрали под домоуправление. Несмотря на нашу тесноту моя мама уговаривала его жить у нас. Но Хаим отказался и стал ночевать на чердаках. Мне, верному дружбе, пришлось делить с ним эту участь. В ту пору на чердаках спали бродяги, проститутки, воры, убийцы, у которых не было жилья, а также те, кто прятался по разным причинам от власти. Чердаки старых домов, были большие и тёплые. Туда порой набивалось по сорок-пятьдесят человек.
Вот в таких компаниях мы проводили ночи. Признаюсь, меня нередко охватывал ужас, когда мы отправлялись в очередной раз ночевать на чердак. Я не сомневаюсь, что Хаим боялся не меньше меня, но, будучи психологом, чётко находил подходящий тон в общении с обитателями чердака. Хаим выбирал самого страшного спящего бродягу и бил его сильно ногой в зад. Жертва просыпалась и недоуменно смотрела на цыплёнка Хаима, не понимая ничего со сна. Хаим отрешённо, в меру лениво требовал уступить место. Если этот дистрофик может так нагло себя вести, думал тот, следовательно, за его спиной такая сила, что лучше не связываться. Никто из окружающих не произносил ни слова, а если начинали шептаться, Хаим лениво поворачивал в их сторону голову, и все мгновенно умолкали. Мой друг чётко рассчитывал ход мыслей бродяг. Хаим настолько входил в роль и так верил в свою неуязвимость, что ему ничего не стоило тут же уснуть. Я же долго ворочался и со страху уснуть не мог.
Хаим был неистощим на выдумки и импровизации. Напротив нашего дома была овощная лавка, а во дворе склад, куда привозили капусту, свёклу, картошку. Как только привозили картошку, мы с Хаимом затевали очередной балаган. Я толкал его на эту картошку, а Хаим в своей нелепой шинели падал, незаметно загребая картошку в рукава. Клубней набивалось великое множество, и под тяжестью он не мог встать. Полусогнутым, опираясь на меня, он уходил.
Эту картошку Хаим на Троицком базаре раскладывал кучками и продавал. Всякий раз он совершал чудо, до сих пор непостижимое для меня. Картошка у него была хуже и мельче, чем у остальных торговок, но он просил за свои кучки больше денег и не уступал покупателям ни одной копейки, более того, он советовал покупать картошку у других торговок. Последнее окончательно выбивало покупателей из колеи. Они уже не могли оторваться от Хаима, словно загипнотизированные. Коллективный гипноз завершала небрежно брошенная моим другом фраза: «Не становитесь! Всем не хватит!»
После этих слов вырастала очередь, и картошка раскупалась мгновенно.
Хаим испарился. Где он и что с ним, как сложилась его жизнь талантливого самородка, я так и не узнал. Я даже не знаю его фамилии. Но он оставил в моей памяти неизгладимый след. Наверное, именно у него я впервые получил уроки актёрского мастерства, получил навыки импровизации.
МИШКА ХАЛИФ
Я хорошо помню кровельщика Мишку Халифа, жившего в нашем доме. Его жизнь заслуживает быть описанной в юридических учебниках. У Мишки была сезонная работа, три-четыре месяца. Управдомы каждое лето нанимали его на работу, но платить им было нечем и получить деньги можно было только через суд. Мишка был человеком смышлёным и при подписании договора с управдомом тут же подавал на него в суд за неуплату. По окончании работы управдом говорил Мишке, что у него нет денег для уплаты, а Мишка тут же вручал ему повестку в суд. На этом он экономил много времени.
Три месяца работы не обеспечивали ему прожиточного минимума. У него была вторая профессия: мастер церемоний. Каких? Это было ему совершенно безразлично. Он одинаково красиво хоронил, женил…
Как-то Мишка похоронил одного старика, чья вдова была верующей и верила в загробную жизнь. После смерти мужа у вдовы осталось двадцать тысяч рублей на сберегательной книжке. Об этом узнал Халиф и придумал оригинальный способ завладеть ими.
Примерно через две недели после смерти старика Мишка явился к вдове в двенадцать ночи в образе черта. Костюм посланца преисподней был безукоризненным, с почти настоящим хвостом, а грим — потрясающим. Мишка-черт сообщил вдове, что её муж находится у них, страдает от холода и недоедания и шлёт ей привет. Вдова передала через черта мужу тёплые вещи и еду. Черт пообещал вернуться через сутки, предупредив держать все в тайне. Черт пришёл вовремя и передал привет с того света. Муж благодарил вдову за тёплые вещи и продукты и жаловался на путаницу, из-за которой он попал не в рай, а в ад. За глубокое внимание к мужу вдова благодарила черта, который, в свою очередь, обещал перевести покойника в рай. В один из визитов черт сказал вдове, что главный Сатана согласен исправить ошибку, если получит за это двадцать пять тысяч рублей. Вдова огорчённо сказала, что у неё на книжке всего двадцать тысяч, но черт пообещал договориться с начальником.
— Очень мне понравился ваш муж. Я всё сделаю, чтобы после вашей смерти вы оба были вместе в раю, — пообещал черт.
Вдова не знала, как его благодарить. Они договорились, что к завтрашнему визиту вдова приготовит деньги. Естественно, что всё должно остаться в тайне. В сберкассе долго допытывались, зачем женщине потребовалась крупная сумма денег. Вдова отвечала, что хочет купить дом, как и научил её черт. Деньги ей выдали, но за нею и за её домом милиция установила слежку.
Ночью, когда Мишка-черт явился к вдове, его арестовали. Показательный суд проходил в театре музыкальной комедии. Мишку судили в костюме и гриме черта. Зал был переполнен. Никогда в истории суда не было такого случая. Неумолимый суровый прокурор не мог слова сказать: его душил смех. Судья старался не смотреть на черта, чтобы не расхохотаться. Только вдова выглядела печальной и не понимала, почему люди смеются. Адвокат Мишки Халифа заставил его пройтись по сцене в образе черта. Его пластика соответствовала образу черта. Мишка был прирождённым актёром, и театральный институт мог ему только повредить.
Несколько дней шёл процесс, и всё это время Мишка был в гриме и костюме черта. Попасть в зал суда составляло немалую трудность, очередь выстраивалась с ночи.
Адвокат поинтересовался, зачем Мишке понадобилась крупная сумма денег. Подсудимый коротко ответил:
— Хотел построить пионерский лагерь.
Ответ произвёл впечатление. Мишка почувствовал публику, начал её веселить. Он делал чудеса со своим хвостом, как будто это была неотъемлемая, органическая часть его тела. Адвокат обрушился на Бога, на всех апостолов и возвеличивал Мишку Халифа как борца с религиозным дурманом.
Суд вынес приговор: «Год условно».
Все сожалели, что этот забавный спектакль окончен.
После суда Мишку Халифа пригласили в Театр юного зрителя, где он с успехом играл чертей, ведьм и Бабу-Ягу. Со временем Мишка стал в театре первым человеком с персональной ставкой.
Артистов часто спрашивают, как они стали артистами. Пожалуй, никто из нас не может рассказать столь занимательной истории.
СПОРТ
Я увлекался спортом. Сам занимался и любил смотреть. Рядом с моим домом был стадион и спортзал им. Косиора.
Как-то проходили соревнования по борьбе. В тяжёлом весе выступал чемпион Советского Союза Гонжа. Это был здоровый человек, внешне напоминавший гориллу. У него везде росли волосы: в ушах, на лбу, на груди, на ногах, на спине, даже на ботинках, а на голове — ни грамма. Волосы были такой длины, что из них можно было заплетать японские косички. Когда он боролся с чемпионом Москвы, который был небольшого роста, но коренастый и совершенно светлый, и Гонжа обхватывал его обеими руками, то создавалось впечатление, что тот зашёл в пещеру и попал в объятия голодного чёрного медведя.
Чемпион Москвы очень потел, и тело его было скользким. В самые трудные для себя минуты он выскальзывал из объятий Гонжи. Для Гонжи он был как кусок мыла. Гонжа нервничал, и это всегда смешило зрителей.
Мог ли я пропустить эти соревнования? Денег нет, билета нет, кругом милиция. Попытался пройти «зайцем», но получил пинок по заду и остался в той же позиции. Но, услышав третий звонок, я, ничего не соображая, побежал мимо контролёров в зал. За мной побежало шесть человек в шляпах и сапогах. Повернувшись к ним и увидев красные злые лица, я не нашёл ничего лучшего, как подбежать к первому ряду и сесть на руки к пожилому абсолютно лысому человеку, умоляя его защитить от гнавшихся за мной людей. Люди в шляпах с перевёрнутыми от злости лицами показывали мне кулаки, ввали к себе, и по шевелению губ я расшифровал мат, который относился ко мне.
Человек с лысиной, чувствуя, как я дрожу, повернулся к шляпам и успокоил их.
Борьбу я видел бегло, я больше думал о бегстве. По их лицам я легко читал, что им ничего не стоит убить человека, и дети не могут вызвать у них жалость.
Когда соревнования кончились, я схватил своего опекуна за руку и вышел с ним на улицу. Как только я оказался на воздухе, я, конечно, не попрощался и так рванул, что пробежал на целый квартал дальше своего дома.
Первого мая во время демонстрации на трибуне стоял мой спаситель. Это оказался первый секретарь ЦК компартии Украины Косиор. Так вот у кого я сидел на руках. Да, подумал я, это могло плохо для меня кончиться.
Косиор был расстрелян как враг народа, потом реабилитирован. А я всегда был ему благодарен за спасение.
Я не пропускал соревнования по боксу. Был боксёр по фамилии Добрый Вечер. Когда объявляли его фамилию, зал со смехом отвечал: «Здрасьте». У Доброго Вечера была необычайная стойка, руки внизу, никакой защиты, весь открыт, танцевал по рингу, маневрировал, и в него трудно было попасть. Хорошо защищался и хорошо контратаковал. Работал хорошо. Все его знали и любили как боксёра.
Но однажды, маневрируя и танцуя по рингу, не успел закрыться, пропустил удар в сонную артерию, упал и уснул.
Спал он трое суток, не приходя в себя. Жалко было Доброго Вечера, но люди не могут не шутить даже при самых печальных обстоятельствах и говорили про него:
«Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал».
Начались всесоюзные соревнования. На соревнованиях по боксу зал всегда был переполнен. В тяжёлом весе от Черноморского флота выступал боксёр по фамилии Матвеев. Он понятия не имел о правилах бокса. Будучи неимоверно сильным, он, надо думать, часто дрался и выходил победителем. Но дрался он, в основном, на улице.
Вероятно, не имея никого другого, выставили его. Он был весь в наколках, и по виду было ясно, что Матвеев провёл на улице не одну драку и был сильно «заблатнен». Партнёр его хотя и был боксёром, но тоже из блатных, и знал не только правила бокса, но и уличную драку. Этой встречи все ждали с нетерпением. Во-первых, тяжеловесы, а во-вторых, приехало много одесситов, и они распустили слух о непобедимости своего кумира Матвеева. Оба вышли на ринг. Судья пригласил их на середину ринга проверить перчатки, и Матвеев посмотрел на своего противника, как на кровного врага.
Судья развёл их по сторонам. Гонг и бокс. Матвеев пошёл вперёд и получил от противника прямой удар. Матвееву это, разумеется, не понравилось. И со словами: «Ах ты, сука», — он ударил своего противника головой. Противник, со своей стороны, обозвал Матвеева «падлой» и ударил его в пах.
Матвееву явно мешали перчатки, он пошёл в угол и ему помогли снять перчатки. То же самое сделал его противник, и с отъявленным матом оба бросились друг на друга. Судья пытался их угомонить, но тут же получил удар и перелетел через канат.
Началась драка двух сильных и равных людей под эгидой всесоюзных соревнований по боксу. Дрались по правилам улицы, а значит, без всяких правил; драка сопровождалась диким матом. Били друг друга головами, ногами, иногда руками; зрелище было настолько захватывающим, что зрители неизвестно почему, без всякого повода начали драться друг с другом.
Минут через пять драка охватила весь зал. Дрались все, включая судейскую коллегию. Я никогда не видел, чтобы 400 человек дрались одновременно. Это было потрясающее зрелище.
Вызвали милицию. Но что могла сделать милиция? Здесь и полк солдат ничего бы не сделал. Дрались долго. Люди устали, и драка постепенно сходила на нет, пока совершенно не успокоились.
Никто ни на кого не сердился, начали мирно собирать с полу потерянные в драке вещи: очки, борта от своих пиджаков, зубы, в основном золотые, и другие предметы.
Уходили из зала парами, в синяках, разгорячённые, как после бани. Людям после житейских невзгод нужна была разрядка, и они её с полна получили.
Соревнования были сорваны. За Матвеева многие были наказаны, но удовольствие, которое нам доставил Матвеев, никогда не забудется.
ВИНЕГРЕТ
В Киеве при клубе Госторговли была самодеятельность. В этой самодеятельности я принимал участие как танцовщик. Время было голодное, и я старался ездить на такие концерты, после которых угощали ужином. На закуску всегда давали винегрет, и я всегда им обжирался. А потом, когда подавали макароны с мясом, то я мог только на них с завистью смотреть. Есть уже не было сил. Просто не было места, куда бы я мог это впихнуть. Так со мной повторялось много раз, я ограничивался одним винегретом. Я решил взять себя в руки, и когда нас, артистов, посадят за стол, ни за что не есть винегрет и ждать макароны с мясом (меню на банкетах в то время не менялось).
И вот я сижу за столом, на столе винегрет. Я собрал всё своё мужество, волю, терпение и не ем. Все с жадностью уплетают винегрет, у меня слюнки текут, умираю, но к винегрету не притрагиваюсь.
Прошло минут десять, все сидят и я сижу; все ждут, немного успокоившись после винегрета, а я жду с нетерпением макароны с мясом.
Начались сомнения. Я отгоняю от себя мрачные мысли. Не может быть, чтобы банкет прошёл без макарон с мясом. Официанты начали убирать со стола оставшийся винегрет. Хороший признак, думаю я про себя, это обычно происходит перед горячим. Жду с нетерпением.
И вдруг фальшиво заиграл духовой оркестр «У самовара я и моя Маша» и какой-то идиот крикнул: «Танцы!» А народ — эта толпа шизофреников — откликнулся на его призыв и тоже начал орать: «Танцы!» Сдвинули столы по сторонам и начали прыгать и скакать, как дегенераты.
Ни о каких макаронах с мясом и речи быть не могло. Я сразу понял, как погорел с винегретом. Настроение было ужасное. Дома есть нечего. Я натанцевался на сцене, в желудке пусто, винегрет унесли, а макароны не принесли.
После этого печального случая на всех банкетах, как только подавали винегрет, я ел, не думая, что будет потом. Правда, после этого случая горячее подавали всегда, но это меня уже не огорчало, так как риск был слишком велик.
В каждом человеке, сидящем за столом, я видел того идиота, который мог крикнуть: «Танцы!» А духовой оркестр до сих пор не перевариваю.
ШУРКА ПЕЧНИК
В нашем доме жила семья Захаровых. Один из них был дворником, второй брат служил у Будённого, третей был инженером, звали его Ваней. А четвёртый брат был Шурка, по профессии печник. У Захаровых было ещё много дочерей. Но они не представляли исторической ценности.
У него были две левые ноги, что придавало его походке своеобразную пикантность. Когда смотрели на его походку, создавалось впечатление, что он идёт не в ту сторону. У него были правильные черты лица. Я бы сказал, что лицо у него было красивое, но только до того, как он начинал улыбаться. А его смех мог разбудить любого покойника. Зубы у него были чуть длиннее обычного и росли в шахматном порядке, когда же он открывал рот, слышался мат. Он был любвеобильный. Как только он узнал, что между мужчинами и женщинами наступило равноправие, ему было всё равно, кто на его пути встал — мужчина или женщина. Он должен был лечь.
Шурка никогда не думал о Родине, о Жан-Жаке Руссо, он двадцать четыре часа в сутки думал о водке. Шурка пропил всё, что было в доме, и однажды, когда его жена Паша (красивая русская женщина) пошла по делам, он продал свою комнату за сто пятьдесят рублей. Шурка круглый год ходил в одной рубашке навыпуск. Когда Шурку видели в тридцатиградусный мороз стоящего в одной ситцевой рубашке у киоска, указательным пальцем пробивающим лёд в кружке пива и пьющим его. все люди в шубах тут же замерзали. Шурка же понятия не имел, что такое ангина, грипп, даже простуда.
Однажды случилось несчастье. Неожиданно умирает Шуркин брат. Весь дом был потрясён его смертью. Ваня был интеллигентным, чутким, внимательным, инженером по профессии, а в то время это была редкость. И вот несчастье.
Шурка, хотя и не просыхал, но, конечно, гордился своим братом Ваней и очень переживал его смерть. Стоит Шурка у гроба, слезы текут из глаз. Видно, что по-настоящему страдает, что ему тяжело. Зашла Шуркина сестра и, увидев Ваню в гробу, начала рыдать и причитать: «Ванечка милый, зачем ты от нас ушёл. На кого ты нас оставил…» Увидела своего брата Шурку и продолжала: «Ванечка, почему ты лежишь в гробу, а не Шурка…» Шурка скосил на неё глаза и губами что-то прошептал в её адрес. Что — нетрудно догадаться. Пришла вторая сестра, и повторилась аналогичная история: печаль по поводу брата Вани, и почему вместо Вани не лежит в гробу Шурка. Шурка сквозь слёзы прошептал: «Пошла на хуй». Пришла третья сестра, и тоже хотела бы видеть Шурку на месте Вани в гробу. Шурка послал внятно и громко сестру «на хуй». Наконец, пришла мать покойника. Мать рыдала, причитала, наконец увидела своего сына Шурку, и у неё все как рукой сняло. Никакого горя. Голос окреп и её понесло: «Боженька, почему скотина Шурка живёт, а такой, как Ванечка, должен умереть. Лучше бы сволочь Шурка лежал бы в гробу вместо Вани». Шурке это хамство со стороны его ближайших родственников надоело, и он вышел на монолог: «Гниды, чего вы ко мне приеблись. Я вас всех видел в гробу в белых тапочках! Идите вы все на хуй. Ванечка, зачем ты лежишь в гробу? Лучше бы эти суки лежали вместо тебя». Шурка хлопнул дверью и ушёл. Вслед ему ещё долго слышалось, что он алкоголик вонючий, сволочь, скотина, как земля носит таких, и женский мат.
Глава II
«Я ОДЕССИТ, Я ИЗ ОДЕССЫ, ЗДРАСЬТЕ»
Перед войной я работал в Ансамбле песни и пляски Украины. В августе сорок первого года мне предстоял призыв в армию. Весной того же года я неожиданно получил приглашение в Ансамбль песни и пляски Киевского военного округа от его руководителя — знаменитого балетмейстера Павла Вирского, с которым мы прежде работали в Ансамбле народного танца Украины. Переход надо было оформить срочно, так как военному ансамблю танцовщик требовался немедленно.
Я пришёл к своему директору ансамбля Белицкому, объяснил ему ситуацию, дескать, у меня есть возможность в таком случае и в армии остаться артистом.
— Вы что, ищете лёгкий путь? — начал Белицкий. — А кто же будет служить в нашей армии?
— Как артист я принесу гораздо больше пользы армии.
— А родине, Сичкин, нужны солдаты, а не танцоры. На этом разговор окончился. Время шло, Вирский меня торопил, а директор не отпускал. Я опять пошёл к нему. Какие только доводы я не приводил, но все безрезультатно. Белицкий упорно стоял на своём. Сколько нелестного услышал я в свой адрес.
Оказалось, что я не патриот, чуть ли не дезертир. Мне казалось, что вот-вот директор обвинит меня в измене.
— Если начнётся война, вы небось первым в Ташкент удерёте. С такими, как вы, Сичкин, я бы в разведку не пошёл. Я как коммунист вам скажу: с такими, как вы, коммунизм не построишь, — закончил он тирадой и выставил меня.
Я уже было махнул рукой и собирался извиниться перед Вирским. Но неожиданно выручил случай. Директор Белицкий уехал куда-то на несколько дней, а оставшийся вместо него заместитель без звука меня отпустил.
15 июня 1941 года я впервые надел солдатскую форму. Через шесть дней началась война…
В дни первого военного лета было не до песен и танцев. С первых дней войны, когда немцы приблизились к Киеву, началась эвакуация. Наш ансамбль использовали как обычное воинское подразделение. Мы патрулировали по городу, несли караульную службу. Последние дни перед сдачей города мы стояли в заслоне на днепровских пристанях, откуда баржами отправляли людей в тыл. Это была адская работа. Десятки тысяч людей рвались уехать, а у пристани стояли считанные баржи. Отправляли женщин с детьми, больных и раненых, пожилых людей. Остальных сдержать было нелегко.
В самый разгар погрузки на пристани неожиданно появился мой бывший директор с тринадцатью чемоданами. Увидев меня, он изобразил на рынке смешанные чувства. Я так и не понял: то ли он безмерно счастлив нашей встрече, то ли у него расстройство желудка. Директор-патриот протянул мне бумагу, в которой говорилось, что товарищ Белицкий командирован в город Ташкент для организации фронтового ансамбля.
— Сейчас не до песен и не до танцев, — сказал твёрдо я ему. — Надо защищать родину, а петь и танцевать будем потом, после победы.
— Борис, посмотри, кто подписал бумагу!
— Такую бумагу в такое время мог подписать только Адольф Гитлер.
— Я отдам что хочешь, умоляю, только помоги мне, — прошептал мне этот патриот.
— Уважаемый товарищ Белицкий, сейчас не время давать друг другу сувениры, сейчас самый лучший сувенир — винтовка в руках.
— Борис, — умоляюще сказал он, и в голосе у него, как у еврейского певца на кладбище, когда отпевают покойников, я слышал слезу.
Дежурство моё заканчивалось, но когда меня пришли сменить, я отказался. Я знал, что как только я уйду, эта мразь точно проберётся на баржу.
Я валился с ног, ужасно хотел спать, но стоял на посту.
Немцы уже были в Галосеевском лесу, а это почти пригород Киева. Слышалась канонада. Мой бывший директор со слезами на глазах уговаривал меня:
— Пойми меня правильно, я коммунист, и как только немец войдёт в город, меня сразу расстреляют. Ты меня понял?! Борис, немец с минуты на минуту появится, тогда все — мне конец. Пожалуйста, пусти меня на баржу.
— А вы что думаете, когда немец войдёт, он со мной на танцы пойдёт? Обезумевший от усталости, я стоял у трапа. Понимая, что меня надолго не хватит, я постарался всех предупредить, чтобы эту сволочь на баржу не пускали.
Через несколько часов я проснулся и тут же бросился на пристань.
След патриота простыл… Уехала эта гадина со своими чемоданами.
Сколько таких патриотов с партийными билетами, драпавших впереди всех со скарбом, я повидал в те дни. Даже трудно представить.
БУДЁННЫЙ
До войны все распевали песню из кинофильма «Истребители» «Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны», но когда началась война, то немцы не обращали никакого внимания на эту актуальную песню и безнаказанно летали над всеми городами. Можно было зеленеть, но только от злости. Ещё была одна популярная песня «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов». Ясно, Советский Союз был готов к войне, но только в песнях.
Герой гражданской войны маршал Будённый, командующий юго-западным фронтом, не сомневался, что кавалерия в состоянии уничтожить немецкие танки и самолёты. Он верил в лошадь и надеялся на неё.
Как только началась война, маршал Будённый, начал осваивать саратовскую гармошку с колокольчиками. Немцы шли маршем, занимали ежедневно по два-три города, а Будённый играл на гармошке. Приближённые к Будённому на вопрос: «Как там маршал, что говорит, какие прогнозы?..», отвечали: «Будённый всё время играет на гармошке».
Я думал, раз человек играет на гармошке, значит дела не так плохи. Вероятно он заманивает врага в котлован, а там… Но немцы подошли к Киеву, вошли в Киев, а наш полководец так увлёкся саратовской гармошкой с колокольчиками, что когда его втаскивали в самолёт и вывозили из окружения, не выпускал гармошки из рук и продолжал на ней играть. Он не мог понять, что происходит.
Честно говоря, немцы жлобы! Неужели нельзя было подождать пару дней со взятием Киева. И дать возможность герою гражданской войны, кавалеристу, маршалу Советского Союза, командующему юго-западным фронтом освоить до конца саратовскую гармошку с колокольчиками.
МИКИТЕНКО
Микитенко был небольшого роста, смуглый и похож на цыгана. Все передние и нижние зубы были золотыми — не коронки, а зубы. Когда Микитенко улыбался на все зубы, то его улыбка тянула примерно тысячи на полторы, что его тоже объединяло с цыганами. И он в душе этим очень гордился. Не рот, а монетный двор. Микитенко и в свою солдатскую форму добавлял цыганские атрибуты: бархатная жилетка, красный кушак поверх шинели, цветное кашне и другие пёстрые предметы. Приказы начальника, неприятности с комендатурой не могли его переубедить и оторвать от колоритного цыганского народа. Микитенко открыто говорил о несогласии с советской властью. Для всех, и для начальства, он считался чуть «тронутым холодком», но в этом они заблуждались. Микитенко двадцать седьмым чувством понимал, что судят всегда тех, кто шепчется, а не тех, кто громко болтает.
Микитенко был любознательным. Как-то он просидел всю ночь у аквариума, смотрел в упор на рыбок и недоуменно воскликнул: «Когда же они, бляди, сплять?»
Тарапунька и Штепсель (Тимошенко и Березин) изображали во время выступления банщика и повара. Микитенко перед выходом на сцену пописал в половник. Березин был возмущён этим поступком.
Микитенко обратился ко мне и сказал:
— Борис, Фима совсем перестал понимать театральные шутки. Я при всех обратился к Фиме:
— Фима, что с тобой? Как ты мог не оценить такую милую театральную шутку. Я бы на твоём месте извинился перед ним.
Фима тут же попросил прощения у Микитенко.
Когда наш начальник призывал весь ансамбль быть беспощадным к врагу, Микитенко говорил:
— Товарищи, если нужно будет стрелять в немцев, то лучше не стрелять. На открытом партийном собрании Микитенко спросил:
— Товарищ начальник, говорить можно? Начальник:
— Пожалуйста, говорите. Микитенко:
— Вы меня не поняли, я спрашиваю, го-во-рить можно? Начальник:
— Да, говорите. Микитенко:
— Вы мне говорите говорить, а я вас спрашиваю Го-Во-Рить?! Начальник:
— Да сколько можно вам, товарищ Микитенко, говорить, что вы можете Го-Во-Рить. Микитенко:
— Так бы сразу и сказали, что говорить нельзя.
Микитенко сел и посмотрел на меня, и я моргнул в знак полного согласия с ним. Когда мы вошли в Польшу, Микитенко выучил досконально польский язык и говорил со всеми только по-польски. Начальник обращается к Микитенко, а он отвечает начальнику:
— Цо пан хце? (Что вы хотите?) Микитенко сидел в легковой машине начальника с закрытыми окнами. Начальник стучит по окну.
Микитенко:
— Поцо пан пукае як замкненто? (Почему вы стучите, когда закрыто?) Начальник не понимает, о чём он говорит. Ему это надоело, и он приказал Микитенко говорить с ним только на русском языке, на котором они оба говорят и понимают. Микитенко использовал все свои обширные знания и ответил начальнику:
— Я хочу русский забыть только потому, что на нём разговаривал Ленин. Начальник лишний раз убедился, что он имеет дело с ненормальным человеком, ничего не сказал и ушёл.
Конотоп оказался на какое-то время открытым городом. Советские войска его покинули, а немцы ещё не вошли. Волей судьбы наш ансамбль попал туда в это межвластие. Пустые магазины стояли открытыми. Зато в библиотеках мы набрали много ценных книг.
Но так как наш идеолог комиссар ничего не читал в своей жизни, кроме сберегательной книжки, он распорядился все книги выбросить. Потом подумал и решил все книги сжечь, чтобы они не достались врагу. В открытом поле развели костёр из книг. Микитенко был на высоте. В костре уже горели все классики, как русские, так и иностранные. Он громко вещал:
— Бросьте, пожалуйста, «Манифест коммунистической партии», ловите Энгельса «Антидюринг», пожалуйста, бросьте в огонь товарища Ленина Владимира Ильича. Первый том, второй том. И так далее.
Микитенко доставил нам огромное удовольствие. Микитенко надоела проза, и он начал писать стихи. Я его бред предельно эмоционально читал всему ансамблю. Он был доволен моей трактовкой, все хохотали. Но в моих глазах Микитенко видел доброжелателя и интеллектуального поклонника. Я его вдохновлял и с нетерпением ждал его стихов.
Микитенко ненавидел одного певца и собирался набить ему морду. Но я убедил его, что это не к лицу поэту:
— Вспомни, как Александр Сергеевич Пушкин разделывался со своими недругами? Он писал на них уничтожающие эпиграммы. Так ты что, хуже Пушкина? Иди садись и пиши, а я это всем прочту. Вот так ты ему отомстишь, владея стихом.
В этот же день эпиграмма была закончена, и я, собрав весь ансамбль, прочёл её с большим пафосом.
Большой нос, соловьиный глаз. Поцелуй в жопу — увидишь алмаз. Пошёл на хуй, засранец, мудак, говно в одежде…
Я от себя ещё добавлял разные проклятия в адрес певца.
Эта эпиграмма в моём исполнении пользовалась огромным успехом. С перерывом я её читал всю войну в разных трактовках. Микитенко был признан классиком при жизни, хоть и без памятника.
БОЕВАЯ ЕДИНИЦА
В ансамбле проходили службу солдаты с высшим образованием: артисты и музыканты ведущих киевских театров и ансамблей. Конечно, они были сугубо штатскими людьми и имели весьма отдалённое представление о военной службе. Наш же начальник, подполковник Яновский, напротив, был военным до мозга костей. Когда началась война, он сразу поспешил из нашего ансамбля сделать боевую единицу. Нам выдали пятизарядные винтовки, и мы учились стрелять по цели, выданным гранатам тоже нашлось применение. Мы глушили рыбу.
Расположение нашего ансамбля, ставшего фронтовым ансамблем Юго-западного фронта, начальник превратил в неприступную крепость. Мы дежурили круглые сутки с оружием в руках.
Однажды новенький скрипач, только прибывший к нам после окончания Киевской консерватории, упражнялся на плацу на скрипке, Мимо проходил начальник. Скрипач его окликнул и обратился к нему:
— Товарищ Яновский, я хотел у вас спросить… Начальник, не дав ему договорить, сказал:
— Рядовой Рывкин, наряд вне очереди.
— Что значит вне очереди?
— Будете сегодня чистить клозет, — ответил начальник, — за то, что обратились не по форме.
— Я получил наряд вне очереди, значит была на этот наряд очередь? Так сказать, по блату? А как я должен был к вам обратиться?
— Товарищ подполковник, разрешите обратиться. Скрипач:
— Так долго? Начальник:
— Что с ним говорить, когда он не военный человек. Эта фраза стала крылатой, и мы её слышали всю войну.
Рывкин нанял какую-то женщину вычистить за деньги клозет. Женщина приступила к своим обязанностям, а скрипач неподалёку упражнялся на скрипке. Когда начальник, проходивший мимо, увидал женщину, он остолбенел.
— Что делает женщина на территории воинской части? Рывкин спокойным смиренным голосом ответил:
— Товарищ подполковник, не волнуйтесь, я её нанял.
— Вы соображаете, рядовой Рывкин, в военное время на территории воинской части посторонний человек!
— Я все понимаю, товарищ подполковник, но можете не волноваться, она все хорошо уберёт. Ведь важно, чтоб было чисто.
И продолжал свои упражнения на скрипке.
Как-то на собрании Рывкин поднял руку и обратился к начальнику:
— Когда мы уже перестанем играть в войну и начнём репетировать нашу концертную программу? Начальник настойчиво готовил нас к войне. Я убеждён, у него была затаённая мысль, что если у нашей армии на фронте ничего не выйдет, наш ансамбль разгромит фашистского зверя. Начальник твердил нам:
— Солдат по боевой тревоге должен быть готов в полной амуниции с оружием в руках за три минуты.
Ночью он неожиданно для нас объявлял боевую тревогу. Бывало, минут через двадцать выходит кто-то из артистов без сапог и оружия. Как-то один пожилой певец обратился к начальнику за помощью:
— Товарищ начальник, пожалуйста, предупредите всех, чтобы они не шутили с оружием, я два дня не могу найти свою винтовку.
Я дружил с шофёром начальника и от него заранее знал, когда начальник собирался объявить боевую тревогу. В тот вечер я ложился спать в полном обмундировании с винтовкой. Как только раздавался сигнал тревоги, я вскакивал первым и поражал начальника. В одной деревне по пути отступления начальник решил провести боевые занятия, было очень жарко. Нам была поставлена задача захватить мост, который находился в километре от населённого пункта. Мы, одетые в шинели, кирзовые сапоги, с винтовкой, противогазом побежали выполнять боевую задачу. Начальник на ходу скомандовал: «Химическая атака». Мы мгновенно надели противогазы, но тут же стали задыхаться. Я поднял с земли пару камней и вставил их по бокам в противогаз. Начальник заметил это и крикнул:
— Солдат Сичкин, почему вставлены камни?
— Чтоб легче было дышать, товарищ подполковник, — ответил я громко. Он был так увлечён штурмом, что не отреагировал на мои слова. Устав от бега, я лёг на землю.
— Боец Сичкин, почему лежите? — послышался командирский голос.
— Я ранен. Этот ответ полностью удовлетворил начальника, потому что входил в его военную игру.
— А вы, боец Каменькович, почему стоите около Сичкина? — спросил начальник у моего друга, остановившегося рядом.
— Я оказываю первую помощь. Этот ответ тоже удовлетворил нашего начальника. Помню, первым добежал до цели скрипач Рывкин и, стоя на мосту, доложил:
— Товарищ подполковник, мост взят!
— Ты убит, — ответил ему начальник.
— Почему? — недоумевал скрипач.
— Потому что ты на открытом месте, ты — мишень для врага. В ансамбле среди певцов и музыкантов было много пожилых людей. Большинство из них страдало радикулитом, подагрой и другими болезнями. Когда мы рассаживались по автобусам, это, как правило, занимало много времени, так как многие охали и кряхтели. Но стоило нам попасть под бомбёжку, автобус очищался за считанные секунды. Все знали, что с немцами шутки плохи.
Самое неприятное и опасное в манёврах был приказ занять боевую позицию. У всех у нас были пятизарядные винтовки с настоящими патронами. Ансамблисты занимали боевую позицию таким образом, что винтовки были нацелены друг другу в зад. Если бы начальник приказал: «Огонь» — пятьдесят задов были бы прострелены. Моя задача была очень простая — при занятии боевой позиции оказаться подальше от наших ворошиловских стрелков. К счастью для ансамбля и для самого начальника он ни разу не приказал стрелять.
Под Сталинградом начальник построил весь ансамбль и приказал надеть противогазы. Но все стояли, как вкопанные, и никто не шелохнулся. Начальник опять приказал: «Одеть противогазы». Реакция на его приказ была точно такой же. начальник велел: «Товарищ старшина, проверьте у них наличие противогазов». Из сумки, где должен был быть противогаз, вытаскивались бритвенные приборы, обувные щётки, бархотки, сухари, консервы, книги, в огромных количествах презервативы и другие необходимые для фронта вещи, но ни одного противогаза. Начальник от возмущения лишился речи.
Я вышел вперёд и обратился к начальнику:
— Товарищ подполковник, все наши бойцы убеждены, что в двадцатом веке ни один здравомыслящий человек не может развязать химическую или бактериологическую войну.
Начальник (вскрикнул):
— Так Гитлер же сумасшедший! Я (совершенно спокойно):
— Тогда это меняет положение. Какой-то кретин прыснул от смеха, и все заржали. Этот идиотский смех стоил мне пяти суток гауптвахты.
ПАРТИЗАНЫ
Мы отступали, сдавая город за гордом. Настроение было паническое. Никто не мог даже предположить, когда кончится бегство.
Как-то стою я с певцом Малиной и говорю:
— Хорошо бы уснуть летаргическим сном на несколько лет, потом проснуться и узнать, чем кончилась эта война.
Неожиданно для меня этот симпатичный еврей, очень хороший певец, отвечает:
— Какой же вы патриот?! Идёт война, а вы хотите уснуть. Кто же будет защищать родину?!
Такого, честно говоря, я от него не ожидал. Человек он был неплохой, и этот пафос звучал весьма фальшиво. Малина напомнил мне директора ансамбля, который удрал с тринадцатью чемоданами в Ташкент.
Всю ночь я думал, какую пакость подстроить Малине. На следующий день подхожу к нему и говорю:
— Сегодня утром меня вызвал в политуправление фронта генерал-майор Галаджев и сказал, что наш фронтовой ансамбль песни и пляски расформировывают. Ансамбль разбивается на отдельные партизанские отряды по десять человек. Меня назначили командиром партизанского отряда, куда входите вы, товарищ сержант Малина, Мучник и Теплицкий.
Двое последних — его друзья, также жертвы моего розыгрыша. Симпатичные пожилые евреи, как и сам Малина. Талантливые певцы.
— С сегодняшнего дня не есть хлеб и сушить сухари. Через три дня мы уходим в лес. Вечером я выдам всем гранаты, а остальное оружие добудем у врага в бою.
Малина, заикаясь, ответил:
— У меня белый билет, я освобождён от армии.
— Товарищ сержант, — сказал я ему, — родина в опасности, о каком белом билете может быть речь? Скажите Мучнику и Теплицкому, что завтра в восемь утра военные занятия, сбор здесь. Идите.
Малина от ужаса не пошёл, а побежал к друзьям с сообщением.
— Что ты мелешь?! — набросились они на Малину. — С какой стати Сичкин — начальник партизанского отряда? А как ансамбль?
— Я же говорю, ансамбль расформирован, разбит на маленькие отряды. Сичкин назначен нашим командиром. Это приказ начальника политуправления фронта. Теплицкий и Мучник застыли от ужаса. Малина продолжал:
— Нас всех перебьют. Сичкин приказал не есть хлеб, а сушить сухари. Через три дня уходим в лес. Завтра он выдаёт гранаты, а остальное оружие будем добывать у врага.
Мучник и Теплицкий побежали к начальнику ансамбля с печальной новостью. Начальник стал темнее тучи. Известие облетело весь ансамбль. Время было такое, что не верить нельзя.
На следующий день я вызываю на военные занятия Малину, Мучника и Теплицкого.
— Легче всего добыть автомат, сняв часового, — объясняю им. — Снимать надо тихо, ударом ножа или штыка.
Показываю. Малину назначаю часовым. Втроём ползём к нему по-пластунски.
— Выбираем момент, когда часовой стоит к нам спиной, и… — Я мгновенно закрыл грязной рукой Малине рот и имитировал удар большим штыком от винтовки.
Дальше я объяснил, что после удара штыком в сердце, его обязательно нужно круто повернуть в сердце, почувствовав, что кровь хлынула.
— После этого часовой уже мёртв на сто процентов, — так закончил я свой урок. Мои подчинённые блевали уже минут десять.
— Ничего, ребята, — утешал я, — это без привычки. Потом привыкнете и будете резать спокойно. На следующем занятии мы обучались взрывать немецкие танки. Мы рыли яму, ложились в неё, и я показывал, как нужно подорваться под танком.
— Конечно, это верная гибель, но у нас нет выбора. Мы отдадим жизнь за родину, — объяснял я. Хлеб моя троица не ела, а сушила сухари. Весь ансамбль, глядя на нас, дрожал и ждал распоряжения. Начальник умышленно оттягивал и не ехал в политуправление фронта.
Моя игра была в самом разгаре. Я достал планшетку с картой, бинокль. Каждый вечер отправлял Малину на два часа на дорогу ждать оружие, которое якобы должны были прислать из политуправления. Я ждал пулемёта.
— Пока его нет, — сказал я им, — будем переносить с места на место камни, равные по тяжести. Я приказал бойцам овладевать птичьим языком, который будто бы необходим партизанам в лесу.
Это, пожалуй, был единственный приказ, который остался невыполненным. Никто не мог изобразить птицу.
В политуправлении фронта не на шутку всполошились из-за прерванной с ансамблем связи, туда ещё не дошло известие о моём партизанском движении. Из политуправления прислали гонца, который сообщил, что начальника срочно вызывает генерал.
Вернулся он весёлый и счастливый. Оказывается, когда Яновский рассказал о моём плане, генерал-майор, начальник политуправления фронта Галаджев хохотал до упаду. Он был очаровательным, умным, добрым человеком с большим чувством юмора. Потом попросил передать, что ансамбль по-прежнему необходим фронту. У всех артистов отлегло от сердца. Самое поразительное, что никто не обиделся на меня. Даже после войны фронтовые друзья называли Малину, Мучника и Теплицкого только партизанами.
НАЧАЛЬСТВО
Несмотря на своё пристрастие к военным действиям, подполковник Яновский был умным, а самое главное, осмотрительным человеком. Благодаря этому качеству мы, артисты ансамбля, остались живы.
Бывали случаи, что он направлял ансамбль в противоположную приказу сторону и ни разу не ошибся. Он был мастером отступления, точно знал, с какой скоростью наступают немцы, и примерно на сколько опаздывают приказы политуправления фронта.
Яновский нюхом улавливал, где намечается очередной прорыв немцев, и чудом отводил от ансамбля угрозу окружения, а может быть, и плена. При этом ему ничего не стоило не выполнить приказ политуправления фронта. Политуправление неоднократно хоронило нас, но всякий раз, благодаря осмотрительности начальника, ансамбль избегал очередной неприятности.
Подполковник Яновский был влюблён во французских женщин и высоко ценил их. В ответ на наши сетования по поводу голода и просьбы выдать побольше сухарей, он неизменно отвечал:
— Запомните, больше, чем может дать француженка, мы дать не можем. Мы делали из этого вывод, что француженка даёт больше всех, и что у нашего начальника мало в запасе сухарей. Вот что значит логически мыслить.
Командование нашего ансамбля было подходящей иллюстрацией марксистского закона о единстве и борьбе противоположностей.
В отличие от Яновского, наш комиссар был круглым идиотом. Это оставалось тайной в ансамбле для одного-единственного человека. Им был сам комиссар.
Главной его работой было проводить с нами политзанятия. У него был гнусавый скучный голос. На фронте никто не страдал бессонницей. Но как бы мы ни высыпались, услышав голос комиссара, ансамбль немедленно погружался в сон. Подозреваю, что если слушать его долго, можно было впасть в летаргический сон. Ему было самое место в какой-нибудь клинике, а он пошёл в комиссары. Как только начиналась его лекция на международную тему, мы закрывали глаза тёмными очками и тут же засыпали.
Как-то Яновский заглянул на лекцию и никак не мог понять, почему такая тишина. Слышно было только лёгкое посапывание и похрапывание. Начальник скомандовал:
— Снять очки! Мы, испуганные со сна, выполнили команду, но никак не могли сообразить, что случилось. В своей жизни я спал на многих лекциях, но так глубоко, как под голос нашего комиссара — не припомню. Яновский запретил надевать очки на лекциях комиссара.
Приказ был выполнен, и с тех пор мы спали с открытыми глазами. Комиссар был настолько увлечён своей эрудицией, что посапывание и откровенный храп ему не мешали. Идиотизм нашего комиссара был беспределен и безграничен. Зима для нас была сущим адом. Нам приходилось регулярно в тридцатиградусный мороз проезжать в насквозь промёрзших машинах, в прохудившихся сапогах и тонких рваных шинелях по пять-шесть часов голодными. Как-то зимой комиссар собрал весь ансамбль и спросил:
— У кого нет валенок? Поднимите руки, сейчас составим списки. Всех переписали. Комиссар прочёл вслух список и обратился к нам:
— Никого не пропустили? Так вот, — продолжал он, прочтя ещё раз весь список пофамильно, — перечисленные люди останутся без валенок, так как на складе их нет.
Думаю, не надо описывать реакцию тех, кто уже не сомневался, что получит валенки, и опять остался без них.
В небольшом украинском городе Ромны нас неожиданно подняли по тревоге, и комиссар злобным голосом сообщил:
— Товарищи, у нас в ансамбле обнаружены провокаторы, которые своими подрывными действиями работают на фашистов. Вам, наверное, интересно узнать, кто эти предатели? Вот они — это Камлюк и Брынза.
Комиссар продолжал:
— Они сообщили местному населению, что у нас в ансамбле сто человек и что мы собираемся в Харьков. Они прекрасно понимали, что это военная тайна. Теперь враг знает количество людей в нашей части и её будущую дислокацию.
Послышались возгласы возмущения. Я взял слово и долго говорил о том, что любая подлость рано или поздно обнаруживается. Я клеймил подлых людей позором и призывал их наказать. Одновременно я отметил, что на свете есть очень много идиотов, с которыми трудно жить и работать рядом.
— Не понимаю Камлюка и Брынзу, разгласивших военную тайну, — подчеркнул я. — Зачем им это понадобилось?
Все подхалимы дружно кивали головами в знак одобрения. Потом я молча развернул нашу афишу и показал её всем. На ней аршинными буквами чёрным по белому было написано, что в ансамбле сто человек и что мы следуем в Харьков.
Последовала затяжная пауза, точь-в-точь как в финальной сцене гоголевского «Ревизора».
Я продолжал:
— Зачем надо было болтать, когда на афише всё написано?! Уверен, что в ставке Гитлера уже известно, сколько нас в ансамбле.
Комиссар был очень расстроен, что по непонятному стечению обстоятельств ему не удалось разоблачить врагов.
ГОРОД РОМНЫ
Немцы, перед тем как занять город, предварительно его бомбили. Меня всегда смешила девушка — диктор местного радио. Она начинала фразу: «Граждане, воздушная тре…», но никогда не договаривала до конца. Вероятно, со всех ног бежала в бомбоубежище. Зато потом медленно, с большим облегчением сообщала об окончании налёта: «Воздушная тревога миновала». Я хорошо запомнил это благодаря одному занятному случаю.
В городской библиотеке г. Ромны я обнаружил томик стихотворений моего любимого поэта Сергея Есенина.
Понимая, что со дня на день все в городе достанется немцам, я решил выпросить у библиотекаря эту книгу.
— Девушка, отдайте мне, пожалуйста, томик Есенина. Хотите за деньги, хотите на обмен. Немец скоро войдёт в город, и все книги пропадут, — выпалил я.
Библиотекарь категорически отказалась от какой-либо сделки.
Я стоял и твердил своё о томике стихов Сергея Есенина.
Когда в очередной раз раздался свист бомбы и запоздалый голос по радио: «Граждане, воздушная тре…», мы оба грохнулись на пол. Бомба взорвалась неподалёку. Я встал, а библиотекарь ещё находилась в состоянии грога.
Это повторялось дважды. Стоило мне войти в библиотеку и вспомнить Сергея Есенина, как тут же начиналась бомбёжка.
На третий день я опять зашёл в библиотеку. На пороге с томиком Сергея Есенина стояла знакомая библиотекарша:
— Возьмите и скорее уходите, только не произносите его имени. С этими словами она отдала книгу. Этот томик прошёл со мной всю войну. Кстати, в этот день немцы на город не сбросили ни одной бомбы.
Покинуть Ромны нам пришлось при довольно смешных обстоятельствах.
Около девяти утра меня разбудили товарищи по ансамблю, сообщив, что в город привезли две бочки свежего пива. Я быстро оделся в предвкушении бочкового пива. Мы простояли в очереди минут тридцать. Уже вот-вот нам продавщица протянет запотевшую кружку, и вдруг крик:
— Немцы в городе!
Мы мгновенно сели в наш автобус и выскочили из города. В своей жизни я, поверьте, пил много хорошего пива, которое, наверняка, было лучше этого. Но, учитывая, как мне тогда хотелось выпить, никакое пиво не может сравниться с тем, ромнинским. Считается, что фантазия — привилегия мозга, но то невыпитое пиво вызывало у меня фантазии желудка. Я точно представлял вкус, чувствовал, как оно вливается в меня. Это удивительное ощущение. После голода в тридцать третьем году в Киеве на улицах продавались соевые котлеты. Уже прошло много десятков лет, но до сих пор те котлеты кажутся мне вкуснее всяких лососин, шашлыков, икры и других деликатесов.
Но вернёмся к нашей одиссее.
Вырвавшись из города, наши машины тут же утонули в глубокой грязи. Единственную дорогу — путь к спасению — дождь превратил в сплошное месиво. После нескольких бесплодных попыток вытащить машины людьми овладело отчаяние. С тупым безразличием смотрели они на нескончаемый дождь, обстрел «мессершмитами» на бреющем полёте, не понимая, что немцы в любой момент могут перерезать дорогу.
Я чувствовал себя не лучше, но есть у меня такое качество — собраться и бороться с неприятностями. Я пошёл вдоль застрявшей колонны с танцем и с песней. Грязь летела из-под ног во все стороны. Люди думали, что я сошёл с ума. Но, убедившись, что я не сумасшедший, приходили в себя. Я пел и плясал цыганские танцы, пел частушки, куплеты, показывал фокусы с фигами, пародии…
И произошло чудо. Люди начали улыбаться, потом смеяться. Прошла подавленность, исчезла обречённость. Кто-то обнаружил в поле сломанный трактор, мгновенно нашлись механики.
Вряд ли в обычной ситуации было возможно починить этот трактор, но тогда это было сделано с невероятной быстротой. Трактор заработал, мы благополучно вытащили все машины из трясины и добрались до Купянска. Немцы, к. счастью, не успели перерезать дорогу.
В политуправлении фронта узнали о моём поведении под Ромнами и наградили медалью «За боевые заслуги». Я носил эту награду как звезду Героя Советского Союза.
Так было до одного эпизода, который я вспоминал долго с обидой и досадой.
Однажды нас, артистов, интендант фронта пригласил на банкет в свою землянку. Она была большой и уютной, состояла из нескольких помещений.
Мы выступили, потом поели и выпили, начались танцы. Я вышел в другую тёмную комнату покурить и стал свидетелем сцены. Один из гостей — толстый маленький генерал — прижимал какую-то медсестру. Пыхтит, потеет, прижимается к её груди и шепчет:
— Дай мне, дай мне. Сестра в ответ:
— Медаль «За боевые заслуги» дашь? А он готов ей отдать Золотую Звезду.
— Конечно, дам медаль.
Каждый генерал вправе был дать медаль «За боевые заслуги», а потом уже и ордена. Подонки! опошлили награду, которой я так гордился.
ГОРОД НИКОЛАЕВ
В город Николаев приехал драматический театр. Я пришёл на второй акт. Не помню, что за пьеса. На сцене на больничной койке лежит солдат, весь перебинтованный, и стонет. Рядом на стуле сидит медсестра.
Солдат:
— Сестра, что с моими ногами?
— Ампутировали, гангрена началась. Солдат стонет, преодолевая боль:
— Сестра, а что с руками?
— Их тоже ампутировали.
— Так я остался без рук и без ног, — стонет, ведя разговор сквозь стиснутые зубы. — Сестра, а где моя гимнастёрка?
— Висит на стуле.
— Сестра, посмотри в кармане, есть ли там мой комсомольский билет? Сестра лезет в карман и сообщает ему:
— Есть. Солдат:
— О, теперь мне совсем хорошо!!! Я вскрикнул от хохота и выбежал из зала, чтобы больше не слышать текст автора и не видеть этого счастливого солдата.
Бывали всякие ситуации. Люди к нам, солдатам, относились в основном хорошо. Делились последним. У многих мужья, сыновья были на фронте, и они, принимая нас, понимали, что где-то, в какой-то хате её сыну или мужу дают миску горячего супа или молока.
Но были и такие, кто люто ненавидел нас. Это, в первую очередь, верующие люди. Они в каждом солдате видели комсомольца и атеиста. Попасть к таким означало быть обречённым на голодную жизнь.
Но я быстро приспособился к этой ситуации. В моём кармане на этот случай хранилась маленькая иконка Миколы Угодника. Как только хозяева перед обедом начинали молиться, я тут же извлекал своего Миколу Угодника и вторил молящимся. Они садились обедать, а я вытаскивал книжку и начинал читать. Ни разу не было сбоя — тут же приглашали к столу, оправдывая своё прежнее отношение.
Своим испытанным трюком я пользовался, пока мы не миновали государственную границу СССР.
ГОРОД КУПЯНСК
В Купянске, куда мы направились после Ромен, мой товарищ Борис Каменькович и я попали в страшный мороз. Нам пришлось трястись почти десять часов в нетопленом разбитом автобусе, будучи практически по-летнему одетыми.
Не чувствуя рук и ног, зуб на зуб не попадает, в кромешной тьме мы заскочили в одну хату. Стоим, дрожим и не можем выговорить ни единого слова. Обычно хозяйка тут же приглашает погреться, кипяток даёт, а эта даже на нас не смотрит. Борис собрался с духом и попросил её, чтобы она согрела кипятку.
— А где я дрова возьму? — неприветливо отозвалась она. Рядом, между прочим, лежат пять вязанок дров. Прошло несколько минут, она говорит:
— Хотите чайку? Принесите мне дрова, тогда согрею.
— Да куда же мы в такой мороз, в такую темень пойдём дрова искать?
— А напротив дома забор соседки. Вот вы его и разберите. мы вышли из хаты и, не сговариваясь, начали уничтожать её собственный забор. Хозяйка
нарадоваться не могла:
— Хороши дровишки, сухие, один к одному. Мы выпили чаю, согрелись и сладко уснули. Утром она вышла нас проводить и остолбенела, взглянув на место, где когда-то был её забор. Изо рта её с придыханием отскакивали матюки.
— Не надо волноваться, хозяюшка, — мягко сказал Борис. — Наверное, у вашей соседки вчера тоже остановились два замерших солдата, попросили чайку, а она сказала, чтобы они сперва принесли дров, и посоветовала разобрать ваш забор… война, мол, все спишет.
— Пошли бы вы вместе со своей войной…
— Спасибо, хозяюшка, — улыбнулся я. — Мы, действительно, пошли.
ГРИШКА БАБНИК
Отступая дальше, мы попали в Воронеж, где неожиданно встретили нашего киевского знакомого Гришку, по кличке Бабник, в форме лётчика.
Он всю свою жизнь посвятил женщинам, чем и заслужил такую кличку. Ловелас по призванию, он называл женщин только «чувихами», «телками», «кадрами», «батонами», «дикими свиньями»… В его устах эти слова приобретали какой-то особый смысл и звучали ласкательно. Он стал массовиком-затейником, чтобы быть ближе к народу и чтобы было легче «кадрить» женщин. Гришка был стройным, красивым молодым человеком. Не было в Киеве такого вечера, чтобы Гришка не принимал в нём участия.
Детство он провёл в колониях для малолетних преступников, откуда вывез ряд ценных художественных произведений в виде татуировок. Помню, как-то перед Новым годом Гришка за оскорбление милиционера отсидел пятнадцать суток и вышел оттуда с бритой головой. В то время он был занят в ёлочной компании в роли Деда-Мороза. Бритая голова не стала помехой, так как она прикрывалась париком и шапкой.
По опыту знаю, что самый неприятный день ёлочной компании — первое января. Все отмечают праздник до утра, после чего вынуждены невыспавшиеся и пьяные работать для детей. Гришка тоже не был исключением и пришёл во Дворец пионеров пьяным. Как назло, в этот день на утренник пришло высокое партийное руководство. Дед-Мороз задавал детям загадки. Если они не угадывали, Гришка говорил им:
— Хуй-то. В конце выступления Дед-Мороз вместе с детьми кричит:
— Ёлочка, ёлочка, зажгись! И ёлка зажигается. Когда Дед-Мороз и дети прокричали волшебные слова, ёлка не только зажглась, но и завертелась.
У Деда-Мороза — Гришки при взгляде на вращающуюся ёлку неожиданно закружилась голова. Он попятился назад, ругаясь матом, и рухнул на детей. Это было его последнее выступление в роли Деда-Мороза.
Гришка всю свою жизнь провёл в поисках очередной интрижки. У Гришки был 301 способ уговорить женщину. Но самым верным считался так называемый «киноспособ». У него была поломанная кинокамера и большие очки от солнца. По тем временам владельцами таких атрибутов были исключительно киношники.
Он подходил к девушке, наставлял на неё киноаппарат и говорил стоящему рядом:
— Она кадрится. Девушка от счастья теряла сознание и уже была готова на все. Гришка не торопился. Он оставлял ей свой домашний телефон, но говорил, что это телефон киевской студии, где он сейчас монтирует снятый фильм.
Когда в назначенное время раздавался звонок, к телефону подходила его мама — неизменная соучастница — и привычным голосом откликалась:
— Киностудия слушает. После чего она соединяла будущую жертву с сыном. Гришка брал трубку и, не успев поздороваться, кому-то кричал:
— Позовите ко мне Бориса Андреева и Николая Крючкова. Передайте Любови Орловой, что я ей ставку повысил.
После этого предисловия он начинал разговор, который через несколько минут прерывал. Гришка опять играл на публику, громко крича:
— Елена Федоровна, сделайте мне, пожалуйста кофе. Нет, нет и ещё раз нет. Я уважаю Ладынину, Петю Алейникова, но никого принять не могу. Вы что, смеётесь? У меня запускаются в производство три фильма, а ещё нет и одной героини.
После услышанного монолога ни одна девушка не могла устоять перед нашим другом. Мы наизусть знали Гришкины приёмы и все равно всегда смеялись, став свидетелями, как очередная поклонница кино попадалась в его сети.
Гришка рассказал нам, что перед самой войной его послали в лётное училище. Через шесть месяцев он стал лётчиком.
— Летать мне нравится. Если только не встречаться с «мессершмитами», — признался он, — моя первая встреча с ними кончилась «медвежьей болезнью».
Со слезами на глазах он вспоминал Киев, танцевальные площадки, женщин. С какой теплотой он о них говорил. Вспоминал рестораны, еду, выпивку. Он был создан для богемной жизни, которую прервала война. Кому-кому, а Гришке она была поперёк горла. Ни женщин, ни танцплощадок… Гитлер за это был ему глубоко несимпатичен.
Бориса Каменьковича и меня он встретил, как родных и близких людей. Мы вызывали у него сладкие воспоминания. Вместе немного выпили, поболтали о прошлом и расстались.
Недели через две, когда мы были в доме офицеров, к нам подошла медсестра и попросила зайти в госпиталь навестить нашего друга. В палате мы увидели забинтованного человека. У него виднелись только глаза. Узнать его было невозможно. Им оказался Гришка.
Оказалось, что вскоре после нашей встречи в очередном воздушном бою он был ранен, его самолёт сбит. У него началась гангрена.
Я наклонился к нему, и он спокойным голосом попросил:
— Борис, станцуй для меня, пожалуйста, цыганочку. Я не мог танцевать, но отказать, тоже был не в силах. Впервые в жизни я танцевал и плакал.
Борис, тоже сквозь слёзы, напевал мне какую-то мелодию. Окончив танец, я наклонился к Гришке — он был мёртв…
ПОД КУРСКОМ
В девятнадцать лет, когда опасность, риск не страшат, а напротив, захватывают, я рвался на передовую и не переставал проситься в строевую часть.
Под Курской дугой я принял решение бросить ансамбль и бежать на фронт. Я «потерялся», меня быстро присоединили к группе солдат и погнали на переформировку. Мы протопали до места назначения голодные километров пятьдесят. По дороге нас шесть раз бомбили. В деревне Беседино нас каждого допросили: кто, откуда и кем хочешь быть? Я попросился в пулемётчики. Солдаты смотрели на меня, как на идиота. А лейтенант улыбнулся. Когда мне выдали пулемёт, и я попытался его поднять, сразу понял — солдаты были правы. Я должен был носить постоянно этот груз. Отказаться было уже поздно. С нами провели учения, и через два дня мы должны были отправиться на фронт.
В части, которая была наспех сформирована, были и девчата. В ватниках они напоминали медвежат. Они выработали мужскую походку, чуть заблатненную, подстриглись под «польку» и матерились почище мужчин.
Одна симпатичная девушка спросила меня:
— Где тут спикировать и умыться? А когда в пять утра нас бомбили, она возмутилась:
— Вот жлобы, не дают поспать. Этим девчатам не хотелось быть девушками. И всё же никакая деланная мужская походка, стрижка и мат не могли их «спасти». Всё равно они оставались прекрасным полом.
Несколько дней я был на фронте: стрелял и в меня стреляли.
Самое омерзительное в окопах на передовой — это слышать немецкий миномёт. Немцы назвали его «Ванюшей» в противовес нашим «Катюшам». Мины «Ванюши» летели с прерывистым звуком, как будто захлёбывались, они разрывались в воздухе и осыпали землю осколками.
Никакие окопы не помогали. После обстрела «Ванюш» всегда было много раненых. Меня Бог миловал, и я остался невредим.
Мне не довелось долго воевать. О моём побеге было сообщено в политуправление, был отдан приказ о моём розыске. Вскоре в мою новую часть явились два майора из политуправления и арестовали меня как дезертира.
По дороге они наговорили кучу гадостей, угрожая военным трибуналом и штрафным батальоном. Я никак не мог понять, о чём они говорят. Я бежал на передовую, а не в тыл. За что же меня судить?
Я несколько дней находился под арестом, наконец, меня доставили к начальнику политуправления фронта Галаджеву. У него сидел его заместитель подполковник Алипов. Оба интеллигентные, доброжелательные. Я объяснил причину так называемого бегства.
Генерал спокойно объяснил мне, что я самовольно бросил часть, а это наказуемо. Что касается пользы, то в ансамбле от меня больше толку, чем на передовой.
На этом разговор закончился. Я вернулся в ансамбль, а дело с военным трибуналом было закрыто.
ПРОКОФЬЕВ
К сожалению, таких людей, как Галаджев и Алипов, среди командования было немного. Большей частью встречались тупые, ограниченные служаки. Их типичным представителем был другой заместитель Галаджева полковник Прокофьев.
Несмотря на его в общем-то невысокое воинское звание, перед ним трепетали генералы. Дело в том, что прежде он был высоким чином в бериевском заведении.
Ансамбль был непосредственно под его руководством. На наше счастье, он оказался графоманом. Слушателей у него на фронте не было, и он выбрал для чтения своих произведений наш ансамбль. Посему старался держать нас возле себя.
Первый свой роман типа «Пармская обитель» он читал почти месяц. В романе было примерно двести действующих лиц и все аристократического происхождения. Никто не пытался вникнуть в этот бред, но все делали вид, что внимательно слушают, и выражали свой восторг.
Многие подхалимы говорили ему, что ничего подобного не читали в своей жизни. И это была правда — они вообще ничего не читали.
Графоманы отличаются от писателей тем, что они не относятся к себе критически и верят исключительно в положительные отзывы. Для меня полковник был находкой. После чтения я сказал ему, что роман напоминает произведения Дюма, но намного интереснее и возвышеннее. Весь ансамбль одобрительно кивал головой. Полковник был на седьмом небе. Спустя какое-то время я вслух ужаснулся, что скоро кончится этот захватывающий роман. Он меня успокоил, сказав, что у него есть ещё роман. В моём лице он видел Виссариона Белинского.
Графомания — это болезнь. Его романы доставляли ему много радости и нам тоже. Мы сидели в тёплом помещении.
Первый роман был страниц на девятьсот, а второй и того больше. Он был плодовитее Лопе де Вега. После каждого чтения, которое длилось два-три часа, он уходил от нас, как живой классик, и назначал очередную дату.
Мы не обслуживали фронт, а только слушали его роман. Однажды кто-то из артистов поинтересовался у полковника, когда мы поедем с концертами на передовую. Прокофьев посмотрел на него, как на сумасшедшего. Я не мог упустить случая.
— Как мы можем куда-то поехать, — возмутился я, — если мы не дослушали роман? Полковник взглянул на меня одобрительно, как на родного сына. В его понимающих глазах я нашёл любовь и поддержку.
Наш начальник прекрасно понимал опасную игру, затеянную с полковником. Он просил меня быть осторожным. Но, как известно, беда приходит оттуда, откуда её не ждут.
Певец Сеня Коган, по натуре человек добрый, дисциплинированный, трусливый. Он был из непьющих, но если выпивал, то напивался до изумления. Как-то во время чтения наш Сеня Коган напился и всё время задавал полковнику вопросы не по существу. Полковника это раздражало, он сердито посмотрел на нашего начальника. Тот немедленно заикающимся голосом приказал Когану удалиться. Сеня не сдержался.
— Хорошо, — сказал он. — Я ухожу, но хочу, чтобы товарищ полковник знал наше мнение. Ваш роман — полное говно.
Это было для нас настолько неожиданно, что все расхохотались в голос. Не хохотал только наш начальник. Прокофьев сложил свою рукопись, посмотрел на нас своим мстительным прощальным взглядом и ушёл. Мы продолжали всю ночь хохотать.
На следующий день Коган отрезвел. Когда я ему рассказал о случившемся и показал все в лицах, а начальник это подтвердил, Сеня в буквальном смысле потерял сознание.
Так окончилась для нашего ансамбля сладкая жизнь. А жаль, у полковника было написано столько романов, что их чтение заняло бы ещё не одну войну.
Тем не менее никто не сердился на нашего товарища. Мы считали, что развязка розыгрыша и наше удовлетворение превыше тёплых квартир.
Благо, каждый день находился повод посмеяться.
Наш музыкант Евсей имел обыкновение в каждом селе и городе жениться. Всё было, как положено. Банкет, ему надевали на палец золотое кольцо, купленное, естественно, на деньги невесты. Перед отъездом он всегда хотел оставить кольцо молодой жене. Но ему никогда не удавалось снять его. Они ходили к слесарю, ювелиру, но результат был один и тот же. Наконец невеста уговаривала его взять кольцо с собой. Он это делал с большой неохотой. Прощальный поцелуй. Мы садились в теплушку, в которой начисто замерзали, и как только поезд трогался, он легко снимал кольцо.
Мы часто переезжали в теплушках. На станциях, как правило, было огромное количество людей, которые мечтали попасть в вагон. Толпу могла удержать только одна моя фраза: — Перевозим арестованных.
И все бежали от нашего вагона.
Я у любого повара мог получить добавку. Все обычно просят на добавку второе блюдо, и повар им отказывает, так как мясо ограничено. А я просил так:
— Дай, пожалуйста, немного гарнира. Когда повар брал мою тарелку, я добавлял:
— И мяса тоже.
Ему уже было неудобно отказать. За свои проделки я часто сидел на гауптвахте. Правда, не во всех населённых пунктах были гауптвахты. Иногда меня сажали просто в хату. Зима. Мороз. Я сижу в натопленной хате, а другие мне носят по морозу еду. Они, естественно, возмущались:
— Кто сидит, Сичкин или мы? Он в тепле, а мы три раза в день тащим ему эти котелки. В хате у него дым коромыслом, песни, танцы под гармонь. Выпустите его, пусть он так же мучается, как и мы.
ШАХМАТЫ
Певец Иващенко в отличие от многих артистов хора был умным, образованным человеком. Немного нервный, щепетильный и очень тщеславный, он хорошо играл в шахматы, и никто у него не мог выиграть. Я с ним часто играл и всегда проигрывал.
Однажды он поставил мне киндермат и спокойно удалился. Когда Иващенко отошёл от шахматной доски, я стал на его место и крикнул:
— Идите посмотрите. Как я дал киндермат Иващенко. Все прибежали и поразились, что на доске киндермат. Его начали расспрашивать, как получилось, что он так позорно проиграл?
На что Иващенко ответил, что я шучу, что выиграл он.
Все делали вид, что не верят Иващенко.
С тех пор я периодически посылал к нему людей с одним и тем же вопросом: мол, расскажи, как же это случилось? Его это злило, и он просил меня рассказать правду.
Я, не моргнув глазом, заявлял, что правда заключается в моём выигрыше.
Шли дни, недели, и я периодически продолжал подсылать к нему людей. Это его приводило в бешенство. Он орал:
— Я выиграл у него. Сичкин шутит! Как-то подошёл он ко мне и говорит:
— Борис, хватит шутить, мне надоело, скажи так, как было.
— Ты хочешь заставить меня врать?!… Я не спорю, ты действительно играешь сильнее меня, и тем ценнее для меня мой выигрыш… особенно киндерматом… В конце концов, можешь же и ты проиграть.
— Это какой-то цирк! — взорвался Иващенко и ушёл, задыхаясь от возмущения. Однако постоянные расспросы не давали ему покоя, и он снова ко мне обратился:
— Борис, я тебя прошу, прекрати хамить. Скажи людям, как было на самом деле. Я, глядя на него чистыми, честными глазами, ответил:
— Не понимаю, почему ты волнуешься из-за такого пустяка. Хорошо, если для тебя это так важно, я могу соврать и сказать, что выиграл ты.
— Мне не надо, чтобы ты врал!!! Скажи правду!
— Ну, уж если по совести, — я еле сдерживал смех, глядя на него, — то уж ты-то знаешь, что выиграл я.
На нервной почве он начал заикаться, а левый глаз подёргивался в тике, как в немом кино.
Дело дошло до того, что он просил вмешаться начальника ансамбля, но тот только отмахнулся.
В течение долгого времени я держал Иващенко на взводе, а потом история с киндерматом всеми, в том числе и главным её героем, как-то забылась. Однако я готовил ему сюрприз.
Мы давали концерт в лесу перед бойцами. До начала ещё оставалось полчаса, и я попросил Иващенко пойти со мной для конфиденциального разговора. Мы углубились в лес и шли минут десять-пятнадцать. Наконец я остановился, осмотрелся вокруг и сказал:
— Сейчас мы одни. Нас никто не видит и не слышит. Посмотрим друг другу в глаза и честно скажем, как было дело. Сейчас-то ты можешь признаться, что я тебе поставил киндермат?
Он хотел что-то сказать, но дыхание у него перехватило, и слышно было только какое-то бульканье, в котором легко угадывался мат.
Я должен был срочно его покинуть. Во-первых, он мог меня укусить, во-вторых, я мог расхохотаться.
Кончилась война. На одном банкете я сказал:
— Все позади — и война, и… — посмотрел я на Иващенко, — и наши игры в шахматы. — Мой партнёр стал серьёзным. — Гитлер проиграл войну, а я проиграл тогда в шахматы Иващенко.
— Я чувствовал, Борис, что ты шутил, — с сияющим лицом сказал он. Да, я всё время шутил. В предисловии к этой книге я честно признался, что не могу иначе. Одного не могу понять, почему мои товарищи, зная эту мою страсть, все равно попадались на удочку.
ТАНК
Одной из таких моих жертв стал солист Дарчук.
Он обладал прекрасным баритоном, был очень импозантен, седые волосы украшали его. Он умел многозначительно молчать. Во время какого-нибудь спора чуть улыбался и таинственно поднимал левую бровь. Трудно было сразу разобраться — не то философ, не то дурак. Все к нему прекрасно относились.
Боевые порядки нашего 1-го Белорусского фронта пересекались множеством болотистых мест и водных препятствий. Как-то во время очередной поездки по этой ужасной местности я высказал мысль о том, что надо изобрести танк, который бы мог не только ездить, но и летать и плавать.
Через несколько дней Юра Тимошенко сказал мне, чтобы я на обратном пути сел в машине рядом с Дарчуком.
Я пытался выяснить у него, в чём дело, но он от хохота не мог произнести ни одного слова. Я последовал его совету.
Когда машина тронулась, Дарчук мне сказал на ухо:
— Борис, ты помнишь наш разговор об особом танке? Так я изобрёл его сегодня ночью. У меня все заклокотало внутри. Насилу сдержался и тут же оборвал его:
— Здесь не место для такой темы, приедем поговорим. Мы молча ехали и многозначительно поглядывали друг на друга. Нам предстояло ехать ещё часов пять. Дарчук сгорал от нетерпения поговорить о своём изобретении, но я глазами останавливал его. Судя по выражению его лица, танк был готов к серийному производству. Наш безмолвный диалог прервали «юнкерсы». Эти бомбёжки были прекрасной тренировкой для всего нашего ансамбля. Как только слышался гул немецких самолётов, мы мгновенно выскакивали из автобуса и неслись в разные стороны. Уверен, ни один каскадёр не мог бы с нами сравниться. Страх перед бомбой превращал нас в мировых рекордсменов.
Наконец мы приехали в танковую часть. Времени до концерта у нас было много. Мы с Дарчуком уединились. Я десяток раз оглядывался вокруг. Дарчук для перестраховки делал то же самое. Когда мы оба убедились, что враг нас не подслушивает, Дарчук начал рассказывать о своём изобретении:
— Представь обычный танк. Впереди показалось водное препятствие. Под танком находятся лопасти, нажимаем кнопку — лопасти выходят и танк плывёт: пах, пах, пах… Потом танк опять едет. У болота на боках машины появляются крылья, и он летит: джишш, джишш…
Закончив, он посмотрел победоносным взглядом. Я выдержал паузу и крепко, по-мужски поцеловал его.
Я поинтересовался, где он хранит чертежи танка. Дарчук признался, что не умеет рисовать.
— Если кто-нибудь нарисует танк, — поспешил заверить он меня, — я стрелочкой обведу, где должны быть лопасти, крылья.
Я не умел рисовать. Пришлось обратиться за помощью к Тимошенко. Танк, который нарисовал Юра, был ужасен. Мы достали большой лист ватманской бумаги и настоящий длинный чехол. Юра нарисовал ещё раз танк, больше походивший на колорадского жука. Позвали Дарчука. Он указал стрелкой места лопастей и крыльев. Свернули чертёж в трубочку и вложили его в чёрный чехол.
— Учти, здесь лежит твой чертёж нового плавающего и летающего танка. От этого зависит наша победа над врагом. Если чертежи окажутся у немцев…
С этими словами я передал ему бесценный чертёж. Юра Тимошенко быстро отвернулся, зажав ладонью рот. Больше я не приглашал его на совместные беседы. Любая неуместная ухмылка могла погубить розыгрыш. Я посоветовал Дарчуку не расставаться с чертежом ни на минуту. Ночью не спать. Лучше, мол, днём подремать, когда мы с Юрой сумеем за ним присмотреть.
Певец с благодарностью отнёсся к моим советам. Он ходил с чертежом в столовую, в баню. Не расставался с футляром даже в хоре. Когда было его соло, передавал чертёж на хранение мне. Ночью он не спал, осип, осунулся, постарел. Никто из артистов не мог понять, почему он не расстаётся со своим чехлом. Мы заговорщицки перемигивались. Ведь мы-то знали, что охранял наш певец.
Шли дни, Дарчук старел, охраняя чертёж. Я узнал, что в Воронеже находится главный изобретатель фронта в чине генерал-полковника. Было решено послать Дарчука с его чертежом в Воронеж к главному изобретателю.
До Воронежа нужно было ехать поездом двое суток, обратно — двое, день там — итого, пять суток. Надо было упросить начальника, чтобы он отпустил лучшего солиста на пять суток. Юра был у начальника в почёте и ходатайствовал за нашего друга. С трудом мы уговорили отпустить Дарчука.
Дарчук собрался в дорогу. Я напутствовал его. Главное, в дороге не спать. У кого окажется чертёж этого танка, тот и победит. В приёмной главного изобретателя я посоветовал Дарчуку не распространяться, а добиваться личной встречи с генералом. Шпионы бывают и в штабах.
— Когда зайдёшь к генералу, — советовал я, — покажи ему чертёж. Расскажи, как работает танк в разных ситуациях. Если генерал попросит оставить чертёж, ни за что не оставляй! Дарчук уехал. Мы ждали его с нетерпением. Через пять суток он явился. Мы уединились в лесу, и он начал рассказ.
— Я все ночи не спал. Записался на приём к генерал-полковнику. Чертёж никому не давал в руки. Зашёл к генералу, он со мной любезно поздоровался и спросил, по какому я вопросу. Я ответил, что изобрёл летающий и плавающий танк. Он на меня пристально посмотрел, на его лице было изумление. Он меня спросил: «Это у вас чертежи?» Да, ответил я.
Я открыл чехол, вытащил чертёж и начал ему объяснять, как работает танк в разных качествах. Он ни слова не сказал, только предложил мне оставить чертёж. Я ему сказал: нет, чертёж я никому не оставлю.
— Скажи, пожалуйста, а Сталину ты оставил бы чертёж?
— Да, Сталину бы я оставил.
— Тогда надо ехать к Сталину в Москву. На этот раз Юра Тимошенко не выдержал, с ним началась истерика. Он не хохотал, а рыдал. Я, глядя на него, тоже. Дарчук, держа в руках свой чертёж и падая от бессонницы, понял, что стал жертвой розыгрыша. Он рассердился, выругался и ушёл. Месяц он с нами не разговаривал, но потом я его убедил, что нам, артистам, сам Бог велел шутить. Убедившись, что мы никому не рассказали о случившемся, он сменил гнев на милость.
Поверьте, я бы отдал все, чтобы присутствовать при разговоре Дарчука с генералом.
МУШТРА
Бойцы и командиры любили артистов ансамбля. Нам всегда были рады на передовой. Каждый концерт, как правило, заканчивался банкетом. Своими выступлениями мы переносили людей в прежний, довоенный, мир, напоминали им родных и близких. На передовой не видели в нас солдат, мы были для них артистами. Зато тыловые служаки и службисты, видя наш неказистый облик, а большинство артистов так и не приспособилось к военной форме, приходили в неистовство. Особо притягивал их внимание наш танцовщик Коля Тараканов. Офицеры комендатуры видели в нём неисправимого хулигана. Дело в том, что Коля принципиально не застёгивал гимнастёрку и ходил без головного убора, держа пилотку в руке.
Как-то мы направлялись на концерт в Дом офицеров, который соседствовал с комендатурой. Как назло, по дороге столкнулись с комендантом. Он остановил нас за неряшливый вид и препроводил в комендатуру. Ситуацию усугубило то, что Коля Тараканов говорил с ним своим независимым голосом, и комендант решил нас примерно наказать. Экзекуцию он поручил старшине-служаке, дав примерно такое наставление:
— Научи их, как нужно ходить, как нужно приветствовать офицеров, как военная форма должна быть заправлена. Короче, погоняй их часа два до концерта.
Мы вышли из комендатуры. Зрители на концерт уже начали собираться. Судя по всему, нам предстояло выступать дважды.
Старшина скомандовал:
Смирно! Вольно! Налево! Направо! Кругом!
Мы с Таракановым карикатурно выполнили приказ. Старшина возмутился, все повторилось снова. Я обратился к нашему мучителю:
— Товарищ старшина, мы артисты и никогда не проходили строевую. Мы не знаем самых простых вещей, но мы хотим знать. Помоги нам, и мы тебе будем очень благодарны.
Старшина согласился. Я скомандовал:
— Смирно! Вольно! Налево! Старшина проделал все безукоризненно. Подаю новую команду:
— Покажи присутствие офицера. Старшина вытянулся во фрунт и двинулся, чеканя шаг. дальше он показал, как следует приветствовать генерала, знамя части и т.д.
Толпа с любопытством наблюдала за марширующим служакой. Доносились шутки и комментарии. Мой товарищ по наказанию улёгся на травке и, лёжа, наблюдал за старшиной. Я подавал все новые команды:
— Я вышел случайно на улицу без головного убора. Как я должен приветствовать офицера? Старшина без запинки:
— Без головного убора солдат не имеет права отдавать честь, руки должны резко пойти по швам.
— Покажи, пожалуйста. Старшина замаршировал. Я крикнул:
— Офицер слева! Старшина резко повернул голову в сторону воображаемого офицера. Я крикнул:
— Кругом! Старшина повернулся на сто восемьдесят градусов и направился ко мне. Он был мокрый от пота.
Толпа от смеха перешла на хохот. Старшина вошёл в раж и был готов продолжать урок, не чувствуя подвоха.
Я гонял его около часа. Не знаю, чем бы это всё кончилось, если бы не вмешался комендант.
Он выглянул из окна и зло крикнул старшине:
— Идиот! Иди в комендатуру. Они же издеваются над тобой! Старшина был в полном недоумении. После концерта Колю и меня долго не отпускали со сцены. Нас благодарили за два спектакля.
ЮРА ТИМОШЕНКО
Среди нас чаще других жертвой ретивых служак становился Юра Тимошенко. В ансамбле он был в образе банщика Мочалкина, а его партнёр Фима Березин — повар Галкин. Их интермедии, куплеты, скетчи проходили на ура. Но одна беда — Тимошенко как никому другому не шла военная форма. В форме Юра напоминал огородное пугало. Поверьте, в моей оценке нет и капли преувеличения. Его часто задерживали патрули и доставляли в комендатуру. Правда, признав в нём знаменитого комика, отпускали.
Юра всегда возмущался:
— Я артист, а не военный человек. Что они ко мне пристают? Его мечтой была специальная военная форма для артистов, чтобы никто нас не путал. Я это запомнил и как-то, встретив Тимошенко, сказал радостно ему:
— Юра, ты читал газету «Красная звезда»? И, не дав ему опомниться, сообщил ошеломляющую новость.
— Выходит новая форма для военнослужащих артистов, — импровизировал я. — Брюки из синего полотна, чёрные туфли, китель защитного цвета на двенадцать пуговиц посередине, золотой погон, а на нём — лира.
Юра забыл, с кем имеет дело. Новость обрадовала его. Вероятно, он надеялся, что новая форма оградит его от неприятностей…
Он ушёл счастливый, сообщая всем о новой форме. На радостях он даже сунулся с описанием формы к нашему начальнику.
Начальник оборвал его восторги:
— Кто тебе это сказал?
— Сичкин прочитал в газете.
— Юра, кому ты поверил? Милый, симпатичный Тарапунька был до слёз огорчён моим розыгрышем. Мне так было жаль
Юру, что я долго не мог себе простить этой дурацкой шутки.
ЭМИЛЬ ГОРСКИЙ
Моя страсть к шуткам и розыгрышам иногда служила мне недобрую службу. Что же я делал в таких случаях? Пытался с помощью тех же шуток и розыгрышей исправить положение.
Заместителем начальника ансамбля по хозяйственной части у нас был Эмиль Горский.
Ни для кого не было секретом, что он гомосексуалист. Лично у меня извращенцы вызывают не чувство ненависти, а чувство юмора. Он был словно создан для пародий. Ноги у него были иксом, говорил он быстро и нежным голосом. Вдобавок обладал женской походкой. Я ужасно пародировал его, вызывая смех окружающих, что было весьма небезопасно, так как Эмиль ведал продуктами и табаком. Своё отношение к людям он выражал количеством курева и еды. Кстати именно с помощью этих экономических рычагов он соблазнил одного шофёра и сожительствовал с ним. Все об этом знали, но молчали. Однажды у сожителя сломалась машина, и я немедленно прокомментировал происшествие:
После этого случая Горский стал относиться ко мне враждебно. Я оказался на голодном пайке.
Надо было срочно исправлять положение. Я решил воспользоваться тем, что он был по натуре человеком добрым и сентиментальным.
Всем солдатам выдавались чёрные патрончики, в которых находились данные: фамилия, имя, отчество, номер части и кому ты оставляешь наследство. Эти сведения требовали на случай гибели. У меня было на солдатской книжке сто двадцать пять рублей, и в качестве своего наследника я записал капитана Горского.
Когда я якобы лёг спать и снял гимнастёрку, в которой лежал патрончик, мой сообщник Борис Каменькович затащил к нам под благовидным предлогом Эмиля и случайно сообщил ему об этом.
Начал он издалека.
— Знаешь Эмиль, — сказал Борис Горскому, — ты не знаешь, кто к тебе по-настоящему искренне относится. Например, Сичкин тебя действительно любит. То, что он шутит, так это он делает ради смеха, а душа у него замечательная.
После этих слов он достал из гимнастёрки чёрный патрончик и прочитал ему моё завещание. С той минуты моя жизнь повернулась круто в сторону материального улучшения. Я ел до отвала и курил не махорку, а отборный табак.
ПОД СТАЛИНГРАДОМ
Вместе с ансамблем мне довелось побывать под Сталинградом, выступать прямо на передовой перед бойцами и командирами легендарной 62-й армии Чуйкова. Воины этой армии дрались как львы. Много замечательных строк написано об этих чудо-людях, отстоявших город. Они принадлежат перу выдающихся писателей. Безусловно, мне трудно что-либо добавить. Могу засвидетельствовать только одно: и там, в кромешном аду, случались ситуации, которые невозможно вспомнить без улыбки
Помню, однажды в кабинете заместителя начальника политуправления фронта подполковника Алипова, я стал свидетелем уникальной комической сцены.
К Алипову явились представиться прибывшие из Москвы два журналиста. Оба евреи, сугубо штатские люди, умудрились забыть документы, аттестаты на питание.
Состоялся памятный разговор.
Алипов:
— Где ваши документы? Евреи журналисты:
— Мы их забыли.
— Как это можно забыть взять документы? Один из них наивно переспросил товарища:
— Действительно, как это можно забыть взять документы?
— Вы же приехали на фронт!
— Мы же приехали на фронт!! Алипов:
— Откуда мы знаем, может, вы шпионы? Оба в ответ хором:
— Конечно, а может, мы шпионы? Алипов:
— Какое легкомыслие приехать без документов на фронт. Первый еврей, обращаясь ко второму еврею:
— Какое легкомыслие! Приехать без документов на фронт.
— Это уму непостижимо, два взрослых человека, журналисты из Москвы едут на фронт с определённым заданием — осветить в прессе бои под Сталинградом — и приезжают на фронт без всяких документов, даже без удостоверения личности. Я обязан вас просто арестовать.
Оба, перебивая друг друга:
— Это уму непостижимо. Мы же взрослые люди, журналисты из Москвы. Куда мы едем? На франт едем, в Сталинград. И без документов, даже без удостоверения личности. Нас надо арестовать. Что за легкомыслие. А может, мы шпионы. Мы хотим есть? Конечно, и очень! Но у нас нет аттестатов, кто же нас поставит на довольствие?!
Они поносили друг друга ещё очень долго. Подполковник Алипов прервал их, дал им талоны на обед.
Мы с подполковником Алиповым, обалдевшие от этого разговора, вышли из землянки подышать свежим воздухом и стали нечаянно свидетелями другой необычной сцены.
Дело в том, что это были последние дни Сталинградской битвы. Штаб фронта находился в двухстах метрах от передовой.
Вышли и видим: идёт пожилой, немец-офицер. Подходит к часовым, наклоняет голову, снимает фуражку, часовые хохочут и пропускают его дальше. И так несколько раз. Подполковник возмутился, ведь рядом штаб. Часовые падают от хохота.
Наконец немец подошёл вплотную к нам, снял фуражку, и мы увидели, что на большой лысой голове написано чернильным карандашом «Хуй». Подполковник не выдержал и расхохотался. Кто-то из солдат ради юмора написал ему «пароль». Каждый часовой хотел обрадовать и повеселить своего товарища и пропускал его в сторону нашего штаба. Потом я узнал, что обладатель уникального пароля сообщил важные сведения.
Вспоминая Сталинград, я не перестаю думать о войне, как о театре абсурда. Потому как на войне, чаще чем в другой обстановке, сосуществуют антиподы. Легко уживаются правда и ложь, верность и предательство, беспримерное мужество и жалкая трусость. Свою мысль я хочу проиллюстрировать одним эпизодом.
Под Сталинградом я познакомился с хирургом, который поведал мне смешную и жуткую историю.
— Работа здесь адская. Операции приходится делать в полевых условиях, не хватает медикаментов, бинтов, даже анестезии, а операций — тридцать-сорок в день. Сплю, дай бог, три часа в сутки. Так если бы хоть эти три часа я мог спать спокойно!
Понимаете, со мной работают две медсестры и санитар. Сестры — милые и добросовестные девушки, а вот санитар… В его обязанности входит хоронить умерших. Я, конечно, понимаю, что копать, а вернее, выбивать яму в насквозь промёрзшей земле — каторжный труд, но способ, которым он решил себе эту работу облегчить… Вместе с умершим он тащит в яму раненых. Тот чуть зазевался, заснул — он его хвать за ногу и вместе с покойниками к яме. Я только прилягу, закрою глаза, как тут крик: «Куда ты меня тащишь?! Я же ещё живой!» А санитар огрызается: «Какая тебе разница? Всё равно не сегодня завтра загнёшься, а мне новую яму рыть». Приходится выбегать и буквально отбивать у санитара раненых. При этом в его глазах я читаю осуждение: неужели же мне было трудно добить его прямо на операционном столе. Такие вот дела.
Недавно была очень сложная операция. У солдата пробито дыхательное горло, естественно, он не мог ничего есть, пришлось делать отводную трубку. Пришли проведать его друзья и принесли бутылку самогонки. Тот её разболтал, вставил бутылку в трубку и вылил содержимое себе внутрь. Дикость!
Наш ансамбль расположился на ночёвку в десяти километрах от Сталинграда на хуторе Красная Слобода.
Немногочисленные дома были битком набиты офицерами каких-то тыловых служб. Горизонт круглые сутки был чёрно-красного цвета. Это день и ночь пылал Сталинград. Город подвергался непрерывным бомбёжкам и артобстрелу.
То и дело над хутором пролетали тяжело гружённые юнкерсы.
Всякий раз обитатели хутора, заслышав шум моторов над головой, опрометью выскакивали из дома и бросались в поле, но немцы не разменивались на мелкие цели.
В очередной раз, когда мы все лежали, уткнув носы в землю, рядом послышалась канонада. Оказалось, что по немцам открыл огонь расчёт единственного зенитного орудия, неизвестно каким образом оказавшегося на этом хуторе. Казалось, что сейчас несколько фашистских самолётов отделятся от строя и зайдут в пике над нашим хутором. Это означало бы конец. К молодому парню-зенитчику с криком и бранью бросились сразу несколько офицеров.
— Идиот! Кто тебя просил открывать огонь? — орали они.
— Они летят мимо, пусть летят себе на здоровье. Там их встретят. Офицеры пересыпали свою речь отборным, ядрёным матом.
— Но там Сталинград. Мы можем отвлечь часть самолётов, — лепетал недоумевающий зенитчик, уверенный, что выполняет священный долг.
Ему не дали сказать слова.
— Какое ты имеешь право рисковать нашими жизнями? Зачем ты провоцируешь немецких лётчиков? Больше не вздумай стрелять!
Ничего не мог понять этот солдат-зенитчик, который в этот момент думал о Родине, а не о своей шкуре.
БОРИС КАМЕНЬКОВИЧ
С Борисом мы были знакомы с раннего детства. Я его учил танцевать, и вместе с ним мы поступили в ансамбль народного танца Украины. Вместе мы прошли всю войну и продолжали дружить вплоть до моей эмиграции.
Человеком он был интересным, талантливым. Виртуозно танцевал европейские бальные танцы, чем приводил женщин в восторг. У них он пользовался огромным успехом. Он всегда влюблялся, писал им стихи, страдал, ревновал.
Решающим фактором для его любви были красивые женские ноги. Умственные способности значения не имели. Короче, это были красивые дуры. Если он находился с одной из них, то редко ей изменял. Он был весь поглощён любовью. Расставался он с ними быстро. При этом очень страдал, но потом мгновенно влюблялся в другую. Его жизнь состояла из цепи коротких пылких романов. И всякий раз он влюблялся словно впервые.
Борис обладал ещё одним уникальным качеством. Он мог уснуть в любое время, в любой обстановке, стоило только ему положить голову на подушку. Даже любовные страдания уступали сну.
Он любил своё здоровье и внимательно к нему относился. Как-то ему сказали, что гоголь-моголь очень полезен, и он каждый день взбивал себе пять желтков с сахаром и выпивал их залпом. Если бы ему сказали, что молодая нефть полезна для организма, он бы пил её, не обращая внимания на угрозу нефтяного кризиса.
Один из романов Бориса закончился женитьбой. Война разлучила его с молодой женой.
Как-то мы с ним встретились с двумя офицерами, только прибывшими из тыла. Оказалось, они были в нашем родном Киеве и хорошо провели время. Даже успели обзавестись одной на двоих любовницей, они подробно, со смаком и обилием интимных деталей рассказали о своих похождениях, а в заключение показали фото дамы сердца. Ею оказалась жена Каменьковича. Борис онемел. Не сказав ни слова, он ушёл.
Дело было перед концертом. К началу выступления Борис не появился. Начальник, знавший о происшедшем, очень волновался. Дело в том, что все артисты были вооружены пистолетами, и он опасался, как бы Борис не покончил с собой.
После концерта я бросился искать его и нашёл своего друга в роще, спящим. Он спал, как спят только здоровые счастливые дети, чуть посапывая и с блаженной улыбкой на лице.
Я тихонько разбудил его. Он проснулся и спросил.
— Концерт начали?
— Концерт закончился.
— Что ты говоришь? Понимаешь, я пошёл в рощу пострадать, испить всю горечь измены. Я лёг на траву и провалился в сон, не успев подумать об этом. Я так долго и крепко никогда не спал.
Я посоветовал ему напустить на лицо грусть, чтобы не было неприятностей от начальства, так как концерт шёл без него.
Мы вдвоём возвратились, весь ансамбль нас ждал и очень волновался. Я сказал начальнику, что застал Бориса в полуобморочном состоянии, и что за ним нужен глаз да глаз. Начальник попросил меня хитростью отнять у него пистолет. Я обещал это сделать и следить за ним, чтобы он перед концертом не уснул.
ДЕДОВ
Мои фронтовые воспоминания, вероятно, отличаются от привычной военной мемуарной литературы. Я больше пишу о людях, с которыми прошёл военными дорогами, нежели о самой войне. Это неудивительно. Ведь я не принимал никаких стратегических решений, я не поднимал солдат в атаку, я не ходил в разведку. Я просто развлекал бойцов, я поднимал их настроение.
Я пишу о людях, с которыми работал во «фронтовой части хорошего настроения».
Одним из моих сослуживцев по ансамблю был певец-бас Дедов, человек лет пятидесяти, двухметрового роста, могучий, с красивой львиной гривой. В его голове, вероятно, была единственная извилина и то очень прямая, главной его страстью была еда. Он пожирал все подряд, без разбору. К деликатесам он относил сало и мог съесть целую свинью. У него была справка, которой Дедов очень гордился. В справке было написано, что его по конкурсу не приняли в Большой театр. Когда ему говорили, мол, нашёл чем хвастать, Дедов отвечал:
— А ты посмотри, кто подписал эту справку: народные артисты СССР Козловский и Лемешев. Он очень боялся бомбёжек и на новом месте старался стать на постой подальше от военных объектов. Естественно, для этого требовалось кое-что разузнать у местного населения. Как правило, это плохо кончалось. Одержимые шпиономанией сдавали Дедова в военную комендатуру.
Если перед началом концертом его не было, я рекомендовал начальнику искать Дедова в
СМЕРШе — военной контрразведке, и ни разу не ошибся.
Дедов верил в меня, как в Бога. Он не сомневался, что я все знаю. Солдатский паёк ему был на один зуб, и он часто ходил в деревню выпрашивать у крестьян сало.
Как-то мы обслуживали на передовой танковый полк, было затишье, но в любую минуту мог произойти танковый бой. До немецких позиций рукой подать, и буквально на каждом шагу стояли часовые. Рядом было село, куда стремился Дедов, чтобы достать «сальца». Он меня просил, чтобы я узнал пароль. Сделав вид, что просьба потребовала неимоверных усилий, сообщил ему пароль — «Курок», а ответ — «Курск». Счастливый Дедов отправился в село. На обратном пути, когда его остановили часовые, он уверенно сообщил пароль, но вместо отзыва последовала команда: «Ложись!» Лежал он примерно часа полтора, пока с ним не разобрались. Так повторялось трижды. Всякий раз я объяснял, что опасность заставляет командование принимать меры сверхбдительности, и Дедов верил мне. Чувство вечного голода напрочь затмило у него все.
Как-то я достал польский орден и повесил певцу Шмигельскому. В столовой я сел рядом с Дедовым, а напротив усадил Шмигельского с наградой. Дедов, увидев награду на груди Шмигельского, обратился ко мне:
— Борис, что у него на груди?
— Польский орден. При награждении польским правительством наших солдат наш начальник, учитывая его польскую фамилию, представил его к награде. Конечно, это несправедливо, так как в нашем хоре есть только один достойный человек — это ты.
Расстроенный Дедов обратился ко мне за советом. Я порекомендовал ему жаловаться, чтобы начальству в дальнейшем было неповадно.
К этому времени доброго и умного подполковника Яновского на этом посту сменил откровенный идиот и тупица майор Корнеев.
Я не любил его за тупость, а он не любил меня за моё непослушание и успел наделать мне много пакостей. В частности, перед двумя награждениями устроил мне ряд провокаций и лишил меня двух орденов. Я это запомнил.
Я послал Дедова в политуправление фронта к полковнику Прокофьеву, зная, чем это кончится. Полковник ничего не понял, но за несоблюдение субординации (солдат не может через голову вышестоящего по чину жаловаться), дал нашему начальнику трое суток домашнего ареста.
Я подождал три дня и послал Дедова к члену военного совета фронта генерал-лейтенанту Телегину. Тот тоже ничего не понял из рассказов Дедова, но, в свою очередь, дал нашему начальнику пять суток домашнего ареста. Я подождал пять суток и сказал Дедову, чтобы он оповестил начальника, что если его, Дедова, поход к маршалу Жукову не увенчается успехом, то он поедет в Москву к Сталину.
Начальник, хоть и был идиотом, но не до такой степени, как Дедов. Поняв, что все направлено против него и исходит от меня, он пришёл ко мне.
— Борис, я тебя умоляю, не посылай его к маршалу Жукову, — взмолился он. — Я же так никогда свободы не увижу.
Я сжалился и сказал Дедову:
— Подожди ещё несколько месяцев и ты получишь высшую польскую награду. По договорённости со мной Шмигельский пришёл в столовую без орденов. Дедов поцеловал меня и облегчённо вздохнул.
Спустя какое-то время я в присутствии всех наших юмористов вручил польский орден и наградной лист нашему басу под аплодисменты собравшихся. Дедов ни на минуту не сомневался, что это законный орден, и всю войну его с гордостью носил.
ПОЛЬСКИЙ ПАТРИОТ
В Люблине был военный госпиталь. Я однажды побывал в нём, чтобы повидать наших раненых. Меня страшно удивило, что немцы лежат на нормальных постелях, у каждой кровати — карточка с описанием их состояния: давления крови, температура — утренняя и вечерняя. А наши солдаты лежат на полу на сене. На них никто не обращает внимания.
Я вызвал главного врача, представился работником комендатуры и приказал срочно положить наших бойцов на койки, а немцев на пол. Я приходил в госпиталь ежедневно и проверял отношение врачей к нашим солдатам.
В одно из посещений поляк-санитар показал мне двух офицеров СС, которым устроили сущий рай. Кормят лучше всех, по приказу главврача приносят им мясо, рыбу и другие продукты. А советские солдаты этого не получают.
— Как быть? — спросил у меня поляк после того, как мы распили бутылку спирта.
— Чего спрашиваешь? — отвечаю я. — Поступай по справедливости. Как польский патриот… Через несколько дней я пришёл в госпиталь и встретил счастливого санитара.
— Справедливость восторжествовала, — сказал он с лёгким акцентом, — я их отравил. Койки, где лежали эсэсовцы, были заняты нашими ранеными.
О, Польша! С этой страной у меня больше связано приятных воспоминаний, нежели грустных. Я знал ещё до войны, что Польша — страна самых красивых женщин. Не случайно, что многие мои польские воспоминания связаны с ними.
В то время в Люблине был комендантский час. Идти по полностью затемнённому городу разрешалось только людям с особыми пропусками. Пропуска у меня не было, поэтому, когда в полной темноте я слышал окрик комендантского патруля: «Стой, кто идёт?» — неизменно отвечал: «Диверсант». Патруль: «Проходи». Солдаты и офицеры обладали чувством юмора и никогда не проверяли у меня документы.
ГОРОД ЛОДЗЬ. ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ
Я часто вспоминаю, как в Лодзи мне некоторое время на общественных началах пришлось побыть в роли… директора бардака.
На Пятнковской улице, дом номер 5, был бардак. Это был пятиэтажный дом, в каждой квартире которого жили проститутки.
Профессия эта тяжёлая, вредная и неблагодарная. Лично я к ним отношусь с жалостью, но и с уважением. Как это ни парадоксально, но проститутка тебя не обманет. Самые верные жены — это бывшие проститутки. Я с отвращением отношусь к женщинам, которые официально не числятся проститутками, но занимаются проституцией. Кстати, это относится и к некоторой категории мужчин.
Сколько мне приходилось наблюдать, как женщины отдавались направо и налево нелюбимым мужчинам, чтобы попасть в кино или на телевидение. А выйти замуж без любви, ради денег — разве это не проституция? Так вот, гуляют эти нештатные проститутки в богатых домах, а в Советском Союзе они ещё занимают посты в партии.
Когда мы узнали о действующем бардаке, бросились туда стремглав, минуя музеи и библиотеки. Познакомившись с его обитательницами, я убедился, что люди они интересные и стоящие. Каждая профессия накладывает на человека какой-то отпечаток. У всех проституток, как и у евреев, всегда грустные глаза. Но в этот раз я заметил у них кроме грусти в глазах ещё какой-то испуг. Я понимал, что во время войны их работа намного усложнилась, и у меня появилась потребность успокоить их и помочь им.
Они поняли, что я их друг, и рассказали мне, что часто приходили русские офицеры, но денег за услуги не платили, угрожая пистолетами. Это граничило с хамством. На добровольных началах я и ещё несколько энтузиастов взяли шефство над бардаком. Каждый день дежурили от нас два автоматчика. Если случалось какое-нибудь недоразумение, дежурные вмешивались, и офицер мгновенно платил всё, что положено. Они, офицеры, не сомневались, что мы официальный комендантский патруль. Когда в бардак заходили пьяные офицеры и начинали хулиганить, то мы били им морды за все: за девчат, за себя… Жаловаться некому и опасно, так как действие происходило не где-нибудь, а в бардаке. Действовали мы безнаказанно.
В бардаке с моим приходом наступил рай. Проститутки ожили, начали улыбаться, понимая, что у них за спиной джентльмены-энтузиасты. Выручку они честно делили между собой поровну. Все проститутки были предельно честны. Многие из них были молоды, красивы и прекрасно сложены. У них были чистые, не тронутые пороком глаза. Никто из них не употреблял марихуану или другую гадость.
В Лодзи мы простояли два месяца. Нашему ансамблю во время выступлений дарили много цветов. Их мы относили в бардак. Наши подруги были благодарны и растроганы. Они признали во мне своего менеджера. По всем спорным вопросам, в том числе профессиональным, они обращались ко мне. Меня иначе не называли, как «Борис Коханы», что в переводе означает «Борис Любимый».
Я знал, у кого из них когда день рождения, и мы всегда весело его праздновали. Я организовал для них концерт у них в доме, и это были самые благодарные зрители. Они ко мне и я к ним так привыкли, что мы были, как родные. Хотя я в то время был ещё молод, но уже ненавидел лицемерие, фальшь, неискренность, обман — именно то, чего не было у них, у этих проституток.
У нас в ансамбле была так называемая «правительственная» бригада, которая обслуживала высшее начальство. В неё кроме меня входили Каменькович, Тимошенко, Березин, баянист Ризоль и певец Дарчук. Однажды военный совет нашего фронта устроил вечер. Я попросил разрешения у члена военного совета генерал-лейтенанта Телегина привести с собой наших девушек. Получив добро, пошёл в бардак и выбрал восемь девчат. Они элегантно оделись, я предупредил их, куда мы идём, и попросил, чтобы они не говорили, кто они такие.
Появление наших красоток на этом вечере произвело фурор. Генералитет сошёл с ума. Генералы мгновенно преобразились. Они танцевали с девушками, ухаживали за ними, вечер прошёл блестяще.
Со временем все офицеры, живущие временно в Лодзи и постоянно посещающие бардак, были приучены, что надо платить деньги за своё удовольствие и за их тяжёлый труд, и не дай Бог проявить нетактичность по отношению к девушкам.
Лодзь у меня ассоциируется ещё с одним воспоминанием. В этот город советские танкисты настолько неожиданно ворвались, что пехота просто не поспела следом. Они освободили его от немцев и пошли дальше наступать. Наш ансамбль был первой воинской частью, оказавшейся в Лодзи. Не было ещё даже комендатуры.
Не все немцы успели уйти из города, и многие из них, в основном, офицеры, прятались на кладбищах в склепах, а многим удалось переодеться в гражданскую одежду.
Я по молодости лет испытывал свою судьбу и каждую ночь ходил через кладбище, держа пистолет «вальтер» наготове, это было легкомысленно и глупо. Немцам моя военная форма нужна была позарез, чтобы уйти или хотя бы переодеться.
Наш ансамбль поселился в огромном замке; там было очень много комнат и один большой зал. Жили мы по одному человеку в комнате, а в этом зале ели и вечерами играли в разные игры.
В ансамбле неожиданно вспыхнула эпидемия мародёрства, сказались условия: дома пустые, комендатуры нет.
Но эти мероприятия были довольно опасными, так как во многих домах прятались вооружённые немцы. Никто из хора и музыкантов не решался на это, и только некоторые из балета, разбившись по парам, шли на дело. У меня был партнёром по мародёрству Алиев, татарин — хитрый и смелый. Мы взламывали двери и забирали все вещи, которые там находились. Если в доме оказывались люди, то мы в роли комендантского патруля приказывали сдать оружие и фотоаппараты. Оружие нам никто никогда не сдавал, а несколько фотоаппаратов обязательно доставалось.
Однажды мы попали в огромную квартиру, где за столом в гражданских костюмах сидела целая группа здоровенных немцев. Деваться было некуда. Мы оказались в ловушке. Если бы они почувствовали у нас страх, они бы наверняка нас прикончили. Я властным голосом приказал сдать оружие и фотоаппараты, а Алиеву приказал держать внизу автоматчиков. Алиев спокойным голосом отдал приказ несуществующим автоматчикам. Один из немцев удалился и принёс мне фотоаппарат. Я взял его, и мы быстро смотались, запомнив дом и квартиру. Когда мы примерно через час пришли с подкреплением и автоматами, в квартире уже никого не было.
Танцовщик Гаврик Прокофьев и его напарник попали в аналогичную ситуацию. И немцы открыли по ним огонь. Они чудом уцелели.
Во всех квартирах, в основном, попадались дамские вещи. Мы оказались владельцами несметных богатств. Весь хор сходил с ума от зависти. Нам приходилось дежурить во дворе, где стояли машины. Мы давали хористам вещи, и они с удовольствием ночью дежурили вместо нас. Самое мерзкое время для дежурства было от часу ночи до трёх. Если по графику мне выпадало это время, то за эти два часа дежурства я давал два вечерних платья, десять пар чулок и ночной халат. В придачу ещё ночной дамский чепчик
Так как многие из наших мародёров грабили не только пустые дома, но по инерции и поляков, то начались жалобы. Начальник, майор Корнеев, был глуповатым служакой, к тому же очень трусливым. Мы ему после каждой нашей вылазки давали взятку в виде вещей для его жены, которая должна была приехать к нему на фронт. Но с каждым днём его страх увеличивался. Он не выдержал и поехал к начальнику политуправления фронта генерал-лейтенанту Галаджеву доложить о нашем мародёрстве. Выслушав начальника, генерал ему сказал:
— Товарищ майор, вы путаете, они не грабят, а ищут свои вещи.
Узнав об этом, мы, окрылённые, начали усердно искать свои вещи.
В замке мы переодевались во фраки с манишками и бантиками, а музыканты и хор в большом зале после ужина садились играть в домино во всём женском. Если артисты балета, нарядившись, смахивали на обыкновенных педерастов, то хор, с их квадратными мордами, вызывал гомерический хохот. Картина была уморительная. Сто мужчин в большом зале с хрустальными люстрами играют в домино со стуком и матом, одетые во все женское. Какая жалость, что у меня не было кинокамеры. Это были бы очень смешные кадры.
БУДИЛЬНИК
Я отчётливо помню наш первый концерт в Лодзи. Мы его давали для комендатуры и какой-то пехотной части. В первом ряду сидел капитан, который сразу крепко уснул. На лирической песне
Соловьёва-Седова «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат» у него в кармане зазвонил будильник. Капитан мгновенно проснулся и зажал рукой карман мундира, в котором лежал будильник. Когда он прижимал его рукой, будильник не трещал. Но стоило ему задремать, он отнимал руку от кармана, и опять раздавался резкий звук будильника.
Солист хора Фокин не мог петь, так как его душил смех. Главный хормейстер нашего ансамбля Шейнин смотрел в зал и мимикой показывал, чтобы капитана вывели из зала. История с будильником повторялась бесконечное количество раз.
Шейнин громко говорил залу, чтобы его вывели. А капитан спал мертвецким сном, и все ждали, когда он отнимет руку от кармана. Как только это происходило, следовал взрыв хохота на сцене и в зале.
Наконец пришёл комендантский патруль и вывел капитана с его трофейным будильником, который трещал во весь голос.
ПОЛКОВНИК ЦАРИЦЫН
Как раз когда стояли в Лодзи, из Москвы, из главного политуправления на фронт приехал полковник Царицын, этакий хлыщ в великолепной военной форме, сшитой из американской шерсти, холёный, весь напудренный и наодеколоненный. Нас собрали, и он держал речь. Призывал нас ещё туже затянуть ремни, так как с продовольствием плохо. Нам было известно, что американцы, помимо машин, танков, катеров и другой техники, ещё поставляли шоколад, тушёнку, колбасы и так далее в большом количестве. Правда, это к нам не доходило, оседая, вероятно, у таких, как этот полковник.
Накануне я получил письмо от матери, писавшей, что они в эвакуации умирают от голода.
Царицын нас ещё долго в своей речи призывал терпеть и терпеть. Я не выдержал и взял слово:
— Вот вы, товарищ полковник, призываете нас затянуть ремешки. Я не очень понимаю, почему одни должны сидеть на диете, а другие должны обжираться. Если в стране такое бедственное положение с продовольствием, то давайте вместе затягивать ремешки, товарищ полковник.
Этот небольшой монолог стоил мне ордена. Когда шло награждение, он приказал вычеркнуть меня из списков награждённых. Мы оба друг другу не понравились, но ему было легче.
Кстати, после демагогической патриотической речи его ждал банкет с коньяком. Полковник Царицын пошёл на банкет, а я пошёл в лес за подарком. Я нашёл противотанковую мину, и как только они разлили коньяк, вошёл в дом со словами:
— Товарищ полковник, вот мина, что с нею делать? Полковник крикнул:
— Уходите с нею немедленно! — Как уходить? Её надо разминировать! Холёный полковник выскочил через окно, и все гости последовали за ним. Жаль, что это был первый этаж.
Эти вояки, вероятно, не подозревали, что противотанковая мина может взорваться только под тяжестью танка. Я же прикинулся полным идиотом, но всё было в рамках патриотизма. Меня обвинить нельзя было ни в чём. Фактически я убрал с дороги мину и спас советский танк.
Я остался в комнате наедине с прекрасно сервированным столом. Быстро выпил стопку коньяка и вышел на улицу. Снова увидев мину, они рванули от меня, как от чумы. Я ещё успел сделать свой коронный трюк — споткнуться с миной и с трудом устоять на ногах.
Полковник собирался пробыть у нас неделю, но уехал на другой день. Жаль. У меня много было приготовлено для него сюрпризов…
ЛЕВИТАН-РЫБАК
Рассказ о моих товарищах по ансамблю был бы неполным, если бы я забыл описать нашего музыканта Левитана. Дело даже не в том, что он картавил сильнее всех на нашем фронте. Когда он начинал говорить, создавалось впечатление, что все вороны мира приехали на симпозиум. Обычно люди, имеющие речевой недостаток, стараются избегать определённых слов.
Наш Левитан был человеком другой породы. Он не только не избегал слов с буквой «р», а, наоборот, ухитрялся вставлять её везде, даже там, где её не должно было быть.
Но дело не в этом. Левитан был патологически скупым. На его фоне Плюшкин выглядел транжирой. Имея деньги, прожить всю жизнь, отказывая себе во всём, выше моего понимания. Великолепный артист Московского театра сатиры Владимир Хенкин зарабатывал по советским понятиям сумасшедшие деньги, но экономил каждую копейку.
Он коллекционировал часы, и все деньги тратил на эту коллекцию. Детей у него не было, и после его смерти коллекция часов досталась племяннику, который её пропил за месяц. Скупые люди — это богатые покойники.
Левитан любил вкусно поесть и выпить, естественно, на холяву. Он всегда искал «карася», который бы его угостил. В Люблине Левитан начистил сапоги, побрился и пошёл, весёлый, в ресторан, как он выразился, с очередным «карасём».
Через пять часов Левитан вернулся расстроенный, его лицо напоминало надгробную плиту.
— Что случилось? — спрашиваю. Левитан отвечает:
— Думал, что он карась, а он оказался зубаткой
В переводе это означало: «Я хотел его выставить на ужин, а он выставил меня». Левитан всегда приходил к нам в дом, когда мы ужинали и выпивали. Он садился, ел и пил, но у него самого никогда чая с заваркой не выпьешь. Для меня Левитан был, как сифилитик. Сифилитик тоже не виноват, что он болен, но общаться с ним все равно неприятно.
Наш ансамбль стоял в шестидесяти километрах от Берлина в небольшом дачном городке Цойтен. Мы жили в шикарных особняках на берегу большого озера с лодками. Мы все купались в озере, и только один человек в нашем ансамбле был заядлым рыбаком и не купался — это Левитан. Он каждое утро в пять или в половине шестого рыбачил до нашего купания. У него было одно излюбленное место, и он его никогда не менял.
Как-то я на лодке переплыл на другой берег и обнаружил труп человека лет сорока — сорока пяти в гражданском костюме. Это было очень таинственно и непонятно — на другом берегу, кроме леса, ничего не было, никаких жилых домов. Вероятнее всего, кто-то его убил, перевёз на лодке и там бросил. В связи с этим покойником у меня родилась идея.
Сидим мы вечером в нашем особняке и играем в карты: Тимошенко и Березин, Борис Каменькович и я. Докладываю им о покойнике и предлагаю 300 марок тому, кто перевезёт его с того берега на наш. Желающих не нашлось. Предлагаю Юре Тимошенко вдвоём отправиться на тот берег. Юра любит всякие проказы и не смог отказаться. Мы выпили для храбрости по двести граммов водки, взяли фонарик, большую лодку и в три часа ночи поехали за «жмуриком», была кромешная тьма. Мы молча, борясь со страхом и брезгливостью, переправились на тот берег.
Наконец, с фонариком отыскали покойника. Лес ночью всегда внушает страх, а тут ещё этот загадочный покойник. Двести граммов водки не дали ни хмеля, ни храбрости. Притащили труп к лодке, подняли и положили его на борт, но когда я оттолкнул лодку от берега, она накренилась, и «жмурик» упал в воду.
Глубина была небольшая, но он в мокрой одежде весил тонну. Я полез в воду его доставать. Когда я подтягивал покойника к себе, руки у покойника растопырились, чуть поднялись вверх, казалось, он хочет меня обнять. Кошмарное ощущение. Я долго с ним возился, устал, как черт, пока забросил тело в лодку.
Мы гребли, словно за нами гнались. С каждым преодолённым метром мы успокаивались. Когда, наконец, мы пристали к нашему берегу, то «жмурик» мне был, как родной. Было четыре часа утра.
Я рассказал ребятам свой план. Мы сняли с покойника чёрный пиджак, надели на него простую рубаху, закатали ему брюки, на голову надели соломенную шляпу от солнца, в руки положили удочку и забросили её в воду. Долго возились с его устойчивостью, выкопали ямку и к ногам сделали подпорки, чтоб не упал.
Спать не ложились. Ждали Левитана. В половине шестого утра он появился и ничего не мог понять. Его законное место занял какой-то человек. Левитан ещё издалека крикнул:
— Чувак, давай вали от сюда, это моё место! Но покойник стоял как вкопанный. Левитан приблизился к нему вплотную и, сердито обругав нашего «жмурика», резко ударил его в плечо. Это был практически не удар, а толчок. Покойник упал «замертво». Левитан наклонился над ним и убедился, что тот мёртв. Он засуетился, начал прикидывать в уме, что делать.
Мы тут вышли из дома, изображая сильно выпивших, и направились к Левитану. Он стоял перепуганный, бледный и трясущийся. Он сбивчиво объяснил ситуацию. Я ему говорю, что такое бывает, человек может от испуга получить разрыв сердца.
— Ребята, что делать? — говорит Левитан.
— Конечно, факт печальный, — отвечаю я, — но тебе надо помочь. Нас четверо, и ты знаешь, мы — полный молчок. Но необходимо придумать версию, что он погиб сам по себе. Скажем от сердечной недостаточности.
Левитан на меня смотрел с надеждой, как на медицинское светило мирового масштаба.
Во-первых, надо вызвать людей из морга, чтоб забрали покойника, а немецкого врача уговорить, чтобы он констатировал смерть задолго до твоего появления, — предложил я. — А мы — свидетели, что ты пришёл на рыбалку в половине шестого утра, а он, покойник, загнулся, мол, раньше.
Юра Тимошенко вставил нужную фразу:
— А какой же врач на это пойдёт?
Левитан засуетился и посмотрел на меня. Я, не задумываясь, сказал, что любой немецкий врач напишет всё, что скажешь, если увидит пятьсот марок. Левитана от этой суммы немного передёрнуло, но перед лицом военного трибунала он согласился.
— Если всё получится, — добавил я, — нужно будет ребятам накрыть стол. Левитан умоляющим голосом просил ему помочь. Я послал Левитана домой спать. Мы вновь переодели «жмурика», вызвали полицию, рассказали, что мы нашли труп и привезли его сюда с того берега.
Труп увезли. Потом я явился в морг и попросил врача, чтобы мне дали справку, отчего наступила смерть, и когда это произошло, якобы для наших следственных органов. Такую справку я получил, в ней было указано, что смерть произошла от удушья два дня назад.
Левитан дал мне пятьсот марок для подкупа врача, но я тянул с ответом.
Через два дня я сообщил ему, чтобы он готовил банкет для нас. Дал справку, с которой он пошёл к переводчику и пришёл в дикий восторг.
— Ты гений, Борис, — сказал он мне и поцеловал меня в лоб, как покойника. Левитан накрыл для нас стол, как для дворников. Мы прекрасно понимали, что с его скупостью он этим и ограничится, но, имея его пятьсот марок, докупили продуктов и устроили шикарный банкет. Выпивая и закусывая, никто не мог сдержать смеха. Левитан тоже веселился, не подозревая, что за нашим смехом кроется.
Когда банкет подходил к концу, я встал из-за стола и попросил внимания. Я рассказал, как было дело с покойником. Левитан сказал ряд нецензурных слов в наш адрес, поднялся и ушёл, хлопнув дверью. Весёлая ночь нам выдалась.
До самой демобилизации Левитан не мог забыть мне этого случая.
КОВАЛЕВСКИЙ
Ковалевскому было лет под пятьдесят. Он был услужлив, как собака. Все зубы у него во рту были железные. Ему их вставил в Киеве дантист-ювелир. Сделал это так, что рот у Ковалевского не закрывался, и поэтому дикция была у него полностью нарушена. Когда Ковалевский здоровался, казалось, что из его уст сыплется мат. Незнакомые люди порой на его приветствие тоже отвечали ругательствами.
На фоне этих железных зубов торчала закрутка махорки, а изо рта выходил дым — было такое ощущение, что затопили печь «буржуйку». Походка у него была шлёпающая, на всю ступню. Он её выработал для экономии. Как Ковалевский объяснял, при таком хождении меньше изнашивается обувь. Когда он ходил, он походил на танцующую лошадь. Он брился и мыльную пену не смывал, вытирал платочком, а потом этой пеной стирал носовой платок. У ничего не пропадало, как у немцев.
Когда он пел в хоре, зрители только на него обращали внимание. Дело в том, что он каждое слово в песне изображал. При слове «самолёт» он смотрел вверх, при слове «танкисты» он смотрел вниз и как будто провожал их взглядом, если встречалось слово «фашист», он хмурил брови, что выражало ненависть к ним. Зато при упоминании партии и Сталина, Ковалевский расплывался в широкой улыбке, показывая все свои тридцать два железных зуба, и от умиления так наклонялся вперёд, что несколько раз сваливал стоящих впереди певцов, а однажды умудрился вместе с ними упасть на оркестр. В дальнейшем певцы, знавшие его махровый патриотизм, как только в тексте встречались «Сталин» или «партия», брались за руки, чтобы удержать его порыв и избежать падения.
Ковалевский был всегда у телефона, начеку, особенно он угадывал звонок начальника ансамбля. Он брал трубку и говорил с ним, стоя по стойке «смирно». При рапорте начальнику он подходил к нему шлёпающей походкой, весь наэлектризованный, прикладывая руку к козырьку, и так сильно прикладывал ногу к ноге, что сам себя подбивал и падал навзничь. Это всегда вызывало дикий хохот у нас, стоящих рядом.
В том, что Ковалевский был действительно патриотом, я убедился лично. В Германии в городе Бабельсберге мы жили на частных квартирах с немцами. И вот однажды начальник попросил меня вызвать Ковалевского. Было без пяти минут двенадцать ночи. Когда я открыл дверь в квартиру Ковалевского, то услышал громко играющий гимн Советского Союза. Зайдя в комнату, я застал такую картину: Ковалевский стоит на постели в солдатском белье, навытяжку, приложив руку к козырьку, и поёт гимн. Из кальсон виднелось его мужское достоинство. Рядом по стойке смирно в своей постели стоит немка-старушка и старый немец. Маленький мальчик лет пяти тоже стоит в своей детской постели.
Как потом я выяснил у немцев, ежедневно ровно в двенадцать часов, как только начинали играть гимн Советского Союза, Ковалевский сам вставал и поднимал всех немцев. Конечно, ложась рано спать, Ковалевский мог выключить радио, но он это бы считал преступлением перед партией и Сталиным.
МАРШАЛ ЖУКОВ
Служба в ансамбле дала мне возможность не только хорошо узнать быт и нравы передовой, жизнь тыловиков, но и познакомиться с великими полководцами. На завершающем этапе войны нашим Первым Белорусским фронтом командовали выдающиеся военачальники — Рокоссовский и Жуков. Я не собираюсь анализировать их полководческий талант, давать им оценки. Во-первых, надеюсь, никто от меня этого не ждёт, во-вторых, столько на этот счёт написано…
Я хочу поделиться своими впечатлениями о них, как о простых людях. Мне они представляются обычными смертными, со своими привычками и недостатками…
Например, маршал Рокоссовский был неравнодушен к женскому полу. Несмотря на титанический труд, он находил время для женщин. Они были для него источником силы. Посудите сами. С ним на фронте была жена, но он умудрялся ещё сожительствовать с врачом-хирургом, майором по званию. Потрясающая блондинка. Мы часто с ней встречались, когда выступали в госпитале, где она работала. К искусству маршал относился равнодушно, но женщин из актёрской среды очень любил. Более всего это относилось к популярной актрисе Валентине Серовой, которую он вызвал на фронт, чтобы обслужить солдат Советской армии. Но она, в основном, видела только крупным планом маршала. Муж Серовой писатель Константин Симонов был безумно влюблён в свою жену и сходил с ума от ревности. Говорили, что об этом классическом треугольнике стало известно Сталину, который вмешался и прервал эту связь, ставшую притчей во языцех всего нашего фронта.
Мне трудно писать о Рокоссовском, так как его равнодушие к ансамблю не позволяло нам, артистам, встречаться с ним часто в непринуждённой обстановке.
Зато Георгий Константинович Жуков в этом отношении был полной противоположностью. Я прекрасно помню банкет по поводу передачи командования нашим фронтом из рук Рокоссовского Жукову.
Наш ансамбль выступал на этом вечере. На возвышенности стояли два мощных кресла, на которых восседали оба маршала.
Я уже упоминал, что Георгия Константиновича отличала от его предшественника любовь к искусству. Жуков сам прекрасно танцевал русские танцы. Его «дробушки», которые я выучил и потом показывал профессиональным танцовщикам, сложны даже для профессионалов. Жуков любил петь, но всегда с удовольствием слушал певцов и певиц, которые обладали хорошими голосами. Он также играл на баяне. Великолепный баянист ансамбля Ризоль в резиденции маршала в Потсдаме помогал Георгию Константиновичу совершенствоваться. Про Жукова говорили, что он антисемит. Эти слухи могли распускать только неполноценные евреи. Жуков был русским в самом лучшем понимании этого слова. В ансамбле работал солистом хора Яша Мучник. Он был бывшим кантором с прекрасной школой. Его голос драматического тенора, со слезой в голосе, нельзя было слушать равнодушно. Когда маршал впервые его услышал, он был покорён. Мучник помимо своего таланта был на редкость добрым, отзывчивым, бескорыстным человеком. Все его любили и уважали, включая антисемитов. Яша был типичным евреем: глаза навыкате с грустью всего еврейского народа. Нос не перепутаешь с русским, ноги иксом и, глядя на его походку, было такое ощущение, что у него две левые ноги и две правые руки. Короче, он даже со спины был похож на еврея.
После его выступления Жуков подозвал его к себе и, усадив рядом, на место маршала Рокоссовского, весь вечер не отпускал. Яша робко пытался что-то сказать маршалу, но Жуков успокаивал Яшу:
— Не волнуйся, сиди спокойно, пусть он погуляет. Солдат-еврей Яша Мучник весь вечер просидел на троне вместо Рокоссовского с прославленным маршалом Георгием Константиновичем Жуковым. Вот таким он был «антисемитом».
Когда кончилась война, Жуков в городе Потсдаме занимал огромный дом, где была его резиденция.
Из нашего ансамбля выделили группу солистов, которая обслуживала приёмы у маршала. В эту группу вошёл и я как ведущий. Жуков без нас, артистов, не мог жить.
Для иностранцев мы считались самодеятельностью. Мол, как только заканчивали в окопах стрелять, так сразу начинали петь и плясать. Короче — любители, как и весь советский спорт.
Однажды на приёме в честь английского фельдмаршала Монтгомери танцовщик Миша Виленский сделал головокружительный трюк. Монтгомери подошёл к нему и с недоверием спросил:
— Неужели можно воевать и отрабатывать такие сложные трюки? Я ответил за Виленского:
— Мы работали над собой не тогда, когда шёл бой, а когда на фронте было затишье.
Мне показалось, что фельдмаршал мне не поверил. Но Жуков в знак одобрения мне улыбнулся.
Во время войны наша бригада артистов выступала у разных генералов, по разным случаям, и всегда мы находились в передней, далеко от банкетного зала. И когда гости наговорятся, поедят и напьются, тогда приглашают нас, скоморохов, чтобы мы, голодные, их веселили. Маршал Жуков поломал эту традицию. И мы были всегда вместе. Вначале, правда, за отдельным столом.
Я присутствовал на всех встречах Жукова с союзниками — с генералом Эйзенхауэром, Бредли, Монтгомери и другими. Помню, генерал Эйзенхауэр наговорил Жукову много лестных слов по поводу его полководческого таланта. Он завершил свой монолог словами, что Жуков является главным человеком в победе над фашистской Германией. Жуков с удовольствием слушал мнение этого выдающегося военного специалиста. Маршал не умел, не хотел притворяться и был убеждён, что он заслужил эти комплименты. Эйзенхауэр говорил, что думал. Жуков прекрасно понимал, что каждое слово передаётся Сталину. Сталин не мог простить Жукову, что он промолчал с генералом Эйзенхауэром и ни слова не сказал не сказал о роли генералиссимуса. Я не встречал более мужественного человека.
Я очень нравился Жукову как артист: мои танцы, рассказы, пародии и, самое главное — моё пение. Я умел пародировать певцов: тенора и баса. Жуков всегда садился за наш солдатский стол и просил меня спеть с ним дуэтом.
Жуков любил петь кабацкие русские песни. Самая любимая его песня была «Не за пьянство, не за буянство и не за ночной разбой. Ах ты, доля моя доля…». Дальше я понятия не имел, какие там идут слова, но меня спасал вокализ, в котором никто никогда не может разобрать ни одного слова. Маршал часто оставлял меня у себя в особняке ночевать, а утром, когда мы завтракали вдвоём, он со мной делился своими мыслями, как с равным. Это было странно, непонятно и очень приятно. Конечно, было мне неловко, что я не знаю слов песни, которую мы всегда пели вместе: «Не за пьянство, не за буянство…» И узнать не у кого было, и у маршала тоже разобрать слова, когда мы шли на «форте», было невозможно.
За годы войны я так возненавидел советских офицеров, что до сих пор не могу вспоминать их без дрожи и ненависти. Большинство офицеров считало своим долгом издеваться над солдатом, показывая своё превосходство. Особо этим отличались политработники и тыловые крысы. По любому поводу эти мрази тащили нас в комендатуру. Не отдал вовремя честь, не застёгнута пуговица…
Помню, как-то мы с приятелем-солдатом зашли в Киеве перекусить в столовую. Сели за стол, подозвали официанта и начали заказывать еду. В это время подошёл к нам врач в чине майора и сказал, что по военному уставу мы, солдаты, не имеем права сидеть в столовой, где находятся офицеры. Приказал нам срочно убираться. В противном случае он грозился вызвать патруль. Я был очень голоден, и нервы мои не выдержали.
— Послушай, санитар, — сказал я ему, — зачем ты играешь в эту игру, ты же не военный человек.
Он начал истерически кричать. Я был готов его нокаутировать. Но на наше счастье, зашли в эту столовую восемь пьяных кавалеристов с длинными усами. У всех сабли волочатся по земле и ни одного живого слова, кроме мата. Они нас увидели, узнали, бросились целоваться. Мы для них выступали на фронте, а сейчас у них было переформирование части, и они отдыхали.
Узнав причину инцидента, они, как по команде, вытащили сабли и с отборным матом направились к майору. Он, вероятно, никогда прежде так быстро не бегал, как в этот раз.
После войны в связи с победой наш ансамбль встречался с американцами на Эльбе. Был устроен импровизированный парад.
Я был поражён, когда увидел сидящих в первом ряду генералов с солдатами, среди них было много негров. Здоровые, весёлые, смеялись, хлопали и свистели вместе со своими генералами.
В советском представлении негры ассоциировались с героями «Хижины дяди Тома». Смотреть на американских солдат и генералов было одно удовольствие. Ещё тогда я влюбился в Америку и в американский народ.
В резиденции маршала в Потсдаме обслуживающий персонал состоял из лиц мужского пола в чине не ниже генерал-майора. Они были откровенными холуями: чистили маршалу сапоги, накрывали на стол и убирали со стола. Словом, походили на услужливых собак. Когда они выслушивали распоряжения маршала, то сгибались до полу. Противно было смотреть на этих людей, потерявших к себе всякое уважение. Я уверен, что если бы они вели себя с достоинством, то маршал бы их уважал.
Для маршала эти холуи были кем-то вроде декоративных собачек, но с нами они превращались в свирепых псов. Точнее, они были по своей натуре псами. Им нужно было накрывать наш солдатский стол, а им это было противно. Я понимал их, но ничем помочь не мог. Они метали громы и молнии в нашу сторону, злыми глазами с презрением смотрели на нас и тихонько матюкались. Больше всего их злило, что маршал Жуков три четверти вечера сидел за нашим столом. Эти холуи нам мстили, как только могли. На нашем столе из еды почти ничего не было, не говоря уже о спиртном. Только когда Жуков садился за наш стол и хотел с нами выпить, тогда генерал-холуй приносил что-то закусить. Маршал об этом не знал и был уверен, что мы сыты и в порядке.
Наша бригада приезжала в резиденцию Жукова задолго до начала банкета, и когда мы заходили в банкетный зал, на нашем столе ничего, кроме приборов не было. Смотреть голодному человеку на обильные столы и на с аппетитом жующих и пьющих людей было пыткой. Мне это надоело, я решил воспользоваться расположением ко мне маршала и пожаловаться ему. Я выбрал момент, когда он сел к нам за столик в хорошем расположении духа, не сомневаясь, что мы, как и он, уже поели и выпили. Обняв меня за плечи, он предложил спеть дуэтом. Я ему сказал:
— Товарищ маршал, можно я с вами спою чуть позднее, так как я ещё с утра ничего не ел? Нельзя ли приезжать для выступления немного позднее, чтобы успеть у себя пообедать? Здесь нас не кормят.
Глаза, выражавшие неловкость, смущение и длительную борьбу с самим собой, сказали маршалу ещё больше.
Жуков от злости покрылся красными пятнами. Пренебрежительно, одним пальцем подозвал официанта-генерала и сказал:
— Слушай меня внимательно, это в твоих интересах. Отныне ты будешь подавать на этот стол всё, что тебе скажет Борис. Если что-нибудь будет не так… Пеняй на себя!
А мне скомандовал:
— Давай, Борис, заказывай, а я потом подойду. Генерал стоял, как телеграфный столб. Он с большим удовольствием бы меня кусал, резал, вешал, стрелял, но… Надо было выполнять распоряжение маршала.
Я прекрасно понимал его положение. Спокойным, интеллигентным голосом, глядя генералу в глаза, начал заказывать:
— Всем по пачке «Казбека» (курили мы все махорку-самосад), водочки, сёмужки, ветчинки… Заказывал я неторопливо, зная, что с каждым словом заказа ему делается все хуже и хуже, а мне все лучше и лучше. И вот так было всегда, когда мы приходили к маршалу Георгию Константиновичу Жукову.
Один раз, когда я заказывал, генерал над моим ухом всё время скрипел от злости зубами. Меня это тоже раздражало. Когда дошло до водки, я сказал генералу:
— Принесите пять бутылок водки, чтобы вам не бегать взад-вперёд… Он не выдержал, громко крикнул:
— Блядь!! — и убежал.
Таким же был и наш начальник майор Корнеев, готовый подобострастно выполнить любой приказ. Когда он приехал с маршалом Рокоссовским на охоту, убитая утка упала в болото. Корнеев бросился в болото, схватил птицу зубами, как породистая охотничья собака, и принёс её маршалу.
Мы друг друга не терпели, и он при любом удобном случае делал мне всевозможные гадости. Своей подлостью он довёл меня до крайности, и я решил его примерно получить.
Обычно Корнеев нас отвозил к маршалу Жукову и ждал у входа в дежурной. Как-то я на радостях сильно выпил и от всей души вместе с Жуковым начал петь дуэтом «Не за пьянство, не за буянство…» Голос звучал отлично. У моего голоса не было совершенно бархата, но было много металла.
Этого металла могло хватить минимум на два металлических завода. Мой голос был услышан нашим начальником далеко в дежурке. Он не знал, что Жукову нравится мой голос. Ему стало страшно, что я отвратительным горлопанским звуком балуюсь в таком ответственном месте. Начальник вызвал меня. Я вышел и обнаружил майора в дрожащем состоянии.
— Борис, — умоляюще сказал он, — пожалуйста, больше не пой, ты меня подведёшь под монастырь.
— Это приказ? — спросил я.
— Да, — ответил начальник.
— Всё в порядке, больше я петь не буду, — ответил я ему. Я вернулся, сел за стол, где меня поджидал Георгий Константинович. Мы выпили ещё, пошутили.
Жуков был в этот день в очень хорошем настроении, обнял меня и сказал:
— Давай, Борис, затянем нашу любимую. Я с нетерпением этого ждал.
— Простите, товарищ маршал, но мне запретили петь! Жуков лишился дара речи, у него затряслись губы, глаза налились кровью и через длинную паузу он не проговорил, а прошипел:
— Кто это тебе запретил петь? Я отсутствующим голосом назвал нашего начальника ансамбля.
— Позовите её (вернее всего маршал имел в виду эту блядь), — сказал Жуков.
Через несколько минут прибежал наш майор, жуков на него посмотрел, как на крысу. Начальник пытался доложить, кто он и что он явился по распоряжению, но язык его присох, челюсть дрожала, глаза ничего не выражали. Корнеев был в коме. Жуков сказал, что если он ещё раз увидит его близ своего особняка, то он его потом больше никогда не увидит и послал его вон. Майор Корнеев продолжал стоять, не шелохнувшись. Потом неожиданно для всех он отошёл и бросился бежать из резиденции. Жуков не выдержал и засмеялся вместе с нами. И тут на радостях я вместе с маршалом затянул «Не за пьянство…»…
По окончании войны к маршалу Жукову прикрепили дипломата Вышинского и главу ведомства госбезопасности генерал-полковника Ивана Серова.
Маршал Жуков был здоровым и крепким мужчиной, который всё время норовил с кем-нибудь побороться. Так часто поступают сильные люди, которым некуда девать свою силу.
Как-то у Жукова был на приёме английский фельдмаршал Монтгомери. Монтгомери выглядел дряхлым стариком. Жуков из большого уважения к нему обхватил его профессиональным борцовским движением за талию и приподнял на воздух, весело улыбаясь. Но Монтгомери и всем было не до смеха. Англичане онемели от страха. Мы все бросились его освобождать. Он ничего не сказал, но посмотрел на Жукова, как на русского медведя.
Раньше я никогда не обращал внимания на советскую форму маршала, но, когда увидел американского генерала Эйзенхауэра, невольно начал сравнивать. Эйзенхауэр был высоким, импозантным мужчиной, и военная форма его украшала. Хорошо сшитый костюм, туфли, галстук — всё было прекрасно. Одежда советского маршала уродовала фигуру, сапоги, галифе укорачивали ноги, а китель полнил человека. Жуков был крепко сбитым мужчиной, и форма его укорачивала, полнила; он был похож на борца или штангиста в тяжёлом весе. Вот такой скромный дизайн придумали для советских генералов.
После окончания войны в честь Победы был устроен большой банкет для иностранных делегаций. Выступал французский министр, который долго хвалил Советскую Армию и потом много лестных слов говорил в адрес Жукова, жуков взял слово и начал говорить. Переводчик переводил речь Жукова на французский язык. И вдруг Жуков остановил переводчика и сказал, что не надо переводить его. Они, мол, и так поймут без переводчика, так как рано или поздно французы будут плясать под нашу дудочку, многие опешили. Маршал вообще не отличался дипломатичностью. А тут, вероятно, сказалось количество выпитого…
В этот же вечер Георгий Константинович допустил ещё одну бестактность по отношению к французам. Французский министр подошёл к Жукову и предложил тост. Жуков отказался пить и, передав генералу Чуйкову свой бокал вина, поручил ему выпить с французом. Но Чуйков не признавал вина. Пришлось заменить его более крепким. Он налил себе тонкий гранёный стакан водки, чокнулся с французом и влил в себя содержимое стакана. Я человек пьющий и могу выпить много, но, глядя на это, пришёл в восторг. Француз остался стоять с широко открытым ртом и не мог понять, как можно выпить квартальную норму спиртного за один раз.
Герой Сталинграда генерал Чуйков был легендарной и незаурядной личностью. Несмотря на свою славу, в жизни это был простой, жизнерадостный человек. Он не признавал условностей. Помню, на том банкете он расстегнул китель, из-под которого показалась тельняшка.
Начались танцы. Член военного совета фронта генерал-лейтенант Телегин танцевал русский танец с платочком в руке и напоминал колхозного гомосексуалиста.
Жуков покорил всех присутствующих профессиональным, огненным русским танцем. Это было на высшем уровне. Жуков пригласил на танец генерала Чуйкова. Чуйков в матросской майке, огромный, с железными зубами, напоминал обаятельного медведя. Он вышел на танцплощадку и вдруг неожиданно сделал «перемёт» — переднее сальто. Очень сложное движение! Тем более на скользком паркетном полу, плюс — после двух литров выпитой водки. Это походило на смертельный трюк, но генерал сделал его безукоризненно и вызвал бурю аплодисментов.
Дальше Чуйков показал себя с лучшей стороны в присядках и под аплодисменты зала закончил танец. Позвал меня, и мы пошли за стол допивать.
Как я уже говорил, маршал Жуков ненавидел подхалимов, они его раздражали, и ему было это невмоготу. После победы над Германией Жуков устроил у себя банкет для генштаба фронта. Все лебезили перед ним, хотя каждый их них занимал достаточно высокое положение.
Слово взял генерал Соколовский:
— Товарищи! Я хочу поднять тост за нашего маршала Георгия Константиновича Жукова. Я даю голову на отсечение, что если бы не товарищ Жуков, Москва бы пала!
Соколовский, будучи чисто русским человеком, этот тост произнёс с большим еврейским акцентом. Вот до чего доводит подхалимаж. Я, к сожалению, не могу воспроизвести на бумаге этот акцент, но когда я демонстрировал его Жукову, он смеялся.
На этом вечере присутствовала замечательная русская певица, гордость страны Лидия Андреевна Русланова со своим мужем генерал-лейтенантом. Он был маленького роста, весь круглый; как колобок. Жуков боготворил Русланову и смотрел на неё влюблёнными глазами, как на икону. Из-за любви к гениальной певице Руслановой он терпел её мужа, который очень настырно и несмешно шутил. Георгий Константинович всё время просил Лидию Андреевну спеть. Пела она с душой, голос её разливался колокольчиками… Это было великолепно.
Когда пела Русланова, я получал большое удовольствие, глядя на маршала. Какое у него было одухотворённое лицо! Он получал от её пения истинное наслаждение, был в эти минуты самым счастливым человеком. По-моему, в сорок восьмом году Лидию Андреевну Русланову посадили в тюрьму, и надолго. За что? Вопрос не по существу. Был бы человек — статья найдётся.
Как только Жукова назначили министром обороны СССР, он добился освобождения Руслановой.
Генерал-полковник Иван Серов, приставленный к Жукову, имел нормальную внешность. Никто бы, никогда не подумал, что он глава такого страшного ведомства. Он больше смахивал на инженера или, скажем, на зубного техника.
Он ни разу со мной не заговорил. Я для него был как мебель. Зная, кто он и какое занимает положение, в душе я его презирал и старался ему не попадаться на глаза.
На одном приёме, когда были французы и англичане, Серов выглядел очень суетливым и сильно озабоченным. Кстати, он ни разу не сидел за общим столом и вообще не принимал участия ни в каких совещаниях. По его озабоченности я понял, что гости очень важные и что от них что-то нужно. Мне было неловко сидеть в общем зале и слушать эти разговоры. Я обычно выходил из зала в приёмную, чтобы быть подальше от их секретов.
В этой комнате стоял телефон. Зашёл Серов, не обращая на меня никакого внимания, набрал номер и жлобским голосом приказал:
— Нужны бляди. Штук восемь. Французы остаются и пара англичан, ничего не знаю, достань блядей где хочешь. Пойми, это важно. Четырёх мало, их должно быть не меньше восьми. У тебя есть примерно два-три часа. Слушай меня, они должны быть прилично одеты, в вечерних платьях. Что значит нет платьев? Достань! Зайди к немцам и возьми. Заодно захвати у немцев краски, чтобы их подкрасить, и духи — придушить. Надень им на платья ордена, медали и гвардейские значки. Одну сделай героем Советского Союза. Давай действуй!
Я не знал, куда мне деваться, невольно став свидетелем секретного разговора.
Примерно часа через два с половиной пришли фронтовые подруги. Я человек выдержанный, умею сдерживаться, но глядя на них, чуть не расхохотался, однако вовремя взял себя в руки и так держался до конца.
Если меня эти фронтовые чуть не рассмешили до слёз, то на Ивана Серова они произвели удручающее впечатление. Он-то понимал толк в проститутках: у него в Москве был целый штат и на разные вкусы, причём соображающих проституток, которые выполнят любое задание. Эти же, так называемые фронтовые подруги, одетые в платья с чужого плеча и раскрашенные, как клоуны, скорее походили на цыганок. Все они улыбались до ушей, и в глазах горело желание услужить. Это был единственный положительный фактор.
Генерал Серов, имея огромный опыт работы с проститутками, сказал, что надо срочно напоить французов и англичан. Мужчине надо выпить чуть больше, и любая уродливая женщина покажется ему Афродитой. Что и случилось. Все хорошо поддали. Начались танцы. Французы и англичане выбрали себе по лахудре на свой вкус начали сближаться; по всему было видно, что они созрели для большой любви. Иностранцы по пьянке начали спрашивать, на каком фронте те воевали и за какие подвиги они получили награды. Они понятия не имели, что нужно отвечать, так как инструкцию они не получили. Тут я включился в игру. Я рассказывал, что девушки очень в этом отношении скромные, они даже не считают то, что они сделали, подвигом. Пока это переводили, я придумал им всем различные подвиги, а Клаве, которая получила Героя Советского Союза, закатил такой подвиг, что она начала себя ещё больше уважать и от умиления прослезилась.
Иван Серов на этот раз остался мною доволен. Иностранцы поверили, что перед ними настоящие фронтовички, потому что были крепко выпившими и по натуре людьми доверчивыми.
Часа в четыре ночи наши фронтовые подруги утащили пьяных иностранцев по комнатам выполнять важное государственное дело. В эту ночь ни один дипломат не мог бы заменить наших девчат. Я остался ночевать у Жукова, а утром впервые увидел улыбающегося генерал-полковника Серова. Вероятно, наши советские проститутки с честью выполнили задание Партии и Правительства.
Я не знаю, было ли известно Жукову про эту операцию, но когда мы с ним остались вдвоём, и я почувствовал, что у Георгия Константиновича хорошее настроение, показал в лицах вчерашний вечер. Жуков смеялся до слёз. У нашей Клавы — Героя Советского Союза, была огромная грудь, её короткие руки не доставали до сосков, а на самом конце груди висели Золотая Звезда и орден Ленина. Француз
был в восторге от Клавиной груди и нежно её целовал, как все пьяные люди не сомневаясь, что этого никто не видит Со стороны же было полное впечатление, что он целует Ленина на ордене. Клава была моей лучшей актёрской работой. Маршал без конца просил меня изобразить Клаву. Я боялся, чтобы о моих проделках не узнал Серов. Это могло бы стоить мне свободы.
С тех пор прошло много лет. Маршал Жуков умер, познав в жизни все — мирскую славу и царскую опалу. Я с гордостью вспоминаю нашу дружбу. И вовсе не потому, что каким-то образом оказался пригретым великим полководцем. Дело в том, что я дружил не с маршалом Советского Союза Жуковым, а с простым, открытым русским мужиком, каким был в обыденной жизни Георгий Константинович.
ГОРОД БАБЕЛЬСБЕРГ
В Германию мы пришли победителями, и это обстоятельство накладывало определённый отпечаток на наши отношения с местным населением. Скажем, когда мы воровали у немцев, это было нормально. Немцы на нас первыми напали, разрушили хозяйство, все награбленное увезли в Германию, мы имели право вернуть своё. Но когда немцы начали у нас, победителей, воровать, это было безобразие. Тем не менее они воровали у нас продукты. У нас, например, в доме было много сала, мёда, американских сигарет. Немец, хозяин дома, систематически уменьшал мои запасы. Бороться с ним было непросто. Дело в том, что после окончания войны вышел строжайший приказ; за мародёрство и другие преступления — расстрел. Многих, прошедших с боями всю войну, расстреливали. Было опасно открыто вступать с немцами в конфликт, любая жалоба с их стороны могла кончиться для нас трагически. Я искал дипломатические ходы возмездия.
Мой немец любил тепло и спёртый воздух. Никогда не открывал зимой окна. А я любил свежий воздух и открывал окна настежь. Моя взяла, мой немец простудился и слёг с температурой.
Я не люблю людей со злыми глазами, а он был злой. Воровал и всем своим поведением выказывал ненависть.
Он было пошёл на выздоровление, но я, воспользовавшись моментом, открыл окно и устроил ему советский сквозняк. Он сразу отреагировал и схватил воспаление лёгких. Пока он был в постели, наши запасы не таяли. Это была мелкая неподсудная месть.
Перешёл я на другую квартиру к какому-то бывшему генерал-директору. На фоне этой мрази предыдущий немец-вор был ангелом. Он не только крал у нас, но и открыто говорил о своей ненависти к русским, не говоря уже о евреях. Он оправдывал лагеря смерти и восхвалял Гитлера. Если бы это было до приказа о расстреле, я и его дочь Эльза больше его не увидели. Я придумал ему месть.
В последние дни я вошёл с ним в дружеские отношения. Мы вместе выпивали, я щедро накрывал на стол. Его дочь была симпатичной блондинкой и очень добрым человеком. Ни в чём не отказывала.
В немецких домах в парадных включали свет на две минуты. Человек мог при свете зайти к себе в дом, а потом свет гас.
Я отправил Эльзу на гулянку с нашими ребятами, он остался дома один. В три часа ночи, не зажигая свет в парадном, позвонил старику. Он открыл дверь, и я неожиданно для него просунул вперёд руку и ударил его в лоб, при этом громовым голосом крикнув: «Хайль Гитлер!» Хозяин от испуга упал и забился в судорогах. А я смеялся и говорил, что это шутка.
На всю жизнь любитель фашизма стал заикой. Мне за это ничего не было, мою шутку определили просто глупой. С этим нельзя было не согласиться, и я обещал никогда больше так не шутить.
В тысяча девятьсот сорок восьмом году я с Краснознамённым ансамблем приехал в Германию, навестил его и страшно обрадовался, услышав его заикающуюся речь.
Мне вспоминается ещё один эпизод, произошедший в том же немецком городке. Я случайно стал свидетелем и, самое главное, спас «героя» происшествия от неминуемого расстрела.
В Бабельсберге на центральной улице был бар. В нём можно было выпить кофе, пива, водки и съесть сосиски с капустой. Держали заведение две пожилые крашеные блондинки. Я к ним часто заходил. Они не сомневались, что я имею отношение к комендатуре.
Как-то проходя мимо бара, я услышал страшный крик. Вбегаю. Мне навстречу выбежала одна из хозяек с криком:
— Помогите, Эльзу насилуют!
В зале вижу такую сцену: Эльза лежит распластанная на стойке бара, нижняя губа чуть прикушена, глаза закатились вверх и на лице нежная, поднебесная, светящаяся улыбка.
Если человек не знает, что такое счастье, то надо было взглянуть на Эльзу. На ней лежал сокол ясный, сизокрылый, в полном солдатском обмундировании. Он сопел, суетился и без конца мне повторял:
— Умоляю не мешай, не…
— Не волнуйся, не суетись, тебя никто не обидит. Солдат не верил мне и продолжал суетиться, стремясь поскорее покончить с этой любовью.
Партнёрша Эльзы успокоилась, перестала кричать и с любопытством наблюдала за происходящим. Наконец воин-победитель кончил своё дело и обратился ко мне:
— Все, спасибо тебе! Теперь веди меня куда надо. Мы вышли вместе и пошли в противоположную от комендатуры сторону. После приказа Сталина этого солдата за насилие расстреляли бы перед строем.
— Как ты мог так рисковать, — говорю я ему, — в три часа дня, в людном месте броситься на старую бабу и насиловать её?
— Понимаешь, — ответил бедолага, — я зашёл выпить пивка. Сижу жду, она, эта, как её, Эльза в короткой юбке стоит у стойки. Вдруг она потянулась за чем-то, оказалась в такой позиции, да ещё трико у неё такого возбуждающе оранжевого цвета. Клянусь, дальше ничего не помню… Она даже не пикнула, напротив… Зато вторая как разорётся.
— Запомни, любая немка тебе без насилия отдастся. Он не поверил, что его отпускают, приготовившись к самому страшному.
Долгих четыре военных года я провёл в армии. Мне казалось, что победа освободит всех, и в первую очередь артистов, от воинской службы. Словом, всё это я представлял идиллически. Как в песне «Снимай шинель, иди домой». Мы ждали демобилизации, а она откладывалась на неопределённый срок.
Мы пили и тупели, не находя себе места. Мы стояли в городе Бабельсберге в тридцати километрах от Потсдама. Жили рядом с комендатурой. Окно коменданта-полковника выходило прямо на мои окна.
Полковник ненавидел нас за расхлябанность и за наглый вид. Он часто нас арестовывал, издевался и потом отпускал. Короче, ненависть была обоюдной. Я из своего окна изучил все его повадки и наклонности, точно знал, когда он ест и когда ложится отдыхать.
Чтобы досадить полковнику, я купил мотоцикл. Мне объяснили, как его включить, что я и сделал. Поехал, но не знал, как остановиться. Я проехал нашу улицу, повернул налево на центральную, чтобы сделать круг и вернуться назад. Попав на центральную улицу, я орал, чтоб все расступились, так как я не знаю и не могу остановить мотоцикл. Немец-регулировщик ничего не понял. Я ехал, не признавая знаков и правил движения.
Ехал я медленно, на первой скорости. Попав опять на нашу улицу, я на ходу попросил ребят, чтобы мне объяснили, как остановить мотоцикл. Естественно, на скорости я ничего не понял и сделал ещё один круг. Немец-регулировщик, наконец-то поняв, что со мною происходит, остановил все движение. Опять мне кричали ребята, и опять я ничего не понял. На площади меня уже ждали прохожие и хохотали. Как только на площади раздавался стук мотоцикла, немец-регулировщик плакал от смеха. С каждым моим появлением людей прибавлялось, и хохот увеличивался. Я мечтал, чтобы мотор заглох. Так я ездил по кругу больше часа, пока мотоцикл не зачихал и не остановился.
Все дружно мне зааплодировали. Оказалось, кончился бензин.
Я научился ездить на мотоцикле хорошо, и, чтобы досадить нашему коменданту, когда он отдыхал после обеда, ездил вокруг комендатуры на первой скорости. Звук работающего мотоцикла — омерзительный звук. Я точно высчитал когда он злой встаёт и даёт приказ меня арестовать, и в это время уезжал в Потсдам. Эту процедуру я проделывал каждый день в течение месяца, пока мне не надоел мотоцикл.
Мы жили хорошо. Еды и водки было навалом. Немки нас любили, как родных. Каждая молодая немка хотела нас, и мы им не отказывали, понимая свою историческую миссию. Полковника-коменданта это раздражало. Он не понимал, что красивая женщина не может быть врагом.
Комендант, глядя на наши оргии, бесновался и придумывал всякие подлости. Писал жалобы и третировал нас, имея власть.
Историю с мотоциклом я повторил, купив по дешёвке лошадь с коляской. Цокот копыт по булыжнику, которым была выложена дорога, приводил коменданта в исступление. К моменту же появления работников комендатуры можно было видеть только зад лошади, направлявшейся со мной в Потсдам.
К нашему коменданту приехала жена, младше него лет на двадцать. На фоне наших молодых немок она смотрелась, как лифтёрша, но он страшно ревновал её к нам.
Она была игривой и, конечно, была бы непрочь завести роман. Комендант это чувствовал и ещё больше нас ненавидел.
Каждое утро у себя в комнате я почти в голом виде делал перед окном зарядку. Его жена с любопытством наблюдала за мной. Правда, чтобы увидеть меня из своего окна, ей надо было встать на стул.
Когда комендант застал свою жену, глядящую на голого мужчину, он потерял покой.
Он пожаловался нашему начальнику. Тот попросил не заниматься зарядкой. Почему я не должен заниматься зарядкой? Я у себя дома.
Комендант пожаловался в политуправление, что я по утрам занимаюсь зарядкой в голым, и его жена это видит.
Ко мне пришли двое с нашим начальником и прочитали письменную жалобу коменданта. Я подвёл их к окну и показал на окно коменданта.
— Чтобы увидеть из их квартиры то, что делается в моей комнате, нужно специально встать на возвышение.
Есть такой анекдот. Один мужчина написал заявление в жилищное управление, чтобы ему поменяли квартиру, так как он живёт напротив женской бани, и это ему доставляет беспокойство. Пришла комиссия, осмотрела комнату и говорит: «Простите, но женская баня из вашей комнаты не видна». — «Так, конечно, не видно, но вы встаньте на шкаф…» Будучи человеком гуманным, я решил делать по утрам зарядку в другой комнате.
МОИ ВСТРЕЧИ
Судьба подарила мне непростую жизнь. Было в ней и хорошее, и плохое. Вероятно, если бы были весы, взвешивающие человеческие судьбы, трудно сказать, какая чаша перетянула бы в моём случае. Тем не менее — это моя жизнь. Я её люблю, я ею доволен и не хотел бы по блату получить более благополучную и спокойную.
Пожалуй, главное, что я ценю в своей жизни, — великое богатство общений и дружбы с интересными людьми моего времени, с которыми меня свела судьба.
Я прекрасно понимаю, что рассказать на страницах книги обо всех, с кем я дружил, с кем работал, невозможно. Я и не стремлюсь объять необъятное. Тем не менее я хочу рассказать о некоторых из своих друзей, чьей дружбой горжусь и всегда вспоминаю их с теплом и признательностью.
ГАРКАВИ
Михаил Наумович Гаркави в 50-х — 60-х годах считался одним из ведущих конферансье в Союзе. Он был остроумным и находчивым, то есть обладал именно теми качествами, без которых прежде не мог работать на сцене конферансье.
Сейчас профессия конферансье, на мой взгляд, деградировала. Любой человек, не будучи остроумным и находчивым, но имея хорошо написанный автором текст, может спокойно работать в качестве конферансье. Что, кстати, многие на эстраде и делают.
Михаил Гаркави был конферансье, что называется от Бога. Помню, как-то в Центральном доме работников искусств в Москве он проводил бои со зрителями. Люди задавали всевозможные провокационные вопросы, заранее ими подготовленные, а Гаркави экспромтом мгновенно отвечал. В девяноста процентах это были остроумные ответы, и зрители признавали своё поражение. К такому по бумаге не подготовишься.
Профессия конферансье на эстраде когда-то была самой сложной и нужной. Однако не престижной. Гаркави до конца своей жизни, будучи одним из лучших конферансье страны, не удостоился чести получить от государства хоть какое-то почётное звание. Это говорит лишний раз о порочности системы, при которой громкие титулы отнюдь не связаны с талантом. Главным считается происхождение, национальность, благонадёжность, лояльность к партии, личные контакты, взятки, подхалимаж и так далее.
Мне часто приходилось выступать в гала-концертах и встречаться с народными артистами СССР, которые по своему таланту не должны были быть даже рядовыми артистами.
Не случайно в актёрской среде никто никогда не обращал внимания на звания. Для нас существовал гамбургский счёт. Расскажу для тех, кто не знает, что это означает.
Раньше в цирках проводились соревнования по борьбе. Это было цирковое шоу. Это шоу ставил режиссёр. Он же решал, как завлечь публику на это представление. На репетициях решалось, кто кого победит, на какой минуте и при каком приёме. Зрители, например, влюблялись в борца Яна Цыгана, который был хорош собой, и болели за него. Он шёл без поражений, и вдруг борец Боровский его побеждает. Ян Цыган жаждет реванша. Зрители валом валят в цирк и т.д. А днём, на репетициях, режиссёр решает, кто победит и кто будет побеждён. Словом, все, как в театре.
И лишь один раз в году в Германии, в Гамбурге, собирались при закрытых дверях все участники цирковых шоу и боролись честно, без режиссёров. Это были серьёзные соревнования, которые выясняли КТО есть КТО…
Так вот, по нашему профессиональному счету Михаил Гаркави был ведущим конферансье, а многие народные артисты и лауреаты — пустое место.
Он запомнился мне простым, добродушным, интересным человеком. В Одессе говорят, что хорошего человека должно быть много, то есть он должен быть крупным. Если судить по этому критерию о Гаркави, можно сказать, что он был замечательным человеком. Огромный, в полном смысле необъятный человек, Гаркави в то же время обладал необъяснимой лёгкостью. На сцену он всегда выбегал легко и ловко, словно не было его гигантского веса.
У Михаила Наумовича была страсть к вранью, причём абсолютно бескорыстная. Он не преследовал никакой цели, а просто любил придумать историю, долго рассказывать и верить в это.
Не помню по какому поводу я однажды вспомнил разведчика Зорге.
Гаркави реагировал мгновенно:
— Рихард Зорге? Это же мой самый близкий друг. Когда разоблачили шпиона, работавшего на ЦРУ, полковника Пеньковского, то Гаркави, оторвавшись от чтения газеты, сказал:
— Пеньковский без меня не садился ужинать. В эту минуту он не задумывался, чем рисковал, если бы среди нас сидел какой-нибудь стукач. Заговори о футболе — он тут как тут.
— Борис, я был в первой сборной Советского Союза центральным нападающим, — однажды признался он мне.
Дело не в том, что я знал все фамилии игроков сборной Советского Союза, а видел фотографии Михаила Наумовича Гаркави в детстве, где он был таким толстым, что ему наверняка не удавалось играть даже во дворе.
По его словам он был главным хирургом фронта в гражданскую войну. Михаил Гаркави действительно учился в медицинском институте и закончил два курса. Возможно и работал во время войны, но максимум как медбрат.
Однажды у нас были совместные гастроли в Ленинграде. Тогда я ещё не знал о его страсти к выдумыванию всевозможных историй, и он меня как новичка подцепил и начал рассказывать свои фронтовые похождения. Одну из баек я воспроизвожу.
« — Во время войны я, один высокий чин из политуправления Красной Армии генерал Шикин и группа артистов Московской эстрады на самолёте „Дуглас“ летим в осаждённый Ленинград вдохновить наших бойцов. Я — начальник группы, у меня пистолет парабеллум и в палке спрятан партийный билет.
Дело в том, что Гитлер поклялся убить двух человек: Сталина и меня. Видно, я ему своими шутками, частушками сильно досадил.
Летим. Все нормально. Вдруг меня подзывает лётчик и говорит, что над нами кружатся два «мессершмитта». Я говорю лётчику, чтобы он снизился, а сам пошёл к пулемёту. Артисты все дрожат. Шикин стал бледным, как полотно. «Мессершмитт» идёт в пике. Я — очередь по нему. Второй заходит — я по второму. Мысль у меня только одна: хоть бы не кончились патроны. На улице сумерки, по моим подсчётам, мы должны быть под Ленинградом.
Пока я вёл бой с «мессершмиттами», совсем стемнело. Немецкие лётчики почувствовали, что здесь им не угадать, развернулись и оставили нас в покое. Лётчик подошёл ко мне и сказал, что пока он маневрировал, бензин кончился. Я принимаю решение и приказываю посадить машину в поле. Мы благополучно сели, и я вижу, что мы сели на минное поле. Все артисты в шоке, Шикин, бледный как полотно, смотрит на меня, какое я приму решение.
Я вышел из самолёта и думаю: что делать? Вести людей по минному полю? Я не имею права ими рисковать. Оставаться на поле до рассвета опасно — могут разбомбить. Принимаю решение идти самому. Далеко на горизонте вижу неяркие огоньки. Значит, землянки. Пошёл на огонёк по минному полю. Шёл долго, но это не страшно для меня, так как в своё время на всесоюзных соревнованиях я был победителем по ходьбе на двадцать километров. Темно, ни зги не видно.
Подхожу к землянке и думаю: «Кто? Наши или немцы?» Короче, вытаскиваю парабеллум, взвожу курок. Открываю ногой дверь, как леопард впрыгиваю в землянку и слышу крик:
— Гаркави, родной!!! Это были наши». Михаил Гаркави рассказывал эту байку медленно, смакуя, поглядывая на меня в паузах, давая мне возможность восторгаться его мужеством, находчивостью и полководческими способностями.
Я всё думал, как можно увидеть минное поле, да ещё в темноте? Как можно отогнать два «мессершмитта» чапаевским пулемётом, которого не было? Но воображение Гаркави позволяло смоделировать любую ситуацию. Убеждён, что мысленно он мог себя представить даже Анкой-пулемётчицей.
Как-то в Ленинграде мы жили в гостинице «Европейская». Однажды Михаил Наумович звонит мне и приглашает к себе в номер.
Спускаюсь к нему. Гаркави сидит в кресле в сиреневом белье. Зрелище далеко не эстетическое — так мог бы выглядеть слон, если бы его одели в подобное белье. Жена артиста сидит за столом и пьёт чай.
У Михаила Наумовича одна страсть — он был влюблён в русских певиц. Его первой женой была Лидия Андреевна Русланова, гениальная русская певица. Когда они разошлись, он снова женился на русской певице. Жена Гаркави сюсюкала. Она не говорила «Миша», а говорила «Мися». По виду она должна была говорить басом, однако разговаривала фальцетом.
Михаил Наумович без повода спрашивает у жены:
— Скажи, пожалуйста, сколько у тебя было мужей?
— Три.
— А любовников?
— По-моему, десять.
— Итого около четырнадцати… Как, мужья в постели были нормальными или с недостатками?
— Как музцины они были прекрасными. Все были ненасытными и меня муцили до утра. Они были сильными и с огромным желанием.
— Ты была ими довольна?
— Оцень. Гаркави не останавливается на достигнутом и в моём присутствии допрашивает свою жену на сугубо интимную тему.
— После своих мужей ты встретила меня. Каким я тебе показался? Жена:
— Когда я познакомилась с Мисой, думала, что Миса как музцина ничего не стоит.
— Почему?
— Миса был очень толстый, а толстые мусцины, я думала не мусцины.
— А как выяснилось?
— А выяснилось, что Миса такой мусцина, вы дазе себе представить не мозете.
— Может, кто-нибудь из твоих мужей как мужчина был лучше меня, ведь они же были не толстыми и моложе?
— Нет, хузе. Миса — это чудо.
— Ты довольна мною?
— Я сцастлива как зенсцина. Гаркави во время этого сексуального диалога поглядывал на меня с достоинством, покачивая головой, был беспредельно сосредоточенным и счастливым, как Нобелевский лауреат.
Самое удивительное в этой сцене, что участниками были люди довольно пожилые. Гаркави по своему возрасту мог помнить в России первую машину, а его жена — первую лошадь.
Я уверен, что этот отрепетированный диалог неоднократно повторялся для разных людей. И, может, в этом состояло их счастье. Гаркави со своей полнотой, в сиреневом белье, в кресле — это смешно. Но Михаил Наумович Гаркави вызывал у меня всегда самые лучшие чувства.
УТЁСОВ
Утёсов был великолепным рассказчиком. Тончайшими оттенками голоса он умел метко обрисовать каждый персонаж. Сюжеты его коротких рассказов неизменно заканчивались фразой, вызывающей взрыв хохота. Вот одна из таких историй.
«Моя сестра, — рассказывал Утёсов, — была ярой революционеркой. В нашем доме в Одессе часто устраивались политические диспуты, в которых принимали участие самые различные группы: большевики, кадеты, эсеры и прочие
Перед началом каждого диспута сестра громовым голосом объявляла:
— Пролетарии всех стран, соединяйтесь! На что наш папа кричал из соседней комнаты:
— Только не в моём доме!»
Леонид Осипович был заботливым отцом. Он души не чаял в своей единственной дочери Эдит и верил в её певческий талант. Однако министерство культуры не разделяло этих восторгов. Однажды один из чиновников министерства сказал Утесову:
— Ваша дочь поёт не своим голосом.
— И правильно делает, — парировал Утёсов, — свой надо беречь.
Утёсов терпеть не мог пародистов. Однажды в оркестр пришёл прослушиваться молодой конферансье.
— Что у вас в репертуаре? — спросил Леонид Осипович.
— Я делаю пародии на Райкина, Утесова, Папанова…
— Это прекрасно, — перебил его Утёсов, — сами-то вы что-нибудь умеете делать?
Ко многим коллегам по эстраде Утёсов относился с иронией. Он говорил:
— Советский артист — особый артист. Он, конечно, рад, когда ему дают звание, но по-настоящему счастлив, когда звание не дают другому.
Артист кино Тема Карапетян купил новую машину. Через неделю он пожаловался Утесову:
— Живу в самом центре города, в соседнем доме отделение милиции. А вчера на минуту оставил машину у подъезда, прихожу — и на тебе! Какой-то хулиган гвоздём нацарапал на дверце слово… Сами понимаете. Два раза закрашивали…
— Что ты возмущаешься, Тема, — успокоил Утёсов, — тут ничего не поделаешь. У тебя есть машина. А у него — только гвоздь.
Утёсов первым в СССР организовал джаз-оркестр. Это доставило ему много неприятностей. Как-то на заседании коллегии министерства культуры он сказал:
— Джаз, как любовница, — его все любят, но боятся показывать.
В 1939 году после раздела Польши Утёсов приехал во Львов. В разговоре с секретарём обкома он сказал, что поляки произвели на него прекрасное впечатление: чуткие, вежливые, предупредительные.
— Не верьте, это все у них наносное. — возразил секретарь.
— Знаете, лучше наносная вежливость, чем откровенное хамство, — ответил Утёсов.
Репутацию самого скупого среди работников искусств снискал композитор Марк Фрадкин. После сдачи фильма «Добровольцы», где звучала песня «Комсомольцы-добровольцы», Фрадкин устроил банкет для съёмочной группы. В числе приглашённых был Утёсов. Банкет был дан не в ресторане, а в столовой. На столе стояли водка, кислая капуста, винегрет, немного сыра… и все. Утёсов поглядел на этот банкетный стол и направился к дверям. На ходу бросил:
— Пусть это едят комсомольцы-добровольцы.
Я как-то пожаловался Утесову:
— На «Мосфильме» начальником отдела работает Адольф Гуревич — страшная мразь! Его ненавидят и русские и евреи.
Утёсов мне на это ответил:
— Боренька, хорошего человека Адольфом не назовут.
Самая высокая ставка за выступление для артистов разговорного жанра — 15 рублей 50 копеек. Такая ставка была у Райкина, Утесова. Однако администраторы предпочитали менее известных артистов с низкой ставкой — 7 рублей. Когда эти артисты жаловались Утесову на то, что ставки занижены, он успокаивал:
— Дорогой мой, лучше иметь два концерта по семь рублей, чем ни одного по пятнадцать рублей пятьдесят копеек.
Утёсов был влюблён в Одессу. Он мог часами «показывать» одесситов, вспоминать одесские шутки и меткие выражения, забавные объявления. Вот несколько примеров.
Объявление на дверях квартиры: «Звонить шесть раз и громко кричать: „Соня!“« На одесском базаре:
— Что просите за этот пиджак?
— Сорок рублей.
— Вы сказали сорок, а сами подумали тридцать. Так я вам дам двадцать, — и даёт продающему десять.
К одесскому портному входит одесситка, которая сложена, как кубометр дров. Одессит-портной начинает снимать мерку: грудная клетка — сто пятьдесят сантиметров, объём шеи — сто пятьдесят сантиметров, ниже задней части — сто пятьдесят сантиметров, окружность зада — сто пятьдесят сантиметров… «Дамочка, где будем делать талию?»
Вскоре после возвращения в Россию Александра Вертинского в Москве состоялся большой концерт, в котором принимали участие всевозможные лауреаты конкурсов, народные и заслуженные артисты. Были здесь и Леонид Утёсов, и Александр Вертинский.
Конферансье программы обратился к Вертинскому:
— Тут все имеют титулы и звания… А как вас объявить, Александр Николаевич? Вертинский пожал плечами. Тогда в разговор вступил Утёсов:
— Объявите Вертинского просто: выступает артист с мировым именем.
— А как вас объявить, Леонид Осипович?
— Ещё проще: выступает хороший артист.
Миллионы людей в СССР знали, что Леонид Осипович Утёсов руководил эстрадным оркестром (проще сказать — джазом), и немногие были посвящены в тайну того, что оркестром, его административной и даже творческой жизнью руководила супруга Утесова — женщина своенравная и властная. Она выбирала и определяла репертуар, она планировала гастрольные поездки, она нанимала на работу новых исполнителей и подсобных рабочих.
Может быть, поэтому Леонида Осиповича музыканты за кулисами называли «Иванов», то есть равный среди равных. Леонид Осипович внешне всегда выказывал некоторую снисходительность по отношению к командным позициям своей супруги, но на самом деле, я думаю, великий одессит побаивался своей «половины». Почему? Для меня это осталось загадкой.
Про одного танцовщика говорили, что он очень умён. Спросили мнение Утесова. Леонид Осипович ответил:
— Да, действительно, он очень умный. Я уверен, после смерти его ноги будут лежать в Институте мозга.
Бывали случаи, когда Леонид Осипович как бы мимоходом жаловался, что мало репетирует с оркестром, это происходило от того, что по приказанию супруги артиста основное репетиционное время отводилось песенкам Эдит Утесовой. Мол, Утёсов может петь и без репетиций.
Леонид Утёсов — чистой воды самородок. В детстве у него обнаружился абсолютный музыкальный слух. И, взяв несколько частных уроков, он неплохо играл на скрипке. На этом музыкальное образование Утесова окончилось: никаких музшкол, училищ и, тем более, консерваторий. Все от Бога!
Народный артист Советского Союза Николай Черкасов, сыгравший главную роль в кинофильме «Все остаётся людям», как-то во время обеда никак не мог проглотить бифштекс. Утёсов, увидев это, ему говорит:
— Вот видишь, Коля, приходит время, бифштекс нечем раскусить — и все остаётся людям!
Мне трудно вспомнить, кто, как Утёсов, был столь щедр на острую шутку и ценил юмор других.
СВЕТЛОВ
Михаил Аркадьевич Светлов прославился своим остроумием не меньше, чем стихами и романтическим пьесами.
Даже будучи смертельно больным, он не терял чувства юмора и посмеивался над своим недугом.
— Как себя чувствуете, Михаил Аркадьевич?
— Спасибо, ничего… Только при ходьбе приходится опираться на палочку Коха.
В больнице, где лежал Светлов, каждое утро молоденькие медсестра укладывали шприцы в плетёные корзинки и отправлялись делать уколы больным. Приметив это, поэт сказал:
— Девушки взяли лукошки и пошли по ягодицы…
Дело было на одесском пляже. Приятель поэта, зайдя в воду, крикнул:
— Миша! Иди купаться! Вода — двадцать шесть градусов!
— Эх, ещё бы четырнадцать… — ответил Светлов, — тогда её можно было бы пить.
Светлов в Доме писателей стоит возле буфета и пьёт коньяк. Приятель ему говорит:
— Миша, хватит пить, это же вредно для здоровья!
— Почему ты так решил? Коньяк сосуды расширяет…
— Да, но не забывай, что они потом сужаются.
— А я им не даю!
Однажды в ресторане Всесоюзного театрального общества (ВТО) появился новый официант, ранее работавший в «Метрополе». Этот новенький, привыкший к огромным чаевым, и представить себе не мог, насколько актёрская братия, в общем-то, бедная. Не знал он также, что в ресторане ВТО главное не деньги, а неповторимая атмосфера большой актёрской семьи. Он не знал и того, что меню ресторана много лет не менялось. Всегда, в любое время дня и ночи вам непременно подадут любое блюдо из этого неизменного меню.
В этот вечер Светлов и я зашли в ресторан поужинать, имея наличного капитала 14 рублей.
— Селёдочку, пожалуйста, — попросил я.
— Кончилась, — ответил новенький официант. — Но для вас я постараюсь достать.
— Печёнку рубленную.
— Печёнки рубленной нет, но я постараюсь достать. И так, что бы мы не попросили, он отвечал, что этого нет, но он постарается для нас достать.
Делалось это, разумеется, в расчёте на большие чаевые. Тогда Светлов не выдержал и спросил его:
— Послушайте, дорогой, вы действительно все можете достать?
— Да, — гордо ответил официант.
— В таком случае, — сказал Светлов, — достаньте нам, пожалуйста, немного денег…
Однажды в каком-то издательстве Светлов просил аванс под будущий роман. Редактор по фамилии Рабинович сказал:
— Дайте заявку…
— Заявки нет…
— Дайте название…
— И названия нет…
— А что же есть?
— Есть только первая строчка, — улыбнулся Светлов. — Роман будет начинаться так: «Креста на вас нет, товарищ Рабинович»… И Рабинович выдал аванс 10 рублей — от себя лично.
Один знакомый Светлова жаловался ему, что у него болит бок и что это очень противно. Михаил Аркадьевич его успокоил:
— Когда что-то болит, это сигнал, чтобы человек обратил на это внимание.
— Я понимаю, — сказал знакомый. — Но лучше, когда совсем ничего не болит.
— Так не может быть, — ответил Светлов. — Когда я встану, а у меня ничего не будет болеть, значит, я умер…
По всей стране были установлены скульптуры Сталина. Однажды Светлов посмотрел очередной бюст Сталина и воскликнул:
— Так хочется сказать: «Товарищи, хватить ВАЯТЬ дурака!»
Михаил Аркадьевич вернулся из Киева, славившегося своими антисемитами. Светлова спросили, понравилась ли ему столица Украины? Он ответил:
— Флора — очень красивая, а фауна — омерзительная…
В любом более или менее крупном советском учреждении всегда имеется профсоюзный деятель, занимающийся похоронами товарищей по работе. Есть такой деятель и в Союзе писателей. Опытный, многим обеспечил последнее пристанище. Каждому писателю в зависимости от положения в писательской социерархии полагаются похороны по соответствующей категории.
Как-то раз Михаил Аркадьевич обратился к этому похоронщику:
— Послушай, Гриша, когда я умру, по какой категории ты мне устроишь похороны?
— Брось, Миша! Ты до ста лет доживёшь…
— А всё-таки, по какой категории?
— Что за разговор, конечно, по высшей, по четвёртой…
— Сколько стоит высшая?
— Четыре тысячи рублей.
— Гриша, — предложил Светлов, — дай мне сейчас, в счёт похорон три тысячи, они мне нужны позарез, а хорони меня по самой дешёвой категории.
Помню, разговаривали мы как-то о кинорежиссёрах. Речь шла о режиссёре-женщине, большой и очень толстой. Светлов долго молчал, слушая разные мнения. А когда спросили его, коротко бросил:
— Если бы у неё было столько таланта, сколько жопы, она бы была Чарли Чаплиным.
Писатель Софронов известен не столько как писатель, сколько как антисемит. Как-то спросили у Светлова, какие у него взаимоотношения с Софроновым.
— Неплохие, — отвечал Светлов. — Мы с ним расходимся только по аграрному вопросу. Он хочет, чтобы я лежал в земле, а я хочу, чтобы он.
Светлов много пил, но всегда знал некий предел. Это позволяло ему сохранять достоинство и ясность мысли. Говорят, Светлова никогда и никто не видел пьяным, но и трезвым его тоже никто не видел. Однажды я спросил его:
— Михаил Аркадьевич, как вам удаётся сохранять ощущение меры, как вы знаете, что в такой-то момент надо прекратить пить?
— Очень просто, Боря. Я тебя научу, — ответил он. — Когда начинаешь пить, выбери среди окружающих самую уродливую женщину. Пей и поглядывай на неё. В тот момент, когда эта женщина покажется тебе красавицей, останавливайся. Норма выполнена.
В 60-х годах Михаил Светлов написал стихи к большому эстрадному представлению. На премьеру поэт явился в своём единственном чёрном, блестящем (от времени) костюме. Заметив некоторое удивление на лицах знакомых, Светлов объяснил:
— Не беда, ребята. Это знаменитый костюм. В нём мой дедушка встречался с Пушкиным. А если говорить правду, то в этом костюме я гулял с Есениным. Костюм-то что надо! С биографией!
Светлов был разведён с женой, которая жила с сыном отдельно. Сына Михаил Аркадьевич часто навещал, как-то и я поехал с ним. Помню, во время прогулки с сыном Светлов сказал:
— Сынок, обязательно пойди на мои похороны, там ты услышишь такое, что начнёшь меня уважать…
Афоризмы Светлова
— Декады, декады… Мы имеем декаданс нового типа
— Уверяю вас, он вовсе не такой дурак, каким он вам покажется, когда вы его хорошо узнаете.
— Что такое смерть? Это присоединение к большинству.
— Занимать деньги надо только у пессимистов: они заранее знаю, что им не отдадут.
— Тела давно минувших дней.
— Красивый я получаюсь только на шаржах.
Однажды Светлов вернулся домой и застал родных в панике: Шурик выпил чернила.
— Ты действительно выпил чернила? — спросил Светлов. Шурик торжествующе показал ему свой фиолетовый язык.
— Глупо, — сказал Светлов, — если пьёшь чернила, надо закусывать промокашкой.
Как-то у стойки бара один подвыпивший посетитель, то и дело обращаясь к Светлову, называл его Миша, Мишка… Наконец Светлову это надоело:
— Послушайте, дорогой товарищ, почему вы со мной так официальны: Миша, Мишка?… Называйте меня просто Михаил Аркадьевич…
Кто-то в нашей компании поинтересовался:
— Правда, что у всех наших вождей высшее образование Светлов ответил:
— Да, это правда. У них у всех высшее без среднего.
МОРГУНОВ
Когда режиссёр Гайдай создал знаменитую тройку: Вицин, Моргунов, Никулин, Евгений Моргунов стал популярным артистом. До этого Моргунов в театре киноактёра был на последних ролях. Его всё время пытались выгнать за бездарность.
Во время очередной такой попытки Моргунов обратился к режиссёру Александру Петровичу Довженко, у которого он незадолго до этого снимался в массовке, с просьбой дать ему характеристику. Довженко был мягким человеком и обладал большим чувством юмора, отказать было неудобно, но и врать не хотелось. Довженко написал так:
«Характеристика. Талантлив ли Моргунов? Этого я не знаю, но если в экспедиции застрянет машина, Моргунов тут же её вытащит. Талантлив ли Моргунов? Этого я не знаю, но Моргунов прекрасно переносит жару и холод, и если надо — неприхотлив в еде. талантлив ли Моргунов? Этого я не знаю, но он прекрасно умеет доить корову и переносит на ногах грипп. Такой, как Моргунов, в экспедиции незаменим. Талантлив ли Моргунов? Этого я не знаю, но вы-то знаете, талантлив ли Моргунов. Александр Довженко».
Дирекция театра посмеялась. Моргунова оставили в театре.
Моргунов был человеком авантюры, смелым, хитрым. Но юмор его носил отчаянный, подчас даже уголовный характер. Однажды в дирекцию театра киноактёра позвонили из ЦК партии и сообщили, что завтра в театр приедут Молотов и Каганович, будут говорить о перспективах советского кинематографа.
Директор и худрук от волнения лишились дара речи, их трясло. Когда Молотов и Каганович приехали, неожиданно навстречу им вышел Евгений Моргунов. Он представился как директор и худрук театра. Моргунов беседовал с вождями больше часа. Он полностью осветил положение дел в советском кинематографе и попросил прибавить зарплату артистам низшей категории, то есть себе, объяснив, что талантливая молодёжь — надежда советского кино, высокие гости согласились с его доводами. Моргунов проводил их до машины и пошёл успокаивать директора и худрука, оставшихся в кабинете в обморочном состоянии.
В результате Моргунов получил прибавку к зарплате.
Одна из чёрных шуток Моргунова. В вагоне метро, собираясь выходить на своей остановке, он подходил к какому-нибудь мужчине, доставал красную книжечку (удостоверение личности, похожее на удостоверение КГБ) и говорил: «Пройдёмте». Они выходили на улицу и долго шли по направлению к дому Моргунова. Наконец, Моргунов нарушал молчание:
— Как жизнь? Как настроение? Человек заискивающим голосом спрашивал:
— За что вы меня задержали?
— Я вас задержал — удивлялся Моргунов. — Просто вы мне показались симпатичным человеком, я хотел с вами поговорить, узнать, как дела… Пожалуйста, вы свободны, можете идти.
Другая его шутка тоже относилась к транспорту.
На троллейбусной остановке Моргунов оттягивал дуги троллейбуса, выбирал интеллигентного человека и просил подержать. Тот, не сомневаясь, что перед ним водитель троллейбуса, так как Моргунов всегда был очень плохо одет, выполнял просьбу. Моргунов же переходил на другую сторону улицы и наблюдал за развитием событий. Настоящий водитель долго не понимал, почему троллейбус не трогается с места, потом выходил и обнаруживал человека, держащего троллейбусные дуги. Водитель набрасывался на бедного интеллигента с диким матом, а иногда и с кулаками. Моргунов на противоположной стороне улицы покатывался от хохота.
Как-то я встретил Моргунова у Охотного ряда. Он предложил пойти вместе поужинать. Я отказался, сказав, что у меня нет денег. Но Моргунов презрительно махнул рукой, показывая, что проблем нет. Мы пошли в ресторан «Националь». Там было много свободных мест, но Моргунов вызвал директора и сказал:
— Поставьте столик на двоих таким образом, чтобы мы видели тот столик, — он казал взглядом на стол в дальнем углу ресторана, — а они нас нет.
— Понял, — ответил директор и подмигнул. — Что будете есть? Женя вяло через плечо ответил:
— Да всё равно. Мы ведь не ужинать сюда пришли, ясно?
— Ясно, — сказал директор и исчез.
Два официанта мгновенно принесли водку, коньяк, шампанское, чёрную икру, лососину и так далее.
Мы вкусно поужинали. Моргунов во время ужина якобы что-то шептал мне на ухо и записывал в свой блокнот. Под конец он подозвал директора и попросил счёт.
— Ну что вы, что вы, какой счёт, — залебезил директор. — Вы же наши дорогие гости. Женя подарил ему на прощание еле заметную улыбку и дал руку, как взятку.
— Видишь, Боря, — сказал он мне на улице. — Ты говорил о каких-то деньгах, а зачем? Я так давно ужинаю. Большое спасибо нашим «органам».
В Киеве какой-то хулиган ударил пожилую женщину. Собралась возмущённая толпа. Пришёл милиционер. Моргунов это увидел и не смог не вмешаться. Он подошёл и сказал:
— Товарищ милиционер, я вас прошу, отпустите хулигана, который ударил пожилую женщину.
— Гражданин, пройдите и не вмешивайтесь, — строго произнёс милиционер.
— Я настаиваю, отпустите хулигана, который ударил пожилую женщину.
— Что значит, вы настаиваете? А кто вы такой?! Моргунов возмутился.
— Вы хотите знать, кто я такой?! Я — сын пионера Павлика Морозова!!! — Взял хулигана за руки, и они ушли, оставив милиционера и толпу онемевшими.
Женя был очень толстый и выглядел импозантно. Его везде пропускали бесплатно. Когда мы ходили с ним на стадион и у Жени спрашивали билет, он поворачивался в мою сторону и говорил контролёру, указывая на меня:
— Этот со мной. Мы проходили не просто на трибуну, а в ложу, где сидели высокопоставленные гости. Как-то рядом с нами в ложе сидел генерал-лейтенант милиции Урусов. Женя во время матча попросил генерала закурить. Генерал вытащил пачку «Казбека». Мы с Женей взяли по папиросе, но когда генерал хотел положить пачку в карман, Женя сказал: «Не надо прятать». И генерал весь тайм держал папиросы в руках.
Моргунов даже в баню проходил без билета. Он узнавал имя и отчество директора бани и, проходя мимо контролёра, бросал: «Когда Иван Сергеевич спросит, где Женя, скажи, что я здесь. Понял?» Моргунов брал у контролёра сигарету и проходил в баню.
Женя и в такси умел ездить бесплатно. Он останавливал машину, вынимал свою красную книжечку, похожую на удостоверение КГБ, и, указав на какую-нибудь проходящую машину, говорил: «Давай за ней». Доезжая до своего дома, Женя просил таксиста остановиться и выходил из машины. Когда таксист спрашивал, а как же та машина, Женя отвечал: «Не волнуйся, всё в порядке».
Театр киноактёра находился на Садовом кольце. В часы пик трудно было сесть в троллейбус. Женя брал тумбу, на которой было написано «Остановка троллейбуса „Б“« и относил её метров на сорок от остановки. У тумбы выстраивалась очередь. Водитель троллейбуса останавливался, естественно, на постоянном месте. А там стоял один Женя, он спокойно садился в троллейбус. Люди с авоськами, ругаясь, бежали к троллейбусу.
Так что роль Бывалого, принёсшая Моргунову популярность, не придумана. Это второе «я» актёра. Фактически он играет самого себя, т.е. продолжает на экране свою жизнь.
Один чиновник невзлюбил Моргунова и систематически делал ему гадости. Женя узнал, что этот чиновник испытывает слабость к женскому полу. А так как от этого чинуши многое зависело, «уговорить» очередную актрису ему ничего не стоило. Женя до этого не умел фотографировать и не имел фотоаппарата.
Во «имя идеи» он купил фотоаппарат, научился фотографировать — при свете, в темноте со вспышкой и без вспышки.
Во время очередной оргии чиновника с одной из актрис Женя, стоя на пожарной лестнице, сделал великолепные снимки. Потом Женя зашёл к чиновнику в кабинет и сразу заговорил с ним на «ты». Чиновник взбеленился.
— Вон из моего кабинета! — закричал он.
— Я могу уйти, но вы потом будете меня долго просить, чтобы я вернулся обратно, — ответил Женя, — я ограничен во времени. Вы меня поняли?
Когда чиновник дошёл до полного бешенства, Женя показал ему фотографии.
— Я всё понял, Женечка, отныне я предлагаю вам дружбу. Если вам так удобно, можете говорить мне «ты».
Все проделки Моргунова могли иметь место только до прихода к нему популярности, когда никто его не знал. Но как только Женя стал популярным в стране… свои автографы он стал давать только за деньги. Завтракал, обедал и ужинал — за счёт своих поклонников. Очередь занимали, чтобы поужинать с Моргуновым.
Однажды я зашёл в ресторан ВТО и увидел Женю. Он сидел за столиком с двумя симпатичными ребятами.
— Борис! — обрадовался Моргунов. — Садись к нам! Борис, познакомься, это мои друзья, полярные лётчики. А это — Буба Касторский.
В глазах лётчиков был полный восторг. Мы пожали друг другу руки.
— С вас сто рублей за знакомство, как договорились, — обратился к лётчикам Моргунов. Лётчики радостно вручили Моргунову деньги.
— Сейчас придёт Олег Стриженов, Савелий Крамаров, Олег Ефремов и другие, так что деньги, ребята, далеко не прячьте.
— Не волнуйся, Женя, — ответили счастливые лётчики.
В одной из поездок Моргунов находился в номере с девушкой. Вдруг неожиданно приезжает его жена и стучит в дверь.
— Женя, открой, это я. Номер на двенадцатом этаже, запасного выхода нет… Моргунов позвонил администратору гостиницы и возмущённо кричит:
— Это же чёрт знает что! Я только прилёг отдохнуть перед спектаклем, а тут какая-то шизофреничка стучится и ломится ко мне в номер.
Администрация гостиницы вызвала милицию, жену оторвали от двери и, называя шлюхой, проституткой, потащили вниз, в вестибюль проверять документы.
Женя неторопливо оделся, спустился вниз и, увидев жену, радостно бросился её обнимать и целовать.
— Родная, прости, будешь богатой, я не узнал твоего голоса. Понимаешь, я думал, какая-то поклонница…
Изрядно помятая жена счастливо смотрит на Женю, радуясь, что её муж оказался порядочным человеком. Короче, как сказал о Жене один режиссёр, Моргунов — это большой артист!
В Курганской области проходил фестиваль искусств, на который собрали всех популярных артистов кино и эстрады. Что мешает колхозникам работать в колхозе? Бесплатная работа на «дядю» и… концерты. Урожая нет, в магазинах продуктов нет. Но чтобы люди не огорчались, проводят фестиваль искусств. Партийные секретари совместно с председателями колхозов и совхозов устраивают банкеты для себя и артистов. Пьют все. Вся область «гудит».
Помню, в одном колхозе был накрыт стол на 150 человек, а нас было всего двенадцать. Стояло много ящиков с экспортной водкой и армянским коньяком. Но, к сожалению, пить мы не могли, так как предстояло ещё одно выступление. Казалось, придётся оставить такое добро нетронутым. Но Моргунов нашёл выход из положения. Он подошёл ко мне и сказал:
— Борис, ты мой самый любимый артист. Я хочу тебе надписать на память бутылку коньяка. Он взял бутылку армянского коньяка, надписал её и торжественно вручил мне.
— Женя, я тоже хотел бы, чтобы и у тебя была от меня память. Я взял другую бутылку и сделал дарственную надпись. Артисты эстрады Шуров и Рыкунин почувствовали «жареное» и тоже изъявили желание получить мой автограф. Я не мог им отказать и, вспомнив, что они тоже мои любимые артисты, попросил у них автограф.
Я щедро дарил моим поклонникам-артистам коньяк и просил их тоже ставить автографы на бутылках. У нас уже накопилось бутылок по восемь.
Секретарь горкома партии попросил меня написать ему на память что-нибудь на этикетке. Я это сделал с большим удовольствием. Прощаясь, секретарь сказал мне:
— Михайлыч, как приятно глядеть на вас, артистов, какая у вас дружба.
Коронный трюк Жени Моргунова на аэродромах. Диспетчер объявляет посадку на самолёт:
— Граждане пассажиры, самолёт рейс четыреста двенадцать «Москва — Свердловск» объявляет посадку. Моргунов громко:
— Повтори, сука.
Диспетчер:
— Повторяю…
ЮРИЙ ЛЕВИТАН
Меня долгие годы связывала дружба с лучшим диктором Всесоюзного радио Юрием Левитаном. Тем самым, который своим великолепным, красивым и убедительно-бархатным баритоном долгие годы вещал советским людям важнейшие правительственные сообщения, говорят, будто Гитлер грозился повесить Юру на Красной площади, хотя он был обычным диктором и читал тексты, написанные другими людьми. Юрий Левитан очень убедительно говорил по радио, что победа будет за нами.
В начале войны на долю Левитана выпала неблагодарная миссия сообщать стране о бесконечном отступлении советских войск.
Мы познакомились с Левитаном после войны и часто бывали вместе. Это был удивительно мягкий, приятный, с хорошим чувством юмора человек. Как-то я спросил у него:
— Юра, тебе твоя популярность не мешает?
— Очень мешает, — ответил Левитан. — Понимаешь, раньше, когда меня никто не знал, я шёл и плевал направо и налево, а сейчас, чтобы плюнуть надо искать урну.
Я хорошо копировал голос Левитана и изображал, как он читал нам сводки Советского информбюро. Я, конечно, гиперболизировал, но был близок к истине, и тем самым веселил Юру.
Левитан в моём исполнении
— ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. На всех фронтах идут ожесточённые бои. Противник несёт большие потери в живой силе и технике. На Юго-Западном фронте армия генерала Ватутина отбила все атаки противника, перешла в контр наступление и продвинулась вперёд на полтора метра. Захвачены трофеи: три винтовки, семнадцать патронов, один противогаз, две лошади и одна повозка!!! А так же взят в плен ефрейтор Ганс, который рассказал, что в связи с бомбёжками города Плоешти бензин уже на исходе… (Скороговоркой.) Нашими войсками оставлены города Киев, Харьков, Днепропетровск и Ростов.
Дальше я читал голосом Левитана о снижении цен по Советскому Союзу. Текст абсурдный, но по сути близкий к истине.
— ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Сегодня на всех просторах нашей необъятной родины опять Четверг!!! Послушайте важное сообщение! Советское правительство, идя навстречу пожеланиям трудящихся, решило снизить цены на предметы первой необходимости. Кресло гинекологическое — цена снижена на восемнадцать процентов, дым едкий — на двадцать шесть процентов, стекло битое — на тридцать пять процентов, глобусы тёртые — на пятнадцать, часы без механизмов — на девятнадцать процентов. Тем самым каждая советская семья в течение десяти лет сэкономит триста четыре рубля восемьдесят семь копеек… (И скороговоркой.) Повышены цены на масло, мясо, сахар и молоко.
Советское правительство торжественно клянётся, что каждая семья в этой пятилетке будет иметь на Чёрном море свой буй!!!
ПОСЛУШАЙТЕ ЕЩЁ ОДНО ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ! По последним статистическим данным, наша советская социалистическая республика обогнала все африканские страны по перхоти!!!
Юрий Левитан умел и хорошо смеяться. Он меня смешил своими сводками, а я его своими пародиями.
ЗА ЧТО УВОЛИЛИ?
Я работал танцовщиком в Краснознамённом ансамбле имени Александрова. И в 1948 году выехал в его составе на гастроли в Чехословакию и в Восточную Германию. Ансамбль был под бдительным присмотром КГБ. Обычно работники КГБ не проявляют себя, а следят тихо со стороны. Но к Краснознамённому ансамблю был открыто прикреплён кагебешник. Он также являлся членом административного корпуса ансамбля. Фамилия этого «Ната Пинкертона» была Архипенко, звание — подполковник.
Мой адвокат Швейский всегда говорил, что в органах КГБ работают квалифицированные люди, так как они подбираются из отличников юридических факультетов и из других мест, эти люди умные и талантливые. Когда ему, Швейскому, приходилось защищать кого-нибудь из политических, он говорил, что их следователи подготавливали дело очень грамотно и найти ошибку было трудно. Архипенко по уму и интеллекту был на уровне славянского шкафа.
Звание подполковника КГБ — очень высокое звание.
Почему же такая компетентная организация приголубила у себя эту тупую мокрицу? Может быть, он настолько превзошёл всех в жестокости, что заставил органы уважать себя?
Архипенко пристально за мной следил, поскольку его раздражала моя независимость. Однажды он меня вызвал и говорит:
— Товарищ Сичкин, когда вы начинаете что-нибудь рассказывать, все ансамблисты внимательно вас слушают, они вам верят, вы для них авторитет. Представляете, если вы будете насаждать всякие порочные идеи, что тогда будет?
— Но я же не насаждаю порочных идей, — спокойно ответил я.
— Пока нет. А что будет, если начнёте? Вы для них авторитет. Там, где вы, всегда толпа. Это очень опасный вариант.
— Хорошо, я буду избегать их всех, не буду ни с кем общаться и покой вам обеспечу.
— Зачем же так нахально действовать? — сказал «Зорге».
— Хорошо, я буду с ними молчать, как глухонемой.
— Это лучше, — ответил Архипенко. В Чехословакии нас предупредили, чтобы мы по улице ходили по пять человек, не меньше. Я поздно проснулся, в номерах гостиницы ничего не было, и я пошёл на улицу один купить воды. Я прекрасно видел, что ряд ансамблистов за мной следит. Через час меня вызвал Архипенко и зло сообщил, что я нарушил его приказ и вышел на улицу один, тогда как я обязан был выйти впятером.
— Товарищ Архипенко, это неправда, я был не один, нас было пятеро: я и четверо за мной следили. Я их прекрасно видел. А если бы нас было пятеро, плюс те четверо, которые следили за нами, — это уже толпа. А вы нам говорили, что толпой ходить не надо.
Мой юмор был до тошноты товарищу Архипенко.
В Праге нам всем выдали огромные ручные часы. На второй день товарищ Архипенко вызвал меня и сказал, что одна чешка нашла мои часы и принесла. Я показываю часы, которые были у меня на руке, и говорю, что я часов не терял и никакой чешке их не оставлял. Но он с тупой яростью воскликнул:
— Так кому я должен больше верить, вам или ей?
— Себе! Вы прекрасно все знаете! — ответил я. Один певец, бывший моряк, очень приятный парень, по своей наивности сказал коллегам по хору, что в Праге живёт его бывшая невеста, которая не дожидаясь его из армии, вышла замуж за чеха, сейчас живёт в Праге, и что у него есть возможность её увидеть. Кто-то из слушателей сразу побежал в КГБ и об этом сообщил. Этого певца могли бы в поездку не брать, но случилось какое-то чудо, и Шерлок Холмс-Архипенко, чтобы прославить свою организацию и свои разведческие таланты, взял его, но продумал до мельчайших подробностей, чтобы бывший жених не встретился со своей бывшей невестой. Мы жили в городе, а бывший жених с двумя старыми проверенными сексотами (его личная охрана, которая отвечала за него головой) жили за городом в отдельном доме. Оттуда без машины никуда не доберёшься. Их забирали на машине перед концертом. Певец-жених даже не мог себе представить, что он охраняем от постороннего взгляда. Эти два сексота спали по очереди: один спит, второй бодрствует. И вот однажды ночью сильно утомлённые охранники оба уснули глубоким сном. Проснулись они от шума заведённого автомобиля, бросились в спальню к жениху, а его в комнате нет… Тогда они выскочили на балкон (жили они на втором этаже) и видят, как машина трогается. Они, потеряв голову, прыгнули со второго этажа вдогонку машине, не сомневаясь, что в ней жених-певец. И один и второй сломали себе обе ноги. Они лежат на земле и орут от боли.
На самом деле моряк-певец-жених проснулся и пошёл в туалет. Вернулся и никак не может понять, почему два старых человека ночью решили посоревноваться, кто дальше прыгнет со второго этажа, двух патриотов отвезли в госпиталь с переломами обеих ног. все в ансамбле об этом узнали и тихо хихикали, потому что громко хихикать было опасно. Я же, скоморох несчастный, не выдержал и сказал:
— Я уверен, что в любой военной части есть один Александр Матросов, но я не подозревал, что у нас их окажется двое.
Архипенко все наматывал себе на ус. В немецкой столовой, где питался наш ансамбль, обслуживающий персонал состоял из немцев, но не было переводчиков. Так как я знал немецкий язык, меня попросили переводить. Это тоже не понравилось Архипенко. Он меня вызвал и опять понёс ахинею:
— Почему вы знаете немецкий язык?
— Когда была война, мы в Германии жили больше двух лет и изучили немецкий язык, — отвечаю я.
— А знаете ли вы, товарищ Сичкин, что на этом языке говорил Адольф Гитлер? — сердито сказал «славянский шкаф».
— Этот язык также знал и говорил на нём Данте, — отвечаю я ему.
— Какой Данте? Это тот, который Пушкина убил? — возмущённо отреагировала амёба.
— Тот был не Данте, а Дантес. Данте — тот, кто написал «Божественную комедию». Архипенко:
— Вы что, верующий?
— Да, я верующий. Я верю в Бога и люблю Бога, и, между нами говоря, Он мне отвечает взаимностью.
Эта протоплазма после моих слов вся просияла, в глазах появился огонёк.
— Я ведь догадывался. На следующий день из-за отсутствия регулярных рейсов Берлин — Москва я был отправлен в
Москву на военном бомбардировщике. Подполковник КГБ товарищ Архипенко своевременно оградил коллектив от порочного влияния товарища Сичкина. Архипенко, как никто, понимал, что стоило бы только Сичкину сказать ансамблистам, что Бог есть, и все бы ему поверили.
Я был уволен из ансамбля за агитацию и пропаганду религии.
Единственное, о чём я сожалею, что не успел сказать ансамблистам, что Бог есть.
ДИРИЖАБЛЬ
Однажды я принимал участие в концерте, в котором выступали Л. Миров и М. Новицкий. За кулисами артист-акробат, узнав, что я приехал из заграничной поездки (в то время эстрадные артисты почти не ездили за границу), поинтересовался, что я оттуда привёз. Я в присутствии Мирова ответил:
— Я решил не мелочиться, не разбрасываться на всякие шмутки, а привести одну, но крупную вещь. И я купил дирижабль.
Акробат, недоумевая, широко открыл глаза.
— Ты что, шутишь? Не надо меня разыгрывать, меня не разыграешь. Я тебя серьёзно спрашиваю, что ты привёз?
— Я тебе серьёзно отвечаю.
— Борис, тебя не поймёшь, когда ты шутишь, а когда серьёзно говоришь. В это время вступил в разговор Миров, а он мог говорить убедительно и на полном серьёзе.
— Борис, это, конечно, ваше дело, но я тоже не понимаю, зачем вам сдался этот дирижабль? После слов Мирова акробат уже совсем перестал сомневаться в моей покупке и решил выяснить,
почему я это сделал. Акробат:
— Борис, где стоит твой дирижабль, во Внуково?
— Если бы, — со вздохом ответил я.
— А где же он находится? — допытывался он.
— К сожалению, в Конотопе, на Украине, — обречённо произнёс я. Миров:
— Борис, вы на меня не обижайтесь, но этот ваш поступок с дирижаблем не делает вам чести. Это просто глупость.
— Лев Борисович, я вам скажу больше: глупее этого ничего придумать нельзя. Я плачу за стоянку тысячу рублей в год. И вот во время отпуска мы с женой должны ехать поездом до Конотопа, дальше до аэродрома нужно добираться на такси. Это стоит немалых денег. А пока ты этот дирижабль надуешь, остаёшься без всяких сил.
Акробат:
— Ничего не могу понять, ты умный парень, на кой… тебе сдался этот дирижабль? Да продай ты его на хуй.
— А кто его купит? Кто захочет с ним возиться? Миров:
— Да, Борис, это ошибка.
— Непростительная глупость с моей стороны! Если бы я не купил этот идиотский дирижабль, то на эти деньги я бы мог купить огромное количество угля.
— А уголь тебе зачем? — возмущённо крикнул акробат. Но ему уже никто не мог ответить, так как Миров в голос расхохотался, а вслед за ним и я. Только акробат не хохотал и был огорчён. А Миров сказал мне:
— Борис, я бы выдержал любую вашу покупку, но только не уголь.
БУХГАЛТЕР
Самые нетерпеливые люди — это те, которые живут в коммунальных квартирах. Представьте себе коридорную систему на тридцать комнат с одним туалетом. Утром занимаешь очередь в туалет и попадаешь в него к концу дня. В Союзе за взятку можно все достать и всего достичь. Но взятки и блат в коммунальных квартирах не проходят. В туалет ты можешь попасть только тогда, когда подошла твоя очередь. Влезть вне очереди рискованно — могут убить. Люди там живут нервные, у каждого внутри бродит шаровая молния, и каждый ждёт момента, чтобы этот заряд обрушить на соседа.
Вот в такой коммунальной квартире с одним туалетом жил бухгалтер Шапиро со своей многочисленной семьёй. На работу к нему пришла ревизионная комиссия и обнаружила у Шапиро недостачу в 110 рублей. Дело передали в суд. В суде бухгалтер Шапиро доказывал, что документ на 110 рублей затерялся, но он есть, и он его обязательно найдёт и представит суду. Гуманный советский суд, учитывая, что товарищ Шапиро работает на одном месте 35 лет и имеет много похвальных грамот, дал ему не 25 лет тюрьмы, а только шесть месяцев с оговоркой, что как только будет представлен оправдательный документ на 110 рублей, суд сразу же выпустит Шапиро на волю.
После суда бухгалтера Шапиро повели в тюрьму, а жена Шапиро Сарра, убитая горем, поплелась домой. Дома у Сарры были авгиевы конюшни. В одной комнате жили семь человек, и что-то найти там считалось большим подвигом. Но Сарра была уверена, что документ на 110 рублей есть, он где-то в доме, и решила во что бы то ни стало найти его. С утра до ночи она искала оправдательный документ для своего мужа, отца и дедушки Шапиро. И вдруг на десятые сутки Сарра находит расписку на 110 рублей. Она, конечно, могла пойти сразу в суд и освободить своего мужа. Но на радостях она побежала в тюрьму, чтобы сообщить ему радостную новость.
Сарра, плача от счастья, показала расписку мужу и сообщила ему, что сейчас побежит в суд, и он сегодня же будет дома. Бухгалтер Шапиро без энтузиазма выслушал радостный монолог жены и сказал:
— Сарра, я тебя очень прошу не ходить в суд и не показывать эту расписку. Мне семьдесят три года. Из них я работаю как проклятый, без отпуска пятьдесят лет; я устал от жизни, от работы. Впервые за семьдесят три года здесь в тюрьме я узнал и почувствовал, что такое отдых. Я высыпаюсь, я вовремя ем, каждый день нас выводят на тридцатиминутную прогулку, в тюрьме я ожил. Дай мне возможность посидеть весь срок. В тюрьме я ожил. Дай мне возможность посидеть весь срок.
— Сема! О чём ты говоришь?! — возмутилась Сарра. — Подумай обо мне, о детях, о внуках и, наконец, что подумают об этом соседи?
— Сарра, когда меня не будет в живых, то тебе, детям и внукам будет ещё хуже. А что подумают про меня соседи-уголовники, мне глубоко наплевать. Дай мне возможность отсидеть полсрока. Хорошо?
— Ни за что, — сказала Сарра. — Сема! Не будь эгоистом, нельзя думать только о себе. Если тебе хорошо, то ты должен знать, что нам плохо.
— Ша, только не кричи. Я за десять дней, что сижу в тюрьме, отдохнул, но ещё далеко до выздоровления. Здесь в тюрьме питание такое, что можно быстро вылечить язву, почки и печень. В питании нет ни одной жиринки, и это то, что нужно для лечения таких болезней. Из тюрьмы все выходят и забывают про свои болезни. Когда мне представится такая возможность, я тебя спрашиваю? Не делай все сгоряча, подумай и помоги мне остаться здесь ещё два месяца.
— Боже мой, как тюрьма меняет человека! — сказала Сарра. — Как только тебе, Сема, стало хорошо, так ты уже забыл, что другим людям плохо.
— Саррочка, не обижайся, ты же знаешь, что пятьдесят лет я не отдыхал ни одного дня. Я всю жизнь работаю. По советским законам каждый трудящийся имеет право после проработанных одиннадцати месяцев на двадцать четыре дня отпуска. Во имя наших детей дай мне ещё посидеть один месяц.
— Почему ещё один месяц? — возразила Сарра. — Ты же сам сказал — двадцать четыре дня. Десять ты уже отсидел, так? Я тебе дам ещё отсидеть четырнадцать дней и хватит.
— Сарра, я же пятьдесят лет не был в отпуске!
— Сема не наглей, — сказала Сарра и, не поцеловав своего любимого мужа, с которым прожила сорок пять лет, ушла из тюрьмы, хлопнув сердито железной дверью.
СМИРНОВ-СОКОЛЬСКИЙ
Смирнов-Сокольский был замечательным артистом эстрады, писателем, библиофилом и потрясающим острословом, который, как истинный скоморох, сыпал шутками, невзирая на лица. Друзья очень любили Смирнова-Сокольского, но побаивались его острого языка. О себе Смирнов-
Сокольский говорил: «Как друг я — дерьмо, зато как враг… В этом деле у меня надо брать шестимесячные курсы…»
Смирнов-Сокольский всегда посмеивался над евреями, которые давали своим детям русские имена. Своей собаке он дал имя Рива.
Когда ему сообщили, что у писателя Дыховичного родился сын Иван, Николай Павлович задумчиво произнёс: «Ну что я могу сказать… Иван — очень редкое еврейское имя…»
Знаменитый куплетист Илья Набатов, не отличавшийся красотой, встретил однажды Смирнова-Сокольского и говорит:
— Взгляни на меня, Коля! Я отдыхал полтора месяца, правда, я похорошел?
— Конечно, Илюша, — согласился Николай Павлович и добавил. — Похорошевшая жаба!…
Как-то перед выступлением Смирнов-Сокольский, посмотревшись в зеркало, говорит мне:
— Видишь, Борис, у меня нос красный. Я обратился к врачу и спрашиваю, что нужно делать, чтобы нос не краснел? Врач говорит: «Надо бросить пить!» Так знаешь, что я решил? Я решил его пудрить.
Илья Набатов бросил курить. Сокольский встретил его и говорит:
— Вот ты, Илюша, бросил курить. Ты будешь дольше всех нас жить лет на пять. И вот представь себе: никого уже нет в живых, ни меня, ни Гаркави, ни Менделевича… И вот ты идёшь по Столешникову переулку и встречаешь Афанасия Белова, Так стоит ли из-за этого долго жить?..
Когда артисту на склоне лет давали звания, Сокольский говорил: «Беззубой белке — воз орехов».
Сидя в ресторане в обществе своих друзей, их жён и других уважаемых женщин: Марии Мироновой, Клавдии Шульженко… Сокольский обращается к официанту: «Ещё триста граммов водки и, пожалуйста, перемените дам…»
Кстати, зная о болезненной страсти Гаркави к вранью, Смирнов-Сокольский говорил о нём:
— Когда Гаркави говорит «здрасьте», это надо ещё проверить.
«Как жизнь?» — спрашивали Смирнова-Сокольского. Николай Павлович отвечал: «Прошла». Когда в обществе к Николаю Павловичу приставали, чтобы он рассказал что-нибудь смешное, он говорил: «Хотите, я вам могу рассказать, как одна старая еврейка занозила жопу?» И все от него отставали.
Данкман, начальник управления цирков, жаловался Сокольскому:
— Где логика, где справедливость? Я, начальник управления цирков, получаю триста пятьдесят рублей в месяц, а иллюзионист Кио получает около тысячи рублей.
Сокольский ему ответил:
— У меня есть третий экземпляр Советской Конституции. Я прочёл эту Конституцию три раза от начала до конца. Там нигде не было написано, что Данкман не может стать иллюзионистом, а если говорить о национальности, то Кио тоже еврей. Стань иллюзионистом и не завидуй ему.
Сокольский говорил: «Что такое шефский концерт? Шефский концерт — это левый, доведённый до абсурда».
В Театре эстрады работал рабочий Сема, по национальности еврей. Сокольский его спрашивает:
— Сема, ты почему задника не прибиваешь? Сема:
— Николай Петрович, нет гвоздей.
— Когда надо было распять Иисуса Христа, то гвозди нашли…
Как я уже говорил, Михаил Гаркави любил выдумывать о себе всякие небылицы. По его рассказам, то он был главным хирургом фронта, то он якобы играл в сборной Советского Союза по футболу и т.д. Однажды Смирнов-Сокольский позвонил Гаркави и говорит:
— Миша, я сейчас зашёл в ЦК партии и выяснил наконец: оказывается, революцию делал не ты…
Сокольский звонит Гаркави:
— Миша, давай выпьем! Гаркави: — Давай.
Сокольский:
— Фу, устал я тебя уговаривать!
Артист Московского театра сатиры Кара-Дмитриев в честь получения звания заслуженного артиста республики устроил грандиозный банкет в ресторане. Были приглашены артисты МХАТа, Большого театра, Малого театра и эстрады. Смирнов-Сокольский сидел в самом конце стола, и это ему не понравилось. Он первым поднял тост, долго говорил и предложил выпить за артистку Малого театра Гоголеву. Сокольский никому не давал слова сказать, и все тосты относились к Гоголевой. Все гости с удовольствием напились за Гоголеву, а о юбиляре никто и не вспомнил. Кара-Дмитриев со слезами на глазах сказал Сокольскому:
— Коля, что ты делаешь? Мне этот банкет стоил сумасшедших денег. На кой чёрт мне сдалась Гоголева?!
— В следующий раз, когда ты получишь звание народного артиста, артистов эстрады сажай поближе. Вот тогда я тебе устрою такой же юбилей, какой сегодня устроил Гоголевой, — ответил Сокольский.
В Ленинграде в гостинице «Европейская» работала сволочная администрация, которая нагло отбирала у живущих в этой гостинице деньги. То не хватает у тебя полотенец, то у тебя якобы пропали простыни и т.д. Я рассказал об этом Сокольскому Сокольский:
— Я знаю, но ничего сделать нельзя. Эти подонки способны на любую провокацию. Со мной был такой случай: я жил в шикарном люксе и обнаружил, что у «вольтеровского» кресла сломана ножка. Доказывать администрации гостиницы, что ножка была сломана до меня, и что я к этому не имею никакого отношения, было бессмысленно. Они все равно заставили бы меня платить стоимость кресла, так знаешь, что я сделал? Я достал топорик и разрубил кресло на мелкие кусочки. Клал в портфель и постепенно вынес на свалку. Когда я сдавал номер, они тщательно проверяли стаканы, полотенца, простыни. Но никому из них в голову не могло прийти, что у них никогда больше не будет большого, шикарного «вольтеровского» кресла.
Смирнов-Сокольский был художественным руководителем Театра эстрады. В это время Министерство культуры СССР снизило всем артистам эстрады зарплату. В кабинет вошёл Аркадий Райкин и говорит Сокольскому:
— Николай Павлович, читали приказ министерства? Скоро мы за наши выступления будем ещё доплачивать. Так надо было в семнадцатом идти на баррикады?
Сокольский:
— Аркадий, ты меня с кем-то путаешь. Я никакого отношения не имею к семнадцатому году, я отвечаю только за пятый год.
Набатов жаловался Сокольскому на свою жену. Мол, в грош его не ставит, пренебрежительно к нему относится, даже кофе не сварит.
— Я работаю, отдаю домой большие деньги, а она на меня — ноль внимания… Смирнов-Сокольский:
— Что ты, Илюша, возмущаешься? Кто ты такой? Ты для неё дерьмо. А она — жена Набатова!!!
Бывшего мужа Клавдии Шульженко по фамилии Коралли исключили из партии. Коралли был чем-то неприятен беспартийному Смирнову-Сокольскому. Николай Павлович позвонил секретарю парторганизации и говорит ему:
— Я узнал, что вы исключили из партии товарища Коралли. Так вот, должен вам сказать, что мы, беспартийные, с этим не согласны.
Секретарь парторганизации опешил:
— Решение принято в присутствии секретаря райкома… Я ничего изменить не могу… Сокольский продолжал настаивать:
— Мы на это не пойдём! Мы не позволим засорять наши ряды беспартийных…
Илье Набатову дали звание заслуженного деятеля искусств. Смирнов-Сокольский при встрече сказал:
— Илья, я всегда говорил, что ты деятель, а не артист…
В 1952 году в доме Александра Вертинского был званый вечер. На этом вечере присутствовали граф Игнатьев, две пожилые графини, старые офицеры, генералы и т.д. Стол был накрыт, но никто не
садился. Наконец, граф Игнатьев спросил:
— Господа, кого мы ждём?
— Государя императора, — ответил Смирнов-Сокольский.
Бывший министр культуры Храпченко на одном из совещаний говорил:
— Что же получается? Я, министр культуры СССР, получаю семьсот рублей в месяц, а артист эстрады Смирнов-Сокольский зарабатывает до тысячи.
Смирнов-Сокольский на это ответил:
— В том-то и дело, что вы получаете, а я — зарабатываю!
За все годы советской власти был единственный (к сожалению, недолго проработавший) умный, добрый, влюблённый в искусство министр культуры СССР Пономаренко. Как-то раз он решил собрать у себя представителей всех видов искусства, чтобы выяснить, кто в чём нуждается. Кому чем помочь.
Среди прочих выступал директор Ансамбля песни и пляски кубанских казаков и сказал:
— Товарищ министр! У меня есть такое предложение. Надо объединить кубанских и донских казаков, чтобы создать один большой монолитный коллектив.
— Ничего не получится. — вмешался Смирнов-Сокольский. — о таком объединении мечтал ещё генерал Краснов, так у него тоже ничего не вышло, — закончил Николай Павлович под хохот министра культуры…
Помню, должен был состояться ответственный концерт, на афише объявлены имена артистов Большого театра, МХАТа и др. «Др.» — означало — и другие артисты, то есть артисты эстрады. Сокольский возмутился, поехал к министру культуры Храпченко и говорит ему:
— Вот вы говорите, что ничего страшного… А мне, например, известно, что у вас есть учёная степень. Так вот представьте себе, появляется афиша какого-нибудь научного симпозиума и на ней значится, что будет выступать учёный такой-то, затем учёный такой-то и хр… А что такое «хр»? Это вы, товарищ Храпченко. Как вы к этому отнесётесь?
Илья Набатов сыграл эпизодическую роль французского министра Бонье в кинофильме «Падение Берлина». На просмотре фильма присутствовал Сталин. Когда дошло до эпизода с Набатовым, Сталин сказал: «Похож». Этого было достаточно, чтобы дать Набатову Сталинскую премию, соответствующую медаль. Набатов всегда носил эту медаль на лацкане пиджака. Сокольский издевался над Набатовым, говорил, что медаль получена — незаслуженно, и советовал её снять. Набатов продолжал носить медаль, которой очень гордился. И вот однажды он надел новый пиджак, забыв перевесить медаль со старого. Николай Павлович сказал Набатову:
— Снял, и правильно. Всё-таки совесть заговорила…
На собрании один говорил, что он приехал Кисловодска. А там все стены и заборы сплошь заклеены афишами артистов Шурова и Рыкунина. Сокольский вставил реплику: «Раньше на заборах писали другое…»
Директора Москонцерта Барзиловича хотели уволить. Смирнов-Сокольский был категорически против и аргументировал так:
— Товарищи, Барзилович работал на эстраде два года, всё это время он работал на себя. Он построил себе кооперативную квартиру, купил дачу, машину, одел семью. Короче, у него уже все есть. Так вот только сейчас он может начать работать для нас, артистов… Если мы уволим Барзиловича, то придёт новый директор и тоже будет два года воровать, чтобы себя обеспечить. Зачем нам ждать ещё два года?
В результате Барзиловича не уволили…
На эстраде работал великолепный эксцентрик Иван Байда. Он пользовался у зрителей большим успехом и часто ездил на гастроли со Смирновым-Сокольским. В лексиконе у Байды было три слова: «бабы», «пиво», «раки». И он прекрасно обходился этими тремя словами. Когда в газете какой-то очередной дегенерат написал про Байду, что он космополит, Байда решительно ничего не понял и обратился ко мне с вопросом:
— Меня что, ругают?
— Нет, — сказал я ему, — тебя хвалят. И он успокоился.
Вся эстрадная братия едет в одном вагоне. Администратор сообщает, что на следующей станции нужно всем выйти. Кто-то поинтересовался, сколько будет стоять поезд?
— Поезд будет стоять столько, сколько стоит у Шурова! — крикнул эксцентрик Байда. Сокольский:
— Придётся прыгать на ходу.
Набатов всё время искал новые сексуальные приключения, и это немного раздражало Смирнова-Сокольского. В ресторане Набатов просит Сокольского приподняться, чтобы он мог пройти. Сокольский:
— Куда тебе надо? Набатов:
— Мне надо выйти пописать. Сокольский:
— Тебе бы только вынуть.
Смирнов-Сокольский говорил про Ивана Байду:
— Ваня отличается от других философов тем, что у него, к сожалению, нет последователей…
Во время советских антисемитских походов — «дело врачей», «космополитизм» Николай Павлович всегда отменял свои гастроли по стране. Я сказал ему однажды:
— Николай Павлович, вы же русский. Почему вы боитесь и отменяете гастроли?
— Разве они разбираются, кто русский, а кто еврей? Для них, если ты в чистой рубашке — значит еврей.
Аккордеонист Лёня Чёрный сказал Сокольскому, что его с бригадой посылают на целину. Сокольский поинтересовался:
— Что у них удобрений не хватает?
Министр культуры Екатерина Фурцева как-то проводила совещание театральных работников. Она говорила о том, что по приказу товарища Хрущёва пора возвеличивать самодеятельность, передать ей театральные подмостки. А профессиональные артисты пусть отдохнут. Пусть в искусстве царит бескорыстное любительство. Бас Смирнова-Сокольского из дальнего угла:
— Екатерина Алексеевна, а если б вам, например, понадобилось сделать аборт. К кому бы вы пошли? К опытному профессионалу или к человеку, который не имеет ни опыта, ни образования, а просто любит делать аборты?
Известно, что знаменитая советская певица Барсова часто меняла мужей, предпочитая молодых и стройных. Однажды на банкете после оперной премьеры очередной муж певицы подошёл и представился Сокольскому. Он скромно сказал:
— Я муж Барсовой. На что Николай Павлович поинтересовался:
— А днём чем изволите заниматься?
Лев Борисович Миров, ведущий артист московской эстрады, рассказывал нам в кабинете Сокольского какую-то историю и всё время запинался. Миров:
— Когда я приехал в Москву, ещё был голод… Нет, это был другой голод… Миров опять закатил глаза вверх, что-то вспоминая, но Сокольский перебил его:
— Лева, что ты мучаешься и вспоминаешь. Скажи просто: это было два голода тому назад…
Смирнова-Сокольского просили высказать своё мнение об артисте Б. Сокольский ответил:
— То, что делает на сцене артист Б., может сделать любой еврей, который не стесняется.
Известно, что артистка МХАТа Книппер стала женой писателя Антона Павловича Чехова, а артистка МХАТа Андреева — женой Алексея Максимовича Горького. Когда Сокольского спросили его мнение о системе Станиславского, Николай Павлович ответил:
— Одну положили под Чехова, другую — под Горького. Вот тебе и вся система.
Уникальная библиотека Смирнова-Сокольского была оценена государством в шесть миллионов рублей. Министр культуры СССР Фурцева сделала Сокольского своим референтом по литературе.
Это очень польстило ему, и в порыве радости он написал завещание, согласно которому после его смерти он дарит государству свою библиотеку. Она должна называться имени Смирнова-Сокольского. А его жена, Софья Близнековская, должна быть директором этой библиотеки. Но Сокольскому передали, что на каком-то совещании Фурцева не очень лестно отозвалась о нём. Сокольский рассердился и сделал в завещании исправление. В тот же день, когда Николай Павлович умер, пришли из библиотеки им. Ленина забирать книги, имея на руках завещание. Жена Сокольского Софья Близнековская сказала:
— Вы узнали о смерти моего мужа и сразу пришли забрать его библиотеку. Очень мило с вашей стороны. Я знаю, у вас есть завещание моего мужа, но покойный перед смертью внёс некоторые коррективы. Не будете ли любезны с ними ознакомиться.
Дала им завещание, где было написано крупно красным карандашом: «Хуй им в рот, а не библиотеку!»
Научные работники библиотеки им. Ленина точно сориентировались и быстро нырнули в открытую дверь.
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
О Владимире Высоцком написано и сказано много. О нём говорили и писали люди, которые его хорошо знали, и люди, которые почти его не знали. Многие из них делали это небескорыстно.
Володю можно было любить или не любить, но никто не может отказать ему в огромном таланте и неподражаемой индивидуальности. Как бард он был гений. Когда Володя брал гитару и начинал петь, он был, как натянутая стрела, как обнажённый нерв. Все барды мужского пола на его фоне выглядели евнухами.
Не помню точно, в каком году режиссёр и оператор Аркадий Кольцатый снимал в Москве музыкальный фильм «Нет и да». В главной женской роли снималась великолепная Людмила Гурченко, её партнёр по фильму был актёр МХАТа большой друг Высоцкого — Всеволод Абдулов. Я работал в этой творческой группе в качестве балетмейстера. Съёмки шли легко, непринуждённо. Сева Абдулов, отличный парень, мечтал познакомить меня с Володей Высоцким, не сомневаясь, что доставит нам обоим удовольствие.
Знакомство состоялось в какой-то квартире, за столом, на котором было много водки. Я крепко выпил и был в ударе. Володя смеялся, и это вдохновляло меня на новые экспромты.
Мне тогда показалось, что несмотря на скоротечность нашего знакомства между нами установился какой-то духовный контакт.
Несмотря на внешнюю мишуру и популярность вокруг него официальные власти создали обстановку, превращавшую его жизнь в ад.
Высоцкого, талантливейшего актёра и барда, держали на голодном творческом пайке. Кроме театра на Таганке ему не предоставлялась официально никакая другая сцена. Если ему удавалось выступить перед своими поклонниками с помощью верных друзей и почитателей, за этим следовали грубый чиновничий окрик и очередная опала.
Я знал многих кинорежиссёров, мечтавших снять фильм с участием Высоцкого, но пригласить его на роль в те времена означало обречь на непризнание киноленту. Именно участие Владимира Высоцкого в фильме «Интервенция», в котором я снимался вместе с ним, помешало фильму выйти на экран. Более двадцати лет кинолента пролежала в хранилище и вышла на экран совсем недавно. Тем не менее находились смельчаки, которые приглашали Владимира в кино. Им мы обязаны тем, что образ талантливого актёра запечатлён на экране.
Чтобы представить, до чего мелкими и подлыми были партийные чиновники, которым была поручена травля Высоцкого, расскажу об одном эпизоде.
Каждый год в Москве в Центральном доме работников искусств 11 января устраиваются традиционные «посиделки». Попасть на них в актёрской среде почитается за честь. На одной из этих «посиделок» выступил Володя Высоцкий и доставил всем присутствующим огромное удовольствие.
Перед очередными «посиделками» сижу в кабинете у заместителя ЦДРИ Мони Резниковского. Неожиданно заходит в кабинет Сева Абдулов и просит три билета, один из которых предназначался Высоцкому.
Резниковский:
— Сева, я дам тебе только два билета. Высоцкому я не могу. Сева Абдулов без всякого сопротивления и лишних вопросов взял два билета и ушёл. Вероятно,
друг Высоцкого Сева Абдулов не раз сталкивался с подобным явлением. Я был настолько возмущён, что очень зло сказал:
— Моня, я никак не могу понять, кто имеет больше права присутствовать и выступать на таких
«посиделках», если не Володя Высоцкий?!
— Борис, не думай, что я ценю Володю меньше, чем ты, — ответил обиженно Резниковский, — но за прошлые «посиделки», на которых был Высоцкий, я получил выговор. Вчера мне позвонили из ЦК партии и предупредили: если в этот раз будет в ЦДРИ Высоцкий, я лишусь работы.
Тем не менее Володя никогда не оставался в изоляции. У него были верные и преданные друзья и, прежде всего, родные.
Помню, после моего выхода из тюрьмы я был приглашён на обед в семью популярной в прежние годы эстрадной певицы Капитолины Лазаренко. Там меня познакомили с отцом Володи. Я до сих пор не могу забыть, что этот боевой полковник не назвал мне своего имени-отчества, а представился:
— Отец Володи Высоцкого. Мне послышалась в его словах и отцовская гордость, и отцовская боль.
Я не могу себя причислить к близким друзьям Высоцкого, хотя мы регулярно встречались и даже работали в одних фильмах. В Ленинграде мы пошли на рынок купить фрукты и случайно попали в павильон, где продавались гуси. Мне пришла в голову озорная идея. Я сказал Володе: — Сейчас я сделаю так, что все торговки будут между собой ругаться.
Я подошёл к первой попавшейся торговке, взял гуся, посмотрел на него внимательно и сказал:
— Моя жена поручила мне купить гуся с жирной жопой. Торговка немедленно повернула гуся задом.
— Разве это вам не жирная жопа?
— Хорошая жопа, но хотелось бы пожирней, — ответил я.
— Гражданин, — крикнула соседка, — идите ко мне! Уверяю вас, здесь на базаре такой жопы вы не найдёте.
— Ишь ты, — возмутилась третья торговка, — самая жирная жопа у меня. Я поворачивал очередного гуся к себе задом, одним глазом заглядывал внутрь, а другим смотрел на Володю Высоцкого, который уже рыдал от смеха. Наконец, я объявил:
— Лучше позвоню жене, пусть она придёт и выберет жопу себе по вкусу. Мы ушли, но ещё долго над павильоном носилось слово «жопа».
В городе Запорожье, на скамейке рядом с рестораном, оказались Володя Высоцкий, Марк Бернес и я. Рядом в ресторане шумела свадьба. Нам со скамейки было все видно. Я решил повеселить Высоцкого и Бернеса, зашёл в зал, где праздновали свадьбу, поцеловал невесту, посадил её на руки и поднял тост за молодых.
Все выпили. Я танцевал со всеми женщинами, обнимался с какими-то мужчинами, поднимал тосты, пил с женщинами на брудершафт, устраивал массовые танцы, чёрт знает что творил и ушёл.
Высоцкий и Бернес хохотали и никак не могли понять, как это возможно.
Я им объяснил, что на свадьбах никто никого толком не знает. Родственники невесты думают, что ты гость со стороны жениха, гости жениха не сомневаются, что ты со стороны невесты, а ты с улицы.
Володя Высоцкий ушёл, и это большая утрата. Врачи говорят, что инфаркт — огорчение сердца. На мой взгляд, это точной определение. Володя был мужественным, своим разумом терпел и боролся с несправедливостью, а вот сердце — этот тонкий механизм — не выдержало битвы, огорчённое сердце перестало биться.
ПОЛЬ РОБСОН
Не думайте, что мне довелось дружить с Полем Робсоном. Виделся я с ним один-единственный раз. Даже просидел с ним вечер за одним столом, и эта встреча обошлась мне дорого. В прямом смысле этого слова…
В Москве попасть в ЦДРИ на встречу Нового года — проблема, и об этом надо задолго побеспокоиться. Все столы заранее проданы, и свободный стул не найдёшь даже в кабинете у директора, все сидят за столами, сильно прижатые друг к другу, если, скажем, ты хочешь выпить рюмку, то ты должен оттолкнуть свою родную жену, которая сидит у тебя справа, и кого-нибудь слева, горячих блюд повара готовят ровно столько, сколько было продано билетов, и ни одной лишней порции.
Верный друг Советского Союза и всех угнетённых, негритянский певец Поль Робсон однажды решил встретить Новый год среди своих советских коллег в ЦДРИ. Явился неожиданно и с постоянным спутником из КГБ, который числился его другом и переводчиком. Следил за ним и за всеми, кто с ним общался.
Директор ЦДРИ Филиппов попал в дурацкую ситуацию: ни одного свободного места, а принять гостя надо, иначе завтра будет разнос в ЦК КПСС, а то и с работы уволят.
Филиппов был в панике.
У меря был столик на четверых далеко от основного зала и сцены. Мы с женою сидели за столом, а двое наших друзей отсутствовали — вероятно, танцевали. Филиппов прошёл весь зал, умоляя потесниться, но никто не соглашался. Неожиданно он увидел за моим столом два свободных стула и, не спросив разрешения, усадил гостей. К моему столу сразу подошёл фотограф и установил фотоаппарат на треножнике. Кагебешник, друг и страж негритянского певца, взял мою бутылку шампанского, откупорил её с шумом и разлил по бокалам всем, за исключением меня и моей жены. Поль Робсон и директор ЦДРИ Филиппов чокнулись, улыбнулись в объектив и выпили. Заместитель Филиппова Моня Резниковский сменил своего шефа у стола и сразу заказал бутылку шампанского, опять её разлили по бокалам, минуя нас, и Моня сфотографировался вместе с Полем Робсоном. Фотограф, старый скучный еврей, укрывшись какой-то старой тряпкой, был готов всю ночь печь исторические снимки.
Я сидел сбоку и ни разу не попал в кадр вместе с угнетённым негром, который был на самом деле богатейшим человеком. Как только Поль Робсон устроился за моим столом, к нему началось паломничество. Первым пожаловал народный артист СССР Иван Козловский, официант по его просьбе принёс бутылку коньяка, чёрную икру и сёмгу. Два певца — советский и американский — обнялись и обменялись короткими тостами. Фотограф запечатлел это эпохальное событие, и они ещё какое-то время постояли обнявшись, бессмысленно улыбаясь.
Козловского сменил Леонид Осипович Утёсов. Утёсов и Робсон, обняв друг друга, позировали перед объективом. Утёсов не задержался у нашего столика. Его тут же сменила очередная знаменитость. Каждый подходящий считал своим долгом заказать у официанта, который нас обслуживал, очередную бутылку шампанского, но никто ни разу не полез в карман за деньгами. Советские знаменитости ничего не жалели для своего заморского собрата. На моих глазах он объедался икрой, лососиной, опивался самым дорогим коньяком. Когда принесли горячее, негритянский певец по рассеянности съел две порции — за меня и мою жену, а его спутник — две порции моих друзей. Кофе и пирожные нам тоже не достались. Их съели гостившие за нашим столом певица Казанцева и режиссёр Наталья Сац.
Когда у нас на столе не осталось ничего съестного, чёрный гость вместе со своим переводчиком и телохранителем откланялись. Официант протянул мне счёт за всё, что заказывали побывавшие за нашим столом местные знаменитости. Счёт поверг меня в ужас. Директор ЦДРИ Филиппов оказался на редкость гуманным человеком: он договорился с дирекцией ресторана предоставить мне рассрочку на шесть месяцев. Так у меня появилось основание рассказывать всем знакомым американцам, что я полгода содержал Поля Робсона.
ПЕЧАЛЬНО, НО СМЕШНО
…Я прожил большую жизнь среди людей искусства и с полным основанием могу утверждать, что это — особые люди. Как я уже говорил, советские актёры, художники, музыканты в отличие от своих американских коллег были в массе своей небогатыми людьми, если не сказать бедными. Единственным, пожалуй, их богатством был неистощимый юмор, жизнестойкость и оптимизм. Они улыбались даже тогда, когда окружающие предпочитали плакать. На похоронах, например… Поверьте, это не выглядело кощунством, напротив…
У меня в памяти сохранилось несколько таких эпизодов, о которых я хочу рассказать.
Московский цирк хоронил одного своего актёра. Режиссёр Арнольд произнёс самую короткую речь: — Товарищи, — сказал он, — опять мы не того хороним. Циркачи стояли и не знали, когда они могут сесть. Арнольд посмотрел, сказал привычное «ап», и все сели.
Когда умер Сталин, в Москве творилось чёрт знает что. Сотни тысяч людей пробирались в сторону Колонного зала, чтобы посмотреть на него, убедиться, что он действительно умер, и молились, чтобы это не оказалось ошибкой. Я тоже был в каком-то непонятном состоянии: музыка Шопена, Шумана, Моцарта, которая звучала с утра до вечера, выводила меня из равновесия.
В один из траурных дней я встретил в Москонцерте конферансье Сергея Алейникова. Серёжа был сильно опечален и расстроен. Мне хотелось сказать что-то утешительное, но он не дал мне открыть рта.
— Эта сволочь своей смертью мне весь квартал испортил, — возмутился он. — Все концерты отменились, апрельские гастроли пролетели. Все, загубил мне квартал. Умри он в конце мая, я был бы в порядке.
Серёжа продолжал возмущаться:
— Когда не везёт, то во всём не везёт. Когда умирает какой-нибудь артист эстрады, то просят у меня деньги на цветы, и приходится три рубля давать на покойника. Это случается обычно один раз в квартал — это куда ни шло. А тут в одном месяце четверо загнулись. Я накололся на двенадцать рублей, а тут ещё все концерты отменены.
Он безнадёжно махнул рукой и пошёл прочь, всерьёз обиженный на покойников.
Писатель Павел Леонидов имел крутой характер. Как-то при встрече он сказал мне:
— Ты, знаешь, Борис, я со всеми поссорился и только с тобой продолжаю дружить. Я уверен, что когда я умру, ты поднимешь мой гроб.
На что я ответил:
— Паша, я тебя умоляю, помирись ещё с тремя. Один я не сумею поднять гроб.
Хоронили конферансье Дарского (из знаменитого некогда дуэта Миров и Дарский). Гроб установили в Центральном доме работников искусств. На панихиде выступил чтец Балашов:
— Евсей, вот ты лежишь, а на улице идёт снег, падает большими хлопьями… А ты лежишь… Жонглёры бросают шарики… Роняют их… А ты лежишь… Снег падает большими хлопьями… А ты лежишь…
В паузе слышно, как один акробат говорит другому:
— И ты мне будешь доказывать, что он не ебнутый… Вторым взял слово сильно подвыпивший Смирнов-Сокольский:
— Евсей, я помню тебя, когда ты молодым приехал из Новосибирска в Москву. Ты просил меня как ведущего артиста эстрады посоветовать, с кем тебе работать. Я тебе, Евсей, сказал, чтобы ты работал с Левой Мировым. Первая программа в саду «Эрмитаж» была для вас провальной, а я прошёл на «ура»!…
Вы сделали новую программу, показали её опять в «Эрмитаже» и снова провалились. А я имел оглушительный успех — стон в зале.
А знаешь, Евсей, почему вы провалились с Мировым? — продолжал мэтр. — Потому что без микрофонов меня было повсюду в зале слышно, а вы с вашими писклявыми голосами только вызывали раздражение зрителей. Ты тогда был никем, а я уже был Смирнов-Сокольский. Ты меня понял, Евсей?
Вот так крепко выпивший Сокольский у гроба Дарского наговорил себе кучу комплиментов, а о покойнике ни одного доброго слова…
После похорон Смирнов-Сокольский подошёл к вдове Дарского и сказал:
— По-моему, все хорошо! — Да, сквозь слёзы ответила вдова. Ясно, что Сокольский имел в виду организацию похорон, но в этот трагический момент это прозвучало нелепо и смешно…
На похоронах своего отца композитор Дзержинский нанял оркестр, в котором был флейтист. Естественно, он для траурной музыки был ни к чему, но руководитель оркестра уговорил Дзержинского взять флейтиста, не зная, что он композитор. Дзержинский, чтобы не думали, что он жалеет деньги, согласился.
Идёт похоронная процессия… Похоронный марш Шопена… А флейтист, увидев заказчика и стараясь доказать ему необходимость своего пребывания в оркестре, начал выделывать на своей флейте чудеса. Немыслимые пассажи и фиоритуры, не вязавшиеся с музыкой траурного марша, следовали за руладами и трелями. Он вступал первым и заканчивал играть позже всех, проявляя такой энтузиазм, что Дзержинский еле сдерживал смех.
На похоронах одного знакомого, когда выносили гроб из квартиры, его жена, рыдая, говорила:
— Миша, зачем ты уходишь из такой квартиры?
В Москве умер артист балета московской эстрады. Когда стало известно, что он умер на бабе, на панихиде был аншлаг. Артистам было о чём поговорить и пошутить. Если смерть неотвратима, то лучше артисту умереть на сцене, алкашу в буфете, а блядуну на бабе. Неудобство для жены покойного заключалось в том, что её муж умер на другой бабе, и об этом тут же узнала вся Москва. Боже, сколько бы она отдала денег при всей её жадности, если бы её муж умер на ней. Но так неправильно устроена жизнь, что на ней он мог только уснуть летаргическим сном.
Некоторые артисты с наиграно грустными лицами подходили к жене покойного и интересовались, как это произошло. Жена была вынуждена что-то придумывать, заикалась и говорила о внезапном инфаркте. Хохмачи подбрасывали реплики: хорошо, что он недолго мучился, смерть наступила сразу.
Одна актриса, ломая руки от переживания, надрывным фальшивым голосом допытывалась: «Дорогая, милая, где это произошло? Слава Богу, что дома. Он был один, когда его хватил удар? Боже, какое несчастье! Жаль, что тебя в это время не было дома. Ты бы могла его спасти».
На панихиде выступил чиновник из министерства культуры и сказал: «Покойник был неутомим и отдавал все свои силы искусству».
Хохмачи после его речи ещё долго упражнялись в остроумии.
У одного моего знакомого администратора умерла жена. Я убедился, что мало кто знает процедуру похорон. Всё идёт самотёком. Но мой товарищ был администратором и всегда руководил. Он и тут взял в свои руки бразды правления.
Он крикнул на кладбище:
— Кто с венками — встаньте влево! Почему с венками нужно было становиться влево, никто не знал, конечно, он тоже.
— Все с живыми цветами идите вперёд, — скомандовал он. — Гроб с тележкой в середине, родственники справа, гости — слева.
Он говорил твёрдым безапелляционным голосом.
— Большинство присутствующих не понимали смысла его распоряжений, но, тем не менее, беспрекословно выполняли их.
Мой товарищ решил похоронить свою жену по еврейскому обряду. Он взял на кладбище певца, чтобы тот спел молитву на еврейском языке и в пении рассказал о покойнице и её родных.
Еврейский певец сказал, что он поёт со своим напарником. Товарищ сказал — нет проблем, давайте пойте. Один из певцов начал на еврейском петь речитативом. О чём он пел и о чём говорил, никто не понял, но ему поверили на слово. Второй манкировал и что-то мямлил себе под нос.
Присутствующие администраторы-евреи возмутились и предупредили певца: «Если твой партнёр не будет петь, он деньги хуй получит». Первый певец тут же сказал: «Сема, если ты не запоёшь, то ты хуй получишь деньги». Певец Сема неожиданно как завизжит — и все попадали от хохота. Администратор крикнул: «Хватит петь, бабки получишь».
Он был человеком не пьющим, но, вероятно, с горя выпил и на кладбище его развело. У открытого гроба стоит и рыдает сестра покойницы. Мой товарищ пьяным голосом говорит: «Прекрати плакать!» Сестра продолжает рыдать. Он ещё громче: «Я кому сказал, прекрати плакать!» Присутствующие объясняют, что, мол, это хорошо, что она плачет, потом ей будет легче. Но он ни в какую: «Я в последний раз говорю тебе — брось плакать!» однако сестра и на этот раз не отреагировала. «Раз так, не понимаешь русского языка! Закрывайте крышку гроба и давай её на хуй в яму!»
Гробовщики с быстротой молнии выполнили его распоряжение при еле сдерживаемом хохоте всех собравшихся.
Поминки — это самый весёлый праздник в честь покойника. Я когда-то был категорически против поминок. Но прошло время, и я понял, что этот ритуал придумали правильно. У меня сложилось такое впечатление, что люди по дороге на кладбище уже мысленно садятся за праздничный стол, людей, которых постигло горе, не оставляют одних. А возня вокруг накрываемого стола отнимает всё время и отвлекает от горя. Ответа на вопрос, на сколько гостей накрывать на стол, никто не знает, так как людей не приглашают. Люди приходят сами. В ванной в воде стоят бутылки с водкой. Этой водкой можно было бы споить всю армию Будённого. Но всё время раздаются голоса, что водки не хватит. На кухне обычно находятся две расторопные женщины и очень быстро хлопочут Из кухни раздаётся чей-то голос: «Сейчас только хлеб нарежем и можно садиться за стол».
Но за этим столом уже давно сидят какие-то незнакомые люди и с нетерпением ждут начала банкета. Ближайшие родственники покойного или покойницы стоят и передают на стол то, что не успели подать раньше. За столом приятная деловая обстановка. При взгляде на выпивку и закуску у всех прекрасное настроение. Общее оживление, слышатся отдельные отрывистые, на подъёме сказанные слова:
— Вам налить водки или коньяка?
— Передайте, пожалуйста, хрен.
— Я обычно пью вино, но сегодня, пожалуй, выпью водки. Какой-то незнакомец за столом говорит:
— Пусть земля ему будет пухом! Все с ним соглашаются, выпивают, и опять отдельные реплики:
— Я вам советую попробовать студень.
— Сациви получилось на славу.
— Не хватает одного прибора… Фраза: «У всех налито?» — идёт лейтмотивом во время поминок.
— Передайте, пожалуйста, буженину.
— Если вам не трудно, захватите и мне пару кусочков хлеба. Настроение у всех потрясающее. Ещё поддали, и кто-то поднимает тост за вдову и страстно клянётся, что он никогда её не оставит и готов до конца жизни ей помогать. Все согласны с ним и клянутся в верности ей. Все в это время искренне верят, что будут всегда рядом с нею. Но когда проходит хмель и ещё пара дней, о ней тут же все забывают.
— Обычно я ем очень мало, но сегодня было так вкусно, что я себе сильно напозволял. Обращаясь к вдове:
— Вы волшебница.
— У всех налито? И опять пошло. Бывает, так напиваются, что пьют за здоровье покойника. За столом начинают шутить и рассказывать анекдоты, мотивируя тем, что покойный якобы любил шутку. Появляется гитара (якобы покойный любил гитару). Пошли лирические, потом бравурные песни и доходит до нецензурных частушек. Появляется аккордеон, начались пляски (уже ничем не мотивируя). В этом доме при жизни покойного никогда не было весело. Глядя на такие поминки, я всегда думал: «Какой смысл умирать? Если веселиться, так давайте вместе…»
Говорят, что про покойника или ничего не говорят, или говорят хорошо. Фельетонист эстрады Афонин полностью уничтожил эту традицию.
В московской эстраде умерла певица. Артистки, отойдя от гроба, начали выражать вслух свою скорбь. Одна сказала, что покойная была замечательной певицей. Но стоящий рядом артист Афонин тут же ей возразил: «Она была отвратительной певицей!»
Другая начала было говорить, что покойная была интересной женщиной, но Афонин был категорически против такой оценки и сказал: «Она была всегда страшна, как смерть: глубоко поставленные маленькие глазки, отвратительная улыбка и чувствовалось, что не сегодня завтра у неё наступит климакс».
Какая-то женщина попыталась сказать о её добром характере, но не тут-то было. Афонин её перебил и говорил о покойнице, как о ведьме. Спорить с ним никто не смел, так как он был во многом прав. И тем не менее люди говорили, что всё-таки её жаль. Афонин: «Почему её жаль? Слава Богу умерла. Кому она была нужна? Уродливая, наглая, бездарная артистка. Для московской эстрады она бы сделала доброе дело, если бы раньше загнулась. И без неё на эстраде полно говна…»
Я на Афонина смотрел, как на чудо. Это же надо быть таким откровенным, беспощадно-злым, не щадить ни живых, ни мёртвых. Смешно…
В Москонцерте работал маленького роста человек по имени Люсьен. Человек неизвестной национальности. Не то итальянец, не то грек, но совсем не похожий на еврея. Работа у него была муторной. В его обязанности входило хоронить артистов московской эстрады. В Союзе созданы все условия для смерти, но ничего не предпринято для того, чтобы похоронить человека. На всех кладбищах нет мест. Если какой-нибудь родственник уже лежит на кладбище, то Люсьен добивается, чтобы покойника потеснили. Но если на кладбище никого не было, то Люсьен должен вывернуться наизнанку, чтобы артиста похоронить. Люсьен был поглощён своей работой. Он как-то подошёл к артисту-иллюзионисту Зайцеву и посетовал:
— Как вам нравится, Костя. Умер тут у нас артист Зайцев. Мы его похоронили по высшей категории, думали, что это вы. А он должен был быть похоронен по своей квалификации по низшей категории. Это же надо, как человеку повезло.
Во время праздничных кампаний, когда было много концертов, Люсьена привлекали к концертам в качестве бригадира. Он должен был объявлять артистам, когда, куда и каким транспортом должны они ехать на концерт и т.д. Люсьен всё время сбивался с текста, что приводило артистов в замешательство. Он говорил:
Товарищи, сейчас за нами приедет катафалк, то есть автобус, и мы едем на кладбище, то есть на концерт. Проведём панихиду, то есть выступим и поедем на новое кладбище, то есть на другой концерт.
Как-то Люсьен зашёл к тогдашнему управляющему Москонцерта Стрельцову и говорит:
— Александр Николаевич, произошло чудо! Москонцерту на четвёртый квартал удалось достать два места — на Новодевичьем кладбище (самое престижное кладбище в Москве). На солнечной стороне, ближе к Лужникам. Такое счастье бывает раз в жизни. Это равносильно выигрышу по трамвайному билету в сто тысяч. Нужны два покойника до конца четвёртого квартала.
Управляющий Стрельцов после сильного похмелья никак не мог понять, о чём идёт речь.
— Какие покойники?
— Это не важно. Лишь бы места не пропали.
— Так что же я должен сделать? — в недоумении говорит Стрельцов.
— Сделать так, чтобы были покойники. Мы не можем упустить такую возможность… Представляете, Большому театру выделили одно место, а нам два, и где?! У входа, южная сторона, с видом на стадион имени Ленина. Это большое счастье.
Стрельцов по-прежнему не мог понять, что в данной ситуации от него требуется, и строго переспросил:
— Что вы от меня хотите?
— Дать двух покойников!
— О чём вы говорите? Вы что, в своём уме? какие покойники, где я могу их взять? Это же абсурд! Где я вам могу взять покойников?!
— Товарищ управляющий, места пропадут. — Пусть пропадут. Нет у меня покойников!
— Александр Николаевич, сделайте внутренний конкурс, просмотр на подтверждение квалификации артиста, и покойники будут.
ТОВАРИЩ М.
В одной филармонии работает администратором товарищ М. Очень хороший работник, с прямым, крутым характером. Она состоит в самой передовой и прогрессивной партии — коммунистической. Её боятся два блока: блок беспартийный и партийный блок. Вообще он человек справедливый. В то время, когда все люди нашей необъятной родины дрожали и всего боялись, товарищ М. стояла, как гора Казбек, на страже своего благополучия и всех угнетённых. Она напоминала всем героя отечественной войны Александра Матросова, который своей грудью закрыл немецкую амбразуру. У товарища М. были груди такой величины, что во время отечественной войны приди ей в голову что-то закрыть, она могла бы перекрыть грудью, как минимум Курскую дугу.
М. — крупная женщина с тёмными волосами, с тёмным цветом кожи, но со светлым будущим. Она мне сильно напоминала отца Врубелевского «Демона». При всех её мужских достоинствах ей очень хотелось быть женственной. Вероятно ей очень нужен был мужчина. Но любой мужчина на её фоне смотрелся бы, как пастушка.
При разговоре с мужчиной она очень часто делала всем корпусом раскачивающиеся движения и в то же время обеими руками поднимала груди вверх. Я так до сих пор и не понял, что это должно было означать? Если это был способ соблазнить мужчину, то, мне кажется, это ошибка, так как для мужчины одних грудей маловато. Для полного счастья требуется ряд дополнительных женских деталей. А если все это отсутствует, то надо компенсировать деньгами. Поднимание грудей обеими руками вверх не было похоже на нервный тик. Если она боялась, что её груди могут сползти к ногам, то я утверждаю, как грудевед, что её груди были на высоте и морально устойчивы…
Товарищ М. любила и, вероятно, любит играть в преферанс. Играет средне, но с полной отдачей. Игра для неё не только времяпрепровождение, но и решение глобальных тем. Она играет, как если бы решалась судьба родины. Если она вистует, то так ответственно, как будто с нею вистует весь Советский Союз. Преферанс ей компенсировал отсутствие мужской ласки.
Она курила. Но как!!! Она практически не выпускала сигарету изо рта, пытаясь всеми лёгкими вытянуть из сигареты за одну затяжку весь дым. В это время обе её щеки проваливались внутрь, и она становилась похожа на чахоточного идеолога-дегенерата Суслова. Потом, когда дыхание у неё кончалось, она сильным рычанием посылала дым, смешанный с никотином, внутрь организма. И вот когда никотин, проходя мимо лёгких, пищеблока и матки, попадал в щиколотку, только тогда она получала удовольствие от сигареты. Дым, я внимательно следил за этим, никогда не выходил обратно на волю, а оставался внутри неё. Я хотел предложить ей затяжку запивать водой, но эта тонкая, ажурная французская шутка могла бы мне дорого стоить.
Много несправедливости на свете. Есть очень много женщин красивых, с прекрасными фигурами, которые с ужасом ждут ночи и не знают, что бы такое придумать, чтобы любимый муж оставил их ночью в покое. Любая маломальская неприятность отвлекает женщину от супружеской любви, мужчина создан так, что он только об этом и думает
И все неприятности на работе, с деньгами и другими вещами только приближают его к постели. В этом — отдушина и вариант отвлечения от неприятностей.
Товарищ М. сшила себе траурное платье с чёрной шалью и чёрной вуалью. И как только умирал какой-нибудь знаменитый, красивый, средних лет человек, она была на похоронах, на поминках, места себе не находила, страдала и рыдала. На вопрос, почему она так переживает, кем он ей был при жизни, она отвечала, что он был её любовник, и она не знает, как переживёт его смерть.
Она верила в эту придуманную историю. Я часто встречал её на разных похоронах с одним и тем же текстом, убитую горем. На её фоне родная страдающая жена покойного смотрелась, как весёлая вдова.
Что делает с человеком фантазия и вера в придуманную ложь. Женщины ей искренне завидовали, встречая на панихиде по знаменитому человеку.
Здесь, в эмиграции, мне приходилось читать советские некрологи, и могу безошибочно сказать, где она была в своём траурном платье с чёрной вуалью, оплакивая своего любовника, который так не вовремя оставил свою возлюбленную одну, страдающую, но с фантазией.
Бог с ними, с покойниками. Дай ей Бог живого, настоящего мужчину в её доме, ближе к постели, чтобы она красовалась перед ним в белом пеньюаре, а потом голой. Боже! Как это должно быть страшно!
ПИЦУНДА
Снимался в кино, работал на эстраде, устал как черт. Взял семью и уехал отдыхать в Пицунду, райский уголок. Потрясающее сочетание моря с чистым мелким песком и сосновым лесом. Снял квартиру у одной блондинки с двумя взрослыми детьми.
Я не знал, что наша хозяйка активно прощалась с сексом и нашла себе молодого самца. Он был младше неё на всю жизнь и по интеллекту отстал от неё навсегда. Он нигде не работал, весь день ел и пил. А вечерами, чтобы ему не было скучно, она собирала компанию, и они пировали. Эти пиршества не доставляли радости отдыхающим. Но с этим ещё можно было бы смириться, так как пирушки заканчивались в два часа ночи.
Сложнее было с молодыми отдыхающими, которые жили поблизости. Эти полудегенераты были уверены, что современный молодой человек должен бренчать на расстроенной гитаре, орать без слуха и включать радио на полную катушку. От них на отдыхе нет никакого отдыха. Говорить и просить их нет смысла. Они будут смотреть на тебя, как на первобытного человека.
Здесь, на Западе, в русских ресторанах оркестры играют, как в кузнице. Плохо, но зато громко. Я спросил у одного ударника:
— Зачем ты так бьёшь по барабану и тарелкам?
— Чтобы фальшь заглушить, — ответил он. В другом ресторане я задал этот же вопрос саксофонисту, который мне ответил:
— Если бы мы могли играть пианиссимо, неужели бы мы тут сидели? И, наконец, в очень приличном оркестре с профессиональными музыкантами происходило то же самое. Я обратился к музыкальному руководителю этого оркестра:
— Скажи, пожалуйста, почему вы так громко играете? Люди пришли сюда отдохнуть, а за столом из-за вашего шума ничего не слышно. Поднять тост в честь именинника или именинницы бессмысленно, так как все слова тонут, как при землетрясении. Вы расстраиваете нервную систему, вы способны своей игрой поднять покойника из гроба и уложить живого на его место. Это кошмар!!!
— Борис, я с тобой полностью согласен, — ответил мой друг-музыкант, — и наш оркестр может играть тихо, что мы и делали. Но посыпались жалобы со стороны посетителей, что им скучно. А хозяин ресторана обвинил нас в том, что мы манкируем и ленимся играть. Если так пойдёт дальше, то он погорит, и придётся ему с нами расстаться. Вот такие дела. Играешь тихо, от души — это всё равно, что ты нашим посетителям недодал, как обвесил. А вот когда играешь всю ночь во всю мочь, и они уходят из ресторана с головной болью, вот тогда всё в порядке: им было весело.
Что можно на это возразить? Они, музыканты, правы: виноваты опять евреи.
В Пицунде отдыхающие горлопаны с гитарами и транзисторами отходили ко сну в три часа ночи. Мы тоже построили свой режим так, чтобы ложиться позже молодого дебила со стареющей блондинкой-хозяйкой и современных советских парней. Однако в половине пятого в пять утра нас будило пение петухов. Это искусство граничило с катастрофой. По сравнению с петухами наши ребята с гитарами и транзисторами были на уровне лирических оперных певцов. Вначале кричал один петух, и голос его срывался — он же без итальянской певческой школы. Во-первых, он неправильно брал дыхание, а во-вторых, как же можно, не разогревшись, пытаться взять «си» третьей октавы. Это безграмотно. Потом у петухов происходила певческая перекличка в разных тональностях, но на самых верхних тонах. И, наконец, все петухи объединялись по группам и пели одновременно. По ужасу и громкости они не уступали ни одной рок-группе. Тут не уснёшь. Итак, я спал не более двух-трёх часов в сутки. Начал соображать: с хозяйкой и её любовником, которые в своей каморке занимались любовью с текстом, я ничего не смогу сделать — это любовь; с ребятами бороться — бессмысленно. И кстати, при нашем режиме от этих неприятностей мы не очень страдали. Остались петухи. Почему они так рано встают и так бойко орут? Я до этого, будучи городским жителем, никогда не задавал себе таких вопросов. Но в данном случае речь шла о жизни и смерти.
На нашей дороге были низкие деревья, и петухи, как я обнаружил, укладывались спать на ветках в шесть-семь вечера. И естественно, что в пять утра они просыпались отдохнувшими, бодрыми и орали — давали знать курам, что они готовы на любые подвиги. Я поставил перед собой стратегическую задачу — бороться и победить петухов. Я достал большую палку и, как только петухи укладывались спать, разгонял их. Они полетают — и опять на своё место. А я тут как тут с палкой. И так я их гонял, пока не засыпали наши комсомольцы-добровольцы со своими расстроенными гитарами и транзисторами. Дня три петухи ложились спать в одно и то же время со мной, а потом и привыкли к моему режиму. Когда я просыпался в двенадцать дня или в час, мои певцы-петухи ещё спали на деревьях мёртвым сном. Я будил главного петуха — Мика Джагера, он открывал один мутный глаз и никак не мог понять, чего я от него хочу.
После того как устроились дела с петухами, начался настоящий отдых, говорят, надо вставать с петухами. Это дело хозяйское. Я лично считаю, что петухи должны ложиться спать вместе с тобой. Тогда не будет разнобоя в режиме.
Существует категория людей, которые любят жаловаться на судьбу даже тогда, когда им хорошо.
Я всегда предпочитал, чтобы лучше мне завидовали, чем жалели. Когда у меня совсем не было денег, я вёл себя так, будто у меня в матраце лежит минимум пятьсот тысяч рублей. Все верили в моё богатство, и я никого не разубеждал.
Когда я переехал в кооперативную квартиру, я был весь в долгах, и мне нечем было за неё платить. Меня вызвали в правление нашего кооператива и сообщили, что я уже три месяца не плачу за квартиру и мне нужно срочно погасить долг.
Я внимательно выслушал их и, не моргнув глазом, сказал:
— Товарищи, я не буду платить за квартиру до тех пор, пока не кончится эта грязная война во Вьетнаме.
— Причём тут наш кооператив и война во Вьетнаме? — спросил один из членов правления.
— Простите, друзья мои, но это мой протест. Я так протестую. Попрощался и ушёл. Советские люди выросли на фальши. Друг другу врут и верят. Никому из них в голову не могло прийти, что у меня нет денег. Смеяться или не согласиться с моим идиотским протестом опасно — вся страна клеймила позором эту войну. Вот так, в связи с моим безденежьем и протестом по поводу грязной войны во Вьетнаме я не платил за квартиру месяцев шесть.
Мне позвонила бухгалтер нашего домоуправления и радостно сообщила, что грязная война во Вьетнаме кончилась.
— Я знаю, что грязная война во Вьетнаме кончилась, а в Лаосе? Прошло немного времени, и мне за неуплату отключили свет. Никто никак не мог понять, что происходит. Когда меня спрашивали, почему я живу без света, я отвечал:
— Мне свет не нужен, он мне мешает. Только в темноте бриллианты играют всеми гранями.
ЛИЛИПУТ
В Москонцерте я некоторое время работал в концертной бригаде, с которой часто ездил в гастрольные поездки. В поездах, в автобусах, в гостиницах мы все за обедом, за ужином говорили на разные темы, в том числе и о политике. Я с моим языком должен был не только жить на Западе, но и родиться здесь. Болтал лет на пятнадцать тюрьмы. Это какое-то чудо, что я не сидел как антисоветчик. Как-то зашёл разговор о налоге за бездетность. И я начал, поносить этот тупой советский налог. Говорил, что никакой логики нет в том, что человек должен платить шестипроцентный налог за то, что у него нет детей. Абсурд! Или, скажем, у людей нет жилплощади, а их заставляют родить ребёнка. А где им с этим ребёнком жить? И так в этом плане при всём честном народе.
Кончились гастроли, наша бригада приехала в Москву, а на третий день меня вызвали в КГБ. Состояние было очень противное. Начал ломать голову, что я натворил, а вернее, что я наболтал, и с каждым часом приходил в ужас. Дело было в пятьдесят втором, когда ещё был жив Сталин.
Пришёл на Лубянку, зашёл в огромный кабинет, сел на стул и жду от нарочито вежливого человека в гражданском костюме вопроса. Но он никуда не торопился, сообщил по телефону, что я уже у него в кабинете и медленно повесил трубку. Посмотрел на меня в упор и начал:
— Так вы, Борис Михайлович, против налога на бездетность? Вам известно, что Никита Сергеевич Хрущёв предложил Иосифу Виссарионовичу Сталину брать у людей, которые не имеют детей, шесть процентов из зарплаты? Значит, вы не согласны со Сталиным?
Он говорил медленно, чётко и внушительно. При упоминании моего вождя я понял, что пятнадцать лет — это его подарок мне, и я должен всю свою сознательную жизнь молиться на Соловках за его здоровье.
Придя в себя, я сказал:
— Это ложь, я никогда отрицательно не говорил о налоге за бездетность.
— Борис Михайлович, я могу вам показать заявление, в котором написано, что вы об этом говорили.
И даёт мне заявление. Я читаю заявление, в конце которого стоит подпись «Ольга Стеклова» — бездарная стареющая актриса. Вот мразь!
Я судорожно перечитываю её заявление и думаю, что можно предпринять. И вдруг меня осенило:
— Это недоразумение. Актриса Ольга Стеклова все перепутала. Я действительно был против налога за бездетность, когда этот налог берет с лилипутов. Как известно, у лилипутов не развивается щитовидная железа, и поэтому они не могут иметь детей.
— Так лилипуты и не должны платить этот налог, — сказал следователь.
— Верно, а вот в Москонцерте работает лилипут, который настоял, чтобы у него брали деньги за бездетность. Со стороны бухгалтерии Москонцерта это было противозаконно, но тем не менее они у него высчитывали шесть процентов из зарплаты.
Это же надо было, чтобы я вспомнил об этом лилипуте, который доказывал (на словах), что он мужчина и что от него могут быть дети. Следователь удалился, оставив меня одного, но я уже успокоился. Тут я мог спокойно встретиться с этой козявкой Стекловой и доказать свою правоту.
Следователь вернулся с улыбкой на лице и сказал:
— Да, Борис Михайлович, вы правы, действительно в Москонцерте берут налог за бездетность у лилипута. Будем считать это недоразумением. Рад был познакомиться с вами.
На радостях я сказал: «Я тоже». В этот день я много выпил.
ТЕЛЕФОН ЧАСОВ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ
Одно время я снимал комнату в Москве. И мой телефон часто соединялся с часами точного времени. Это очень мне мешало. Люди звонили мне на рассвете и поздней ночью. Я устал от этого кошмара и уже приготовился поменять квартиру, как тут мне пришла в голову мысль…
Узнать человека, который попал случайно к тебе вместо часов точного времени, ничего не стоило. Звонящий ждёт и тяжело дышит. Со временем я мог безошибочно отгадывать — кто куда опаздывает.
В зависимости от настроения я прибавлял от десяти до тридцати минут к основному времени. Скажем, звонит кто-нибудь в 7.30 утра, а я отвечаю: «Восемь часов одна минута». Раздаётся вскрик: «Бля!» — и вешается трубка. Это, я знал, он опаздывает на поезд. Если звонят в одиннадцать вечера, я отвечаю: «Одиннадцать часов двадцать три минуты». — «Еб…» — бросается трубка: человек опаздывает на самолёт
Кстати, матюг никогда звонящими не договаривался до конца за неимением времени.
Когда мне звонили, скажем, в 6-7 вечера, то это обычно было связано со свиданием. Тут я лавировал. Если приятный голос, я уменьшал время минут на тридцать и слышал в трубку: «Лида, так я ещё успею маникюр сделать». Или: «Слава Богу, а я думала, что опоздала». Мужчины часто говорили, когда им преуменьшали время: «Слушай, так у нас ещё до хера времени, можем пивка попить».
Многие люди страшно недовольны, когда к ним по ошибке звонят. Но человек же не нарочно попадает к тебе.
Мне часто приходилось слышать раздражённое:
— Вы не туда попали, набирайте правильно номер.
— Это не учреждение, а квартира.
И все так зло, как будто ты виноват, что телефон неправильно соединялся. Я, наоборот, успокаивал звонящего и старался шутить. Если звонила женщина, я ей говорил, что она сегодня прекрасно выглядит, а если мужчина, то я его поздравлял с наступающим Новым годом, хотя это был май месяц.
Как-то позвонил человек и спрашивает:
— Вам тара нужна?
— В общем нужна, — говорю я.
— В каком количестве?
— Да, — отвечаю, — трудно сказать, в каком количестве.
— Двор у вас есть, куда складывать тару?
— Да, двор есть.
— Есть ящики и есть бочки.
— Очень хорошо.
— Так мы вам привезём и ящики и бочки.
— Хорошо, — согласился я.
— Вы можете платить наличными или по хозрасчёту? — спросил он меня.
— А как вам лучше?
— Конечно, лучше нам получить от вас наличными.
— Конечно, — подтвердил я, — это всегда лучше, кто же спорит.
— Так когда вам завезти тару?
— А когда вы можете?
— Ну хоть сейчас.
— Сейчас так сейчас. Последовала длинная пауза.
— Это плодово-ягодный трест?
— Нет, это частная квартира.
— Так какого хуя ты со мной разговариваешь? И долго нецензурно ругался в телефонную трубку.
— А почему бы нам не поговорить? Мы не так часто говорим с тобой, а человек человеку — друг и брат, — восторженно закончил я свою короткую речь.
— Да пошёл бы ты со своим родством, — сказал он мне на прощание и повесил трубку.
«ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ…»
Я в своей жизни очень редко встречал счастливую семейную пару. Наверное, счастливых семейных пар на свете много, просто мне не повезло, при первом знакомстве — все в ажуре, но когда поближе познакомишься, — это кошмар! Такое впечатление, что люди сходятся с целью отравлять друг другу жизнь. Люди теряют свою свободу, ложь сопровождает их на каждом шагу. Кто придумал это? Мои знакомые супружеские пары постоянно друг к другу в претензии:
— Почему ты мне не позвонил (позвонила)? Где ты был (была)? ты знаешь, что я волнуюсь. Оба начинают фантазировать, где они были, почему они не позвонили и вовремя не пришли домой. Оба врут.
У некоторых пар секс становится дополнительной проблемой. Жена ночью не подпускает к себе мужа, мотивируя тем, что он был груб с ней днём. Это запрещённое, но весьма употребительное оружие женщин. Допустим, мужчина был по отношению к жене днём в чём-то несправедлив. Не приготовь ему обед, придумай ещё какую-нибудь месть, но не надо же замахиваться на самое святое…
Я считаю, что мужчины, вступив в брак, должны жить с женой только один медовый месяц, а потом искать другую и снова устраивать медовый месяц. Этот месяц — самый приятный период, а дальше начинается настоящая семейная жизнь со всеми мрачными сторонами.
Для многих женщин секс — это обуза, они с ужасом ждут ночи. Они бы с удовольствием вместо секса говорили о книгах, о цветах, о красивой жизни, но ещё лучше о тряпках. Мужья же более всего думают о сексе, даже если он им противопоказан.
Какие женщины симпатичные до замужества, и какие они уставшие, озабоченные в семейной жизни. Бедные женщины! Им необходимо, чтобы рядом с ними был мужчина. Зачем обязательно муж? Идеальный вариант: мужчина-любовник, женщина-любовница. Оба живут друг с другом, беспечно хохочут… Как только кто-нибудь заговорит о том, что так долго продолжаться не может, надо как-то узаконить отношения, — немедленно разбегайтесь. Ищите опять хохотунью или хохотуна и беспечно любите друг друга до первого серьёзного разговора. Вопрос с детьми осложняет ситуацию. Конечно, они нужны… Но опять же проблемы… С появлением ребёнка женщина всю свою жизнь посвящает ребёнку. Сексуальная проблема ещё больше осложняется. Отец, претендующий на секс, выглядит пошлым, несерьёзным. Он вынужден искать партнёршу по сексу, идти к другой женщине, которая не так озабочена, как его жена. О, если бы можно было договориться с женщиной, чтобы она родила двух детей: одного для себя, а другого для тебя. И потом жить в разных районах и встречаться, как любовники. Это все из области фантастики. Жизнь построена иначе. Живут люди вместе, обманывают друг друга, ссорятся, мирятся, ревнуют, расходятся, сходятся, любят друг друга, как родные, и укорачивают друг другу жизнь, как чужие.
За то, что Бог придумал женщину, я бы дал ему Нобелевскую премию. Если женщина с грустными глазами — виноват мужчина. Женщины должны бежать от нудных, скучных и пессимистичных мужчин. Никакие деньги не спасут женщину, если она живёт с богатым, но занудливым, без юмора мужем. Весёлые женщины — красивые. Так как я люблю женщин, нежно к ним отношусь, мне хочется пожелать всем женщинам здоровья, но если есть недуги, не говорите о своих болезнях. Этим лучше всего делиться с врачом, он за это деньги получает и может помочь, а какая польза от нас. Зачем мне нужно знать, что простужены придатки?
— Вы знаете, я простудилась, и у меня воспаление мочевого пузыря.
— Я не знаю, что я съела, но у меня уже начались поносы. И т.д. После этих слов мужчина не только сексом не может заниматься, у него пропадает аппетит. Зачем это говорить? Поговорили и хватит.
Мой самый близкий друг Аркадий Толбузин — красивый талантливый артист, который в фильме «Новые приключения неуловимых» сыграл роль полковника Кудасова, был женат на артистке Зое Земнуховой. Он любил выпить, и как только брал рюмку и подносил её ко рту, она кричала: — Брось пить, тебе нельзя! Ты погибнешь, сволочь!
И так далее в том же духе, он был добрым, щедрым, компанейским, интеллигентным человеком, и этот скандал под маркой «я блуду твоё здоровье» был намного хуже, чем если бы он выпил три литра.
В Москве, в нашем доме артистов в Каретном ряду, жил музыкант Романов — средней руки пианист, интеллигентной внешности мужчина в роговых очках с красивой сединой. Он аккомпанировал артисту Афанасию Белову. Романов оставил свою жену с двумя детьми, чтобы жениться на молодой женщине, очень пикантной, но, по его словам, типичной самке. Она в жизни любила только секс и была ненасытна в любви.
— Это же хорошо, — отреагировал я на признание Романова.
— Дело в том, Борис Михайлович, что я импотент, — признался он. — Чтобы удовлетворить её, я вынужден принимать импортные пилюли. После каждой такой пилюли я в состоянии удовлетворить её, но под утро у меня начинаются адские головные боли и тошнота.
Он поведал, что одна пилюля стоит пятьдесят рублей, и он весь в долгах, Неплохой ад себе придумал пианист-импотент Романов. Я вспомнил писателя Прута, который шутил, что с тех пор, как он стал импотентом, у него гора с плеч.
Как-то после очередной гастрольной поездки я зашёл к Романову и не узнал своего соседа. Обычно спокойный, приветливый, он был свиреп, как рысь, выяснилось, что его жену соблазнил Афанасий Белов. Ради него она бросила Романова.
— Подумать только, так подло поступить со мной! Рыжая сволочь! Сколько подлецов на свете! Я молчал, а так хотелось объяснить ему, что он должен поставить Афанасию Белову памятник при жизни за то, что он избавил Романова от адских головных болей, от тошнот и от материального банкротства. Вот что такое дурацкое мужское самолюбие. Уверен, что его мало волновал уход этой самки. Противно было, что тебе предпочли другого.
ВИЛЛИ КАРЛИН
Джон Кембелл, секретарь Коммунистической партии Шотландии, ставший потом редактором газеты «Дейли Уоркер», имел много детей. Один из них Вилли, воспитанный в коммунистическом духе, решил переехать в Советский Союз, на родину Владимира Ильича Ленина, чтобы быть к нему поближе. По приезде в Советский Союз он взял себе псевдоним — Карлин.
Он был небольшого роста, с тяжёлой англосаксонской челюстью, нос картошкой и вечно весёлые глаза. Вилли был само обаяние, его профессия — артист-эксцентрик. Сразу после приезда в Москву Леонид Осипович Утёсов взял его к себе в оркестр, а в кинофильме «Весёлые ребята» он сыграл эпизодическую роль: перепутав, его бьют метлой по голове и спрашивают, где дирижёр. Потом я с Вилли работал на эстраде, и мы были с ним очень дружны.
Когда Вилли приехал в Москву, он знал безукоризненно английский язык и ни одного слова по-русски. В оркестре у Леонида Утесова все музыканты говорили на лабухском жаргоне. И Вилли, изучая с утра до ночи этот кошмар, не сомневался, что это именно тот русский язык, на котором говорил Ленин. Прошло немного времени, и Вилли приобрёл гонорею. Ударник оркестра Утесова Самошников повёл Вилли к венерологу. Венеролог спрашивает у Вилли, когда это было, и кто она, эта соблазнительница. Вилли не понимает, о чём говорит врач, Самошников переводит ему:
— Вилли, что это за чувиха? Вилли:
— Клёвая чувиха для баранства, клёвые матральники, хиляльники, поберляли, кирнули. Самошников переводит врачу:
— Он говорит: «Хорошая девчонка для любви, прекрасные глаза, ноги, поели, выпили…» Врач:
— Это было за деньги? Самошников, обращаясь к Вилли:
— Ты башлял? Вилли:
— Башлял. Самошников врачу:
— Да, он платил. Врач:
— Спросите у него, она ушла или осталась у него на ночь? Самошников:
— Она похиляла или вы друшляли? Вилли:
— Друшляли. Самошников врачу:
— Да, она оставалась на ночь. Вилли пытался вставить какую-то крылатую фразу из своего лабухского языка, но Самошников ему сказал:
— Качумай.
И Вилли замолчал. Вилли никак не мог понять, почему Самошников переводит его. — Неужели врач не русский? — спросил он у Самошникова. Диалог был намного длиннее, но, к сожалению, я не успел выучить лабухский язык, а сейчас не до этого.
Этот случай не единственный.
Здесь, в Америке, мне рассказали, что в одном русском ресторане работал официантом китаец, который прекрасно говорил на идиш. А когда обращались к хозяину ресторана, еврею по национальности, и спрашивали, как могло получиться, что китаец говорит на идиш, и с большим удовольствием, хозяин отвечал:
— Вы ему ничего не говорите, он думает, что изучил английский язык.
Вилли Карлин был предельно скромным человеком, хотя мог жить прекрасно за счёт имени своего отца. Вилли неудачно женился, и жена заставила его пойти к председателю Коминтерна товарищу Дмитриеву, который хорошо знал Вилли и дружил с его отцом, чтобы Дмитриев предоставил Вилли Карлину комнату в центре города. А когда они с женой разошлись, он как благородный англичанин оставил ей жилплощадь, а сам пошёл скитаться по углам.
Второй раз Вилли женился очень удачно, по любви. Несмотря на преклонный возраст, лицо её носило отпечаток прежней красоты, она была балериной в прошлом, с красивыми ногами и на две головы выше Вилли ростом. Она не выговаривала букву «р» и относила это к своему аристократическому происхождению. Если идти по этому пути, то на Брайтоне живут одни аристократы. Звали её Лена Мордвинова. Лена Мордвинова жила у Никитских ворот, занимая комнату в большой густонаселённой квартире. Лена полюбила Вилли за все: за то. что он маленького роста, весёлый, без комплексов, англичанин с обаятельным акцентом, за то, что он любил её и боготворил. Это была самая нежная и влюблённая семейная пара, которая встретилась мне в моей жизни. Мы вместе работали, дружили, я у них жил большое количество времени и ни разу не слышал, чтобы кто-то из них сердился. Никто друг другу не возражал; что бы ни сказал Вилли, Лена его поддерживала; о чём бы ни завела разговор Лена, Вилли ей поддакивал. Доходило до абсурда. У Лены Мордвиновой всё было не так, как у людей, а чуть выше. Её бывшие знакомые, с кем она встречалась, были на уровне Алексея Толстого, если она встречалась с артистами, то это были Качалов, Тарасова и так далее в этом плане. Допустим, разговор заходит о простуде, и Лена всем сообщает:
— Вы знаете, у меня болезнь протекает не так, как у всех людей. Если у меня выступает лихорадка, так только на жопе.
Вилли тут как тут и подтверждает:
— Да, у Лены лихорадка только на жопе… Дальше Лена прищуривает свои глаза, смотрит на тебя в упор и медленно покачивает головой, что, наверное, должно означать: «Понял, какая я необычная?» Удержаться от смеха удаётся с большим трудом. Лена Мордвинова всегда заводила разговоры о прошлом. Она часто повторяла с большим достоинством:
— Вы даже не представляете себе, какая я была блядь! Вилли не даст соврать. Вилли (влюблённо):
— Да, она была большая блядь! Лена:
— Я была блядью высшего класса. Вилли (с гордостью):
— Да, она была блядью высшего класса. Лена:
— Я не всем давала. Вилли:
— Не всем, далеко не всем… Лена:
— Я была куртизанкой. Я часто водила мужиков за нос, но если уже отдавалась, то так, что они помнили на всю жизнь.
Вилли:
— Да, мужики помнили всю свою жизнь. Лена:
— Разве сейчас есть куртизанки? Одни потаскухи! А я, действительно, была настоящей блядью. Вилли:
— Блядь высшего класса!!! Мы с писателем Драгунским, идя домой после встречи с ними, от души хохотали.
Когда Виллин папа приезжал в Москву на какой-нибудь партийный съезд или что-нибудь другое, он жил на своей даче (вся иностранная партийная элита имела свои дачи рядом со всеми советскими вождями, включая Сталина). Поначалу по своей наивности Вилли не мог понять, почему он не может встретиться со своим папой Джоном Кембеллом. И вот однажды он из газет узнал, что его папа в Москве заседает в Колонном зале. Он бросился в сторону этого здания, чтобы повидаться с отцом, но пять кордонов милиции и человек триста в штатском преградили путь Вилли к отцу.
Вилли выбрал место у служебного входа, и как только вышли молотов, Каганович, папа, секретарь коммунистов Англии, и Сталин, Вилли с криком: «Папа!» — рванулся сквозь строй и мгновенно был сбит с ног кулаком одного из штатских. А когда он приземлился, четверо сапог наступили ему на руки и на ноги. Он потерял сознание и лежал на мокром асфальте распятый, как Иисус Христос.
Секретарь коммунистов Англии, который нянчил Вилли, обернулся на Виллин крик и обратился к его отцу:
— Джон, по-моему, это Вилли.
Вся шеренга остановилась. Джон Кембелл сказал, что это лежит его сын. За всей шеренгой с огромным заплывшим глазом, который менял цвета, в бессознательном состоянии понесли сына, который хотел полюбить Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, каждого как родного отца.
Со временем наивность прошла, пришла трезвость, отца он обманывал, рассказывая, как ему хорошо в Советском Союзе, и что он все делает, чтобы приблизить светлое будущее, то есть коммунизм.
Больше Вилли Карлин не пытался увидеть своего отца в Колонном зале, у него на даче и в других местах.
Как-то папа должен был проехать на машине мимо Манежной площади. Вилли стоял в толпе, и когда появился кортеж машин, а Вилли полез в карман за сигаретой, «топтун» решил, что он полез за оружием, и нанёс Вилли удар между глаз, чем вывел его из строя на месяц. Он не только ничего не видел, а ещё и ничего не слышал.
В дальнейшем Вилли по приезде отца в Москву в большинстве своём отсиживался дома или, находясь на улице, поднимал руки вверх и не шевелился.
АРКАДИЙ ТОЛБУЗИН
Мой друг Аркадий Толбузин зашёл ко мне со своей женой и говорит:
— Как будем себя веселить?
— На все согласен, — ответил я.
— Тогда давайте рванём в Киев. У меня там Вася Фесенко, мой фронтовой друг. Он и жена будут счастливы нашему приезду.
И через пять минут мы с жёнами были уже в машине и катили из Москвы в Киев.
По дороге Аркадий долго хвалил Васю. Он, по его словам, был настоящим другом, великолепным музыкантом, гостеприимным, и жена — прекрасная актриса — была под стать Васе. Оба работают в театре. Живут много лет душа в душу.
Подъезжая к Киеву, я сделал предложение: жить в гостинице, а не у Васи. И встречаться с ними. Я не люблю быть в гостях, понимая, что людям это хлопотно.
Все со мной согласились и пошли по гостиницам искать номера. Но не тут-то было. Потеряв бессмысленно время, мы вынуждены были пойти к друзьям Аркадия.
Они, действительно, очень обрадовались. Жена предложила поужинать у них, но я дипломатично уговорил всех пойти в ресторан. Вася в свои пятьдесят очень хорошо выглядел. Анжела, которой, вероятно, было не меньше лет, чем Васе, смотрелась не хуже. Правда, ей не очень шли усы. Из-за них она выглядела намного мужественнее. Этакий витязь в тигровой шкуре.
В ресторане было весело. Потом дома мы пили кофе, рассказывали анекдоты, смеялись и поздно легли спать. День прошёл замечательно.
Утром пришли соседки посмотреть на нас, артистов. А потом женщины завели разговор о женских модах, и так увлеклись, что забыли про нас. Не обращая на нас никакого внимания, говорили о нижних юбках, задирали друг другу платья. Мы, как три рыцаря, поняли, что им сейчас никто не нужен, и начали играть в преферанс.
Вдруг, оборвав на полуслове женский разговор, Анжела грубым диктаторским голосом закричала во весь голос:
— Прекратите играть в карты! Аркадий робко спросил:
— Почему?
— Я не могу видеть Васю за игрой в карты. Когда он играет, у него блестят глаза, он находится в возбуждённом состоянии.
— Ну и что? Кому это мешает? — спросил Вася.
— Мне это мешает, — продолжала распаляться Анжела. — Ты же возбуждаешься только во время игры в карты. Я ни разу не видела твоих возбуждённых глаз, когда ты бываешь со мной. Я женщина (слово «женщина» было произнесено так громко, что все мужчины немного вздрогнули, а я посмотрел, нет ли поблизости кинжала) и хочу видеть у своего мужа страстные глаза, когда он бывает со мной близок. Нормальный мужчина, когда он смотрит на свою жену и желает её, должен дымиться!
Мы от неловкости опустили головы.
Пауза длилась долго. Мы с Аркадием молчали.
Заговорил Вася:
— Ты невоспитанная женщина. Ты всегда меня позоришь. Зачем ты на вечере Восьмого марта читала свой, так называемый, фельетон, где строила свой юмор на том, что я, мол, импотент. Ты же знаешь, что это не правда! Это наглая ложь. Зачем ты меня выставляешь на посмешище перед всем Киевом? Я не только всегда хочу, но и всегда могу. Я мог бы быть с тобой ежедневно. Позавчера почему ты мне отказала?
— Когда ты лезешь на меня? Когда я после стирки…
— Допустим. А что тебе мешало вчера?
— Вася, вчера я мыла полы. Вася в полном недоумении:
— Товарищи, откуда я должен знать, когда на неё лезть? Анжела:
— Был бы внимательным мужем, знал бы.
— Хорошо, я согласен, я невнимательный. Но это не основание, чтобы распускать слухи по всему Киеву, что я импотент.
Чем Вася больше говорил, тем больше он заводился.
— Когда мы хоронили Люсю Трофимову, у меня на похоронах встал. Такое бывает редко даже у молодых.
— Чем ты хвалишься, выродок? — не унималась дражайшая половина. — Это же патология, если у тебя покойницы вызывают эмоции.
— Что ты передёргиваешь? Я не это имел ввиду.
— Ты же сексуально озабоченный человек, ты можешь возбудиться, увидев дамского портного. Мы втроём вышли на улицу покурить. Аркадий полушутя заметил, что весь этот сыр-бор не стоит выеденного яйца, и посоветовал Васе прекратить препирательства. Мы молча вернулись в комнату.
Наступила затяжная пауза. Настроение было не из лучших. Минут через десять, когда все решили попить чайку, и скандал вроде бы отошёл на второй план, Вася вдруг неожиданно брякнул:
— Анжела, правильно сказали Аркадий и Борис, что ты говно. Мы оба обалдели. Во-первых, мы этого не говорили, а во-вторых, зачем ему потребовалось реанимировать инцидент? Через большую паузу Анжела обратилась к нам:
— Уважаемые Аркадий и Борис. Я очень перед вами звиняюсь, я действительно проявила бестактность, мне стыдно перед вами, очень прошу меня простить.
Опять большая пауза, все успокоились. Анжела повернулась к Васе:
— А ты, сука дистрофичная, когда Аркадий и Борис уедут, попляшешь! На следующее утро мы поспешили в Москву. Конечно, отдохнуть мы не отдохнули, а удовольствие от семейной жизни Васи и Анжелы я получил огромное.
Праздновать надо не свадьбу, а развод. И праздновать широко. С женой жить только один медовый месяц и переходить к другой на медовый вечер. Жизнь должна быть медовой.
МЕНЯ СПРОСИТЕ: «ТЫ ИМЕЕШЬ СЧАСТЬЕ?..»
Галина Рыбак — моя будущая жена и я работали вместе артистами балета в ансамбле народного танца Украины. Она меня сначала не возбуждала как девушка, но раздражала как человек. На фоне балетных танцовщиц Галя выглядела начитанной и эрудированной. Шутки, подковырки в свой адрес Галя попросту игнорировала. Она наплевательски относилась к моей изобретательности и смотрела на меня, как на телеграфный столб. Правда, иронично улыбалась. И я в этой иронии читал: «Боже, мальчик, что ты выпендриваешься, лучше бы книжку почитал». Это меня выводило из себя, и я не знал, чем ей досадить.
Как-то в гастрольной поездке она и её подруга Кочубинская купили на двоих духи «Манон». Желая хоть чем-то досадить и обратить внимание на себя, я в их отсутствие забрался в номер и выпил весь флакон. Трое суток мне было плохо: меня качало из стороны в сторону, во рту ощущал мыло «Коти».
Галя не обратила на это никакого внимания, а Кочубинская пожаловалась балетмейстеру Павлу Вирскому. Он успокоил девушку:
— Марина, никакой трагедии нет, просто Борис дней пять будет писать «Тройным» одеколоном.
Так и жили мы со взаимным неприятием и равнодушием. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Вождь народов, Сталин, протянул Западной Украине «руку помощи». А вместе с рукой к бедным полякам и западным украинцам послали наш ансамбль. Скажем так — чтобы не грустилось.
Первым пунктом остановки нашего ансамбля был город Тирасполь. Он произвёл на нас, дикарей, ошеломляющее впечатление. Чистый, светлый, люди прекрасно одеты, все красивые и улыбаются, в магазинах все есть… Ни одного пьяного, все вежливые, как в сказке.
Весь ансамбль, включая балетмейстера и администрацию, бросил вещи в гостинице и убежал по магазинам. Лишь два человека не бросились в этот барахольный омут — Галя и я. Мы остались вдвоём, вместе пошли ужинать.
Целый месяц мы были на гастролях в Западной Украине. И всё это время наш ансамбль по звонку будильника бежал покупать шмотки. Здесь были уже в ходу советские деньги, и цены для нас были смехотворными. Английский костюм, например, стоил 100 рублей, швейцарские часы — 20, столько же стоили лучшие туфли. Я, к примеру, получал тогда зарплату 1000 рублей (старыми).
На концерте никто из танцовщиков и танцовщиц не мог ног поднять, не было сил. Они не спали, на еду времени не оставалось, в голове у всех крепко засели тряпки, и больше ничего. Никто ни с кем не здоровался, глядя на человека, они видели не его, а демисезонное пальто. Все осунулись, постарели и, честно говоря, противно было на них смотреть.
А мы с Галей в их глазах были сумасшедшими. Мы смотрели кинофильмы, ходили по музеям, вкусно ели в ресторанах и пили вкусное польское пиво в больших бокалах.
Словом, эти качества в Гале мне очень понравились. И вероятно ей — во мне. Короче, мы поселились в одном номере. Это был наш медовый месяц, и это была наша свадьба.
У Гали была кличка — Марсианка. Действительно, она была не от мира сего. Её ничем нельзя было наказать. К деньгам Галя была равнодушна. К пище тоже: есть — хорошо, нет — не трагедия. У неё не было чувства зависти. Кто-то имеет две шубы, бриллианты и т.д. У Гали этого не было, но она не переживала. Жила только творчеством.
У неё замедленные рефлексы в сочетании с рассеянностью. Я прошу её поставить чай. Она быстро наливает воду в кастрюлю и ставит пустой чайник на огонь. Я за свою жизнь поменял триста восемьдесят семь сгоревших чайников.
Бывает так. Она ставит полный чайник на одну конфорку, а зажигает другую. Этот чай можно годами ждать. Но есть ещё вариант: она ставит пустой чайник, открывает газ и не зажигает конфорку. Как я до сих пор жив, просто чудо!
Галя очень талантлива: она прекрасно танцует, хорошая драматическая актриса, хорошо рисует, придумывает всевозможные дизайны костюмов, умеет хорошо шить, готовить. Но… если у меня оторвётся пуговица на рубашке или пиджаке, я эту пуговицу донашиваю в кармане. Если у нас с Галей намечается ответственный концерт, скажем, через месяц, Галя тут же садится шить новое платье к концерту. Мы не репетируем, она шьёт днём и ночью. Ни о какой личной жизни речи не могло быть, пока шилось платье. Наступал день концерта, выяснялось, что новое платье недошито. Она выступала в старом, но зато не знала, что делать на сцене. Виноват, конечно, во всём был я. Оказывается, я поздно ей сообщил. Когда я сообщал за три месяца — результат бывал тот же.
Было время, когда я по своей неопытности звонил ей с работы, сообщал, что буду дома через три часа и просил приготовить обед.
— Конечно — бодрым голосом отвечала Галя.
Я приходил голодный домой и садился за стол в ожидании обеда. Боже, какая наивность!
Оказывается на плите стоит только вода, а мясо не брошено, потому что его нет в доме, и ждут меня, чтобы я его купил. Я выбегал на улицу. Напротив нашего дома была столовая «Радуга» и кафе «Весна». Там я обедал. Я бы эти учреждения назвал не «Радуга» и «Весна», а столовая «Изжога» и кафе «Катар», короче говоря, я понял — чтобы быть Галиным мужем, я должен научиться стирать, шить, убирать, готовить, мыть посуду, пылесосить и доставать деньги. Всем этим я овладел.
Когда Галя говорит, что надо поскорее лечь спать, это означает, что суета будет до утра. Она перекладывает вещи с места на место. В пять утра можно услышать от неё реплику вроде этой:
— Не торопи меня. Видишь, я и так спешу. Мы очень часто опаздывали на самолёт. Я предупреждаю:
— Галя, надо торопиться, самолёт улетит без нас. На что она мне обычно отвечала:
— Я не понимаю, о чём ты говоришь? Что я, пойду с одной накрашенной ресницей? Иногда на самолёт мы успевали, так как у него есть хорошая манера улетать с опозданием на несколько часов. А вот поезда в Советском Союзе — это кошмар. Поезд отправляется точно по расписанию. Поэтому на поезд мы с Галей никогда не попадали.
Если нас приглашали на день рождения или на свадьбу, то мы приходили только на прощальный поцелуй. Отдавали подарок, поцелуй и голодными уходили домой. Но потом я убил в себе Джентльмена, Рыцаря и Джигита и стал ходить в гости один. И уезжать один. Галя на меня за это никогда не обижалась.
Галя любит самым близким людям говорить гадости. У меня и сейчас сохранилась большая шевелюра, нет и намёка на лысину. Когда мне было двадцать пять лет, Галя говорила, что меня надо так подстричь, чтобы закрыть плешь.
Когда я возмутился, она меня успокоила, что, мол, мне следует смириться — люди стареют, их облик меняется.
Я выпивал не больше, чем все мои знакомые, которые не были пьяницами. Но Галя распустила слух, что я алкоголик и меня надо спасать. Она достала какой-то полусмертельный порошок, насыпала мне в пищу. Когда я выпивал рюмку, то покрывался красными пятнами, сердце учащённо билось. Такие процедуры она проделывала со мной часто.
Как-то на обеде у моей племянницы Галя насыпала мне в пюре этого белого порошка, и её позвали к телефону. Племянница мне сказала о порошке, и я поменялся с Галей тарелками, мы чокнулись, выпили, после чего она имела бледный вид. Вернее, покрылась вся пунцовыми пятнами.
У Гали была очаровательная мама, бывшая учительница, Мария Ивановна Антоновская. Галя её своими нравоучениями изводила вконец. Мама не то ела, не туда шла, не так сидела, неправильно спала. Маму, то есть тёщу, я спасал от дочери. Тёще со мной было всегда весело, она прекрасно себя чувствовала.
Галя была мной недовольна и говорила тёще про меня всякие гадости. Но она ничего не могла добиться, мы с тёщей дружили.
Гале всегда хотелось быть деловой женщиной, разбираться в политике, в медицине, а я ненавижу деловых женщин. Женщина создана для любви.
Галя всем интересуется, но не очень разбирается. Скажи, что у тебя в машине полетела трансмиссия, как она тут же:
— Сам виноват, что полетела. Надо было взять получше.
— Что получше? Это машина Крайслера.
— А почему надо доверять Крайслеру, он заинтересован обмануть.
Кто-то звонит, я с ним говорю, а когда вешаю трубку, Галя спрашивает:
— С кем ты говорил?
— С Левой.
— С каким Левой?
— Ты его не знаешь. Это автомеханик.
— Почему ты его знаешь, а я не знаю? Ты просто невнимательный. И так всегда.
— Кто звонил? — спрашивает Галя.
— Перепутали номер.
— Кто перепутал номер?
— Какой-то мужчина.
— Что ему было нужно?
— Не знаю.
— Почему ты не знаешь?
— Он перепутал номер.
— Почему ты не знаешь, что ему было нужно?
— Да пошёл он…!
— Боже, какой ты нетерпеливый. Тебе надо принимать элениум, две штуки на ночь. Ещё хорошо попить валерьяночки, ты очень издёрган, тебя каждый пустяк раздражает.
Мне трудно объяснить Гале, что у меня золотой характер, что я — чудо выносливости.
Помню, как-то Галя и её мама решили в разгар лета поехать на Украину. Летом достать билет на поезд накануне отъезда — проблема, я подключил всех театральных администраторов, дал взятку, пил водку, всех веселил и, наконец, у меня два билета на поезд в южном направлении.
Эти два билета у меня лежали, как большие бриллианты. Я пришёл домой возбуждённый и счастливый и сказал, что у меня, наконец, два билета. Галя никак не отреагировала, только махнула головой.
Тёща и Галя начали собираться на Украину. Я бегал по московским подвалам, доставал лимоны, сухую колбасу, сушки, тушёнку в банках. Эти продукты исчезли на Украине даже с фотографий. Наконец, еле поднимаю эти тяжёлые авоськи, хватаю такси и мчусь на вокзал. Стою у вагона. До отхода поезда остаётся пятнадцать минут — моих дам нет. Прошло ещё пять минут — их нет. Наконец поезд ушёл — их все нет. Прошло минут десять, пятнадцать, двадцать — их по-прежнему нет. Смотрю на авоськи с тушёнкой и лимонами, навьючиваю груз на плечи, нахожу такси и еду домой. Дома их тоже нет. Наконец звонок в дверь. Открываю. Входят Галя и мама, на ходу говорят о каком-то хоре. На меня никакого внимания. Когда Галя на моём лице прочла свою смерть, она отвлеклась от хора и сказала:
— Не волнуйся, Бобчик. Мы с мамой сели в трамвай на тридцать седьмой номер, он шёл очень долго. Когда мы подъехали к вокзалу; то поняли, что опоздали, и решили этим же трамваем вернуться домой. Не волнуйся, билеты купишь на другое число.
Первой мыслью было выбросить её с балкона: мы жили на седьмом этаже, и лететь ей пришлось бы недолго.
Задушить — эта мысль не покидает меня по сей день.
Чтобы уйти от этих мыслей, я быстро покинул дом и помчался по Петровке вниз. Вижу, в универмаге стоит огромная очередь. Я, не задумываясь, встал в неё. Мне было важно находиться в шуме, в толпе. Люди ссорились, оскорбляли друг друга, наступали мне на ноги — именно то, что мне было нужно. Я стоял в очереди часа три, а когда подошёл к прилавку, выяснилось, что продаются бельгийские шерстяные платки. Я купил два платка, водки, закуски. Пришёл домой, подарил им по платку, выпил и подумал: «Что она, марсианка, может сделать? Она такая, она не может быть другой, не нравится — уходи. Если она соткана из противоречий, то кто в этом виноват?»
Сила Галины в том, что против неё нет оружия. Никакого. Её нельзя заставить страдать. Она не ревнива, поэтому флирт с кошерной бабой ничего не даст. Лишить её наследства? Во-первых, нет ничего, во-вторых, она плевала на богатство. Одним словом, она — марсианка.
— Чего же ты, Бобчик, — спрашиваю я себя, — будучи землянином, решил связаться с марсианкой?
Из чувства противоречия. Скажи, что водка и табак полезны для здоровья, и мужчины тут же бросят пить и курить.
Артистка эстрады Мария Владимировна Миронова, мать актёра Андрея Миронова, мне рассказывала, как она отучила себя есть дорогие продукты: чёрную икру, красную икру, лососину, ананасы и другие.
Я с мужем на эстраде зарабатываю немало, но тем не менее мы не можем себе часто позволять есть такие продукты. Отказывать себе в этом — мучительно, — говорила Мария Владимировна. — Так знаете, что я сделала? — продолжала она. — Я отравилась ими. Взяла чёрную икру и ела её, пока не начало тошнить. Мне было плохо, меня тошнило. С тех пор я не только не могу есть чёрную икру, но даже слышать о ней. И вот так я сделала со всеми дорогими продуктами.
Этот рассказ мне потом пригодился. Все люди любят цветы. Женщины любят цветы больше, чем мужчины. Есть категория женщин, которые просто не могут без цветов. У меня была приятельница Таня Грузинова — очень красивая, утончённая и сильно болезненная. Когда я приносил ей цветы, она преображалась. Таня светилась, как икона. Если бы ей, голодной, принесли на выбор бифштекс или цветы, Таня, вероятно, предпочла бы цветы. Но таких, как она, на земле два-три процента. Остальные выхватили бы бифштекс.
Моя жена относится не к тем двум-трём процентам, она прочно находится в большинстве.
Многие женщины любят играть в утончённых, влюблённых во все красивое, и говорят всё время о цветах. Мол, сейчас мужчины не джентльмены, не гусары, не джигиты и редко дарят женщинам цветы. В эту игру включилась и моя жена Галя. Она могла при всех сказать, что я ей редко покупаю цветы. И, конечно, двадцатый век — это не девятнадцатый век, вывелись рыцари. Как объяснить ей, что джигиты продают цветы по таким ценам, что невозможно без денег стать рыцарем.
Мне эти разговоры надоели, и я решил с ними раз и навсегда покончить. К случаю вспомнил рассказ Марии Владимировны Мироновой.
Я получил зарплату и принёс домой пять красивых красных роз, символизирующих любовь. Галя была в восторге, всем рассказывала об этих розах.
На следующий день я принёс пять белых роз. Не знаю, что они символизировали, но тоже обошлись в двадцать пять рублей.
Тёща и Галя искали посуду, чтобы их поставить, обрезали концы на цветах, наливали воду и делали это уже без вдохновения.
На следующий день я купил гладиолусы. Галя меня уже за них не благодарила, тёща была мрачна и тихо мне шепнула:
— Борис, хватит цветов, с ними большая возня. Гладиолусы уже лежали просто на кухонном столе и с ними обращались, как с веником. Я не унимался. Я купил семь роз: четыре красные и три белые — это символизировало, что от получки у меня осталось только пятнадцать рублей. Галя мне сказала:
— Борис, пойди на базар и купи курицу и мясо.
— Это исключено, ответил я, — все деньги истрачены на цветы. У меня осталось пятнадцать рублей, и я бегу покупать тебе хризантемы.
— Ты что, сошёл с ума? Кому нужны эти цветы? Ты нас оставил голодными.
— Зато это так красиво, — возвышенно и фальшиво возразил я.
— Будь проклята эта красота, — сказала Марья Ивановна.
— Марья Ивановна, — сказал я тёще лирично, — женщина, такая, как ваша дочь, может прожить без мяса, без курицы, но без цветов — извольте!
— Хватит паясничать, — сказала Галя, — шутки у тебя дурацкие. Купи курицу на эти пятнадцать рублей.
— А как же с хризантемами? — спросил я.
— Если я ещё раз услышу про цветы, я перестану с тобой разговаривать. Что бы люди не говорили об утончённости, благородстве, красоте, эстетике, а есть хочется.
Мой рассказ о семье был бы, естественно, неполным, если бы я умолчал о сыне Емельяне.
3 августа 1954 года я отвёз жену в роддом. Я не уходил оттуда, бродил под окнами палаты, слышал Галины стоны, надоедал врачам дурацкими вопросами. Это продолжалось сутки, пока 14 августа в 8 часов утра не родился мой Емелюшка. Врач, очень красивая женщина, в знак моего мужества закутала Емельяна в одеяло и показала мне его в окно. Галя лежала на третьем этаже. Емельян высовывал часто язычок, смотрел в будущее, но меня не узнавал.
Я очень люблю детей. Теперь я понимаю, что тот, кто любит детей, не должен жениться на актрисе. Они, чтобы не загубить свою артистическую карьеру, могут родить тебе одного ребёнка, и то это чудо. С нормальной женщиной у меня, конечно, было бы много детей.
С рождением Емельяна жизнь стала серьёзней, осмысленней, интересней, мучительней. Галя превратилась в философа, более целеустремлённого, чем мать Тереза. Все реже и реже раздавался её звонкий смех. Она разрабатывала методы воспитания для Емельяна до глубокой старости.
Началось с закалки. Емелюшка ходил во все времена года голым, даже когда у него появилась одежда. Все наше богатство, включая продукты, принадлежало одному Емельяну. Стоило мне взять из холодильника кефир, как был слышен Галин голос из загробного мира:
— Борис, не трогай кефир, это для Емелюшки. Я покупал десять бутылок кефира — все равно лучше к нему не прикасаться. Я покупатель оптовый, и если находил апельсины, то покупал пудами. Но стоило мне взять апельсин, как тут же раздавался голос «Командора»:
— Борис, не ешь апельсины — это для Емелюшки. В моём распоряжении оставался только водопровод, но зато им я мог пользоваться круглосуточно.
При таком оригинальном воспитании Емельян должен был вырасти эгоистом и таким жадным, как «композитор» Фрадкин. Но, к счастью, Бог миловал.
Весь смысл и лейтмотив Галиной жизни сосредоточились в одной фразе:
— Борис, давай сядем и спокойно поговорим о нашем сыне. Я тысячу раз садился и спокойно говорил о сыне. Потом я уже неспокойно садился и говорил. Со временем при упоминании: «Давай сядем и спокойно…», — я хватался за кинжал. В самых невероятных обстоятельствах Галя просила меня сесть и спокойно… Представьте себе, в дом лезут воры. Вы думаете, Галя скажет, позвони в полицию? Галя скажет:
— Борис, давай сядем и спокойно поговорим о нашем сыне. Я меньше думал о родине, а больше о сексе. Чтобы перейти к сексу, мне нужно было дипломатично уйти от темы о сыне.
— Галя, вот я люблю, когда тихо, никого нет. Мы можем раздеться догола, это же прекрасно. Галя:
— Хорошо. Давай разденемся догола, сядем и спокойно поговорим о нашем сыне. Это же можно сойти с ума! Я как-то сказал Гале:
— Емельян по возрасту приближается к Рабиндранату Тагору.
— Какое это имеет значение? — возразила Галя. — Для нас он ребёнок. Наша жизнь кончилась, мы должны жить только для Емельяна.
— Галя, запомни, я не умру, пока не рассчитаюсь со своими долгами. Галя долго на меня смотрела, как на бессмертного, потом сказала:
— Паяц ты, Борис, тебе лишь бы паясничать. Я уверен, что если бы Галя меня застала в постели с другой женщиной, и я бы ей сказал:
— Галя, давай сядем и спокойно поговорим о нашем сыне… — она тут же плюхнулась бы на пол.
Я по-настоящему влюблён ещё в одно Галино качество. Я советуюсь с ней, скажем, о покупке машины: о сумме, размере машины, марке и т.д. Галя вся сосредоточена, внимательно на меня смотрит. Потом говорит:
— Бобчик, тебе хуже, когда волосы прилизаны. Распуши волосы на макушке. Ей говорят, что может быть сильное землетрясение, может, стоит уехать. Галя:
— Бобчик, если бы тебе немного похудеть, ты был бы в форме.
ЕМЕЛЬЯН
Емельян был ангелочком. Я не мог с ним расстаться ни на один день. Не видеть его — не жить. Когда Емелюшке было шесть месяцев, и он лежал в коляске, артист-иллюзионист Константин Зайцев рассказывал мне:
— Понимаешь, Борис, я подошёл к твоему Емелюшке, начал ему строить рожки, всякие там тюсеньки-мусеньки… Он не улыбнулся, а посмотрел на меня осмысленным и презрительным взглядом, мол, что ты, старый дурак, выпендриваешься. Мне стало неловко, и я сбежал.
В два года Емелюшка не хотел, чтобы его тётя Рона уходила из дома.
— Емелюшка, мне нужно идти на работу.
— Не ходи на работу, не бойся, я убью твою работу.
Когда ему было четыре года, мы летом снимали дачу под Москвой. Как-то вечером, сойдя с электрички, мы шли по направлению к даче; невдалеке стояла группа подвыпившей местной шпаны. Внезапно Емельян зашлёпал к ним и, подойдя, спросил:
— Ну что, колхозные дурачки, морду набить?
Емельяну четыре года. Я разговариваю по телефону. В какой-то фразе произношу:
— Да я готов все вам отдать… Емельян синхронно: …включая долги.
В Москве один мой знакомый в присутствии Емелюшки говорил:
— Я живу на свою зарплату и сплю спокойно. Емелюшка:
— Со снотворным…
Емельяну было пять лет. Мы все лето отдыхали с ним на Чёрном море. Он постоянно видел перед собой весёлых, отдыхающих людей. И когда его спросили, кем он хочет быть, когда вырастет, Емельян ответил:
— Отдыхающим.
Емельяну пять лет. Мы отдыхали в Анапе. Я объясняю, что драться не нужно, надо стараться уходить от драки. Но если уж ситуация безвыходная — бей первым, после первого удара сразу же ударь ещё два раза. Он очень внимательно все выслушал, ушёл и вернулся через час, весь исцарапанный и в песке.
— Что случилось?
— Я сделал все, как ты говорил. Первый раз ударил, а два остальных не успел. Они меня уже топтали ногами.
Мы на даче у наших друзей, семьи академика Лебедева. Они два дня сажали деревья, потом Емелюшка сыграл на рояле Моцарта, и мы взяли стулья, чтобы перенести их в столовую для ужина. Емельян взялся за стул тоже.
— Емелюшка, не надо, — остановила его Алиса Григорьевна, жена академика. — Ты так хорошо играешь, но ты ещё очень слабенький, ты можешь натрудить себе ручки.
Емельян ничего не ответил и незаметно ушёл. Вскоре он крикнул из сада:
— Алиса Григорьевна, идите посмотрите, слабенький я? Алиса Григорьевна вышла и остолбенела. Емельян с победоносным видом показал ей шесть вырванных молодых деревьев, все, которые она два дня сажала. Она была в ужасе, академик смеялся.
В школе Емельян был круглым отличником. Но однажды он в чём-то провинился, и мама взяла ремень.
— Товарищи, идите посмотрите, как отличника будут бить! — крикнул Емельян. Экзекуцию отменили.
Меня вызвали в школу, потому что Емельян на уроке мяукал и отказался извиниться. Я пришёл в школу и уговорил Емельяна извиниться, хотя он отрицал, что мяукал. Емельян подошёл к учительнице:
— Марья Николаевна, я хочу перед вами извиниться. Извините, что я НЕ мяукал на уроке.
Емелюшка всегда говорил правду. Прихожу домой и спрашиваю, как он вёл себя с бабушкой.
— Папуля, я был непослушный, убегал от бабушки, топал ногами, отказывался есть. Был ужасен.
— Ты понимаешь, что так нельзя себя вести, бабуся старенькая, её надо жалеть. Ты больше так делать не будешь?
— Я так больше делать не буду, я буду хорошим. На следующий день спрашиваю Емелюшку:
— Ну, как сегодня прошёл день?
— Я был ещё хуже, чем вчера. Я дёргал бабусю за юбку, не хотел идти домой, я был отвратительным.
Ну как его, этого отвратительного мальчика, не поцеловать? Конечно, после всяких извинений и обещаний.
Емельяну было шесть, и мы решили обучать его иностранному языку. Я считал, что необходим английский. Но Галя возразила:
— Борис, о чём ты говоришь? Вся балетная терминология на французском языке. Тут крыть нечем. Довод сногсшибательный. По рекомендации мы пригласили бонну-француженку. Звали бонну — Динабур. Перед гастрольной поездкой мы сняли коттедж под городом Таращей и отправили на отдых Емелюшку и француженку Динабур. По приезде мы устроили званый обед, пригласили местную знать. Среди них была женщина — профессор французского языка. Галя:
— А сейчас Емелюшка будет говорить по-французски.
Женщина-профессор вдохновенно произнесла целую тираду по-французски, глядя на Емельяна. Емельян на неё смотрел, как на сумасшедшую.
— Емелюшка, почему ты не отвечаешь по-французски? — спросила Галя.
— Потому что я понятия не имею об этом языке. Галя:
— Емелюшка, а разве мадам Динабур тебя не обучала французскому языку? Емельян:
— Кто-кто?… А… Дина Петровна не обучала меня никакому языку. Она учила меня воровать. Галя открыла рот, вероятно, хотела что-то сказать, и осталась сидеть с открытым ртом. А я приободрился:
— Давай, Емеля, рассказывай, как было дело?
— Дина Петровна сказала, что я очень хорошо выгляжу, могу спокойно воровать, и никто на меня никогда не подумает. И она оказалась права. Я украл три банки шпрот, четыре пачки чая, пять пакетов масла и очень много плиток шоколада. Эти два продовольственных магазина мы обработали, завтра должны перейти в промтоварные. Так вот вы приехали.
В его голосе было огорчение.
Я не пытаюсь описать реакцию Гали и общества. Но что касается меня, я благодарил Бога, что эта бонна, француженка Динабур, Дина Петровна, рекомендована Галиной подругой.
В школе дети писали сочинение, кто их любимый герой. Все, конечно, писали — Павел Корчагин, Павлик Морозов, Зоя Космодемьянская. А Емельян написал — Нестор Махно.
На родительском совете решили, что это влияние родителей. Трое пап из родительского совета пришли ко мне на репетицию. Образно сообщили о происшедшем и намекнули, что дыма без огня не бывает.
Я посмотрел на часы и сказал:
— У вас есть две минуты. За это время вы должны решить, хотите ли вы выйти через дверь или через окно.
Им не понадобилось двух минут, они бросились к двери. На следующий день я спросил Емельяна:
— Зачем ты это сделал?
— Понимаешь, папа, все пишут одно и то же, а это хоть оригинально.
Мы с Емельяном на пляже играем в гусарский преферанс. Около нас вертится какой-то малознакомый тип, надоедает бессмысленными вопросами и мешает играть: — Борис, что за примета, если чешется левая рука?
— Получать деньги.
— А если правая?
— Отдавать.
— А если обе чешутся? Емельян не выдержал:
— Их надо вымыть с мылом.
В консерватории на выпускных экзаменах пианистов. На сцену вышла бездарная, но необыкновенной красоты женщина.
— Емеля, посмотри, ну вылитая Венера.
— Да-да, — подтвердил Емельян. — Для большего сходства я бы ей отрубил руки. Мы с Емельяном часто играли в шахматы. На одном смешанном концерте мы закончили партию пошли из-за кулис послушать выступление пианиста. Маломузыкальный, но техничный он играл виртуозную пьесу, и его пальцы летали по чёрным и белым клавишам. По окончании я спросил:
— Ну, что ты думаешь?
— По-моему, белые выиграли, — задумчиво ответил Емельян.
По телевидению выступал Ван Клиберн. Играл он прекрасно, в порыве вдохновения поднимал голову вверх и что-то шептал. Один из присутствующих выразил недоумение:
— Я не могу понять эти эстрадные фокусы, игру на публику — запрокидывать голову вверх, что-то шептать. Емельян:
— Вам этого не понять. Он разговаривает с Богом.
Когда Емельян был маленьким, он не любил оставаться дома один. Как-то, уходя на работу, мы ему сказали:
— Емелюшка, мы уходим на концерт и скоро вернёмся. Емельян:
— Вы уходите и оставляете меня одного. Очень хорошо. Жаль, что вы не увидите этого пожара! Мы тут же его одели и взяли с собой.
Его изобретательности в проделках не было предела. Дошло до того, что он покушался на государственную безопасность Советского Союза.
Дело в том, что Емельян часто ездил со мной в гастрольные поездки. Я последние годы жил в лучших гостиницах и номерах люкс. В Советском Союзе все дефицит, включая радиоаппаратуру. Хороший микрофон, например, на вес золота. Эстрадные певцы-шептуны очень страдают из-за этого. Неплохие микрофоны были лишь у КГБ. Их устанавливали везде, в том числе в гостиницах, особенно в люксах.
У Емельяна было хобби — находить эти микрофоны и дарить их певцам и музыкантам. Он вытаскивал их из телефонных трубок, из люстр и т.д. Я об этом не знал и жил спокойно. Но однажды в Ташкенте ко мне зашли работники КГБ и попросили меня выйти из номера на несколько часов. В вестибюле я встретил знакомого кагебешника, который под большим секретом мне сообщил, что через неделю ожидается французская торговая делегация, её руководитель будет поселён в мой номер.
— Надо, — продолжал он, — установить микрофоны, чтобы прослушивать их разговоры. Далее он мне поведал, что трижды из номеров, где живут артисты, исчезали микрофоны. Это сильно встревожило кагебешное начальство. Из соседнего Таджикистана поступила аналогичная информация. Создавалось впечатление, что действует какой-то профессионал. Это особенно волновало КГБ.
— Надо установить микрофоны таким образом, чтобы никто не мог их найти, — закончил рассказ мой знакомый.
Спустя четыре часа мы с сыном вернулись в свой номер. Емельян осмотрел все вокруг и сказал:
— Папа, спорим, что найду!
— Что ты найдёшь? — спросил я.
— Микрофоны, — ответил Емельян и рассказал мне, как и сколько микрофонов он обнаружил и кому подарил.
У Емельяна абсолютный слух. Занимаясь музыкой, он делал большие успехи и был гордостью музыкальной школы. Мы не знали горя.
Когда он поступил в музыкальное училище, попал в компанию подонков. Сын начал выпивать, драться, пропадал на неделю. Короче — кошмар. Ему было шестнадцать лет — переходный возраст. Он метал ножи в дверь ванной. Когда она начала напоминать решето, перешёл к другим дверям. Потом он начал упражняться с топором.
Я бросил театр, перестал сниматься в кино, ездил по всей Москве его искать.
После очередного мордобоя в училище его собирались отчислять, но появлялся я, устраивал там шикарный концерт, и его оставляли. Я из училища не уходил, на все праздники устраивал им концерты с самыми популярными артистами. И только это его спасало от отчисления. Нервы были на пределе. Все мои друзья, включая педагогов и директрису, советовали посадить Емельяна на десять суток за мелкое хулиганство, чтобы понял, почём фунт лиха.
Я долго об этом думал и, наконец, решил послушаться друзей и педагогов. Предварительно я договорился с начальником нашего отделения милиции, с судьёй и с начальником отделения ВДНХ, где сидят несовершеннолетние суточники. Я ему все рассказал о Емельяне и просил, чтобы ему не делали поблажек, а, наоборот, дали самую тяжёлую работу. Начальник очень обрадовался моему приходу и пообещал сделать все, как я прошу. Очередное хулиганство не заставило себя ждать. Я сдал Емельяна в милицию, и судья дал ему 10 суток. Емельян был совершенно спокоен.
Все эти десять суток я не спал, я страдал. Если мне удавалось вздремнуть, то снились кошмары, снилось, что его корова забодала. Я осунулся и был похож на братскую могилу. Я считал минуты. И вот, наконец, десятые сутки. Мы с Аркадием поехали на ВДНХ.
Подъезжая к милиции, мы услышали странный шум и громкие голоса. У меня защемило сердце — поножовщина, там же уголовники. Вдруг зазвучала гармонь. Мы ворвались в милицию и увидели Емельяна. С обритой головой он стол на столе с гитарой и пел цыганские песни. На столе множество с водкой и коньяком, полно закуски, за ним сидят начальник милиции с гармошкой, его заместитель и дежурные милиционеры. Ни одного трезвого лица. Мы с Аркадием онемели.
— Буба! — умилился начальник милиции. — Садись! Серёга, разливай.
— Я… забирать его приехал. Все недовольно загудели.
— Слушай, Буба, оставь парня ещё дней на пять, а? — просительно сказал начальник. — Он такой заводной… Чудесный парень, ты зря на него сердишься. Играет, поёт, а как пьёт!
Я с ужасом слушал эту хвалебную речь.
— Это… у вас часто? — наконец выдавил я из себя.
— Все десять дней, — радостно подтвердил начальник. — Мы никогда так весело не жили. Ну, может, хоть на три дня?
Бритый Емельян, наконец, слез со стола, подошёл ко мне и пьяно поцеловал. Куда девалась его аристократическая внешность? Передо мной стоял хулиган из кинофильма «Путёвка в жизнь».
— Папа, может, я действительно ещё денька три побуду? Вы езжайте, не беспокойтесь, меня на машине довезут.
Я его всё же забрал. По дороге выяснилось, как это всё произошло. В первый день Емельяна заставили колоть лёд. Лом тяжёлый, на улице минус тридцать градусов. Это ему сразу не понравилось. Он пошёл в каптёрку к старшине, который их привозил на комбинат, где они работали, и сказал:
— Я — пианист, и у меня на носу концерты с отцом — Бубой Касторским. Руки должны быть в тепле и не держать тяжёлых предметов. Позвони начальнику, он знает.
— Что же ты сразу не сказал? Отведите его в пищеблок, пусть он у них будет бригадиром. В этом пищеблоке ребята грузили продукты и потихоньку воровали растворимый кофе, меняя его потом на портвейн и продукты. Но если без Емельяна малолетки воровали по мелочи, то с Емельяном они утащили сразу ящик.
Милиция была заводная, любила выпить, повеселиться. Емельян был душой этой компании. Вот так хлебнул горя и понял, почём фунт лиха, не Емельян, а я.
Переходный возраст у Емельяна продолжался. Я был беспомощен и не знал, что предпринять. В это время я снимался в кинофильме «Человек играет на трубе». Поэтом в этом музыкальном фильме был Политанский. Когда он узнал о моей трагедии, то сказал мне:
— Борис Михайлович, считайте, что вам очень повезло. Я вам помогу. У меня есть друзья — семейная пара врачей и педагогов, которые специализируются на трудновоспитуемых детях. У них вышло семь книг. Они — кандидаты наук и лауреаты государственных премий.
Я заказал шикарный ужин в ресторане Дома литераторов, с нетерпением ожидая встречи с этими выдающимися людьми. Сели, выпили, закусили, разговорились. Я подробно рассказывал о Емельяне год за годом, и, наконец, дошёл до этого страшного эпизода. Учёный-педагог что-то отмечал в блокноте, кивал головой в сторону жены, которая в ответ улыбалась. Я видел, что они понимают друг друга с полуслова. Я был весел, шутил, надеялся, что скоро мои мучения с любимым сыном кончатся, мы продолжали пить. Поэт Политанский улыбался мне, показывая большой палец. Мол, не беспокойся. Просидев вместе в ресторане часа два, я спросил их:
— Простите, пожалуйста, а у вас дети есть?
— Один сын, — ответила она, а муж заметно помрачнел.
— Сколько ему лет?
— Через месяц будет семнадцать. Муж не проронил ни слова, налил себе полстакана коньяка и залпом выпил.
— Борис Михайлович, вы затронули очень больную тему, — продолжала она. — Семён Аронович сильно повздорил с сыном. Наш сын Серёжа до пятнадцати лет был безукоризненный мальчик. Потом стал нецензурно выражаться, начал нас оскорблять. Когда Семён Аронович делает ему замечание, он обзывает его графоманом и, простите меня, мудаком. А когда я сказала Сереженьке, что стыдно так обзывать отца, он мне ответил: «А ты бы помолчала, — извините, ради Бога, — старая блядь». Тут Семён Аронович не сдержался и сказал ему: «Последний раз предупреждаю, Сергей, ещё раз услышу, что скажешь маме „старая блядь“, я тебя выгоню из квартиры». — «Ты, козёл, шестёрка, я вас скорее шугану отсюда». И опять же, конечно, графоман и мудак. Я ему сказала, чтобы он извинился перед отцом, а он опять меня обозвал, ради Бога извините, старой блядью. Семён Аронович не выдержал и ударил Серёжу ладонью по щеке. А Сереженька со всей силы ударил Семена Ароновича в челюсть, и Семён Аронович перелетел через стол, через кровать, и если бы не шкаф, то вылетел бы в окно. Две недели ничего не мог есть.
— Мне и сейчас жевать трудно, — сквозь скрежет зубов ответил Семён Аронович. Жена продолжала свой рассказ:
— Потом Семён Аронович схватил топор и помчался за Сергеем.
— Я его, эту сволочь, все равно зарублю, — подтвердил профессор Семён Аронович, налил себе ещё полстакана коньяка, выпил и стал похож на лобстера.
— А как же ваш метод, применяемый для трудновоспитуемых? — поинтересовался я.
— Борис Михайлович, — сильно заплетающимся языком ответил Семён Аронович, — все эти методы муть. Их надо бить ломом по голове.
Бедный поэт Политанский, он был так огорчён, что они не могут мне помочь. А я так развеселился. Я получил удовольствие.
Емельян ещё немного побушевал, потом были отдельные вспышки. И переходный возраст закончился. Сын окончил консерваторию, стал композитором. Сегодня у меня нет ближе друга, чем Емельян.
ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ
Я всю жизнь собирал театральные шутки и казусы, свидетелем которых мне довелось быть; другие узнавал с чужих слов. В них немало юмора, и, я надеюсь, они вызовут у вас улыбку.
Объявление в провинциальном драматическом театре: «В связи с гастролями просьба всех работников подать заявление, кто с кем хочет жить».
Объявление у входа в один московский ресторан: «Сегодня у нас в ресторане играет усиленное трио в составе четырёх человек».
В концертном зале им. Чайковского выступал знаменитый скрипач, у которого из ширинки торчал кусок накрахмаленной белой рубашки. Зрители покатывались от хохота, а скрипач никак не мог понять причины смеха, когда за кулисами он обнаружил свой конфуз, то набросился на ведущую концерта актрису Боброву:
— Как вы можете выпускать на сцену артиста в таком виде?!
— Я ведущая, в мои обязанности входит объявлять номера, а не осматривать у артистов ширинки. После этого Боброва должна была объявить чтеца Эммануила Каминку. Она объявила так: «Выступает мастер художественного слова Эммануил Ширинка». Каминка отказался выступать.
Симфонический оркестр на концерте в колхозе исполнил Девятую симфонию Бетховена. После концерта председатель колхоза поблагодарил всех музыкантов и сказал:
— Колхозникам концерт понравился, но сразу Девятую симфонию — трудновато. Вот если бы вы начали с Первой, то было бы легче.
На гала-концерте, когда все артисты были на сцене, мальчик вынес огромную корзину цветов и под аплодисменты зрительного зала вручил их мне.
За кулисами я встретил одну очень расстроенную актрису и решил ей подарить цветы, чтобы поднять ей настроение.
— Спасибо, Борис, — сказала она, — но эти цветы действительно мои. Я их купила на свои деньги. И мне должны были их вручить на сцене, а не за кулисами.
В Москонцерт из цирка перешёл ведущий Кирилл Бобров. У него была плохая память, и он путал на сцене имена и фамилии артистов. Когда ему по этому поводу артисты предъявляли претензии, Бобров отвечал:
— Какая разница, как я вас объявил? Кто вас знает? А мне нужно было бы забивать голову вашими ненужными именами и фамилиями.
Произнося репризу, касающуюся философа Спинозы, Бобров был уверен, что речь идёт о враче, специалисте по спинному мозгу.
В Горьковской консерватории Боброву нужно было объявить «Сентиментальный вальс» Чайковского. Бобров объявил так:
«Чайковский. САЛЬТОМОРТАЛЬНЫЙ вальс».
В столице Татарии Казани Бобров вёл концерт. Через несколько минут после начала в зале появился опоздавший пожилой татарин. Он тихо искал своё место. Бобров сразу нашёлся и сострил:
— Правильно гласит пословица: «Нежданный гость хуже старого татарина». Трудно сказать, чем бы кончилась для Боброва эта шутка, если бы он вовремя не убежал через чёрный ход.
По всей стране нас заставляли учить историю партии. Я и другие деятели культуры учились в Университете марксизма-ленинизма при ЦДРИ. На экзамен пришёл народный артист Советского Союза Юрий Завадский. Экзаменатор спрашивает у Завадского:
— Расскажите о работе Ленина «Шаг вперёд, два шага назад».
— Работа Ленина «Шаг вперёд, два шага назад», — вслух повторил Завадский. Потом задумался и ответил:
— Это я знаю. Что дальше?
— Воссоединение Украины и России, — спросил экзаменатор.
— Это я тоже знаю, — ответил Завадский. — Все? Будьте здоровы. И ушёл.
Николай Крючков снимался в фильме, режиссёром которого был С. А. Эйзенштейн. Несмотря на очевидную разницу в возрасте Крючков говорил Эйзенштейну «ты». Близкий друг режиссёра возмущался: «Сергей Александрович, я вас знаю больше двадцати лет и с вами на „вы“, а Николай Крючков видит вас первый раз и говорит „ты“. Как это понять?!»
Эйзенштейн: «Тут ничего обидного нет. Просто для Крючкова „ты“ — это когда один человек, а „вы“ — когда много».
Художественный руководитель ругал певицу за то, что она в концерте, посвящённом Дню авиации, не спела песню про лётчиков.
— Нет у меня в репертуаре песни про лётчиков, — сказала певица.
— Как у тебя нет песни про лётчиков?! — возмутился худрук. — А песня «АВИО-Мария»?!
В интернациональном городе Баку в ЗАГСе были вывешены образцы заявлений: «Товарищ Гаджиев Рауф Аджибекович женился на такой-то». «Товарищ Бабаев Муслим Оглы родился тогда-то».
Но на образце, удостоверяющем смерть, значилась фамилия Федотова Ивана Степановича.
В Москву на несколько дней ко мне приехал погостить знакомый одессит. Как раз в день его приезда проходил матч по футболу между одесским «Черноморцем» и московским «Торпедо», и мы пошли на стадион. Матч выиграло «Торпедо». Мой одесский приятель хмуро собрал вещи и сказал, что едет на вокзал.
— Ты же хотел остаться на несколько дней.
— О чём ты говоришь?! Остаться с таким ОСАДКОМ!
Я принимал участие, как балетмейстер, в фильме «Женитьба Бальзаминова». Фильм снимался в Суздале. Город Суздаль с огромным количеством церквей, храмов, нетронутых шедевров русской архитектуры неизменно привлекает внимание иностранных туристов и, видимо, именно благодаря им религия в городе не притесняется, в церквах проходят богослужения, разрешена продажа икон, крестов и так далее. На базаре один торгует самодельными иконами.
— Сколько стоит Микола-Угодник? — поинтересовался я.
— Один рубль, — по-волжски окая ответил продавец.
— А Иисус Христос?
— Один хуй.
В Москве жил негр Вейлан Роод. В то время он был единственным негром в Советском Союзе и далеко не самым из них красивым. Как-то раз около Колонного зала его знакомый, драматург Пётр Тур, по рассеянности с ним не поздоровался. Вейлан Роод догнал его и спросил, почему он с ним не поздоровался.
— Ради Бога извините, — смущённо ответил Пётр Тур, — я вас не узнал.
Комиссия утверждала репертуар Госоркестра Азербайджана для правительственного концерта. Когда конферансье объявил американского композитора Стена Кантона, комиссия единогласно зарубила это произведение, говоря о растлении Запада и о пошлости этого джазового произведения.
По моему распоряжению на правительственном концерте американский композитор Стен Кэнтон был объявлен так:
«Польский композитор Станкевич. Вариации на польские народные песни».
Все были в восторге от музыки.
В клубе МВД с вертящейся сценой состоялся пленум ЦК партии Азербайджана. Как только начал говорить первый секретарь партии Азербайджана товарищ Ахундов, я случайно нажал кнопку, и весь президиум с товарищем Ахундовым уехал. А с другой стороны выехали двое рабочих, которые, удобно расположившись, покуривали и попивали вино. Работники КГБ растерялись, один из них нажал кнопку, и сцена остановилась. Рабочие на первом плане бросили пить и курить, недоумевая, что произошло. Зал хохотал. Все ЦК застыло на другой стороне. Нажав кнопку, я вернул президиум на прежнее место. Все, слава Богу, обошлось.
Утверждают, будто народная артистка Советского Союза Яблочкина умерла девственницей. Как-то она спросила у артиста Михаила Царёва, как, собственно, занимаются любовью. После подробного рассказа Царёва Яблочкина воскликнула: — Боже! И это без наркоза!!!
В Советском Союзе, в каком бы ты ни работал жанре, ты должен отразить поступь коммунизма. Светлое и счастливое будущее. Даже если ты клоун или иллюзионист. Должна быть идея, партийный смысл. Без Красного знамени ничего не обходится. Самая лучшая декорация — это портрет Ленина.
Проходил просмотр артистов на предмет выступления за границей.
Один жонглёр московской эстрады решил действовать наверняка. Он сменил европейский костюм на русский, жонглировал яблоками, арбузами, самоварами, а в финале вынес огромный мяч, расписанный под глобус. Внутрь глобуса посадил «голубя мира». Отработал с глобусом разные упражнения: подбросы, верчения плечами и головой.
В конце открыл мяч, и по его задумке голубь мира под музыку «Летите голуби, летите…» должен был порхать над комиссией. Но голубь после всех издевательств вывалился из мяча к ногам создателя этого номера, долго блевал, бился в судорогах и матюгался.
В грузинском городе Гори, где родился Сталин, после концерта наша бригада, состоявшая, в основном, из певцов, вернулась в гостиницу и легла спать. Однако примерно в час ночи прямо под окном три грузина начали петь грузинские народные песни на три голоса. Пели они хорошо поставленными голосами в отличие от наших певцов. Микрофон им был не нужен, и поэтому уснуть под их пение было невозможно. Артисты возмущались, ругали их последними словами, но поскольку мы были в чужом городе со своими обычаями, делали это тихо, чтобы вокалисты не слышали. Конца этому не предвиделось. И вот, наконец, в два часа ночи мы услышали резкую трель милицейского свистка и вздохнули с облегчением: все, сейчас наши мучения кончатся. Милиционер подошёл, долго сердитым голосом что-то им говорил на родном языке, и хотя мы не понимали одного ни слова, по интонациям легко было догадаться, что он требует прекратить петь, что ночное пение под окнами граничит с хулиганством и т.п. Певцы горячо и взволнованно ему отвечали, пытались что-то доказать, но их текст нас уже не интересовал, важно, что это хамство будет прекращено. Милиционер внимательно выслушал… И затем они вместе запели на четыре голоса и пели до семи утра.
Министр культуры СССР тов. Михайлов собрал всех своих заместителей, чтобы решить вопрос, как принять чехословацкую культурную делегацию. Один из заместителей сказал, что когда в Чехословакии была советская культурная, то чехи им устроили «а ля фуршет».
«Хорошо, — сказал министр культуры Михайлов, — мы им тоже устроим А ЛЯ ФУЖЕР».
В Москву на гастроли приехал грузинский хор. У руководителя хора была фамилия ПОЦХЕРОШВИЛИ. Ведущая Боброва его фамилию объявила ПОДХВЕРОШВИЛИ. Он был страшно возмущён и подал на Боброву жалобу. Жалобу разбирала коллегия министерства культуры РСФСР.
Боброва:
— Я прошу меня извинить, но по-русски фамилия маэстро звучит неприлично, и только поэтому я изменила некоторые буквы. Ещё раз прошу маэстро меня простить.
Поцхерошвили:
— Я убедительно настаиваю, чтобы впредь мою фамилию произносили ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНО!
На собрании разбирается дело артиста Юрия Тимошенко. Все говорят о нём хорошо. Встал певец и произнёс короткую речь: «Что вы все говорите — Тимошенко, Тимошенко! отберите у него талант, ну и что?..»
Оговорка.
Народный артист Советского Союза Батурин вёл вокальный класс в Гнесинском училище. На экзамен он опоздал и узнал, что комиссия во главе с Неждановой зарубила всех его учеников. Разгневанный Батурин сказал комиссии:
— Товарищи, нельзя же всех так огульно охуевать!
В ресторане ВТО около буфета стоял симпатичный интеллигентный человек лет шестидесяти в потрёпанном, блестящем от времени костюме, несвежей белой сорочке, в рваном галстуке, небритый, с грустными глазами.
К буфету подошёл здоровый молодой парень, взял полный стакан водки, одним махом опрокинул его в себя, вытер губы рукавом пиджака, улыбнулся и сказал:
— Хорошо! Потрёпанный интеллигентного вида человек глубоко вздохнул и как бы про себя подтвердил:
— В том-то и беда, что хорошо…
В оркестре Эдди Рознера работал прекрасный скрипач и очень весёлый человек Павел Гофман. Как-то он пытался поступить на работу в Ленконцерт. Директор Ленконцерта заупрямился и сказал:
— Гофман, вы поступите в Ленконцерт только через мой труп. Гофман:
— Договорились. Я согласен.
Я со своей женой и с Гофманом однажды пошли в Москве в ресторан «Интурист» поужинать. Видим, что люди аппетитно едят блины с чёрной икрой. Но тут вскоре выяснилось, что это только для иностранцев. Гофман сказал мне, чтобы я позвал официанта и переводил ему. Гофман легко сходил за иностранца, напоминал богатого американца-миллионера.
Гофман:
— Плиз, перетуна ай вонт сатрам тэм вандэфул экзекли плиз. Официант:
— Что он сказал?
— Просит три порции блинов с чёрной икрой. Мы быстро проглотили блины и опять позвали официанта. Гофман пошёл плести кружева на непонятном тарабарском языке:
— Плиз, перетуна самвер ай вонт лэйт райт экзекли дабл ю плиз… Официант, обращаясь ко мне:
— Что он теперь хочет? Я:
— Повторить.
Официант принёс счёт и дал его Гофману. Гофман:
— Пилеть охутя самвер ту мач башлян. Официант:
— Что он сказал? Я встал со стула и говорю на ухо официанту:
— Он сказал, что до хрена денег это стоит. Официант:
— А почему вы говорите на ухо? Я:
— Потому что он (показывая на Гофмана) в совершенстве знает русский язык.
Эдди Игнатович Рознер и Павел Гофман зашли в ресторан. Рознер делает заказ у официанта:
— Пожалуйста, дайте мне бифштекс, но с кровью, чтобы явно было с кровью, короче, скажите, чтобы было много крови.
Гофман вмешался в беседу:
— Товарищ официант, дайте ему бифштекс, а донора отдельно.
Как-то нашему ансамблю пришлось в каком-то дремучем лесу выступать перед артиллеристами. Я приехал на машине раньше всех и холодной водой кое-как побрился. Все артисты одолевали меня вопросами, где я умудрился побриться. Я, не задумываясь, отвечал:
— Пожалуйста. Пойдёте прямо по лесу пятьсот метров, потом повернёте налево и пройдёте ещё триста метров. Там увидите ряд землянок. Войдите в шестую землянку, там находится парикмахерская, а парикмахером работает еврей из Киева, которого зовут Фимой. Он меня с любовью принял, побрил, не взял ни копейки и просил всех к нему прийти.
Ребята побежали по указанному адресу, а я ждал их возвращения с очередным скандалом.
Прошло немало времени, прежде чем они появились. Каково было моё изумление, когда я увидел их выбритыми, постриженными и довольными.
Оказывается, всё, что я наплёл, сошлось до метра, включая Фиму. Я побежал по своему вымышленному маршруту и тоже постригся на шару у своего земляка парикмахера Фимы.
Наш Ансамбль народного танца Украины участвовал в правительственном концерте в Большом театре, исполняя грузинский танец. По ходу этого танца мы вытаскивали из ножен настоящие кинжалы, втыкали их в пол и вокруг них танцевали. Днём у нас в Большом театре была репетиция, костюмы оставались в артистических уборных. Вечером, танцуя на сцене, мы достали кинжалы из ножен и обомлели: клинки были отрезаны автогеном, остались обрубки, чтобы кинжалы держались в ножнах.
Вероятно, таким образом было предотвращено покушение на великого вождя Иосифа Сталина, присутствовавшего на концерте.
В своё время на эстраде работала сатирическая пара Громов и Милич. У последнего жена была сумасшедшая. По-моему, она помешалась на преданности коммунистической партии. Она всех подозревала в шпионаже и на всех писала доносы, включая своего мужа.
Милич всю жизнь, работая с утра до ночи, отказывал себе во всём, копил деньги на старость. У него были деньги, золото, бриллианты, антиквариат. Старость для него давно наступила, но он продолжал дорабатывать. Когда Милич уехал на гастроли, его сумасшедшая жена собрала все ценности в доме и отнесла в КГБ, выразив желание помочь.
Когда Милич вернулся и узнал о происшедшем, он потерял сознание. Потом отправился в КГБ.
— Товарищ полковник, — обратился он к тамошнему начальству, — я всю жизнь работал как вол, чтобы обеспечить свою старость. Моя жена-сумасшедшая, вот вам справка…
Полковник:
— Гражданин Милич, интересно получается. Ваша жена сумасшедшая и решила помочь Родине. А вы, нормальный, решили забрать все назад…
Милич прочёл в его глазах дальнюю дорогу и сказал:
— Я всё понял. Прощайте.
В Москве, чтобы получить комнату, нужно простоять в очереди пять-десять лет или всю жизнь. Член Москонцерта Никандр Николаев получил в Москве комнату за два с половиной обморока. Он записался на приём к председателю Моссовета Промыслову. Когда он открыл дверь в его кабинет, у Никандра Николаева подкосились ноги, и он упал в обморок. Перепуганный мэр города подбежал к бледному Николаеву, попытался найти у него пульс и спросил у секретарши, как фамилия и что просит посетитель. «Скорая помощь» привела Никандра Николаева в чувство.
Николаев, придя на следующий приём к Промыслову, так же открыл дверь, закатил глаза и плюхнулся на пол. Мэр города в панике опять подбежал к нему, узнал его, уточнил фамилию и что он просит, и опять «неотложка» привела Николаева в чувство.
В третий раз Никандр Николаев, открыв дверь к мэру Москвы, только закатил глаза, как Промыслов предотвратил обморок, проявив завидную прыть. Он успел крикнуть:
— Не надо, не падайте! Вот ордер на комнату. Никандр взял ордер и с улыбкой на лице вышел из кабинета в полуобморочном состоянии.
В своём большинстве советские люди в столовых и ресторанах пишут жалобы, но это ничего не даёт. Никто до сих пор не понял, что нужен иной подход. В этом я убедился на собственном опыте.
Однажды в Баку я вместе со своим соавтором Юрием Рихтером (мы ставили новую программу Государственному эстрадному оркестру) пошли в ресторан «Баку», в котором нам подали отвратительную пищу. Я взял жалобную книгу и написал: «Мы объездили весь мир, но нигде так вкусно не кушали, никто так культурно нас не обслуживал. Спасибо повару, директору ресторана. Ваши поклонники. Писатель Юрий Рихтер и артист Борис Сичкин».
Дальше появился огромный азербайджанец с огромными усами, который вызвал повара. Мы слышали, как он выяснял, чем нас кормили.
Повар пожимает плечами, недоуменно что-то бормочет. Мы догадались, что он рассказывает директору, что мы получили недоброкачественную пищу.
Мы позвали официантку и попросили счёт. Она сказала, что директор просит нас в свой кабинет. В кабинете был накрыт стол по-царски: всевозможные коньяки, чёрная икра, лососина и т.д.
Директор:
— Отныне, дорогие, вы наши самые любимые гости. Никаких денег платить не надо, один звонок — и стол будет накрыт.
Так надо жаловаться, я вас спрашиваю?
Писатель Аркадий Арканов, приехавший по делам в Ленинград, принимал женщину в гостиничном номере. Из Москвы позвонила его ревнивая жена Женя, трубку неожиданно подняла женщина. Услышав женский голос, Женя бросила трубку. Арканов срочно заказал Москву. Жена подошла к телефону. Арканов успел сказать слово «Женя», как жена начала поносить его последними словами.
После разговора позвонила телефонистка и сказала:
— Товарищ Арканов, вы говорили тринадцать минут.
— Я говорил тринадцать минут? Это она говорила!
Все немцы дисциплинированы до тошноты. Они могут выполнить любой приказ начальства. После войны в Потсдаме был чёрный рынок. На нём немцы меняли одежду на продукты и сигареты. У немцев были вещи, а у советских солдат и офицеров были продукты и сигареты. Обе стороны нуждались в товарообмене и, разумеется, никому не мешали. Но немецкая полиция делала на немцев облавы и арестовывала всех продающих.
Я часто ходил на этот рынок и помогал нашим воякам в общении с немцами. Всегда, когда подъезжали немцы-полицейские, все бросались в разные стороны.
Я, одетый в гражданский костюм, вырывался из кольца полицейских, обегал несколько раз вокруг них и убегал. Немцы, не сомневаясь, что я немец, бежали за мной.
Я был хорошо тренированный, выносливый, отлично бегал и увлекал их подальше от чёрного рынка. Потом я резко останавливался и, находясь в окружении немцев, вытаскивал удостоверение.
Запыхавшиеся немецкие полицейские недоумевали:
— Зачем вы убегали?
— Я фронтовик и думал, что меня немцы окружают, а когда бежал, то вспомнил, что война кончилась.
Так много раз я спасал гражданское немецкое население от тупых дисциплинированных немецких полицейских.
Я приехал на ответственный концерт в День Советской Армии в академию им. Жуковского. Концерт не состоялся, так как кроме меня никого больше не было.
Выяснилось, что администратор Москонцерта составила программу из одних покойников. Этот скандал разбирался у директора. Администраторша оправдывалась:
— Я плохой концерт составила? Посмотрите, какие силы! Номер в номер.
— Да, но их нет в живых, — возразил ей директор.
— А я что, виновата, что их нет в живых?!
После концерта я и двое гениальных артистов МХАТа Ливанов и Грибов пошли ужинать. Крепко выпили. Ливанов произнёс тост за Грибова:
— Ты гордость русского театра, ты гений. Я горжусь, что живу с тобой в одну эпоху… А теперь давай про меня. Грибов:
— Ты, Борис, замечательный артист, режиссёр, художник…
— Нет, так не пойдёт, — перебил его Ливанов. — Ты говори, как я о тебе говорил.
Артист кино Сергей Филиппов находился в Киеве на съёмках.
В это время проходило торжество в честь Тараса Григорьевича Шевченко — великого украинского кобзаря.
Сергея Филиппова попросили сказать несколько тёплых слов в адрес поэта. Филиппов охотно произнёс короткую речь:
— Я поздравляю весь украинский народ с вашим великим КОБЗОНОМ!
БОЛЬНО И СМЕШНО
Случился у меня в Москве почечный приступ. Я легко дозвонился до «скорой помощи», которая мгновенно приехала через один час пятьдесят семь минут и отвезла меня в Боткинскую больницу. В больнице был аншлаг, и попасть на койку в коридоре было невозможно. Меня бросили, как дрова, в какую-то комнату, где находились два человека, по-видимому, врач и медбрат. Медбрат сказал, что у меня приступ аппендицита. Но врач, обозвав его идиотом, констатировал почечный приступ. После чего оба удалились.
Я не находил себе места и катался по полу, пытаясь найти положение, чтобы хоть как-то облегчить невыносимую боль. Примерно часа через полтора в комнату вошёл человек профессорского вида с лицом врага народа, внимательно на меня посмотрел, лицо его посветлело, в глазах зажёгся огонёк, и он расплылся в улыбке.
«Все, — подумал я, — он меня узнал по кино и сейчас отдаст все силы и знания для спасения своего кумира». В эту минуту он был для меня выше всех русских знаменитых врачей: Вишневского, Пирогова, Бехтерева и др. Я смотрел на него, как на святого, хотя в профиль он походил на Ленина.
Профессор вышел из комнаты, и я не сомневался, что с минуты на минуту мне будет оказана помощь. Через какое-то время он снова вошёл ко мне в КПЗ и громко скомандовал:
— Входите! В камеру предварительного заключения вошло человек двадцать девушек, вероятно студенток.
Профессор взял дыхание, и голосом, в котором чувствовалось оживление, начал, указав пальцем на меня:
— Товарищи, перед вами экспонат, у которого приступ почечных колик. Он испытывает невыносимую боль и, в буквальном смысле слова, не может найти себе места. По боли почечные колики не уступают женским родам.
Я, не будучи йогом, встал на голову и готов был оставаться в этой позиции всю жизнь, если бы это помогло. Но ничто не помогало. Профессор все это сопровождал тестом:
— Видите, он встал на голову, сейчас лёг на пол, поднял ноги, сделал кульбит, однако должен вас заверить, всё, что он делает, бессмысленно. Он думает, что какое-то положение может облегчить ему боль. Ничего подобного. Ему может помочь только обезболивающий укол, вам очень повезло, что вы можете воочию наблюдать почечный приступ.
Девчата с интересом наблюдали за моими телодвижениями и после слова профессора «вам повезло» дружно закивали головами. «Если он знает, что мне нужен обезболивающий укол, — с надеждой подумал я, — надо понимать, он его сейчас мне сделает». Однако вместо этого профессор сказал:
— Товарищи, мы можем пойти дальше, но, по-моему, здесь интереснее.
— Да-да, интереснее, — радостно подтвердили будущие врачи. Я катался по полу, уже понимая, что помощи здесь не дождёшься. Потом профессор с профилем
Ленина вышел, снова зашёл с выражением неприкрытого блаженства, весело крикнул: «Пошли!» и увёл свой кордебалет. Вероятно, он нашёл умирающего и обрадовался возможности прокомментировать последние десять минут его жизни.
Когда у меня уже почти не оставалось сил терпеть эту жуткую боль, и я, чтобы как-то отвлечься, начал громко прославлять советскую бесплатную медицину, в комнату зашёл врач. Он тоже пристально на меня посмотрел.
— Вы случайно не Буба?
— Да, я случайно Буба.
— Так что ж вы сразу не сказали? Мы бы вас взяли первым, а то вы пошли общим потоком. «Да, — подумал я, — а тем, кто не Буба, им что, менее больно?…» Врач сделал мне укол, боль прошла, и я спросил, кто был тот профессор.
— О, это известный врач, педагог, завкафедрой… Только не дай Бог у него лечиться.
В больнице сломалась плита. Чинили её пять дней. Всё это время больные должны были выздоравливать всухомятку. Мне как артисту кино по блату давали тёплый чай. Но конспирация была такая, будто они приносили атомную бомбу. Прав был фантаст Ленин, когда сказал: «Из всех искусств для нас самым главным является кино».
Когда после этого эпизода я думаю, сколько людей в Советском Союзе не снималось в кино, мне делается не по себе. Это кошмар!
САЗАНОВ
Фильм «Последний жулик» ставился по сценарию ответственного работника Госкино СССР некоего Сазонова. Я снимался в нём вместе с популярным артистом Николаем Губенко.
Ответственный сценарист, несмотря на шестьдесят лет, выглядел очень хорошо. Мы с ним подружились. Выяснилось, что он занимается йогой. В подтверждение Сазанов даже продемонстрировал мне в номере стойку на голове.
У меня появилась дерзкая мысль. Я решил организовать в гостиничном номере театр одного зрителя. Первым удостоился чести лицезреть спектакль художественный руководитель фильма М. Калик, которого я привёл в гости к нашему сценаристу.
— Как вы думаете, сколько Сазонову лет? — спросил я у Калика.
— Лет сорок пять, — ответил Калик.
— Ошиблись на пятнадцать лет, — объясняю я, и все потому, что товарищ Сазонов йог. Пожалуйста, встаньте на «копштейн».
Сазонов без промедления встал на голову. Я:
— Лягушку.
Сазонов становится на руки, ноги поднимает вверх и прыгает, как лягушка. Калик еле сдерживает смех.
— Коля, сколько бы ты дал лет Сазонову? — спрашиваю я у Николая Губенко, следующего участника «спектакля».
— Лет сорок. Далее следовало представление. Сазонов становился на голову, изображал лягушку и т.д.
Николай выбежал из номера, чтобы не расхохотаться.
Из Москвы приехали два режиссёра, очень талантливые ребята. Они безумно боялись Сазонова и рассказывали, что он беспощаден к людям. Я пообещал им помочь наладить отношения с ним.
Я попросил Сазонова, с которым уже был накоротке, пригласить режиссёров к себе в номер. Они пришли, поначалу заикались от волнения, но постепенно успокоились. И тогда началось представление.
Всё началось с традиционного вопроса о возрасте товарища Сазонова. Они оба с удовольствием дали бы ему лет двадцать, но надо знать меру. Один из них промямлил:
— Тридцать пять. Я торжествующе посмотрел на Сазонова. Он сидел довольный, как Папа Римский, которого только что выбрали. Дальше вы уже знаете: а почему? Да потому, что он йог. Мой приказ: «Копштейн» — и замминистра хроникальных фильмов, гроза всех режиссёров и операторов бахнулся вниз и прочно закрепился на голове. Посмотрел я на гостей, а у них в глазах не смех, а Бабий Яр, Майданек, Освенцим и ашхабадское землетрясение. Второй мой приказ: «Лягушка». Сазонов мгновенно подчинился и принял положение лягушки. Опять я посмотрел на двух режиссёров. А у них в глазах смертельный страх, челюсть отвисла и выглядят, как Джамбул в гробу. Я, как мог, пантомимой их успокаивал, улыбался. Один из них пытался мне тоже улыбнуться. Но его улыбка больше походила на плач.
Когда после моего приказа Сазонов перешёл на свой коронный трюк — лягушачьи прыжки, режиссёры были в прострации. Такое впечатление, что они умерли, но об этом ещё не знают.
Они были в обмороке. А жаль, потому что в этот раз Сазонов был как никогда гениален в образе лягушки.
НОВИКОВ
Товарищ Новиков возглавлял в Министерстве культуры СССР управление труда и зарплаты. А так как вся страна жила не по труду и не на зарплату, то его появление в какой-нибудь республике воспринималось как трагедия.
В одно прекрасное утро в Баку, где я ставил программу эстрадному оркестру, я застал переполох среди местного начальства. Оказалось — едет товарищ Новиков.
В срочном порядке ему снимают люкс в гостинице, холодильник забивается деликатесами и дорогими коньяками, готовятся местные сувениры. Чтобы ему не было скучно, руководители местной культуры упросили меня составить ему компанию.
Стол накрыли у него в номере.
Застолье шло своим чередом. Выпили по пятьсот граммов, рассказали кучу анекдотов. И вдруг Новиков запел. Его пение походило на скрежет тормозящего трамвая. Я посмотрел на него и сказал:
— Боже, какой приятный тембр голоса. Угадал. Он просиял, взял дыхание и начал изрыгать звуки. Я встал и поцеловал его. Я сказал ему, что его голос для большого зала, скажем, Большого театра, поэтому пойте в другой комнате. Он вышел в другую комнату и начал визжать. Я зашёл к нему. Он стоял, прижав руки к груди, как оперный певец.
— Я вас слушал, закрыв глаза. Ну просто Федор Иванович Шаляпин. Тот же тембр, те же нюансы. Почему вы не поёте?
Он посмотрел на меня с любовью. Ясно, что удовольствие от жизни он получал только тогда, когда пел.
— Спойте ещё из репертуара Шаляпина, — попросил я.
— Хорошо. Я спою «Блоху». Дверь закрылась, и он пел. Мы ели, пили и хохотали. По окончании «Блохи» я попросил его спеть арию Мефистофеля, но только в туалете, учитывая его огромный диапазон.
Новиков, гроза советской культуры, пропел в туалете весь репертуар Шаляпина. Мы плакали от хохота. Новиков зашёл в комнату, а мы сидим в буквальном смысле заплаканные.
— Вот видите, — говорю я ему, — до слёз растрогались. Пожалуйста, если вам не трудно, ещё несколько романсов Шаляпина.
— Там же, в туалете? — спросил Новиков.
— Да, конечно, — ответил я.
Этот импровизированный концерт спас азербайджанскую республику от погрома. Если бы товарищу Новикову республика Азербайджан подарила пять нефтяных вышек, сто куртизанок и шесть ликеро-водочных заводов, он бы от этого не получил столько удовольствия, как от своего пения в туалете.
Да, ещё раз можно повторить: республику спас от неприятности голос самого товарища Новикова.
Я знал одного человека, который творил чудеса в Советском Союзе. С утра до ночи обирал государство на крупные суммы. Он понимал, что это продолжаться долго не может, и, пока не поздно, покинул любимую родину.
На следующий день после его отъезда в квартиру позвонили два жлоба и предъявили ордер на арест.
— Вы пришли арестовать моего сына? — спросил отец моего знакомого.
— Да!
— Боже мой, какая жалость, но он вчера уехал.
— А когда он приедет? — поинтересовались непрошеные гости.
— Никогда. Он уже в Вене, через две недели будет в Италии, а там в Америке. Он вас так ждал. Если б он знал, что вы придёте, я думаю, он бы не уехал. Ордер на арест сегодняшним числом?
— Да, сегодняшним, — недоуменно ответил один из жлобов.
— Если бы вы пришли вчера, то вы бы его застали, а сегодня поздно. Боже мой, как он расстроится… Столько ждать и не дождаться.
— Чего ждать? — спросил второй.
— Как чего? Ареста. Если у вас есть время, я сейчас закажу Вену, чтобы он хоть ваши голоса услышал.
— Да пошёл он… Они вышли и хлопнули дверью. Но торжествующий отец, открыв дверь, кричал им вдогонку:
— Вы даже не представляете, как он огорчится, когда узнает, что вы приходили. Это ж надо, чтобы ему так не повезло, всю жизнь ждать и…
В Киеве у меня был знакомый Нюська. У него было всё: внешность, спортивная фигура, деньги. Но не было чувства юмора. А у меня ничего не было, кроме юмора. Я Нюське не завидовал, а он погибал от зависти. Девушки были готовы лишиться ресторана, но похохотать. Как-то Нюська признался мне:
— Борис, я бы отдал всё, что у меня есть, чтобы стать остроумным.
— Не надо всего, что у тебя есть, ты дай мне сто рублей, и я сделаю тебя остроумным человеком.
— Как?
— Говори все наоборот. Например, пошёл дождь с ветром, говори: «Слава Богу, настали светлые дни». Видишь кого-нибудь плохо одетым, говори: «Он или она одевается скромно, но броско». Если какая-нибудь женщина молодится, а ей много лет, скажи: «Она помнит ещё первую лошадь России». Если где-нибудь очень плохо, скажем, в городе, где асбестовые шахты, и люди там болеют и страдают, говори: ««Туда бы хорошо поехать отдохнуть всей семьёй. Короче, все наоборот.
Прошло немного времени, он отдал мне сто рублей. Они были мне нужны на пропитание и хороший костюм — первый костюм в моей жизни. Встретился я с девушками, и мне все хором сказали:
— Борис, тебе делать нечего, мы вчера были с Нюськой и животы надорвали. Ну, такой смешной, такой остроумный мужик…
Когда режиссёр Довженко был художественным руководителем Киевской киностудии, он отдал приказ ничего не вывозить со студии без письменного разрешения. Режиссёр Савченко подъехал к пропускному пункту. Вахтёр его спрашивает:
— Чего вы вывозите? Савченко:
— Гонорею. Вахтёр:
— Письменное разрешение есть? Савченко:
— Нет. Вахтёр:
— Вам придётся оставить гонорею здесь.
— Ни за что. Это моя гонорея.
— Товарищ Савченко, я вас знаю, но есть приказ Александра Петровича ничего не вывозить без накладной. Савченко:
— Гонорея не имеет никакого отношения к студии, это мне подарили. Эта гонорея принадлежит мне.
— Я вам верю, что гонорея ваша, но приказ… Савченко:
— Пожалуйста, позвоните Александру Петровичу. Вахтёр:
— Александр Петрович, здесь режиссёр Савченко хочет вынести гонорею, а письменного разрешения у него нет. Довженко:
— Хорошо, в виде исключения оставьте ему его гонорею.
В Киеве в Театре русской драмы работала актриса Драга.
После получения очередного звания театр в её честь устроил банкет и пригласил на этот вечер партийных работников.
Муж виновницы торжества не имел никакого отношения к искусству, но был рафинированным интеллигентом и на радостях произнёс тост:
— Товарищи! Я хочу поднять тост за наше великолепное правительство и совершенно потрясающее ЦК!!!
После войны по всему Берлину шла электричка. Помимо машиниста в ней находился кондуктор, в обязанности которого входило следить за посадкой. А после её окончания громко кричать: «Абфарун!» (поехали). После чего электричка двигалась дальше. Кондуктор картавил, и в его исполнении это слово звучало: «Абфар-р-рун». Этот немец был также наглым и вёл себя вызывающе. Он нарочито медленно выходил из вагона, мы долго стояли, пока он беспричинно тянул время, наслаждаясь своей маленькой властью, так как от него зависело отправление электрички. Его ненавидели не только русские, американцы, англичане и французы, но и сами немцы.
Как-то я спешил на свидание, но как назло наш кондуктор был наглее обычного. На остановках он закуривал, всячески тянул время, вступал в беседы с какими-то людьми… На одной из станций был маленький базар, и картавый немец туда отправился.
Это положило предел моему терпению. Я вышел на перрон и, копируя его, крикнул «Абфар-р-рун!», и мы уехали, оставив его на базаре. Весь вагон мне аплодировал.
На каждой станции под дикий хохот пассажиров я кричал: «Абфар-р-рун!» — и мы ехали дальше. Однако, когда я хотел выйти на своей остановке, мне не дали, понимая, что без меня поезд не тронется. Я был вынужден командовать отправление до конечной станции. На конечной станции я в последний раз крикнул «Абфар-р-рун!» и, оставив машиниста в полном недоумении, выскочил из метро и сел на такси. Эта шутка-месть стоила мне 250 марок и опоздание. Но я никогда об этом не сожалел.
Находясь с концертами на Камчатке, я прочитал афишу о предстоящих гастролях Латвийского эстрадного оркестра. Кассы предварительной продажи были открыты уже десять дней, но ни одного билета не было продано. Я поинтересовался у директора филармонии Маграчева, как он намеревается выйти из положения.
— Читайте завтра в местной газете мою рецензию. Ручаюсь, завтра же все билеты будут проданы.
На следующий день я покупаю газету и читаю:
«К нам едет на гастроли Латвийский эстрадный оркестр. К сожалению, то, что я увидел, не доставило мне удовольствия. Я ожидал встречи с народными песнями, ожидал услышать латвийскую национальную музыку. Что же я увидел и услышал? Сплошь так называемые „шлягеры“ американских, французских и прочих западных композиторов, обнажённые до неприличия солистки виляют бёдрами, подражая худшим образцам буржуазного, с позволения сказать, искусства. Такое впечатление, что сидишь не на концерте, а попал на сеанс стриптиза в какое-то французское кафешантан. Где же подлинно национальное искусство? Разве этого ждут от них труженики Камчатки?! Директор камчатской филармонии Маграчев».
Очередь в кассы выстроилась, как в Мавзолей. Билеты на все концерты были распроданы мгновенно. Из любопытства я тоже пошёл посмотреть латвийцев. Это был кошмар. Одни народные песни и музыка, унылые певицы в семи юбках до полу… Смеясь, я спросил Маграчева, не будет ли у него неприятностей за обман.
— Почему? — искренне удивился тот. — Они прислушались и перестроились.
После ночной репетиции в Лужниках, где ставилось ёлочное представление, милиционер из уважения к режиссёру спектакля Лехциеву предложил подвести его на мотоцикле с коляской. Навстречу ехала милицейская машина с капитаном милиции. Милиционер обратился к режиссёру:
— Товарищ Лехциев, я не имею права возить посторонних людей. Пожалуйста, притворитесь пьяным, иначе у меня будут неприятности.
Лехциев был всеми уважаемым человеком, в рот не брал спиртного. Но чтобы не подводить милиционера, подчинился.
Капитан вышел из машины и спросил:
— Кто в коляске и куда везёшь?
— Пьяного везу в вытрезвитель. Капитан подошёл к коляске.
— Половина шестого утра, где же ты, свинья, нажрался?
— и ударил его кулаком по лицу. — Ну, да свинья грязи найдёт.
— И снова врезал ему в глаз. — А ведь с виду приличный человек, — и новый удар. Милиционер:
— Товарищ капитан, не надо его бить. Я же его везу в вытрезвитель.
— Тебе что, жалко эту сволочь? Ты думаешь, он вспомнит, что с ним произошло? Я бы их всех, подонков, пьяниц вонючих, бил. — И начал бить его по лицу и по голове, понося последними словами.
На следующий день Лехциев пришёл на репетицию разукрашенным, с огромными фингалами под глазами и рассказал нам, что произошло. Когда после репетиции мы шли пешком к метро, другой милиционер в знак большого уважения к режиссёру предложил ему свой мотоцикл…
Как-то я выступал в городе Норильске, где 55 градусов ниже нуля с сильным ветром не считается плохой погодой. В большом красивом зале был аншлаг. Отвечая на вопросы, я заметил сильно выпившего человека, пытавшегося задать мне вопрос, но жена каждый раз силой усаживала его на место. Он сидел примерно ряду в тридцатом. Я обратился к нему сам:
— Вы, кажется, хотите задать мне вопрос? Пожалуйста я вас слушаю. Он встал и громко на весь зал сказал:
— Я хотел у вас спросить, какого хуя вы сюда приехали?
— С творческими вечерами. — ответил я ему.
— Большое вам спасибо, — ответил пьяный человек и удовлетворённый моим ответом, сел обратно в кресло.
На «Мосфильме» уборщица жаловалась мне:
— Убрала я им павильон и никак не могу получить деньги. Всё время говорят, что сегодня денег нет, потерпи до завтра. Завтра тоже не дают и говорят, потерпи. Всё время говорят, потерпи, потерпи. Это не «Мосфильм», а какой-то дом терпимости.
В Москве на Самотёчной площади в общественном туалете я встретил уборщицу тётю Пашу, которая прежде работала около гостиницы «Метрополь».
— Тётя Паша, а почему вы не работаете в туалете в центре, около гостиницы «Метрополь»?
— Интриги, сыночек, интриги.
В Москонцерте одно время было туго с деньгами, и артисты помногу месяцев были без зарплаты. Каждый день стояли большие очереди в кассу в надежде, что вдруг появятся деньги. Кассир Алексей Алексеевич появлялся и произносил всегда одну и ту же фразу:
— И не заикайтесь, денег нет. Эта фраза больше всего возмущала заик. Когда артисты эстрады, возмущаясь всем, доходили до
кондиции, я громко произносил:
— Товарищи, не волнуйтесь, снимите деньги со своих книжек. Не все улыбались.
Глава III
«Я ШУЧУ, Я НЕ МОГУ ИНАЧЕ»
Мы смеёмся, чтоб не сойти с ума.
Чарли Чаплин
Команда: «Тишина в студии! Мотор!»
Звукооператор: «Есть мотор!»
Режиссёр: «Восточный танец с песней. Дубль один. Начали».
И я исполнил шуточный номер в кинофильме «Неисправимый лгун».
По окончании съёмки режиссёр Азаров меня похвалил, сказав, что все три снятых дубля хорошие. Но я был собою недоволен. Технически я сделал все нормально, но не хватало озорства.
Я в тот вечер был не готов. Как я ни боролся со своим состоянием, ничего не получалось. У меня в кармане лежала повестка:
«Гражданин Сичкин, Вам необходимо явиться 12 декабря 1973 года в Тамбовскую областную прокуратуру к старшему следователю Терещенко для дачи показаний».
11 декабря 1973 года после съёмки я уехал в Тамбов. Съёмки моих следующих эпизодов назначили на 13 декабря в расчёте, что 12-го меня допросят и в тот же день вечерним поездом я вернусь.
В 9 часов утра я вошёл в тамбовскую прокуратуру, где меня уже ждал следователь Терещенко. Я был спокоен, совесть моя чиста. Ничего со мной не могло случиться. А те времена, когда уничтожали сотни тысяч невинных людей, давно прошли. Так я думал. И был в этом уверен.
Но почему же тогда у меня так гадко на душе, что это даже мешало мне на съёмочной площадке? По своей натуре я не из боязливых. Единственное, что вызывает у меня чувство омерзения и боязни, — крысы. Я знаю, что крыса меня боится, знаю, что если я её ударю, ей будет очень больно. Тем не менее, при виде её меня бросает в дрожь, все тело покрывается мурашками.
Если представить себе огромную, рыжую, плешивую, с острыми зубками, с тупыми садистскими глазками крысу, это будет портрет старшего следователя по особо важным де лам Терещенко Ивана Игнатьевича. Во всяком случае, такое чувство он у меня вызывал и до сих пор вызывает. Я не спорю, это чувство субъективное.
Все вопросы Терещенко не имели никакого отношения к делу. Был ли я на фронте, сколько у меня правительственных наград и какая у меня семья? Он прекрасно знал, что я был четыре года на фронте, имею восемь правительственных наград, жену и сына.
Он ушёл, оставив меня в кабинете с одной старушкой. Впоследствии оказалось, что она Беренс, ревизор Министерства культуры РСФСР и профессиональная сволочь, посвятившая свою жизнь делу уничтожения работников культуры. Она мне сказала:
— Я ведь спектакли и фильмы не смотрю как художественную ценность. Я выискиваю финансовые злоупотребления, чтобы потом передать дело в суд. Я много посадила художников.
Минут через двадцать в кабинет вошёл прокурор с игривой фамилией Солопов. Он вежливо со мной поздоровался и вышел. Зашёл ещё один человек, странно и с любопытством на меня посмотрел и тоже удалился. Позднее я узнал, что это был работник тамбовской областной газеты Веденкин. Его пытались заставить написать в газету фельетон о нашем деле, чтобы помочь следствию. Когда он отказался лгать, его сына посадили в тюрьму по сфабрикован ному обвинению в изнасиловании. Позже обвинение было снято: женщина, которая по просьбе прокурора оговорила парня, призналась во лжи.
Затем следователь Шичанин — тихий, спокойный дегенерат — попросил меня написать автобиографию. Казалось, тамбовская областная прокуратура собирается ходатайствовать перед Министерством культуры СССР о присвоении мне почётного звания. Заместитель тамбовской областной прокуратуры Мусатов задушевно говорил со мною о кинематографе.
Выяснилось, что он и вся его семья являются моими поклонниками. Появился Терещенко, посмотрел на часы — было ровно двенадцать часов — и сказал, что я свободен до четырёх часов дня. Потом я понадоблюсь ещё максимум на часок и могу уезжать в Москву на съёмку. Насчёт билета могу не волноваться — он уже заказан.
Я вышел из прокуратуры и пошёл в филармонию. Администратор Житенкова спросила, не думаю ли я, что меня могут посадить? Я не понял, как могла зародиться такая мысль.
Я ушёл бродить по городу и убивать время. Есть не хотелось, а пить нельзя. Настроение было жуткое, город мне показался грязным, серым, уродливым и неуютным. Я невольно вспомнил мои первые гастроли в 1969 году, когда я приехал в Тамбов. На вокзале меня встречали жители города.
Цветы, подарки, приставленные ко мне телохранители, банкеты, тысячи автографов… Конечно, красота города за висит не только от памятников архитектуры, но и от людей. Если тебя в Париже ограбят и поизмываются над тобой, Париж покажется тебе омерзительным.
В четыре часа Терещенко предложил, повидать Смольного. И, не дожидаясь ответа, продолжал:
— Сейчас я вам устрою с ним очную ставку. Меня привезли в КПЗ (камеру предварительного заключения). Терещенко передал начальнику
КПЗ какую-то бумагу, а мне сказал спокойным голосом, что я арестован. За что меня сажают в тюрьму?! Мне никто и никогда не предъявлял никакого обвинения. Я по делу шёл как свидетель. Кто мог дать санкцию на мой арест?! Я хорошо знал, что это «дело», не без моей помощи, контролируется прокуратурами СССР и РСФСР. За ним следят в ЦК партии. Я был в шоковом состоянии и не мог вымолвить ни слова.
Майор, начальник КПЗ громко скомандовал мне раздеться догола. Я автоматически разделся. Глядя на меня, майор спросил, нет ли на мне татуировок? Он же видел, что моё тело не испорчено никакими татуировками. И я ответил:
— Вопрос очень сложный, и если можно, я на него отвечу завтра в письменной форме. Майор:
— Есть у тебя особые приметы?
— Есть! — ответил я.
— Какие?
— Обаяние. Майор:
— Это не то, что нам нужно. Всю мою одежду прощупали, потом отдали мне, велев одеться. Солдат дал майору мою зубную щётку, зубную пасту и расчёску, найденные у меня во время обыска. Майор бросил все это в мусорный ящик со словами:
— Это ему больше не понадобится… И мне:
— Ну, что, попался, гусь? Все, артист, оттанцевался! Реплика вызвала смешок у солдата и у Терещенко. Было ясно, что этот тупой подонок изощрялся в хамстве, чтобы доставить удовольствие своему другу Терещенко. Начальник КПЗ не унимался:
— Как ты там в кино пел: «…я не плачу, я никогда не плачу…»? Это ты, артист, там, в кино, не плакал, а тут в тюрьме заплачешь…
Окончание монолога начальника КПЗ шло под хохот всех присутствующих.
Меня втолкнули в так называемую «камеру». Это была не камера, а ящик — метр в длину и полметра в ширину. Этот гроб не отапливался и не имел света. Лежать в этом гробу нельзя было по причине малых размеров. Но, как выяснилось, и сидеть в нём тоже нельзя было, так как «нары» были обиты железными полосками. Большее время дня и ночи приходилось стоять, упираясь ногами в парашу. Полное впечатление, что тебя замуровали. Если учесть, что я страдаю клаустрофобией — боязнью закрытого пространства, можно представить, что я чувствовал себя намного хуже, чем дома.
В КПЗ по советским законам заключённого могут держать не больше семи суток. Но кто там обращает внимание на закон. Прокуратура при желании, а желание у неё всегда есть, может тебя продержать хоть два месяца. В КПЗ, так называемую, горячую пищу (тёплые помои) дают один раз в сутки. Чем дольше сидит подследственный в камере предварительного заключения, тем больше он теряет физических сил, тем быстрее его можно морально сломить.
Как я уже говорил, в моей камере света не было. Когда часовой открывал мою дверь, он перекрывал свет в коридоре и меня не видел. Я всегда стоял вплотную к дверям и из камеры не выходил, а выпадал прямо на часового, и оба мы оказывались на полу. Я, как юморист, естественно, сверху. Каждый день часовые менялись. Они хорошо знали мою камеру, но забывали, кто в ней сидит, вернее, стоит. Каждый день я проделывал эту процедуру.
Или часовым надоело валяться подо мной, или по другой причине, но меня перевели в Тамбовскую тюрьму. Поместили в огромную камеру без окон, не дав даже матраса. О сне и речи быть не могло. Но по сравнению с КПЗ эта одиночная огромная камера показалась мне курортом. Только вот в зимний сезон от дикого холода приходилось спасаться цыганским танцем. В дальнейшем это натолкнуло меня на мысль, и я сделал пародийный номер «Возникновение танцев». В этом номере я доказываю, что цыганская пляска возникла из-за холода.
Я не сомневался, что меня вот-вот отпустят на волю. Ночью меня взяли из камеры и повели. «Все, — подумал я, — сейчас отпустят».
Привели снимать отпечатки пальцев. Отвели назад в камеру. Я опять пошёл плясать цыганочку, спасаясь от холода. Часа через полтора меня опять увели из камеры. «Ну, — думаю, — сейчас точно отпустят, куда меня ночью ещё могут тащить?»
Привели меня к фотографу. Опять разочарование. Я понимал, что эти ублюдки не хотели давать мне спать — своего рода мелкая пытка. Однако эти тупоголовые не понимали, что в такой камере, куда они меня поместили, спать невозможно. Фотографировали меня долго. В профиль, ан фас. Я представил себе, что я на «Мосфильме» в фотоателье (когда пробуют артиста на роль, он должен пройти фото — и кинопробу). На фотопробе артист должен выразить характер в зависимости от роли. Я начал фантазировать, будто я на фотопробе. В профиль играл Отелло, анфас изображал богатого и счастливого человека. И так как меня снимали долго, то я изобразил на фото всю гамму человеческих чувств. Я видел фото — счастья не получилось.
Опять камера, опять цыганская пляска, и опять меня куда-то тащат. Завели в кабинет к майору Лерману. Ну, приободрился я. Всё в порядке. Лерман — майор, еврей, этот точно отпустит меня сейчас на свободу. Иначе чего бы меня вызывать в пять утра? Настроение у меня стало получше.
Майор Лерман, действительно, по национальности еврей, начал нудно загробным голосом:
— Гражданин Сичкин, вас привлекают к уголовной ответственности по статье девяносто три «прим» — хищение в особо крупных размерах. Эта статья предусматривает уголовное наказание от восьми лет до расстрела. Но, учитывая ваше чистосердечное раскаяние и признание своей виновности, суд может облегчить наказание и дать ниже низшего, то есть шесть лет тюрьмы.
— Почему я должен признавать свою вину, если я невиновен?
— Все говорят, что они не виновны, — ответил майор.
— Я скоро выйду, а те, кто меня посадил, будут наказаны.
— Я уже двадцать пять лет, работаю в тюрьме, — ответил майор, — и отсюда ещё никто не вышел. Сюда ворота широкие, а отсюда узкие.
Эту крылатую фразу я потом слышал много раз от тюремного персонала. Посмотрел я на этого майора Лермана, подумал, не выдержал и сказал:
— Когда Моисея спросили, зачем он, когда выводил евреев из Египта, шёл с ними через пустыню, Моисей ответил: «Мне с этими евреями было стыдно ходить по центральным улицам…»
Я опять пошёл в свою камеру. Утром меня отвели в другую. В ней один сидел на кровати, а двое, ритмично и синхронно поворачиваясь, ходили по камере больше часа, не реагируя на моё появление. Глаза их ничего не выражали. Я подумал, что они сумасшедшие.
Потом я сам неоднократно повторял эту ходьбу по камере, чтобы на какое-то время притупить невыносимую боль. Все подследственные без конца ходят по камере взад и вперёд. Есть даже такая шутка:
— Когда вы ходите и думаете, что не сидите, вы глубоко ошибаетесь. По окончании ходьбы эти двое со мною мило поздоровались, начались расспросы. Они были ворами-рецидивистами, просидевшими в лагерях и тюрьмах по девятнадцать лет, несмотря на их молодость. Третий был не понятен для меня. Шустрый, румяный, откормленный блондин без грусти в глазах.
Камера была светлой, тёплой и уютной. Кровати — с матрасами, с белоснежными наволочками на подушках. Прекрасно!
На следующее утро, часовой вызвал всех на прогулку. Обычно в тюрьмах с нетерпением ждут прогулки. Но рецидивисты отказались. Пошли румяный блондин и я.
Я очень обрадовался возможности увидеть небо над головой и подышать свежим воздухом. Каково же было моё удивление, когда нас завели в клетку, по размерам годную для одного тигра. Клетка была с высокими каменными стенами, а наверху — сплошная густая решётка, небо смотре лось в клеточку. Часовой с автоматом украшал пейзаж.
Румяный блондин сообщил, за что он попал в тюрьму, и сказал, что днями выйдет на свободу. Так что у меня есть возможность передать письмо на волю. Шмона бояться нечего, часовые его друзья.
Я согласился, но попросил ещё связаться с сотрудником прокуратуры СССР Гусевым и объяснить ему, что невиновен. С каждой минутой мой сосед делался все грустней и печальней.
Потом и совсем остыл ко мне. Нетрудно было дога даться, что он работает в тюрьме наседкой. Такие, как он, выпытывают у подследственных все нюансы дела и докладывают начальству, тем самым облегчая работу следователя. Новичок, который первый раз попал в тюрьму, охотно рассказывает о своём преступлении в расчёте, что опытные люди помогут советом. Наседкам за их работу уменьшают срок наказания, примерно день за два. Однако, если в камере их разоблачат, то это может оказаться их последним днём.
Мне и в самом деле нечего было рассказывать. Но даже мне, неопытному человеку, разоблачить этого подонка с румяной мордой ничего не стоило.
Нас всех четверых повели в баню. Когда мы разделись догола, то обнаружилось, что у одного рецидивиста было нормальное количество татуировок — штук сто, а у другого — ни одного свободного места на теле. Он напоминал передвижную художественную галерею. Живопись была эклектичной. Наряду с Лениным и Сталиным, которые расположились у него на груди, были выколоты голая русалка, какие-то якоря, корабли, розы, проткнутые финкой, надписи типа «Бог — не фраер», тёплые слова в адрес матери. На одной ягодице вытатуирована голая женщина, на другой голый мужчина. Когда он двигался, они занимались любовью.
Мне было не до мытья. Я старался охватить все, но глаза разбегались по всем полотнам и путалось в голове. Даже часовые, которых ничем уже нельзя удивить, были поражены.
Недолго моё «счастье» длилось. Как только наседка сообщил начальству, что я ничего не говорю и ничего не пишу, меня тут же перевели в другую камеру. Она была маленькой — метров тринадцать. Но сидело там шестнадцать человек. Не только дышать, но и продохнуть было не возможно.
Небольшое окно с решётками, за решёткой — жалюзи — железный козырёк. Сделано это, надо думать, для того, что бы человек не увидел, что творится за решёткой, и чтобы кислород не попал в камеру. Все поголовно курят махорку, не выпуская закрутку изо рта. Почти у всех в камере были сапоги с портянками. Если учесть, что в камере же находится туалет, и всегда на нём кто-то сидит орлом, то не дай Бог столкнуться с этим запахом.
Камера была очень сырой, тёмной и в ней было много мух. Я никак не мог понять, как мухи могут жить в таких условиях?!
Целыми днями я курил и ничего не ел. Настроение было непередаваемое. Жил только надеждой на друзей, которые, узнав, что меня посадили и будучи уверены в моей невиновности, начнут бить во все колокола, после чего меня, естественно, освободят. «Друзья влиятельные, знают подробности дела, и вопрос моего освобождения, — думал я, — решится в считанные дни».
Наконец открылась кормушка, и часовой вызвал меня. Ожидал, что он напомнит мне захватить вещи. Но мне вручили передачу. Когда я обнаружил в ней тёплые зимние вещи, мне стало не по себе.
У меня началась истерика. Я не мог взять себя в руки. Кошмар меня не покидал и ещё больше усиливался. Не в состоянии с собой совладать, я посмотрел на железную дверь своей камеры, приготовился разбежаться и размозжить себе голову о дверь.
Но один из сидящих со мной, прочтя мои мысли, преградил дорогу… Это привело меня немного в чувство.
Как я был себе потом противен. Как я мог нафантазировать себе, что меня выпустят, раз посадили. Кто будет за тебя бороться и доказывать твою невиновность, когда каждый боится самого себя. Ты можешь начать хлопотать за своего друга, а они возьмут и посадят тебя самого. Как я мог забыть свою игривую, с юмором страну…
Чтобы не лишиться разума и сохранить своё человеческое достоинство, надо обязательно работать над собой. Что может человека спасти в таких условиях? Только юмор — ничего лучшего я не знаю. Я с утра до ночи вспоминал свою жизнь, весёлых людей и всё, что связано у меня в жизни с юмором.
Уже знакомый вам старший следователь Иван Терещенко испробовал все дозволенные и недозволенные методы по отношению ко мне. Немного был растерян, что я не потерял самообладания. Он, зная мою любовь к сыну, придумал мне страшную казнь. Распустил слух, что моя жена умерла, а сын находится в критическом состоянии. На прогулке один подосланный подлец сообщил мне эту страшную новость. Мой кошмар длился три дня, пока Эдуард Смольный не передал мне, что всё в порядке, что это выдумка Терещенко. Смольному можно было верить, он знал всё, что делается на воле.
На пятый день после этой пытки Терещенко вызвал меня на допрос, вернее, не на допрос, а просто увидеть, как я после этого выгляжу. Идя на допрос, я думал, что не сумею сдержаться и ударю его. Я весь дрожал, но в кабинете словно переродился. С улыбкой поздоровался и сел. Это был лучший вариант. Эта мразь ждала от меня чего угодно, но только не улыбки и покоя. Терещенко преобразился, начал на глазах чернеть от ненависти.
Моя улыбка, беспечность его убивали. В душе я его жарил на сковородке, а внешне играл делового, уравновешенного заключённого.
Терещенко выложил, что по статье 93 — «прим» суд даст мне десять лет усиленного режима.
— Большое спасибо, Иван Игнатьевич, мягкий приговор. Но помните, что сказала Надежда Константиновна Крупская на Втором съезде партии, который покинули бундовцы, тем самым помешав работе съезда?
— Что она сказала?
— Надежда Константиновна сказала: «Пошёл бы ты на хуй».
Терещенко заскрежетал зубами, побагровел и мёд ленно, растягивая слова, ответил:
— Вы очень пожалеете. Вы будете сильно наказаны.
— Нет, Иван Игнатьевич, — бодрым голосом сказал я, — вам никогда не удастся поднять архивы Второго съезда партии, на котором Надежда Константиновна сказала: «Пошёл бы ты на хуй».
Я не знаю, куда после нашего разговора отправился он, а я пошёл в карцер.
Радио в камерах трещит весь день. Это дополнительная пытка. С шести утра до девяти тридцати вечера ты вынужден слушать вести с полей, идиотские патриотические песни, интервью со знатными доярками и т.д. К счастью, передавали и классическую музыку (Чайковского, Рахманинова, Шопена, Бетховена…) С этой музыкой у меня ассоциировался сын Емельян, пианист и композитор. Под эту музыку я думал о Емельяне, тосковал. Очень хотелось его увидеть. Но как это сделать? Не мог же я обратиться к Терещенко с просьбой:
— Иван Игнатьевич, пожалуйста, я очень соскучился по своему сыну. Сделайте мне встречу с ним, а я вам буду очень благодарен.
И вот я напрягал свой уставший мозг. Я вспомнил, что Терещенко рассказывал о том, что дирекция «Мосфильма» обратилась в прокуратуру с ходатайством отпустить меня на время и дать возможность закончить съёмки фильма «Неисправимый лгун».
Прокуратура ответила, что Сичкин похитил у государства тридцать тысяч рублей, что он, то есть я, особо опасный преступник. Однако, если «Мосфильм» внесёт эти деньги, я могу оказаться на свободе. «Мосфильм», естественно, денег не внёс, и я оставался в камере. Тамбовская прокуратура понимала, что никакого криминала в моих действиях нет, что на сфабрикованное дело затрачены сотни тысяч государственных денег, и что надо правдами и не правдами хотя бы частично вернуть их. Кроме того, если подследственный возвращает деньги, то он как бы признает свою вину, что для Терещенко было очень важно. Он умудрился запугать режиссёра, тот внёс в кассу тамбовской прокуратуры честно заработанные две тысячи восемьсот рублей.
У меня созрел план. Я обратился к Терещенко:
— Иван Игнатьевич, я хочу попросить друзей, чтобы они внесли за меня тридцать тысяч рублей. Я думаю, что прокуратура может мне изменить меру пресечения и до суда освободить из тюрьмы.
Как сказал бы одессит, надо было видеть его лицо. Это был сияющий унитаз. Я продолжал монолог:
— Для этого мне нужно срочно встретиться с моим сыном Емельяном и моим товарищем Кеосаяном. Я скажу, у кого они могут взять деньги.
— Очень скоро встретитесь, — ответил он. Первого апреля 1974 года я встретился с моим Емельяном И Кеосаяном. В комнате мы сидели вместе с Терещенко, он не спускал глаз с меня. Я им повторил все то же самое. Сказал, у кого надо взять: 5 тысяч у Миши Царёва — это народный артист из Малого театра, я с ним даже не знаком; 5 тысяч у Эдди Рознера (он уже лет семь как уехал из Советского Союза); 10 тысяч взять у Леонида Утесова (если бы у Утесова и были деньги, он бы их не дал, а тем более у него их не было) и 10 тысяч — у писателя Анатолия Софронова (помимо того, что я не был с ним знаком, этот антисемит готов был лично сам всех вырезать).
Терещенко был доволен составом тех, кто должен был внести за меня деньги. Я расцеловался с Емелюшкой и Эдиком Кеосаяном. Они ушли. Когда они уходили, от меня как будто уходила жизнь.
После встречи я заволновался, а вдруг они меня не правильно поняли и внесут за меня эти деньги? Тем более, что мне было известно о том, что Ян Френкель и Людмила Гурченко были готовы внести деньги. В камере лезут всегда самые мрачные мысли. А вдруг они всё-таки внесут деньги?
При первой же встрече я обратился к Терещенко:
— Иван Игнатьевич, непонятно, почему мои друзья не вносят за меня деньги? Пожалуйста, сделайте мне срочно встречу с Емельяном.
Терещенко, как и многие обыватели, не сомневался, что самые богатые люди — артисты. Хорошо живут в Советском Союзе только те популярные артисты, которые работают на эстраде, таких, кто хорошо зарабатывает, сто пятьдесят — двести человек, а остальные влачат жалкое существование.
Встреча с Емельяном была организована мгновенно, на следующий день. Терещенко присутствовал, следил за мной и за Емельяном.
— Емелюшка, надо срочно внести деньги. Ты меня понял? Я сложил фигу и показываю. Емельян:
— Папа, не волнуйся, — сложил фигу и показал. — Они будут точно внесены. Терещенко смотрит нам в глаза и не видит наших фиг, а мы вдвоём изощряемся в красноречии, хотя в этом диалоге главную роль играют фиги.
Все были довольны: Терещенко, Емельян, а самое главное я. Я ушёл в камеру умиротворённым.
Сидя в тюрьме, я считал не только дни, но и часы до суда. Никто из нас понятия не имел, когда кончится следствие, и начнётся суд.
Следователь Терещенко не торопился с закрытием дела и передачей его в суд. Он, как нормальный садист, получал удовольствие от нашего тюремного кошмара.
Этот любитель острых ощущений был тупым. Я решил его огорчить. Я попросился на допрос и сказал ему:
— Иван Игнатьевич, я чувствую, что дело идёт к концу. В тюрьме начал писать киносценарий, работать в тюрьме — одно удовольствие, лучше условий не придумаешь. Не надо думать о еде, плюс медицинское обслуживание и ежедневные прогулки, таких условий у меня дома не будет. У меня просьба. Если возможно тяните следствие как можно дольше. Дело в том, что суд меня оправдает, а домашние условия мне будут мешать.
Терещенко от злости начал заикаться. Он мне сказал, что после суда я пойду не домой, а в лагерь строго режима на десять лет.
— Кстати, Иван Игнатьевич, если у вас будет время и желание, — предложил я под конец, — я с удовольствием прочту киносценарий. Это будет комедия. Ребятам в камере нравится, и они дружно смеются. Терещенко принял без энтузиазма эту сенсационную новость.
Эдуард Смольный был администратором Тамбовской филармонии и художественным руководителем ансамбля «Молодость» при этой же филармонии. Он был одним из лучших администраторов в Союзе. С ним работали все ведущие артисты страны. Тамбовская прокуратура, не сомневаясь, что он миллионер, предложила, чтобы он вручил им пять тысяч рублей, чтобы они смогли дотянуть до зарплаты.
Смольный не считал себя миллионером и не чувствовал за собой никакой вины. Он отказал им в этой помощи и совершил тем самым роковую ошибку для себя и для всех остальных. Если следственные органы просят деньги, продай последнюю рубаху, но помоги им деньгами. После отказа Смольного вручить органам прокуратуры взятку, они тут же сфабриковали уголовное дело против Смольного. А так как мы, артисты, с ним работали, то потянули заодно и нас.
Смольный в своей камере знал всё, что делается в тюрьме. Он даже наладил связь с волей. На прогулке запрещено переговариваться. Нарушителей отводят в карцер. Но это не касалось Смольного Он на прогулке постоянно кому-то что-то сообщал.
— Серёжа из девятой камеры, меняй показания. Скажи, что у тебя в руке был не нож, а расчёска, понял?
Наверху стоит часовой с автоматом, все слышит, но не смеет сделать замечание. Смольный продолжает:
— Захаров из тридцатой камеры, твоего отца исключили из партии. Он подал жалобу, мотивируя тем, что на закрытом партсобрании не было кворума… Колька из двадцать шестой, к тебе едет адвокат из Москвы Владимир Семёнович — очень толковый чувак… Передайте Сичкину, что Магомаева дисквалифицировали на год, приказ подписала Фурцева. Олег Ефремов запил. Кобзон получил звание… Колька из десятой камеры, отрицай свою виновность, не видел ты никакого чемодана, понял? Ты можешь, как малолетка, часто менять свои показания.
И так каждый раз на прогулке Смольный меня веселил своими знаниями. А бывало, если дальняя прогулочная камера не слышала голоса Смольного, он просил автоматчика передать туда указания. И тот чётко выполнял задание.
В тюрьме самый неопытный подследственный, посидев месяц с опытными людьми, начинает разбираться в уголовных делах. На воле ты нигде и никогда не достанешь уголовного кодекса, а в тюрьме тебе по первой просьбе вы дают его. И заключённые впервые узнают свои права и обязанности, что очень не выгодно следователю. Следователь тебе ничего не говорит о твоих правах. Ему важно тебя за пугать и посадить на длительный срок.
Во время очной ставки с директором филармонии тот оставил мне двадцать рублей. В тюрьме заключённый не имеет права держать деньги в камере. Обслуживающий персонал тюрьмы состоит из заключённых, которые разносят чай. Я попросил одного из них купить мне сигареты. Он тут же доложил администрации тюрьмы. И деньги у меня изъяли.
Один из заключённых, работая разносчиком еды, сказал, что Смольный просил меня передать ему записку. Я ответил:
— Передай Смольному, пусть он мне напишет записку. Наконец я получил от Смольного записку, в которой не было ни слова о нашем деле, зато восторженно говорилось о советской власти. Вероятно Смольный тоже ему не доверял и не хотел оставлять улики против себя следователю. Я в записке ответил ему в таком же залихватском духе. Долго хвалил Феликса Дзержинского, был без ума от нашего фантаста Владимира Ильича Ленина. И ни слова о нашем деле. Смольный вёл выжидательную политику и надеялся, что меня в конце концов прорвёт. А я ждал успехов в этом деле от Смольного. Я опять получил записку, в которой он восхвалял наше правосудие, наше общество — самое справедливое в мире, и опять ни слова о деле. Эта переписка двух «политкаторжан» мне надоела, и я ответил на четырёх страницах. Я хвалил Плеханова за то, что он перевёл Маркса на русский язык (лучше бы Плеханов не знал этого языка), с благоговением вспомнил Розу Люксембург и Клару Цеткин, ополчился на Америку из-за Сакко и Ванцетти, очень рад был, что у нас одна партия и нет интриг, как на Западе, отметил, что в Советском Союзе думают о человеке. Закончил своё послание ему такими словами: «Я счастлив, что мне повезло, и я сижу в тамбовской тюрьме, которую построила Екатерина Вторая, эта тюрьма — настоящее произведение искусства».
Когда Смольный узнал, что меня посадили, он был взбешён. Отсидев год и две недели, он пал духом. Состояние его было критическим. Он собирался покончить с собой. Он попросил тюремную администрацию, чтобы нам дали возможность повидаться. Все они Смольного любили и не много побаивались. Несмотря на то, что устав категорически запрещает встречи двух подследственных, проходящих по одному делу, меня вызвали к врачу. А там уже находился Смольный — страшный и обречённый. У меня состояние то же было не из лучших, но я ему объяснил, что только на открытом суде, имея возможность говорить и логично мыслить, мы сможем уничтожить этих подонков.
Смольный до тюрьмы не имел времени читать книги, зато он знал всех директоров филармоний страны по фамилиям, именам и отчествам, где они родились и когда, кто из них сидел, по какой статье…
В тюрьме была шикарная библиотека. Эдуард начал читать книги запоем. У него была феноменальная память, он помнил все афоризмы и изречения великих людей.
Эдик сидел с подростками и обучал их, как вести себя на суде, нацеливал их на агрессивную позицию — такое у него самого было настроение.
И вот появляется малолетка на суде, рост два метра, три класса образования, и вдруг вставляет в свою речь:
— Как сказал французский философ Вольтер, «все жанры хороши, кроме скучного». Судья никогда не слышал про Вольтера и никак не может понять, откуда такие слова у этого примитива. Судья:
— Вы с кем сидите? Кто у вас бригадир?
— Смольный, — отвечает подросток. В следующий раз выходит на суд другой подопечный Смольного и цитирует Карла Маркса и Владимира Ленина. Судья спрашивает:
— Вы с кем сидите?
— Со Смольным я сижу, — с достоинством отвечает начинающий убийца. Обученные Смольным подростки в суде приводили цитаты древнегреческих философов, от
Плиния-старшего до Сократа, ссылались на Жан Жака Руссо…
Короче говоря, судья, который часто был один и тот же и понимал, что их этому обучает Смольный, рассердился и подсудимому из камеры Смольного, который начал вспоминать произведение Чернышевского «Что делать?» и связывать его со своим делом, сказал:
— Передайте Смольному, что он получит десять лет. Малолетка руками сделал международный жест и сказал:
— Вот тебе. Четыре года максимум.
В тюрьме Смольный не переставал удивлять меня. Я считал его городским сумасшедшим. И все из-за его бешеной любви к советской власти, той самой, которая ни за что ни про что засадила его за решётку. Эта любовь была сумасшедшей до неистовства.
Смольный, будучи беспартийным, с пеной у рта восхвалял власть. Казалось, Смольный убьёт каждого, кто выступит против построения коммунизма в одной, отдельно взятой стране. Когда Смольный произносил имя Ленина, я представлял его стоящим на коленях в мавзолее.
В тюрьме Смольный убедил начальника, что осуждённые, идущие на этап, должны встретиться на лекции с ним и с популярным артистом Сичкиным.
Начальник на идею Смольного клюнул.
Нас повели в конференц-зал для выступления. Все сидели хмурые, бритоголовые. Я начал рассказывать им смешные эпизоды со съёмочных площадок, весёлые рассказы из фронтовой жизни. Закончил тем, что меня от смерти спасал только юмор и оптимизм.
После меня слово взял Смольный. В то время как раз умер Василий Шукшин. Смольный никогда не был с ним знаком и ничего из написанного им не читал. Он начал:
— Ребята! Меня и Бориса постигло большое горе, умер наш Вася. Просил всех уголовников стать и почтить его память минутой молчания. Они стояли, а Смольный рыдал. Стояли долго, минуты три. Уголовники не сомневались, что этот Вася, по которому рыдал Смольный, наверное, какой-нибудь вор в законе.
Смольный говорил (а говорил он всегда, как хороший оратор), что они не уголовники, а оступившиеся люди, что они займут ещё достойное место в нашем, обществе. Смольный говорил, что ни одна страна в мире не тратит столько денег на профилактику преступлений, как Советский Союз. Смольный говорил о Достоевском, о несчастной жизни композитора Моцарта, засадил несколько цитат Феликса Дзержинского и долго рассуждал о мужестве Пашки Корчагина.
Уголовники никак не могли понять, кто этот Смольный? Он сидит? Или он работник обкома партии?! В заключение Смольный выкрикнул:
— Человек — это звучит гордо. Вспомните слова Максима Горького и его «Буревестник». Лекция Смольного произвела впечатление на уголовников. Начальство было в восторге. Они наслаждались речью Смольного. У нас было пять таких лекций по три с половиной часа. Всё это время мы дышали нормальным воздухом. Уверен, что если бы Смольный попал в зону, то вскоре начальник лагеря ходил бы у него в подчинённых.
В тюрьме подъем. Резкий звонок, внезапный аккорд по радио, и на всю катушку звучит Гимн Советского Союза. Я никогда в жизни не слышал такого количества изощрённого мата в адрес гимна родины. Кто мог такое придумать? Про сыпаться насильно неприятно даже под музыку Чайковского. Лично я каждое утро получал удовольствие. Мат радовал ухо, звон кружек, летящих в репродуктор, возбуждал аппетит. Я с нетерпением ждал помои, которые приносили в во семь часов утра.
ДУМА О ЛЕНИНЕ
Ну, а после такого завтрака о чём может думать человек? Конечно, о партии и её создателе Ленине. Я даже сочинил «Думу о Ленине». Выйдя на свободу, я её записал по памяти.
У меня на этот счёт было много фантазий, скрасивших заключение. Самой удачной и дерзкой была мысль о том, что я, соратник Ильича, стану вместо какого-то партаппаратчика министром культуры СССР и сразу повышу актёрам жалованье. Теперь выяснилось, что фантазия не столь дерзкая. Стал же министром артист и режиссёр Николай Губенко…
…Нас, заключённых тамбовской тюрьмы, окрыляла тихая маленькая радость. Проходя мрачными коридорами на допросы, мы видели на стене транспарант «ЛЕНИН С НАМИ!». Не знаю, как другие, а я чувствовал себя соратником Ильича.
В тюремной библиотеке было полное собрание сочинений Ленина. Все остальные писатели были представлены фрагментарно.
— Я бы хотел что-нибудь почитать о Ленине в эмиграции… — попросил я однажды начальника библиотеки.
— Ленин никогда не был в эмиграции, — строго ответил начальник. — Он всегда жил в Мавзолее. Я не спорил. Просто записал этот разговор. Я изучал биографию Ильича по книгам и по настенным надписям в камерах.
Несомненно Ленин был великим человеком. Только великие люди могут делать такие колоссальные ошибки.
Владимир Ильич был замечательным лицедеем. Он так искусно гримировался, что его никто не мог узнать, даже собственная жена — Крупская. Ленин с поразительной силой и глубиной играл образы рабочих, плотников, пациентов зубного врача и т.д. Ленин умел скрываться так талантливо, что его никто не мог найти: ни враги, ни друзья. Из-за своей скрытности Ленин чуть не опоздал к началу Октябрьской революции.
Мне, как артисту кино, откровенно говоря, немного завидно, что у Ленина такой огромный кинорепертуар. Фильмы о вожде снимались во все времена года: «Ленин в октябре», «Ленин в ноябре», «6 июля», «Ленин в январе».
По количеству отснятых фильмов лидеры мировой политики занимают следующие места в первой десятке.
Десятое место: Александр Македонский — 4 фильма.
Девятое, восьмое и седьмое места делят: Черчилль, Чингисхан и Чапаев.
Шестое, пятое и четвёртое места делят: Спартак, Бог дан Хмельницкий и Брежнев.
Третье место: Джордж Вашингтон.
Второе: Ленин.
На первом месте (снимался больше всех вождей) Рональд Рейган.
В Ленинграде множество домов украшено мемориальными досками: «Здесь тогда-то выступал В. И. Ленин…» Домов этих так много, что казалось, в каждом втором доме Ильич выходил на подмостки. Применяя нашу актёрскую терминологию, можно сказать, что Ленин имел по пять концертов в день, администратором у него был Дзержинский, транспорт — броневик, выезд — с Финляндского вокзала.
Тюремный досуг позволил мне сделать некоторые под счёты. Вот они. Из камня, использованного на изготовление памятников вождю, можно было бы выстроить город на 150 тысяч жителей.
Из металла, что пошёл на ленинские бюсты, можно было бы сработать канализацию и водопровод для всего Узбекистана.
Подсчитано, что если все статуи Ильича собрать вместе и поставить друг на друга, то Ленин кепкой достанет до Луны.
Историки утверждают, что Ленин родился в рубашке. Это не верно. Ленин родился в кепке.
У всех нормальных людей первым словом в жизни было «мама». Ленин сказал «партия».
Кстати, о кепках. В городе Сумы перед плодоовощным комбинатом открывали памятник Ильичу. Два скульптора-алкоголика из Киева, занимавшихся исключительно установкой Лениных, пропустив все сроки, работали всю ночь. К утру всё было готово. В лучах восходящего солнца под белой простынёй величаво проглядывали родные очертания. К полудню на площадь согнали народ. Секретарь горкома сказал короткую тёплую речь и потянул простыню. И всем вокруг явился образ дорогого Ильича… Но что это? О ужас! У Ленина оказалось две кепки. Одна на голове, другая в руке… Пришлось снова прикрыть вождя простыней.
В городе Ялта на площади стоит огромный памятник В. И. Ленину. Тут же огромное количество голубей. Голубь, хотя из него сделали символ мира, птица крайне политически незрелая. Поэтому голуби, не зная в лицо, не будучи осведомлены о том, что он живее всех живых, не сомневались, что администрация города специально для них построила общественный туалет. Внизу у памятника голуби не столько ворковали, сколько дрались между собой и поедали продукты, которые им щедро давали отдыхающие и интуристы, после каждого приёма пищи голуби взлетали, садились на голову нашего фантаста и оправлялись. У них была конвейерная система: поели — поднялись, поели — поднялись…
В первое время после установки памятника голубям было неудобно сидеть на голове у Ленина и заниматься нужным делом — они соскальзывали с лысины. Но вскоре в результате их неустанного труда у Ленина появилось что-то вроде шевелюры, голова расширилась, наросла борода и Ленин превратился в Карла Маркса. С Марксом голубям стало жить намного легче. Но они не успокаивались.
Часто бывая в Ялте, я каждый раз поражался метаморфозам, происшедшим с Владимиром Ильичом за время моего отсутствия. После Маркса голуби превратили его голову в водолазный шлем. Прошло очень немного времени, и вдобавок к шлему Ленин был одет в лёгкий водолазный костюм, комплекцией, однако, напоминая водолаза-культуриста.
В мой последний приезд на основателе был скафандр космонавта.
Я написал письмо председателю ялтинского райисполкома: «Уважаемый товарищ (фамилии не помню)! Мне неприятно смотреть, как на площади, где стоит памятник В. И. Ленину, голуби на глазах у отдыхающих и иностранных туристов систематически обсирают Владимира Ильича. Необходимо срочно принять меры, иначе памятник превратится в склеп-мавзолей, придётся написать у двери: „Здесь, в середине этого помёта, стоит памятник основателю коммунистической партии Советского Союза Владимиру Ильичу Ленину“.» И так как я терпеть не могу писать анонимные письма, подписался: «Лазарь Каганович».
Маяковский застрелился при Сталине. При Ленине он бы не застрелился. Скорее всего он бы повесился.
Актёр МХАТа Борис Смирнов, в прошлом главный исполнитель роли Ленина в театре и на экране, в праздничные дни мотался по Москве с одной концертной площадки на другую, не разгримировываясь, чем вызывал немалое удивление милиционеров и таксистов. Рассказывают, что на одном из концертов конферансье, планируя программу, сказал Смирнову:
— Ленин пойдёт за Шуровым и Рыкуниным. На что Смирнов, выкинув вперёд руку и слегка картавя, выкрикнул:
— Ленин никогда не пойдёт за Шуровым и Рыкуниным!
Мало кто знал, что это такое — Всесоюзный семинар по повышению квалификации Лениных. А такой был! Я это видел собственными глазами. В большом зале на пятом этаже здания ВТО (Всероссийское театральное общество) в Москве на улице Горького собирались 150-200 провинциальных исполнителей роли Ильича. Кого тут только не было: удмурт и нанаец, эвенк и башкир. Любого возраста, любого роста (от лилипута до великана), и все, как один, — Ленины. Приехали учиться театральному ленинизму. На сцене — главный Ленин страны, артист Борис Смирнов. Он учит рядовых Лениных, как надо картавить.
Он говорит:
— Революция, о котогой… И двести провинциальных вождей повторяют:
— Революция, о котогой… Со стороны это очень походило на стаю ворон. Потом Смирнов учил, какие жесты надо применять на сцене. Он выкидывал руку вперёд… он закидывал руки под мышки… Это выглядело так, будто 200 Лениных собирались танцевать фрейлахс.
Название этого симпозиума я не придумал. Я его списал с командировочного удостоверения одного из провинциальных Лениных.
Централизованный надзор за «Ильичами» — это жизненная необходимость. Ведь актёры — народ ненадёжный. От них можно ожидать чего угодно. Так, в городе Николаеве артист местного драмтеатра Кушаков, изображавший Ленина на стадионном празднике, как говорится, выпил лишнего и с фанерного броневика произносил нецензурные лозунги, а потом на повороте упал на гаревую дорожку и продолжал кричать лёжа. Народ вокруг смеялся сквозь слёзы, потому что просто смеяться было опасно.
Замечено, что на всех пьедесталах великий вождь стоит в балетных позах. Ноги всегда в четвёртой или пятой позициях. Самая популярная поза — арабеск. Пристрастие Ленина к танцам выразилось и в его выдающейся работе «Шаг вперёд, два шага назад» в стиле танго.
Попутно заметим, что Ильич всю свою жизнь мечтал написать работу, которая стала бы настольной книгой рабочих и крестьян. Ильич осуществил свою мечту. Это книга «Империализм и эмпириокритицизм».
Ильич Второй (т. Брежнев) любил и ценил эту работу Ленина, но никогда не упоминал о ней в своих речах, поскольку никак не мог выговорить название.
Сразу после революции Ильич питался скверно. Ленин начал прилично жить только при НЭПе. Ленин является выдающимся советским эмигрантом. Он эмигрировал ещё до начала советской власти. Он одобрял эмиграцию. Он ещё тогда говорил: «Верным путём идёте, товарищи!»
Став в тамбовской тюрьме верным ленинцем, я принял решение пойти дорогой, указанной вождём. Так я оказался в Нью-Йорке.
ОЧНАЯ СТАВКА
В основном все допросы велись рано утром или днём, но заканчивались они не позднее 6-7 часов вечера. Так требовал устав следственного изолятора.
Однажды в 22.30, после отбоя меня повели на очную ставку со Смольным.
В кабинете кроме Терещенко находился зам. областного прокурора Солопов. Оба сильно пьяные. Привели Смольного. Их лиц не видно, только одни воспалённые злые глаза с бегающими зрачками. Два пьяных Шерлока Холмса приступили к допросу. Попытаюсь его передать со стенографической точностью. Добавлю, мой подельник Эдуард
Смольный был на пределе сил. Мне временами казалось, что он близок к сумасшествию. Солопов:
— Эдик, давай сегодня поставим точки над «и». Смольный:
— Если бы Ленин знал, что в семьдесят четвёртом году могут прийти два должностных лица в дымину пьяные, он перевернулся бы в гробу.
Солопов:
— Эдик, причём тут Ленин? Я хочу у тебя выяснить, ты похищал деньги у государства? Смольный:
— Ну и тупой же ты, Зорге! Солопов:
— Зачем переходишь на личности? Тебя спрашивают: похищал или не похищал? Ответь: да или нет? Смольный:
— Кто вам дал право посадить двух патриотов нашей Родины и измываться над ними!! Солопов:
— Смольный, зачем отвлекаться? Сейчас у вас очная ставка с Сичкиным. Давай её плодотворно проведём. Я:
— Если бы знал Дзержинский о ваших проделках, вас бы, козлов, перевели из следственных органов в дворники. Кстати, никто так не может замести следы, как дворник.
На меня никто не обращал внимания, мои остроты оставались незамеченными. Солопов (его, бедолагу, ещё больше развезло от разговора):
— Эдик, мы пришли выяснить истину, мы же не шутим, мы серьёзные люди. Я:
— Если говорить серьёзно, то это нечестно: быть на званом обеде, хорошенько выпить, идти к нам и не захватить пол-литра водки.
Терещенко пригрозил мне карцером, чем вызвал взрыв возмущения Смольного:
— Вот тебе, а не карцер! — взревел Эдуард, сделав жест, понятный на всех языках. — Попробуйте, я на суде все расскажу.
Солопов:
— Слушайте, прекратите этот дурацкий спор, давайте говорить по существу! Он задумался и закинул голову кверху. Смольный:
— Не задумывайтесь, а то уснёте. Я:
— Гражданин Солопов, можно мне получить мой паспорт обратно? Солопов:
— Вы что, пьяный? Я:
— Клянусь, нет. Мне позарез нужен паспорт. Солопов:
— Зачем? Я:
— Хочу усыновить Терещенко Ивана Игнатьевича, а без паспорта это сделать невозможно. Первый раз за всю очную ставку Смольный рассмеялся. Терещенко:
— Отец мне нашёлся! На этом наша очная ставка кончилась. Смольный ушёл в камеру, исходя пеной от злости, я ушёл в хорошем расположении духа.
КАМЕРНЫЕ ШУТКИ
Юмор в тюрьме ценится превыше всего. Там весёлый человек — самый уважаемый. Нудных людей нигде не любят, но в тюрьме нудный человек хуже атомной бомбы. Самые весёлые люди — это хулиганы. Самые скучные — взяточники и расхитители народного добра. Воры-рецидивисты — нервные и чаще всего шизофреники. Я не сидел с валютчиками, но думаю, что это тоже не подарок.
В советских тюрьмах выдают единственную газету — «Правду», чтобы сидящие знали, что творится на полях Таджикистана, и как с каждым годом преображается город Сыктывкар. В отличие от нас, заключённым разрешены книги для чтения, но, разумеется, только патриотические, типа «Подвиг разведчика», «Сталь и шлак», «Алитет уходит в горы». Уголовники давным-давно вырвали во всех этих книгах последние страницы, и не из хулиганских побуждений, а просто, чтобы их коллеги по несчастью не узнали, чем заканчивается это говно.
В камере непременно есть домино. В него играют на приседания, на кукареканье и на собачий лай. Весь день в камере кукарекают и лают. Из домино придумали ряд игр, например, покер. Главная игра — это раскладывание пасьянса из домино, гадание на свою судьбу. «Дубль шесть» — это зона, «дубль пять» — тюрьма, «дубль четыре» — это, так называемая, «химия», когда людей посылают на стройки народно го хозяйства. И эта работа засчитывается за отбытие срока. «Пусто-пусто» — свобода, «один-один» — дорога и т.д. Если все костяшки сошлись, то это свобода, а если не сошлись, то результат зависит от того, какой камень остался. Гадают и верят все. Занимают очередь на гадание. Даже люди, сидящие по 102-й статье — убийцы, тоже гадают, и, когда все костяшки укладываются, радуются, как дети. На что такое рассчитывают, трудно сказать.
Заключённым разрешено иметь бумагу и спички. Это приводит к тому, что все друг друга поджигают. Увлёкся человек пасьянсом, а ему в это время подложили бумагу под зад и подожгли. Спать тоже надо бдительно. Тут для поджога очень удобно. Вставляют спящему бумагу между пальцами ног и поджигают. Эта шутка называется «велосипед». Когда огонь постепенно доходит до пальцев, сонный человек начинает работать ногами так, он будто едет на велосипеде. Смешно смотреть, но велосипедисту не до смеха. В камере никто никого никогда не выдаст, и нужно по глазам догадаться, какая сволочь над тобой подшутила.
Все курят махорку, но никто свой окурок не бросит в унитаз, а сложит его между пальцами и выстрелит в сторону унитаза. Над головой всё время летают горящие окурки, и надо быть очень ловким, чтобы уклоняться от них. Этот фейерверк длится круглосуточно.
Со мной в камере за убийство сидел парень. Суд приговорил его к смертной казни. После суда его почему-то отвели не в камеру для смертников, а обратно к нам. Это противоречит закону, но кто на этот закон обращает внимание. Приговор суда парня не огорчил, по-моему, даже развеселил. Он пришёл весёлым и готов был к разным шуткам. Его коронным розыгрышем была игра с железной кружкой. Он поджигал бумагу и очень долго коптил кружку. Когда в камеру приводили новичка, он говорил ему:
— Давай погадаем на твою судьбу. Давал ему кружку, а себе брал чистую и просил новичка делать всё, что он будет делать. Он рукой водил по кружке, потом по лбу, по кружке — потом по щекам, по шее и т.д. Делал он это как настоящий маг, вся камера хохотала в подушку. Новичок к концу сеанса был весь в саже. Ничего не подозревая, ложился в саже спать. Окончание представления ожидало нас утром на поверке. Заключённые, выстроенные на перекличку, покатывались со смеху. Даже корпусной, видя этого новичка-негра, не мог сдержать смех. Сам же герой не мог понять причины общего веселья. Одна из жестоких камерных забав — так называемый «самосвал».
Над лицом спящего человека привязывается кружка с ледяной водой. Потом над ним поджигают верёвку, так что на лицо спящего падает пепел. Человек какое-то время рукой отмахивается, пока на лицо не попадает кусок обгоревшей верёвки. В этот момент жертва, как правило, вскакивает, и кружка с ледяной водой опрокидывается ему на лицо. Кружка обычно летит кому-то в голову. В такую минуту зрители норовят спрятать голову под подушку.
Потерпевший стоит опалённый, мокрый, с глазами, налитыми кровью от злости. Он хочет отгадать, кто это подшутил, но вся камера хохочет до колик, все плачут от смеха.
Утренняя поверка. Заключённые выстраиваются в одну шеренгу. Дежурный рапортует:
— В камере номер… тридцать человек. Докладывает дежурный…
— Вопросы есть? Заявления есть? Дежурный отвечает. Когда я дежурил, неизменно добавлял:
— Вопросов нет, все счастливы. И корпусной всегда с улыбкой покидал камеру.
В тюрьме ботинки называются «коцы», часовой — это «дубак», бригадир у малолеток — «бугор», а кнопка, которая при нажиме даёт знать часовому, что его вызывают, называется «клоп». Каждые три-четыре дня нам, подследственным, давали безопасную бритву, чтобы мы побрились. Я нажимал на клопа, в коридоре зажигалась лампочка, дубак открывал кормушку и спрашивал, что мне нужно.
— Я тебя очень прошу, дай мне опасную бритву, она мне вот так нужна, — и проводил пальцем вокруг горла.
Если дубак попадался с чувством юмора, он улыбался, а если нет, тупо отвечал:
— Не положено!
Но все равно шутка не пропадала, так как в камере она у всех вызывала улыбку. Помню, 1 января 1974 года корпусной зашёл в нашу камеру и поздравил всех с Новым годом. Я возмутился:
— А за что нам ещё один год?
Меня в камерах уважали, и каждое моё слово принималось на веру. Я перед сокамерниками выступал в разных лицах: и судьёй, и прокурором, и защитником. Дела всех подследственных знал досконально. В зависимости от личности строился суд. Я не люблю хулиганов, и от имени прокурора доставлял им много неприятностей. Но они успокаивались на речи адвоката. «Суд», как правило, выносил мягкий приговор. Я умышленно от имени судьи задавал им провокационные вопросы. Они волновались, не знали, как отвечать, и с нетерпением ждали речи адвоката.
Если прокурор у меня был рассудительным, но всегда жестоким, то в речь адвоката я вкладывал все своё красноречие, весь свой темперамент, уничтожал следователя, прокурора. Иногда приятному парню с тяжким преступлением от имени суда давал условное наказание. Мои зрители были в восторге, и все просили, чтобы я их судил. Это не только их отвлекало, но и приносило большую пользу. Я показывал, какие ошибки у них были в ответах. Это было прекрасной репетицией перед судом. На суде вопросы часто совпадали, и они знали, как на них отвечать.
Когда мне пришлось сидеть с малолетками, я продолжал разыгрывать суды, чем приводил их в дикий восторг. Дело в том, что малолетки часто разговаривают во сне, подробно сообщая детали своих преступлений. Я ночью плохо спал, все слышал и запоминал. Мои познания поражали их.
Новички в камерах — большое удовольствие для всех сидящих. Я всегда был мастером розыгрыша. На мои розыгрыши попадались опытные, бывалые люди. Я спрашивал новичка, сидел ли он в КПЗ. Если следовал положительный ответ, я задавал второй вопрос. Интересовался, получил ли он там положенные двести граммов водки и атласные игральные карты. Новичок, естественно, говорил, что не получил. Тогда вся камера начинала возмущаться советскими порядками.
— Наглецы, пользуются неопытностью человека и обманывают его. Садись и пиши заявление на имя начальника тюрьмы, — учили новичка.
Через минуту я диктовал: «Гражданину начальнику Тамбовской тюрьмы от такого-то. Находясь в КПЗ, я не получил положенные мне двести граммов водки и игральные атласные карты. Прошу распорядиться о выдаче мне водки и карт. Водку прошу не менять на вино».
Утром на поверке наша жертва вручала заявление корпусному, а тот относил его начальнику тюрьмы.
После обеда всегда приходил по такому случаю начальник — человек угрюмый, без юмора. Происходил примерно такой разговор:
— Кто писал заявление?
— Я.
— Так ты в камере предварительного заключения не получил водки и карт?
— Ни грамма не дали, — отвечал новичок.
— Карты тебе нужны атласные?
— Атласные, как положено по уставу.
— А простые не хочешь?
— Нет. Если по уставу положены атласные, так пусть будут атласные.
— А водку ты не хочешь поменять на вино?
— Не хочу.
— Кто тебе это сказал, и кто тебе помог составить заявление? Идиот, я тебе такую водку и карты дам, что ты у меня всю жизнь помнить будешь!
И уходил.
Все заключённые веселились минимум тридцать минут, а я всё время повторял: «какие грубые люди, и как нахально нас обирают».
В камере круглосуточно горит свет, и если случайно погаснет свет в тюрьме на одну минуту, это ЧП. Когда в тюрьме дают в девять тридцать вечера отбой, все должны находиться в постели. После отбоя я сказал новичку, чтобы он попросил дубака погасить свет, так как мы собираемся спать.
Новичок:
— Дубак, погаси свет, мы спать собираемся. Дубак на его слова даже не отреагировал. Я опять напомнил новичку насчёт света. Новичок нажал клопа. Часовой открыл кормушку и спрашивает новичка:
— Чего тебе?
— Мы хотим спать, погаси свет. Часовой обычно сыплет ругательствами.
— Как можно спать при свете! — возмущается новичок при полном одобрении в камере со стороны заключённых. Часовой со злостью закрыл кормушку. Я советую новичку вызвать корпусного и жаловаться ему. Он тут же следует моей рекомендации. После препирательства с дубаком появляется корпусной, и следует вторая серия:
— Как же здесь уснёшь, когда свет горит? — жалуется он на часового. — Просишь, погаси свет, так он не понимает, да ещё матюгается.
Я вступаю в разговор:
— Гражданин начальник, это не только его просьба, это вся камера просит погасить свет. Это нам будет хорошо и для государства экономия.
Корпусной, еле сдерживая смех, отвечает:
— Вы сегодняшнюю ночь поспите при свете, а завтра мы этот вопрос уладим.
Раз в неделю нас ведут в баню.
Баня — это понятие чисто символическое, так как ты не успеваешь намочить тело и тебя тут же выгоняют.
Перед баней говорят новичку, чтобы он взял все кружки, мы там в бане их попарим. Новичок складывает кружки в одеяло и выходит строиться, кружки в одеяле звенят, тарахтят,
Часовой интересуется, что там у новичка. Новичок отвечает:
— Кружки. Часовой:
— На какой… Новичок:
— Попарить в бане. Далее разговор зависит от характера и настроения часового. Как правило, он приносит всем несколько весёлых минут.
Прогулочные боксы только так называются, на самом деле там не только гулять, но даже стоять негде, это — клетки для одного нормального зверя. Перед прогулкой я говорю новичку:
— Захвати три-четыре матраса, после того, как по играем в волейбол, в теннис, поплаваем в бассейне, мы полежим часок на солнце.
Новичок выходит на построение с четырьмя матрасами. Часовой:
— Что с тобой?
— Ничего со мной, это матрасы, — говорит новичок. Часовой (без юмора):
— На хуй они тебе сдались?
— После волейбола, тенниса и плавания мы на них часочек полежим на солнце.
На всю прогулку отпускают тридцать минут, для малолеток — сорок пять. Как-то я вышел на прогулку с отвратительным настроением. Погода мерзкая, на прогулке никто не переговаривается — тишина, какая редко бывает на прогулках. Вдруг неожиданно один начал петь «Интернационал»: «Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир голодных и рабов». И все одиннадцать прогулочных боксов громко за пели: «Это есть нас последний и решительный бой», они меня развеселили на весь день. Я и сейчас не без смеха это вспоминаю.
Я сообщил новичку, что каждую неделю один из сидящих в камере может пойти за овощами и фруктами, но по тюремному уставу может отсутствовать не более четырёх часов. Если кто-то опоздает, то камеру оставляют на всю неделю без овощей и фруктов. Мы все были уже много раз на базаре. В связи с этим предлагаю на сей раз пойти ему.
— Базар у тебя займёт по времени часа полтора, — объясняю я, — остальное время ты можешь побыть дома. Но не опоздай обратно в тюрьму. Подведёшь всех нас.
У новичка загораются глаза, он клянётся, что будет вовремя, и мы начинаем записывать, что нужно купить на базаре: яблоки, бананы, помидоры, огурцы и т.д. Новичок обязательно включает какой-нибудь продукт вроде шпрот, мяса или колбасы. Но я его уверяю, что этого покупать не надо, так как всех здесь кормят на убой, дальше всё идёт по апробированному сценарию. Мы объясняем ему, что следует вызвать корпусного и сообщить ему, что камера решила его послать на базар, и чтобы корпусной дал на эти продукты деньги. Ещё советую с корпусным говорить громко, так как он глуховат.
Приходит корпусной, и новичок кричит:
— Гражданин начальник, я сейчас иду на базар за овощами и фруктами, мне нужны деньги.
— Чего ты орёшь?! — говорит корпусной и смотрит на него, как на сумасшедшего. — Какие деньги, какой базар?
Новичок:
— Я пойду на ближний, вы не волнуйтесь. Я уложусь в четыре часа, не опоздаю. Корпусной ему говорит, что он сумасшедший, и что таких надо сажать не в тюрьму, а в сумасшедший дом.
Я отвечаю корпусному, что у нас действительно кончились овощи и фрукты, а без них сидеть в тюрьме очень тоскливо.
Он, наконец, начинает понимать, улыбается и говорит:
— Никуда не надо ходить, вы все получите в тюрьме. Надо дождаться обеда, а если вам не дадут положенного, тогда пишите заявление на имя прокурора по надзору.
Я успокаиваю новичка:
— Корпусной врать не будет, если он сказал, то мы все получим.
В камеру вошёл малолетка ростом чуть выше Эйфелевой башни, в сверхтяжёлом весе, а морда, как загримированный унитаз. На традиционный вопрос: «За что посадили?» — он сказал: «Ни за что», — сплюнул и академический час матюгался. Потом этот питекантроп увидел меня, узнал, лицо его расплылось в улыбке:
— Буба, блядь, ты меня помнишь? Вспомни, блядь, где мы, блядь, встречались? Встретиться с ним я мог только в джунглях, но я там давно не был. Не дожидаясь ответа, он продолжал:
— Когда я, блядь, был пионером, я тебе, блядь, цветы подносил на спектакле, блядь. Слово «блядь» я опустил минимум четыре раза. Это мой подарок читателю. Этот пионер, который уже походил на старого большевика, свою историю живописал языком, далёким от языка и лексики И. С. Тургенева. Короче говоря, ни одного живого слова, и только по оттенкам мата можно было различить положительного или отрицательного персонажа. Его оригинальная речь не ложится на бумагу, и я вынужден сделать вольный перевод — это мой второй подарок читателю. В моей книге у ряда персонажей встречаются нецензурные слова. Но изъять их нельзя, потому что вместе с ними изымался бы юмор. Если говорят, что из песни слова не выкинешь, то из юмора тем более, а я к юмору отношусь очень серьёзно. Так вот, стоит снежный человек на улице с палкой. Мимо идёт человек в кроличьей шапке. Он за ним идёт, бьёт палкой по голове и забирает шапку. Часа через четыре его поймали, привели в милицию. Там с перебинтованной головой сидит его отец. Когда отец узнал, кто его ограбил, он хотел было взять назад своё заявление. Но начальник милиции закрыть дело отказался: «Это вы его прощаете — вы его отец. А ведь он мог моего отца ударить». Выслушав эту лирическую повесть, я понимающе покачал головой.
— Скажи, ты был выпившим?
— Да, был поддатым.
— Это хорошо. Палка была железная?
— Из самшитового дерева.
— Отец тебе родной?
— Родной, блядь. Я тоже сплюнул и начал возмущаться:
— Да что они, офонарели?! За что сажать?! Стоит себе человек, причём выпивший, плохо соображает (он поддакнул), с палкой. Мимо идёт человек в шапке. Ну как его не ударить?!
— В натуре.
— Вот. И ведь ударил не железной палкой, а самшитовой (самшит по прочности не уступает железу), и кого — родного отца! Отец в порядке?
— у него сотрясение мозга.
— Ну и что! Ничего страшного. Потрясёт, потрясёт и опять бегать будет. Важно, что он тебе не чужой человек. Отец простил, шапка в доме, никто никому не должен, все в ажуре. Тут никакого криминала нет. Я уверен, что на суде перед тобой извинятся и выпустят.
Динозавр был полностью согласен с моей железной логикой. Но у меня осталось ощущение, что он согласился бы выйти из тюрьмы и без их извинений.
На суде мамонту дали год тюрьмы, хотя я не сомневался, что должны были дать минимум три. После отбоя он сел ко мне и спросил:
— Буба, поможешь мне перейти границу, когда я выйду?
— А ты куда хочешь?
— Всё равно, лишь бы козлов и вонючих морд не видеть. Между прочим, с этим вопросом ко мне обращались многие малолетки. Они знали, что граница на замке, но были уверены, что у меня есть отмычка.
Тюремный обед, разумеется, оптимизма не вселяет…
Со мной в камере сидел один неприятный грязный болтливый тип лет сорока пяти. Камера его не любила. Он испытал все злые шутки с поджиганием.
Попал он за решётку благодаря собственному идиотизму. Во время ссоры с женой она бросила в него кастрюлю со щами и не попала, а он утюгом и попал. Тюрьма ему, разумеется, не понравилась. В своих воспоминаниях о воле он всегда ел шпроты. Вероятно, это было для него высшим блаженством.
Он объявил голодовку. Но когда часовой не смотрел в глазок, жрал все подряд. На голодовку, естественно, никто не обратил внимания. Тогда он разрезал себе бритвой живот. Мы подняли тревогу, и часовой вызвал «скорую помощь», хотя его состояние не вызывало опасений. Скорее, это была демонстрация. Приехал маленький врач-армянин и, по обыкновению, поинтересовался, по какой статье он сидит.
— По пятьсот пятой, — ответил я.
— Что это за статья? — поинтересовался врач.
— Людоедство, — пояснил я.
Врач отказался входить в камеру. Я как мог успокоил медика:
— Не бойтесь, он сытый. Максимум, что он может сделать, — это укусить и все. Часовой говорит врачу:
— Почему вы не делаете перевязку? Врач:
— Я боюсь. Я шепнул врачу на ухо, чтобы он попросил корпусного надеть тому на лицо намордник. Был вызван корпусной. Когда врач попросил надеть на пострадавшего намордник, представитель тюремной администрации вытаращил глаза и ничего не мог понять. Врач пояснил:
— Пострадавший сидит по статье «пятьсот пять» за людоедство. Я не хочу быть тоже пострадавшим. Камера умирала от хохота.
— Какое людоедство? Такой статьи — пятьсот пять — нет, — взревел корпусной.
— Но для подстраховки лучше надеть намордник, — сказал я. После моего вмешательства корпусному всё встало ясно. Он улыбнулся и пообещал врачу:
— Заходи, не бойся, не укусит, я буду держать его за пасть.
Когда сидишь в камере, то всё время думаешь, как бы выйти из неё, чтобы подышать свежим воздухом. Я часто ходил к врачам, в библиотеку, но лучше всего было попасть на приём к начальнику тюрьмы.
Его кабинет был в другом здании, и нужно было долго идти по коридорам и потом ещё проходить двором. А в кабинете у начальника было большое открытое окно. И вот задача — придумывать разные поводы, чтобы попасть на приём к начальнику тюрьмы и подышать кислородом.
В 1974 году вся страна клеймила позором чилийскую хунту и требовала, чтобы освободили Луиса Корвалана.
Я написал заявление на имя главного редактора газеты «Правда» от заключённых камеры номер одиннадцать тамбовской тюрьмы.
«Заявление. Мы, советские заключённые, клеймим позором чилийскую хунту и требуем освободить Генерального секретаря Коммунистической партии Чили товарища Луиса Корвалана. (Тридцать две подписи.)»
Я записался на приём к начальнику. Меня к нему отвели. Я ему вручил наше заявление. Начальник прочёл моё заявление и посмотрел на меня:
— Как это понять? — спросил он.
— гражданин начальник, мы, заключённые одиннадцатой камеры тамбовской тюрьмы, являемся подследственными и ещё не осуждены. Мы имеем право, как все советские люди, выразить свой протест чилийской хунте и настаивать, чтобы освободили Луиса Корвалана.
Когда я говорил, голос мой чуть дрожал от волнения и возмущения. Внутренне я хохотал. Начальник:
— Гражданин Сичкин, я не могу отправить ваше письмо. Получается какой-то абсурд: вы сами сидите, но просите, чтобы выпустили его.
— Мы — это другое дело. Мы защищены советскими за конами, а чилийская хунта — это фашистская хунта.
— В камере сидит тридцать человек. Это же чёрт знает что могут подумать.
— Это легко устранить. Я перепишу заявление от двух камер.
— Все равно получается много людей в камере.
— Я могу уменьшить количество подписей.
— Гражданин Сичкин, я должен это согласовать с областным прокурором.
— Но я вас очень прошу вызвать меня к себе и рассказать о разговоре. На следующий день меня повели к начальнику, который сообщил, что обычно прокурор никогда не ругается, но в этот раз по поводу моего заявления он минут пятнадцать матюгался.
Я выдержал длинную паузу, чтобы подольше подышать кислородом, потом с тяжёлым вздохом сказал, что когда ребята в камере узнают, что наше заявление не послали, они очень расстроятся. Я действительно пересказал сокамерникам нашу беседу по поводу Корвалана.
— А что это за мудак? — поинтересовалась камера.
Взрослые заключённые играют, как дети. Скажем, вы дают утром газету «Правда». Они сразу начинают кричать: «Я забил второй!», «Я забил третий» и т.д. То есть очередь на чтение. Я учитывал их игру и вечером кричал: «Я мою ноги первым!» Тут же начиналось: «Я забил второй» и т.д. Стоило мне крикнуть: «Я стираю носки первым!» — опять пошло: «Я забил вторым!», «Я забил третьим!»…
В камерах, где я сидел, люди мыли ноги и стирали носки. Это же чудо!
Во всех камерах мне приходилось выслушивать такие разговоры:
— Ты знаешь, мой, которого я ударил ножом, поправляется. Прекрасным оказался парнем, организм крепкий, надеюсь вылезет. Дай ему Бог!
— А мой оказался хлюпиком. Пять ударов ножом, конечно, многовато для него. В особенности в живот. Много крови потерял. Эта блядь — «скорая помощь», будь она проклята, пока приедет, можно дуба дать. Если бы она приехала хоть на пять минут раньше…
— Мой начал есть, ему сейчас надо хорошо питаться, чтобы восстановить силы.
— А мой, блядь, в коме, как бы не загнулся. И вот каждый раз эти хулиганы идут к следователю на допрос и узнают о здоровье своих потерпевших, так как от потерпевших зависит срок заключения. Если потерпевший остаётся инвалидом или умирает, то статья меняется и срок увеличивается. А если потерпевший выздоровеет, то, соответственно, виновному намного легче. Они с такой любовью и заботой говорят о своих жертвах, будто речь идёт о самых близких им людях. Слушать их было смешно и противно. Если они так беспокоятся, то зачем было бить свои жертвы ножом, а не расчёской. Или если ты в таком желании не можешь себе отказать, так почему ты своим ножом пытался ударить в сердце, в лёгкое, в живот, а не по мягкому месту, которое называется задом. И чтоб твоя жертва не потеряла так много крови, и тебе потом в тюрьме не пришлось так волноваться о ней, надо было прежде вызвать «скорую по мощь».
Что касается малолеток, то у них таких разговоров не было. Они на воле готовились к тюрьме и все о ней знали. Они день и ночь готовятся в тюрьме стать законченными подонками. А выйдя из тюрьмы, — профессиональными бандитами. Они с утра до ночи хохочут, борются и дерутся. Им так нравится тюремная обстановка, они чувствуют себя героями. Если на воле они говорили на каком-то более или менее русском языке, то в камере у них на языке сплошной мат. Воровской язык они изучают на воле и приходят в камеру уже вполне подготовленными. Все сразу начинают делать себе татуировки. Все очень уважительно относятся к своей маме, и первая татуировка — «Не забуду мать родную». Если малолетка идиот, а таких очень много, то ему делают татуировку: «Не забуду родной МТС» (машинно-тракторная станция).
Один молодой парень, вновь прибывший, снял рубаху. А на руке у него была выколота красная роза, проткнутая финкой. На него, вернее, на татуировку, все смотрели, как на картину Леонардо да Винчи. Они были заворожены и умоляли его не надевать рубаху. Всем им хочется стать наркоманами. Они собирают «пятирчатки» от головной боли и потом глотают их для кайфа. Я им сказал, что в зубном порошке много веществ наркотического свойства. И они всей камерой ели зубной порошок и тайком друг от друга блевали.
Я сидел с малолеткой Федей. Федя за одну ночь ограбил восемь спортивных магазинов, он вынес оттуда ненужные ему теннисные ракетки, мячи, сетки и прочие вещи и большой мотоцикл. Мотоцикл он разобрал, а детали разбросал по разным подвалам. Когда его забрали, то все наш ли, кроме мотоцикла. Вернее, не могли собрать его, так как не хватало многих деталей. Федю били, но он не мог сказать, где остальные детали, не потому, что он темнил, а потому, что не помнил, куда их положил. Малолетки попа даются под два метра ростом. У них кулаки, как два помойных ведра. Но Федя был маленьким, щуплым, у него были такие редкие зубы, что между ними мог проехать трактор «Беларусь». У Феди был один глаз свой, а другой искусственный. Искусственный был выразительнее. У Феди оттопыривался кадык, на который можно было повесить женскую каракулевую шубу пятьдесят шестого размера. Но вместе с тем Федя был очень обаятельным и остроумным пареньком. Из нашей камеры был виден жилой дом. И как только там на каком-нибудь балкончике начиналось пиршество, Федя кричал из окна: «Лю-ю-юди, нас не кормят!!! Ка-а-кой год?! Какая власть?!!» У Феди была первая встреча с адвокатом. Я его спросил, какое впечатление она у него оставила. Федя сказал: «Нет, мне мой адвокат не понравился. Маленькая, чёрненькая, худая. Вот у Серёжки прекрасный адвокат — вот с такой задницей», — и развёл руки на метр и двадцать сантиметров. Когда я спросил у Серёжи, что говорит адвокат по делу, он мне ответил: «Я её не слушаю, я всё время смотрю на её сиреневые трусы».
— Федя, я иду в библиотеку. Какую книгу тебе принести?
— Михалыч, принеси такую книгу, где есть знакомые буквы.
ЗАКРЫТИЕ ДЕЛА
Время в тюрьме тянется необычайно. Мне год показался десятилетием. Ощущение такое, словно ты в туннеле и его конца не видно. Тем не менее наступил день, когда наше следственное дело завершилось. Точнее, его передавали в суд.
Уверенность в собственной правоте не покидала меня, я верил, что скоро буду на свободе. Веру во мне поддерживал мой защитник, один из лучших адвокатов страны — Владимир Яковлевич Швейский, который защищал в своё время Владимира Буковского, Красина, Джамилева и других. Опытный, умный, смелый адвокат. После процесса мы с ним подружились.
В тюрьме было небольшое помещение с несколькими кабинетами для адвокатов, которые знакомились с делом. В этом небольшом помещении находились восемь адвокатов, восемь подследственных, конвоиры и сто пять томов дела, несколько работников прокуратуры следили, чтобы мы не переговаривались. Слышны были отдельные выкрики:
— У кого семнадцатый том? — Дайте мне, пожалуйста, сто пятый том. Мы подследственные обслуживали наших адвокатов и доставляли им нужные тома. Закрытие дела было самым радостным событием в нашей тюремной жизни. После мрачных тюремных камер мы, наконец, в течение многих дней по пять-шесть часов были вместе, разговаривали друг с другом, несмотря на окрики работников прокуратуры.
Шум, крики, беготня, теснота при закрытии дела мне напоминали Москонцерт перед праздничными концертами, та же суета, беготня и крик до потери голоса.
Всё это время адвокаты втихаря подкармливали нас, подследственных, принося забытые в тюрьме бутерброды с сёмгой и икрой. По правилам, каждого подследственного следовало отводить в камеру по отдельности. Заканчивали мы поздно. У тюремной администрации не хватало часовых, и мы убедили прокуратуру в том, что всё, что нам нужно было сказать друг другу по нашему делу, мы уже сказали, так что теперь нас можно вместе отводить в баню — это уже ничего не изменит. Прокуратура и тюремная администрация согласились, какая у нас наступила жизнь?!
Обычно на баню в тюрьме отпускают считанные минуты, а теперь мы парились часами, шутили. Часовые не подгоняли нас. Это были райские дни.
Закончилось ознакомление с делом, и следствие передало его в суд. Мы считали дни и часы и с нетерпением ждали суда.
Самые отвратительные дни в тюрьме — Суббота и воскресенье. Заключённые по обыкновению ждут не дождутся, когда закончатся проклятые выходные дни. В такие дни глухо, никто не работает, ничего не происходит, все останавливается, а ты продолжаешь сидеть без всяких новостей.
СУД
Наконец настал долгожданный день суда. Смольный добился у тюремной администрации, чтобы нас отвели в спортивный зал, где мы отутюжили свои костюмы, все мы пришли в суд выбритые, вымытые, в хороших костюмах. Глядя на нас со стороны, можно было подумать, что группа конгрессменов идёт на заседание.
На суд нас сопровождали восемь автоматчиков и офицер с пистолетом. Перед выходом из тюрьмы нас ставили лицом к стенке, и старший лейтенант говорил:
— Вы поступили в распоряжение охраны МВД! Любой шаг в сторону считается побегом, стреляем без предупреждения. Ясно?
После этого нас вели к «чёрному ворону» и везли в суд.
Я договорился со всеми, что на слово «ясно» отвечают не все, а только я один. Каждый раз, когда лейтенант заканчивал свой приказ, я изо всех сил кричал:
Ясно!
Офицер от испуга падал, это вызывало хохот. Перед судом эта хохма нас всякий раз немного веселила.
По советским законам такого опасного для общества заключённого, как я, перевозят не только в «чёрном вороне», но ещё и в «чёрном ящике» на одного заключённого без света и без воздуха. Ящик очень напоминал холодильник. Когда меня туда запихнули и закрыли дверь, я тут же ногой выбил дверь и попросил конвой, чтобы они неплотно закрыли дверь и оставили щель для воздуха. Они сжалились надо мной и в нарушение устава пошли на это.
Первый день судебного заседания. Судья Приданов оказался человеком умным, с огромной практикой. Его настроили до начала разбирательства против нас. Мы это чувствовали.
Два заседателя: мужчина и женщина. Мужчина по профессии механик, женщина — педагог. Оба были русскими, с добрыми, умными лицами, на них приятно было смотреть. Я слышал в начале дела, как судья Приданов шёпотом сказал им о нас:
— Банда культурных грабителей. В первый день судья сообщил нам, за что мы привлекаемся к уголовной ответственности и по какой статье. Далее он огласил, кто из адвокатов кого защищает. Дойдя до меня, сообщил, что мой адвокат Швейский Владимир Яковлевич заседает в Верховном Суде СССР, и что процесс там ещё не окончился.
— Неявка на суд является автоматическим исключением из нашего процесса, — заключил Приданов. И продолжал:
— Гражданин Сичкин, мы вам даём нашего опытного адвоката. Естественно, я отказался от предложения. В ту минуту я дал бы отвод самому Плевако. Адвокат
Швейский работал над моим делом целых два месяца и, естественно, был незаменим.
— Забудьте о Швейском, — повторил судья, — есть закон, и мы не имеем права его нарушать. Я:
— Если мой адвокат Швейский не будет допущен на этот процесс, то я до конца процесса не буду отвечать ни на один вопрос.
Шесть дней шло заседание. И шесть дней на вопросы судьи, обращённые ко мне, я как попугай отвечал:
— Пока мой адвокат Швейский не будет допущен к процессу, я буду молчать. Я был в панике, я понятия не имел, какие существуют законы на этот счёт. Я пытался выяснить, но никто мне внятно ничего не мог разъяснить. Когда мы проходили к «чёрному ворону» через человеческий коридор, опытные люди, которые много раз сидели в тюрьмах и лагерях, кричали мне: «Борис, жди Швейского, отказывайся от показаний». Но почему я должен верить, что они знают процедуру суда и допуска адвоката?! Это были мучительные для меня дни. Опытный судья специально подбирал идиотские обвинения, и мне ничего не стоило их одной фразой опровергнуть, но я молчал. Я не знал, чем всё это кончится, но ре шил для себя не отвечать в суде ни на какие вопросы.
После шести дней моего полного молчания судья сообщил, что адвокат Швейский допускается к процессу. Ликовал я, ликовали все подследственные, ликовали все адвокаты.
Если человека лишить трудных, подчас страшных испытаний, которые выпадают ему в жизни, ему тяжело было бы понять, что такое счастье. Понять это может только человек, просидевший какое-то время в тюрьме.
Всем известно, что адвокат в Советском Союзе на процессе не играет большой роли. Как бы гениально адвокат ни разгромил сфабрикованное дело, если спущена директива «сверху» засудить, суд обязательно засудит. В нашем же процессе никто сверху не должен был звонить. По этому адвокат Швейский Владимир Яковлевич был мне необходим.
Во время процесса я обратил внимание на то, что секретарь суда пишет только тогда, когда к ней поворачивает голову судья, а в остальное время лишь делает вид, что пишет. Ещё в первые дни процесса я обнаружил, что записано все, свидетельствующее против нас, и не записан ни один свидетель, который говорил в нашу пользу. Мой адвокат принёс на процесс магнитофон и начал все записывать. Судья спросил:
— Адвокат Швейский, почему вы записываете на плёнку?
— А где, простите, написано, что это нельзя, делать? У нас открытый процесс, и никаких секретов быть не может.
Мои коллеги по скамье подсудимых по-разному вели себя в судебном разбирательстве. Подсудимый Стояновский, например, который плохо слышал, часто переспрашивал меня, что сказал судья.
— Он передал тебе огромный привет, — всякий раз громко отвечал я.
Администратор Гильбо был счастлив, что его посадили в тюрьму. Ему было неудобно перед своими коллегами-администраторами, успевшими отсидеть. Он, не имевший судимости, был среди них белой вороной. Гильбо свою первую книгу в жизни начал читать в камере. До этого не было времени. Как-то Гильбо обратился к суду:
— Господа!
— Гражданин Гильбо, какие мы вам господа? — сказал судья.
— Ради святых, прошу меня извинить. Дело в том, что я сейчас читаю «Живой труп» Толстого, — ответил Гильбо.
Чем дальше продвигался суд, тем больше всем становилось ясно, что наше дело — чистой воды фальсификация.
Свидетели на суде один за другим меняли свои показания. На вопрос судьи: «Почему вы на следствии давали другие показания?» — свидетели отвечали, что следователь Терещенко на следствии настаивал только на таких, какие ему были выгодны. Непослушным угрожал тюрьмой.
Судья все больше и больше проникался к нам симпатией. Мы, подсудимые, и наши адвокаты шаг за шагом логично доказывали абсурдность обвинения.
На прогулке Стояновский, бывший заведующий постановочной частью Москонцерта, обвинённый в даче взятки Ныркову, бывшему заместителю директора мастерских Большого театра, рассказал мне, что он по просьбе Терещенко оговорил Ныркова. Тут же Стояновский признался, что он 25 лет тайно работает в ОБХСС. Я доказал ему, что следователь Терещенко подлец и посадил не только Ныркова, но и его самого.
— Есть только один выход, — объяснил я Стояновскому, — на суде разоблачить Терещенко и честно признаться во всём.
Стояновский согласился. На прогулках он выучил заявление, которое он потом сделал в суде. Он рассказал суду всё, что он сделал за время работы в ОБХСС, скольких выдал и скольких оговорил.
Выступление раскаявшегося Стояновского произвело фурор. Прокурор опустил голову, будто стоял у гроба своего лучшего друга Терещенко Ивана Игнатьевича. Судья громко сказал:
Какая мерзость!
Адвокаты были приятно удивлены и пришли в хорошее настроение.
По нашему делу в суде проходили разные свидетели: от уборщиц и киномехаников до художников и писателей.
Следствие пыталось доказать, что мои концерты были не сольными, а смешанными, что я, якобы, получал незаконно деньги и похитил у государства много тысяч рублей. Нелепость ситуации заключалась в том, что если бы даже следствие оказалось право — это было бы не хищение, а переплата со стороны филармонии. И нести ответственность может только должностное лицо, допустившее это.
Однако на суде выяснилось, что я действительно давал сольные концерты в двух отделениях, а получал как за одно концертное отделение в размере 17 рублей. Так что мне не переплатили, а наоборот недоплатили.
Обвиняемый Дериш, одессит с хорошими весёлыми глазами, тюремное заключение переносил легко. Говорил он с сильным одесским акцентом. Одесский акцент собрал в себе: заблатненность, украинский налёт и еврейскую мелодию. Встречаются одесситы, которые говорят на этом языке с большим обаянием. А если этого обаяния нет, тогда одесский акцент выглядит немного жлобски.
Дериш был на процессе обаятельным. Он, не имея никакого тика, имел манеру подёргивать шеей и головой. Судью это немного раздражало, и он в какой-то момент спросил у Дериша:
— Гражданин Дериш, почему вы всё время вертитесь и подёргиваетесь? Дериш:
— Потому что здесь мух-х-хи. Судья:
— Причём здесь мухи? Дериш:
— Что значит причём? Притом, что мух-х-хи кусают. Судья оглянулся вокруг и констатировал, что мухи действительно есть. Дерешу инкриминировали то, что он был оформлен в ансамбль «Молодость» как певец, но на самом деле работал в нём во время ёлочной кампании, когда бывает много концертов, как администратор, а получал зарплату как певец.
Свидетель, художественный руководитель Тамбовской филармонии Кладницкий сказал суду, что Дериш не пел в ансамбле «Молодость», так как не вписывался в этот ансамбль.
Судья:
— Дериш, свидетель Кладницкий говорит, что вы не пели в ансамбле «Молодость». Скажите суду, вы пели или не пели?
Дериш:
— Кладницкий говорит, что я не вписывался в ансамбль «Молодость»? Интересная вещь получается: я работал в Одесской оперетте, пел арии Легарра, Кальмана, Оффенбаха, и там я вписывался, а в ансамбль «Молодость» я не вписывался.
Судья:
— Дериш, отвечайте на вопрос, вы пели или не пели в ансамбле «Молодость»? Дериш:
— Вам же сказал Кладницкий, что я в этот ансамбль не вписывался. Я работал в краснодарской, иркутской и хабаровской филармониях. И везде я вписывался, а в этот ансамбль «'Молодость» я, видите ли, не вписывался.
Судья:
— Дериш, выбросьте это слово «вписывался». Ответьте суду, вы в ансамбле пели или нет? Да или нет? Дериш:
— Кладницкий намекает, мол, там в ансамбле «Молодость» все молодые, а я на их фоне не вписывался. Так я вам откровенно скажу: на их фоне я выглядел малолеткой. Судья:
— Дериш, вам вопрос ясен? Ответьте лаконично: пели или не пели? Забудьте слова Кладницкого насчёт вписывания.
Дериш:
— Гражданин судья, мне всё ясно. Я же одессит и понимаю с полуслова. Но меня возмущает, когда про меня говорят, что я не вписывался. Я пел в одесской оперетте разные дуэты, во всех других филармониях я пел один как солист, и никто никогда мне не говорил, что в какой-то концерт я не вписывался. А в этом ансамбле «Молодость» — этот ансамбль лучше назвать «Старость» — я не вписывался. Это же можно сойти с ума.
Судья тяжело вздыхал и молчал.
Дериш:
— Кладницкий пудрит вам мозги; он так понимает в искусстве, как следователь Терещенко в юриспруденции.
Дериш пытался ещё говорить, но судья, потерявший все силы на слово «вписывался», объявил перерыв. Так Дериш суду и не ответил, пел он или не пел. После перерыва судья уже больше не задавал Деришу вопросов насчёт пения и перешёл к другому обвинению.
Судья:
— Дериш, следствие вас обвиняет в том, что у вас была помощница по работе. Но она не работала, получала государственные деньги, а фактически была вашей любовницей.
Дериш:
— Простите, как это понять? Прокурор:
— Понять очень просто. Она с вами была в интимных отношениях. Дериш:
— Если я вас правильно понял, вы намекаете на постель. Прокурор:
— Вы правильно поняли, именно на вашу интимную жизнь с нею. Дериш:
— Гражданин судья, я, конечно, как мужчина не ай-ай-ай, но я вам клянусь, если бы вы её увидели, то тут же сняли бы с меня обвинение.
Напоследок на суд приехали из Ленинграда два художника. Вероятно они в поезде крепко выпили, а в суде их развезло. Им поездка из Ленинграда в Тамбов за счёт государства представлялась увеселительной.
Судья спросил у одного из художников:
— Вы работали над программой ансамбля «Молодость»?
— Конечно, работал, — начал рассказывать свидетель, — и, конечно, видел программу. В программе пела Галя Ненашева мою любимую песню.
В следующий момент он набрал в лёгкие воздуха и во весь голос запел. Судья:
— Прекратите петь. Говорите по существу.
— А я говорю по существу. Галя Ненашева прекрасная певица и как женщина… выглядит очень неплохо.
Естественно, эти показания ничего не добавили на алтарь обвинения.
Второй художник был ещё более пьяным. Его допрос тоже не прояснил ситуации. Он тоже, как и его товарищ, запел. Правда, его репертуар был более классическим. После первого же вопроса судьи он затянул песню: «Сильва, ты меня не любишь, Сильва, ты меня погубишь», — и перешёл на канкан.
— Прекратите этот балаган! — взорвался судья. — Вы не в ресторане, а в суде! Я не понимаю, что тут происходит. Какой-то цирк!
— Вы же судья, — язвительно заметил прокурор.
— А вы прокурор, — парировал реплику судья, — это вами вызванные свидетели.
Несмотря на явно провалившееся по всем пунктам обвинение, прокурор с ассенизаторским задором просил суд дать Смольному 10, а мне 8 лет усиленного режима. Это так подействовало на Смольного, что он потерял самообладание и начал поносить прокурора и тамбовскую прокуратуру последними словами: «Ты, алкоголик, забыл, как я тебе проституток присылал?!!» Это относилось непосредственно к прокурору Солопову. Дальше Смольный вскользь коснулся всех работников тамбовской прокуратуры (шестёрки, козлы, твари гуммозные и т.д.). Его вывели из зала, но ещё долго вдалеке слышались отдельные выкрики: «Бля… бля…» Зал шумел: «Правильно!… Замучили его, суки!…»
Чтобы как-то разрядить обстановку, я обратился к своему другу, сидевшему в зале, и громко сказал: «Лева! Скажи всем моим друзьям, чтобы мне купили арфу». Лева, ничего не понимая, поднял брови: «Зачем тебе арфа?» — «Как ты не понимаешь? За восемь лет лагерей я выучусь и выйду арфистом». Адвокаты расхохотались, судья улыбнулся, все успокоились. Через два дня я, как и остальные, должен был произнести своё последнее слово.
Мой адвокат Швейский Владимир Яковлевич записал его на магнитофон, но я не рискнул вывозить на Запад магнитофонную ленту и рукописи. Поэтому, хотя я говорил ров но один час, многое забыто, и я передаю все в сокращённом виде.
МОЁ ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
«Граждане судьи!
Гражданин прокурор в своей заключительной речи запросил Смольному десять и мне восемь лет усиленного режима. Мне не ясна бурная реакция Смольного. Как я понимаю, усиленный режим — это усиленное питание, усиленное медобслуживание, усиленные прогулки и т.д. По-моему, это очень неплохо. Поэтому я хочу воспользоваться случаем и лично выразить признательность гражданину прокурору. Смольный во время процесса говорил, что тюрьма — это его университеты. Смольный сел в тюрьму со средним образованием, а выйдет с высшим. Лично я прекрасно понимаю гражданина прокурора. Мужественно отказавшись от ряда обвинений по некоторым эпизодам ввиду их абсурдности, он не мог отказаться от остальной части (обвинения) под давлением старшего следователя областной прокуратуры Терещенко и заместителя главного прокурора области Мусатова. Поэтому хоть он хорошо знает, что в моём деле нет состава преступления, он был вынужден запросить мне восемь лет. Но, повторяю, я уверен, что это не его слова, а Терещенко. Как мне объяснил старший следователь Терещенко, я не подследственный, а осуждённый. А вот те, кто пока ходит по улицам, — вот они подследственные. Я не сомневаюсь, что его конечная цель — всех посадить в тюрьму, так, чтобы на воле остался он один с самогонным аппаратом.
Обвиняемый Стояновский говорил, что Терещенко плохо к нему относится по причине его еврейской национальности.
Я не согласен со Стояновским. Суду известно, что Терещенко собирался посадить Зыкину, Магомаева, Сличенко и Крамарова. Другими словами, русскую, азербайджанца, цыгана и еврея. Разве это не характеризует его как интернационалиста! Кстати говоря, следственные органы действительно отнеслись несправедливо к Стояновскому: человек двадцать пять лет работал в ОБХСС, продал всех своих самых близких друзей… Двадцать пять лет — это юбилейная дата. Надо орден давать, а друзья по органам сажают его в тюрьму, попросив предварительно оговорить обвиняемого Ныркова в получении взятки, что Стояновский, естественно, охотно сделал. Ну, хорошо, Стояновский по их просьбе сказал, что дал взятку Ныркову, которую, как он признался в суде, не давал, и сидит за дачу взятки. Бог с ним, пусть сидит. Но Нырков, разумеется не брал взятку, которую ему никто не давал. За что же сидит он?!
Переходя к моему делу, мне прежде всего хочется сказать, что, по моему мнению, основной мыслью следствия было: «А вдруг пройдёт?»
Что касается свидетелей, помимо отсутствия логики, использования незаконных методов ведения следствия, прямого обмана, запугивания и прочего, следствие страдает явным отсутствием профессионализма. Мне даже стало немного стыдно. Ну хоть свидетеля с комсомольскими глазами можно было натаскать по-настоящему?! Этот бедняга забыл всё, что готовил на репетициях, запутался и на прямой вопрос моего адвоката: «В каком вы чине?», — наивно ответил: «Лейтенант». Правда, нормальные свидетели, специально подобранные следствием, были безупречны. Как вам понравился киномеханик из Иркутска, который заверил суд, что каждую мелочь помнит досконально, и, указав на меня пальцем, признал во мне сначала Николая Крючкова, потом извинился и назвал Васей Васильевым? Хорошо, что он никогда не видел Анну Ахматову. Я понимаю, что о Сичкине не могло быть и речи, но между Крючковым и Васей Васильевым разница в возрасте больше сорока лет.
Не менее колоритной фигурой был рабочий сцены — пьяный глухонемой из Норильска, у которого во время свидетельских показаний заплетались пальцы.
Лично мне суд понравился. Он был необычным и весёлым. Несмотря на фальшивый сценарий, созданный тамбовской областной прокуратурой совместно с московским ОБХСС, персонажи были колоритными, хорошо выписанными. Только жаль, что главные отрицательные действующие лица были вне игры. Но благодаря этому процессу зрители их теперь хорошо знают.
Теперь перейдём к единственному оставшемуся эпизоду, в котором я обвиняюсь. В тысяча девятьсот шестьдесят девятом году Тамбовская областная филармония находилась в критическом финансовом положении. Директор филармонии не видел выхода. По существующим нелепым приказам Министерства культуры СССР, если директор филармонии делает один шаг в сторону организации концерта — это два шага в сторону тюрьмы.
Если даже поверить следствию, что я получил больше денег, чем мне было положено, то в этом случае была бы переплата, а не хищение. В переплате же может быть виноватым только должностное лицо, каковым артист не является. Это азбука. А у старшего следователя Терещенко Ивана Игнатьевича высшее юридическое образование. Да, иногда лучше иметь среднее соображение, чем высшее образование.
То, в чём меня обвиняют, относится к разряду юмористики, или «нарочно не придумаешь». Следователь Терещенко на следствии доказывал мне, что наши представления на стадионах были обыкновенными смешанными концертами и не могли считаться театрализованными представлениями. Следовательно, я не имел права получать деньги от филармонии как режиссёр и автор.
Последний раз Терещенко был на представлении девятого января тысяча девятьсот пятого года у попа Гапона, когда тот устроил театрализованное представление как автор и режиссёр. Во время следствия я пытался разъяснить
Терещенко разницу между смешанными концертами и театрализованными, но это было равносильно разговору с грудным ребёнком о расщеплении атома. Когда ему говоришь о первом и втором отделениях концерта, у Терещенко это ассоциируется с первым и вторым отделениями милиции. Разве в обыкновенных смешанных концертах принимают участие смешанный хор с оркестром, фрагменты из кинофильма, спортсмены, воинская часть, пионеры, само деятельность и специально написанные артистам приветствия?
Многие свидетели в ходе судебного разбирательства подтвердили наличие всех этих компонент в наших спектаклях. За давностью лет не всех свидетелей можно было допросить. Но я говорил на допросах следствию, что почти все пионеры, которые принимали участие в наших представлениях, сидят в тамбовской тюрьме. Их-то можно было допросить?!
По мнению следствия, учитывая, что спектакль был не театрализованным представлением, а обыкновенным смешанным концертом, я получил деньги как режиссёр и автор сценария незаконно. В чём заключается юмор? Я, учитывая финансовые затруднения тамбовской филармонии, отказался получить деньги как автор и режиссёр. Если человек ничего не получил, как же он мог похитить?!! Это, конечно, смешно. Но именно за это меня посадили по статье девяносто три «прим» (хищение в особо крупных размерах) — эта статья от восьми лет до расстрела.
Граждане судьи! Когда одного великого скульптора спросили, как он работает над своими творениями, он ответил: «Очень просто. Я беру мраморную глыбу и отсекаю от неё все лишнее».
Следствие повесило на меня огромную глыбу. Я прошу суд отсечь все лишнее и не сомневаюсь, что будет вынесен справедливый приговор».
Тамбовский областной суд послал дело на доследование. Верховная прокуратура РСФСР вела доследование ещё три года и вынесла решение: закрыть дело за отсутствием состава преступления.
Старшему следователю Тамбовской областной прокуратуры Терещенко и заместителю прокурора Тамбовской области Мусатову дали выговор по партийной линии и понизили их в должности.
Главный прокурор Тамбовской области написал повинное письмо об этом сфабрикованном деле и повесился.
Нелепость нашего обвинения была столь очевидной, что даже советский суд — самый послушный суд в мире, не смог вынести нам обвинительный приговор. Правда, чтобы хоть как-то соблюсти честь мундира, дело послали на доследование. Санкция прокуратуры содержать нас в тюрьме кончилась по закону, и тюремная администрация была обязана немедленно освободить нас. Но она не спешила. Мы кричали, настаивали, объявляли голодовку, однако по на стоянию Тамбовской прокуратуры нас продолжали держать в тюрьме.
Мы находились в тюрьме без санкции прокуратуры двадцать дней, что являлось страшным нарушением закона. Но, как известно, в России любой городовой выше закона.
Наконец нам сообщили, что завтра после обеда нас выпустят. Один из работников тюремной администрации, хороший человек, предупредил, что против нас готовится провокация, которая позволит задержать нас в тюрьме, правда, по статье за хулиганство.
Как это делается, я прекрасно знал. Подходят к человеку и замахиваются. Человек совершенно инстинктивно поднимает руку для защиты. И когда его фотографируют, на фотографии полное впечатление, что человек ведёт себя агрессивно. Плюс два ложных свидетеля. И этого достаточно, чтобы тебя держать в тюрьме и даже судить. Такие штучки эти подонки проделывают со старыми больными людьми с профессорскими званиями, обвиняя их в хулиганстве. И ничего не поделаешь.
Я был в панике. Только Смольный, казалось мне, может разрушить замыслы неприятеля. И он, действительно, не терял времени даром. Он передал на волю ряд стратегических установок. В камере разработал контрмеры. От него я получил чёткий план действий на завтрашний день. Задача у меня
была наипростейшая. Около тамбовской тюрьмы будет собрано человек триста. Люди организуют четыре прохода. Я и Смольный могли выбрать любой из этих проходов и бежать к машине. Все четыре машины будут заведены и двери открыты. Как только мы пробегали сквозь коридор, люди за нами смыкались, и никто уже через толпу пробиться не мог.
Назавтра всё прошло как по-писаному. Как только мы сели в две машины, они тронулись, а остальные ехали за нами и мешали вклиниться кому-либо ещё. Наши машины сворачивали без конца в разные переулки, и когда мы убедились, что хвоста нет, поехали ужинать.
Так как Тамбовская прокуратура знала все злачные места Смольного, мы решили нарушить традиции и поехать на ужин к незнакомым людям. В Тамбове нас ждало на ужин после тюрьмы полгорода.
Поезд на Москву из Тамбова уходил где-то около двенадцати. Опасность для нас ещё не миновала. Дальнейший план был такой. Человек покупает нам два билета на Москву в купейный вагон. Мы приезжаем на вокзал за семь минут до отхода поезда. После того как поезд трогается, мы бежим во всю прыть и вскакиваем на ходу в вагон, влезаем в купе и закрываемся, а дальше у Смольного разные цепи, приспособления, чтобы дверь никто не мог открыть. Разве что взорвать. Так мы ехали всю ночь до Москвы и не были уверены, что опасность миновала.
На вокзале в Москве нас встречали многие наши знакомые, и мы успокоились.
Вся эта суета в Тамбове мне напоминала детективный фильм, в котором все плохо: и сценарий, и артисты, и массовка. Но это было смешно потом, когда всё закончилось хорошо.
Доследованием нашего дела уже занималась Верховная прокуратура РСФСР. Нас продолжали вызывать, допрашивать, но мы были на воле и чувствовали, что разбор дела идёт справедливо, без всякой предвзятости.
КОНЦЕРТ В ТАМБОВЕ
Смольный во время доследования устраивает грандиозный концерт в помещении тамбовской филармонии. Участвуют звезды кино, театра и эстрады. На этот концерт пришла вся тюремная администрация Тамбова, некоторые работники Областной тамбовской прокуратуры и ряд работников обкома партии.
Каждый номер принимался прекрасно. Но когда Смольный объявил меня и сделал это умышленно скромно и обыденно, в зале началась овация. Люди встали с мест, и, стоя, аплодировали мне. Выйдя на сцену, я увидел у многих на глазах слезы.
Когда все успокоились, каждое моё слово в адрес жителей Тамбова прерывалось аплодисментами. Артисты в своей жизни больше огорчаются. Но я в тот день был счастлив. Эта манифестация для меня была выше всех существующих наград.
Я выступал так, как никогда в жизни. Я в танце летал, так мне хотелось оставаться на сцене и не расставаться с любимыми людьми. Боже, какое это счастье!
После моего выступления был антракт, который длился часа полтора. Каждый хотел меня увидеть, поздравить и пожелать успехов.
Зашёл ко мне а артистическую уборную завхоз тамбовской тюрьмы Семилетов. Смотрит на меня, плачет и поносит себя последними словами:
— Такому человеку, такому артисту я отказал. Да будь я проклят!
Когда я сидел в тюрьме, проходило первенство мира по хоккею. Играли команды Советского Союза и Швеции. Он, как офицер, имел право взять меня из камеры и посидеть со мной у телевизора. Я его просил, умолял, хоть один период. Но он сослался на усталость, что дома ждут, и отказал мне. Тогда для меня это был бы глоток воздуха. Однако я не таил обиду: трудно ему, работающему много лет в тюрьме, понять чужую беду.
Тот концерт в Тамбове я никогда не забуду. Я до сих пор его вспоминаю с благодарностью и любовью. Уверен, не каждому артисту суждено пережить такое. Я счастлив, что этот концерт как бы подвёл черту мрачному периоду моей жизни и поставил точку в тамбовской эпопее.
Меня нередко спрашивают, что послужило толчком к моему отъезду в эмиграцию. Я не хотел бы все сводить к личной обиде на советскую власть, хотя и этот фактор сыграл не последнюю роль.
На мой взгляд, все гораздо сложнее и серьёзнее. Год, проведённый в тюремной камере, позволил мне другими глазами взглянуть на свою жизнь, осмыслить её, отбросив привычную мишуру. Впервые в жизни я взглянул на себя глазами стороннего наблюдателя и понял шаткость, нелепость своего положения. Я осознал, что так продолжаться не может. В противном случае я потеряю уважение к себе.
Я должен был бежать. Бежать от глупости, тупости, скудоумия, ограниченности и фарисейства… Словом, от всего того, что можно назвать гораздо лаконичнее и понятнее: СОВЕТСКАЯ СИСТЕМА.
Чтобы не быть голословным, приведу ещё один эпизод из моей собственной жизни. В нём словно в капле воды виден весь маразм и тупость советской системы.
Чтобы развеять себя, я вспоминаю моё поступление в Союз кинематографистов. Я трижды подавал заявление в этот Союз и мне каждый раз отказывали в праве стать членом профессиональной организации на том основании, что я якобы ещё мало сделал для развития советского кинематографа. Логики в этом отказе не было никакой. Я был профессиональным артистом более тридцати пяти лет и снялся в тридцати фильмах. Кому же тогда место в Союзе кинематографистов? Кто же отказал мне в законном праве?
Председателем приёмной комиссии был актёр Московского театра имени Ермоловой… Фамилии его я не знаю, да и вы, естественно, его не можете знать. Помню только, что у этого актёра не было никакой дикции (лучше бы он писал, чем говорил), и он снялся в каком-то фильме ещё до войны. Точнее, не снимался, а фотографировался.
Должен признаться, что членство в этом творческом Союзе ничего не даёт. Разве что тебя пускают в Дом кино на просмотр зарубежных фильмов. Я и без членства свободно проходил в Дом кино.
У меня было такое ощущение, что если бы я сыграл гениально роль Надежды Константиновны Крупской или ещё раз Чапаева, — все равно меня не приняли бы в Союз кинематографистов. Секретарша приёмной комиссии была на моей стороне и тихо возмущалась этим хамством. Она пыталась найти хоть какую-то зацепку в моей биографии, что бы протащить меня в Союз.
— Борис Михайлович, — как-то спросила она, — кем были ваши родители? Я ответил, что отец мой был сапожником, а мать домашней хозяйкой, так как в семье было семеро детей.
— Это очень хорошо, что ваш отец был сапожником и семья была большая. Честно говоря, я никак не мог понять этой связи. Я же вступал не в Союз сапожников или штукатуров. Почему отец сапожник — хорошо, а отец писатель — плохо?! Какой бред!
Я устал от бреда, глупости и подлости, с которыми сталкивался на каждом шагу. Мой следователь Терещенко запросил на «Мосфильме», где я проработал долгие годы, характеристику на меня.
Секретарь партийной организации киностудии ответил весьма лаконично: «Артист Сичкин у нас не работает, и я понятия не имею, кто это такой и что это за человек».
Эту характеристику судья во время процесса прочёл под возмущённый гул присутствующих. Можно было понять людей. На «Мосфильме» я снялся в фильмах: «Секретарь обкома», «50 на 50», «До свидания, мальчики», «Любовь к трём апельсинам», «Неисправимый Лгун», «Золотые ворота», «Варвара-Краса Длинная Коса», «Неуловимые мстители», «Новые приключения неуловимых». За два последних фильма руководство студии, включая секретаря парткома, получило благодарность от ЦК КПСС, и в этих фильмах я играю одну из главных ролей — Бубу Касторского.
Непросто взрослому человеку, у которого прошло в этой стране детство, юношество, зрелость, взять и покинуть навсегда место, где ты жил, любил, шутил, был популярным артистом, бросить все: родной язык, друзей, поклонников твоего искусства и податься в неизвестность.
Мне страшно было подавать заявление об отъезде. Я был на грани душевного срыва. Однако другого выхода я не видел. Кстати, в те годы многие актёры, музыканты, художники бежали в неизвестность от советской действительности.
Коль я завёл речь о безуспешных попытках стать членом Союза кинематографистов в Советском Союзе, расскажу, как я оформил своё членство в аналогичной американской творческой организации.
Дело в том, что в США тебя попросту не выпустят на съёмочную площадку, если ты не состоишь в юнионе.
Мне разрешили сняться в фильме «Свит Лорейн» в роли повара, не будучи членом юниона, только потому что фильм был малобюджетным и первым американским в моей жизни. Когда же меня пригласили сниматься в роли Брежнева в фильме «Последние дни», то предупредили, что я обязан вступить в юнион, иначе Голливуд отказывается меня снимать, а вернее, не имеет права. Я дико волновался: примут или нет?
Я взял все свои фото, видеокассеты фильмов с моим участием, пошёл не один, а с человеком, который прилично знал английский, и попросил его покрасочнее представить меня.
Мы пришли в юнион. Мой спутник начал заготовленный разговор с показом характеристики, фото и пр. Но чиновник из юниона остановил его и только переспросил мою фамилию. Потом набрал на компьютере и сообщил всё, что обо мне известно Америке, в том числе, что я сыграл роль в фильме «Свит Лорейн». После чего попросил заполнить анкету и уплатить вступительный взнос. Эта процедура длилась пятнадцать минут. Я вышел членом гильдии американских киноактёров, что подтверждало выданное мне удостоверение. Мне даже было как-то не по себе и обидно, что эти улыбчивые люди из юниона не поинтересовались моим послужным списком.
Я далёк от идеализации Америки. Тем не менее этот мимолётный эпизод ещё раз показывает, как разнится от ношение к людям здесь и там. Мой американский стаж насчитывает 11 лет — срок немалый. Я могу утверждать, что это проявляется во всём. Я отказался от той советской жизни и ни разу не пожалел о содеянном…
Единственно, жаль, что я не вывез из страны советских денег. Я мог бы здесь в нью-йоркской квартире выклеить стенку десятками и у меня был бы «ленинский уголок».