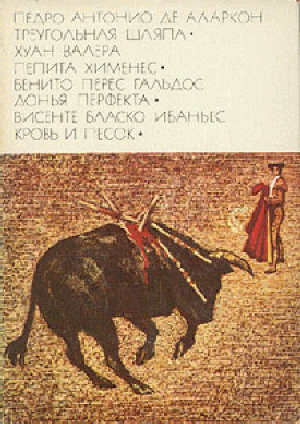
Nescit labi virtus [1]
В архиве настоятеля кафедрального собора города ***, почтенного сеньора, умершего несколько лет назад, осталась связка документов, которая, переходя из рук в руки, попала наконец ко мне, причем, по удивительному стечению обстоятельств, ни одна из бумаг не была утеряна. Латинское изречение, стоявшее на связке, послужило мне эпиграфом; имени женщины, которым я решил назвать рукопись, не было; возможно, бумаги сохранились именно благодаря заголовку: считая их богословским трудом или проповедью, никто до меня не развязал шнурка и не прочел ни одной страницы.
Содержимое связки состоит из трех частей. Первая называется: «Письма племянника», вторая: «Паралипоменон» [2] и третья: «Эпилог: Письма брата».
Все бумаги написаны одной рукой, – по-видимому, это почерк сеньора настоятеля. А так как все вместе составляет своего рода повесть, правда отличающуюся скудной фабулой или совсем ее лишенную, я решил было сперва, что сеньор настоятель изредка на досуге предавался сочинительству; но, внимательно вчитавшись в рукопись, я заметил ее непринужденную простоту и склоняюсь к мысли, что передо мной копии подлинных писем, которые сеньор настоятель порвал, сжег или возвратил их авторам, и только часть повествования, под библейским заглавием «Паралипоменон», принадлежит перу сеньора настоятеля и написана им с целью пополнить картину, сообщив то, о чем в письмах не упоминается.
Как бы то ни было, признаюсь, что меня не утомило, а скорее заинтересовало чтение этих бумаг; а так как в наши дни печатают решительно все, я и взял на себя смелость опубликовать их без проверки, изменив лишь собственные имена, – на тот случай, если их обладатели еще живы и заявят неудовольствие, что их изобразили в повести вопреки их желанию и без разрешения.
Письма, содержащиеся в первой части, принадлежат, как думается, человеку весьма молодому, обладающему религиозным пылом и некоторыми теоретическими познаниями, но не имеющему никакого житейского опыта; он был воспитан при сеньоре настоятеле, его дяде, в семинарии и страстно желал стать священником.
Этого юношу мы назовем дон Луис де Варгас.
Упомянутая рукопись начинается так:
I. Письма племянника
Дорогой дядя и досточтимый учитель! Вот уже четыре дня, как я благополучно прибыл в уголок, в котором родился; я нашел в добром здравии батюшку, сеньора викария, друзей и родственников. Мне было так отрадно после долгих лет разлуки вновь увидеться и говорить с ними, я был так взволнован встречей, что не заметил, как пролетело время; вот почему я до сих пор не успел написать вам.
Надеюсь, вы простите меня.
Так как я уехал отсюда ребенком, а вернулся мужчиной, все, что сохранилось в моей памяти, производит на меня теперь странное впечатление. Все предметы выглядят меньше, гораздо меньше, но зато милее, чем я ожидал. Дом батюшки в прежнем моем воображении был огромным, а на самом деле этот обычный просторный дом богатого земледельца значительно меньше нашей семинарии. Здешние окрестности – вот что восхищает меня! Особенно хороши сады. Какие чудесные тропки встречаются там! По обочинам с веселым журчанием бежит хрустальная вода. Берега оросительных каналов усеяны душистыми травами и множеством разнообразных цветов. Вмиг можно собрать огромный букет фиалок. Гигантские орешники, смоковницы и другие густолиственные деревья дают прохладу и тень; изгородью служат гранатовые деревья, кусты ежевики, роз и жимолости.
Необычайное множество птиц оживляет поля и рощи.
Я очарован садами и каждый вечер час-другой гуляю в них.
Батюшка хочет взять меня с собой и показать наши оливковые рощи, виноградники и фермы, которых я еще не видел, так как не выходил за пределы городка и окружающих его прелестных садов.
Правда, постоянные гости не дают мне ни минуты покоя. Пять женщин пришли обнять и расцеловать меня, и все оказались моими бывшими кормилицами.
Хотя мне уже двадцать два года, все называют меня Луисито или «малыш дона Педро». Когда меня нет, то справляются у отца о его «малыше».
Кажется, я напрасно привез с собой книги, – меня ни на мгновение не оставляют одного.
Звание касика, к которому я относился как к некоей шутке, оказалось вещью весьма серьезной. Батюшка – касик этой местности.
Едва ли здесь сыщется человек, способный понять мое стремление (или – как говорят местные жители – манию) стать священником; эти добрые люди с наивностью дикарей советуют мне отказаться от духовного звания; по их мнению, сан священника хорош для бедняка, а мне, богатому наследнику, следует жениться и утешить старость отца, подарив ему с полдюжины прекрасных, здоровых внучат.
Чтобы польстить мне и угодить батюшке, мужчины и женщины утверждают, что я парень хоть куда, находчив и остроумен, и будто у меня лукавые глаза, – словом, говорят всякий вздор, который меня огорчает, сердит и смущает, а ведь я не застенчив и знаком со всеми сумасбродствами и темными сторонами жизни настолько, чтобы ничем не возмущаться и ничего не бояться.
Единственный недостаток, который во мне нашли, – это моя худоба; но ее относят за счет учения. Чтобы я поправился, здесь умышленно мешают моим занятиям и отвлекают меня от книг, а кроме того, пичкают всеми чудесами кулинарии, которыми славится наша округа; ну точно задались целью откормить меня на убой. Знакомые семьи что ни день шлют подарки. То это бисквитный торт, то куахадо [3], то ореховая пирамида, то банка засахаренных фруктов.
Внимание, которое мне оказывают, не ограничивается подношениями, – меня приглашают в лучшие дома нашей местности.
Завтра я зван на обед к знаменитой Пепите Хименес, о которой вам, без сомнения, уже приходилось слышать. Здесь ни для кого не секрет, что батюшка сватается к ней.
Несмотря на свои пятьдесят пять лет, батюшка выглядит так, что ему могут позавидовать самые блестящие молодые люди в городе. Кроме того, он обладает обаянием, непреодолимым для некоторых женщин, – его слава старого донжуана до сих пор сияет в ореоле прошлых побед.
Я еще не знаком с Пепитой Хименес. Говорят, она очень хороша собой. Подозреваю, что это обыкновенная провинциальная красавица. По рассказам трудно, конечно, судить, какова она в нравственном отношении, однако можно заключить, что у нее большой природный ум.
Пепите лет двадцать; она вдова, а замужем провела всего три года. Она дочь покойной доньи Франсиски Гальвес, известной вам вдовы отставного капитана, который, как говорит поэт,
До шестнадцати лет Пепита жила с матерью в большой нужде, почти в нищете.
Был у нее дядя, по имени дон Гумерсиндо, владелец ничтожного майората – одного из тех, которые создавались в старину в угоду нелепому тщеславию. Обычный человек жил бы на его месте в непрерывных лишениях и наконец увяз бы в долгах, тщетно пытаясь сохранить блеск имени и поддержать достоинство, приличествующее его положению в обществе; но дон Гумерсиндо оказался человеком необычным – подлинным гением экономии. Нельзя сказать, что он создавал богатство, но он обладал редчайшей способностью поглощать богатство других и проявлял такую скромность в своих расходах, что трудно было найти на земле другого человека, о чьем питании, здоровье и благополучии меньше заботились бы мать-природа и человеческое искусство. Неизвестно, как он существовал, но, так или иначе, он дожил до восьмидесяти лет и сохранил свои доходы нетронутыми, а капитал приумножил с помощью займов, выдаваемых под верный залог. Здесь никто не порицает его за то, что он был ростовщиком, напротив – его даже считают человеком сострадательным, ибо, умеренный во всем, он был умерен и в ростовщичестве, запрашивая не больше десяти процентов в год, в то время как другие берут по двадцать, тридцать, а то и больше.
Благодаря своей аккуратности, расторопности и энергии, всегда направленной на приумножение, а не на уменьшение земных благ, не позволив себе роскоши жениться, иметь детей и даже курить, дон Гумерсиндо достиг возраста, о котором я уже упомянул, и стал обладателем капитала, несомненно значительного где бы то ни было, а здесь, в силу бедности местных жителей и природной склонности андалусцев к преувеличению, казавшегося огромным.
Дон Гумерсиндо, старик весьма опрятный и внимательный к своей особе, производил приятное впечатление.
Костюмы, составлявшие его несложный гардероб, были несколько поношены, но без единого пятнышка; чистота их бросалась в глаза, хотя все знали, что у него с давних времен все те же плащ и пелерина, те же брюки и жилет.
Случалось, соседи спрашивали друг друга, видел ли кто у дона Гумерсиндо обновки, – но никто не мог ответить на подобный вопрос.
Несмотря на эти недостатки, которые здесь, как, впрочем, и в других местах, почитаются добродетелями, хотя и несколько преувеличенными, дон Гумерсиндо обладал также рядом превосходных качеств: он был приветлив, предупредителен, отзывчив и изо всех сил старался угодить и быть полезным всем на свете, хотя бы это требовало бессонных ночей, труда и усталости, – лишь бы не стоило ни одного реала. Весельчак, шутник и балагур, он принимал участие во всех собраниях и празднествах, если они не были в складчину, и очаровывал присутствующих любезностью обращения и разумной, хотя и не слишком утонченной, беседой. Он никогда не обнаруживал сердечной склонности к какой-либо определенной женщине – ему нравились все, – и из местных стариков никто на десять лиг в окружности не умел так просто, без лукавства поухаживать за девушками и посмешить их. Я уже говорил, что он приходился Пепите дядей; когда ему было под восемьдесят, ей еще не исполнилось шестнадцати. Он был богат и знатен, она – бедна и беспомощна.
Ее мать, женщина вульгарная и недалекая, не отличалась тонкостью чувств. Она любила дочь, но беспрестанно попрекала ее теми лишениями и жертвами, на которые она ради нее шла, и горько жаловалась на ожидавшую ее безутешную старость и смерть в нищете. У доньи Франсиски был еще сын, старше Пепиты, – кутила, игрок и забияка, от которого ей после бесчисленных неприятностей удалось наконец отделаться, пристроив его на пустяковую должность подальше за океан, в Гавану. Вскоре, однако, молодого человека уволили за неизменно дурное поведение, и тогда от него посыпались письма с просьбами прислать денег. Мать, которой едва хватало на себя и Пепиту, приходила в отчаяние и ярость; забывая об евангельском терпении, она проклинала свою судьбу и надеялась только на то, что ей удастся пристроить дочь и таким образом избавиться от нужды.
В столь тяжкое для них время дон Гумерсиндо стал чаще обычного посещать их дом и ухаживать за Пепитой так настойчиво и усердно, как еще никогда не ухаживал за другими. Но таким невероятным и безрассудным казалось предположение, что человеку, прожившему восемьдесят лет без мысли о женитьбе и стоявшему уже одной ногой в могиле, вдруг взбрела в голову подобная глупость, что ни мать, ни Пепита не могли разгадать эти поистине дерзкие замыслы дона Гумерсиндо. Поэтому-то обе были изумлены и поражены, когда однажды после многих любезностей, сказанных полушутя, полусерьезно, дон Гумерсиндо нежданно-негаданно, глядя Пепите в глаза, в упор спросил:
– Девочка, выйдешь за меня замуж?
Хотя вопросу этому предшествовали многочисленные остроты и его можно было принять за одну из них, Пепита, несмотря на всю неопытность в житейских делах, каким-то чутьем, присущим женщинам и особенно девушкам, даже самым простодушным, поняла, что тут дело серьезное. Она покраснела, как вишня, и ничего не ответила. За нее ответила мать:
– Девочка, будь же вежливой и отвечай дяде, как полагается: «С удовольствием, дядюшка; когда вам будет угодно».
Говорят, что это «С удовольствием, дядюшка; когда вам будет угодно» – против воли слетело с дрожащих губ Пепиты, уступившей наставлениям, уговорам, жалобам и наконец властному приказу матери.
Кажется, я слишком пространно повествую вам об этой Пепите Хименес и ее приключениях, но она заинтересовала меня и, полагаю, может заинтересовать и вас, так как, судя по всему, она станет вашей невесткой, а моей мачехой. Однако я постараюсь не задерживаться на мелочах и изложу события лишь в общих чертах; возможно, они вам известны, хотя вас уже давно здесь не было.
Пепита Хименес вышла замуж за дона Гумерсиндо.
Завистливые языки жестоко хулили ее как до брака, так и долгое время спустя.
В самом деле, нравственная сторона этого союза достаточно спорна. Но если вспомнить о просьбах, жалобах, и даже прямых приказаниях ее матери, о надеждах Пепиты обеспечить этим замужеством спокойную старость для матери, спасти от позора и бесчестья брата, стать их ангелом-хранителем, их провидением, – то нужно признать, что поступок ее заслуживает снисхождения. Да и как проникнуть в глубину души, в сокровенные тайники разума юной девушки, воспитанной в тиши уединения и полном неведении жизни? Какое представление о браке могло у нее сложиться? Может быть, она думала, что, выйдя замуж за дона Гумерсиндо, она посвятит всю жизнь заботам о нем, будет его сиделкой, усладит его жизнь и не покинет одинокого, больного старика на милость чужих, наемных людей и, наконец, словно ангел, принявший образ женщины, озарит и скрасит своею юностью, нежным сиянием своей сверкающей и пленительной красоты его последние дни. Если таковы были размышления девушки, если в своем неведении она не проникла в другие скрытые тайны, то как не признать ее намерения добрыми.
Но лучше откажемся от всех предположений и догадок: я не имею на них права, так как не знаком с Пепитой Хименес. Одно верно: в течение трех лет она жила со стариком в мире и согласии; дон Гумерсиндо казался счастливее, чем когда-либо; она оберегала его и самоотверженно пеклась о нем, а во время его последней тяжелой болезни ухаживала за ним неутомимо, нежно и любовно, пока старик не скончался на ее руках, оставив ей в наследство большое состояние.
Хотя Пепита уже больше двух лет как потеряла мать, а овдовела более полутора лет назад, она все еще носит траур и живет в скромном, печальном уединении; можно подумать, что она до сих пор оплакивает смерть мужа, словно он был молодым красавцем. Возможно также, что гордость подсказывает ей, какими мало поэтическими средствами она достигла богатства, и в своем душевном смятении, пристыженная и снедаемая укорами совести, она в суровости и уединении пытается умерить боль и излечить сердечную рану.
Здесь, как и везде, люди страстно любят деньги. Впрочем, выражение «как везде» неточно: в многолюдных городах, в больших центрах цивилизации есть другие отличия, которых добиваются так же ревностно, как и денег, ибо эти отличия открывают путь перед людьми, придавая им вес в обществе; но в маленьких городках, где обычно ни литературная, ни научная слава, ни даже благородство манер, тонкий вкус, остроумие, любезность обхождения не ценятся и не считаются достоинствами, – нет других ступеней, создающих социальную иерархию, кроме обладания большим или меньшим состоянием. Пепита, богатая, красивая и к тому же разумно распоряжающаяся своим богатством, пользуется здесь необычайным уважением и весом. Ей предлагают блестящие партии, к ней сватаются самые обеспеченные молодые люди нашей округи. Но она отвергает всех, правда очень мягко, стараясь не нажить врагов; полагают, что она глубоко набожна и мечтает посвятить свою жизнь только делам христианской любви и религиозного благочестия.
Говорят, батюшка преуспел не больше других искателей ее руки. Но Пепита, следуя поговорке: «Храброму не мешает быть учтивым», проявляет к нему чувства искренние, сердечные и бескорыстные. Она с ним чрезвычайно любезна и старается во всем ему угодить; но каждый раз, когда батюшка пытается заговорить с ней о любви, она останавливает его кротким нравоучением, вспоминает его прежние проступки и стремится вызвать в нем разочарование в мирской суетности.
Я слышу так много разговоров об этой женщине, что, признаюсь вам, мне просто любопытно познакомиться с ней. Надеюсь, мое любопытство законно, и полагаю, что в нем нет ничего легкомысленного или греховного; я признаю правоту Пепиты и от всей души желаю, чтобы батюшка в своем зрелом возрасте наконец изменил образ жизни, предав забвению страсти и волнения молодых лет и пришел к спокойной, счастливой и почтенной старости. В одном лишь я не согласен с Пепитой: я думаю, что отец достигнет цели скорее, если женится на достойной, доброй и любящей его женщине. Вот почему я желаю познакомиться с молодой вдовой и удостовериться, может ли она стать этой женщиной; мне даже досадно: я чувствую, что моя семейная гордость задета презрением Пепиты, хотя она и старается облечь его в любезную форму; впрочем, если это дурное чувство, я хотел бы от него освободиться.
Будь у меня иные планы, я предпочел бы, чтобы батюшка остался неженатым. В таком случае я, как единственный сын, унаследовал бы все его богатства, а также звание касика, но вам хорошо известно, как твердо мое решение.
Пусть я недостоин и ничтожен, но я чувствую, что призван стать священником, а земные блага мало привлекают меня. Если во мне есть хоть капля молодого огня и пылкой страсти, свойственных моему возрасту, я посвящу их деятельной и плодотворной христианской любви. Те многочисленные книги, которыми вы снабдили меня, и мои познания из истории древних народов Азии вызывают во мне не только любознательность, но и желание проповедовать веру и побуждают меня отправиться миссионером на далекий Восток. Как только я покину отца и этот городок, куда вы сами послали меня, и, став священником, получу по безграничной доброте всевышнего чудесное и незаслуженное право разрешать от грехов и просвещать язычников, хотя я сам лишь невежественный грешник, как только вечная таинственная благодать снизойдет на меня и вложит в мои недостойные руки плоть и кровь богочеловека, я покину Испанию и отправлюсь проповедовать евангелие в отдаленных землях.
Мной руководит не тщеславие: я не считаю себя лучше других. Если я полон твердой веры и стойкости, этим – после божьей милости и благодати – я обязан, дорогой дядя, вашему разумному воспитанию, святому учению и доброму примеру.
Я не решаюсь признаться себе в одной вещи, но, против моего желания, это соображение, эта мысль, это суждение часто приходит мне на ум; и раз уже так случилось, я хочу и должен исповедаться вам, ибо мне не следует скрывать от вас даже самые затаенные и невольные мысли: вы научили меня анализировать все чувства души, искать их первопричину, хорошую или дурную, исследовать глубочайшие уголки сердца – словом, производить тщательный опрос своей совести.
Я неоднократно размышляю над двумя противоположными методами воспитания: один учитель старается оградить невинность ребенка, вернее его невежество, полагая, что неизвестного зла избегнуть легче, чем известного; другой же, стараясь не оскорбить целомудрия своего ученика, достигшего разумного возраста, мужественно показывает ему зло во всем его ужасном безобразии, во всей его страшной наготе, чтобы он возненавидел и избегал его. Мне думается, зло нужно знать, чтобы лучше оценить безграничную доброту бога – идеальный и недосягаемый предел наших благородных стремлений. Я благодарю вас за то, что вы помогли мне узнать, как говорит священное писание, вместе с медом и елеем вашего учения зло и добро, дабы осудить первое и разумно, настойчиво и сознательно стремиться ко второму. Я рад, что без излишней наивности иду прямой стезей к добродетели и, насколько это в человеческой власти, к совершенству, зная все муки и трудности паломничества, которое нам предстоит в этой юдоли слез, не забывая также о том, насколько, по видимости, ровен, легок, мягок, усеян цветами путь, ведущий к гибели и вечной смерти.
Я считаю себя обязанным поблагодарить вас еще за одно: вы научили меня относиться к ошибкам и грехам, ближних с должной снисходительностью и терпимостью – не слабовольной и потворствующей их порокам, но строгой и взыскательной.
Я все это говорю потому, что хочу посоветоваться с вами по одному настолько щекотливому и сложному вопросу, что я с трудом подыскиваю необходимые слова. Дело в том, что иногда я спрашиваю себя: не лежит ли, хотя бы частично, в основе моих намерений чувство досады против батюшки? Смог ли я в глубине души простить ему страдания бедной матушки, ставшей жертвой его легкомыслия?
Я внимательнейшим образом рассматриваю этот вопрос, но не нахожу в душе и капли ожесточения. Наоборот, душа моя полна благодарности. Батюшка с любовью воспитывал меня, в моем лице ценил память о матери, и я бы сказал, что, балуя меня, с нежностью заботясь обо мне в мои детские годы, он старался смягчить гнев ее оскорбленной души, если только душа моей матушки, ангела доброты и кротости, могла затаить гнев. Итак, повторяю, что я преисполнен благодарности к отцу: он признал меня, а когда мне исполнилось десять лет, послал к вам, и вы стали моим учителем и воспитателем.
Если в моем сердце взошел хоть слабый росток добродетели, если я овладел основами наук, если моя воля стремится к честности и добру – этим я обязан вам.
Любовь батюшки ко мне необычайна, его уважение ко мне безмерно превосходит мои заслуги. Возможно, это следствие тщеславия. В отцовской любви есть нечто эгоистическое, она служит как бы продлением себялюбия. Все мои достоинства и успехи батюшка готов рассматривать как достижение – свое достижение, словно я во плоти и в душе часть его личности. Но во всяком случае, я верю, что он меня любит и что в его любви есть нечто независимое и более высокое, чем этот простительный эгоизм, о котором я говорил.
Моя совесть успокаивается, и я возношу пылкую благодарность богу, когда ощущаю, что сила крови, узы природы – эта таинственная связь, которая роднит нас, – внушают мне бескорыстную любовь и почтение к батюшке. Было бы ужасно, если бы я старался полюбить его лишь во исполнение божественной заповеди. Однако и здесь у меня возникает сомнение: происходит ли мое решение стать священником или монахом, отказаться совсем или принять малую долю тех многочисленных благ, которые перейдут ко мне по наследству и которыми я уже могу пользоваться при жизни батюшки, лишь от презрения к житейской суетности, от истинного призвания к религиозной жизни – или от гордости, тайной горечи и озлобления, от чего-то такого во мне, что не может забыть обиды, которую простила с возвышенным великодушием моя матушка? Это сомнение иногда одолевает и терзает меня, но почти всегда я выхожу из него полный уверенности, что не грешу высокомерием по отношению к батюшке: право, я принял бы от него все, если бы в этом нуждался; и я успокаиваюсь тем, что благодарен ему за малое так же, как и за большое.
До свидания, дядюшка; в дальнейшем я буду писать вам часто и подробно, как вы велели, хотя и не так много, как сегодня, дабы не впасть в грех многословия.
Я начинаю уставать от пребывания в этой местности и каждый день все больше желаю возвратиться к вам и принять духовный сан; но батюшка хочет сопровождать меня и лично присутствовать на великом торжестве, – он просит, чтобы я провел с ним здесь хотя бы еще два месяца. Он так мил, так ласков со мной, что я ни в чем не могу ему отказать. Итак, я останусь здесь столько, сколько он пожелает. Чтобы доставить ему удовольствие, я совершаю над собой насилие и притворяюсь, будто мне нравятся здешние развлечения, сельские пикники и даже охота, – я сопровождаю его повсюду. Я пытаюсь казаться более веселым и шумливым, чем на самом деле. Полушутя и отчасти в похвалу, меня здесь называют «святым»; из скромности я скрываю или смягчаю свою набожность, стараясь умеренными развлечениями придать ей больше простоты; я веселюсь тихо и мирно, а это никогда не было противно ни святости, ни святым. Тем не менее признаюсь, что здешние шалости и празднества, грубые шутки и шумные забавы утомляют меня. Я не хотел бы роптать и впадать в грех злословия даже наедине с вами и втайне от всех, но часто мне приходит в голову мысль, что остаться среди этих людей для проповеди евангелия и нравственного совершенства было бы, пожалуй, значительно труднее, но зато логичнее и похвальнее, чем отправиться в Индию, Персию или Китай, покинув столько соотечественников если и не совсем заблудших, то в какой-то мере испорченных. Как знать! Говорят, будто во всем виноваты новые идеи, материализм и безбожие; по если они в самом деле приводят к таким дурным последствиям, то это происходит не естественным путем, а каким-то странным, волшебным, дьявольским способом, ибо здесь решительно никто не читает ни хороших, ни дурных книг; и я не понимаю, как могли развратить местных жителей вредные учения, распространяемые печатью? Уж не носятся ли безбожные идеи в воздухе, подобно миазмам эпидемии? Я, право, сожалею, что у меня зародилась столь дурная мысль, и сообщаю о ней лишь вам: не виновно ли тут само духовенство? Стоит ли оно в Испании на должной высоте? Проповедует ли оно прихожанам нравственность? Способен ли на это каждый представитель церкви? Обладают ли истинным призванием те, кто посвящает себя религиозной жизни и воспитанию душ, или это для них только способ существования, как и всякий другой, с тою лишь разницей, что ныне ему посвящают себя наиболее нуждающиеся, люди без надежд и без средств, ибо это «занятие» обещает более скромное будущее, чем какое-нибудь другое? Как бы то ни было, недостаток образованных и добродетельных священников вызывает у меня еще большее желание стать служителем церкви. Я не поддаюсь обману себялюбия и признаю за собой множество недостатков, но, чувствуя в себе истинное призвание, я надеюсь исправиться с божьей помощью.
Три дня назад мы были на званом обеде в доме Пепиты Хименес; я уже сообщал вам об ее приглашении. Эта женщина живет так уединенно, что до посещения я не был с нею знаком; она и в самом деле показалась мне прекрасной, и я заметил, что она очень любезна с батюшкой, а это дает ему некоторую надежду, что в конце концов она уступит и примет его предложение.
Так как она, возможно, станет моей мачехой, я внимательно наблюдал за ней, и мне кажется, что это женщина особенная. Я затрудняюсь определить ее духовные качества; внешне она спокойна и кротка, что может происходить от душевной и сердечной холодности, из осторожности и расчета, при полном, или почти полном, отсутствии чувства; но это может быть также следствием других душевных качеств: спокойствия совести, чистоты намерений и готовности исполнять в жизни те обязанности, которые налагает общество; при этом ум ее может стремиться к более возвышенным целям. Но действует ли она из расчета, не уносясь душою в высшие сферы, или же умело соединяет прозу жизни с поэзией своих мечтаний, в ней не чувствуется ни малейшего разногласия с окружающим миром; однако она обладает врожденным благородством, которое возвышает ее над всеми. Она не щеголяет в деревенском платье, но и не следует моде больших городов, – в своем туалете она удачно сочетает оба стиля, так что выглядит сеньорой, но сеньорой провинциальной. Она, насколько я вижу, не хочет показывать, что заботится о своей внешности: на ее лице нет следов краски или пудры, но белизна ее рук, отлично отполированные ногти, чистота и изящество ее платья говорят о том, что она следит за собой больше, чем можно было бы ожидать от особы, живущей в провинции, да еще презирающей суетность мира и думающей лишь о делах небесных.
Ее дом отличается частотой и образцовым порядком. В обстановке его не найдется ценных произведений искусства, но нет и ничего претенциозного или безвкусного. Множество цветов и растений во внутреннем дворе, в залах и галереях придает очарование ее жилищу. Правда, редких деревьев и цветов вы здесь не встретите, но местные растения содержатся отлично.
Канарейки в золоченых клетках наполняют дом веселыми трелями. Видно, что хозяйка дома старается окружить себя живыми существами, на которых можно излить свою нежность, и, не считая горничных, тщательно подобранных, – не случайно же все они хорошенькие, – она, точно старая дева, обзавелась различными животными, составляющими ей компанию: попугаем, очень чистеньким пуделем и двумя-тремя кошками, настолько ручными и общительными, что они прямо надоедают человеку.
В глубине большого зала устроена молельня, где стоит изваяние младенца Иисуса, белолицего и белокурого красавчика с лазурными глазами. Его белоснежное одеяние и голубая мантия усыпаны золотыми звездочками, и весь он увешан драгоценностями; подножки и ступеньки, ведущие к алтарю, где помещается младенец Иисус, убраны цветами, остролистами и лаврами, а наверху горит множество свечей.
Глядя на все это, не знаешь, что и сказать, – право, я склонен думать, что вдова больше всего любит себя, а для развлечения, чтоб было на кого обратить избыток нежности, завела кошек, канареек, цветы и, наконец, младенца Иисуса, которого в глубине души, пожалуй, она ставит не намного выше, чем домашних животных.
Нельзя отрицать ума Пепиты Хименес: ни одной плоской шутки, ни одного неуместного вопроса о моем призвании и сане, который мне предстоит скоро принять, не сорвалось с ее губ. Она беседовала со мной о местных делах, о земледелии, последнем урожае винограда и оливок и о способах усовершенствования виноделия; обо всем этом она говорила скромно и просто, не стараясь представить себя умницей.
Батюшка был в ударе, казался помолодевшим, и его усердное ухаживание принималось дамой его сердца с благодарностью, свидетельствовавшей если не о любви, то о дружеском расположении.
На обеде были еще врач, нотариус и сеньор викарий, преданный друг дома и духовный отец Пепиты.
Сеньор викарий, по-видимому, высокого мнения о ней; он много раз принимался мне рассказывать по секрету о ее благотворительности и щедрых подаяниях, о том, как она сострадательна и добра ко всем людям, – словом, он рисовал ее святой.
Слушая сеньора викария и веря ему, я не могу не желать, чтобы батюшка женился на Пепите. Он ведь не склонен вести жизнь кающегося грешника, и женитьба для него – единственное средство изменить жизнь, доныне весьма мятежную и бурную, остепениться и жить если не образцово, то по крайней мере тихо и спокойно.
Когда мы вернулись от Пепиты Хименес, батюшка в решительных выражениях заговорил со мной о своих планах; он признался, что был большим кутилой, вел разгульную жизнь и, несмотря на свои годы, не знает, сможет ли исправиться, если эта женщина, в которой он видит свое спасение, не полюбит его и не выйдет за него замуж. Далее, предположив, что она уже полюбила его и скоро станет его женой, он заговорил о делах и обещал оставить мне значительную часть своего состояния даже в том случае, если у него будут еще дети.
Я ответил, что для намеченных мною целей мне не потребуется много денег и для меня будет самой большой радостью, если, позабыв о прежних увлечениях, он счастливо заживет с женой и детьми. Батюшка с необыкновенной пылкостью поверял мне свои любовные надежды; право, можно было подумать, будто я отец и старик, а он – мальчик моих лет или еще моложе. Чтобы я лучше мог оценить достоинства невесты и трудность победы, он сообщил мне о высоких качествах и преимуществах пятнадцати или двадцати женихов Пепиты, которым пришлось несолоно хлебавши убраться восвояси; его до известной степени постигла та же участь, но он льстит себя надеждой, что это не окончательно, – ведь Пепита настолько выделяла его среди других и выказывала к нему такую благосклонность, что если ее чувство к нему еще не перешло в любовь, то это легко может произойти в результате длительного общения и его постоянства. Кроме того, уклончивое поведение Пепиты, как казалось батюшке, вызвано какими-то странными причудами, и в конце концов они сами собой исчезнут. Пепита не хочет уходить в монастырь и не питает склонности к покаянной жизни; несмотря на свое затворничество и набожность, она явно любит нравиться. В ее тщательной заботе о своей внешности нет ничего монашеского. Причина уклончивого поведения Пепиты, говорил батюшка, кроется несомненно в ее гордости, вполне обоснованной: может ли она с ее врожденным изяществом, благородством, умом и утонченными вкусами, – сколько бы она ни прикрывала своих качеств скромностью, – отдать сердце неотесанным невеждам, искателям ее руки? Она полагает, будто душа ее полна мистической любви к богу и только бог может ее удовлетворить; но ведь ей еще ни разу не встретился человек достаточно умный и привлекательный, который заставил бы ее забыть даже младенца Иисуса. «Хотя это и нескромно, – добавил батюшка, – но я льщу себя надеждой стать этим счастливым смертным».
Таковы, дорогой дядя, нынешние занятия и заботы батюшки, о которых он часто заводит беседу, желая, чтобы я высказал о них свое мнение. Но сколь чужды они моим целям и помыслам!
По-видимому, лишь крайняя ваша снисходительность распространяла здесь обо мне славу ученого мужа и доброго советника; я слыву кладезем мудрости, все рассказывают мне о своих горестях и просят указать верный путь в жизни. Даже добрейший сеньор викарий, рискуя нарушить тайну исповеди, приходит ко мне за советом по вопросам нравственности, в связи с разными сомнениями, встающими перед ним в исповедальне.
Особенно привлек мое внимание один случай, изложенный викарием, как и прочие, с глубокой таинственностью и без упоминания имени заинтересованной особы.
Его духовную дочь, рассказывал сеньор викарий, одолевают сомнения: она чувствует, что ее с непреодолимой силой влечет к уединенной, созерцательной жизни, но иногда она опасается, что это религиозное усердие вызвано не истинным смирением, а демоном гордости.
Безгранично любить бога, неустанно искать его в глубине души, где он пребывает, отказаться от всех земных страстей и привязанностей, чтобы соединиться с ним – это безусловно благочестивые стремления и добрые намерения; но указанная особа хотела бы знать, не являются ли они плодом преувеличенного себялюбия. "Может быть, они возникают, – спрашивает исповедующаяся, – оттого, что я, недостойная грешница, считаю свою душу лучше душ моих ближних, полагая, что внутренняя красота моего духа и стремлений может быть смущена и омрачена любовью к человеческим существам, которых я знаю и почитаю недостойными себя? Может быть, я люблю бога не превыше всего на свете, не беспредельно, а лишь больше того немногого, что мне известно и что я презираю, – ибо как ценить то, что не может заполнить мое сердце? Если моя набожность основана на этом, то в ней есть два больших недостатка: во-первых, она – порождение гордости, а не чистой, смиренной любви к богу; во-вторых, она словно висит в воздухе, а потому лишена стойкости и ценности, – ибо кто поручится, что душа не окажется способной забыть о любви к своему создателю, если любовь эта не безгранична и основана лишь на ошибочной мысли, будто нет существа, достойного ее любви?
Об этих сомнениях, слишком мудреных и тонких для скромной провинциалки, и пришел посоветоваться со мной отец викарий. Я пытался уклониться от прямого ответа, ссылаясь на неопытность и молодость, но сеньор викарий так настаивал, что мне пришлось волей-неволей высказать по этому поводу ряд мыслей. Я сказал викарию – и был бы очень рад, если бы вы согласились со мной, – что его духовной дочери следует благосклоннее относиться к окружающим, не анализировать, не извлекать на свет их ошибки, а стараться прикрыть их плащом христианской любви, попытаться найти и оценить в людях их достоинства, чтобы любить и уважать людей; ей следует стремиться к тому, чтобы в человеке найти качества, достойные любви, увидеть в нем своего ближнего, равного себе, душу, в чьей глубине скрыта сокровищница превосходных качеств, – словом, существо, созданное по образу и подобию бога. Когда все окружающее нас возвысится, когда мы будем любить и ценить других, как они того достойны и даже больше, и, мужественно заглянув в глубину своей совести, раскроем все свои ошибки и грехи и обретем святое смирение и презрение к себе – тогда сердце преисполнится любви к человеку и будет не презирать, а высоко ценить людей и их качества; и если потом на этой основе вырастет и с непреодолимой силой поднимется любовь к богу, уж не придется опасаться, что эта любовь происходит от преувеличенного себялюбия, гордости или несправедливого презрения к ближнему, – теперь она родится от чистого и святого созерцания бесконечной красоты и добра.
Если, как я подозреваю, относительно этих сомнений и терзаний Пепита Хименес советовалась с сеньором викарием, то отец не может льстить себя надеждой, что он уже любим; но если викарию удастся преподать ей мой совет и Пепита последует ему, то она или станет новой Марией де Агреда [4], или, вернее всего, откажется от склонности к мистицизму и других странностей и примет предложение батюшки, который нисколько не ниже ее.
Однообразие жизни в этом городке начинает изрядно надоедать мне, и не потому, чтобы моя жизнь до сих пор была более деятельной, – скорее наоборот: здесь я много езжу верхом, гуляю в поле и, чтобы угодить батюшке, посещаю казино, бываю в обществе – словом, живу точно в родной, привычной стихии. Но я лишен всякой умственной жизни: книг не читаю, с трудом урываю минутку, чтобы спокойно предаться думам и размышлениям; а раньше вся прелесть моего бытия заключалась именно в этих думах и размышлениях, – вот почему мое теперешнее существование кажется мне таким однообразным. Только благодаря терпению, которое вы советовали мне сохранять во всех случаях, я могу его выносить.
Моя душа неспокойна еще и потому, что во мне растет с каждым днем страстное желание принять духовный сан, к которому я чувствую решительную склонность с давних лет. Сейчас, когда так близко осуществление заветной мечты всей моей жизни, мне кажется кощунством отвлекаться от нее и переносить внимание на что-либо другое. Эта мысль так мучает меня, и я так часто к ней возвращаюсь, что мой восторг перед красотой созданных творцом неба и звезд, сияющих в эти весенние ясные ночи, восхищение зелеными всходами на полях Андалусии, прохладными садами с чарующими тенистыми аллеями, тихими ручейками и прудами в безлюдных уединенных уголках, где щебечут птицы, где столько душистых цветов и трав, – я повторяю, этот восторг и восхищение, которые, как мне прежде казалось, не противоречат религиозному чувству, не ослабляют, но, напротив, окрыляют и утверждают его в моей душе, – теперь кажутся мне грешным, непростительным забвением вечного ради временного, забвением несозданного и сверхчувственного ради сотворенного и ощутимого. Хотя я недалеко ушел по стезе добродетели и мой дух еще не победил призраков воображения, хотя мое внутреннее, "я" не вполне свободно от внешних впечатлений и утомительного метода рассуждений [5], хотя я не способен усилием божественной любви подняться на вершину разума и непосредственного постижения [6], чтобы узреть истину и добро, не прикрытые образами и формами, но уверяю вас, что я боюсь молитвы с участием воображения, свойственной человеку слабому и так мало успевшему, как я. Даже рассудочное размышление внушает мне страх. Я не хотел бы рассуждать, чтобы познать бога, не хотел бы приводить доказательств в пользу любви, чтобы любить его. Я желал бы одним взмахом крыльев воспарить к внутреннему созерцанию его существа. Кто дает мне крылья голубя, дабы вознестись в чертоги всевышнего, куда стремится моя душа? Но где, в чем мои заслуги? Где умерщвление плоти, длительная молитва и пост? Боже, что сделал я для того, чтобы ты был милостив ко мне?
Я превосходно знаю, что современные нечестивцы без всякого основания обвиняют нашу святую веру в том, что она побуждает людей ненавидеть все земное, презирать природу, опасаться ее, как если бы в ней было нечто дьявольское, и отдаваться целиком лишь тому, что маловеры называют чудовищным эгоизмом любви к богу, – ведь они считают, что, любя бога, душа любит самое себя. Я превосходно знаю, что это не так, что истинное вероучение не таково, – ведь божественная любовь означает милосердие, и любить бога – значит, любить все, ибо непостижимым и чудесным образом все в боге и бог во всем. Я превосходно знаю, что не грешу, любя творения, что допустимо и справедливо любить их, ибо что же сами они, как не проявление, не плод божественной любви? И тем не менее какая-то странная боязнь, необычное сомнение, едва ощутимые, неопределенные угрызения совести мучают меня теперь, когда я, как прежде, как в дни моей юности, как в раннем детстве, ощущаю прилив нежности и восторга, проникая в чащу леса, слушая в ночном безмолвии пение соловья, внимая щебетанию ласточек и влюбленному воркованию горлицы, глядя на цветы и звезды. Порой мне чудится, что в моих ощущениях присутствует чувственное наслаждение, нечто отвлекающее меня на один миг от моих высоких стремлений. Я не хочу, чтобы дух мой грешил против плоти; но я не желаю, чтобы красота материального мира, его наслаждения, даже самые утонченные, нежные и воздушные, даже те, что скорее воспринимаются духом, чем плотью, – как легкое веяние свежего воздуха, напоенного ароматом полей, как пение птиц, как спокойное и величественное безмолвие вечерних часов в садах и цветниках, – отвлекали меня от созерцания высшей красоты и хотя бы на одно мгновение умеряли мою любовь к тому, кто сотворил стройное здание вселенной.
Я не скрываю от себя, что материальные предметы подобны буквам в книге или обозначениям и знакам, которые помогают душе постичь глубокий смысл, прочесть и раскрыть красоту бога, чей образ, или, вернее, эмблема, находится в них, не изображая бога, но представляя его. Порой, заметив различие между знаком и образом, я начинаю еще больше сомневаться и терзаться угрызениями совести. Я говорю себе: если я преклоняюсь перед красотой земных предметов, если я слишком люблю их – не идолопоклонство ли это? Ведь я должен любить красоту лишь как знак, как изображение сокровенной божественной красоты, которая в тысячу раз дороже и несравненно выше всего.
Недавно мне исполнилось двадцать два года. До сих пор мой религиозный пыл был столь велик, что я не знал иной любви, кроме непорочной любви к богу и его святой религии, которую я желал бы проповедовать, чье торжество желал бы видеть во всех уголках земли. Признаюсь, что к этой чистой любви примешивалось в какой-то степени земное чувство. Вы это знаете, я часто говорил вам об этом; вы же, относясь ко мне с обычной снисходительностью, отвечали, что человек не ангел и даже стремление к подобной праведности есть гордыня; вы мне советовали умерять подобные чувства, но не заглушать их совсем. Любовь к науке, жажда личной славы, достигнутой с помощью той же науки, даже высокое мнение о себе – все это, испытываемое с умеренностью, смягченное христианским смирением и направленное к доброй цели, хотя и таит зерно себялюбия, однако может служить побуждением и опорой для самых твердых и благородных решений. Итак, сомнение, овладевшее мной, касается не моей гордости и чрезмерной самоуверенности, жажды мирской славы или излишней научной любознательности – нет, дело не в этом, а в чем-то до известной степени противоположном. Меня охватывает порой изнеможение, вялость воли, томление, – и, глядя на милый цветок или созерцая таинственный, тонкий, призрачный луч далекой звезды, я так легко плачу от нежности, что мне почти страшно.
Скажите мне, что вы думаете обо всем этом, и нет ли чего-нибудь нездорового в моем душевном состоянии?
Деревенские развлечения все продолжаются, и я, вопреки желанию, вынужден принимать в них участие.
В сопровождении батюшки я осмотрел почти все наши владения. Батюшка и его друзья были поражены, что я не оказался полным невеждой в вопросах сельского хозяйства, – изучение богословия кажется им несовместимым с познанием природы; они удивились моей осведомленности, когда среди виноградных лоз, на которых едва начали распускаться листочки, я отличил лозу Педро-Хименес от Дон-Буэно. Но не менее поразило их и то, что среди зеленых побегов я смог отличить ячмень от пшеницы и анис от бобов, что знаю много фруктовых и декоративных деревьев и даже среди сорных трав угадал ряд названий и рассказал кое-что об их свойствах и особенностях.
Пепита Хименес, узнав от батюшки, что мне очень нравятся здешние сады, пригласила нас к себе на хутор, отведать ранней земляники. Это желание Пепиты угодить батюшке, который к ней сватается и которого она отвергает, часто кажется мне заслуживающим порицания кокетством, но когда я вижу, как проста, искренна и чистосердечна Пепита, все дурные мысли исчезают и я начинаю верить, что она так поступает не из расчета, а лишь стремясь сохранить верную дружбу, которая издавна связывает ее с нашей семьей.
Как бы то ни было, третьего дня под вечер мы отправились на хутор. Это очаровательное место, самое прелестное и живописное, какое только можно себе представить. Там протекает речка, орошающая почти все здешние сады и питающая множество каналов; за хутором устроена плотина, и после орошения избыток воды устремляется в глубокий овраг, окруженный серебристыми тополями, осокорями, ивами, цветущими олеандрами и другими густолиственными деревьями. Образуя чистый и прозрачный водопад, река, пенясь, течет по дну оврага, а затем вновь устремляется по извилистому руслу, вырытому природой; берега пестрят цветами и травами, а сейчас, весной, усеяны множеством фиалок. Склоны холмов на окраине хутора поросли смоковницами, ореховыми и другими плодовыми деревьями. А на равнине чередуются грядки с земляникой, помидорами, картофелем, фасолью, перцем; за ними – небольшой сад, полный цветов, которыми так изобилуют здешние края. Особенно много роз – их сотни сортов. Домик садовника красивее и чище тех, которые обычно встречаешь в этих местах, а неподалеку стоит беседка, где Пепита и угостила нас великолепным завтраком с земляникой в качестве главного блюда. Для столь ранней поры земляники было удивительно много; ее подавали с козьим молоком, – в хозяйстве Пепиты есть и козы.
В пикнике принимали участие врач, нотариус, моя тетка донья Касильда, батюшка и я, а также неизменный гость – сеньор викарий, духовный отец и восторженный почитатель Пепиты.
По утонченному, несколько сибаритскому обычаю за завтраком нам прислуживали не садовник с женой и мальчиком или местные крестьяне, а две миловидные девушки – горничные Пепиты, обе в живописных деревенских нарядах; все на них выглядело просто, но необыкновенно мило: облегающие фигуру платья из яркого ситца и шелковые косынки на плечах; ничем не покрытые блестящие черные волосы, заплетенные в тугие косы и уложенные сзади узлом в форме молоточка, а спереди – падающие на лоб завитки, которые именуются здесь «улитками»; и у всех свежие розы в волосах.
Наряд Пепиты – черное шерстяное платье – отличался только цветом и высоким качеством ткани от одежды девушек; юбка была не слишком коротка, но и не волочилась по земле. Скромная косынка черного шелка покрывала, по местной моде, ее грудь и плечи, а на голове не было иных украшений, кроме ее собственных золотистых волос, – ни замысловатой прически, ни цветка, ни драгоценностей. Но я обратил внимание, что, вопреки деревенским обычаям, она носила перчатки. Говорят, Пепита уделяет много внимания своим красивым белым рукам с блестящими розовыми ногтями; может, она и вправду грешит тщеславием, но, пожалуй, ей можно простить эту человеческую слабость: если я не ошибаюсь, святая Тереса в молодости тоже обладала подобным тщеславием, что, однако, не помешало ей стать великой святой.
Действительно, я могу понять, если не извинить, это забавное тщеславие. Так благородно, так аристократично иметь красивые руки. Мне иногда даже представляется, что в этом есть нечто символическое. Рука – это творец наших трудов, признак нашего благородства, средство, с помощью которого разум облекает в форму художественные мысли, создания воли и осуществляет власть, которую бог даровал человеку над всем, что им создано. Рука грубая, жилистая, сильная, может быть мозолистая – рука труженика, рабочего – благородно доказывает эту власть, но в той части, которая носит грубо материальный характер. Напротив, руки Пепиты – почти прозрачные, с легким розоватым оттенком; кажется, видишь, как пульсирует ясная кровь, придающая жилкам нежный голубой отблеск, – эти руки, говорю я, с точеными, безукоризненной формы пальцами, кажутся символом волшебного господства, таинственной власти, осуществляемой человеческим духом, без участия материальной силы над всеми видимыми предметами, созданными богом и совершенствуемыми и улучшаемыми им при участии человека. Невозможно поверить, чтобы человек, обладающий такими руками, мог таить нечистые помыслы и грубые, низкие расчеты.
Нечего и говорить, что, как и всегда, батюшка был поглощен Пепитой, а она обходилась с ним весьма любезно и ласково, хотя ее приветливость была более дочерней, нежели того желал бы отец. Действительно, батюшка, несмотря на репутацию человека довольно фамильярного и даже развязного с женщинами, относится к Пепите с таким почтением и уважением, какого и сам Амадис не оказывал сеньоре Ориане [7] в те времена, когда он смиренно за ней ухаживал, – ни одного слова, сказанного невпопад, ни одного грубого и назойливого комплимента, ни даже легкого, шутливого намека на любовь, – из тех, что так часто позволяют себе андалусцы. Он не осмеливается сказать Пепите: «У тебя изумительные глаза», хотя, сказав это, не солгал бы, потому что у нее глаза и в самом деле прекрасные – большие, миндалевидные в зеленые, как у Цирцеи [8]; особенную прелесть придает им то, что она как будто и сама не знает, что у нее за глаза, – в ней не чувствуется никакого намерения привлекать и очаровывать мужчин нежными взорами. Кажется, она считает, будто глаза служат лишь для того, чтобы смотреть, и ни для чего больше. А между тем я слышал, что большинство молодых красивых женщин действуют глазами, как боевым оружием, как электрическим прибором, рождающим искру, которая, подобно молнии, воспламеняет сердца. Несомненно, глаза Пепиты с их небесной ясностью и спокойствием совсем иные. Нельзя, однако, утверждать, будто они взирают с холодным равнодушием: они полны кротости и нежности, они с любовью останавливаются на луче света, на цветке, на любом неодушевленном предмете, – но с еще более мягким, человечным и ласковым чувством они взирают на ближнего. Однако никто, как бы молод и самонадеян он ни был, не осмелится предположить в этом спокойном и мирном взгляде что-нибудь большее, чем простое человеколюбие, христианскую любовь к ближнему и – в крайнем случае – дружеское расположение.
Неужели все это искусственно? Неужели Пепита только талантливая комедиантка? Но мне кажется невозможным такое совершенное притворство, такая тонкая игра. Значит, сама природа руководит и служит направляющим началом для этого взгляда и этих глаз. Безусловно, сперва Пепита любила свою мать; затем в силу обстоятельств, из чувства долга, полюбила дона Гумерсиндо, как спутника жизни; а когда все земные влечения в ней угасли, она, полюбив бога и все живое из любви к нему, приобрела безмятежное и даже завидное состояние духа. Достойным порицания тут может быть лишь ее безотчетный эгоизм: ведь так удобно любить без страданий, без борьбы со страстью, превращая привязанность к другим в нежность, дополняющую любовь к самому себе.
Иногда на меня находит сомнение: осуждая Пепиту, не порицаю ли я себя? Достаточно ли я знаю душу этой женщины, чтобы ее судить? Быть может, полагая, что вижу ее душу, я вижу свою? У меня не было и нет страсти, с которой приходилось бы бороться; все мои склонности и стремления, добрые и дурные, благодаря вашим мудрым советам без препятствий и затруднений достигнут желанной цели; при этом будут удовлетворены не только мои благородные и бескорыстные, но также и эгоистические желания: любовь к почету и к знаниям, интерес к далеким странам, жажда приобрести имя и славу. Все мои помыслы связаны с избранною мной дорогой. Вот почему мне порой кажется, что я заслуживаю порицания больше, чем Пепита, – если предположить, что она его заслуживает.
Я получил уже младший сан, в душе отказался от мирских сует, принял тонзуру, посвятил себя алтарю, – и однако мне мерещится честолюбивое будущее: с удовлетворением я считаю, что могу его достичь, что у меня есть необходимые для этого положительные качества, хотя иногда, борясь против чрезмерной самоуверенности, я призываю в помощь себе скромность. Ну, а эта женщина? К чему она стремится, чего она хочет? Я порицаю ее за то, что она заботится о своей красоте, за то, что она, быть может, радуется ей, за чистоту и изысканность ее наряда, за кокетство, таящееся в самой ее скромности и простоте. Ну и что же? Разве добродетель должна быть неряшливой? Разве святость должна быть грязной? Разве чистая и ясная душа не смеет радоваться красоте тела? Странно, что я так неблагожелательно смотрю на стремление Пепиты к чистоте и изяществу. Быть может, это происходит потому, что она должна стать моею мачехой? Но ведь она этого не желает! Она не любит батюшку! Впрочем, женщины – удивительные создания! Как знать, не склонна ли она уже в глубине души полюбить батюшку и выйти за него замуж? Быть может, понимая, как высоко ценится то, что дорого обошлось, она намерена сперва измучить его пренебрежением, подчинить своей власти, проверить постоянство его чувств – и наконец спокойно сказать ему «да»? Поживем – увидим!
Во всяком случае, настроение в саду было безмятежным и радостным. Мы говорили о цветах, фруктах, прививках, посадках и множестве других вещей, относящихся к земледелию, причем Пепита превосходила своими агрономическими познаниями и моего батюшку, и меня, и сеньора викария, который слушает ее раскрыв рот и клянется, что за свои семьдесят с лишним лет, проведенных почти целиком в разъездах по Андалусии, он никогда не встречал более умной и рассудительной женщины.
Возвращаясь домой после таких прогулок, я все настоятельнее прошу батюшку отпустить меня к вам, чтобы приблизить желанный момент рукоположения в священники, но батюшка так доволен, что я возле него, он так привык к родным краям, где он управляет своими владениями, пользуется неограниченной властью касика, поклоняется Пените и во всем советуется с ней, точно с нимфой Эгерией [9], что он всегда находит – и, возможно, еще несколько месяцев будет находить – основания и предлоги, чтобы удержать меня здесь. То ему нужно очистить или перелить вино, – а бочонков в подвале немало; то вторично окопать виноград, то окучить молодые оливковые деревья, – словом, он против моей воли удерживает меня; хотя мне бы не следовало говорить: «против моей воли», так как я с великим удовольствием живу в доме батюшки, который так добр ко мне.
Но вот что плохо: я опасаюсь, как бы эта жизнь не засосала меня; мне кажется, что во время молитвы я ощущаю какую-то сухость души, мой религиозный экстаз слабеет, повседневная жизнь вытесняет духовную, молитве и беседе со своей совестью я больше не уделяю того глубокого внимания, какое уделял им раньше. Нежность моего сердца уже не изливается на предметы, достойные внимания, она расходуется на пустяки, бьет через край, часто проявляясь в таких ребячествах, которые кажутся смешными и даже постыдными. Если я просыпаюсь глубокой ночью в тишине и слышу вдруг, как влюбленный поселянин, наигрывая на плохонькой гитаре, поет куплеты фанданго или ронденьяс – не очень остроумные, не очень поэтичные, и не очень изящные, – я умиляюсь, словно слушаю небесную мелодию. Иногда меня охватывает порыв мучительного сострадания. Как-то раз дети управляющего разорили воробьиное гнездо; при виде неоперившихся птенцов, жестоко разлученных с матерью, я испытал такое волнение, что, признаюсь, у меня брызнули слезы. А на днях крестьянин привез с поля теленка, сломавшего ногу; он собрался отвезти его на бойню и пришел спросить у батюшки, какую часть туши он пожелает для своего стола. Батюшка попросил несколько фунтов мяса, голову и ноги. Увидев теленка, я растрогался и хотел купить его у крестьянина: может быть, мне удастся его вылечить и сохранить ему жизнь. Но стыд удержал меня от этого поступка. Словом, дорогой дядя, нужно так доверять вам, как доверяю я, чтобы рассказывать о всех проявлениях неясного чувства, в которых я и сам не разберусь; по ним вы можете судить, как необходимо мне вернуться к прежней жизни, к занятиям, к моим возвышенным мыслям и принять наконец сан, чтобы дать огню, пожирающему мою душу, здоровую и благую пищу.
Задержавшись здесь по просьбе батюшки, я продолжаю жить обычной жизнью. Наибольшее удовольствие – не говоря о счастье жить с отцом – мне доставляют дружеские беседы с сеньором викарием, о которым мы часто и подолгу гуляем. Трудно представить себе, чтобы человек в его возрасте, – а ему около восьмидесяти лет, – мог быть таким крепким, подвижным, таким неутомимым ходоком, – я устаю скорее, чем он; в окрестностях не осталось ни одной крутой тропинки, ни одного уединенного уголка, ни одного холма, где бы мы не побывали.
Узнав ближе нашего викария, я готов изменить мнение об испанском духовенстве, которое я иногда в беседе с вами называл малообразованным. Я часто говорю себе, что этот человек, преисполненный искренности, такой доброжелательный, сердечный и прямодушный, намного лучше любого более начитанного священника, в душе которого не пылает так ярко, как в его душе, пламя божественной любви, соединенное с самой искренней и чистой верой. Не подумайте, что сеньор викарий ограниченный человек; правда, он не получил образования, но душа его открыта и светла. Иногда я думаю, что мое доброе мнение о нем проистекает от внимания, с которым он меня слушает; но если судить беспристрастно, то можно сказать, что он очень тонко во всем разбирается и удачно сочетает с сердечной любовью к святой религии уважение к тем полезным вещам, что принесла нам современная цивилизация. Меня особенно восхищает его простое, естественное отношение к моей преувеличенной сентиментальности, наконец – милосердие, с которым сеньор викарий осуществляет добрые дела. Нет такого бедствия, которого он не облегчил бы, нет несчастья, для которого он не нашел бы ласкового слова, нет унижения, которое он не стремился бы смягчить, нет нужды, которой он не предложил бы заботливую помощь.
Необходимо признать, что во всем этом он имеет прекрасную помощницу в лице Пепиты Хименес; он превозносит до небес ее сострадательность и благочестие, он восхищается ее бесчисленными благодеяниями. Пепита постоянно заботится о нуждающихся, жертвует на бедных, не жалеет средств на молебны и мессы, на новены [10], проповеди и церковные праздники. Если алтари приходской церкви украшены прекраснейшими цветами – знайте, что эти цветы доставлены из ее сада. Если сегодня на статуе скорбящей богоматери вместо потертой ветхой мантии блистает новая, из черного бархата, шитого серебром, – то это дар Пепиты.
Отец викарий постоянно восхваляет и превозносит все эти благодеяния. Итак, когда я не говорю о своих стремлениях, своем призвании и занятиях, которыми сеньор викарий так интересуется, что ловит каждое мое слово, а слушаю его, то разговор после различных поворотов и околичностей всегда сводится к Пепите Хименес. Да в конце концов о ком еще может говорить сеньор викарий? Его общение с врачом, аптекарем, местными богатыми крестьянами едва ли дает основание для краткой беседы. Так как сеньор викарий обладает редчайшим качеством для провинциала, а именно: не любит судачить о жизни соседей, о скандальных происшествиях, – то ему не о ком и говорить больше, как о молодой женщине, которую он часто навещает и с которой ведет задушевные беседы.
Не знаю, что читала Пепита, какое получила образование, но из рассказов сеньора викария можно заключить, что она наделена беспокойным, пытливым умом: вместе с викарием она стремится понять и разрешить все вопросы и загадки, встающие перед ней в жизни, и повергает в смущение доброго сеньора. Разум этого человека, который получил деревенское воспитание и умеет, как говорится, только служить обедню да есть похлебку, открыт для ясного света истины, – но ему не хватает живости ума, и, по-видимому, задачи и вопросы, поставленные Пепитой, открывают пред ним новые дали и новые пути, еще туманные и неопределенные, о которых он раньше и не подозревал; своей неясностью, новизной и таинственностью они его влекут и восхищают.
Отцу викарию известно, что подобные мудрствования рискованны и что он и Пепита подвергаются опасности невольно впасть в ересь; но он успокаивает себя тем, что, хотя он и не великий богослов, но катехизис выучил назубок, и надеется, что бог просветит его и укажет верный путь, а Пепита, следуя его советам, тоже не собьется с дороги.
И вот оба создают целые поэмы о таинствах нашей религии и веры. Их преданность владычице нашей пресвятой Марии безмерна, и я восхищен тем, как они умеют связать доступный всем образ девы с возвышенными богословскими рассуждениями.
Из рассказов сеньора викария можно заключить, что, несмотря на внешнее спокойствие и ясность, душа Пепиты Хименес изнемогает от невыносимой боли. Прошлое встает преградой на ее пути к совершенству. Пепита любила дона Гумерсиндо как своего спутника и благодетеля, как человека, которому обязана всем; но ее мучит, у нее вызывает стыд воспоминание о том, что дон Гумерсиндо был ее мужем.
В ее преданности деве Марии чувствуется болезненное унижение, печаль и горечь воспоминаний о ее недостойном бесплодном браке.
К ее поклонению младенцу Иисусу в маленькой домашней молельне примешивается материнская любовь, которая ищет выхода и, не найдя его, изливается на существо, рожденное в чистоте и непорочности.
Отец викарий говорит, что Пепита поклоняется младенцу Иисусу как богу, но любит его по-матерински, как любила бы своего ребенка, если бы могла не стыдиться его зачатия. Молясь пресвятой деве, добавляет наш викарий, и украшая прелестную статую младенца Иисуса, Пепита мечтает о непорочном материнстве и идеальном ребенке.
Право, не знаю, что и думать обо всех этих странностях. Я так мало знаю женщин! Рассказы отца викария о Пепите меня удивляют, и хотя Пепита мне кажется хорошей, а не дурной, на меня иногда нападает страх за батюшку. Правда, ему уже пятьдесят пять лет, но он ведь влюблен, а Пепита, добрая по натуре, может невольно стать орудием злого духа; ее необдуманное, врожденное кокетство способно оказать на человека более сильное и пагубное действие, чем обдуманный расчет ловкой обольстительницы.
«Как знать, – размышляю я иногда, – может быть, несмотря на все то, на чем зиждется привязанность отца викария к Пепите, несмотря на все ее добрые дела, набожность, подаяния и пожертвования для церкви, на ее уединенную благочестивую жизнь, – в том ореоле, которым она окружена в глазах неискушенного деревенского священника, в его восхищении перед этой женщиной, ошеломляющей его вплоть до того, что он думает и говорит только о ней, – может быть, во всем этом таятся какие-то мирские чары, какое-то дьявольское волшебство?»
А власть Пепиты над отцом, человеком сильной воли и далеко не сентиментальным, тоже загадочна.
И едва ли можно объяснить благотворительностью ту любовь, которую Пепита внушает почти всем местным жителям.
Стоит ей выйти на улицу, как со всех сторон сбегаются дети, чтобы поцеловать у нее руку; девочки постарше ласково улыбаются, приветствуя ее, а мужчины почтительно снимают шляпу и с искренним чувством уважения отвешивают ей низкий поклон.
Многие знали Пепиту ребенком, все видели, как она жила с матерью в бедности, а затем вышла замуж за дряхлого и скупого дона Гумерсиндо, – но теперь прошлое забыто, теперь она кажется каким-то необыкновенным существом, чистым и лучезарным, пришедшим из далекой неведомой страны, и вызывает восторженное обожание у местных жителей.
Я вижу, что незаметно для самого себя впадаю в тот же грех, что и отец викарий, – пишу вам только о Пепите Хименес. Но это естественно. Здесь ни о чем другом и не говорят, словно весь городок насыщен духом, мыслью, образом этой необычайной женщины, которую я еще не способен разгадать: ангел ли она, или утонченная кокетка, исполненная естественного лукавства, хотя эти понятия и кажутся противоречивыми. Говоря по совести, я убежден, что она все же не кокетка и не жаждет покорять сердца ради удовлетворения своего тщеславия.
В Пепите Хименес есть откровенность и искренность. Стоит только взглянуть на нее: спокойная и плавная походка, стройный стан, высокий и чистый лоб, мягкий и ясный взгляд – все соразмерно и созвучно, все слито в совершенной гармонии, без единой фальшивой ноты.
Как я жалею, что приехал сюда, да еще так надолго. Живя у вас в доме и в семинарии, я никого не видел, ни с кем не общался, кроме моих товарищей и учителей; я ничего не знал о мире, кроме того, что познавал путем умозрения и теории; и вдруг, очутившись в провинции, я окунулся в иную жизнь, я брошен в мир с его земными страстями и отвлечен от занятий, размышлений и молитв.
Ваши последние письма, горячо любимый дядюшка, явились приятным утешением для моей души. Как всегда доброжелательный, вы наставляете и просвещаете меня полезными и разумными замечаниями.
Это верно: моя горячность достойна порицания. Я хочу разом, без усилий достигнуть конца тернистого пути, не проходя его шаг за шагом. Я жалуюсь на сухость души во время молитвы, на рассеянность, на приливы ребяческой нежности, я страстно желаю взлететь ввысь, чтобы ближе познать бога, созерцать его сущность и пренебрегаю мысленной молитвой и рассудочным логическим размышлением. Каким образом, не познав чистоты, не увидев света, можно обрести божественную любовь?
Во мне много гордыни, я должен сам унизить себя, чтобы в наказание за самонадеянность и гордость меня, с соизволенья божьего, не унизил дух зла.
И все же я не думаю, что так легко, неожиданно и непоправимо могу пасть, как вы того опасаетесь. Я верю не в себя – я верю в милосердие и благость божию и надеюсь, что этого не случится.
Тем не менее вы тысячу раз правы, предостерегая меня от тесной дружбы с Пепитой Хименес; но я далек от того, чтобы сближаться с ней.
Я знаю, что люди, посвятившие себя религии, и святые, которые должны служить нам образцом и примером, допускали привязанность к женщине и известную близость с ней лишь в глубокой старости, после того, как они прошли великие испытания и измождены постом, или при значительной разнице лет между ними и их благочестивыми подругами, как повествует история святого Иеронима [11] и святой Павлины или святого Хуана де ла Крус [12] и святой Тересы. И даже в том случае, если любовь духовна, она может грешить излишеством. Ибо только богу надлежит царить в нашей душе, как ее господину и супругу, а всякое другое существо, находящее в ней приют, может считаться лишь другом или слугой и должно быть угодно богу – как его создание.
Итак, не думайте, что я считаю себя непобедимым, презираю опасности, бросаю им вызов и ищу их. Кто любит их, тот от них погибает. И если царственный пророк [13], столь угодный сердцу господа и столь любимый им, или великий и мудрый Соломон были соблазнены и согрешили, ибо бог отвратил от них лик свой, не должен ли этого опасаться и я, ничтожный грешник, молодой и не скушенный в кознях дьявола, не успевший закалиться в борьбе против страстей.
Преисполненный спасительного страха перед богом и не доверяя, как и подобает, своей слабости, я не забуду ваших советов и благоразумных наставлений и стану с жаром произносить молитвы и размышлять о божественном, чтобы возненавидеть в мирском то, что заслуживает ненависти; но уверяю вас, до сих пор, как я ни вопрошаю свою совесть, как пристально ни изучаю ее тайники, я не нахожу того, чего опасаетесь вы, и чего мне также следует опасаться.
Если в предыдущих письмах я хвалил душу Пепиты. Хименес, то в этом виновны батюшка и сеньор викарий, а не я; ведь сперва я был даже несправедливо предубежден против этой женщины и далек от благожелательного к ней отношения.
Что касается телесной красоты и изящества Пепиты, поверьте мне, я взирал на них со всей чистотой мысли. И хотя мне тяжело говорить, да к тому же это может огорчить вас, признаюсь, что если какое-либо пятно и омрачило ясное зеркало моей души, в котором отразилась Пепита, так это ваше суровое подозрение, чуть было не заставившее меня самого на мгновение усомниться в себе.
Но нет: разве можно из того, что я с похвалой отзывался о Пепите, вывести заключение, будто я склонен испытывать к ней нечто большее, чем невинное чувство восторга, которое внушает нам произведение искусства, особенно если это произведение высшего мастера, если оно – храм?
С другой стороны, дорогой дядя, мне приходится жить с людьми, общаться с ними, бывать у них, и я не могу лишить себя глаз. Вы сотни раз повторяли, что мне следует вести жизнь деятельную, проповедовать и распространять в мире закон божий, а не предаваться созерцательной жизни в уединении. И вот, оказавшись в таком положении, – как мне следовало себя вести, чтобы не замечать Пепиты Хименес? Если только я не желал быть смешным, стараясь не смотреть на нее, – я не мог не заметить ее красоты; я поневоле видел ее нежную белую кожу, розовые щеки, улыбку, открывающую ровный ряд перламутровых зубов, свежий пурпур губ, ясный и чистый лоб – все очарование, которым наградил ее бог. Конечно, для того, в чьей душе бродят легкомысленные, порочные мысли, впечатление, производимое Пепитой, равносильно удару огнива о кремень, высекающему искру, из которой возникает всепожирающее пламя; но я предупрежден об опасности; вооруженный и прикрытый надежным шитом христианской добродетели, я, право, не вижу, чего мне следует бояться. Кроме того, хотя и безрассудно искать опасности, но какое малодушие бежать от нее, вместо того чтобы смело взглянуть ей в лицо…
Не сомневайтесь: я вижу в Пепите лишь прекрасное создание бога и во имя бога люблю ее, как сестру. Если я и питаю к ней некоторое пристрастие, то лишь благодаря похвалам, которые слышу от батюшки, сеньора викария и почти всех жителей городка.
Любя батюшку, я хотел бы, чтобы Пепита отказалась от своих намерений и планов затворницы и вышла за него замуж; но, если увижу, что у батюшки не подлинная страсть, а лишь каприз, я предпочту, чтобы Пепита сохранила непорочное вдовство; я же, находясь далеко отсюда, где-нибудь в Индии, Японии или еще более опасных странствованиях, с отрадным чувством сообщал бы ей о своих паломничествах и трудах. Возвратившись сюда стариком, я был бы счастлив находиться близ нее, тоже состарившейся; вдвоем мы стали бы вести духовные беседы вроде тех, что она теперь ведет с отцом викарием. Но пока я молод, я не ищу дружбы с Пепитой и редко вступаю в разговор с ней. Я предпочитаю прослыть недалеким, дурно воспитанным и нелюдимым, чем уступить тому чувству, на которое я не имею права, чем дать повод к подозрению и злословию.
Что же касается Пепиты, я ни в малейшей степени не согласен с теми туманными опасениями, которые проскальзывают в ваших письмах. Может ли она составлять планы в отношении человека, который через два-три месяца станет священником? Как, отвергнув стольких женихов, влюбиться в меня? Я хорошо знаю, что, к счастью, не могу внушить страсть. Говорят, я не урод, но ведь я неловок, неуклюж, робок, неостроумен; по мне сразу видно, кто я: скромный семинарист. Чего я стою рядом с бойкими, хотя и немного мужиковатыми парнями, которые сватались к Пепите: ловкими всадниками, умными и забавными собеседниками, смелыми, как Нимврод [14], охотниками, искусными игроками в мяч, замечательными певцами, прославившимися на всех ярмарках Андалусии, стройными, изящными танцорами? Если Пепита пренебрегла ими, как может она обратить внимание на меня и возыметь дьявольское желание и еще более дьявольскую мысль смутить покой моей души, отвлечь от призвания, возможно погубить меня? Нет, этого не может быть. Я считаю Пепиту доброй, а себя, говорю это без ложной скромности, – ничтожеством. Конечно, я считаю себя ничтожным в том смысле, что она не может полюбить меня, но я могу стать другом, достойным ее уважения, и в один прекрасный день, если святой и трудолюбивой жизнью я заслужу это счастье, она почувствует ко мне некоторую склонность.
Простите меня, если я с излишним жаром защищаюсь от намеков в вашем письме, звучащих как обвинение и зловещее предсказание.
Я не жалуюсь на ваши упреки; вы даете мне разумные советы, По большей части я с ними согласен и хочу им следовать. Если вы в своих опасениях идете дальше того, что есть на самом деле, несомненно исходит из вашей привязанности ко мне, за которую я от всего сердца вас благодарю.
Как это ни странно, но такова истина – за столько дней я не смог выбрать время, чтобы написать вам. Отец не оставляет меня в одиночестве, и со всех сторон нас осаждают знакомые и друзья.
В больших городах можно не принимать, удалиться от людей, создать себе уединение, Фиваиду [15] среди всеобщей суеты. А в андалусском городке, и особенно в семье касика, приходится жить на людях. Викарий, нотариус, мой двоюродный брат Куррито – сын доньи Касильды, все проходят – и никто не додумается их остановить – не только в комнату, где я пишу, но даже в спальню, будят меня, если я сплю, и уводят куда им вздумается.
Казино здесь не только место для вечерних развлечений; оно открыто в любое время дня. С одиннадцати утра там уже полно народу; одни болтают, другие просматривают газеты в поисках новостей или играют в ломбер. Иные по десять – двадцать часов в день проводят за картами, – словом, здесь царит такая очаровательная праздность, что и представить себе трудно. Досуг заполняется множеством развлечений: кроме ломбера, часто составляется компания для игры в фараон, шашки, шахматы; в почете и домино. И, наконец, здесь страстно увлекаются петушиными боями.
Эти развлечения, наряду с приемом гостей, осмотром владений и наблюдением за полевыми работами, вместе с ежевечерней проверкой отчетов управляющего, посещением винных погребов и бочарных складов, очисткой, переливанием и улучшением вин, разговорами с цыганами и барышниками о покупке, продаже или обмене лошадей, мулов и ослов, или продажей нашего вина виноторговцам, которые превращают его в херес, – все это каждодневно занимает местных идальго, сеньорито или как их там называют. Случаются и другие дела и события, вносящие оживление в жизнь городка, – сенокос, сбор винограда и маслин; а то ярмарка или бой быков у нас или в ближайшем селе, иной раз паломничество в часовню с чудотворной статуей пресвятой Марии, – для некоторых это просто повод поглазеть на людей, повеселиться и раздобыть для друзей образки и ладанки, но большинство совершает паломничество из благочестия, по обету. Одна из таких часовен стоит на высокой горе, но даже слабые женщины иной раз поднимаются туда босиком по крутой, едва заметной тропинке, раня ноги о кустарники, колючки и камни.
Жизнь здесь имеет свою прелесть. Для тех, кто не мечтает о славе и не одержим честолюбием, она весьма спокойна и приятна. Даже уединение можно здесь найти – надо лишь приложить усилие. Так как я здесь живу временно, то мне нельзя – да и не нужно – его искать. Но если бы я обосновался здесь прочно, мне нетрудно было бы, никого не обижая, запереться хоть на целый день, чтобы в одиночестве предаться занятиям и размышлениям.
Ваше последнее письмо несколько опечалило меня. Я вижу, вы остаетесь при своих подозрениях, и я не знаю, что сказать еще в свое оправдание, кроме того, что уже написал.
Вы говорите, что есть сражения, в которых великая победа достигается бегством: бежать – значит победить. Как могу я опровергать то, что изрек апостол, а вслед за ним столько святых отцов и богословов? Однако вы хорошо знаете, что бежать не в моей воле. Батюшка не хочет, чтобы я уезжал. Он держит меня здесь вопреки моему желанию, я вынужден ему подчиниться. Поэтому мне следует одержать победу другим путем, а не бегством.
Я успокою вас: борьба еще только началась, а вам кажется, что дело зашло уже очень далеко.
Нет никаких оснований полагать, что Пепита Хименес меня полюбила. Но если даже она любит меня, ее чувство никак нельзя сравнить со страстью тех женщин, чей пример вы приводите мне в назидание. В наши дни воспитанная порядочная женщина не так легко воспламеняется, как те, не знавшие удержу матроны, о которых сообщают древние легенды.
Место, которое вы приводите из трудов святого Иоанна Златоуста [16], достойно величайшего уважения, но оно не совсем подходит к данному случаю. Жена царедворца, влюбившаяся – в Офе, Фивах или Диосполисе Магне – в любимого сына Иакова, очевидно была необыкновенно красива. Только тогда понятно утверждение святого, будто равнодушие Иосифа – чудо, которое по беспримерности своей превосходит историю необыкновенного спасения трех юношей, брошенных Навуходоносором в огненную печь.
Если говорить о красоте, едва ли жена того египетского князя или старшего управителя во дворце фараонов была прекраснее Пепиты Хименес; но я не похож на Иосифа, человека великих дарований и замечательных достоинств, а Пепиту нельзя сравнить с женщиной, которая не знала ни скромности, ни истинной веры. И если бы даже все было так – хотя подобное предположение ужасно, – я объясняю преувеличение, допущенное святым Иоанном Златоустом, лишь тем, что он жил в развращенной, полуязыческой столице Восточно-Римской империи, при дворе, пороки которого он столь резко порицал и где сама императрица Евдоксия давала пример похотливой распущенности. Но в наши дни евангельское учение так глубоко проникло в христианское общество, что мне кажется необоснованным считать скромность целомудренного Иосифа более чудесной, чем нетленность трех вавилонских юношей.
В своем письме вы затрагиваете еще один вопрос, и ваше суждение о нем меня поддерживает и воодушевляет: вы справедливо порицаете излишнюю чувствительность и способность проливать слезы из-за пустяков, чем, как вам известно, я иногда страдаю; но вы рады, что эта душевная слабость, к сожалению свойственная мне, не посещает меня в часы молитв и размышлений. Вы признаете достойной похвалы ту истинно мужскую энергию, которая присутствует в моих помыслах, стремящихся к богу, – и вы приветствуете ее. Ум, жаждущий понять бога, должен быть бодрым; воля может целиком подчиниться уму лишь в том случае, если она прежде одержит победу над собой, мужественно ведя борьбу со всеми желаниями, торжествуя над всеми искушениями; чистое горячее чувство, которое может посетить даже простые и робкие сердца, чтобы в минуту чудесного прозрения открыть им доступ к познанию бога, порождается, помимо божественной милости, твердым и цельным характером. А вялость, слабость воли, болезненная нежность ничего общего не имеют с милосердием, набожностью и любовью к богу. Первые свойства присущи мужчинам, которые слабы как женщины, вторые же – страсти, – если только их можно назвать страстями, – присущи больше ангелам, нежели мужчинам. Да, вы правы, веря в меня и надеясь, что я не погибну, что расслабляющее, размягчающее сострадание не откроет пороку врата моего сердца и не примирится с ним. Бог спасет меня, я буду бороться, чтобы спастись с его помощью, по если мне суждено погибнуть, всепожирающие смертные грехи проникнут в крепость моего сознания лишь после упорнейшего сражения и войдут открыто, с развевающимися знаменами, сметая все огнем и мечом.
В последние дни мне представился случай подвергнуть великому испытанию терпение и жестоко уязвить свое самолюбие.
Батюшка решил устроить обед в честь Пепиты, в ответ на угощение, которое она устроила в саду, и пригласил ее на свой хутор в Посо де ла Солана. Выезд состоялся двадцать второго апреля. Я никогда не забуду этого дня.
Посо де ла Солана находится на расстоянии более двух лиг от городка, и туда можно проехать только верхом. Все сели на лошадей. Мне же пришлось сесть на мула, – ведь я никогда не учился верховой езде и обычно сопровождал батюшку на смирном муле; по выражению погонщика Дьентеса, это животное благороднее золота и покойнее кареты.
Батюшка, нотариус, аптекарь и мой двоюродный брат Куррито гарцевали на отличных скакунах. Тетя Касильда, весом более семи пудов, ехала в дамском седле на огромной ослице. Сеньор викарий восседал на муле, не менее послушном и смирном, чем мой.
Я думал, что Пепита Хименес поедет также на муле, не зная, что она умеет ездить верхом. Но каково же было мое удивление, когда она появилась в амазонке на горячем, сером в яблоках, коне, которым она правила с изумительной ловкостью и изяществом!
Я несказанно обрадовался, увидев, как хорошо сидит в седле Пепита Хименес, но почувствовал, что мне выпала неприглядная роль; я был уязвлен: мне пришлось вместе с увесистой доньей Касильдой и сеньором викарием тихо и покойно, как в коляске, плестись позади, в то время как блестящая кавалькада гарцевала, переходя с рыси на галоп, делая различные маневры и вольты.
Вдруг мне показалось, что Пепита смотрит на меня с состраданием: жалкий вид, должно быть, имел я, восседая на муле. Двоюродный братец Куррито, посмотрев на меня с лукавой улыбкой, принялся отпускать разные шуточки.
Похвалите же мое смиренное и мужественное терпение! Безропотно переносил я все испытания; и, убедившись в моей неуязвимости, Куррито перестал подшучивать надо мной. Но сколько я выстрадал! Они скакали, пускались в галоп, то обгоняя нас, то возвращаясь назад. Мы с викарием сохраняли безмятежность, как наши мулы, и ехали, не меняя шага, рядом с доньей Касильдой.
Мне не осталось в утешение даже возможности поговорить с отцом викарием, с которым так приятно беседовать; я не мог ни уйти в себя, чтобы помечтать, ни спокойно восхищаться красотой окружающей местности. Донья Касильда невероятно болтлива, – поневоле приходилось ее слушать. Она поведала нам все сплетни городка, похвасталась всеми своими талантами, объяснила, как делать сосиски, мозговую колбасу, как печь слоеное тесто и тысячи других кушаний и блюд. По ее словам, никто не превзошел ее в кулинарном искусстве и в уменье разделывать свиней, кроме Антоньоны, кормилицы Пепиты Хименес, а сейчас ключницы и экономки. Я уже знаю эту Антоньону; она то и дело приходит к нам с поручениями и кажется весьма толковой женщиной. Она так же говорлива, как и тетя Касильда, но только намного умнее ее.
Дорога в Посо де ла Солана восхитительна; но мне было не по себе, я не мог ею любоваться. Когда мы достигли хутора и спешились, у меня словно камень с души свалился, точно не я ехал на муле, а мул на мне.
Мы обошли пешком все уголки великолепного обширного владения. Там более ста двадцати фанег [17], сплошь засаженных старым и молодым виноградом; столько же, если не больше, занято оливковой рощей; и, наконец, дубрава, – ну, таких дубов, пожалуй, по всей Андалусии не сыщешь! В Посо де ла Солана протекает чистый полноводный ручей, к нему слетаются все окрестные птицы; их сотнями ловят здесь в силки с клеем или в сети с приданной птицей и кормом. Тут я вспомнил свои детские развлечения, вспомнил, как часто я таким же способом ловил птиц.
На берегу ручья и особенно в котловинах много тополей и других деревьев; вместе с подлеском и высокой травой они образуют запутанные лабиринты и дают густую тень. Душистые лесные цветы растут здесь на полной свободе; кругом все дышит уединением, тишиной, покоем, все так естественно среди этой дикой природы. В полуденный зной, когда солнце потоками льет свои лучи с безоблачного неба, в тихую горячую пору сьесты здесь ощущаешь тот же таинственный трепет, что и в ночные часы. И невольно представляешь себе, как жили древние патриархи, первобытные герои и пастухи и как им в ясный полдень являлись образы и видения – нимфы, божества и ангелы.
Когда мы пробирались сквозь чащу, я, сам не знаю как, оказался вдруг наедине с Пепитой, совсем рядом с ней. Вокруг никого не было.
Я почувствовал дрожь во всем теле. Впервые я остался наедине с этой женщиной, вдали от всех, и как раз в ту минуту, когда мне вспомнились те чудесные видения, порой зловещие, порой пленительные, которые посещали людей в далекие времена. Пепита сменила длинную юбку амазонки на короткое платье, не стеснявшее чарующей легкости ее движений. Красивая андалусская шляпа не скрывала ее липа. В руке она держала хлыст, показавшийся мне волшебной палочкой, которой фея могла околдовать меня.
Я не боюсь еще раз воздать хвалу ее красоте. В этих диких местах она показалась мне необыкновенно прекрасной. Вопреки желанию, я вспомнил, что аскеты в подобных случаях советуют представить себе красавицу обезображенной старостью и болезнями или даже мертвой, издающей зловоние, гниющей и поедаемой червями; я говорю: «вопреки желанию», – потому что не считаю необходимой эту страшную меру предосторожности. Ни одна дурная мысль не шевельнулась у меня в голове; злому духу не удалось смутить мой разум и чувства или поколебать мою волю.
Зато мне пришел в голову довод, уничтожающий, по крайней мере для меня, смысл этой предосторожности. Красота, создание высшего, божественного искусства, может быть непрочной, эфемерной, может исчезнуть в один миг, но ее идея вечна: в разуме человека, воспринявшего ее, она живет бессмертной жизнью. Красота этой женщины в том виде, в каком она сейчас проявляется, быстро исчезнет: прекрасное тело, грациозные формы, благородная голова, так восхитительно венчающая плечи, – все станет нищей отвратительных червей, материя недолговечна; но кто разрушит форму, художественную мысль, красоту? Разве красота не живет в божественном разуме? Воспринятая и познанная мною – разве не будет она жить в моей душе, победив старость и даже смерть?
Так размышлял я, когда мы с Пепитой остались вдвоем. Так успокаивал я свой дух и умерял подозрения, которые вы вселили в меня. Я и желал и не желал, чтобы подошли остальные участники прогулки. Мне было отрадно и в то же время страшно находиться наедине с этой женщиной.
Серебристый голос Пепиты нарушил тишину. Она вывела меня из раздумья, обратившись ко мне:
– Как вы молчаливы и печальны, сеньор дон Луис! Мне тяжело думать, что, может быть, по моей вине, по крайней мере отчасти, ваш отец сегодня доставил вам неприятность – привез к эти уединенные места и нарушил ваше еще более строгое уединение, в которое вы погружаетесь дома, где ничто не отвлекает вас от молитв и благочестивого чтения.
Не помню, что я ей ответил. Наверное, сказал какую-нибудь глупость, потому что я был смущен. Мне не хотелось говорить Пепите комплименты и светские любезности, – но не мог же я грубо ее оборвать.
Она продолжала:
– Простите, я не хочу показаться вам злой, но мне кажется, вы недовольны не только тем, что вас оторвали сегодня от любимых занятий, – вашему плохому настроению способствует нечто другое.
– Что же именно? – спросил я. – Скажите мне, раз вы все видите или считаете, что вы так проницательны.
– Вы чувствуете себя, – ответила она, – не как человек, которому скоро предстоит стать священником, а как юноша в двадцать два года.
Когда я услышал это, кровь прихлынула к моему лицу, оно запылало. Самые нелепые чудовищные мысли пришли мне в голову: эти слова, решил я, вызов со стороны Пепиты, намеревающейся показать мне, что она знает, как она мне нравится. Теперь моя робость превратилась в гордость, в дерзость, и я взглянул на Пепиту в упор. В моем взгляде, наверное, было что-то странное, но она или не заметила этого, или – благоразумно и доброжелательно – сделала вид, что не заметила.
– Не обижайтесь, если я обнаружила у вас недостаток! – непринужденно воскликнула Пепита. – По-моему, это так естественно. Вам докучают шутки Куррито и, попросту говоря, незавидная роль, которую вам пришлось сыграть, сидя на послушном муле, подобно восьмидесятилетнему сеньору викарию, а не на горячем коне, как подобало бы молодому человеку ваших лет и вашего положения. Это вина сеньора настоятеля: он не подумал, что вам нужно научиться ездить верхом. Это может пригодиться вам в будущем, и, я думаю, раз уж вы здесь, ваш отец мог бы научить вас за несколько дней. Когда вы отправитесь в Персию или в Китай, где нет еще железных дорог, вы попадете в незавидное положение, если окажетесь плохим наездником. Неуклюжий миссионер может даже лишиться уважения язычников, и тогда ему будет труднее наставить их на путь истинный.
Вот какими доводами убеждала меня Пепита в необходимости научиться верховой езде, и я настолько уверился в этом, что дал ей слово просить батюшку стать моим учителем.
– В следующий же раз, – сказал я, – вы меня увидите на самом горячем коне, а не на смирном муле, как сейчас.
– Буду очень рада, – ответила Пепита с кроткой улыбкой.
Тут подоспели отставшие, и я в глубине души обрадовался этому: прежде всего я боялся, что не смогу поддержать беседу и наговорю кучу глупостей, – ведь я не привык беседовать с женщинами.
После прогулки слуги батюшки подали нам на свежей душистой траве у ручья простой, но обильный завтрак. Все оживленно разговаривали. Пепита проявила много ума и находчивости. Куррито опять стал подшучивать над моими способностями наездника и над кротостью моего мула. Он назвал меня богословом и заявил, что на муле я был похож на священника, раздающего народу благословения. Я же, твердо решив стать хорошим наездником, отвечал на его шутки колко и непринужденно. Тем не менее я умолчал о данном мною слове. Хотя мы ни о чем заранее не условились, но Пепита, как и я, очевидно решила не сообщать о нашем уговоре, чтобы затем я мог поразить всех своими успехами. Так – просто и естественно – у нас возникла общая тайна, и это наполнило меня каким-то необычайным волнением.
В тот день не случилось больше ничего достойного внимания, о чем стоило бы рассказывать.
К вечеру мы прежней дорогой направились домой. Однако на обратном пути, сидя на своем послушном муле, рядом с тетей Касильдой, я больше не скучал и не огорчался. Всю дорогу тетя Касильда без устали рассказывала всевозможные истории, я слушал ее, а временами давал волю туманным образам моего воображения.
Ничто из происходящего в моей душе не должно остаться для вас тайной. Скажу прямо, что средоточием, или, вернее, ядром или фокусом этих туманных образов, был облик Пепиты.
Ее появление среди бела дня в самой гуще молчаливого тенистого леса вызвало в моей памяти все истории о добрых и злых существах, все чудесные видения, о которых мне случалось читать в священном писании и в книгах светских классиков. Пепита предстала в моем воображении не такой, какой она была, когда ехала на коне перед нами, а как некое идеальное создание, явившееся в лесной тиши человеку, как явилась Энею [18] его мать, Каллимаху [19] – Паллада, чешскому пастуху Кроку – сильфида, зачавшая затем Либушу [20], как Артемида – сыну Аристея, как Патриарху – ангелы в долине Мамврийской [21], как святому Антонию, в пустынном уединении – гиппокентавр [22].
Случайная, вполне обыкновенная встреча с Пепитой превратилась в моем воображении в нечто чудесное, целиком завладела моими мыслями. Уж не сошел ли я с ума? Ведь за несколько минут, проведенных наедине с Пепитой у ручья Солана, не случилось ничего сверхъестественного или необычайного, но позже, когда я тихо ехал на муле, какой-то невидимый искуситель стал кружить вокруг меня, внушая мне странные мысли.
В тот вечер я сказал батюшке, что желаю научиться ездить верхом. Я не стал скрывать от него, что к этому побудила меня Пепита. Батюшка весьма этому обрадовался. Он обнял меня, поцеловал и заявил, что теперь не только вы мой учитель, но и он будет уметь удовольствие научить меня кое-чему. Наконец он заверил меня, что за две-три недели сделает из меня лучшего наездника во всей Андалусии, что я буду способен контрабандой проскочить в Гибралтар и, обманув охрану, вернуться оттуда с мешком табака и изрядной кипой хлопка, – словом, смогу заткнуть за пояс всех наездников, гарцующих на ярмарках Севильи и Майрены, оседлать Бабьеку [23] и Буцефала [24] и даже коней Солнца [25], если они вдруг спустятся на землю и я успею схватить их за узду.
Не знаю, что вы думаете об искусстве верховой езды, которым я овладеваю; надеюсь, что вы не найдете в нем ничего предосудительного.
Если бы вы видели, как доволен батюшка, как он радуется, что стал моим учителем. Мы приступили к занятиям на следующий день после нашей прогулки, о которой я вам рассказывал; я беру по два урока ежедневно, но иногда урок длится непрерывно – мы проводим верхом целый день.
В первую неделю манежем нам служил незамощенный двор дома.
Сейчас мы уже выезжаем в поле, хотя и стараемся выбирать уединенные места. Батюшка не хочет, чтобы я показывался на людях, пока я не буду в состоянии, как он выражается, удивить всех отличной посадкой. Если отцовское тщеславие его не обманывает, этот день наступит скоро, – у меня будто бы удивительные способности к верховой езде. «Сразу видно, что ты мой сын!» – ликующе восклицает батюшка, наблюдая за моими успехами.
Батюшка настолько добр, что вы простите ему крепкие словечки и несколько игривые шутки. В глубине души я огорчаюсь, но терпеливо сношу их.
От постоянных и продолжительных уроков у меня так ломит все тело, что я прямо валюсь с ног. Батюшка советует, мне написать вам, что я покрыт рубцами от самобичевания.
Батюшка утверждает, что скоро курс обучения будет закончен, а так как он не желает уходить в отставку с поста учителя, то предлагает мне начать другие занятия, весьма странные и не вполне приличествующие будущему священнику. То он предлагает научить меня валить быков, а затем отвезти в Севилью, где я с гаррочей [26] в руке утру нос забиякам и драчунам на аренах Таблады. То вспоминает свои юношеские годы и службу в лейб-гвардии и намеревается отыскать свои рапиры, перчатки и маски, чтобы научить меня фехтованию. И, наконец, полагая, что он лучше всех владеет навахой, отец предложил мне свое руководство и в этом искусстве.
Вы, наверное, представляете себе, как я отвечаю на все эти сумасбродства. Батюшка мне возражает, будто в добрые старые времена не только священники, но и епископы, сидя на коне, разили неверных. Я говорю ему, что это могло происходить в эпоху варварства, ныне же слуги всевышнего не должны прибегать к иному оружию, кроме убеждения. «А когда убеждения не помогают, – возражает батюшка, – разве плохо подкрепить доводы двумя-тремя тумаками?» Образцовому миссионеру приходится временами прибегать к таким героическим средствам, полагает батюшка и, будучи начитан в романсах [27] и повестях, подкрепляет свое мнение примерами.
Так, святой Иаков, будучи апостолом, редко сходил со своего белого коня и чаще разил мавров копьем, чем убеждал их словом божьим; а некий сеньор де ла Вера, отправившись с посольством католических королей [28] к Боабдилу [29], ввязался в богословский спор с маврами на Львином дворе [30]. Истощив все доводы, он бросился на них с мечом, чтобы силой добиться их обращения. Наконец отец приводит в пример бискайского идальго дона Иньиго де Лойолу [31]: поспорив с одним мавром о непорочности пресвятой Марии и не выдержав его ужасных богохульств, он напал на мавра с мечом в руке; если бы нехристь не поспешил спастись бегством, Иньиго де Лойола убедил бы его этим страшным доводом. Я возражаю отцу, что последний случай произошел прежде, чем святой Игнатий стал священником, а другие примеры я опровергаю тем, что они не допускают никакой аналогии.
Короче говоря, я защищаюсь, как могу, от шуток отца и стараюсь овладеть лишь искусством наездника; других искусств, недостойных духовного лица, я не познаю, хотя отец уверяет меня, что и по сей день немало испанских священников владеют и пользуются ими, стремясь таким образом содействовать победе веры и сохранению католического единства.
Я сожалею, что мой батюшка без должного благоговения и даже с насмешкой говорит о самых серьезных вещах; но, как почтительный сын, я не смею осуждать отца за его несколько вольтерьянские вольности. (Я называю их несколько вольтерьянскими, потому что не знаю, как назвать их иначе.) В сущности же батюшка хороший католик, и это утешает меня.
Вчера был день обретения честного креста. Городок выглядел оживленно, на каждой улице стояло шесть-семь майских крестов, разукрашенных цветами; однако ни один из них не был так красив, как крест, выставленный у дверей дома Пепиты: он утопал в цветах.
Вечером мы были на празднике у Пепиты. Крест внесли с улицы в большой зал нижнего этажа, где стоит рояль, и Пепита устроила для нас простое и поэтическое зрелище, какое я видел когда-то в детстве.
С вершины креста спускались семь широких лент – две белые, две зеленые и три красные – символ богословских добродетелей. Семь детей пяти-шести лет – семь таинств – взялись за концы семи лент и исполнили танец, – видно было, что они хорошо его разучили; ребенок, одетый в белую тунику, как подобает оглашенным [32], олицетворял крещение; священство представлял мальчик в сутане; конфирмацию – малютка в облачении епископа; елеосвящение [33] – паломник с посохом в руке и в плаще с нашитыми на нем раковинами. Брак представляли жених и невеста. Назарянин с крестом и в терновом венке представлял покаяние. Танец состоял из ритмичных движений с поклонами, поворотами и коленопреклонениями, под звучную музыку вроде марша, которую довольно удачно сыграл на рояле органист.
Маленькие участники празднества – дети прислуги и домочадцев Пепиты, – исполнив свою роль, получили подарки и сласти и отправились спать.
Нам подали фрукты в сиропе, шоколад с бисквитным тортом и чай с безе. Гости разошлись только в полночь.
С наступлением весны Пепита отказалась от своего уединения, чем батюшка весьма доволен. Отныне Пепита будет принимать каждый вечер, и батюшка желает, чтобы я бывал у нее.
Пепита сняла траур и выглядит еще наряднее и краше в легких, хотя и очень скромных, платьях.
Надеюсь, батюшка не задержит меня здесь дольше чем до конца месяца. В июне мы поедем в город, и вы увидите, с какой радостью я, освобожденный от Пепиты, которая обо мне не думает и не вспомянет меня ни добрым, ни злым словом, обниму вас и стану – наконец-то! – священником.
Как я уже писал, каждый вечер с девяти до двенадцати мы собираемся у Пепиты. Туда неизменно приходят четыре-пять местных сеньор с дочерьми, тетя Касильда и шесть-семь молодых людей, которые обычно играют в фанты с девушками. В этом маленьком обществе можно насчитать три-четыре парочки.
Солидная публика всегда одна и та же – так сказать, цвет общества: мой отец – касик городка, врач, нотариус и сеньор викарий.
Партию в ломбер составляют Пепита, батюшка, сеньор викарий и еще кто-нибудь из гостей.
Я не знаю, к какой группе примкнуть. Если я присоединяюсь к молодым людям, то своей серьезностью я только мешаю их играм и нежным беседам. А когда подхожу к старшему поколению, мне остается только хлопать глазами: из всех карточных игр я умею играть лишь в три листика – вслепую и в открытую и немного в туте или перекрестную бриску.
Лучше было бы мне просто не посещать эти вечера. Но батюшка настаивает, чтоб я ходил, иначе я буду, по его словам, смешон.
Батюшка необычайно удивляется моему невежеству в некоторых вещах. То, что я не умею играть в ломбер – даже в ломбер! – прямо ошеломляет его.
– Дядя воспитывал тебя под стеклянным колпаком, начинял одним богословием, но он оставил тебя в неведении всех жизненных вопросов. Раз ты будешь священником, тебе не придется ни танцевать, ни ухаживать на вечеринках, так надо же научиться хоть игре в ломбер. Не то что же тебе, несчастному, делать!
Мне пришлось согласиться с его доводами, и теперь батюшка учит меня играть в ломбер, чтобы я как можно скорее мог блеснуть на вечерах у Пепиты. Как я вам писал, ему хотелось еще научить меня фехтовать, курить, стрелять из пистолета и метать барру, но тут я остался непреклонен.
– Да, как разнится, – восклицает отец, – моя молодость от твоей! – А затем добавляет со смехом: – По сути дела это одно и то же. У меня тоже были часы канонической службы в казармах лейб-гвардии: сигара заменяла мне кадило, колода карт – молитвенник, не было недостатка и в других более или менее духовных занятиях и упражнениях.
Хотя вы и предупреждали меня об этих странностях батюшки, давая понять, что именно из-за них я провел с вами двенадцать лет – с десяти до двадцати двух, – выражения батюшки, иногда весьма вольные, все еще поражают меня и сбивают с толку. Но что с ним поделаешь! Хоть я и не смею укорять его за эти словечки, я их не одобряю и выслушиваю без улыбки.
Достойно особого удивления и похвалы то, что в доме Пепиты батюшка становится совсем другим человеком. Даже случайно у него не вырвется ни одного выражения, ни одной шуточки из тех, какими он обычно пересыпает свою речь. У Пепиты батюшка – воплощенная сдержанность. Кроме того, молодая вдова, по-видимому, с каждым днем все более пленяет его и он все тверже надеется на победу.
Батюшка по-прежнему доволен моими успехами в верховой езде. Через четыре-пять дней, говорит он, я уже смогу поехать на Лусеро, вороном коне, в чьих жилах течет кровь арабской и гвадалкасарской породы; он очень хорош на рыси, в галопе и обучен различным курбетам.
– Кто сядет на Лусеро, тот может на пари состязаться в верховой езде с самим кентавром! И ты этого скоро добьешься.
Хоть я провожу весь день на коне, в казино или у Пепиты, я урываю от сна несколько часов – добровольно, а иной раз из-за бессонницы, – чтобы поразмыслить над своим положением и поговорить со своей совестью. Образ Пепиты постоянно живет в моей душе, «Может быть, это любовь?» – спрашиваю я себя.
Мое моральное обязательство, мой обет посвятить себя церкви еще не подтвержден, но для меня он действителен и окончателен. И если в мою душу проникло нечто, мешающее его исполнению, я должен бороться против этого препятствия.
Во всяком случае, я вижу – не обвиняйте меня за это в самоуверенности, – я вижу, что моя воля, как вы меня и наставляли, еще властвует над всеми моими чувствами. Пока Моисей на вершине Синая беседовал с богом, непокорная чернь в долине поклонялась тельцу. Хотя я молод, дух мой закален, и я тоже мог бы удостоиться беседы с богом, если бы враг не напал на меня в самом святилище. В душе моей появился образ Пепиты. Это дух, борющийся с моим духом. Идея ее красоты во всей ее нематериальной чистоте все глубже проникает в душу, где надлежит царить одному богу, и мешает мне приблизиться к нему.
Но я не поддаюсь ослеплению. Я сохраняю ясный, отчетливый взгляд, у меня нет галлюцинаций. Над духовной склонностью, влекущей меня к Пепите, царит любовь к беспредельному и вечному. Хотя я представляю себе Пепиту как идею, как поэзию, она не перестает быть идеей, поэзией чего-то конечного, ограниченного, конкретного; любовь же к богу и понятие бога – беспредельны. Но, несмотря на все усилия, мне не удается облечь в доступную воображению форму это высшее понятие, и предмету наивысшей любви не удается одержать победу над образом преходящей эфемерной истины и изгнать воспоминание о ней, отравляющее мою душу. Я горячо молю небо пробудить во мне силу воображения и создать какое-либо подобие, символ этого всеобъемлющего понятия, который мог бы поглотить и уничтожить образ этой женщины и память о ней. Высшее понятие, к которому устремлена моя любовь, смутно, темно, неописуемо сумрачно; в то же время образ Пепиты живет во мне четкий, ясный и сияющий тем невыразимо мягким светом, который только радует духовный взор, а не ослепляет его, подобно яркому блеску столь же невыносимому как мрак.
Ничто не в силах уничтожить образ этой женщины. Он встает между мной и распятием, между мной и святым изображением богородицы, появляется даже между строками духовной книги, которую я читаю.
Однако я не думаю, будто поражен тем недугом, какой в наше время зовется любовью. И если бы даже так случилось, я стал бы бороться – и победил бы.
Меня беспокоит то, что каждый день я вижу эту женщину, слушаю постоянные похвалы ей даже из уст отца викария; и я чувствую, как мой дух, покидая должное уединение, погружается в мирскую суету. Но нет, я еще не полюбил Пепиту. Я уеду и забуду ее.
А пока я здесь, я буду мужественно бороться. Я буду бороться с богом любовью и смирением. Мои мольбы дойдут до него, как пламенные стрелы, и пробьют щит, за которым он скрывается от взора моей души. Я буду сражаться, как Израиль, в тиши ночи, и бог ранит меня в бедро и поборет в этом поединке, чтобы я стал победителем, будучи побежденным.
Раньше, чем я мог об этом мечтать, дорогой дядя, батюшка предложил мне оседлать Лусеро; вчера в шесть часов утра я оседлал этого красивого зверя, как его называет батюшка, и мы отправились в поле. Батюшка ехал верхом на рыжей невысокой кобылке.
Я так уверенно и ловко сидел на великолепном скакуне, что батюшка невольно поддался искушению блеснуть своим учеником; мы отдохнули на ближнем хуторе, примерно в полулиге отсюда, а к одиннадцати часам повернули домой. С оглушительным цоканьем мой конь помчался по многолюдным улицам нашего города, – только щебень летел из-под его копыт. Нечего и говорить, что мы проехали и по той улице, где жила Пепита, которую в последнее время можно часто видеть у окна. Она и на сей раз сидела за зелеными жалюзи, у решетки в окне нижнего этажа.
Как только Пепита услышала шум, она подняла глаза и, увидев нас, отложила шитье в сторону и стала смотреть в окно. Лусеро, как я узнал позднее, часто вставал на дыбы именно у дома Пепиты; он и на этот раз начал горячиться. Я попробовал его успокоить, но, то ли он еще не привык к моей руке, то ли всадник показался ему не заслуживающим внимания, – унять его было невозможно: он фыркал, делал курбеты и лягался. Я же кольнул его шпорами, ударил хлыстом по груди, натянул поводья – словом, показал, что я его властелин. Тогда Лусеро, уже ставший было на дыбы, покорно склонил шею и согнул колени, точно в поклоне.
Собравшаяся вокруг нас толпа любопытных разразилась рукоплесканиями, а батюшка воскликнул:
– Вот что значит сильный и смелый парень! И заметив в толпе Куррито, у которого, кроме гулянья, не существовало другого занятия, он обратился к нему:
– Смотри, плут, смотри на богослова! Теперь уж где тебе насмехаться, разинь-ка пошире рот!
И в самом деле, ошеломленный Куррито застыл на месте с раскрытым ртом.
Это было настоящее торжество, хотя и совершенно не свойственное моему характеру. Его неуместность внушала мне стыд. Краска смущения залила мне лицо. По-видимому, я сильно покраснел, а когда заметил, что и Пепита с ласковой улыбкой приветственно машет мне своей прекрасной рукой, я вспыхнул еще больше.
Итак, я приобрел репутацию настоящего мужчины и первоклассного наездника.
Батюшка был донельзя горд и счастлив; по его словам, он завершает мое воспитание: когда вы послали меня к нему, я будто был премудрой книгой в черновике, без переплета, а он меня начисто переписывает и переплетает.
Если составной частью переплета и переписки является ломбер, то он мною тоже изучен.
Два вечера подряд я играл в карты с Пепитой.
В тот день, когда я показал себя смелым наездником, Пепита встретила меня восторженно и сделала то, чего до сих пор еще не отваживалась делать: она протянула мне руку.
Не подумайте, что я не вспомнил тут же предостережений моралистов и аскетов, но я мысленно решил, что они преувеличивают опасность. В писании говорится, что тот, кто дотрагивается до женщины, подвергается такой же опасности, как если бы он схватил скорпиона, – эти слова я считаю иносказанием. В благочестивых книгах некоторые изречения священного писания толкуются довольно неуклюже, хотя и с самой высокой целью. Иначе, как понимать, что красота женщины, такое совершенное произведение бога, всегда служит причиной гибели? Как в общем и неизменном смысле понимать, что женщина горше смерти? Как понимать, будто прикоснувшийся к женщине в любом случае и с любой мыслью неизбежно впадает в грех?
Быстро возразив в глубине души против этих и прочих предостережений, я взял нежную руку Пепиты, ласково мне протянутую, и пожал ее. До этого случая я не ощущал, но лишь созерцал всю хрупкость и изящество рук Пепиты.
Согласно обычаям века, если рука однажды подана, ее уже всегда следует протягивать при встрече и прощании. Надеюсь, что в этом обряде и доказательстве дружбы, в этом проявлений расположения, чистом и лишенном малейшего оттенка легкомыслия, вы не усмотрите ничего дурного или опасного.
Поскольку батюшке часто приходится вечерами часов до одиннадцати заниматься разными вопросами с управляющим и крестьянами, я заменяю его за ломберным столом, сидя рядом о Пепитой. Наши обычные партнеры – сеньор викарий и нотариус. Мы играем на десятую часть реала и, в худшем случае, рискуем одним или двумя дуро.
Но так как интерес в этой игре невелик, мы то и дело прерываем ее разговорами на разные темы, часто не имеющие отношения к картам. Пепита неизменно обнаруживает присущие ей живость воображения и ясность взглядов, которые она облекает в такую изящную форму, что я не могу не восхищаться ею.
Не вижу достаточного повода, чтобы изменить мнение по вопросу, о котором я уже писал, оспаривая ваши подозрения, – будто Пепита питает ко мне особую склонность. Она относится ко мне дружелюбно, как к сыну сватающегося к ней дона Педро де Варгаса, а также проявляет должное смирение и робость, как перед будущим священником, хотя я еще не принял сана.
Тем не менее я хочу и должен сообщить вам, – ведь в письмах я мысленно стою перед вами на коленях в исповедальне, – о том мимолетном впечатлении, которое испытал два или три раза; возможно, это лишь галлюцинация, бред.
Я уже писал вам, что у Пепиты глаза зеленые, как у Цирцеи, но выражение их спокойное и приветливое. Она, мне кажется, не знает могущества своих глаз и наивно верит, будто глаза даны лишь для того, чтобы видеть. На ком бы она ни остановила взора, он неизменно чист, искренен и лучезарен; ее глаза не способны вызывать дурные мысли, они порождают чистые стремления, охраняя блаженный покой невинной девственной души, и уничтожают нездоровое чувство там, где оно таится. В глазах Пепиты нет жгучей страсти или огня. Сияние ее взгляда – словно чуть теплый свет месяца.
И тем не менее два-три раза мне почудилось, что в ее глазах, остановившихся на мне, молнией промелькнула вспышка всепожирающего пламени. Не от самомнения ли, внушенного самим дьяволом, родилась такая нелепая мысль?
Мне кажется, что да; я хочу думать и думаю, что это именно так. Впечатление было столь быстро и мимолетно, что походило скорее на сон, чем на действительность.
Небесное спокойствие и холодное безразличие, смягченное дружеским участием и сочувствием, – вот, что я всегда читаю в глазах Пепиты.
Однако меня мучает этот сон, это видение – память о странном пламенном взгляде.
Батюшка говорит, что не мужчины предприимчивы, а женщины, но при этом они не берут на себя никакой ответственности и могут от всего отказаться
и отступить, когда им заблагорассудится. По словам батюшки, именно женщина одним мимолетным взглядом способна открыть свое чувство, от которого она потом откажется, если надо, даже перед собственной совестью; о значении такого взгляда человек, к которому он обращен, лишь смутно догадывается, не в силах ясно его понять. Точно электрическая искра пробегает между ним и глазами женщины, и безотчетное чувство подсказывает ему, что он любим; потом, когда он отважится заговорить о своей любви, он уже ступает по твердой почве, вполне уверенный во взаимности.
Уж не эти ли доводы отца, услышанные мною, – ведь я не могу их не слышать, – вскружили мне голову и внушили то, чего нет?
«Во всяком случае, – рассуждаю я иногда, – разве это так нелепо и невозможно?» Но если бы дело обстояло так, если бы я нравился Пепите не только как друг, если бы женщина, на которой задумал жениться отец, полюбила меня, – не ужасным ли было бы мое положение?
Но оставим эти опасения, – они, без сомнения, порождены тщеславием. Нечего превращать Пепиту в Федру [34], а меня в Ипполита.
Чему я начинаю удивляться – так это беззаботности и полной уверенности в себе отца. Простите мою гордыню, молите бога, чтобы и он простил меня, но порой эта самоуверенность задевает и сердит меня. Неужели же, говорю я себе, батюшка считает меня таким уж простофилей и ничуть не опасается, что я, несмотря на свою предполагаемую святость, – или именно благодаря ей, – могу невольно вызвать любовь у Пепиты?
Вот с помощью какого любопытного рассуждения я, не оскорбляя собственного самолюбия, объясняю беззаботность батюшки в этом важном деле. Батюшка, хотя и не имеет на то оснований, смотрит на себя уже как на мужа Пепиты, и им начинает овладевать то пагубное ослепление, которое Асмодей или иной злой дух внушает супругам. В светских и церковных книгах мы часто читаем о подобных случаях, которые божественное провидение допускает, несомненно, в высших целях. Пожалуй, наиболее выдающийся пример – это ослепление императора Марка Аврелия: обладая столь легкомысленной и порочной женой, как Фаустина, и будучи мудрым, проницательным философом, он никогда не замечал того, что знала вся Римская империя; поэтому в своих размышлениях и воспоминаниях он возносит хвалу и благодарность бессмертным богам за то, что они даровали ему столь преданную и добрую жену, чем вызывает смех своих современников и последующих поколений. А впрочем, в жизни часто случается, что высокопоставленные лица приглашают к себе в секретари и дарят благосклонностью тех, к кому благоволит их супруга. Так объясняю я беззаботность батюшки, который не опасается найти во мне невольного соперника.
С моей стороны было бы неуважением к батюшке, самонадеянностью и дерзостью, если бы я предупредил его об опасности, которой он не замечает. С другой стороны, что я могу сказать ему? Что мне показалось, будто Пепита один-два раза взглянула на меня не так, как обычно? Но не было ли это моим воображением? Нет, я не имею ни малейшего доказательства того, что Пепита желает испытать надо мной свою власть.
Сказать батюшке, что я люблю Пепиту и домогаюсь сокровища, которое он уже считает своим? Но это неправда. А если бы, к моему несчастью и по моей вине, это было правдой, как сообщить о том батюшке?
Лучше молчать, молча бороться, если искушение начнет всерьез одолевать меня, и попытаться как можно скорее уехать отсюда, вернуться к вам.
Благодарю бога и вас за новые письма и новые советы. Сегодня я нуждаюсь в них больше, чем когда бы то ни было.
Проникшая в мистические тайны святая Тереса признает, что страдания робких душ, смущаемых соблазном, велики; но для таких тщеславных и самонадеянных, как я, разочарование в своей стойкости в тысячу раз мучительнее.
Наше тело – храм святого духа; если языки пламени лижут его стены, даже не воспламеняя их, стены покрываются копотью.
Первое искушение подобно змеиной голове. Если мы не растопчем ее мужественной и уверенной стопой, ядовитое пресмыкающееся поднимется и укроется в нашем сердце.
Нектар мирских наслаждений, даже самых невинных, сперва нежен на вкус, но постепенно он превращается в желчь драконов и яд аспидов.
Итак, не подлежит сомнению, и я уже не смею отрицать этого перед вами: она – опаснейшая женщина, и мне не следовало так беззаботно относиться к встречам с ней.
Я еще не считаю себя погибшим, но я в смятении.
Как жаждущая лань ищет путь к источнику, так моя душа ищет бога… К богу обращается она и молит дать ей покой; она жаждет пить из источника его услад, чье быстрое течение оживляет рай и из чьих светлых волн люди выходят белее снега; но «бездна бездну призывает» [35], и мои ноги вязнут в тине, устилающей дно.
Однако у меня еще остаются голос и дыхание, чтобы воззвать вместе с Псалмопевцем: «Воспрянь, слава моя! Если ты пребудешь со мной, кто одержит верх надо мной?»
Я говорю грешной душе моей, полной химерических вымыслов и неясных желаний – ее незаконных творений: «О дщерь Вавилона, опустошительница! Блажен тот, кто воздаст тебе за содеянное! Блажен, кто схватит младенцев твоих и разобьет о камень!»
Умерщвление плоти, пост, молитва и покаяние – вот те доспехи, в которые я облачусь, чтобы бороться и победить с помощью бога.
То был не сон, не безумие – так было на самом деле. Порой она глядит на меня тем страстным взглядом, о котором я раньше писал вам. Ее глаза полны непонятного и непреодолимого притяжения. Этот взгляд влечет, искушает, приковывает к себе мои глаза. И тогда, должно быть, мои глаза, как и ее, пылают гибельной страстью: как глаза Амнона, когда они останавливались на Фамари [36]; как глаза князя Сихема, когда он глядел на Дину [37].
Когда мы так смотрим друг на друга, я забываю даже бога. Ее образ проникает мне в душу и побеждает все. Красота ее сверкает ярче всей красоты мира; и мне кажется, что небесные наслаждения ничто перед ее любовью, что вечные страдания не сотрут из памяти того безграничного блаженства, которое изливает на меня один ее взгляд, быстрый, как молния.
Когда, придя домой, в ночной тиши я остаюсь один в комнате, я осознаю весь ужас моего положения и составляю благие планы, но они рушатся на следующий же день.
Я обещаю себе сказаться больным или найти иной предлог, чтобы больше не ходить к Пепите, – и на другой же вечер снова иду к ней.
А батюшка, в высшей степени самонадеянный, не подозревая всего, что происходит в моей душе, говорит мне, когда наступает вечер:
– Иди к Пепите. Я приду попозже, как только закончу дела с управляющим.
Мне не удается придумать отговорки, я не нахожу предлога. Мне следовало бы ответить: «Не могу», – а я беру шляпу и иду.
Я вхожу к ней, она протягивает мне руку, – и я вновь околдован. Я весь преображаюсь. Всепожирающий огонь проникает в мое сердце, и я могу думать только о ней. Если она не одарит меня в первую же минуту одним из тех взглядов, о которых я вам писал, я сам его ищу и требую с упорством безумца. Охваченный непреодолимым возбуждением, я смотрю на нее и каждый миг открываю в ней новые совершенства. То вдруг увижу ямочки на щеках, когда она улыбнется, то несравненную белизну кожи, то прямую линию носа, то маленькое ушко, то мягкие линии и восхитительный рисунок шеи.
Я прихожу в ее дом против воли, словно повинуясь заклинанию, и, войдя, попадаю под власть непобедимых волшебных чар.
Я не только с восторгом любуюсь Пепитой: слова ее точно музыка звучат в моих ушах, раскрывая мне гармонию вселенной; мне кажется, я вдыхаю ее тончайший аромат, он слаще запаха дикой мяты, растущей на берегу ручья, и аромата лесного тимьяна.
Я весь горю и не понимаю, как мне удается по-прежнему играть в ломбер, вести беседу, разумно отвечать, – ведь все мои мысли заняты только ею.
Когда скрещиваются наши взгляды, кажется, в их лучах встречаются, сливаясь воедино, наши души. Мы читаем в них повесть любви без слов, читаем поэмы, для которых не хватает человеческого языка; мы поверяем друг другу тайные чувства и поем песни, которые не под силу ни одному голосу, ни одной благозвучной цитре.
С того дня как я видел Пепиту в Посо де ла Солана, мы больше не встречались наедине, мы ничего не говорили один другому, и однако – все уже сказано между нами.
Когда я, освободившись от власти ее очарования, лежу ночью у себя в комнате и пытаюсь бесстрастно постичь все происходящее, я вижу, как у ног моих разверзается пропасть, она зовет меня, я скольжу, я падаю на ее дно.
Вы мне советуете чаще думать о смерти, – не о смерти Пепиты, а о своей. Вы советуете размышлять о непрочности и быстротечности земного существования и о загробной жизни. Но эти мысли не в силах испугать меня или удержать. Как мне бояться смерти, если я жажду умереть? Любовь и смерть – сестры. Чувство самопожертвования властно поднимается из глубины моего существа и призывает меня целиком отдаться любви или погибнуть ради любимого существа. Я жажду раствориться в ее взгляде, потонуть в лучистом сиянье ее глаз, умереть, глядя на нее, хотя бы за это я был осужден на вечную гибель.
Не страх, но сама любовь дает мне силу бороться против любви, – против той любви, что внушает мне Пепита. Да, я понял, я знаю, что люблю ее, но в душе моей в могучем единоборстве возникает любовь к богу. Тогда все меняется и сулит мне победу. Тот, кого я люблю высшей любовью, представляется моему духовному взору ослепительным солнцем, заливающим пространство волнами света; а то, что я люблю земной любовью, блуждает в воздухе подобно пылинке, позолоченной солнцем. Сияние ее красоты, ее привлекательность – не более чем отражение этого несотворенного солнца, не более чем сверкающая, мимолетная, непостоянная искра беспредельного и вечного пламени.
Моя душа, охваченная любовью, жаждет обрести крылья, чтобы, поднявшись ввысь, сжечь в ртом пламени все, что есть в ней нечистого.
Уже много дней жизнь моя полна непрерывной борьбы. Не понимаю, каким образом недуг, которым я страдаю, не отражается на моем лице. Я почти ничего не ем, не сплю. Если сон смежает мне веки, я внезапно просыпаюсь, исполненный тревоги, и мне кажется, будто я только что участвовал в битве мятежных и добрых ангелов. В этой битве света против тьмы я сражаюсь за свет; но иной раз мне представляется, что я перехожу на сторону врага, что я бесчестный дезертир, – и мне слышится голос Патмосского орла [38]; он говорит: «Люди возлюбили тьму более, чем свет». И тогда ужас наполняет меня, и я считаю себя погибшим.
Я должен бежать, иного выхода нет. Если до конца месяца отец не разрешит мне уехать и не поедет со мной, я убегу и скроюсь, как вор.
Я не человек, я презренный червь, позор и стыд человечества; я лицемер.
Душа смертельно скорбит о беззаконии моем.
Стыжусь писать вам, но, превозмогая себя, пишу. Мне надо исповедаться вам во всем.
Мне не удается побороть себя. Я не только не перестал навещать Пепиту, но каждый вечер спешу прийти еще раньше, чем прежде. Точно дьяволы против моей воли тащат меня в ее дом.
К счастью, я никогда не застаю Пепиту одну. Я не хотел бы увидеться с ней наедине. Добрейший отец викарий почти всегда меня опережает; он объясняет нашу дружбу сходством благочестивых вкусов и полагает, что она покоится на набожности, как те невиннейшие дружеские чувства, которые он сам питает к ней.
Мой недуг усиливается. Как камень, оторвавшись от купола храма, падает все быстрее и быстрее, так и душа моя стремительно падает в бездну.
Теперь, соединяя наши руки, мы вкладываем в рукопожатие весь трепет наших сердец и точно с помощью дьявольского волшебства переливаем и смешиваем нашу кровь. Я знаю, Пепита чувствует, как стучит в ее венах моя жизнь; и я сам ощущаю в крови биение ее жизни.
Вблизи я ее люблю, вдали – ненавижу.
Рядом со мной она привлекает меня, притягивает, покоряет кротостью и налагает на меня сладостное ярмо.
Вдали воспоминание о ней убивает меня. По ночам я грежу, будто она перерезает мне горло, как Юдифь [39] полководцу ассирийцев, или вонзает в висок кинжал, как Иаиль Сисаре [40]. Но когда я рядом с ней, она кажется мне супругой из «Песни песней», и я мысленно зову ее, и благословляю, и называю запечатленным источником, закрытым садом, лилией в долине, полевым нарциссом, моей горлицей и сестрой.
Хочу освободиться от этой женщины – и не могу. Ненавижу ее – и поклоняюсь ей, как божеству. Едва мы встретимся, душа ее вселяется в меня, овладевает мной, подчиняет и смиряет меня.
Каждый вечер, уходя от нее, я твержу себе: «Я был у нее в последний раз», – и на следующий день прихожу снова.
Когда я сижу рядом с ней и веду беседу, моя душа словно приникает к ее губам; ее улыбка, подобно лучу бесплотного света, озаряет мое сердце и радует его.
Если за игрой в ломбер наши колени случайно соприкасаются, по телу моему пробегает странная дрожь.
Увезите меня отсюда. Напишите отцу, чтобы он разрешил мне уехать. Если надо, расскажите ему все. Помогите мне! Я прибегаю к вашей защите!
Бог дал мне силу устоять, и я устоял.
Уже несколько дней, как я не вижу Пепиты, не переступаю порога ее дома.
Мне не надо притворяться больным – я и в самом деле болен; лицо побледнело, под глазами темные круги. Отец озабоченно спрашивает, что со мной, и проявляет трогательное внимание ко мне.
Царство небесное открывается перед истинной верой. Сказано: «Стучите и отверзется». И я изо всех сил стучу во врата его, чтобы мне открыли их.
Для испытания бог напоил меня полынью; тщетно молил я его отвести от меня горькую чашу, но лишь после многих ночей, проведенных без сна в молитве, горечь страдания смягчилась благостным утешением, посланным мне свыше.
Новое отечество предстало перед моим духовным взором, из глубины души прозвучал новый гимн небесного Иерусалима.
Если я наконец добьюсь победы – то будет славная победа. Да поможет мне царица небесная, которой я себя препоручаю! Она мое убежище, моя защита, башня и крепость Давида, на стенах которой висят тысячи щитов и доспехов доблестных воинов; она – ливанский кедр, обращающий в бегство змей.
И я мысленно стремлюсь унизить женщину, возбудившую во мне мирскую любовь.
– Ты охотничий силок, – говорю я ей, повторяя слова мудреца: – твое сердце – обманчивая сеть, и твои руки – опутывающие тенета. Кто возлюбил бога, убежит от тебя; лишь грешник будет пленен тобою.
Размышляя о любви, я нахожу тысячи причин, чтобы любить бога и не любить ее.
Я чувствую в глубине сердца силу и мужество и убеждаюсь в том, что ради любви, к богу я мог бы пренебречь всем: славой, честью, властью и могуществом.
Я способен подражать Христу, – и если враг-искуситель вознесет меня на вершину горы и предложит мне все царства земные за то, чтобы я склонил перед ним колени, я не склоню их. Но когда он предлагает мне эту женщину, я все еще колеблюсь и не могу оттолкнуть его. Неужели эта женщина стоит в моих глазах больше, чем все земные царства, больше, чем слава, честь, власть и могущество?
Иногда я спрашиваю себя: всегда ли любовь одинакова, или же есть два вида и характера любви? Мне кажется, что любовь к богу – это отрицание себялюбия и односторонности. Любя его, я могу и хочу любить все созданное им, я не сержусь и не ревную бога за то, что он любит всех. Я не ревную его к святым мученикам, блаженным и серафимам и не завидую им. Чем сильнее любовь бога к своим творениям, чем щедрее милости и дары, которыми он их наделяет, тем больше он приближается ко мне и тем полнее его любовь и благоволение ко мне. Именно тогда я ощущаю мою глубокую и нерасторжимую, поистине братскую связь со всем живущим. Я словно составляю одно целое с людьми, и все в моем представлении связано узами любви к богу и в боге.
Совсем иные чувства владеют мной, когда я думаю об этой женщине и о моей любви к ней. Эта любовь, похожая на ненависть, отдаляет меня от всех, она эгоистична. Я хочу Пепиту только для себя, чтобы она вся принадлежала мне, а я – целиком ей. Даже моя преданность, готовность всем пожертвовать ради нее – эгоистичны. Я готов умереть, если не смогу другим путем приблизиться к ней, – в надежде на то, что мы будем наслаждаться взаимной любовью после смерти, соединившись в вечном объятии.
Подобными рассуждениями я стремлюсь доказать себе, что любовь к этой женщине достойна порицания, что она заключает в себе нечто ужасное и роковое; но вслед за тем в недрах моего существа возникает совсем иная мысль, словно у меня две души, два разума, две воли и два воображения: я начинаю отвергать, что недавно утверждал, и в безумии своем стремлюсь примирить обе эти любви. Почему бы мне не бежать от нее, чтобы любить ее издали и по-прежнему пламенно служить богу? Если любовь к богу не исключает любви к отечеству, любви к людям, к науке, к красоте природы и произведениям искусства, – она не должна исключать и любовь к женщине, если чувство к ней непорочно и носит духовный характер. Я превращу ее, говорю я себе, в символ, в аллегорию, в образ всего доброго и прекрасного. Она станет для меня, как Беатриче для Данте, слепком и символом моего отечества, знания и красоты.
Но чтобы превратить Пепиту в этот символ, в этот легкий воздушный образ, эмблему всего, что я смею любить после бога, я представляю себе Пепиту мертвой, как была мертва Беатриче, когда ее воспевал Данте. Чудовищная мысль!
Если она продолжает жить в моем воображении, мне не удается претворить ее в чистую идею, – и чтобы достичь этого? я должен мысленно лишить ее жизни.
Потом я оплакиваю убитую мной, содрогаясь перед своим преступлением, духовно приближаюсь к ней и жаром своего сердца возвращаю ей жизнь и снова вместо туманного, призрачного образа, тающего в розовых облаках среди небесных цветов, – такой видел свою возлюбленную на вершине чистилища свирепый гиббелин [41], – передо мной возникает облик женщины, четко обрисованный в чистом и ясном воздухе, как одно из совершенных творений эллинского резца, как Галатея, одушевленная любовью Пигмалиона [42], которая спускается с мраморного пьедестала, полная жизни, цветущей молодости и красоты.
Тогда из глубины смятенной души я восклицаю: «Дух мой слабеет! Боже, не покидай меня! Приди мне на помощь! Обрати ко мне лик твой, и я буду спасен!»
Так я вновь обретаю силы, чтобы противостоять искушению. Так просыпается во мне надежда, что я верну себе прежний покой, едва покину эти места.
В ярости своей сатана стремится поглотить чистые воды Иордана – подвижников, посвятивших себя богу. Силы ада восстают на них и спускают с цепи всех своих чудовищ. Святой Бонавентура [43] сказал: «Мы должны удивляться не тому, что эти люди грешили, но тому, что они не грешили». И все же я сумею устоять и не согрешить. Бог защитит меня!
Кормилица Пепиты, ставшая теперь ее домоправительницей, настоящая бой-баба, как говорит батюшка, – болтлива, весела и ловка на редкость. В свое время она вышла замуж за сына мастера Сенсиаса и унаследовала от свекра то, чего не удалось унаследовать ее мужу: способность к ремеслу. Разница лишь в том, что мастер Сенсиас делал винты для давильных прессов, чинил колеса или мастерил плуги, а его невестка готовила варенье, сиропы и прочие лакомства. Свекор был искусником в полезных делах, а невестка обладала талантом в делах, доставлявших людям наслаждение, – впрочем, наслаждение невинное или, по меньшей мере, дозволенное.
Антоньона – так зовут кормилицу – держится запросто со всеми здешними господами. Она у всех бывает, хоть приглашай ее, хоть не приглашай, и всюду чувствует себя как дома. Ко всем молодым людям и девушкам в возрасте Пепиты или постарше она обращается на «ты», называет их мальчиками и девочками и относится к ним так, словно вскормила их собственной грудью. Со мной она тоже на «ты», часто бывает у нас в доме, заходит в мою комнату и уже не раз называла меня неблагодарным и бранила, что я не навещаю ее госпожу.
Батюшка ничего не понимает и винит меня в чудачестве; он зовет меня букой и тоже изо всех сил старается уговорить меня по-прежнему бывать у Пепиты. Вчера вечером я не устоял против его настойчивых просьб и отправился к Пепите раньше обычного: батюшка еще собирался проверить отчет управляющего.
Лучше бы я не ходил!
Пепита была одна. Мы поздоровались, и оба покраснели; молча и робко протянули друг другу руки.
Я не пожал ее руки, она не пожала моей, но, соединив наши руки, мы не в силах были разъединить их.
Во взгляде Пепиты, устремленном на меня, не было любви; в нем светились дружба, сочувствие и глубокая грусть.
Она догадалась о моей внутренней борьбе и думала, что любовь к богу восторжествовала в моей душе, что моя решимость не любить ее тверда и непреодолима.
Она не смела жаловаться, понимая, что я прав. Едва слышный вздох, слетевший с ее влажных полуоткрытых губ, говорил о затаенном горе.
Наши руки все еще были соединены. Мы оба молчали. Как сказать, что мне не суждено принадлежать ей, а ей не суждено быть моею, что нам необходимо расстаться навсегда?
Я не произнес этих слов, но высказал их взглядом. Мой суровый взор подтвердил ее опасения, она поняла, что приговор окончателен.
Глаза ее затуманились; на прекрасное лицо, подернутое прозрачной бледностью, легла тень страданья. В эту минуту она походила на скорбящую богоматерь. Слезы блеснули в ее глазах и медленно покатились по щекам.
Не знаю, что происходило во мне. А если бы и знал, как бы я мог описать это?
Я приблизил губы к ее лицу, чтобы осушить слезы, и наши уста слились в поцелуе.
Невыразимое упоение, чувство полного забытья охватило нас. Она бессильно лежала в моих объятиях.
Небу было угодно, чтобы мы услышали за дверью шаги и кашель отца викария и вовремя отстранились.
Придя в себя и собрав воедино остаток воли, я тихо, но решительно произнес слова, заполнив ими страшное молчание этой минуты:
– Первый и последний [44]!
Я говорил о нашем страстном поцелуе. И вдруг, точно слова мои явились заклинанием, передо мной возникло апокалиптическое видение во всем его устрашающем величии: я увидел того, кто был первым и последним и кто обоюдоострым мечом разил мою душу, исполненную зла, греха и порока.
Весь вечер я был точно в безумном бреду, и не знаю, как мне удалось овладеть собою.
Я рано ушел от Пепиты.
В одиночестве моя тоска стала еще невыносимей.
Вспоминая поцелуй и свои прощальные слова, я сравнивал себя с предателем Иудой, с кровожадным и вероломным убийцей Иоавом [45], который, целуя Амессая [46], вонзил в его чрево острый меч.
Я совершил два предательства и два обмана.
Я обманул и бога и ее.
Я презренное существо.
Есть еще время все исправить. Пепита исцелится от своей любви и забудет нашу минутную слабость.
После того вечера я больше не посещал ее дома.
Антоньона тоже не показывается у нас.
Горячими просьбами я добился у батюшки торжественного обещания, что мы уедем отсюда двадцать пятого июня – после Иванова дня, который здесь торжественно празднуется, а в канун его устраивается народное гулянье.
Вдали от Пепиты я успокаиваюсь и начинаю думать, что, может быть, начало нашей любви было только испытанием.
Все эти вечера я молюсь, бодрствую, умерщвляю плоть.
Долгие молитвы и глубокое искреннее раскаяние оказались угодными богу, и он явил мне великое милосердие.
Господь, как говорит пророк, ниспослал огонь душе моей, просветил разум мой, воспламенил волю мою и научил меня.
Божественная любовь по временам разрешает мне, недостойному грешнику, обрести забвение и покой для молитвы. Я изгнал из души своей все образы, даже образ этой женщины, и убедился, – если только гордыня не обольщает меня, – что познал высшее благо, скрывающееся в глубинах души моей, и насладился им в мире и любви.
Перед этим благом и красотой, перед этим высшим блаженством – все ничтожно. Как не пренебречь всеми греховными чувствами ради чистой любви к богу?
Да, мирской образ этой женщины окончательно и навсегда погаснет в моей душе. Из молитв и покаяний сделаю я жесткую плеть, которой изгоню его из сердца, как Христос изгнал из храма нечестивых торгашей.
Я пишу вам последнее письмо.
Двадцать пятого числа я уезжаю отсюда – это решено. Наконец-то я смогу обнять вас.
Рядом с вами мне станет легче. Вы вселите в меня бодрость и мужество, которых мне так недостает.
Буря противоречивых чувств бушует сейчас в моем сердце.
О смятении моих мыслей вы можете судить по несвязности этого письма.
Я дважды побывал у Пепиты. Я держался холодно и сурово, как велел мне долг, – но чего мне это стоило!
Вчера отец сказал, что Пепита больна и не принимает.
У меня мелькнула мысль, что болезнь ее вызвана неразделенной любовью.
Зачем я бросал на нее такие же пылкие взгляды, как она на меня? Зачем низко обманул ее? Зачем показал, что люблю ее? Зачем мои нечестивые уста искали ее уст и адским пламенем обожгли нас?
Но нет! Мой грех не должен неотвратимо повлечь за собой другой.
Что было – было; тут ничего не поделаешь; но теперь это может и должно быть исправлено.
Двадцать пятого, повторяю, я уеду во что бы то ни стало…
Только что вошла ко мне бесцеремонная Антоньона. Она пробыла здесь недолго.
Я спрятал письмо, точно писать вам грешно, поднялся и говорил с ней стоя, чтобы она поскорее ушла. Но и за это краткое время она успела наговорить мне тысячу глупостей и глубоко огорчить меня.
На прощанье она воскликнула на своем тарабарском языке:
– Эх ты обманщик, лиходей! Будь ты проклят, чтоб тебя черти унесли!… Из-за тебя заболела девчонка, ты убил ее, негодяй!
С этими словами разъяренная женщина грубо и больно ущипнула меня за ногу и стремглав выбежала ругая меня на чем свет стоит.
Я не жалуюсь, я заслужил эту грубую шутку, – если только Это была шутка. Я заслужил, чтобы дьяволы терзали меня раскаленными клещами.
Боже мой, сделай так, чтобы Пепита забыла меня! Если нужно, пусть полюбит другого и будет с ним счастлива!
Могу ли я просить тебя о большем, боже?
Батюшка ничего не знает, ничего не подозревает. Так лучше.
До свидания. Через несколько дней мы увидимся с вами и обнимем друг друга.
Какую перемену вы найдете во мне! Какой горечью переполнено мое сердце! Насколько утрачена невинность моих помыслов! Как отравлена и истерзана моя душа!
II. Паралипоменон
Других писем дона Луиса де Варгас, кроме уже приведенных нами, не сохранилось. Таким образом, если бы одно лицо, отлично обо всем осведомленное, не оставило нам добавления, которое следует ниже, мы не узнали бы, к чему привела эта любовь, – эта наивная и страстная повесть не была бы окончена.
Недомогание Пепиты никого в городке не удивило, да никто и не помышлял искать его причину, которая до сего времени была известна только нам – Пените, дону Луису, сеньору настоятелю и Антоньоне, умеющей держать язык за зубами.
Здешних жителей скорее могли удивить веселье Пепиты, ежедневные вечеринки и прогулки в поле, начавшиеся с некоторого времени. Возвращение же Пепиты к ее обычному затворничеству было вполне естественно.
Ее тайная и молчаливая любовь к дону Луису укрылась от проницательных глаз доньи Касильды, Куррито и прочих лиц, упоминаемых в письмах молодого человека. Еще меньше мог об этом знать простой люд. Никому не приходило в голову, никто даже вообразить себе не мог, что богослов, святой, как называли дона Луиса, стал соперничать с отцом и добился того, чего безуспешно домогался богатый и могущественный дон Педро де Варгас: влюбил в себя красивую, изящную и кокетливую вдовушку.
Несмотря на обычную для провинции откровенность между госпожой и прислугой, Пепита не выдала себя ни перед одной из горничных. И только Антоньона, хитрая, как рысь, особенно когда дело касалось ее любимицы, проникла в эту тайну.
Антоньона не утаила от Пепиты своего открытия, а Пепите не удалось отпереться перед женщиной, которая была ее кормилицей и боготворила ее; отменная сплетница, она любила посудачить обо всем, что случалось в городке, но была на редкость скрытной, когда дело касалось ее сеньоры.
Так Антоньона стала поверенной сердечных тайн своей госпожи. Пепита изливала ей душу, находя в этом большое утешение, ибо Антоньона, грубоватая и несдержанная на язык, была женщиной с умом и сердцем.
Этим и объясняются ее посещения дона Луиса, отповеди, которые она ему читала, и, наконец, грубые, неуместные и непочтительные шутки, которые она себе позволила в свой последний приход.
Пепита не только не посылала Антоньону с поручениями к дону Луису, но даже и не предполагала, что та ходила к нему.
Антоньона вмешалась в дело по собственной охоте и по своему разумению.
Как уже говорилось, она с поразительной проницательностью разузнала, как обстоит дело.
Когда Пепита едва отдавала себе отчет в том, что полюбила дона Луиса, Антоньона уже знала об этом. Как только влюбленная Пепита стала украдкой бросать на него пылкие, никем из посторонних не замеченные взгляды, наделавшие столько бед, Антоньона повела о них разговор, точно все происходило в ее присутствии. Когда же эти взгляды получили нежное вознаграждение, Антоньона и об этом догадалась.
Итак, сеньоре почти ни о чем не приходилось рассказывать проницательной и дальновидной служанке.
Вот что произошло спустя пять дней после прочитанного нами последнего письма.
Было одиннадцать часов утра. Пепита находилась в комнате, примыкавшей к ее спальне и будуару; сюда никто, кроме Антоньоны, не входил без зова.
Мебель здесь была недорогая, но удобная и красивая. Занавески и чехлы на креслах, диванах и стульях были из простой материи в цветах; на столике красного дерева стоял письменный прибор и лежала бумага, а в шкафу, также из красного дерева, стояли на полках книги религиозного и исторического содержания; стены были украшены копиями картин на религиозные сюжеты, изобличавшие хороший вкус, столь редкий и почти невероятный в андалусской провинции: то не были плохие французские литографии, а искусные репродукции картин: «Сицилийское чудо» Рафаэля, «Святой Ильдефонсо и богородица», «Непорочное зачатие», «Святой Бернард» и двух фресок Мурильо.
Над старинным дубовым столом на массивных колоннах помещалась конторка с инкрустациями из ракушек, перламутра, слоновой кости и бронзы и с выдвижными ящиками, где Пепита хранила счета и разные документы. На том же столе стояли две фарфоровые вазы с цветами; на стенах были подвешены фаянсовые цветочные горшочки из севильского картезианского монастыря с вьющейся геранью и другими растениями и три золоченые клетки с канарейками и щеглами.
Это был любимый уголок Пепиты, куда днем не входил никто, кроме врача и отца викария, а вечером имел доступ лишь управляющий, приносивший счета. Этот уголок именовался кабинетом.
Пепита полулежала на софе, подле которой стоял маленький столик с книгами. Она недавно встала и накинула легкий летний халатик. Ее золотистые волосы не были причесаны и казались прекраснее, чем всегда. Свежее юное лицо побледнело, но не потеряло своей красоты, – печаль согнала с него румянец, вокруг глаз легли тени.
Пепита проявляла нетерпение: она кого-то ждала.
Наконец человек, которого она поджидала, явился и вошел без стука. То был отец викарий.
Усевшись после обычных приветствий рядом с Пепитой в кресло, священник приступил к беседе:
– Я рад, что ты позвала меня, но если бы ты и не сделала этого, я все равно пришел бы. Как ты бледна! Что с тобою? Ты хочешь сообщить мне что-нибудь важное?
В ответ на эти ласковые вопросы Пепита глубоко вздохнула.
– Вы не можете угадать мою болезнь? – спросила она. – Вы еще не открыли причины моего недуга?
Викарий пожал плечами и удивленно взглянул на нее; он ничего не знал, и его напугала горячность, с которой она говорила.
– Отец мой, – продолжала Пепита, – мне следовало не вызывать вас к себе, но самой пойти в церковь и там исповедаться перед вами. К несчастью, я не раскаялась в своих грехах, мое сердце ожесточилось, мужество покинуло меня, да я и не расположена говорить с вами как с духовником, я хочу довериться вам как другу.
– Что ты говоришь о грехах и об ожесточении сердца? В своем ли ты уме? Какие грехи могут быть у тебя? Ты такая добрая.
– Нет, отец, я плохая. Я обманывала вас, обманывала себя и хотела обмануть бога.
– Ну, успокойся же, уймись; расскажи все по порядку, разумно, без глупостей.
– Как же я могу молчать, если злой дух овладел мной?
– Мария пречистая! Девочка, не говори чепухи… Видишь ли, дочь моя, есть три самых страшных дьявола, овладевающих душами, и я уверен, что ни один из них не осмелится проникнуть в твою. Первый – это Левиафан, или дух гордыни; второй – Мамон, или дух скупости; третий – Асмодей, или дух нечистой любви.
– Значит, я жертва всех трех; все три владеют мной.
– Это ужасно!… Но я опять прошу тебя: успокойся. Ты бредишь.
– Ах, если бы это был о так! Но по моей вине все обстоит как раз наоборот. Я скупая, потому что владею большим богатством и недостаточно жертвую на добрые дела; я гордая, потому что пренебрегала людьми не из добродетели и честности, а потому что не считала их достойными своей любви. И вот бог наказал меня, бог допустил, чтобы третий враг, о котором вы говорите, овладел мной.
– Как это так, девочка? Что за чертовщина лезет тебе в голову? Ты, может быть, влюблена? Но если это так, что ж тут плохого? Разве ты не свободна? Выходи замуж и оставь глупости. Без сомнения, мой друг дон Педро де Варгас совершил чудо. Выходит, дьяволом оказался дон Педро! Знаешь, это меня поражает. Не думал я, что дело окажется таким простым и так быстро пойдет на лад…
– Но я люблю не дона Педро!
– Так кого же?
Пепита поднялась с места, подошла к двери, заглянула, не подслушивает ли кто; закрыв ее снова, она подошла к викарию и со слезами на глазах прошептала дрожащим голосом на ухо доброму старцу:
– Я безумно люблю его сына.
– Какого сына? – прервал ее викарий, все еще ничего не понимая.
– Какой же еще может быть сын? Я страстно, безумно люблю дона Луиса.
На лице доброго, простодушного священника отразились замешательство и горестное изумление.
Минуту длилось молчание. Затем викарий произнес:
– Но эта любовь безнадежная, она останется без ответа. Дон Луис не полюбит тебя.
Сквозь слезы, затуманившие прекрасные глаза Пепиты, блеснул радостный, светлый луч; ее свежие сочные губы, сомкнутые печалью, мягко раскрылись в улыбке, обнажая жемчужные зубы.
– Он меня любит, – произнесла Пепита с легким, но плохо скрытым выражением гордости и торжества, которое было выше ее скорби и угрызений совести.
Замешательство и изумление отца викария достигло предела. Если бы святой, которому он больше всех поклонялся, был сброшен с алтаря и, упав к его ногам, разбился на тысячу кусков, викарий не был бы так поражен. Он с недоверием и сомнением посмотрел на Пепиту: не фантазия ли это самонадеянной женщины? Так твердо верил он в святость и набожность дона Луиса!
– Он любит меня, – повторила Пепита, отвечая на его недоверчивый взгляд.
– Женщины хуже беса! – воскликнул викарий. – Вы самому дьяволу ножку подставите.
– А я разве вам не говорила? Я очень, очень плохая!
– Да будет воля божья! Ну, успокойся. Милосердие бога бесконечно. Расскажи по порядку, что случилось.
– Что же могло случиться? Я люблю его, боготворю, не могу без него жить; он меня тоже любит, но борется с собой, хочет заглушить свою любовь и, может быть, добьется этого. А вы, сами того не зная, во многом тут виноваты.
– Этого еще недоставало! В чем же я-то виноват?
– С присущей вам беспредельной добротой вы только и делали, что расхваливали мне дона Луиса и, уж конечно, в разговоре с ним вы еще больше похвал расточали мне, хотя я их и не заслуживаю. К чему это должно было привести? Разве я камень? Разве мне не двадцать лет?
– Ты права, совершенно права. А я-то, болван! Я изо всех сил помогал этому делу Люцифера.
Священник был столь добр и смиренен, что сокрушался так, точно он и впрямь был преступником, а Пепита его судьей.
Тогда, поняв, как несправедливо она превратила отца викария в соучастника и чуть ли не в главного виновника своего прегрешения, Пепита обратилась к нему:
– Не огорчайтесь, отец мой, ради бога, не огорчайтесь. Смотрите, какая я злюка! Сама совершаю тягчайшие грехи, а ответственность за них хочу возложить на лучшего, добродетельнейшего человека. Нет, не ваши похвалы дону Луису, а мои глаза и моя нескромность погубили меня. Если бы вы никогда не рассказывали мне о достоинствах дона Луиса, о его познаниях, таланте, пылком сердце, то, слушая его, я открыла бы все это сама, – ведь в конце концов я не так уж глупа и невежественна. И наконец я увидела его красоту, врожденное благородство и изящество, его полные огня и мысли глаза, – словом, он показался мне достойным любви и восхищения. Ваши похвалы лишь усилили мое влечение, но отнюдь не возбудили его. Я слушала их с восторгом, потому что они совпадали с моим преклонением перед ним, были отголоском – правда, слабым и неясным – того, что я сама о нем думала. Ваша самая красноречивая похвала дону Луису не могла сравниться с той, которую я произносила без слов в глубине души каждую минуту, каждую секунду.
– Не нужно так горячиться, дочь моя, – прервал ее священник.
Но Пепита продолжала с еще большей горячностью:
– Но как отличались ваши похвалы от моих мыслей! Вы видели и показывали мне в доне Луисе образец священника, миссионера, апостола, то проповедующего евангелие в отдаленных областях и обращающего неверных, то свершающего свои подвиги в Испании на благо христианства, столь униженного сегодня безбожием одних и отсутствием добродетели, милосердия и знаний у других. Я же, наоборот, представляла себе его влюбленным поклонником, забывшим ради меня бога, посвятившим мне жизнь, отдавшим мне душу, ставшим моей опорой, моей поддержкой, спутником моей жизни. Я стремилась совершить кощунственную кражу. Я мечтала похитить его у бога, из божьего храма, как похищает грабитель, враг неба, самое дорогое сокровище из священной дарохранительницы. Ради этого я сбросила вдовий и сиротский траур, украсила себя мирской роскошью; отказавшись от уединения, я стала звать к себе людей, старалась быть красивой, тщательно заботилась о своем бренном теле, удел которого – сойти в могилу и превратиться в жалкий прах; наконец я смотрела на дона Луиса манящим взором и, пожимая ему руку, стремилась передать ему тот неугасимый огонь, который меня сжигает.
– Ах, дитя, дитя! Как печально то, что я слышу от тебя. Кто бы мог даже вообразить такое?
– Это еще не все! – добавила Пепита. – Я добилась того, что дон Луис меня полюбил. Я прочла это в его глазах. Да, его любовь такая же глубокая и страстная, как моя. Он мужественно старался победить эту безумную страсть добродетелью, стремлением к вечным благам. А я стремилась помешать этому. Однажды, после многих дней отсутствия, он пришел и застал меня одну. Подав ему руку, я молча заплакала – ад внушил мне проклятое немое красноречие! – без слов я дала ему почувствовать, как страдаю из-за того, что он меня не любит, что пренебрег мною и предпочел моей любви другую, высшую любовь. И тогда он не смог противостоять искушению и приблизил губы к моему лицу, чтобы осушить мои слезы. Наши губы слились. Если бы бог не послал в ту минуту вас, что было бы со мной?
– Какой стыд, дочь моя! Какой стыд! – проговорил викарий.
Пепита закрыла руками лицо и зарыдала, точно Магдалина. Руки ее в самом деле были прекрасны, еще прекраснее, чем их изобразил в своих письмах дон Луис. Их белизна, их ясная прозрачность, точеные пальцы, розовый перламутровый блеск ногтей могли свести с ума любого мужчину.
И добродетельный викарий, в свои восемьдесят лет, понял, как мог согрешить дон Луис.
– Девочка, – воскликнул он, – не отчаивайся! Не разрывай мне сердце! Успокойся. Дон Луис, конечно, раскаялся в совершенном грехе. Раскайся и ты – и все будет в порядке. Бог вас простит, и вы станете снова безгрешными. Если дон Луис послезавтра уедет – это докажет торжество добродетели: значит, он бежит от тебя, решив покаяться в грехе, исполнить обет и вернуться к своему призванию.
– Ах, вот как! – воскликнула Пепита. – Исполнить обет… Вернуться к своему призванию… а прежде убить меня?! Зачем он меня полюбил, зачем вскружил мне голову, зачем обманул меня? Он обжег меня поцелуем, как раскаленным железом, поработил меня, поставил на мне свое клеймо, – а теперь покидает, предает и убивает меня! Удачное начало для миссионера, проповедника святого евангелия! Но этому не бывать! Бог свидетель, не бывать!
Эта вспышка гнева и безумия влюбленной женщины ошеломила викария. Пепита встала. Ее движения были исполнены трагического отчаяния. Глаза сверкали, как два кинжала, пылали, как два солнца. Викарий смотрел на нее молча, почти с ужасом. Пепита большими шагами прошлась по залу. Из робкой газели она превратилась в разъяренную львицу.
– Что же, – сказала она, остановившись перед викарием, – значит, можно, обманом украв мое сердце, рвать его на части, унижать и попирать, можно издеваться над беззащитной женщиной? Он вспомнит обо мне! Он поплатится! Уж если он такой святой, такой добродетельный, почему он смотрел на меня, обещая все взглядом? Если он так любит бога, зачем причиняет столько зла бедному божьему созданию? И это милосердие? И это вера? Нет, Это черствый эгоизм!
Раздражение Пепиты не могло длиться вечно. При последних словах она почувствовала, что силы ее сломлены. Бросившись в кресло, молодая женщина горько и безутешно разрыдалась.
Викарий испытывал к ней нежное сострадание, но, увидев, что противник сдается, почувствовал новый прилив энергии.
– Пепита, дитя мое, – сказал он, – приди в себя, не мучайся понапрасну. Пойми, он долго боролся, прежде чем одержал победу; он тебя не обманывал – он любит тебя всей душой, но бог и долг прежде всего. Земная жизнь коротка и быстротечна. Вы соединитесь на небе и, как ангелы, будете любить друг друга. Бог примет вашу жертву, наградит вас и возместит вам ее сторицей. Твое самолюбие должно быть удовлетворено. Тебе цены нет, если ты заставила колебаться и даже согрешить такого человека, как дон Луис! Какую глубокую рану ты оставила в его сердце! Хватит и этого. Будь великодушной и мужественной! Соревнуйся с ним в стойкости. Дай ему уехать; погаси в своей душе жар нечистой любви, люби его как ближнего, – так велит нам бог. Храни его образ в своих мыслях, пусть он будет тебе дороже всех, но душу его оставь создателю. Право, я сам не знаю, что говорю тебе, дочь моя, я очень взволнован; но ведь ты такая умница, ты понимаешь меня с полуслова. Если бы даже на вашем пути не стояли призвание и обет дона Луиса, то существуют еще мирские причины, препятствующие твоей вздорной любви. Отец Луиса сватается к тебе и надеется получить твою руку, хотя ты его и не любишь. Как посмотрят на то, что сын оказался соперником отца? Не рассорится ли отец с сыном из-за любви к тебе? Подумай, как все это ужасно, и совладай с собой, ради страданий Иисуса и его благословенной матери пресвятой Марии.
– Как легко давать советы, – ответила, немного успокоившись, Пепита. – И как трудно следовать им, когда в сердце разбушевалась буря. Я просто с ума схожу!
– Я даю советы для твоего же блага. Не мешай дону Луису уехать. Разлука – лучшее лекарство от любовного недуга. Он излечится от своей страсти, отдавшись занятиям и посвятив себя церкви. А как только дон Луис будет далеко, ты начнешь понемногу успокаиваться и сохранишь о нем приятное и грустное воспоминание, от которого тебе не будет никакого вреда. Оно, как прекрасная поэзия, будет озарять твою жизнь. Если бы все твои желания исполнились… Как знать? Земная любовь непостоянна. Наслаждение только кажется нам упоительным, но когда чаша выпита до дна, вкус его забывается, а осадок – горек. Разве не лучше, если ваша любовь исчезнет, улетучится сейчас, пока она ничем не осквернена; разве не ужасно, если она умрет от пресыщения! Будь мужественной, отведи чашу от своих губ, пока они едва успели к ней прикоснуться. Пролей ее на алтарь божественного искупителя. Взамен он даст тебе напиток, который некогда даровал самаритянке, – напиток, что утоляет жажду и дает жизнь вечную.
– Отец мой! Отец мой! Как вы добры! Ваши святые слова придают мне мужества. Я овладею собой, я превозмогу себя. Было бы оскорбительно – не правда ли, было бы оскорбительно для меня, если бы дон Луис мог совладать с собой, превозмочь себя, а я оказалась бы для этого слишком слабой. Пусть уезжает. Отъезд назначен на послезавтра. Пусть уезжает, и да благословит его бог. Посмотрите, вот его визитная карточка. Вчера он приходил прощаться вместе с отцом, но я не приняла их. Больше я с ним не увижусь. Я не хочу сохранить даже нежного воспоминания, о котором вы говорите. Эта любовь была кошмаром. Я отброшу ее далеко прочь от себя.
– Хорошо, отлично! Вот такую я люблю тебя – решительную, мужественную!
– Ах, отец мой! Этим ударом бог сокрушил мою гордыню; я была чрезмерно тщеславна, и лишь пренебрежение этого человека сделало меня по-настоящему смиренной. Можно ли быть более униженной и покорной судьбе? Дон Луис прав: я недостойна его. Несмотря на все усилия, я все равно не смогла бы возвыситься до него, понять его и слиться с ним душою. Ведь я необразованная, неотесанная, глупая деревенщина. А он? Нет науки, которой бы он не изучил, нет тайны, которая была бы ему недоступна; на крыльях своего гения он поднимется в высочайшие сферы духовного мира и покинет меня – бедную, простую женщину, слишком слабую, чтобы следовать за ним здесь, на земле, с моими неутешными вздохами и без малейшей надежды.
– Но, Пепита, ради страданий Иисуса Христа, не говори и не думай так! Дон Луис не потому уезжает от тебя, что ты недостаточно образованна, а он так мудр, что ты не можешь понять его; все это глупости. Он уезжает, чтобы исполнить свой долг перед богом, и тебе следует радоваться его отъезду, ибо это излечит твое сердце от любви, и бог наградит тебя за великую жертву.
Вытирая слезы, Пепита спокойно ответила:
– Хорошо, отец, я буду радоваться; я уже почти радуюсь его отъезду. Я желаю, чтобы скорей миновал завтрашний день; и когда он пройдет, пусть утром явится Антоньона и скажет мне: «Дон Луис уже уехал». И вы увидите, как вернется ко мне прежнее спокойствие.
– Да будет так, – сказал священник, убежденный, что совершил чудо и почти исцелил Пепиту от любовного недуга. Попрощавшись, он отправился домой, с невинным тщеславием размышляя о своем влиянии на благородную душу прекрасной молодой женщины.
Пепита встала, чтобы проводить отца викария, и, закрыв за ним дверь, осталась одна; минуту она неподвижно стояла посреди комнаты, пристально глядя перед собой и ничего не видя. Поэту или художнику она напомнила бы образ Ариадны из поэмы Катулла [47], покинутой Тезеем на острове Наксосе. Внезапно, точно развязав узел, сдавивший ее горло, точно разорвав душившую ее веревку, Пепита разразилась горестными рыданиями и стонами. Закрыв лицо руками, она упала на холодные плиты пола. Прекрасная и беззащитная, лежала она с распущенными волосами, в разметавшейся одежде и безудержно рыдала.
Быть может, ее отчаяние длилось бы еще долго, но Антоньона, услышав стоны Пепиты, поспешила в залу. Увидев ее распростертой на полу, служанка разразилась яростными проклятиями.
– Посмотрите только, – заговорила она, – как этот плут, бездельник, сморчок, дурак утешает своих друзей! Небось наговорил всяких глупостей, отчитал мою бедняжку, да и бросил ее здесь полумертвой, а сам вернулся в церковь, – надо же все приготовить, чтобы отпеть ее, опрыскать кропилом и похоронить, не откладывая дела в долгий ящик.
Антоньоне было лет сорок; неутомимая в работе, крепкая и сильная – не хуже иного землекопа, – она легко подымала кожаный мех с маслом или вином весом в три с половиной арробы [48] и взваливала на мула или относила мешки пшеницы на чердак, где хранилось хозяйское зерно. Мощными руками она, как соломинку, подняла Пепиту с пола и осторожно, точно боясь разбить, уложила на диван, как хрупкую, изящную драгоценность.
– Что с тобой стряслось? – вскричала Антоньона. – Бьюсь об заклад, что этот бездельник викарий прочел тебе нудную проповедь и истомил твою бедную душеньку!
Пепита не отвечала и продолжала рыдать.
– Ну же! Перестань плакать и скажи мне, что случилось? Что сказал тебе викарий?
– Да он меня вовсе не обидел, – ответила наконец Пепита.
Затем, поняв, что Антоньона с интересом ожидала ее рассказа, и желая излить душу той, которая ей во всем сочувствовала и лучше всех, по-настоящему ее понимала, Пепита заговорила:
– Отец викарий уговаривал меня раскаяться в грехах, отпустить с миром дона Луиса, радоваться его отъезду и забыть его. Я со всем согласилась и обещала радоваться разлуке с доном Луисом. Я решила забыть и даже возненавидеть его. Но видишь, Антоньона, я не могу – это выше моих сил. Пока отец викарий был здесь, мне казалось, что у меня на все достанет мужества, но едва он ушел, меня будто покинул бог, – силы оставили меня, и в отчаянии я упала. Ведь я мечтала быть счастливой с этим человеком, которого не могу не любить; я надеялась с помощью чудесной силы любви возвыситься до него, чтобы в тесном общении с его исключительным умом стать ему равной и слить воедино наши мысли, желания и сердца. Бог отнимает его у меня, и я остаюсь одна, без надежды, без утешения. Как это ужасно! Отец викарий приводит справедливые, разумные доводы… Тогда они убедили меня. Но он ушел, и все показалось мне ничтожным – пустая игра слов, ложь, обман и хитрость. Я люблю дона Луиса – этот довод сильнее всех остальных! И если он тоже любит меня, почему не бросит все и не поспешит, не придет ко мне, нарушив все обеты и отказавшись от всех обязательств? Я раньше не знала, что такое любовь. Теперь знаю: ни на земле, ни на небе нет ничего сильнее ее. Чего бы я только не сделала для дона Луиса! А он для меня ничего не хочет сделать. Может быть, он не любит меня?… Да, не любит. Это был самообман: меня ослепило тщеславие. Если бы дон Луис любил меня, он пожертвовал бы ради меня своим будущим, обетами, славой безгрешного отца церкви, желанием стать светочем нашей веры – всем бы пожертвовал. Да простит, меня бог… Я скажу ужасную вещь, но мысль эта рвется из глубины души и огнем обжигает мой разум: ради него я отказалась бы даже от спасения души!
– Иисус, Мария и Иосиф! – воскликнула Антоньона.
– Да, да. Святая скорбящая богоматерь, прости меня, прости!… Я безумна… я не знаю, что говорю; я богохульствую!
– Да, доченька, ты немного заговорилась! Господи помилуй, какая путаница у тебя в голове из-за этого проклятого богослова! Будь я на твоем месте, я бы ополчилась не против неба – ведь оно не виновато, – а против этого чертова семинариста и отплатила бы ему как следует, не зовись я Антоньоной! Меня так и подмывает пойти да за ухо притащить его сюда, к тебе, пусть на коленях вымолит у тебя прощение и поцелует ножки.
– Нет, Антоньона! Мое безумие, видно, заразительно, – ты тоже бредишь. Все кончено, другого пути нет. Я последую совету отца викария, хотя бы это стоило мне жизни. Если я умру из-за дона Луиса, он сохранит мой образ в своей памяти и любовь ко мне – в сердце своем; милосердный бог позволит мне узреть его на небесах, а нашим душам соединиться и любить друг друга.
Антоньона, обладавшая подлинно твердым характером, была далека от сентиментальности, но при последних словах Пепиты не смогла сдержать слезы.
– Эх, девочка, – проговорила она, – ты добьешься, что я тоже завою и зареву, как корова. Успокойся и даже в шутку не помышляй о смерти. Я вижу, у тебя нервы разошлись. Хочешь, принесу чашку липового чаю?
– Нет, спасибо. Оставь меня… видишь, я уже успокоилась.
– Я закрою окна, может уснешь. Ты не спишь уже несколько дней… что с тобой станется? Будь проклят этот дон Луис! Взбрело же ему в голову стать священником! Он доконает тебя!
Пепита закрыла глаза и затихла: ее утомил разговор с Антоньоной.
Видя, что Пепита собирается уснуть, Антоньона склонилась над ней, неторопливо и ласково поцеловала в белоснежный лоб, оправила на ней платье, полузакрыла жалюзи на окнах, чтобы в комнате было темно, затем на цыпочках вышла и бесшумно прикрыла за собой дверь.
Пока в доме Пепиты происходили эти события, на душе у сеньора дона Луиса де Варгаса было не веселее.
Его отец, почти каждый день выезжавший верхом на прогулку, хотел взять его с собой, но дон Луис на этот раз отказался, сославшись на головную боль. И дон Педро уехал без него. Сын остался один, погруженный в грустные мысли; он был преисполнен решимости изгнать из души образ Пепиты и целиком посвятить себя богу.
Не думайте, однако, что он не любил молодой вдовы. Из писем нам уже известно, насколько пылкой была его страсть; но он продолжал обуздывать ее благочестивыми и возвышенными рассуждениями, которые мы здесь опускаем, чтобы не впасть в грех многословия, поскольку в письмах дона Луиса найдется немало подобных образцов.
Если мы захотим вникнуть в душу дона Луиса, мы увидим, что, кроме мысленного обета, данного им, но еще не осуществленного, кроме любви к богу, уважения к отцу, с которым он не желал соперничать, и, наконец, призвания к духовному сану, были и другие, менее благородные и возвышенные причины, помогавшие ему бороться против любви к Пепите.
Дон Луис был настойчив и упорен; эти качества, направленные по верному руслу, выработали у него твердость характера. Ничто не могло его унизить в собственных глазах больше, чем отказ от прежних убеждений и целей в жизни. Он не мог без ущерба для самолюбия отказаться от своих стремлений, которые всегда открыто провозглашал, стяжав славу человека, целиком посвятившего себя богу, проникнутого высокой философией веры, – словом, будущего святого. А между тем все его намерения рухнут, если он позволит себе увлечься Пепитой Хименес. Хотя любовь Пепиты стоила очень дорого в глазах дона Луиса, все же ему представлялось, что, уступив, он подобно Исаву, продаст свое первородство [49] и омрачит свою славу.
Вообще мы, люди, часто становимся игрушкой обстоятельств; вместо того чтобы твердо и не колеблясь идти к цели, мы отдаемся на волю течения. Мы не сами выбираем себе роль, но принимаем ту, что выпадет нам на долю, что готовит нам слепой случай. Профессия, политические взгляды, вся жизнь часто зависит от непредвиденных случаев, от неверной, капризной и неожиданной игры судьбы.
Против этого с титанической силой восставала гордость дона Луиса. Что скажут о нем другие и, главное, что подумает о себе он сам, если окажется, что его идеал, новый человек [50], которого он создал в своей душе, и все его честолюбивые планы святой, добродетельной жизни рассеялись в одно мгновенье, растаяли в огненном взгляде, в мимолетном пламени прекрасных глаз, как тает иней при первых лучах утреннего солнца?
Подобные размышления наравне с законными и существенными доводами тоже восстанавливали его против Пепиты, но все они облачались в религиозные покровы, так что сам дон Луис не мог как следует разобраться в них, считая любовью к богу не только то, что действительно было любовью к богу, но и то, что было себялюбием. Так, он вспоминал святых, которые выдерживали еще большие искушения, чем он, и не желал им уступить в твердости. Особенно запомнилась ему стойкость святого Иоанна Златоуста, который пренебрег просьбой любящей матери не покидать ее ради служения богу; с ласковыми упреками, слезами и горькими жалобами она привела сына в спальню и усадила рядом с собой на ложе, где он был рожден. Но все ее мольбы оказались тщетными. А дон Луис не в силах устоять перед просьбами посторонней женщины, которую он так недавно знает; он все еще колеблется между своим долгом и привлекательностью молодой вдовы – кто знает? – быть может, более кокетливой, чем влюбленной.
Дон Луис размышлял о своем призвании, о достоинстве и величии духовной власти, стоящей неизмеримо выше всех ничтожных земных венцов, – ибо не смертный человек, не каприз изменчивой и раболепной черни, не вторжение варваров, не насилие побуждаемых алчностью мятежных войск, не ангел, не архангел, не признанный людьми повелитель, но сам святой дух установил сан священника. И вот из-за легкомысленного увлечения, вызванного девчонкой, из-за слезинки – возможно, неискренней – он готов презреть величественный сан, отказаться от власти, которой бог не дал даже архангелам, стоящим у его трона? Неужто пасть так низко, смешаться с невежественной чернью и стать одним из паствы, когда ему назначено быть пастырем, которому дано связывать и развязывать на земле то, что бог связывает и развязывает на небе, прощать грехи, возрождая людей водой и духом, наставлять их именем непогрешимого владыки, оглашать приговоры, что потом утверждаются на небесах? Добровольно отказаться от права стать посредником между богом и людьми в величайших таинствах, недоступных человеческому разуму, призывая с неба не уничтожающее жертву пламя, как Илья, – но благодать святого духа, очищающую сердца и облекающую их в ризы белее снега?
Размышляя подобным образом, дон Луис то возносился духом в небесную высь, за облака, – и при этом бедная Пепита Хименес оставалась внизу, на земле, так далеко от него, что он едва различал ее; то внезапно спускался с высот, – и, коснувшись земли, снова видел прелестную, молодую, чистую и любящую Пепиту, которая вступала в борьбу против принятых решений и грозила одержать над ними победу.
Так терзался дон Луис, полный противоречивых, мятущихся мыслей, когда в комнату без доклада и без стука вошел Куррито.
Пока дон Луис оставался всего лишь богословом, Куррито был о своем братце невысокого мнения, но, увидев, как ловко богослов сидит на коне, стал безмерно уважать его, считая чуть не сверхчеловеком.
Неумение ездить верхом унижало брата в глазах Куррито, но когда он увидел, что Луис не только разбирается в богословии и прочих науках, которых Куррито не понимал, считая чем-то весьма трудным и путаным, но и способен молодцом держаться на спине неукротимого зверя, – он проникся безграничным почтением и любовью к Луису. Куррито был бездельник, беспутный малый, но сердце у него было доброе. Дон Луис, став идолом Куррито, держал себя так, как обычно высшие натуры держатся по отношению к низшим существам, если знают об их поклонении. Дон Луис позволял любить себя – другими словами, разрешал Куррито деспотически властвовать над собой в маловажных вопросах. Но поскольку для людей, подобных дону Луису, не бывает значительных вопросов в повседневной жизни, получалось, что Куррито вертел Луисом как вздумается.
– Я за тобой, – обратился он к брату, – пойдем в казино – там сегодня весело и полно людей. Что сидишь здесь один как дурень?
Дон Луис без возражений, словно повинуясь приказу, взял шляпу, трость и, сказав: «Идем, если так хочешь», – последовал за Куррито, который шествовал впереди, весьма довольный своею властью над братом.
Казино и в самом деле было полным-полно: кроме местных сеньоров, в канун Иванова дня съехалось немало соседей из округи.
Большинство гостей собралось в патио – внутреннем дворе, выложенном мраморными плитами, с бассейном и фонтаном посреди и множеством цветочных горшков с чудоцветом, бальзамином, розами, гвоздикой и базиликом. Над двором была натянута парусина, защищавшая его от солнца. Вокруг шла галерея, поддерживаемая мраморными колоннами; в галерее и в залах были расставлены столы для ломбера, за другими столиками можно было просмотреть газеты или заказать кофе и прохладительные напитки; всюду стояли стулья, скамьи и кресла. На чистых, свежевыбеленных стенах висели многочисленные французские литографии с подробными объяснениями на двух языках. Они были посвящены жизни Наполеона I от Тулона до острова святой Елены, похождениям Матильды и Малек-Аделя [51], любовным и военным эпизодам из жизни Храмовника, Ревекки, леди Ровены и Айвенго [52]; ухаживаниям, шалостям, грехопадениям и порывам раскаяния Людовика XIV и мадемуазель де Лавальер [53].
Куррито ввел дона Луиса, а дон Луис позволил себя ввести в залу, где собрались сливки местной знати, щеголи и денди городка и всей округи. Среди них выделялся граф де Хенасаар из соседнего города. Он был знатен и пользовался всеобщим уважением. Много времени он прожил в Мадриде и Севилье, одевался у лучших портных, заказывая им старинные народные и современные костюмы. Два раза его выбирали депутатом, и как-то он даже внес запрос правительству о произволе некоего алькальда-коррехидора [54].
Граф выглядел человеком лет тридцати с небольшим, был хорош собой и знал это; он любил похвастаться своими успехами на жизненном поприще, в дуэлях и любви. Граф считался одним из самых настойчивых поклонников Пепиты, но, несмотря на все достоинства, он получил тот же отказ и в такой же форме, в какой получали все искатели ее руки.
Рана, нанесенная его спесивому сердцу подобным отказом, не заживала. Любовь перешла в ненависть, и граф часто облегчал свое сердце тем, что поносил Пепиту на все лады.
За этим увлекательным занятием и застали графа дон Луис и Куррито, перед которыми, как на беду, расступился, чтобы пропустить их, кружок завсегдатаев, собравшихся послушать дерзкого шутника. Дон Луис, точно сам дьявол подстроил все это, столкнулся лицом к лицу с графом.
– Ну и хитрая бестия, эта Пепита Хименес! – говорил граф. – У нее больше причуд и высокомерия, чем у инфанты Микомиконы [55]! Она хочет заставить нас позабыть, что родилась и жила в нищете, пока не вышла замуж за чучело, за старикашку, за проклятого ростовщика и не прибрала к рукам его деньжата. Лишь одно доброе дело совершила в своей жизни эта вдовушка – договорилась с сатаной поскорей отправить в ад своего пройдоху-мужа и освободить землю от этой заразы и чумы. Теперь Пепите вздумалось прикинуться добродетельной и целомудренной. Так мы и поверили! Небось тайком спуталась с каким-нибудь батраком, а перед всеми прикидывается второй царицей Артемисией [56].
Домоседам, не посещающим мужские сборища, этот язык покажется, без сомнения, дерзким и невероятно грубым; но люди, знакомые со светом, знают, что такие выражения в нем приняты: красивые и милые женщины, а порой и самые почтенные матроны служат мишенью для позорных и непристойных выпадов, если у них есть враг и даже если его нет, так как иные часто сплетничают, или, лучше сказать, оскорбляют и бесчестят людей во всеуслышание лишь для того, чтобы казаться остроумными и развязными.
Дон Луис с детства привык к тому, что при нем никто не вел себя дерзко и не произносил грубых слов; он рос окруженный слугами, родственниками и людьми, которые зависели от его отца и прислушивались ко всем его желаниям; позднее, в семинарии, ему, как племяннику настоятеля, обладавшему к тому же многими достоинствами, никогда не противоречили, считались с ним и заискивали перед ним. Вот почему дон Луис был поражен словно ударом молнии, услышав, как дерзкий граф порочит и втаптывает в грязь честь женщины, которую он, Луис, боготворит. Но как защитить ее? Хотя он не был ни мужем, ни братом, ни родственником Пепиты, он мог вступиться за нее как кабальеро; но он ясно представил себе, какой это вызовет скандал в казино, где ни у одного из присутствующих не нашлось и слова в защиту молодой вдовы, – напротив, все смеялись, довольные остроумием графа. Мог ли он, проповедник мира, почти накануне принятия сана, открыто высказать свое негодование, рискуя вступить в драку с этим наглецом?!
Дон Луис решил было смолчать и уйти, но, подчиняясь велению сердцами самовольно присваивая себе право, которого ему не давали ни его молодые годы, ни его лицо, покрытое лишь первым пушком, ни его пребывание в казино, он с истинным красноречием выступил против злословия и с христианской независимостью суровым тоном указал графу на низость его поступка.
Это был глас вопиющего в пустыне. На его поучение граф ответил насмешками и непристойностями; и, несмотря на то, что дон Луис был сыном местного касика, люди, среди которых было много приезжих, встали на сторону насмешника, – даже Куррито, этот слабовольный бездельник, не вступился за своего брата. И дон Луис, осмеянный и уничтоженный, покинул казино среди шумного веселья.
– Только этого мне недоставало, – пробормотал сквозь зубы бедный дон Луис, придя домой и снова очутившись у себя в комнате, взбешенный издевательствами, которые он, впрочем, сильно преувеличивал. Подавленный и обескураженный, он бросился в кресло, и рой мыслей закружился в его голове.
Кровь отца, кипевшая в его жилах, возбудила гнев и толкала его отказаться от духовной карьеры, как с самого начала советовали ему в городке, чтобы затем проучить по заслугам сеньора графа, – но тогда все будущее, которое он создал в своем воображении, немедленно рухнет. Перед ним вставали образы настоятеля, отрекающегося от него; папы, приславшего диспенсацию [57] на получение сана ранее положенного возраста; прелата епархии, поддержавшего ходатайство дона Луиса, со ссылкой на его испытанную добродетель, хорошую подготовку и твердость призвания, – все суровыми обвинителями вставали перед его мысленным взором.
Затем он вспомнил шутливые утверждения отца о необходимости дополнить меры убеждения другими мерами, как этому учили святой апостол Иаков, средневековые епископы, дон Иньиго де Лойола и прочие, – и шутка отца уже не казалась ему такой нелепой, как прежде: да, он почти раскаивался в том, что не пошел сегодня по этому пути.
Ему припомнился также обычай некоего правоверного богослова, современной знаменитости, – персидского философа, о котором упоминалось в одной из последних книг о Персии. Обычай его состоял в том, чтобы сурово бранить учеников и слушателей, когда они смеялись во время уроков или не понимали их; если же этого было недостаточно, философ спускался с кафедры и мечом расправлялся с виновными. Этот метод был весьма плодотворен, особенно в споре; хотя однажды упомянутый философ столкнулся с противником, который применил тот же способ убеждения, и философ получил чудовищный удар по лицу.
Несмотря на угрызения совести и дурное настроение, дон Луис невольно рассмеялся при этом воспоминании, полагая, что многие философы в Испании охотно усвоили бы персидский метод; и если он сам не применил его, то, конечно, не из страха перед ударом, а из более благородных соображений.
Но тут дон Луис предался иным размышлениям, которые несколько успокоили его.
"Незачем было выступать в казино с проповедью, – подумал он, – мне следовало сдержаться, как велит нам Иисус Христос, – он сказал: «Не бросайте святыни псам и не мечите бисера перед свиньями, дабы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». На что мне сетовать? Должен ли я на оскорбление отвечать оскорблением? Должен ли позволить гневу одержать верх? Святые отцы говорили: «Гнев у священника – хуже, чем похоть». Он вызвал море слез и был причиной страшных бедствий. Гнев – опасный советчик: это он привел к тому, что народы исходили кровавым потом под божественным игом; это он вызвал призрак Исаии [58] перед ожесточенными взорами служителей церкви, и они вместе с фанатическими приверженцами своими превратили кроткого агнца в неумолимого мстителя, спускающегося во главе бесчисленного воинства с вершины Эдома [59] и надменной стопой, по колено в крови, попирающего народы, как давят виноград в давильне. О нет, господи! Я буду твоим служителем. Ты – бог мира, и моей первой добродетелью должна быть кротость. Да послужит мне примером нагорная проповедь сына твоего. Не око за око, не зуб за зуб, а любовь к врагам нашим! Ты, как рассвет, освещаешь праведных и грешных и проливаешь на всех обильный поток своих несказанных милостей. Ты – наш отец, сущий на небесах, и нам надлежит стать такими же совершенными, как ты, прощать тех, кто оскорбляет нас, и молить тебя, чтобы и ты простил их, ибо они не ведают, что творят. Не следует забывать о данной нам заповеди: блаженны вы, когда вас будут поносить, гнать и всячески несправедливо злословить о вас. Священник – или тот, кто хочет им стать, – должен быть смиренен, миролюбив, кроток сердцем. Он не похож на дуб, который гордо возвышается, пока в него не ударит молния, – нет, он подобен лесным душистым травам и скромным полевым цветам, которые благоухают еще приятней и нежнее, когда их топчет грубая нога.
В таких размышлениях протекло время до трех часов. Дон Педро, возвратившись с прогулки, вошел в комнату сына и позвал его обедать. Но ни веселая сердечность любящего отца, ни его шутки, ни знаки внимания – ничто не могло рассеять грусть дона Луиса. Он ел через силу и почти не разговаривал за столом.
Дона Педро огорчило уныние сына, – уж не заболел ли он? Но тем не менее, выкурив, как всегда, после обеда хорошую гаванскую сигару и сопроводив ее обязательной чашкой кофе и рюмкой крепкой анисовой водки, дон Педро почувствовал усталость от дневных хлопот и отправился, как обычно, прилечь после обеда часика на два – на три; ведь он вставал с рассветом.
Дон Луис поостерегся сообщить отцу об обиде, нанесенной графом де Хенасаар: дон Педро, не собиравшийся стать священником и обладавший вспыльчивым характером, немедленно отомстил бы обидчику.
Оставшись один, дон Луис вышел из столовой, чтобы никого не видеть и, закрывшись у себя в комнате, снова погрузился в размышления.
Так он сидел, задумчиво облокотясь на бюро и подперев щеку правой рукой; вдруг послышался легкий шум. Он поднял глаза и рядом с собой увидел назойливую Антоньону, которая, несмотря на свою толщину, проникла к нему, словно тень, и теперь внимательно наблюдала за ним с выражением сострадания и ярости.
Она проскользнула сюда, никем не замеченная, пока слуги обедали, а дон Педро спал, и открыла дверь в комнату и затворила ее за собой с такой осторожностью, что дон Луис, если бы даже и не был погружен в задумчивость, все равно ничего не услышал бы.
Антоньона решила серьезно поговорить с доном Луисом, хотя еще точно не знала, что ему скажет. Однако она попросила – неизвестно, небо или ад – развязать ей язык и наделить ее даром речи – не вульгарной и грубой, обычной для нее, а благопристойной и изящной, пригодной для высоких рассуждений и прекрасных мыслей, которые она собиралась изложить ему.
Увидев Антоньону, дон Луис нахмурился, красноречивым жестом выразил свое недовольство по поводу ее посещения и резко спросил:
– Ты зачем пришла? Уходи.
– Я пришла требовать от тебя отчета в том, что ты делаешь с моей девочкой, – не смущаясь, ответила Антоньона, – и не уйду, пока ты не объяснишь своего поведения.
Затем, придвинув к столу кресло, она с самоуверенным и дерзким видом уселась против дона Луиса.
Поняв, что ему от нее не отделаться, дон Луис, овладев собой, вооружился терпением и уже менее жестким тоном сказал:
– Говори, в чем дело.
– А в том, – начала Антоньона, – что ты замыслил против моей бедняжки злодейство. Ты ведешь себя как негодяй. Ты ее околдовал, опоил зельем. Наш ангелочек умирает. Она не ест, не спит, не знает покоя – и все по твоей вине. Сегодня она несколько раз падала в обморок лишь при одной мысли о твоем отъезде. Натворил же ты дел, собираясь в попы! Ах ты каторжник, зачем тебя только принесло к нам? Почему ты не остался с дядей? Она была вольная, как ветер, сама себе хозяйка, всех покоряла, а сама никому не давалась в руки, – и вот теперь попала в твои коварные сети. Ты, конечно, приманил ее своей притворной святостью. Все твое богословие, все твои небесные фокусы – это свист, которым хитрый и бессердечный охотник заманивает в силок глупых дроздов.
– Антоньона, – произнес дон Луис, – оставь меня в покое. Не терзай меня, ради бога. Я – злодей, признаю это. Мне не следовало смотреть на твою госпожу. Мне не следовало показывать ей, что я люблю ее; но я любил ее и продолжаю любить всем сердцем. Я не давал ей ни зелья, ни отвара – я дал ей свою любовь. Но от этой любви нужно отказаться, нужно все позабыть. Так велит мне бог. Ты думаешь, что я не принес, не приношу и не принесу, огромной жертвы? Пепита должна собраться с силами и последовать моему примеру.
– Но ты и этого утешения не даешь ей, бедняжке! – возразила Антоньона. – Ты приносишь на алтарь добровольно свою жертву, ты отказываешься от женщины, которая тебя любит и целиком принадлежит тебе; а ты ведь не принадлежишь ей, как же она тобой пожертвует? Что кинет она на ветер? Какое сокровище бросит в костер? Ничего – только любовь без взаимности! Как может она отдать богу то, чего не имеет? Что же, она обманет бога и скажет: «Боже мой, вот он меня не любит, так я и жертвую тебе его и перестану его любить?» Жаль, что бог не умеет смеяться, а если бы умел – ну и похохотал бы он над таким подарком!
Ошеломленный дон Луис не знал, что возразить на отповедь Антоньоны, еще более жестокую, чем ее прежние щипки. Кроме того, ему претило углубляться в метафизику любви со служанкой.
– Оставим бесполезные разглагольствования, -сказал он. – Я не могу помочь горю твоей госпожи. Что же мне делать?
– Что тебе делать? – прервала его Антоньона, на этот раз мягко, ласково и вкрадчиво. – Я тебе скажу, что делать. Если ты и не поможешь горю моей девочки, то хоть немного облегчи его. Разве ты не настоящий святой? А святые – люди сострадательные, да и мужественные. Не беги, как невежа и трус, не простившись. Навести мою больную девочку, сделай благое дело.
– Но к чему это может привести? Мой приход только ухудшит дело, а не поправит его.
– Да нет, ты не понимаешь. Бог подвесил тебе такой язык, ты так умеешь болтать, что живо вобьешь ей в мозги смирение, я она утешится; да еще прибавь, что любишь ее, а покидаешь только из-за бога, – по крайней мере это не заденет ее.
– Ты хочешь, чтобы я искушал бога? Это опасно и для меня и для нее.
– Зачем тебе искушать бога? Если бог увидит, что твои намерения справедливы и чисты, разве он оставит тебя своей милостью и помощью, разве он позволит тебе растеряться? А ведь я не без причины тебя об этом прошу. Разве не твоя обязанность поспешить к моей девочке, спасти ее от отчаяния и направить ее на путь истинный? А если она, увидев твое пренебрежение, умрет от горя или схватит веревку, да и повесится на балке? У тебя на сердце будет небось жарче, чем в смоляных и серных котлах дьявола!
– Ах, это ужасно! Я не хочу, чтобы она отчаивалась. Я призову все свое мужество и приду навестить ее.
– Благослови тебя бог! Сердце мне подсказывало, что ты добрый!
– Когда прийти?
– Сегодня вечером, ровно в десять. Я буду ждать тебя у двери, что выходит на улицу, и провожу к ней.
– Она знает, что ты была у меня?
– Нет, не знает. Это я сама придумала. Но я половчей подготовлю ее, чтобы она не упала в обморок от нежданной радости. Так придешь?
– Приду.
– До свиданья. Приходи обязательно. Ровно в десять. Я подожду тебя у дверей.
И Антоньона убежала; прыгая по лестнице через две ступеньки, она мгновенно очутилась на улице.
Нельзя отрицать, Антоньона действовала чрезвычайно умно, а речь ее была столь достойной и учтивой, что ее могли бы счесть неправдоподобной, если бы не знали с величайшей точностью всего, о чем здесь повествуется, и если бы не были известны чудеса, на которые способен прирожденный ум женщины, когда стимулом ему служит глубокий интерес или сильная страсть.
Без сомнения, привязанность Антоньоны к Пепите была велика, и, видя, как ее девочка влюблена и страдает, она старалась найти лекарство от ее недуга. Обещание, которое она только что вырвала у дона Луиса, явилось неожиданной победой. Чтобы извлечь пользу из этой победы, Антоньона решила принять меры, какие подсказал ей глубокий жизненный опыт.
Антоньона назначила свидание на десять часов – время прежних, теперь отмененных или отложенных, вечеров, когда обычно встречались дон Луис и Пепита. Так удается избежать сплетен и пересудов; в церкви проповедник учил, что нет греха хуже злословия, и по евангелию – любителей злословия следует бросать в море, привязав им на шею мельничный камень.
Итак, Антоньона вернулась домой, весьма довольная собой и полная решимости так умело всем распорядиться, чтобы найденное лекарство не оказалось бесполезным и не усугубило страданий Пепиты, вместо того чтобы их облегчить.
Она не собиралась сразу предупреждать Пепиту, решив только напоследок сказать ей, будто сам дон Луис просил назначить время для прощального свидания и что она велела ему прийти в десять часов.
Наконец, во избежание сплетен, никто не должен был увидеть, как дон Луис входит в дом. Соблюдению тайны поможет назначенный для встречи час и расположение дома: в десять часов на улице много гуляющих, и поэтому на проходящего по ней дона Луиса не обратят внимания; проникнуть в сени будет делом одной секунды, – а она, Антоньона, уж сумеет проводить гостя в комнату так, чтобы никто его не заметил.
Все или большинство богатых домов Андалусии состоят из двух частей, или половин, – таким был и дом Пепиты. Для каждой половины устроен отдельный вход. Парадная дверь ведет во внутренний дворик с колоннами и полом, выложенным плитами, в залы и господские комнаты; другая – черная дверь – служит входом на скотный двор, мельницу и кухню, в конюшни, сарай, давильню, амбар и кладовую, где до поры до времени хранятся маслины, в подвалы с маслом, виноградным соком, молодым вином, водкой и уксусом в больших глиняных кувшинах и в винные погреба, где хранится в бочках хорошее вино и вино передержанное. Эта половина, даже если дом расположен в центре города с двадцатью – двадцатью пятью тысячами жителей, называется усадьбой. По вечерам там собираются управляющий, приказчики, погонщик мулов, прислуга и батраки; зимой – вокруг огромного камина в большой кухне, а летом на открытом воздухе или в прохладной комнате они проводят время и развлекаются, пока хозяева не лягут спать.
Антоньона сообразила, что предстоящее объяснение между ее девочкой и доном Луисом требует тишины и покоя: надо устроить так, чтобы никто не мог помешать им; поэтому она решила по случаю Иванова дня освободить на весь вечер девушек, прислуживавших Пепите, и отпустить их в усадьбу, где они вместе с деревенскими работниками устроят настоящий бал с веселыми песнями и плясками под стук кастаньет.
Таким образом, на опустевшей господской половине остались только Антоньона и Пепита; а это было весьма кстати в связи с торжественностью и значительностью ожидаемого свидания: возможно, что от встречи, которую верная служанка так искусно подготовила, зависела судьба двух молодых людей.
Пока Антоньона размышляла и обдумывала дальнейшие планы, дон Луис каялся в легкомыслии и слабости: зачем согласился он на свидание, о котором просила его Антоньона!
Дон Луис задумался над характером этой женщины; она рисовалась в его воображении порочнее Эноны и Селестины [60]. Он видел перед собой во весь рост опасность, навстречу которой он добровольно шел, и не радовался тайному свиданию с красавицей вдовой.
Встретиться с нею, чтобы уступить и попасть в ее сети, нарушить обеты, обмануть епископа, поддержавшего его ходатайство о диспенсе, наконец самого папу, приславшего разрешение, отказаться от духовного сана, – все это в его глазах было чудовищно, позорно. Кроме того, любовь к Пепите была предательством по отношению к отцу, который любил молодую женщину и просил ее руки. Пойти же к ней, чтобы еще больше ее разочаровать, казалось ему утонченной жестокостью, гораздо худшей, чем уехать не простившись.
Побуждаемый этими соображениями, дон Луис решил сначала не идти на свидание, не предупреждая и не принося извинений, – пусть Антоньона напрасно поджидает его у порога. Но если Антоньона уже успела все сообщить госпоже, а он не придет, – это будет равносильно оскорблению.
Тогда он вздумал написать Пепите сердечное и умное письмо, в котором он собирался сказать, что не может прийти, оправдать свое поведение, утешить ее, выказать свои нежные чувства к ней, но в то же время еще раз подтвердить, что его долг перед богом – превыше всего, и наконец попытаться вдохнуть в Пепиту мужество, призывая ее принести такую же жертву, какую приносит он.
Раз пять принимался дон Луис за письмо, но, набросав несколько строк, тут же рвал бумагу; письмо никак не получалось. То оно выходило сухим, холодным и педантичным, как плохая проповедь или урок преподавателя латинского языка; то в нем сквозил ребяческий, забавный страх перед Пепитой, словно она была чудовищем, готовым его пожрать; то в нем сказывались другие, не менее плачевные недостатки. В итоге, уничтожив в напрасных попытках целую кипу бумаги, Луис так и не составил письма.
– Ничего не поделаешь, – сказал про себя дон Луис, – жребий брошен. Будем мужественны и пойдем туда.
Дон Луис успокоил свою душу надеждой, что он будет очень сдержан, что господь вложит в его уста пылкое красноречие и ему удастся уговорить Пепиту – она ведь так добра – самой настаивать на выполнении обета, принести в жертву мирскую любовь и тем уподобиться святым девам минувших времен, которые не только отказывались сочетаться браком с женихом или возлюбленным, но, даже выйдя замуж, не соединялись с мужем и жили с ним как сестра с братом, о чем рассказывается, например, в житии святого Эдуарда, короля Англии. Подумав об этом, дон Луис успокоился и почувствовал прилив бодрости; он уже воображал себя в роли святого Эдуарда, а Пепиту в роли королевы Эдиты, его жены; и когда он представлял себе Пепиту этой королевой, девственной супругой, она казалась ему – если только это вообще было возможно – еще более прекрасной и возвышенной.
Однако дон Луис не обрел той уверенности и твердости, какую должно было вселить в него решение подражать святому Эдуарду. Он все еще видел нечто преступное в посещении, о котором ничего не знал отец, и ему не терпелось разбудить его от послеобеденного сна и все ему рассказать. Раза три он поднимался с места и шел к отцу, но тотчас же останавливался, считая этот поступок недостойным, видя в нем глупое ребячество. Он имел право доверить отцу собственные тайны, но открывать тайну Пепиты, лишь бы не испортить отношений с отцом, – было нечестно. Мелкий, смешной и жалкий характер этого намерения подчеркивался еще тем, что к этому поступку его побуждал страх оказаться недостаточно стойким. Итак, дон Луис промолчал и ничего не открыл отцу.
Более того, он не чувствовал себя вполне уверенно, чтобы показаться отцу до таинственного свидания. Противоречивые страсти бушевали в его груди, тревога росла, он не находил себе места, большая комната казалась ему тесной клеткой, он то и дело вскакивал, метался, и так стремительно шагал взад и вперед, что рисковал разбить себе голову о стены. Несмотря на теплый летний воздух, проникавший через открытый балкон, дон Луис чувствовал, что задыхается, что потолок давит его, не дает поднять голову, что для дыхания ему нужен весь воздух, для ходьбы – все безграничное пространство, и весь глубокий небосвод – для мыслей, безудержно стремившихся ввысь.
Не выдержав подобной пытки, дон Луис схватил шляпу и трость и стремглав выскочил из дому. Избегая встречи со знакомыми и стремясь поскорее уединиться, он направился в тенистые и безлюдные аллеи садов, что окружали городок на расстоянии более полумили и превращали окрестности в настоящий земной рай.
До сих пор мы мало говорили о внешности дона Луиса. Да станет известно читателю, что он был в полном смысле слова красивый молодой человек – высокий, стройный, хорошо сложенный, черноволосый; темные глаза его были полны огня и нежности, смуглое лицо, белые зубы, горделивый, тонко очерченный рот; во всех движениях что-то смелое и мужественное, несмотря на священническую скромность и кротость; наконец в походке и осанке дона Луиса был тот не поддающийся описанию отпечаток утонченности и благородства, свойственный аристократам, хотя и не являющийся их исключительной привилегией.
Взглянув на дона Луиса, мы должны признать, что Пепита Хименес обладала врожденным чувством красоты.
Дон Луис скорее бежал, чем шел по тропинкам, прыгая через ручейки и ни на что не глядя, точно бык, ужаленный оводом. Крестьяне и огородники, встречавшиеся ему на пути, поглядывали на него, как на полоумного.
Наконец, утомленный бесцельной ходьбой, он уселся у каменного креста, близ развалин древней обители святого Франсиско де Паула, расположенной в окрестностях городка, и снова погрузился в размышления, но такие путаные, что он не мог проследить за ходом своих мыслей.
Колокольный звон, который достигал этого безлюдья, призывая верующих к молитве и напоминая им о пресвятой богородице, встреченной приветствием архангела, вывел дона Луиса из состояния глубокой задумчивости и вернул его к действительности.
Солнце только что скрылось за исполинскими вершинами гор; скалы, пики, пирамиды и разбитые обелиски четко вырисовывались на пурпурно-топазном небе, позолоченном лучами заходящего светила. Тени окутывали долину, а высокие горные утесы сверкали расплавленным золотом и хрусталем.
В последних косых лучах умирающего солнца, как два спасительных маяка, пылали стеклами окон и белыми стенами далекий храм пресвятой девы, покровительницы городка, стоявший на вершине холма, и маленькая часовня на ближней горе, носившей название Голгофы.
Природа была насыщена поэтической грустью, и казалось, что вселенная поет творцу торжественный гимн без слов, понятный только душе. Медленный, чуть слышный перезвон далеких колоколов едва тревожил спокойствие земли и звал к молитве, не рассеивая чувств, Дон Луис снял шляпу, стал на колени у подножия креста и с глубокой верой прочел Angelus Domini [61].
Ночные тени обволакивали землю; однако ночь, широко раскинув плащ над долинами и горами, любовно украсила его сверкающими звездами и яркой луной. Лазурный свод, потемнев, не утратил своей синевы. Бесчисленные звезды, сверкавшие в беспредельном эфире, посылали на землю лучи сквозь легкий, прозрачный воздух. Луна серебрила кроны деревьев и отражалась в ручьях; прозрачная и светлая вода струилась, расцвеченная радужными и опаловыми переливами. В густой роще пели соловьи. Травы и цветы щедро изливали свой аромат. По берегам оросительных канав, среди невысокой травы и лесных цветов алмазами и рубинами сверкали бесчисленные светлячки. Цветущие плодовые деревья, заросли акаций и розовых кустов наполняли воздух чарующим благоуханием.
Дон Луис почувствовал, как природа, полная неги и страсти, пленяет, соблазняет, покоряет его, и усомнился в своих силах. Однако нужно было выполнить данное им слово и пойти на свидание.
Колеблясь и раздумывая, он побрел незнакомыми тропинками и, сделав большой крюк, очутился у подножия гор, в восхитительном уголке, где из скалы хрустальной струей пробивался источник, чтобы затем широко разлиться по плодовым садам. После минутного раздумья дон Луис медленным, размеренным шагом направился к поселку.
По мере того как дон Луис приближался, принятое решение внушало ему все больший ужас. Он пробирался сквозь чащу, страстно желая увидеть какое-либо чудо, знамение, предупреждение, которое заставило бы его повернуть назад. Он вспоминал студента Лисардо и жаждал увидеть собственное погребение. Но небо таинственно мерцало бесчисленными огнями, призывая к любви; звезды ласково смотрели друг на друга; томно пели соловьи; влюбленные сверчки взмахивали звонкими крылышками, как поющие серенаду трубадуры – плектрами [62]; казалось, вся земля в эту безмятежную прекрасную ночь была полна любви. Никаких предостережений, никаких знамений, нигде ни следа печали, – повсюду жизнь, мир и наслаждение. Где был его ангел-хранитель? Покинул ли он дона Луиса, отчаявшись спасти его, или, не предвидя угрожавшей ему опасности, не собирался препятствовать его намерениям? Как знать? Может быть, это опасное положение приведет дона Луиса к торжеству? Святой Эдуард и королева Эдита вновь предстали перед воображением дона Луиса и укрепили его волю. Погруженный в задумчивость, дон Луис шел медленно и еще не достиг городка, когда часы на башне приходской церкви пробили десять – час свидания. Колокол десять раз ударил в сердце дона Луиса, и каждый удар наносил ему рану, но к боли и страху примешивалось предательски сладостное волнение.
Дон Луис прибавил шагу, боясь запоздать, и скоро очутился на окраине городка.
Там царило величайшее оживление. Девушки, пришедшие к источнику на общинном пастбище, умывались – верный способ сохранить своего возлюбленного, у кого он был, или завести его в скором времени. Женщины и детишки рвали тут и там ветки вербены, розмарина и других растений, из которых готовится волшебный фимиам. Повсюду звучали гитары. Кругом слышался любовный шепот, на каждом углу виднелись счастливые влюбленные парочки. Канун Иванова дня, хотя и был католическим праздником, таил смутные отголоски древнего язычества и поклонения силам природы; может быть, оттого, что он совпадает с летним солнцестоянием. Во всяком случае, в его праздновании не чувствовалось ничего религиозного, все дышало земной любовью и страстью. Наши старинные романсы и легенды рассказывают о том, как в канун Иванова дня магометанин похищает прекрасную христианскую принцессу, а рыцарь-христианин добивается цели своих страстных желаний у знатной мавританки; можно сказать, что здесь, в городке, сохранились старые традиции.
Кругом кипела жизнь. Казалось, весь городок высыпал на улицу; немало народу съехалось из окрестных сел. Трудно было пройти из-за множества столиков с халвой, медовыми коврижками и гренками, ларьков с фруктами, палаток с куклами и другими игрушками, а также жаровен, у которых толпились молодые и старые цыганки: одни жарили пончики, отравляя воздух запахом масла; другие взвешивали и продавали их, метко отвечая на комплименты молодых людей, третьи предсказывали судьбу.
Дон Луис старался избежать встречи с друзьями и, едва завидев вдалеке знакомое лицо, бросался в сторону. Так он продвигался, нигде не задерживаясь, ни с кем не разговаривая; и вот он подошел уже к дому Пепиты. Сердце его усиленно забилось; пришлось остановиться на мгновение, чтобы успокоиться. Он взглянул на часы: было около половины одиннадцатого.
«Боже мой, – подумал он, – скоро полчаса, как она меня ждет».
Он торопливо вошел. Фонарь, всегда освещавший калитку, горел в эту ночь тусклым светом.
Едва дон Луис закрыл за собой дверь, как чьи-то пальцы, точно когти, вцепились в него. Это была Антоньона.
– Чертов семинарист, неблагодарный грубиян, олух! – зашептала она. – Я уж думала, ты не придешь. Где ты был, балбес? Ты еще смеешь опаздывать, артачиться, когда из-за тебя тает соль земли, когда тебя ждет солнце красоты?
Осыпая его на ходу упреками, Антоньона поспешно тащила за собой оробевшего семинариста. Они вошли в калитку, и Антоньона осторожно и бесшумно заперла ее, пересекли внутренний двор, поднялись по лестнице, миновали несколько коридоров, две залы и подошли к закрытой двери кабинета.
Во всем доме стояла поразительная тишина. Кабинет выходил во двор, и шум улицы не достигал его. Только из усадьбы, где гуляли слуги Пепиты, смутно и неясно доносился стук кастаньет, звон гитары и заглушенный рокот голосов.
Антоньона открыла дверь кабинета и, вталкивая дона Луиса, доложила о нем:
– Девочка, тут сеньор дон Луис, он пришел попрощаться с тобой.
Сделав доклад с надлежащей официальностью, Антоньона скромно удалилась и закрыла за собой дверь, предоставив молодым людям полную свободу.
Дойдя до этого места, мы не можем не отметить достоверный характер нашей повести и не удивиться педантичной точности лица, ее написавшего. Будь в этом паралипоменоне хоть доля вымысла, как это бывает в романе, то свидание, столь важное и значительное для Пепиты и дона Луиса, несомненно не было бы обставлено так просто, как это здесь сделано. Романист отправил бы наших героев в загородную прогулку, где, спасаясь от внезапной и страшной бури, они нашли бы убежище в развалинах древнего замка или мавританской башни, прославившейся в округе какими-нибудь таинственными привидениями. Быть может, наши герои попали бы в руки шайки разбойников, от которой их избавила бы отчаянная храбрость дона Луиса, а потом им пришлось бы спрятаться ночью в уединенном гроте или пещере. И, наконец, автор мог послать Пепиту и ее нерешительного обожателя в морское путешествие, и хоть теперь нет алжирских пиратов и корсаров, нетрудно было бы выдумать страшное кораблекрушение: дон Луис спасает Пепиту, и оба попадают на необитаемый остров или в другое поэтическое и безлюдное место. С помощью любого из этих средств можно было бы искуснее подготовить встречу влюбленных и оправдать дона Луиса. Мы полагаем, однако, что нам следует не порицать автора за то, что он не прибег к подобному вымыслу, а, напротив, поблагодарить его за крайнюю добросовестность, с какою он ради точности повествования пожертвовал теми пышными эффектами, которых он мог бы достигнуть, дав волю фантазии и разукрасив свидание всевозможными случаями и эпизодами.
Если здесь были виноваты только усердие и ловкость Антоньоны и слабость дона Луиса, обещавшего прийти на свидание, – к чему выдумывать бог весть что и изображать влюбленных, словно роком влекомых к свиданию и беседе наедине, с величайшей опасностью для добродетели и твердости того и другого? Ведь этого же не было. Хорошо или плохо вел себя дон Луис, придя на свидание; хорошо или плохо было со стороны Пепиты, – заранее узнавшей все от Антоньоны, – радоваться этому таинственному посещению в неурочное время – будем обвинять в этом не рок и не случай, а самих лиц, участвующих в этой повести, и страсти, владевшие ими.
Мы очень любим Пепиту, но истина прежде всего, и нам необходимо ее высказать, хотя бы она и была неблагоприятна для нашей героини. В восемь часов Антоньона предупредила госпожу, что в десять придет дон Луис, и собиравшаяся уже умереть Пепита, непричесанная, с красными глазами и припухшими от слез веками, с этого мгновения думала лишь о том, как бы привести себя в порядок и принарядиться для дона Луиса. Она вымыла лицо теплой водой, стараясь уничтожить следы слез, – но лишь настолько, чтобы, не нанося ущерба красоте, они все же оставались бы слегка заметны; убрала волосы так искусно, что прическа свидетельствовала не о заботливом внимании, а о некоторой художественной и приятной небрежности, не доходящей, однако, до беспорядка; отшлифовала ногти и надела простое домашнее платье, – неудобно же было принять дона Луиса в халате. С помощью этих маленьких ухищрений она стремилась придать себе как можно больше очарования, стараясь в то же время скрыть следы ухищрений, потраченных на эту отделку; ее красота должна была сиять как произведение природы, как естественный дар; как нечто сохраняющееся, несмотря на небрежность, вызванную тяжелыми переживаниями.
Как нам удалось установить, Пепита потратила на свой туалет, который можно было оценить только по результатам, более часа. Нанеся последний штрих, она посмотрелась в зеркало с едва скрываемым удовлетворением. Наконец около половины десятого, взяв подсвечник, она спустилась в залу, где на маленьком алтаре стоял младенец Иисус. Сначала она зажгла погасшие свечи, печально взглянула на увядшие цветы, попросила у святой статуи прощения за то, что позабыла о ней, и, преклонив колени, предалась молитве, доверчиво открыв свое сердце младенцу Иисусу, много лет обитавшему в ее доме. У Иисуса Назарянина, под крестной ношей и в терновом венке, у связанного грубой веревкой, оскорбляемого и бичуемого, Иисуса с тростниковым скипетром, вложенным в его руку язвительной злобой толпы, или у распятого Христа, окровавленного и умирающего, – Пепита не отважилась бы попросить то, чего она просила у младенца Иисуса – смеющегося, миловидного, здорового и розового малютки. Пепита просила его, чтобы он отдал ей дона Луиса, чтобы он не отнимал его! Ведь младенец Иисус так богат – он владеет всем миром, и легко может отказаться от этого слуги, уступив ей дона Луиса.
Окончив все приготовления, которые уместно разделить на косметические, гардеробные и религиозные, Пепита вошла в кабинет, с лихорадочным нетерпением ожидая прихода дона Луиса.
Антоньона поступила умно, сообщив ей о предстоящем свидании лишь незадолго до назначенного часа. И тем не менее, по милости нашего запоздавшего героя, бедная Пепита места себе не находила от беспокойства и тоски с той минуты, как она окончила мольбы и молитвы, обращенные к младенцу Иисусу, до мгновения, когда порог кабинета переступил другой младенец.
Начало было церемонным и чинным. Обе стороны обменялись обычными приветствиями; получив приглашение сесть, дон Луис расположился в кресле на приличном расстоянии от Пепиты, не выпуская из рук шляпы и трости. Пепита сидела на диване. Рядом с ней стоял столик с книгами и канделябром, пламя свечи освещало ее лицо. На бюро горела лампа. Но комната была так велика, что значительная часть ее тонула в полумраке. Раскрытое окно выходило во внутренний садик; хотя оконная решетка была сплошь увита розами и жасмином, через чудесный ковер зелени и цветов проникал яркий луч луны и заливал комнату, соперничая со светом лампы и свечи. В окно доносились и далекий неясный шум веселья в усадьбе, и однообразный рокот фонтана в садике, и аромат жасмина, роз, чудоцвета, базилика и других растений, окаймлявших стены дома.
Наступило долгое молчание, которое было так же трудно вынести, как и прервать. Ни один из собеседников не решался заговорить. Выразить свои чувства им было так же тяжело, как нам теперь воспроизвести сказанное. Но ничего не поделаешь – приходится за это взяться. Пусть они сами объясняются, а мы дословно перескажем их беседу.
– Наконец-то вы снизошли ко мне и навестили, чтобы попрощаться перед отъездом, – сказала Пепита. – Я уже потеряла надежду.
Роль, выпавшая дону Луису, была нелегка; даже опытные и закаленные в подобных беседах люди нередко делают глупости. Так не будем винить новичка, дона Луиса, за то, что он начал свой ответ с глупостей.
– Ваши упреки несправедливы, – сказал он. – Я заходил вместе с отцом попрощаться с вами, но мы не имели удовольствия быть принятыми и оставили свои карточки. Нам сообщили, что вы немного нездоровы, и все эти дни мы посылали справиться о вашем самочувствии. Нам было очень приятно узнать, что вы поправились. Вам теперь лучше?
– Я уже готова была сказать, что не лучше, – возразила Пепита, – но вы, видимо, пришли послом от вашего батюшки, и я не желаю огорчать столь превосходного друга: передайте ему, что мне намного лучше. Странно, что вы пришли один. Вероятно, дон Педро очень занят, если он не сопровождает вас?
– Отец не пришел со мной, сеньора, ибо он ничего не знает о моем визите. Я явился один, потому что мое прощание будет торжественным, серьезным – может быть, это прощание навсегда. Другое дело – отец: он вернется через несколько недель; я же, возможно, никогда здесь не появлюсь, а если вы меня и увидите, то совсем другим, чем теперь.
Пепита не могла владеть собой. Будущее, полное счастья, о котором она мечтала, таяло, как тень. Ее твердое решение любой ценой победить этого человека, единственного, которого она в своей жизни любила, оказалось бесполезным. Дон Луис уезжал. Молодость, красота, привлекательность, любовь Пепиты – ничто не имело цены в его глазах. В двадцать лет, молодая и прекрасная, она была осуждена на вечное вдовство, одиночество и неразделенную любовь. Полюбить другого она не могла. Но препятствия только усиливали и разжигали стремления Пепиты: стоило ей принять какое-нибудь решение, и она сметала все на своем пути, пока не добивалась желанной цели; и тут ее характер, освободившись от всякой узды, проявился с замечательной силой. Она решила погибнуть в борьбе – или победить! Общественные условности, укоренившаяся привычка большого света притворяться, скрывая чувства, воздвигать плотину перед порывами страстей, окутывать их газом и флером, растворять в неясных двусмысленных выражениях самые сильные взрывы плохо подавляемых чувств – не могли остановить Пепиту, которая мало общалась с людьми и не знала середины: сначала слепо повиновалась матери и мужу, потом деспотически повелевала всеми окружающими. Вот почему Пепита открыла себя дону Луису такой, какой она была. Душа ее со всей врожденной страстностью воплотилась в ее словах, а они не скрывали мыслей и чувств, но облекали их в плоть. Она заговорила, но не так туманно и уклончиво, как это сделала бы светская дама, а с идиллической непосредственностью, как говорила с Дафнисом Хлоя [63], как говорила невестка Ноэмини [64], смиренно и непринужденно предлагавшая себя Воозу.
– Итак, вы не отказываетесь от своего намерения? – начала Пепита. – Вы уверены в своем призвании? Вы не боитесь, что будете плохим священником? Сеньор дон Луис, я попытаюсь пересилить себя: я на мгновение хочу забыть, что я лишь деревенская простушка, я оставлю в стороне все чувства и постараюсь рассуждать хладнокровно, точно речь идет о делах мне безразличных. Я хочу говорить о том, что можно толковать двояко, – но, как ни толкуй, вы оказываетесь в дурном свете. Я объяснюсь. Если молодой женщине удалось после краткого знакомства и двух-трех бесед вызвать в вас волнение своим – кстати сказать, не очень умелым – кокетством и добиться от вас взглядов, исполненных земной любви, и даже доказательства вашей нежности, – а это уже проступок для любого человека и тем более для священника, – если эта женщина всего-навсего простая провинциалка, без образования, лишенная талантов и изящества, то как же вам нужно бояться за себя, когда в больших городах вы узнаете других женщин, в тысячу раз более опасных, и вам придется принимать их у себя и бывать у них в доме! Вы просто сойдете с ума, когда познакомитесь с великосветскими дамами, живущими во дворцах, среди пышной роскоши. Одетые в шелк и кружева, а не в ситец и муслин, они ослепят вас алмазами и жемчугами на прекрасной шее и белоснежных плечах, которых они не прячут под скромной деревенской косынкой; эти красавицы умеют ранить одним лишь взглядом. Сопровождаемые свитой, окруженные роскошью и великолепием, они становятся еще более желанными, ибо кажутся недосягаемыми; они рассуждают о политике, философии, религии и литературе, поют, как канарейки; они восседают на пьедестале триумфов и побед, окруженные обожанием и преданностью, обожествленные поклонением знаменитых людей, вознесенные до небес в салонах, сверкающих золотом, или уединившиеся в будуарах, где все дышит негой и куда входят только счастливейшие из смертных. Знатные дамы, носящие громкие титулы, лишь для близких зовутся «Пепита», «Антоньита» или «Анхелита», для остальных же они «сиятельная сеньора герцогиня» или «сиятельная сеньора маркиза». Если вы накануне посвящения в сан, к которому так стремитесь, не устояли перед простенькой провинциалкой, побежденный ее мимолетным капризом, то можно предположить, что вы станете никуда не годным, безнравственным, легкомысленным священников, любящим светскую жизнь и забывающим свой долг на каждом шагу. В таком случае, сеньор Дон Луис, – поверьте мне и не обижайтесь, – вы не годитесь даже в мужья честной женщине. Если вы могли пожимать руки с усердием и нежностью безумно влюбленного, бросать взгляды, обещавшие рай и вечную любовь, и если вы… поцеловали женщину, внушившую вам чувство, которое никак не назовешь любовью, – ступайте с богом и не женитесь на ней. Если она добродетельна, она сама не пожелает, чтобы вы стали ее супругом или хотя бы любовником. Но, ради бога, не идите в священники. Церкви нужны слуги более серьезные и стойкие. Если же вы почувствовали сильную страсть к женщине, о которой мы говорили, – зачем бросать ее и так жестоко обманывать, хотя бы она и не была достойна вашей любви? Если она сумела внушить эту большую страсть, неужели же вы думаете, что она не разделила ее, не стала ее жертвой? Как сильная, возвышенная и неудержимая любовь может остаться без ответа? Не мучает ли она и не порабощает ли неодолимо того, на кого изливается? Измеряйте любовь своей любимой той же мерой, какой вы мерите свою. И можете ли вы не бояться за нее, если вы ее покинете? Найдется ли у нее достаточно мужества и настойчивости, воспитанной мудрыми советами книг, увлекают ли ее слава и великие замыслы, которыми живет и кипит ваш высокий, ваш совершенный дух, который поможет вам легко и без страданий забыть земное чувство? Неужели вы не понимаете, что она умрет от горя и что вы, кому предстоит приносить бескровные жертвы, прежде всего безжалостно пожертвуете той, которая безгранично любит вас?
– Сеньора, – отвечал дон Луис, изо всех сил стараясь подавить волнение, чтобы Пепита не поняла по его дрожащему, срывающемуся голосу, насколько он смущен. – Сеньора, мне тоже приходится сдерживать себя, чтобы возразить вам с хладнокровием человека, отвечающего доводами на доводы, как в диспуте; но обвинение построено так обоснованно и (простите, что я вам это говорю) до такой степени софистично, что я вынужден опровергать его также с помощью рассуждений. Я не ожидал, что мне придется заниматься здесь спором и напрягать мой недалекий ум, – но по вашей милости мне придется это сделать, если я не хочу прослыть чудовищем. Отвечу на оба положения жестокой дилеммы, придуманной вами мне в упрек. Хотя я и воспитан у моего дяди и в семинарии, где я не видел женщин, не думайте, будто я столь невежествен и обладаю столь скудным воображением, что не могу представить их мысленно такими прекрасными и обольстительными, как это только возможно. Мало того, мое воображение заходило дальше действительности. Возбужденное чтением библейских псалмопевцев и светских поэтов, оно рисовало себе женщин более изысканных, изящных и умных, чем те, что встречаются в жизни. Таким образом, когда я отказывался от земной любви, желая заслужить сан священника, я знал цену приносимой мною жертвы и, пожалуй, преувеличивал ее. Я хорошо представлял себе, как может и должно возрасти очарование красавицы, одетой в богатые одежды и украшенной сверкающими драгоценностями, окруженной роскошью утонченной культуры, созидаемой неутомимыми руками и разумом людей. Я хорошо знал и то, насколько общение с замечательными учеными, чтение хороших книг и вид цветущих городов с их пышными зданиями и памятниками приумножают естественные дарования, шлифуют, возвышают женщин, придавая им блеск. Все это я представлял себе так ярко, окружал таким ореолом красоты, что если мне суждено встретить тех женщин, о которых вы мне говорили, и поддерживать знакомство с ними, – не опасайтесь, я не сойду с ума и не только не превращусь в их поклонника, как вы предсказываете, но, возможно, испытаю разочарование, когда увижу, каково расстояние между истинным и воображаемым, между правдой и фантазией.
– Вот вы в самом деле занимаетесь софистикой! – прервала Пепита. – Бесспорно: то, что вы рисуете себе в воображении, прекраснее того, что существует в жизни. Но бесспорно и то, что реальность обладает более могучей силой обольщения, чем мечты и грезы. Туманная воздушность призрака, как бы прекрасен он ни был, не может состязаться с тем, что непосредственно влияет на наши чувства. Я понимаю, что в вашей душе благочестивые образы могли победить мирские сновидения, но боюсь, что они не смогут победить мирскую действительность.
– Так не бойтесь, сеньора, – возразил дон Луис. – Создания моей фантазии ярче всех ощущений и восприятий мира, исключая вас.
– А почему исключая меня? Это вызывает у меня новые подозрения. Может быть, ваше представление обо мне, то представление, которое вы любите, – лишь создание вашей живой фантазии, мечта, нисколько не похожая на меня?
– Нет, это не так; я убежден, что это представление совершенно походит на вас; но, быть может, оно прирождено моей душе; быть может, оно живет в ней с того мгновения, когда ее создал бог; быть может, это часть ее сущности, самая чистая и совершенная, как аромат у цветов.
– Вот чего я боялась! Теперь вы сами признались. Вы любите не меня. Вы любите свою же сущность, аромат и чистоту вашей души, принявшие мой образ.
– Нет, Пепита, не забавляйтесь моей мукой – я люблю вас такой, какая вы есть. И вместе с тем любимый мною образ так прекрасен, так чист и нежен… Нет, я не могу себе представить, что он лишь через мои чувства достигает моего разума. Я полагаю, верю и считаю несомненным, что он был во мне извечно, подобно представлению о боге. Этот образ пробудился и расцвел в моей душе, но он лишь отражает живое существо, неизмеримо более совершенное, чем мое представление. Как я верю, что существует бог, так верю, что существуете вы и что вы в тысячу раз лучше, чем ваш образ в моей душе.
– У меня остается еще одно сомнение. Может быть, это относится к женщине вообще, а не именно ко мне?
– О нет, чары, обаяние женщины, прекрасной душой и нежной обликом, проникли в мое воображение раньше, чем я увидал вас. Все герцогини и маркизы Мадрида, все императрицы мира, все королевы и принцессы вселенной уступают созданиям моей фантазии, с которыми я сжился, ибо они обитали в великолепных замках и изысканно убранных покоях, в несуществующих странах, создаваемых моим воображением, с той поры, как я достиг отрочества. Я заселял их по своей прихоти Лаурами, Беатриче, Джульеттами, Маргаритами и Элеонорами [65], или Цинтиями, Гликерами и Лесбиями [66]. В своих мечтах я венчал их восточными диадемами и коронами, одевал их в пурпур и золото, окружал дворцовой пышностью, как Эсфирь и Вашти [67]; я приписывал им буколическую простоту патриархальных времен Суламифи и Ревекки [68]; придавал нежную скромность и набожность Руфи; я внимал их красноречию, не уступавшему мудрым суждениям Аспазии [69] или Гипатии; я поднимал их на недосягаемую высоту, озаряя отблесками прославленных предков, словно они были гордыми и благородными патрицианскими матронами в древнем Риме; я воображал их легкомысленными, кокетливыми, живыми, полными аристократической непринужденности, как дамы Версаля времен Людовика XIV, и облекал их в целомудренные столы, внушавшие мне смиренную почтительность, или же в туники и тонкие пеплосы [70]; среди их воздушных складок угадывалось пластическое совершенство их изящных форм; я набрасывал на их плечи прозрачные хламиды прекрасных куртизанок Афин и Коринфа, и сквозь легкую ткань светилась розоватая белизна точеного тела. Но чего стоят чувственные восторги и вся слава и великолепие мира, если душа пылает и сгорает божественной любовью, как, считал я, – быть может, с излишним тщеславием, – пылала и сгорала моя душа. Если на пути огня, внезапно вспыхнувшего в недрах земли, стоят огромные утесы и горы, они взлетят на воздух и расступятся перед ужасающим взрывом пороха в мине или раскаленной лавой, неукротимой силой рвущейся из вулкана. Так, или с еще большей силой, моя душа сбрасывала с себя всю тяжесть сотворенной красоты, которая удерживала ее в плену, мешая ей лететь в свою стихию – к богу. Нет, не из неведения отказывался я от радостей жизни и сладостного блаженства: я знал их и ценил дороже, чем они стоят на самом деле; но я их презрел ради другого счастья, другого, еще более сладостного блаженства. Мирская любовь к женщине являлась перед моим взором не только во всей ее действительной привлекательности, но и облеченная высшими и почти непреодолимыми чарами самого опасного искушения, именуемого моралистами – девственным: разум, еще не искушенный познанием, думает, что в любовных объятиях он обретет высочайшее, ни с чем не сравнимое наслаждение. С тех пор как я живу, с тех пор, как я стал мужчиной, – а ведь я уже давно не юнец, – мой дух, возлюбив прообраз красоты, стремится к высшим наслаждениям и отвергает земное отражение истины, ее бледную тень. Я жаждал умереть в себе, чтобы жить в предмете своей любви, освободить не только чувство, но и внутренние силы моей души от мирских привязанностей, образов и картин и иметь право сказать, что живу не я, но Христос живет во мне. Видимо, я впал в грех высокомерия и самонадеянности, и господь решил меня наказать. И вот вы встали предо мной, совратили меня с верного пути, и я заблудился. Теперь вы меня порицаете, насмехаетесь надо мной, обвиняете в легкомыслии и ветрености; но, порицая меня и насмехаясь надо мной, вы оскорбляете самое себя, ибо полагаете, что я мог бы уступить соблазну ради любой женщины. Не хочу заслужить упрек в гордости, защищая себя: мне надлежит быть смиренным. Если милость господа в наказание за мое тщеславие покинула меня, возможно что мои колебания и падение были вызваны низменными причинами. Но мой разум, быть может введенный в заблуждение, понимает все это совершенно иначе: назовите это необузданным тщеславием, но, повторяю еще раз, я не могу уверить себя в том, что причины моего падения были низки. Действительность, представшая в вашем образе, вознеслась высоко над сновидениями моей юношеской фантазии; своим совершенством вы превзошли воображаемых мною нимф, королев и богинь, всех идеальных созданий, сокрушенных и вытесненных божественной любовью; в моей душе восстал ваш образ, совершенная копия живой красоты, воплотившейся в вашем теле и душе, составляющей их сущность. Возможно, тут действовали таинственные и сверхъестественные силы: ведь я полюбил вас с первой встречи, едва ли не раньше, чем увидел. Прежде чем я осознал, что люблю, я уже вас любил. В этом есть нечто роковое; это предначертано, предопределено.
– Если это предопределено, если это предначертано, – прервала Пепита, – почему же не покориться, зачем противиться? Пожертвуйте своими намерениями ради вашей любви. Разве я не приношу жертв? Вот сейчас, умоляя, стараясь победить ваше пренебрежение, разве я не жертвую своей гордостью, достоинством, скромностью? Мне тоже кажется, что я полюбила вас раньше, чем увидела. Я люблю вас всем сердцем, без вас нет для меня счастья. Конечно, вы не найдете в моем смиренном уме столь могущественных соперников, каких я нахожу в вашем. Ни мыслями, ни волей, ни любовью я не могу вознестись непосредственно к богу. Ни по своей природе, ни по милости свыше я не поднимусь и не отважусь даже пожелать подняться в столь возвышенные сферы. Тем не менее моя душа благочестива, я люблю и почитаю бога, – но я вижу его всемогущество и восхищаюсь его добротой только в образе его творений. Мое воображение отказывается представить себе те фантастические видения, о которых вы мне рассказываете. Лишь одному человеку я мечтала отдать свою свободу; он для меня красивее, умнее, возвышеннее и нежнее, чем все те, кто до сих пор – здесь и в округе – домогался моей руки; об одном возлюбленном, самом благородном и верном, мечтала я, в надежде, что и он полюбит меня. То были вы. Я почувствовала это, когда мне сообщили о вашем приезде в наш город, я узнала это, когда впервые увидела вас. Но мое воображение бесплодно, и созданный мною образ ничуть не был похож на вас. Мне тоже случалось читать повести и стихи, но из того, что сохранилось в моей памяти, мне никогда не удавалось создать образ, хоть сколько-нибудь достойный вас, и я сдалась, разбитая и побежденная с первого же дня, как вас узнала. Если любовь – это то, о чем говорите вы, если любить означает умереть в себе, чтобы жить в любимом, то мое чувство истинно и подлинно: я умерла в себе и живу только в вас и для вас. Считая свою любовь безответной, я пыталась освободиться от нее, но это оказалось невозможным. Я с жаром просила бога избавить меня от этой любви или убить меня, но бог не услышал… Я молилась пресвятой Марии, чтобы она стерла в моей душе ваш образ, но молитва была напрасной. Я давала обеты святому [71], чьим именем названа, чтобы думать о вас только так, как он думал о своей благословенной супруге, но святой мне не помог. Видя это, я отважилась просить у неба победы над вами, чтобы вы отказались от мысли стать священником и полюбили меня такой же любовью, как я. Дон Луис, скажите откровенно, осталось ли небо глухо и к моей последней мольбе? Или, может быть, для полной победы над моей ничтожной слабой душой хватит и небольшого чувства, а для победы над вашей, охраняемой столь высоким и стойким духом, нужна любовь более могущественная, которую я недостойна внушить и не способна ни разделить, ни даже понять?
– Пепита, – отвечал дон Луис, – ваша душа вовсе не слабее моей, но она свободна от обязательств, а моя нет. Любовь, которую я чувствую к вам, огромна, но против нее восстают мой долг, мои обеты, близкие к осуществлению намерения всей моей жизни. Почему бы мне не сказать всего, без желания вас обидеть? Ваша любовь ко мне не унижает вас. Если же я уступлю любви к вам, я унижусь и паду. Я покину творца ради творения, уничтожу плоды моих многолетних трудов, разобью образ Христа в сердце моем; если я уступлю – исчезнет новый человек, созданный ценою таких усилий, и возродится прежнее существо. Зачем мне опускаться в порочный мир, столь презираемый мной, а не вам подняться до меня силой вашего чувства, лишенного всякой скверны? Почему бы тогда нам и не любить друг друга – уже не стыдясь, безгрешно и беспорочно? Чистейшим и сверкающим огнем своей любви бог проникает, в святые души, наполняя их; как металл, льющийся из горна, остается металлом, но ослепительно сверкает, уподобляясь огню, – так и души наши, осененные благодатью божественной любви, преисполнятся богом, потому что они сами – бог. Поднимемся же, соединившись духом, по этой трудной мистической лестнице; да вознесутся наши души к блаженству, возможному даже в смертной жизни; но наши тела должны отдалиться друг от друга; и я направлюсь туда, куда призывают меня мой долг, мой обет и голос всевышнего, ибо я раб его и предназначен им для служения алтарю.
– Ах, сеньор дон Луис! – воскликнула Пепита, и в голосе ее послышались отчаяние и угрызения совести. – Теперь я знаю, как низок тот металл, из которого я выкована, и как недостоин он, чтобы божественный огонь проник в него и расплавил. Я выскажу вам все, отбросив стыд, – я великая грешница. Моя грубая, непросвещенная душа не постигает всех ухищрений, толкований и тонкостей любви. Моя строптивая воля отвергает то, что вы предлагаете. Я не представляю себе вас бесплотным. Для меня вы – это ваши губы, глаза, черные локоны, которые мне хочется погладить, ваш кроткий голос и нежное звучание ваших слов, достигающих моего слуха и чарующих меня; весь ваш телесный облик пленяет и влечет меня, а сквозь него я различаю невидимый, туманный и таинственный дух. Моя простая душа не способна на удивительные порывы и никогда не сумеет последовать за вами в заоблачные выси. Если вы подниметесь к ним, я останусь на земле, одинокая и печальная. Лучше уж умереть. И достойна смерти, я желаю ее. Может быть, после смерти моя душа, развязав или разорвав позорные цепи, которые ее сковывают, окажется способна к той любви, которой вы желаете для нас. Так убейте же, убейте меня, и тогда мой освобожденный дух последует за вами куда угодно и будет невидимо странствовать рядом с вами, оберегая ваш сон и покой, с восторгом созерцая вас, проникая в ваши сокровенные мысли. Но пока я жива, этого не может быть. Я люблю вас, не только вашу душу, но и тело, тень вашего тела, его отражение в зеркале и в воде, ваше имя, вашу кровь – все то, что превращает вас в дона Луиса де Варгас; звук голоса, движения, походку – и не знаю, что к этому еще прибавить. Повторяю, меня нужно убить. Убейте меня без сожаления. Нет, я не христианка, я идолопоклонница, дочь земли.
Пепита на мгновение умолкла. Дон Луис, не зная, что сказать, тоже молчал. Слезы катились по щекам молодой женщины.
– Я знаю: вы меня презираете, – рыдая, закончила она, – и хорошо делаете. Своим справедливым презрением вы убьете меня скорее, чем кинжалом, не запятнав ни рук, ни совести. Прощайте. Я избавляю вас от своего ненавистного присутствия. Прощайте навсегда.
С этими словами Пепита встала и, не поднимая орошенного слезами лица, не владея собой, почти бегом бросилась к двери, ведущей во внутренние комнаты. Дон Луис ощутил прилив непреодолимой нежности, сострадания, которое оказалось для него роковым. В страхе за Пепиту он бросился вслед за ней, пытаясь удержать ее, но поздно – Пепита уже исчезла в темноте. Словно схваченный невидимой рукой и влекомый сверхъестественной силой, дон Луис устремился вслед за Пепитой.
Кабинет опустел.
Праздник в усадьбе, очевидно, закончился, все кругом смолкло, только в саду слышалось журчание фонтана.
Не было ни малейшего дуновения ветерка. Ничто не нарушало мирного покоя ночи. Лишь сияние луны и аромат цветов проникали сквозь открытые окна.
Время шло, и наконец дон Луис вновь показался из темноты. Лицо его выражало отчаяние, напоминавшее отчаяние Иуды.
Упав в кресло, опершись локтями в колени и сжав лицо кулаками, он с полчаса неподвижно сидел, погруженный в горькие размышления.
Увидев его в этом состоянии, можно было заподозрить, что он убил Пепиту.
Однако вскоре молодая женщина появилась. Весь ее облик выражал глубокую грусть. Опустив глаза в землю, она медленно подошла к дону Луису и сказала:
– Только теперь я поняла, как презренно мое сердце и как низко поведение. Мне нечего сказать в свое оправдание, но я не хочу, чтобы ты считал меня более испорченной, чем на самом деле. Не думай, что мною руководили лукавство, расчет, намерение тебя погубить. Да, я поступила дурно, но я согрешила невольно, быть может по наущению демона, вселившегося в меня. Ради бога, не отчаивайся, не огорчайся. Ты ни в чем не виноват. На тебя нашло какое-то помрачение рассудка. Если грех падает и на тебя, то лишь в малой доле. Но мой грех страшен, тяжек, позорен. Сейчас я заслуживаю твоей любви еще меньше, чем прежде. Уезжай! Я сама прошу: уезжай, покайся! Бог тебя простит. Уезжай! Священник отпустит твои грехи. Когда ты снова будешь чист, ты сможешь выполнить свое желание и стать служителем всевышнего. Святой, полной трудов жизнью ты не только искупишь свою минутную слабость, но, простив причиненное мною зло, вымолишь у неба прощение и для меня. Ничто не связывает тебя со мной; если же между нами все же существуют узы, я порываю их навсегда. Ты свободен. Хватит и того, что по моей вине упала с неба утренняя звезда; я не желаю, не могу, не должна удерживать ее в плену. Я догадываюсь, я вижу по твоему лицу, мне все ясно: теперь ты меня презираешь еще больше, чем прежде; и ты прав – во мне нет ни чести, ни добродетели, ни стыда.
С этими словами Пепита опустилась на колени и поклонилась, коснувшись лбом пола. Дон Луис окаменел. Несколько минут оба подавленно молчали.
Пепита, не поднимаясь с колен, наконец заговорила, рыдая:
– Уезжай же, Луис, не оставайся из-за оскорбительного сострадания рядом с жалкой женщиной. У меня хватит мужества вынести твой гнев, твое забвение и даже презрение, которое я вполне заслужила. Я всегда буду твоей рабой, но вдали, очень далеко от тебя, чтобы не вызывать в твоей памяти этой позорной ночи.
Стоны приглушили ее последние слова.
Дон Луис очнулся от своего оцепенения, вскочил и, взяв на руки Пепиту, прижал ее к сердцу; он нежно отстранил белокурые локоны, беспорядочно падавшие на ее лицо, и покрыл его страстными поцелуями.
– Душа моя, – начал он наконец, – жизнь моей души, дорогое сокровище моего
сердца, свет очей моих! Подними головку и никогда больше не опускай ее передо мной. Это мой, а не твой, грех! Я слабовольный, жалкий, смешной глупец! Я смешон и ангелам и демонам. Я оказался лжесвятым – у меня недостало сил сопротивляться, я не сумел вовремя удержать тебя, теперь же мне не удается быть рыцарем и утонченным возлюбленным, чтобы принести моей даме благодарность за ее милости. Не понимаю, что ты нашла во мне, почему так мною увлеклась. Я не был поистине добродетелен, все мои слова оказались пустой болтовней и хвастовством семинариста, начитавшегося священных книг, придумавшего с их помощью глупый роман о подвигах и созерцаниях. Если бы я обладал настоящей стойкостью, я остановил бы тебя, удержался бы сам – и мы не согрешили бы. Истинная добродетель не сдается так легко. Несмотря на всю твою красоту, несмотря на твои дарования и любовь ко мне, я бы не согрешил, будь у меня подлинное призвание. Господь, чье могущество беспредельно, даровал бы мне свою милость. Правда, требовалось чудо, нечто сверхъестественное, чтобы противостоять твоей любви, – но бог сотворил бы чудо, если бы я его заслужил. Ты не права, советуя мне стать священником. Я сам признаю, что недостоин этого. Меня подвигло на это мирское честолюбие – такое же, как у любого человека. Что я говорю – как у любого! Гораздо хуже: лицемерное, кощунственное, корыстное честолюбие!
– Не осуждай себя так сурово, – возразила Пепита, успокоившись и улыбаясь сквозь слезы. – Я не хочу, чтобы ты так строго порицал себя даже в том случае, если из-за этого я покажусь тебе более достойной подругой; нет, я хочу, чтобы ты выбрал меня по любви, свободно, а не из благородного желания загладить свою вину и не потому, что попал в коварно расставленную ловушку. Если ты не любишь меня, подозреваешь меня в злом умысле и презираешь меня – уезжай. И если ты навсегда меня покинешь и больше не вспомнишь обо мне, я не издам ни единого вздоха.
Ответ дона Луиса не мог уже вместиться в тесные рамки человеческой речи. Он прервал Пепиту поцелуем и обнял ее.
Значительно позже, покашливая и стуча башмаками, в комнату вошла Антоньона.
– Вот уж долгая беседа! – заявила она. – Семинарист растянул свою проповедь на целых сорок часов. Тебе пора уходить, дон Луис. Скоро два часа.
– Хорошо, – сказала Пепита, – он сейчас уйдет.
Антоньона вышла и стала поджидать в соседней комнате.
Пепита преобразилась. Радости, которых она не знала в детстве, удовольствия и наслаждения, которых она не испытала в годы юности, ребяческая резвость и шаловливость, которые сдерживали и подавляли в ней суровая мать и старый муж, внезапно распустились в ее душе, как распускаются весной зеленые листья деревьев, скованные снегом и льдом в долгие месяцы суровой зимы.
Городская дама, знакомая с тем, что мы называем светскими условностями, найдет странным и даже заслуживающим порицания то, что я расскажу о Пените; но Пепита, хотя и отличалась прирожденным изяществом, была олицетворением искренности: ей были чужды притворная сдержанность и осмотрительность, принятые в большом свете. Итак, видя, что препятствия, мешавшие счастью, преодолены, а дон Луис уже сдался и обещал сделать ее своей супругой, уверенная в том, что она любима и обожаема тем, кого она так любила и обожала, Пепита прыгала, смеялась и по-детски наивно проявляла свое ликование.
Дону Луису пора было уходить. Пепита принесла гребень и, с любовью расчесав его волосы, поцеловала их, потом поправила ему галстук.
– Прощай, любимый мой повелитель, – сказала она ему, – прощай, властелин моей души. Я сама все расскажу твоему отцу, если ты не отважишься. Он добрый, он нас простит.
Наконец влюбленные расстались.
После ухода дона Луиса бурная радость Пепиты утихла, лицо приняло серьезное и задумчивое выражение.
Две мысли занимали ее воображение: одна представляла мирской интерес, другая – интерес более возвышенный. Пепита размышляла над своим поведением в эту ночь – не повредит ли оно ей в глазах дона Луиса, когда любовный пыл пройдет? Но учинив строгий допрос своей совести и признав, что она действовала лишь в порыве непреодолимой любви, без лукавства и умысла, Пепита решила, что у дона Луиса нет повода презирать ее, и на этом успокоилась. Однако, хотя чистосердечное признание Пепиты в том, что она не понимает высшей духовной любви, и ее бегство в темную спальню были подсказаны ей невинным инстинктом и она не преследовала при этом какой-нибудь цели, Пепита признавала, что согрешила против бога, – и здесь она не находила себе оправдания. От всего сердца она обратилась к непорочной деве с мольбой о прощении и обещала пожертвовать для украшения статуи скорбящей божьей матери, стоявшей в женском монастыре, семь красивых золотых мечей тонкой и изящной работы; на следующий же день, решила Пепита, она пойдет исповедоваться к викарию, и пусть он наложит на нее самую строгую епитимию и даст отпущение грехов, грехов, которые помогли ей одержать верх над упорством дона Луиса, – ведь иначе он непременно стал бы священником.
Пока Пепита размышляла и обдумывала свои душевные дела, дон Луис в сопровождении Антоньоны дошел до сеней.
Прежде чем проститься, дон Луис спросил ее напрямик:
– Антоньона, ты знаешь все на свете; скажи, кто такой граф Хенасаар и какие отношения у него были с сеньорой?
– Рановато ты начал ревновать.
– Это не ревность, а всего лишь любопытство.
– Ну это еще туда-сюда. Ничего нет докучнее ревности. Если любопытство, можно ответить. Этот граф – порядочный прощелыга, беспутный игрок, повеса, но гордости у него больше, чем у дона Родриго [72] на виселице. Он все добивался, чтобы моя девочка его полюбила и вышла за него замуж; а так как она ему сотни раз отказывала, то он чуть не лопнул от злости. Но денег – тысячу с лишним дуро – он и по сей день не отдал, – а получил он их от дона Гумерсиндо без всякого залога, за одну только бумажку; и все благодаря Пепите, ведь она у нас сама доброта. Ну, дурачина и вообразил, что раз Пепита, живя с мужем, не пожалела ему денег, то, овдовев, она будет такой же доброй и возьмет его в мужья. А как он в этом разуверился – так и разъярился.
– Всего хорошего, Антоньона, – сказал дон Луис и вышел на уже затихшую темную улицу.
Огни на ярмарке погасли, все разошлись по домам, только хозяева мелочных лавок и бродячие торговцы улеглись спать на улице рядом с своим товаром.
Кое-где у оконных решеток все еще продолжали ворковать со своими возлюбленными настойчивые и неутомимые ухаживатели, закутанные в плащи.
Распрощавшись с Антоньоной, дон Луис по дороге домой погрузился в задумчивость. Решение было принято, и все, что приходило еще на ум, лишь подкрепляло его. Искренность и пылкость страсти, которую он внушил Пепите, красота, юная прелесть ее тела и весенняя свежесть ее души являлись перед его воображением и наполняли счастьем.
И все же тщеславие его страдало при мысли об ожидавшей его перемене. Что скажет настоятель? В какой ужас придет епископ? И прежде всего – какие горькие упреки услышит он от отца! Дон Луис воображал себе его возмущение и гнев, когда он все узнает! Эти мысли крайне тревожили молодого человека.
То, что он прежде называл падением, уже не казалось ему таким ужасным и достойным порицания, после того как оно свершилось. Внимательно, в новом свете рассмотрев свою склонность к мистицизму, дон Луис решил, что ей не хватало прочности и глубоких корней, – она была, по-видимому, искусственным и суетным плодом его чтения, мальчишеского тщеславия и беспредметной нежности наивного семинариста. Когда он вспоминал свою уверенность в том, что на него нисходят свыше милости и дары и слышится таинственный шепот, что он удостоился духовной беседы и чуть не вступил уже на путь единения с богом, дойдя до молитвы в сверхчувственном покое, проникая в глубины души и поднимаясь до вершин разума, – он усмехался, начиная подозревать, что был не в своем уме. Все оказалось плодом его самомнения. Ведь он не накладывал на себя епитимии, не провел долгих лет в созерцании, у него не было ни раньше, ни позже достаточных заслуг для того, чтобы бог даровал ему столь высокое отличие. Все сверхъестественные дары, которыми он якобы обладал, были лишь вымыслом, отголоском прочитанных книг; и первым доказательством правильности его новых рассуждений было то, что все эти дары никогда не услаждали его сердца так, как три слова Пепиты: «Я люблю тебя», как нежное прикосновение прекрасной руки, игравшей его черными кудрями.
Желая оправдать в своих глазах то, что он уже называл не падением, а переменой, дон Луис прибегнул к новому виду христианского смирения: он признался в том, что недостоин быть священником, и попробовал приучить себя к мысли стать обыкновенным мирянином. Добрый семьянин и хозяин, он, как и все, будет заботиться о виноградниках и маслинах, воспитывать детей, – а ему уже захотелось их иметь, – и жить, как образцовый супруг, рядом со своей Пепитой.
Отвечая за напечатание и распространение этой истории, я считаю необходимым снова высказать некоторые соображения и разъяснить то, что остается непонятным.
Как было уже сказано вначале, я склонялся к мысли, что эта часть повести – паралипоменон – написана сеньором настоятелем с целью дополнить и завершить изложение событий, о которых не рассказывают письма; но тогда я еще не прочитал рукописи со всем вниманием. Теперь же, заметив, с какой непринужденностью в ней говорится о высоких материях и с какой снисходительностью упоминаются некоторые прегрешения, я усомнился, чтобы сеньор настоятель, – а его нетерпимость мне хорошо известна, – стал тратить чернила на то, с чем уже ознакомился читатель. Однако нет и достаточных оснований, чтобы полностью отвергнуть авторство сеньора настоятеля.
Словом, сомнение остается, ибо по сути дела в этой повести нет ничего противоречащего католическим истинам и христианской морали. Напротив, если внимательно изучить ее, станет ясно, что в рукописи заключается предостережение против тщеславия и гордыни на примере горького опыта дона Луиса. Эта повесть без труда могла бы служить приложением к «Мистическим разочарованиям» отца Арбиоля.
Относительно утверждения двух-трех моих образованных друзей, что, будь сеньор настоятель автором, он изложил бы события по-иному, называл бы дона Луиса «мой племянник» и время от времени вставлял бы свои суждения морального порядка, – я не считаю этот довод веским. Сеньор настоятель поставил целью рассказать о происшедшем; он не собирался доказывать какой-либо тезис и был прав, решив не распространяться чрезмерно и не читать морали. По-моему, он не плохо поступил, скрыв свое авторство и отказавшись говорить о себе в первом лице: это свидетельствует не только об его смирении, но и о хорошем литературном вкусе, ибо эпические поэты и историки, которых нам следует взять за образец, не говорят о себе в первом лице, хотя бы они повествовали о своих приключениях и были героями или участниками изображаемых событий. Так, Ксенофонт Афинянин в своем «Анабазисе» [73] говорит о себе, когда это необходимо, не в первом лице, а в третьем, как будто один Ксенофонт писал, а другой совершал описываемые им подвиги. В других же главах книги мы и вовсе не видим Ксенофонта. Только незадолго до знаменитой битвы, в которой гибнет Кир Младший, когда он производит смотр грекам и варварам – воинам своей армии, а на обширной безлесной равнине появляется войско его брата Артаксеркса – сперва как белое облачко, затем как черная лавина и наконец отчетливо и ясно приблизившись настолько, что слышится ржание коней, скрежет боевых колесниц, вооруженных острыми серпами, рев слонов и лязг оружия, сверкающего на солнце золотом и бронзой, – только в это мгновение, повторяю я, а не раньше, появляется Ксенофонт и, выйдя из рядов, говорит с Киром и объясняет ему, что означает шепот, пробежавший по рядам греков; то был, как мы говорим, пароль и отзыв, и звучал он в тот день: Зевс, Спаситель и Победа.
Сеньор настоятель, человек со вкусом и весьма сведущий в классической литературе, не мог совершить подобной ошибки и выступить в качестве дяди и воспитателя героя данной истории, надоедая читателю восклицаниями: «Стой!», «Что ты делаешь!», «Не упади, о несчастный!» – и прочими предостережениями в тех случаях, когда герою грозила опасность совершить опрометчивый шаг. Промолчать же и не противоречить, присутствуя при этом хотя бы духовно, было бы иной раз просто невозможно. По всем этим причинам сеньор настоятель, несомненно, мог, со свойственным ему благоразумием, написать этот паралипоменон, так сказать, не показывая лица.
Он лишь добавил свои комментарии и пояснения, полезные и поучительные, когда тот или иной случай этого требовал; но я их здесь не привожу, чтобы не увеличить объем нашей небольшой повести; да к тому же книги с примечаниями и пояснениями у нас не в моде.
Тем не менее в виде исключения я приведу здесь примечание сеньора настоятеля по поводу молниеносного превращения дона Луиса из мистика в не мистика. Это примечание весьма любопытно и проливает яркий свет на все изложенное.
– Перемена в моем племяннике, – говорит он, – меня не потрясла. Я предвидел ее с тех пор, как получил его первые письма. Вначале Луисито одурманил меня, ввел в заблуждение. Я верил в его истинное призвание, но затем я понял, что у него суетная душа поэта и мистицизм питает его лишь до тех пор, пока не найдется другой, более действенной пищи.
Хвала господу, пожелавшему, чтобы разочарование Луисито подоспело вовремя. Из него вышел бы плохой священник, если бы не явилась столь кстати Пепита Хименес. Уже одно нетерпеливое стремление вмиг достичь совершенства могло заставить меня насторожиться, если бы меня не ослепляла нежность родственника. Разве милости неба достигаются легко? Стоит лишь появиться, чтобы победить? Мой друг моряк рассказывал, как он побывал юнцом в американских городах, где принялся с излишним рвением ухаживать за дамами, а они ему отвечали томным голосом, как истые американки: «Едва приехали и уже столь многого желаете! Сперва заслужите, если вы на это способны!» Если так ответили заокеанские сеньоры, то что может сказать небо тем смельчакам, которые намерены без заслуг, в мгновение ока завоевать его? Долго нужно трудиться, каяться и замаливать грехи, чтобы получить благость божию, заслужить вечную награду. Даже суетные, ложные учения, толкующие о мистицизме, не обещают сверхъестественных милостей без больших усилий и дорогостоящих жертв. Ямвлиху [74] не удалось вызвать гениев любви из источника Эдгадары, пока долгим воздержанием и жестокими лишениями он не умертвил своей плоти. Как полагают, Аполлоний Тианский [75] тоже порядком помучился, прежде чем совершил свои лжечудеса. И в наши дни краузисты [76], которым будто бы дано воочию лицезреть бога, должны для этого прочитать и выучить всю «Аналитику» Санса дель Рио [77], что мучительнее и требует больше терпения и выносливости, нежели бичевание тела до крови. А мой племянник пытался без всяких усилий достичь совершенства – и… смотрите, к чему это привело. Но пусть он станет хорошим супругом и, раз он не годится для великих делу, пусть окажется годным хотя бы для малых и семейных и даст счастье молодой женщине, которая в конце концов виновна только в том, что до безумия влюбилась в него с искренностью и порывистостью дикарки.
Вот безыскусственное, сделанное словно для себя примечание сеньора настоятеля; мог ли бедняга предположить, что я так подшучу над ним, издав его размышления.
Теперь продолжим рассказ.
Итак, дон Луис шел в два часа ночи посредине улицы, мечтая о том, как его жизнь, которую он жаждал сделать достойной «Золотой легенды» [78], превратится в постоянную пленительную идиллию. Ему не удалось вырваться из западни земной любви и последовать примеру бесчисленного множества святых, в том числе прославленного Викентия Феррера [79], отвергшего некую похотливую валенсианскую сеньору; впрочем, нельзя и сравнивать эти два случая: если бегство от дьявольской блудницы доказало героическую добродетель святого Викентия, то бегство дона Луиса от преданности, кротости и искренности Пепиты Хименес было бы не менее чудовищным и бессмысленным, чем если бы Вооз пинком ноги прогнал Руфь, когда та легла у его ног и сказала: «Я твоя раба, простри крыло твое на рабу твою». Конечно, дону Луису следовало в подражание Воозу воскликнуть: «Благословенна ты от господа, дочь моя! Этим добрым деянием ты превзошла предыдущее». Так оправдывал себя дон Луис в том, что не пошел по пути святого Викентия и других не менее суровых подвижников. Не преуспев в подражании святому Эдуарду, дон Луис старался обелить и оправдать себя тем, что святой Эдуард женился по государственным соображениям, ибо того требовали вельможи Королевства, он не любил королевы Эдиты; но у Луиса и Пепиты не было ни великих, ни малых государственных соображений, а только страстная взаимная любовь.
Во всяком случае, дон Луис не скрывал от себя, – и это придавало его радости некоторый оттенок печали, – что он побежден, а идеал его разрушен. Людей, не имеющих и никогда не имевших идеалов, это не тревожит, но дона Луиса это тревожило. Он сразу же стал мечтать о замене старого возвышенного идеала другим, более скромным и легким для достижения. И хотя дон Луис смахивал на Дон Кихота, когда тот, побежденный рыцарем Белой Луны, решил стать пастухом, – такое пагубное воздействие оказала на него шутка, – он мысленно решил восстановить в наше прозаическое время маловеров счастливый век, по образцу кротчайших Филемона и Бавкиды [80], создать среди наших полей пример патриархальной жизни и основать в городе, свидетеле его рождения, благочестивый домашний очаг, который послужит приютом для нуждающихся, средоточием культуры и дружеского общения, чистым зерцалом для остальных семейств, объединить, наконец, любовь супружескую с любовью к богу, чтобы тот ниспослал им милость свою и освятил их дом, превратив его в свой храм, где Луис и Пепита будут служить богу, пока он не возьмет их обоих к себе для лучшей жизни.
На пути к достижению нового идеала стояло два препятствия, и дон Луис собирался их преодолеть.
Первое заключалось в том, что он мог вызвать неудовольствие, а может быть, и гнев отца, надежды которого он жестоко обманул. Второе же препятствие было иного рода, но, пожалуй, еще серьезнее.
Готовясь стать священником, дон Луис мог защищать Пепиту от грубых оскорблений графа Хенасаара только нравственными поучениями и не смел отомстить за презрительные насмешки, которые последовали в ответ на его проповедь. Но теперь, когда он распростился с мыслью о духовном сане и собирался объявить Пепиту своей невестой, ему, – несмотря на его мирный характер, мечты о человечной кротости и на глубокую веру, сохранившуюся в его душе, – не терпелось восстановить свое достоинство и проломить череп наглому графу. Он превосходно знал, что дуэль – варварский обычай и нет необходимости смыть кровью графа пятно клеветы с чистого имени Пепиты; возможно, граф поносил ее не по злобе и сам не верил в то, что говорил, – он был просто невоспитан и груб. И все же дон Луис знал, что всю жизнь не простит себе, если, перед тем как стать Филемоном, он не выступит сперва в роли Фьерабраса [81], чтобы воздать графу по заслугам; при этом дон Луис в глубине души просил бога не ставить его вторично в подобное положение.
Надумав вызвать графа на дуэль, он решил немедленно взяться за дело. Не желая посылать секундантов к графу и тем вызвать толки, опасные для чести Пепиты, он счел благоразумным найти другой предлог для ссоры.
Предполагая, что граф, человек приезжий и азартный игрок, может засидеться за картами до глубокой ночи, дон Луис отправился в казино.
Казино было еще открыто, но все огни во внутреннем дворе и залах были потушены. Горел свет только в одном зале. Туда-то и направился дон Луис. Еще с порога он увидел графа Хенасаара, метавшего банк. Понтировало не более пяти человек: двое приезжих, кавалерийский капитан-ремонтер, Куррито и доктор. Обстоятельства не могли сложиться более благоприятно для намерений дона Луиса. Никем не замеченный – настолько все были поглощены игрой, – он, с минуту поглядев на игравших, покинул казино и поспешно вернулся домой. Слуга открыл дверь. Дон Луис спросил об отце и, узнав, что тот спит, со свечой в руке, на цыпочках, бесшумно поднялся к себе в комнату, взял около трех тысяч реалов золотом, принадлежавших лично ему, и положил их в кошелек; затем вышел на улицу, велев слуге закрыть за ним дверь, и направился в казино.
На этот раз Луис вошел в игорный зал с напускной важностью, громко стуча каблуками. При виде его игроки остолбенели.
– Ты здесь в этот час! – воскликнул Куррито.
– Вы откуда, попик? – спросил доктор.
– Пришли прочесть мне еще одну проповедь? – произнес граф.
– Никаких проповедей, – спокойно ответил дон Луис. – Моя последняя проповедь не повлияла на вас, доказав мне со всей очевидностью, что господь не предназначил меня для этого поприща, и я уже избрал иное. Вам, сеньор граф, обязан я этим превращением. Я отказался от рясы и желаю развлечься; я в расцвете молодости и хочу насладиться ею.
– Что ж, это меня радует, – прервал его граф, – но смотрите, мой мальчик: нежные цветы вянут и осыпаются преждевременно.
– Это моя забота, – возразил дон Луис. – Но я вижу, тут играют. Я чувствую вдохновение. Вы держите банк. Знаете, сеньор граф, было бы занятно, если бы я сорвал его.
– Да, занятно. Вы, кажется, слишком плотно поужинали?
– Я поужинал так, как мне было угодно.
– Молодой человек скор на ответ.
– Я отвечаю так, как хочу.
– Черт побери!… – начал было граф, чуя приближение бури; но вмешательство капитана восстановило мир.
– Ну что ж, – успокоившись, сказал граф любезным тоном, – вынимайте денежки и попытайте счастье.
Дон Луис сел за стол и высыпал из кошелька все золото. Вид денег окончательно успокоил графа, – их было едва ли не больше, чем в банке, и он уже предвкушал, как обыграет новичка.
– Над этой игрой не приходится ломать голову, – сказал дон Луис. – По-моему, я в ней разбираюсь. Я ставлю деньги на карту, и если приходит моя карта, я выигрываю, а если противная, то выигрываете вы.
– Так, дружок, вы обладаете чисто мужскими способностями.
– Кстати сказать, у меня не только мужские способности, но и мужская воля. И тем не менее я далек от того, чтобы быть мужланом, как иные.
– Да вы, оказывается, говорун и острослов!
Дон Луис замолчал; он сыграл уже несколько раз, ему везло, почти каждый раз он выигрывал.
Граф начал горячиться. «Неужели же малыш меня обчистит? – сказал он себе. – Бог покровитель невинности».
Пока граф все больше и больше выходил из себя, дон Луис, вдруг почувствовав усталость и отвращение, решил покончить все разом.
– В конце концов, – сказал он, – или я заберу ваши деньги, или вы заберете мои. Не правда ли, сеньор граф?
– Правда.
– Так что ж тут полуночничать? Время позднее и, если следовать вашему совету, мне пора спать, чтобы цвет моей юности не увял.
– Что такое? Вы хотите дать стрекача? Улизнуть?
– Почему улизнуть? Напротив. Куррито, скажи, тут, в этой кучке, не больше ли уже денег, чем в банке?
– Несомненно, – поглядев, ответил Куррито.
– Как сказать, – спросил дон Луис, – что я играю сразу на всю сумму в банке?
– Это дело нетрудное, – ответил Куррито. – Нужно сказать: «Ва банк».
– Ладно, ва банк! – сказал дон Луис, обращаясь к графу. – Ва банк и все, что полагается, на короля пик; король, несомненно, появится раньше, чем его враг – тройка.
Граф, чье движимое имущество целиком находилось в банке, дрогнул перед опасностью, которой оно подвергалось. Но что делать – пришлось принять вызов!
По народной поговорке – кому везет в любви, тому не везет в игре. Но, пожалуй, правильнее было бы сказать: когда приходит удача, она бывает во всем; и точно так же случается, когда не повезет.
Граф стал метать, но тройка никак не выходила. Его волнение росло, как он ни старался его подавить. Наконец он приоткрыл с уголка короля червей и замер.
– Бросайте, – сказал капитан.
– Король червей. Черт побери! Попик меня обобрал! Забирайте деньги.
Граф в бешенстве бросил колоду на стол. Дон Луис со спокойным безразличием собрал все деньги.
После короткого молчания заговорил граф:
– Попик, вы должны дать мне отыграться.
– Не вижу в ртом необходимости.
– Мне кажется, что между кабальеро…
– Но в таком случае игра длилась бы бесконечно, – заметил дон Луис. – Если бы существовало такое правило, не стоило бы и играть.
– Дайте мне отыграться, – возразил граф, не слушая его рассуждений.
– Ладно, – согласился дон Луис. – Будем великодушны.
Граф опять взял колоду и собрался метать новую талью.
– Стойте, – сказал дон Луис. – Сначала договоримся. Где ваши деньги?
Граф остановился в смущении и замешательстве.
– С собой у меня денег нет, – ответил он, – но мне кажется, что достаточно моего слова.
– Сеньор граф, – начал дон Луис серьезно и спокойно, – я не видел бы для себя неудобства в том, чтобы положиться на слово кабальеро и быть его кредитором, если бы не боялся лишиться его дружбы, которую я уже начал завоевывать; но сегодня утром, увидев, как жестоко вы третируете моих друзей, а ваших кредиторов, – я не желаю провиниться перед вами в том же. Не хватало еще, чтобы я добровольно отдался на милость вашей злобы – ссудил бы вас деньгами без отдачи! Ведь в свое время вы не уплатили – разве только бранью – вашего долга Пепите Хименес.
Обида была тем горше, чем неоспоримей правда. Граф позеленел от злости и вскочил, готовый броситься на семинариста с кулаками.
– Врешь, хам! – крикнул он прерывающимся голосом. – Я раздавлю тебя своими руками, сын величайшей…
Это последнее оскорбление, напомнившее дону Луису о том пятне, которым было отмечено его появление на свет, и оскорбившее честь той, чью память он свято чтил, так и не было произнесено.
С изумительным проворством, ловкостью и силой дон Луис, взмахнув гибкой и упругой тростью, прямо через стол, отделявший его от графа, хлестнул своего врага по лицу, на котором тотчас появилась багровая полоса.
Шум, крики, ругань – все стихло. Когда пускают в ход руки, языки умолкают. Граф бросился на дона Луиса, чтобы растерзать его, но мнение общества претерпело с утра значительную перемену и склонилось на сторону дона Луиса. Капитан, доктор и Куррито схватили и крепко держали разбушевавшегося графа.
– Пустите меня, дайте мне его убить! – кричал он.
– Я не собираюсь мешать дуэли, – сказал капитан, – дуэль неминуема. Я забочусь только о том, чтобы вы не подрались здесь, как бродяги. Для моего достоинства было бы большим ущербом присутствовать при подобной драке.
– Давайте оружие! – сказал граф. – Я не желаю откладывать бой ни на минуту… Немедленно!… Здесь!…
– Хотите биться на саблях? – спросил капитан.
– Ладно, – ответил дон Луис.
– Давайте сабли, – сказал граф.
Все говорили вполголоса, чтобы их не услышали на улице. Не проснулись даже слуги казино, дремавшие в креслах, на кухне и во внутреннем дворе.
Дон Луис выбрал секундантами капитана и Куррито. Граф – обоих приезжих. Доктор остался исполнить обязанности представителя Красного Креста.
Стояла ночь. Полем битвы решили сделать тот же зал, заперев предварительно дверь.
Капитан пошел домой за саблями и очень скоро принес их, спрятав под плащом, который надел для этой цели.
Мы уже знаем, что дон Луис в жизни не держал в руках оружия. К счастью, граф был не намного искуснее его в фехтовании, хотя и не изучал богословия и не собирался стать священником.
Условия дуэли были просты: взявшись за сабли, противники должны были делать то, что бог на душу положит.
Дверь заперли.
Столы и стулья сдвинули в угол, чтобы освободить место. Расставили поудобнее свечи. Дон Луис и граф, сняв сюртуки и жилеты, остались в одних рубашках и взяли оружие. Секунданты стали в стороне. По знаку капитана поединок начался.
Между двумя противниками, не умевшими владеть саблей, борьба могла быть только короткой; так оно и вышло.
Долго сдерживаемая ярость графа бурно прорвалась и ослепила его. Он был крепкого сложения; сжимая саблю железной рукой, он принялся быстро, хотя беспорядочно и бессмысленно, рубить. Четыре раза он задел дона Луиса, но, к счастью, плашмя. Он ушиб его, но не ранил. Юному богослову понадобилось все его самообладание, чтобы не свалиться от сокрушительных ударов и боли в плечах. Граф коснулся дона Луиса еще в пятый раз и попал в левую руку. На этот раз удар был нанесен лезвием, хотя и вкось. У дона Луиса струей брызнула кровь. Не владея собой, граф с ожесточением ринулся на противника, чтобы нанести новый удар, и встал прямо под саблю дона Луиса. Тот, не парируя, с силой ударил графа саблей по голове. У графа ключом хлынула кровь и залила ему лоб и глаза. Оглушенный ударом, он рухнул на пол.
Схватка продолжалась всего несколько секунд.
Дон Луис сохранял спокойствие, как философ-стоик, которого лишь суровый закон необходимости заставил вступить в драку, столь противоречившую его привычкам и образу мыслей; но, увидев, что противник, весь в крови, неподвижно лежит на полу, он не на шутку испугался: не придется ли ему раскаиваться в своем поступке. Он, неспособный даже убить воробья, быть может, сейчас убил человека! Еще пять-шесть часов тому назад полный решимости стать священником, миссионером и проповедником евангелия, он в короткое время совершил ряд преступлений и нарушил все заповеди закона божьего. Не осталось смертного греха, которым он не запятнал бы себя. Сначала растаяли его намерения достичь героической и совершенной святости. Потом развеялись стремления к более легкой и удобной – буржуазной святости. Дьявол разрушал все его планы. Ему пришло на ум, что он едва ли может стать христианским Филемоном, ибо удар саблей по голове ближнего был плохим началом для вечной идиллии.
Состояние дона Луиса после волнений целого дня приближалось к самочувствию человека, заболевшего горячкой.
Куррито и капитан, подхватив его под руки, проводили домой.
Дон Педро де Варгас испуганно вскочил с постели, узнав, что привели раненого сына. Он осмотрел его, исследовал раненую руку, ушибы плеча и установил, что они не опасны; потом закричал, что пойдет и отомстит за обиду, и не успокоился до тех пор, пока не узнал, как все произошло, и не удостоверился, что дон Луис сумел сам постоять за себя, несмотря на свое благочестие.
Позже пришел врач и уверил отца, что через три-четыре дня дон Луис, как ни в чем не бывало, сможет выходить на улицу. Зато графу хватит дела на несколько месяцев; но его жизни не грозила опасность. Придя в себя, он попросил, чтобы его отправили домой в усадьбу, находившуюся не далее одной лиги от места поединка. Слуги и двое приезжих, игравших роль секундантов, разыскали наемный фургон и отвезли раненого.
Вскоре прогноз доктора оправдался, и дон Луис, несмотря на ушибы и незажившую рану, был уже в состоянии выходить и надеялся, что через некоторое время совсем поправится.
Как только дону Луису разрешили вставать, он счел своей обязанностью признаться отцу в том, что они с Пепитой любят друг друга и что он намерен жениться на ней.
Во время болезни сына дон Педро не отходил от него и ухаживал за ним с бесконечной нежностью.
Двадцать седьмого июня утром, после посещения врача, дон Педро остался наедине с сыном; тогда-то и состоялось столь тягостное для дона Луиса признание.
– Отец, – сказал дон Луис, – я не имею права дольше обманывать вас.
Отбросив лицемерие, я исповедаюсь вам во всех грехах.
– Малыш, если ты собираешься исповедоваться, то не лучше ли позвать отца викария? У меня взгляды весьма свободные, я отпущу тебе все грехи, – но только мое прощение тебе ни в чем не поможет. Вот если ты хочешь доверить мне как близкому другу свою тайну – изволь, я тебя выслушаю.
– Я собираюсь вам рассказать о моей тяжкой вине, и мне стыдно…
– Так не стыдись перед отцом и говори, ничего не скрывая.
Дон Луис, сильно покраснев и с явным смущением, начал:
– Мой секрет состоит в том, что я влюблен в Пепиту Хименес и что она…
Дон Педро прервал сына взрывом смеха и закончил вместо него:
– Тоже влюблена в тебя. А в Иванову ночь ты вел с нею до двух часов нежнейшую беседу; из-за нее ты искал повода для ссоры с графом Хенасааром и раскроил ему череп. Ну, сынок, хороший же секрет ты мне доверил!… Нет ни одной собаки, ни одной кошки в городе, которые не знали бы этого. Единственно, что, пожалуй, могло остаться в тайне, – это то, что беседа продолжалась именно до двух часов ночи; но цыганки, продавщицы пончиков, видели, как ты выходил из дома Пепиты, и не успокоились, пока не разболтали об этом всем встречным и поперечным. Да и Пепита не особенно это скрывает. И хорошо делает – к чему притворяться?… С первого дня твоей болезни Пепита приходила сюда по два раза в день и два-три раза посылала Антоньону узнать о твоем здоровье; но я их не пускал к тебе, не хотел, чтобы ты волновался.
Смущение дона Луиса возрастало по мере того, как он слушал рассказ отца.
– Какая неожиданность для вас! – сказал он. – Как вы, должно быть, изумились.
– Никакой неожиданности, и нечему тут было удивляться, мальчуган. В городке узнали обо всех событиях только четыре дня назад, и, сказать по правде, все ошеломлены. Народ только и говорит: «Смотрите-ка, он мягко стелет, да жестко спать! Ай да святоша, ай да мертвый котенок! Он-таки показал свои когти!» Особенно потрясен отец викарий. Он до сих пор крестится, вспоминая, сколь много ты потрудился в винограднике господа в ночь с двадцать третьего на двадцать четвертое июня и сколь разнообразен и разносторонен был твой труд. Но меня эти новости не застали врасплох, если не считать твоей дуэли. Мы, старики, слышим, как растет трава. Не так-то просто цыпленку обмануть старого петуха.
– Да, это верно: я хотел обмануть вас. Я оказался лицемером.
– Не будь глупцом, – я же не браню тебя. Я это так, чтобы показать свою проницательность. Но давай говорить откровенно: мне нечем хвастать. Правда, мне известен шаг за шагом твой роман с Пепитой вот уже более двух месяцев, но известен лишь потому, что твой дядя настоятель, которому ты обо всем писал, держал меня в курсе дела. Выслушай обвинительное письмо дяди и мой ответ; документ весьма важный, я сберег его черновик.
Вынув из кармана несколько листков бумаги, дон Педро начал:
«Дорогой братец! Я душевно огорчен, что мне приходится сообщить тебе плохие вести, но я верю, что господь дарует тебе силы и терпение и ты не станешь огорчаться сверх меры. Вот уже несколько дней, как Луисито пишет мне странные письма, в которых я открываю сквозь мистическую экзальтацию весьма земную и греховную склонность к некоей красивой вдовушке в вашем городке, лукавой и очень кокетливой. Я опрометчиво верил в непоколебимое призвание Луисито и льстил себя надеждой, что в его лице подарю божьей церкви мудрого, добродетельного и примерного священника, но письма племянника разрушили мои иллюзии. Луисито показывает себя в этих письмах скорее поэтом, чем подлинно благочестивым мужем; и вдова – должно быть, особа капризная, как говорится, из чертовой кожи, – без труда одержит над ним верх. Хотя я пишу Луисито и увещеваю его, чтобы он бежал от искушения, – я убежден, что он ему поддастся. Мне не следовало бы жалеть об этом, потому что если ему суждено потерпеть неудачу и стать дамским угодником и волокитой, то лучше, чтобы это раскрылось раньше, чем он принял сан священника. Я не возражал бы против того, чтобы Луисито остался там, где любовь к красивой вдове послужит горнилом или пробным камнем его духовных добродетелей, и мы узнаем, что они собой представляют – золото или дешевый сплав. Но тут мы наталкиваемся на подводный камень: ведь мы собираемся превратить в искусного пробирного мастера молодую вдову, чьей руки – успешно или безуспешно – ты домогаешься. Было бы ни с чем не сообразно, если бы сын оказался соперником отца. Желая своевременно предотвратить этот чудовищный скандал, я и пишу тебе; под любым предлогом отошли или сам привези сюда Луисито; чем скорее ты это сделаешь, тем лучше».
Дон Луис слушал молча, опустив глаза. Отец продолжал:
– А вот мой ответ на письмо настоятеля:
«Любимый брат и досточтимый духовный отец! Тысяча благодарностей за твои вести, советы и наставления. Я всегда кичился прозорливостью, но тут, признаюсь, попал впросак. Меня ослепила самонадеянность. С тех пор как приехал сын, Пепита Хименес стала так любезна и ласкова со мной, что мне показалось, будто я уже добился успеха. Твое письмо меня отрезвило. Я понял, что, став со мной внимательной и нежной, стремясь угодить мне, плутовка видела в моем лице только папочку нашего безбородого богослова. Не скрою: в первую минуту эта неожиданность меня задела и огорчила, но после здравого рассуждения горечь моей обиды превратилась в радость. Мальчишка он превосходный. Я полюбил его гораздо больше с тех пор, как он со мной. В свое время я его отослал и вручил тебе на воспитание, ибо моя жизнь была не слишком примерна, и здесь, как по этой, так и по другим причинам, он вырос бы дикарем. Ты сделал больше, чем я надеялся и даже желал, и чуть было не превратил Луисито в отца церкви. Иметь святого сына льстило бы моему тщеславию, но, знаешь, тяжело остаться без наследника, без милых внучат, которым после моей смерти перейдет нажитое добро, – а ведь я горжусь своим имуществом: я приобрел его умом и трудом, а не плутнями и мошенничеством. Может быть, убежденный в том, что Луис в самом деле поедет наставлять в вере китайцев, индейцев и негритят Мониконго, я и решил жениться, дабы умножить потомство. Тут мои глаза остановились на Пепите Хименес, ибо она вовсе не из чертовой кожи, как ты думаешь, а прелестнейшее создание, более святое, чем сами небеса, и отличается скорее страстностью, чем кокетством. Я столь хорошего мнения о Пепите, что, если бы ей вновь было шестнадцать лет и она жила бы под тиранической властью матери, а мне было бы восемьдесят лет, как дону Гумерсиндо, и смерть уже стояла бы на пороге моего дома, – я женился бы на Пепите, чтобы, умирая, видеть улыбку этого ангела-хранителя, принявшего человеческий образ, и чтобы оставить ей мое положение, имущество, имя. Но Пепите уже не шестнадцать лет, а двадцать, она не порабощена своей пройдохой-матерью, да и мне не восемьдесят, а пятьдесят пять – наихудший возраст, когда начинаешь чувствовать, что ты порядком потрепан; легкая одышка, кашель, ревматические боли и прочие хвори одолевают меня. Однако, черт подери, если я имею хоть малейшее желание умереть! Я думаю, что не умру и через двадцать лет; а так как я на тридцать пять лет старше Пепиты, сам посуди, какое горькое будущее ожидало бы ее с таким крепким стариком. Через несколько лет супружества она уже возненавидела бы меня, несмотря на всю свою доброту. Именно потому, что она добра и умна, она не пожелала выйти за меня замуж, несмотря на мою настойчивость и упорство. Как же я ей теперь благодарен! Жало тщеславия, уязвленного ее презрением, притупляется при мысли, что вместо меня она полюбила моего сына, мою кровь. Если нежный плющ не желает обвиться вокруг старого, источенного червями ствола, пусть, говорю я себе, он поднимется по этому стволу к молодой ветке, к зеленому, цветущему ростку. Да благословит их бог, и да процветает их любовь! Я не только не верну тебе мальчишку, но удержу его тут, если понадобится, даже силой. Я строю заговор против его призвания. Я уже мечтаю увидеть его женатым. Я помолодею, глядя на милую чету, соединенную любовью. А когда они подарят мне ребятишек?! Вместо того чтобы ехать миссионером и посылать мне из Австралии, Мадагаскара или Индии новообращенных – черных, как сажа, или желтых, как дубленая кожа, толстогубых и раскосых, – не лучше ли остаться проповедовать дома и подарить мне целый выводок юных христиан, белокурых и розовых херувимов, похожих на Пепиту. Новообращенных из дальних стран пришлось бы держать на расстоянии, чтобы они не отравили мне воздуха; мои же внучата будут благоухать для меня райскими розами, играть со мной, целовать и называть дедушкой, влезать ко мне на колени и шлепать меня ручками по лысине, которая уже намечается. Что поделаешь! Когда я был в расцвете сил, я не думал о семейных радостях; но теперь, когда я близок к старости, если уже не состарился, – то, раз я не собираюсь стать отшельником, я с нетерпением готовлюсь к роли патриарха. И не думай, что я намерен ждать, пока зародившийся роман созреет сам собой, – я буду трудиться для того, чтобы он созрел. Продолжая твое сравнение – ты превращаешь Пепиту в горнило, а Луиса в металл, – я подыщу, а вернее, уже нашел, – кузнечные меха или паяльную трубку для раздувания огня, чтобы металл расплавился поскорей, Эта паяльная трубка – Антоньона, кормилица Пепиты, хитрая, скрытная и преданная наперсница своей госпожи. Мы с Антоньоной уже договорились, и от нее я знаю, что Пепита влюблена без памяти. Я по-прежнему ничего не вижу и не понимаю. Отец викарий, простая душа, всегда витающий в облаках, сам того не зная, служит мне в такой же степени, как и Антоньона, или даже больше, – ибо он только и делает, что говорит о Луисе с Пепитой и о Пепите с Луисом. Так вот, наш превосходный викарий, у которого по полвека в каждой ноге, превратился – о чудо любви и невинности! – в вестника-голубка, с которым влюбленные посылают друг дружке всяческие любезности и знаки внимания, сами того не подозревая. Столь могущественное сочетание естественных и искусственных средств приведет к безошибочным результатам. Ты сам в этом убедишься, когда получишь приглашение на свадьбу или попросту пошлешь жениху и невесте свое благословение и подарок».
Дон Педро закончил чтение письма и, посмотрев на дона Луиса, увидел, что у того глаза полны слез.
Отец и сын крепко обнялись и несколько минут стояли молча.
Ровно через месяц после этой беседы и чтения писем состоялась свадьба дона Луиса де Варгаса и Пепиты Хименес.
Сеньор настоятель, остерегаясь шуток брата из-за провала возвышенных намерений Луисито и предчувствуя, что он сыграет незавидную роль в городке и своим присутствием вызовет лишние толки: ему, мол, не дается воспитание святых, – отговорился занятостью и не пожелал приехать, хотя и прислал свое благословение и великолепные серьги в подарок невесте.
Таким образом, удовольствие сочетать Пепиту браком с доном Луисом досталось на долю сеньора викария.
Невеста в чудесном наряде была прекрасна и казалась всем вполне достойной того, чтобы променять на нее власяницу и розги.
Дон Педро дал замечательный бал во внутреннем дворе дома и смежных залах. Слуги и господа, идальго и батраки, местные дамы, сеньориты и простые девушки присутствовали и смешались воедино, как во времена сказочного века, названного по неизвестной причине – «золотым». Несколько искусных, а если не искусных, то во всяком случае неутомимых гитаристов играли фанданго. Цыган и цыганка, знаменитые певцы, пели страстные любовные куплеты. А школьный учитель прочел написанную гекзаметром эпиталаму.
Для простого люда приготовили слойки, оладьи, варенье, сдобу, марципаны, бисквиты и вволю вина. Сеньоры угощались засахаренными фруктами, шоколадом, апельсиновым соком, шербетом и тонкими ароматными ликерами.
Дон Педро вел себя как молодой человек: веселился, шутил, ухаживал. Его жалобы в письме к настоятелю на ревматизм и прочие недуги казались притворством. Он танцевал фанданго с Пепитой, с ее изящными горничными и еще многими девушками. Провожая утомленную даму на место, он, как полагается, пылко ее обнимал, а девушек попроще награждал щипками, хотя этикет этого и не требовал. Дон Педро простер свою галантность до того, что пригласил танцевать семипудовую донью Касильду; отказаться было невозможно, и бедняжка, задыхаясь от июльской жары, проливала потоки пота. Под конец дон Педро насел на Куррито и заставил его столько раз поднимать бокал за счастье молодоженов, что погонщику мулов Дьентесу пришлось положить беднягу поперек ослицы, как бурдюк с вином, и отвезти домой отсыпаться.
Бал продолжался до трех часов утра, но новобрачные благоразумно исчезли раньше одиннадцати и направились к дому Пепиты. Торжественно и открыто, как хозяин и обожаемый господин, дон Луис вновь переступил порог ярко освещенной спальни, куда месяц тому назад входил в темноте, полный смущения и тревоги.
Хотя в городке существует никогда не нарушавшийся обычай поднимать великий трезвон под окнами всякого вдовца и вдовы, вторично вступающих в брак, и не оставлять молодых в покое в первую ночь их супружества, к Пепите все относились с такой симпатией, к дону Педро с таким уважением, а к дону Луису с такой любовью, что этой ночью не было даже попытки звонить в колокольцы, – событие поистине необычайное, отмеченное, как подобает, в летописях городка.
III. Эпилог.
Письма моего брата
На этом история Пепиты и Луиса могла бы закончиться. Эпилог излишен. Но мы нашли его в общей связке бумаг и, отказавшись от мысли переписать полностью, решили дать из него хотя бы выдержки.
Ни у кого, верно, не осталось ни малейшего сомнения в том, что дон Луис и Пепита, соединенные непреодолимой любовью, оба молодые, умные и добрые, – она красавица, он стройный и миловидный, – прожили долгие годы, наслаждаясь счастьем и покоем, какие только возможны на земле. Но если для большинства людей это ясно как логический вывод, – для человека, прочитавшего эпилог, такое заключение превратится в достоверность.
Кроме того, эпилог дает некоторые сведения о второстепенных участниках событий, изложенных в повести, чьи судьбы, может быть, интересуют читателя.
Эпилог составляют письма дона Педро к своему брату сеньору настоятелю, они охватывают первые годы после свадьбы сына.
Мы помещаем лишь краткие отрывки из этих писем, не проставляя дат, хотя и следуя хронологическому порядку, и на этом закончим.
Луис был глубоко благодарен Антоньоне: без ее посредничества он не стал бы мужем Пепиты; но эта женщина, причастная к той единственной вине, которую они с Пепитой чувствовали за собой, облеченная доверием и столь обо всем осведомленная, не могла не быть им помехой. Желая освободиться от Антоньоны и в то же время оказать ей милость, дон Луис добился ее возвращения к мужу, от которого она ушла из-за его вечных запоев. Сын мастера Сенсиаса обещал почти никогда больше не напиваться, не решаясь на полное и безоговорочное «никогда». Тем не менее, поверив в это полуобещание, Антоньона согласилась вернуться к мужу. Когда супруги соединились, Луис решил для окончательного исцеления сына мастера Сенсиаса применить так называемый гомеопатический метод: услышав от гомеопатов, что кондитеры испытывают отвращение к сладостям, он заключил, что трактирщики должны ненавидеть вино и водку, и направил Антоньону с мужем в главный город провинции, где купил для них отличную таверну. Супруги быстро освоились с новой жизнью, приобрели многочисленных клиентов и, вероятно, скоро разбогатеют. Муж порой выпивает, но Антоньона, более могучего сложения, нежели он, дает ему хорошую встряску, чтобы он окончательно исправился.
Куррито, стремясь во всем подражать кузену, перед которым он благоговеет, завидуя семейному счастью Пепиты и Луиса, недолго думая подыскал себе жену – дочь богатого местного земледельца, красивую и румяную, как маков цвет; дородностью она обещает вскоре превзойти свою свекровь донью Касильду.
Граф Хенасаар, проведя пять месяцев в постели, излечился от ранения и, как говорят, в значительной степени избавился от прежней наглости. Недавно он уплатил Пепите более половины долга и просит отсрочки, обещая уплатить остальное.
У нас большое горе, хотя мы его и предвидели: отец викарий под бременем лет отошел в лучший мир. Пепита до последнего мгновения оставалась у изголовья умирающего и закрыла его глаза своими прекрасными руками. Отец викарий обрел блаженную кончину. То была не смерть, а скорее счастливый переход в место вечного упокоения. Тем не менее Пепита и все мы оплакивали его от всего сердца. Из имущества отца викария осталось не более пяти-шести дуро и скромная обстановка, ибо он все раздавал бедным. Если б не Пепита, бедняки в селении остались бы после его смерти сиротами.
Все в городке горюют о смерти отца викария; его считают святым, приписывают ему чудеса и толкуют, что надобно, мол, поставить его статую у алтаря. Насколько это верно, я не знаю, но, во всяком случае, он был превосходный человек и должен пойти прямехонько в рай, где он станет нашим заступником. И тем не менее его смирение, скромность и страх господень были так велики, что даже в час смерти он всерьез печалился о своих грехах и просил нас молиться за него господу и пресвятой Марии.
Эта примерная жизнь и благостная кончина человека – правда, скромного и не получившего блестящего образования, но зато обладавшего твердой волей, непоколебимой верой и пламенной любовью к богу, – произвела глубокое впечатление на душу Луиса. Сравнивая себя с усопшим, Луис с сокрушением признается, что ему далеко до нравственного совершенства отца викария. Эта смерть вызвала в его сердце какую-то горькую печаль, но Пепита, женщина очень умная, рассеивает ее улыбкой и лаской.
В доме все процветает. У Луиса и у меня винные погреба, равных которым нет в Испании, если не считать хересских. Урожай маслин в этом году был превосходный. Мы можем себе позволить некоторое излишество, и я советую Луису и Пепите, чтобы они, как только Пепита разрешится от бремени и поправится, совершили хорошую прогулку по Германии, Франции и Италии. Дети могут, избегнув опрометчивых поступков, выбросить на свое путешествие несколько тысяч дуро и привезти множество прекрасных книг, мебели и произведений искусства для украшения своего очага.
Мы ждали две недели, чтобы крестины пришлись на день первой годовщины свадьбы. Мальчик хорош, как ангел, и настоящий крепыш. Я был крестным, ему дали мое имя. Мечтаю о том, как Перикито [82] начнет говорить и скажет мне «спасибо».
В довершение всех удач влюбленной четы брат Пепиты, как пишут из Гаваны, превратился в важную особу, и нам уже не приходится опасаться, что этот бездельник опозорит семью; скорее наоборот – он может стать ее украшением, придать ей блеск. За это время, что мы о нем ничего не знали, ему привалила удача. Он получил новую должность в таможне, потом торговал неграми, потерпел крах; но банкротство действует на иных дельцов, как хорошая подрезка на деревья, – после нее они распускаются с еще большей силой; вот и он нынче так процветает, что решил приобрести титул маркиза или герцога. Пепита напугана и недовольна этим неожиданным поворотом колеса фортуны, но я ей говорю: «Не будь дурочкой, если брат плут, так не лучше ли, чтобы в его плутнях ему сопутствовала счастливая звезда?»
Мы могли бы умножить выдержки из писем дона Педро, но боимся утомить читателя. Приведем в заключение страницу одного из последних писем.
Закончив путешествие, дети вернулись в полном здравии. Перикито прелесть как хорош и большой проказник.
Луис и Пепита решили больше не покидать родных мест, хотя бы им предстояло жить дольше, чем Филемону и Бавкиде. Они влюблены один в другого, как никогда. Они привезли с собой книги, прекрасную мебель, несколько картин и множество изящных безделушек, купленных во время поездки, главным образом в Париже, Риме, Флоренции и Вене.
Как их любовь друг к другу, мягкость и сердечность обращения оказывает здесь благотворное влияние на нравы, так и изящество и хороший вкус, с которым они сейчас устраивают свое жилище, будут способствовать распространению культуры.
Мадридцы охотно называют нас, провинциалов, невеждами и дураками, но сами сидят в Мадриде и никогда не возьмут на себя труд приехать и пошлифовать нас; если же в провинции появится человек стоящий, со знаниями или делающий вид, будто он что-либо знает или чего-либо стоит, – он рано или поздно удирает отсюда, оставляя нас на произвол судьбы.
Пепита и Луис придерживаются противоположной точки зрения, и я одобряю их от всей души.
Они все улучшают и украшают, чтобы сделать рай из этого захолустья.
Но не думай, что пристрастие Луиса и Пепиты к материальному благополучию хоть в какой-то мере ослабило в них благочестие. Их вера становится все более глубокой; в каждом удовольствии, которым они пользуются сами, и в тех благах, которые они изливают на своих ближних, они видят дар неба и возносят за него благодарность. Более того: они не ощущали бы радости от этих благ и не ценили бы их, если бы не признавали непреложной воли бога и не хранили твердой веры в него.
В своем благоденствии Луис никогда не забывает, насколько выше был прежний его идеал. Бывают моменты, когда его нынешняя жизнь кажется ему пошлой, себялюбивой и прозаичной, по сравнению с самоотверженным служением богу, к которому он считал себя призванным в первые годы молодости; но Пепита со всей заботливостью рассеивает его грусть, и Луис соглашается с тем, что человек может служить богу во всех состояниях и положениях, и согласует живую веру и любовь к богу, наполняющие его душу, с дозволенной любовью к земному и преходящему. Но в эту любовь Луис вкладывает как бы божественное начало, без которого ему не милы ни светила небесные, ни цветы, ни плоды, украшающие поля, ни глаза Пепиты, ни даже невинная прелесть Перикито. Большой мир, все грандиозное здание вселенной, говорит он, без бога показалось бы ему возвышенным, но лишенным порядка, красоты и цели. А что касается малого мира, как он обычно именует человечество, то без бога он не мог бы его любить. И не потому, что бог велит нам любить людей, а потому что их достоинство и право быть любимыми зависят от самого бога, который не только создал человека по своему образу и подобию, но и превратил его в живой храм духа, общаясь с ним посредством таинств и столь возвысив его, что с ним соединяется нерукотворное слово. По этим причинам, и по другим, которые мне не удастся объяснить тебе здесь, Луис утешился и примирился с тем, что он не стал апостолом и вдохновенным мистиком; он погасил в себе чувство благородной зависти, охватившей его в день смерти отца викария, – но как он, так и Пепита по-прежнему и с великой христианской набожностью воздают хвалу богу за счастье, которым они наслаждаются, видя лишь в боге первопричину своего благополучия.
В доме моих детей иные комнаты напоминают прекрасные католические часовни или благочестивые молельни; хотя надо сознаться, что есть и следы язычества или сельской любовно-пастушеской идиллии, которая, впрочем, нашла свое прибежище за стенами дома.
Сад Пепиты это уже не просто плодовый сад, а прелестный цветник, где растут араукарии и красуются под открытым небом индийские смоковницы; небольшая, хорошо устроенная оранжерея полна редкостных растений.
Беседка, где мы ели землянику в тот памятный вечер, когда Пепита и Луис во второй раз встретились и говорили друг с другом, превратилась в чудесный маленький храм, с портиком и колоннами из белого мрамора. Внутри – просторное, отлично обставленное помещение. Его украшают две прекрасные картины: на одной – Психея, освещающая тусклым пламенем светильника уснувшего Амура и восторженно созерцающая его; на другой – Дафнис и Хлоя: трепетная цикада ищет безопасного приюта на груди у нежной Хлои, чтобы снова запеть свою вечную песнь, а Дафнис протягивает к ней руку, пытаясь ее поймать.
Чудесная копия Венеры Медицейской из каррарского мрамора возвышается посреди павильона. На пьедестале золотыми буквами высечен стих из Лукреция:
Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1958.