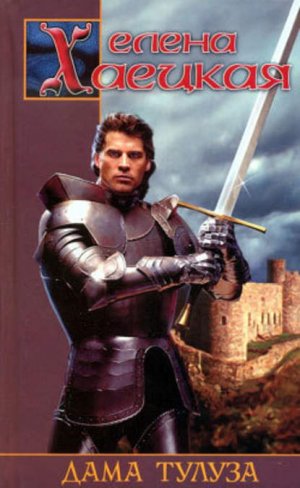
1. Возвращение государя
В тот час, когда два корабля – два купеческих толстяка – ткнулись носом в Марсальскую гавань, пошел дождь.
Хлопнули мокрые паруса. Перекрикивая шум дождя, погонял моряков венецианский комит, низкорослый, с крепким брюхом и луженой глоткой.
Из туго набитого корабельного чрева вывели ошалевших от морской качки лошадей, осторожно повели их по берегу, успокаивая лаской и тихой речью.
– Долго там еще? – крикнул один из пассажиров.
Венецианский комит, не стесняясь в выражениях, велел тому не путаться под ногами, покуда судно не ошвартуется.
Поскольку никто не ответил, пассажир соскочил на нижнюю палубу – замечательно ловкий, несмотря на изрядный возраст, – а оттуда, пока не успели остановить, – прямо за борт и, щедро поливаемый дождем, по пояс в воде, смеясь, пошел к берегу.
Один из конюхов передал поводья своего коня другому и поспешил туда, где старый сумасброд пытался выбраться на причал.
– Благодарю, – величественно молвил тот, хватаясь за руку конюха. Хватка у старика цепкая, ладонь – крепкая, в благородных мозолях от узды и рукояти меча.
Конюх вытащил его на берег и, низко склонившись, поцеловал эту руку. Старик потрепал конюха по волосам и еще раз поблагодарил; после же задрал лицо к небесам, извергающим потоки дождя, и захохотал во все горло.
Этому человеку было шестьдесят лет. В юности он был замечательно хорош собой, о чем нетрудно догадаться, видя его сына. Юноша тоже сошел на берег и стоял сейчас рядом со своим мокрым до нитки отцом.
Оба высокого роста, темноволосые (старик так и не поседел), темноглазые, с удлиненным лицом; нос – с характерной тонкой горбинкой; на остром подбородке – ямка, у отца отчетливая, у сына почти незаметная, как бы смягченная.
Старику подвели коня. Поцеловал животное в преданную морду, взлетел в седло. Конь завертелся, танцуя. Жидкая грязь полетела из-под копыт во все стороны. Всадник, счастливый, засмеялся опять.
И все вокруг – будто он оказал невесть какое благодеяние, окатив потоками грязи, – закричали, захохотали, принялись бить в ладоши, а у кого нашлись – дудеть в самодельные дудки.
– Наш граф вернулся! Граф Раймон вернулся!
Рукоплескали даже венецианские моряки, которым до всего происходящего, вообще-то, не было никакого дела.
Веселье, как лесной пожар, неслось по марсальской гавани.
– Вернулся! Вернулся! Раймон вернулся!
А Раймон крутился на коне, омываемый весенним ливнем, – опозоренный, разбитый в боях, униженный, лишенный своих владений, – и смеялся от радости.
Оба Раймона, отец и сын, возвращались из Рима. Худые вести давно уж опередили их, а вот – гляди ты, оказалось, что по-прежнему любо имя Раймона народу наречия провансальского…
Год минувший, 1215-й от Воплощения, завершался церковным собором. До сих пор в ушах звенит – так друг на друга орали у апостольского престола, приличия позабыв, епископ Тулузский Фалькон и старый граф Рожьер де Фуа, Рыжий Кочет, давний раймонов друг. Любо было поглядеть, как наскакивали друг на друга.
Фалькон и всегда-то был тощий да бледный, с виду постный, а тут и вовсе синевой пошел – от беспокойства. Рыжий – тот, напротив, багрецом налился. Встрепанный, всклокоченный, с круглыми светлыми глазами, с тонкой вытянутой шеей – тронь такого, заклюет, забьет шпорами.
Графа Фуа призвали на собор, пред лице святейшего апостолика, дабы дал отчет в некоторых своих деяниях.
Во-первых, как это граф дозволил, чтобы на его землях, на горе Монсегюр, в тридцати верстах от родового замка Фуа, воздвиглось гнездо еретическое? Ибо не может такого быть, чтобы от взора графского ускользнуло, как кишат еретики, точно змеи в брачную пору.
На то бойко отвечал рыжий граф:
– Хоть и слаб на голову епископ Фалькон, а мог бы припомнить, что гора Монсегюр находится во владениях виконта Безьерского. Графы Фуа издавна до нее касательства не имеют. Виконта же Безьерского убил Симон де Монфор. Вот к Симону за разъяснениями и идите, коли он теперь там хозяин.
Каково – знатно упиявил?..
Но Фалькон не отступался. Попрекнул Рыжего его сестрой, плотью и кровью родителей его – домной Эклармондой де Фуа. Как вышло, что стала она открыто исповедовать катарскую ересь и даже, по слухам, сделалась «совершенной»?
Глазом не моргнув, объявил Рыжий: дескать, сестра его замечена в дурном поведении и заточена в монастырь; прочее же – пустые домыслы.
И хоть знали все, что лжет граф Фуа, а за руку поймать не смогли.
С другого боку достать попытались. Обвинили в жестокости. К католикам, конечно. В Фуа, – сказали, – еще недавно католиков живьем на куски резали.
Тут уж Рыжий отпираться не стал.
– Резали, да! – выкрикнул птичьим своим, пронзительным голосом. И засмеялся. – Заранее бы знать, сколько шуму воздвигнут из-за такой безделицы, еще больше поотрубал бы пальцев да повыкалывал глаз…
Фалькон как услыхал – за щеки себя ухватил, побелел весь, затрясся. Чуть со скамьи не навернулся.
Известно.
Одно дело – отправить на костер катаров. Эдакое деяние христианская душа переносит с легкостью. Тут добродетели, сострадания и любови – хоть жопой ешь.
Другое – отрезать пару-другую ушей проклятым франкам. Кто вспомнит, что захватчики они, что на чужую землю пришли и озорничать и пакостить там стали?
Выходит так, что оборонять свое исконное – это жестокость тошнотворная, бессердечие ужасное, смертный грех и окамененное нечувствие. А без ушей, кстати, вполне можно жить. И многие доживают до старости.
Так орал в самозабвении драчливый Рыжий Кочет.
Доорался.
Отобрали у Рыжего всё, чем дорожил: Фуа, родовое гнездо. Ибо как ни был лих и прав, сила оставалась на стороне Фалькона.
Но главный спор даже не о том велся, хоть и лакомый это кусок – графство Фуа.
Главный спор велся о Тулузе.
Изымали ленные владения у тех сеньоров, которые изобличены в еретичестве. И хоть был Раймон Тулузский добрым католиком (кроме тех случаев, когда в очередной раз отлучали его от Церкви – по легкомысленному вольнодумству раймонову), а не в его пользу решилось.
Долго слушал апостолик Римский споры.
Раймон – великий искусник уговаривать – возражал, приводил доводы, связывал и плел доказательства, событиями жонглировал, ни одного не уронив (куда тем фиглярам, которые от такого ремесла кормятся!)
Издревле владеют Тулузой Раймоны Тулузские. Без малого четыреста лет их род насчитывает. И всегда были они неразлучны с этой землей. Как рубить ей корень? Как приставить ей корень новый? Ведь не корень от дерева, а дерево от корня. Передайте Тулузу Монфору – и погибнет Тулуза…
И сказал на это Фалькон ядовитый:
– Что ж, решено. Прогоним Монфора, чтобы не осталось в Лангедоке больше у Римской Церкви защитников…
И напомнил о том, как шесть лет бился Монфор на землях Тулузских, отвоевывая мечом для Господа те владения, которые были для Него утрачены ради злой ереси.
И слушал Фалькона Папа Римский; после же сказал Раймону:
– Простить бы вас и на этот раз, мессир, да только веры вам больше нет. Сами-то вы католик – сгубила вас поклятая привычка якшаться с еретиками и бродягами.
И присудил так: передать Монфору в лен те земли, которые завоевал он мечом, именно – Нарбонну, Безьер, Каркассон и Тулузское графство. Пусть Монфор принесет королю Франции Филиппу-Августу вассальную присягу и с благословения святейшего престола вступит в свои новые владения, дабы стеречь в них веру Христову.
Графство Фуа временно отходит во власть Римской Церкви, покуда не будет решено, что с ним надлежит делать.
Бывшему же графу Тулузскому Раймону назначается ежегодное содержание в четыреста серебряных марок, а супруге его Элеоноре Арагонской – в сто пятьдесят, дабы могли они вести жизнь, достойную павшего их величия…
– Что-о? Симон де Монфор – герцог Нарбоннский и граф Тулузский? – кричал Раймон (а толпа на пристани умножалась с каждой минутой: граф вернулся, наш граф вернулся!)
– Кто же это сделал его графом Тулузским? Ах, Филипп-Август? Ах, король Франции? Сюзерен наш? – Хохот. – Ох, попадись он мне голой задницей на злое жало!..
И – хвать себя между ног!
Толпа взвыла от восторга.
– А Львиное Сердце, граф Риго, этого сюзерена!.. – припоминал во всеуслышанье Раймон сплетни тридцатилетней давности.
Многие из собравшихся слышали о подобном впервые, однако ж радостно орали:
– Было, было!
– А мы-то чем хуже? – смеялся, выплевывая слова, Раймон.
– Ничем мы не хуже! – хохотала и орала толпа. – Всем ты лучше, Раймон!
– Симон – граф Тулузский! – веселился, ярясь, Раймон. – В дерьмо такого графа!
– Ты! Ты! Ты – граф Тулузский! Единственный! Наш! – голосила марсальская пристань.
Раймон поднял коня на дыбы, покрасовался. Мокрые волосы хлестнули графа по лицу.
– Тулуза! – закричал он, срывая голос. – Тулуза! Тулуза!
И вдруг заплакал навзрыд.
Сам Симон в Рим не поехал – не хотел оставлять отвоеванные земли без пригляда. Вместо себя отправил к святейшему престолу своего младшего брата Гюи.
Для Раймона невелика разница – что Симон, что Гюи. Оба брата, как чурки деревянные, и слов-то людских толком не знают. На человечьем языке только и умеют сказать «убивайте всех» и «ave Maria»; прочее же, полагают, от лукавого.
Однако, надо признать, Гюи оказался еще хуже Симона. С этим вообще не поговоришь. Гюи молчит. И даже не моргает.
Фалькон – тот старается, спорит, отстаивает, настаивает. А Гюи де Монфор только мессы выстаивает да за спиной у Фалькона маячит башней – в напоминание о том, что в Тулузе сидит его старший брат Симон, брови хмурит.
Тоже мне, подпорку Господу Богу соорудили – Симон де Монфор. Будто бы покуда не народилось эдакое сокровище, Господь вовсе ходил спотыкаясь.
Вот так и отдали Монфорам благодатные тулузские земли. Все отдали – и зеленые склоны гор, и стада овец и коз, пасущиеся на лугах, и желтые поля пшеницы, и пыльные виноградники под жарким солнцем, и быстрые речки, вращающие мельничные колеса, и гулкую прохладу старых храмов Тулузы, Альби и Нарбонны… О, лучше не думать.
Дама Тулуза со смуглой от загара кожей. Как же я не уберег виноградников твоих, легкомысленная моя, прекрасная моя, возлюбленная?..
Марсальские старшины вышли из города навстречу низвергнутым тулузским графам. Двенадцать человек, все солидного возраста и с манерами, внушающими почтение; одеты, по обычаю, в темное платье (очень дорогого и хорошего сукна, не пропускающего влагу).
Выступавший впереди – дородный, с неподвижным одутловатым лицом – торжественно склонился перед изгнанником-графом. Старший Раймон слегка подал вперед коня.
Выпрямляясь, старшина произнес звучным голосом:
– Община марсальская счастлива видеть на своей земле графа Раймона Тулузского и его сына.
Раймон спешился, бросил поводья в первые попавшиеся руки. Старшины смотрели, как он медленно направляется к ним. В двух шагах от встречающих Раймон остановился.
Тогда тот, что стоял впереди, заговорил снова.
– Примите, мессен граф, ключи от вольного торгового города Марсальи.
И вдруг лицо старшины – невозмутимое лицо торговца! – задрожало, расплылось, стало рыхлым. И совсем уж не торжественно, сквозь слезы, выговорил он:
– Вы вернулись, мессен… Хвала Иисусу, вы вернулись…
– Ох, проклятье! – вскричал Раймон, тщетно пытаясь совладать с волнением.
Он принял ключ из прыгающих пальцев старшины и задрал руку с ключом повыше, чтобы все видели. Толпа радостно ахнула.
– Друг мой! – сказал Раймон старшине, хлопая его по спине кулаком, в котором был зажат ключ.
И слезы потекли по щекам старого графа.
Так, смеясь и плача от радости, вошел он в Марсалью. Множество людей в городе было вне себя от счастья. Из уст в уста передавалась добрая весть:
«Наш граф вернулся! Граф Раймон вернулся!»
Четыреста лет назад случилось так, что король Карл по прозванию Лысый держал в осаде город Тулузу. Тулуза уже и тогда отличалась своенравием и королю Карлу – как это было у нее в обычае – противилась.
Злилась. Не хотела. Непокорство, сколько умела, выказывала.
И был у нее в те дни храбрый военачальник именем Фределон. Видел король Карл, что не совладать ему с Тулузой, покуда этот Фределон ее обороняет. И потому вошел в тайные переговоры с Фределоном, а ночью Фределон отворил королю ворота.
С торжеством вошел в Тулузу король Карл по прозванию Лысый и убил тех, на кого показал ему Фределон, – чтобы не мстили за предательство.
А потом, в награду, передал Фределону из рук в руки земли Тулузские.
С тех самых времен и не прерывается род тулузских графов.
Раймона – по счету тулузских Раймонов шестого, его сына и немногочисленную их свиту поселили в наилучшем доме Марсальи.
Несколько дней усердно потчевали от сердечной полноты: рыбой, тушенной в сметане и молоке с луковой подливой; жареным мясом в яблоках и салатных листьях; заморскими кушаньями, названия которых никто толком не знал; хлебом из чистейшей муки, белым и нежным, как щека грудного младенца; а также и винами: розоватым, на просвет как первый луч зари; красным, будто жильная кровь; или же другим красным, подобным гранату, оправленному в золото.
И ел и пил старый граф в свое удовольствие, быстро набираясь сил и постепенно забывая о своем поражении и позоре.
И седмицы не минуло после того, как оба Раймона сошли на берег в Марсалье, – примчался гонец. Весь пыльный, конским потом и костерным дымом провонявший – как был, не снимая грязных сапог, бросился к ногам старого графа:
– Добрая весть! Радуйся, государь! Я привез добрую весть!
Завидев столь открытое выражение преданности, умилился старый граф. Нагнулся к коленопреклоненному, ткнув того острым подбородком в макушку.
Обеими руками поднял посланца. Вгляделся – гонец оказался очень молод.
– Вижу, утомлен ты с дороги, – молвил ему граф Раймон.
Гонец и впрямь едва держался на ногах, однако ни трапезы, ни отдыха для себя не захотел. Так и трепетал от нетерпения поскорее передать графу Раймону добрые вести.
Раймон опустился на каменную скамью, увитую виноградом. Гонца рядом с собой усадил, его рук из своих не выпуская.
Влюбленно уставясь на графа, так сказал ему гонец:
– Добрые вести, мессен Раймон, добрые вести из Авиньона. Вас ждут…
Тут дыхание у него перехватило. Граф крикнул:
– Согретого вина, живо!..
Приняв кувшин из графских рук, юноша, от смущения и счастья пунцовый, отпил и немного пролил – и на себя, и на скамью, и на самого графа Раймона.
Тут Раймон разразился веселым смехом, за который так любили его женщины и простолюдины. Глядя на графа, засмеялся и гонец.
Вот какие вести привез он из Авиньона.
Едва лишь заслышав о приближении законных властителей Тулузы, взволновались здешние вассалы, ибо не по душе им чужеземцы, эти de fora Монфора. И потому собрались они нынче в Авиньоне, числом ровно триста храбрых и знатных рыцарей с их верными оруженосцами, конюхами, пешими мужланами…
– И потаскухами, – смеясь, довершил Раймон.
Новая волна румянца залила лицо молодого посланника. Граф поглядел на это с удовольствием. Придвинул ближе кувшин с вином.
– Выпей, сынок, там еще осталось. – И глаза завел к небесам мечтательно: – Какое доброе здесь вино! Нигде нет такого вина, как в Лангедоке. Даже папский двор – и тот беднее.
Молодой посланец отхлебнул еще. И продолжил, со смущением справившись:
– Все они полны решимости и горят желанием отвоевать для вас обратно все то, что вы потеряли в последние годы. Они послали меня, чтобы я отыскал вас в Марсалье и передал вам эти слова.
Раймон губу покусал. Помолчал. Перевел взгляд на юношу и дружески растрепал его светлые кудри – и без того торчащие во все стороны.
– Иди умойся, сынок, – сказал граф. – А я велю пока приготовить для тебя жаркое. Или ты предпочитаешь рыбу?
– Мессен… – пробормотал гонец.
– Иди, – повторил Раймон.
– Но вы, мессен… – сказал гонец с неожиданной настойчивостью. – Я так спешил к вам… Вы должны дать ответ…
Раймон улыбнулся.
– Да, – молвил он величаво. – Завтра, рано утром. А ты никак решил, сынок, будто Раймон Тулузский может ответить «нет»?
– Вон они! – крикнул старый Раймон, оборачиваясь к сыну. – Вон они, Рамонет!
У стен Авиньона, на берегу Роны, ожидали их всадники, числом около ста.
Теплый ветер овевает лица. Река рябит, полная солнца, будто туда только что бросили, рассеяв, целый клад золотых монет.
Раймон пустил лошадь галопом, резко осадив ее в двадцати шагах от встречающих. Те сидели на конях – неподвижные, как изваяния. И вдруг, точно повинуясь невидимому знаку, закричали все разом.
Раймон смотрел на них, улыбаясь во весь рот. Он был без шлема, в одной только легкой кольчуге. Любой мог узнать его.
Сын подъехал ближе и остановился на полкорпуса позади отца – стройный, красивый юноша, в распахнутых глазах – ожидание.
От отряда всадников отделился один. Шагом приблизился к Раймону. Раймон прищурил глаза, пытаясь разглядеть его лицо, но всадник этот был ему незнаком.
– Добро пожаловать, мессен граф, – произнес всадник.
Раймон сразу понял, почему ему было поручено говорить от лица всех: у него был сильный, хорошо слышный голос.
– Приветствую вас, благородный мессен, – отозвался Раймон.
– Мое имя Одегар, – назвался всадник.
– Я – граф Раймон Тулузский, – громко сказал Раймон, заранее зная, что вызовет этим бурю одобрительных возгласов.
– Мессен граф, – громко произнес Одегар то, что подготовлено было заранее, – и вы, молодой граф, знайте то, что мы хотели сказать вам. Весь Авиньон отныне – ваш. Жизнь и достояние наше переходят в ваши руки. Мы сказываем это без лжи и гордости. Сегодня мы даем вам великую клятву и обязуемся восстановить вас в ваших прежних владениях. Мы клянемся в этом.
Раймон слушал. Солнечные блики, отражаясь от воды, пробегали по левой половине его лица.
Молодой Рамонет, слегка раскрасневшись, не сводил глаз с Одегара. Сын графа Тулузского был красив, как посланец небес.
Одегар заключил немного более будничным тоном:
– Для начала мы намереваемся занять все переправы по Роне. Мы будем предавать огню и мечу все, что дышит, покуда вы не получите обратно всего вашего графства… и Тулузы.
Tholoza, выговорил он – будто выдохнул.
И на мгновение сладкая боль стиснула сердце Раймона.
Раймон привстал в стременах, привычно охватывая взглядом весь конный отряд.
– Благородные рыцари! – крикнул Раймон, напрягая голос, чтобы его расслышали даже в последних рядах.
Но ветер относил его слова, и потому до рыцарей долетали лишь обрывки ответной речи:
– …великая доблесть… не будет дела более славного… торжество справедливости… Тулуза и куртуазия… Тулуза… Тулуза…
В Авиньоне звонили колокола. Звонили на всех соборах. Сворачивая на новую улицу, Раймон погружался в новый поток колокольного перезвона, еще более густой.
Узкие улицы были забиты народом. Кони то и дело вязли в толпе. Останавливались, беспокойно водя ушами.
Повсюду тянулись к Раймону руки. Алчные руки, жаждущие только одного – прикоснуться. К теплому боку коня, к стремени, к сапогу, продетому в стремя, к одежде графа – безразлично.
Волны, всплески рук. Шум голосов почти перекрывает колокольный звон. Рыдающие женщины рвутся броситься под копыта раймоновой лошади.
Раймон лучезарно улыбается. Улыбается всем: рыцарям, ликующим горожанам, плачущим женщинам, солдатам магистрата, разгоняющим толпу угрозами и палками.
Авиньон обезумел. Можно подумать, здесь одержана блестящая победа. Можно подумать, Раймон Тулузский привез с собой из Рима не бесславное поражение, а самое малое – изуродованный труп Симона де Монфора.
Авиньон рвется умереть за Раймона Тулузского – нет, за обоих Раймонов, старшего и младшего.
У Рамонета блестят глаза, он готов заплакать от восторга. Очень хорошо, сын, заплачь. Будь естественным.
Новый поворот дороги, еще одна улица, впереди просвет, дома расступаются: площадь и собор. Здесь кричат:
– За отца, за сына, за Тулузу!
Колокольный гром становится нестерпимым для человечьего уха.
– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь, – гудит певческий бас где-то глубоко во чреве собора.
– Отец, сын, Тулуза! – надрывается площадь.
Многие падают на колени. По щекам текут слезы.
Господи, если так нас встречают в Авиньоне, то что же будет в Тулузе?..
Навстречу процессии выходит местный клир во главе с епископом. Круглые позолоченные опахала в руках служек сверкают, как два солнца. Все вокруг залито светом драгоценных камней и металлов.
Спешившись, оба Раймона подходят к епископу, преклоняют колени. На площади вдруг становится тихо. В последний раз ударив, смолкает колокол. Кажется, будто все оглохли.
Осенив коленопреклоненного графа крестом, епископ в этой тишине произносит спокойно и внятно:
– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь.
Второе благословение – графскому сыну, третье – народу.
Повернувшись, епископ в сопровождении клириков неторопливо и величественно удаляется в собор. Оба графа поднимаются на ноги и следуют за ним.
И тотчас же на площади вновь поднимается невообразимый шум, все кричат, смеются, проливают слезы, целуются, будто наступила Пасха.
2. Осиное гнездо под стрехой неба
Чем дальше к западу от Тулузы, тем уже долины рек – Гаронны, Арьежа, Адура. Поначалу лишь холмы, видные у горизонта, поглядывают на дорогу вдоль речного берега.
Но чем ближе закат солнца, тем выше горы, тем теснее подступают они. Разведи руки в стороны – и прочертишь пальцами полосы на скалах, и справа, и слева.
Всё меньше земель, возделанных под пашни, всё больше пастбищ. С каждым шагом на запад обрывы всё круче; всё неприступней крепости – заносчивая мета человека на полпути от бурливых рек к громоздящимся облакам. Там, где садится солнце, нрав у местных сеньоров вздорный, а у вилланов – угрюмый.
Словно ядовитая оса, знамя Фуа с золотыми и красными полосами. Да и сам Фуа – осиное гнездо под стрехой неба, а главный жужжала в нем – рыжий граф Фуа.
Несколько раз осаждал его Монфор. И сидел Рыжий Кочет у себя наверху, как раз посередке между Сеньором Богом и вилланами. Поливал Симона раскаленной смолой и отборной бранью.
Симон же застрял внизу, между вилланами и преисподней, и бесплодно топтал там графских коров и графских мужланов, отсылая проклятия наверх, неистовому Фуа.
О, если бы гнев симонов и вправду мог плавить камни, старый Фуа закипел бы и сварился в своем замке, как в котле на кухонном огне!..
Но отступился Симон.
А старик Фуа, его сыновья и племянники смеялись вослед грозному франку, высовываясь из окон высоких башен.
Вся родня – Коминжи, Фуа, Терриды – как на подбор: невысокие, светловолосые, вспыльчивые. Все отличаются острым на зависть зрением и твердой рукой – превосходные арбалетчики! Веснушки и отметины оспы щедрой рукой рассеял Всевышний по их широкоскулым лицам. Много буйных голов в этой многолюдной семье, и все отливают чищеной медью, отсвечивают ржавчиной, горят осенней листвой.
Все они воины, охотники, храбрецы, хвастуны и повесы.
Они неустанно плодят бастардов и наделяют их хоть малым, но все же наследством.
Они редко посещают церковь, но принимают у себя странствующих проповедников. Они редко задумываются о вечном, но поучениям внимают с детской доверчивостью.
Они много и охотно воюют, но еще охотней бездельничают.
Среди этих воинственных мужчин растет девочка, Петронилла де Коминж, – невысокая, рыжеватая, рябенькая, с тонкими, белыми, как атлас, руками.
Каждое утро, открыв глаза, она видит одно и то же: горные вершины, иногда зеленые, иногда – в белых пятнах снега; пасущиеся на склонах стада, близкое небо, желтую стену с зубцами.
Она искусно прядет – с самого детства. Этим ремеслом занимаются все женщины, от пастушки до графини.
За горами наступает предел обитаемого мира. Здесь же течет жизнь, то размеренная, то бурная, смотря по времени года. Неизменно остается средоточием ее замок Фуа – навершие и продолжение скалы, как бы выныривающей обнаженными плечами из моря зелени.
Две тяжелые угловые башни, высокие стены, обвивающие скалу спиралью. Одни ворота внизу – там, где к подошве замка жмется малый городок. Другие – наверху, широкий зев у входа в первую из башен.
Далеко внизу река, пенясь, то выскакивает на свет, то скрывается под нависающими кустами. Скала с этой стороны обрывается отвесно.
Замок Фуа – страж этих мест, брат этих скал. Первым примет удар, падет последним.
«Брат». Ключ, которым открываются здесь все ворота.
Тонущий в солнечном свете летний день, звон тишины, марево над долиной Арьежа.
…И вот, перекрикиваясь на скаку, несутся к замку Фуа братья – родные, двоюродные, сводные, побочные, молочные. Целая орава возвращается с охоты. Впереди – молодой граф Фуа, Одо Террид и Рожьер де Коминж. Лошади, собаки, конюхи, псари – стук копыт, лай, визг, брань, хохот.
На охотников со стены смотрит девочка Петронилла, меньшая дочка графа де Коминж. Ей четырнадцать лет; мала и худа.
Третьего дня кормилица, матушка Паскьель, вдруг ни с того ни с сего хватила ее красной лапой по тощенькой грудке, поискала пальцами – не взбухло ли хоть немного вокруг крошечных сосков. Огорченно фыркнула. Объяснила: вроде как хочет граф сговорить Петрониллу за виконта Беарнского.
– Какое там замужество, – посетовала матушка Паскьель, шумно водя необъятными бурдюками. – Не графинюшка, а рыбка-малек. И чему тут только замуж выходить?..
– Вот и хорошо, – сказала Петронилла.
Она была очень рада тому, что не годится для замужества. Ей вовсе не хотелось выходить замуж. А хотелось ей жить в Коминже. Или, еще лучше, в Фуа. В Фуа, битком-набитом рыжими, вздорными ее братьями, с отцом и дядей, среди своих незамужних и вдовых теток, в окружении высоких гор – сестер этого старого, гордого, шумного замка.
«Сестра». Ключ, который тихо поворачивается в замке, запирая здесь любые ворота.
А братья уже ворвались в Фуа. По въездной дороге, круто забирающей вверх по склону, – справа стена, слева стена – понеслась сумятица человечьих голосов, песьего лая, грохота конских копыт.
Петронилла сидела у стены, возле башни, возле ворот, ведущих внутрь замка. Выглядывала на дорогу, вьющуюся по долине. Любопытствовала.
Братья скрылись из виду – им уж вот-вот выскочить из-за поворота.
Внизу, в долине, показалось еще несколько человек. У Петрониллы, как и у всех в ее семье, превосходное зрение. Да только зачем оно женщине? Не держать ей в руках ни лука, ни арбалета.
Идущих четверо. Они шли неспешным, широким шагом, как ходят люди, привыкшие одолевать пешком большие расстояния, – паломники, наемники, странствующие фигляры, бродячие попрошайки.
Петронилла поудобнее устроилась на выжженной солнцем земле, приникла к узкому оконцу в стене. Совсем близко – с той стороны, где открывается обрыв, – к оконцу льнет маленький оранжевый мак. От запаха горячей травы щекотно в носу. Под слабым ветерком мак у окна шевелится, как живой, то застилая, то снова открывая дорогу – там, далеко внизу, – и четырех путников в просторных дорожных плащах с капюшоном.
Те неторопливо и все же быстро приближались к Фуа.
Но вот, одолев последний поворот, выскочили перед башней охотники.
Впереди, заливаясь, мчались псы, гладкие белые бестии. Мгновение – и Петронилла уже окружена ими. Ластятся, норовят лизнуть в лицо хозяйскую дочь. Смеясь, обеими руками отталкивает их длинные острые морды, да только какое там! Если уж взбрело псам на ум обмусолить маленькую девочку, ничто не поможет: обмусолят.
Следом за псами вылетели и кони, а сзади настигали псари, задыхаясь и крича. Зачем только нестись во весь опор, да вверх по крутому склону, да по такой-то жаре!
Любимый брат Петрониллы, Рожьер де Коминж, наклонившись, на скаку подхватил девочку, легкую, как веточка, и усадил в седло перед собою, точно невесту.
С негодующим лаем один пес повис у нее на подоле. Крак! Клок остался в песьих зубах. Ах, беда!..
Рожьер отпихнул собаку ногой – только челюсти лязгнули – и, обняв сестру, торжественно вступил с нею в замок. Вся кавалькада ввалилась за ними следом, разом заполонив доселе тихий, разморенный на жаре двор громкими голосами и резкой вонью крови.
Двое загонщиков, облитые потом с головы до ног, волокли оленя. Голова оленя с царственной короной, откинутая на мягкой шее, болталась в такт их шагам. Вправо, влево. Вправо, влево.
А веселый хромой псарь с вырванными ноздрями, по прозванию Песий Бог, ковылял сбоку, смешно подскакивая на каждом шагу.
Следом на смирной кобылке въехал Понс Кормилицын Сын, долговязый малый, рот до ушей. У седла болтается связка битой птицы.
Все – и конные, и пешие, и псари, и загонщики – молодые да шумные, под стать господам.
Последним, с арбалетом, опущенным на холку лошади, показывается на дворе молодой граф Фуа.
И вот им навстречу переваливается, как толстая квочка, матушка Паскьель. Ох, как боятся матушку Паскьель! И малые дети, и девки на кухне, и даже взрослые ее молочные сыновья, молодые господа, которых она выкормила густым молоком из своих огромных грудей. Своих детей у матушки Паскьель было четверо, все от разных отцов; только не заживались они. Остался один первенец, негодный Понс.
Еще загодя принялась Паскьель браниться. Сперва для порядка, а подбежав поближе – и повод нашла.
Куда столько птицы набили? Кладовые и без того ломятся. Кто будет перья драть? Кто станет коптить? Уж только не она, не матушка Паскьель. Одно только озорство с этой охотой…
Поравнявшись с матерью, Понс потянулся, обхватил ее поперек необъятного туловища, попытался поднять в седло и усадить впереди себя, как невесту.
Кобылка – на что смирная – шарахнулась в испуге. Понс с седла и навернулся. Да так удачно навернулся, что прямехонько на матушку Паскьель и упал.
И вот повалились они друг на друга, а псы не растерялись – набежали, лаять на беспорядок принялись, хвостами размахивая, за дергающиеся ноги Понса прихватывать. Ой-ой-ой!
Понс верещит, матушка Паскьель придушенно бранится на чем свет стоит, псы надрываются, а молодые господа – Террид, Фуа, Рожьер с Петрониллой – заливаются. И конюхи, псари, загонщики им вторят.
Не смеется только Песий Бог. Дал время повеселиться; после присвистнул сквозь зубы, и тотчас же псы отступили, виноватыми мордами принялись Песьему Богу в колени и руки тыкаться. Он ушел на псарню, а псы за ним побежали.
Понс на ноги поднялся, матушку Паскьель поставил. Ох и отходила же она его по морде тяжкой материнской дланью!
Обнимая сестру одной рукой, смеялся Рожьер. Молодой граф Фуа на холку своей лошади со стоном грудью пал. Понс же обратился в бегство по двору, улепетывая, как заяц. Матушка Паскьель припустила за ним, то и дело настигая и угощая звучными тычками. Вскоре оба скрылись в кухне.
Так и закончилась охота. Конюхи лошадей увели. Загонщики оленя на задний двор потащили. Петронилла с братьями на кухню пошла.
А там в полумраке на печи восседает огромный котел, Медный Бок, будто идолище языческое, и страшно взирает своим закопченным ликом. Кругом на черных стенах слуги его развешаны – ковши и котелочки, сковородки и ложки с длинной изогнутой ручкой.
В другом углу большая бочка с водой. Под бочком у бочки – ведра, как дочки, а по водной глади уточкой деревянный ковш плавает. Нестрашный с виду, ласковый, теплый.
Из этого ковша и напились все охотники, передавая из рук в руки. Вода славно стекает по подбородку, рот сам собой разъезжается от уха до уха.
Матушка Паскьель выносит им свежих пшеничных лепешек. Господские дети едят на ходу. Не едят, а лопают, спеша заталкивают грязными пальцами лепешку за лепешкой. Запивают из ковша водицей. Матушка Паскьель ругается: опять крошек в питьевую воду напустили. Вода от этого гниет.
Наконец нахватались кусков и насытились – прожорливые, как орлята. Ушли на задний двор, оленя свежевать и птицу потрошить. Петронилла – с братьями. Матушка Паскьель ей хороший нож дала, а Рожьер его заточил, как следует.
Вскоре туда же явился Понс с подбитым глазом. Скорчил жалостливую рожу, уселся на землю и за птицу взялся. Так вдвоем с Петрониллой рвали они перья и щипали пух. У девочки пальцы ловкие, быстрые, но за Понсом ей не угнаться.
Об охоте повествовали охотники, будто песню о героях пели. Как ехали по лесу, то вверх, то вниз по склонам. Как звенела и пела земля под копыталми – ах, ах; а ветки деревьев норовили хлестнуть по лицу – хрясь, хрясь. Как мелькнул впереди олень. И крикнул Одо Террид: «Смотрите, олень!» И Рожьер де Коминж подхватил: «Олень, клянусь Распятием!..» А молодой граф Фуа засвистел и коня вперед погнал…
Или нет, вовсе не так все было. Ехали они по лесу, и птицы пели, а ветви сами собою расступались, будто кланялись. И вот выбрались они на поляну, а там стоял красавец олень…
Сейчас этот олень – вовсе не красавец, а кровавая туша, истерзанная ножами. Куски темного парного мяса приятно тискать в пальцах, предвкушая, каковы они будут прожаренные, с чесноком, луком и соком кислых ягод.
…А Рожьер де Коминж крикнул: «Смотрите, олень!» Одо Террид замешкался, но тут молодой Фуа взялся за арбалет и первым…
…Нет, Рожьер – первым…
Размахивают окровавленными ножами, перебивают друг друга, а Петронилла, разинув рот, слушает: подол в птичьих потрохах, руки по локоть и выше – в крови и перьях, на щеке пятно. Мухи садятся на руки, на лица, вьются над наполовину освежеванной тушей.
– Матушка Паскьель! – кричит Рожьер. – Принеси нам воды!
И вот матушка Паскьель поит подряд всех пятерых, не позволяя им прикасаться к ковшу – как малых детей, спеленутых тесными пеленами. Рожьеру, по его просьбе, выливает воду на голову, смачивая его коротко стриженые оранжевые волосы.
Петронилла смеется.
– И мне! И мне!
Шумно вздыхая, матушка Паскьель льет воду на золотистое темечко девочки.
– Дитя ты мое неразумное, – выпевает горестным речитативом, – куренок ты мой… И чему тут только замуж выходить?..
– Рожьер, – говорит Петронилла брату, повернув к нему мокрое, смеющееся личико. – Рожьер, разве вы хотите выдать меня замуж?
Рожьер не успевает ответить. Из кухни выскакивает придурочная кухонная девка. Выпучив глаза пострашнее, верещит:
– Бросайте безделки! Граф зовет! Старый граф зовет! И граф Бернарт зовет! Скорей! Зовет и гневается!
Тут все вскочили, ножи побросали, руки кое-как об одежду обтерли и припустили с заднего двора к старому донжону, к главной башне – и жилой, и сторожевой, и кладовой – туда, где старый граф Фуа и граф Бернарт де Коминж ждали их, и звали, и гневались.
По дороге придурочную девку уронили, да так и оставили. Понс последним бежал. Понс девок сроду не поднимал. Коли упала, падал рядом. И на этот раз от обычая своего не отступил. Вот почему не побежал Понс следом за господскими детьми к старому графу. Куда интересней на заднем дворе ему показалось, чем в башне, где почему-то сердился старый граф Фуа.
И вот все четверо предстают пред очи старого графа. Первым отважный Рожьер де Коминж, за ним – молодой Фуа, следом Одо Террид, а последней – скромница Петронилла. Входит семенящими шажками, потупив голову.
Медленно наливается краской старый граф. И Бернарт де Коминж следом за ним багровеет.
И было, отчего.
Не для того призвали сынов и племянников, чтобы пред гостями позорили. Добро бы просто гости – мало ли, кто окажется в Фуа! – а то…
Оробев, глядит на них Петронилла. Сразу признала тех четверых, виденных мимолетом со стены, когда Рожьер наехал и в седло ее поднял. Тех, что шли по долине Арьежа широким, размеренным шагом: от палящего солнца на голове капюшон, от голода – кусок хлеба в кожаной сумке через плечо и Господня милость – от всех иных невзгод и напастей.
Двое мужчин и две женщины. У женщин суровые, обветренные лица. Не вдруг поймешь, что женские.
Все четверо – будто ни возраста нет у них, ни пола. Под плащом не разберешь, какого сложения. Только одно и угадывается, что худы.
Обликом сходны с грубоватыми крестьянскими ангелами в главном алтаре аббатства, которых Петронилла любит разглядывать во время мессы.
Испытующе смотрят четверо на господских детей, троих юношей и девочку, – ах, какой тяжкий взор. Плечи сами под этой тягостью сгибаются.
Мгновение назад победоносные, охотники вдруг растерялись. На погляд их выставили, будто скот на ярмарке. Руки, колени – все у них в звериной крови; сами – потные, пыльные, всклокоченные, еще не остывшие от утренней погони.
И девочка недалеко ушла от братьев, хотя все утро смиренницей просидела за прялкой. Вот уж и клок из одежды вырван, и липкие от крови лапки в птичьем пуху.
Молчание стоит в башне. Тоска забирает.
И тут Петронилла храбро произносит тоненьким голоском:
– Благословите меня, добрые люди.
И тихонечко встает на коленки.
Помедлив, одна из женщин поднимается со скамьи и подходит к Петронилле.
Суха и чиста, выбелена солнцем, омыта дождем, высушена ветрами, прокалена внутренним жаром. Чистота и жар стекают с ее плаща, как вода, – потоком.
Хрипловатым от долгого молчания голосом женщина произносит:
– Господь да благословит тебя, дитя.
И ласково понудив встать с колен, целует в лоб.
Слабое прикосновение сухих губ опаляет, точно раскаленное тавро.
Всхлипнув, Петронилла приникает к грубому плащу, обхватывает его обеими руками. Под плащом – тощее и твердое, как палка, тело.
Женщина еле заметно улыбается.
– Бог да благословит тебя, – повторяет она одними губами, без голоса.
От всей души Петронилла говорит:
– И вас тоже, вас тоже, добрая женщина.
И вдруг, вскрикнув, поспешно размыкает кольцо обнимающих рук.
– Иисусе милосердный! Я вас запачкала! Я грязная!
Петронилла прячет ладошки за спину, трет их там об одежду, марая камизот и блио. Ей даже глаза поднять страшно. Что она натворила! Боже, что она натворила!..
Захватать кровавыми пальцами одежду той, что никогда не лишит жизни ни одно живое существо… Пальцами, которыми только что с силой вырывала птичьи потроха из вспоротой утробы… Прикоснуться к той, что никогда не вкушает мяса, не пьет молока и яиц…
Женщина безмолвно отступает, отходит прочь.
И тут Петронилла видит, что на белом плаще гости не осталось ни пятнышка.
Сперва девочка не хочет верить своим глазам, но встретившись взглядом с гостьей, понимает: нет, ей не чудится. Гостья словно бы сказала ей – только ей одной: «Да». И даже слегка кивнула, полуопустив веки.
– Да, – шепчет Петронилла, как во сне. – Да…
Рядом с ней о чем-то толкуют ее братья. Громко распоряжается старый граф Фуа. Ворчит ее отец, Бернарт де Коминж. Немногословно, вполголоса, переговариваются между собой и со старым графом четверо его гостей.
Ничего этого Петронилла не видит и не слышит. Только бы не помешали. Только бы не спугнули… Отгородившись от всех толстой стеной тумана, лелеет и баюкает в себе то единственное мгновение, когда ощутила сухой жар поцелуя, который, как тавро, горит на лбу.
Старик Фуа прогневан так, что каждая веснушка на его лице раскалилась и светится.
Склонившись к нему, молвил что-то один из гостей – тот, что казался старше остальных. Хотя лицо у него не старое, только складки у рта резче и тени темнее.
Уже тише, спокойнее сказал старый граф, чтобы сыновья и племянники шли умыться и другой раз являлись к трапезе чистыми.
Братья вышли, уводя с собой Петрониллу – безмолвную, оглушенную.
Только на дворе она очнулась, будто от толчка, когда солнечный свет хлынул на нее со всех сторон. Поморгала, огляделась. Нашла своего брата Рожьера.
– Что это с тобой? – спросил он.
– Не знаю… – И вдруг выпалила: – Брат, я не хочу выходить замуж!
Тут засмеялись все трое. Рожьер схватил сестру и легко поднял ее на руки.
– Ну и не выходи! – утешил он Петрониллу. – Будешь старой девой. С вот такими сухими отвисшими сиськами. – И показал, какими.
Петронилла заревела.
Рожьер поставил ее на землю, щелкнул по макушке.
– Дурочка. – И закричал на весь двор: – Паскьель!..
И вот на заднем дворе вылито несколько ведер воды, чтобы смыть кровь и перья. Понс, обливаясь потом, наполняет бочку.
Бесцеремонно ухватив графскую дочь за косы, матушка Паскьель окунает ее лицом в воду и трет шершавой лапищей, так что Петронилла едва не захлебывается насмерть. Девочка мычит и стонет, обильно пускает пузыри и, наконец, матушка Паскьель позволяет ей вынырнуть. Глаза Петрониллы широко распахнуты, рот разинут, она шумно переводит дыхание: ах! ах! ах! Щеки раскраснелись, с волос течет вода.
– Ну вот, – говорит матушка Паскьель, – теперь вы и вправду благородная девушка, а не сорванец…
Чисто умытая, обсохшая на солнышке, Петронилла просит Паскьель помочь ей и починить порванное собакой блио. Матушке Паскьель некогда, она отсылает девочку к Понсу: тот хоть и прост, хоть и неотесан, но обучен многому. Пусть Понс поможет.
Понса Петронилла находит в трапезной. Тот занят: по графскому повелению снимает со стены большое деревянное распятие. Понс стоит на лавке и ковыряется в каменной стене ножом. Деревянный Иисус сонно смотрит куда-то мимо Понса.
– Ой, Понс! – говорит Петронилла. – Что ты такое делаешь?
Понс пыхтит и не отвечает.
– Ой, ой! – говорит Петронилла. Она пристраивается у Понса за спиной и задирает голову. – Ты что же, хочешь снять Иисуса со стены?
Тут распятие падает в объятия Понса, так что тот едва не валится со скамьи прямо на Петрониллу.
Понс ревет:
– Уйди!.. Зашибу!..
Но девочка не уходит. Ей любопытно и все тут.
– Понс! – говорит она настырно. – Понс! Это кто, это дядя велел тебе снять Иисуса, да?
Одной рукой Понс держится за стену, другой обхватывает деревянного Иисуса поперек втянутого живота. Не оборачиваясь к Петронилле, Понс говорит сквозь зубы:
– Да.
– Ой, надо же… – тянет Петронилла.
– Держи-ка.
Понс осторожно опускает распятие на пол. Петронилла берется за обе перекладины креста, чтобы Иисус не упал и не ударился. Проводит по деревянным выступающим ребрам. На пальцах остается толстый слой пыли.
– Граф велел тебе умыть его, да? – допытывается Петронилла. Она очень довольна своей догадливостью. Сама-то она умыта и переодета в свежую рубашку.
Понс спрыгивает на пол, обтирает руки об одежду.
– Давай сюда.
Он забирает у Петрониллы распятие, готовится завернуть его в холстину.
– Куда ты его понесешь?
– В оружейную. Граф велел снять.
– Почему?
Хрипловатый грудной голос за спиной:
– Потому что это неприлично, дитя.
Петронилла поворачивается на этот голос.
– Добрая…
Положено говорить «добрая женщина», и Петронилла знает это, но язык не поворачивается. Встав на колени, Петронилла произносит:
– Добрая госпожа.
И замолкает, смущенная.
Понс сердито ворчит себе под нос, утаскивая запеленутого Иисуса наверх, в оружейную.
Женщина говорит Петронилле – очень тихо:
– Поднимись, дитя. Не нужно все время вставать на колени.
От растерянности Петронилла прямодушно брякает:
– А я не знаю, как надо поступать, добрая госпожа.
Женщина называет свое имя – Эрмесинда.
Немного осмелев, Петронилла спрашивает:
– Почему Иисус – это неприлично?
Несколько мгновений Эрмесинда созерцает пустое место на стене, где висело распятие. Поднятое вверх, ее спокойное лицо обращено к Петронилле в профиль. Строгие, скупые очертания.
У Петрониллы само собой вырывается:
– Господи! Как вы красивы, госпожа Эрмесинда!
Лицо женщины остается бесстрастным. Не отводя взора от пятна на стене, она говорит – вполголоса, так, что девочка запоминает каждое слово:
– Непристойно обожать статуи и изображения. Иисус приходил освободить нас от идолопоклонства. Неприлично жевать, вывесив над столом идола, и называть это «христианской трапезой». Ах, дитя, неужели кусок не застревает у тебя в горле? – Помолчав еще немного, добавляет: – А крест, это орудие торжества сатаны, – он особенно отвратителен.
– Ох, госпожа, – говорит Петронилла, – похоже, что вы говорите сущую правду.
Эрмесинда смотрит теперь прямо на девочку.
– Да? – переспрашивает она.
Петронилла усердно кивает несколько раз.
– Мне и впрямь иной раз кусок в глотку не лезет, особенно как гляну на эти Его раны… В прошлом году Понс лазил подкрашивать кровь, а то выгорела и была какая-то желтая. И ребра такие худые…
Эрмесинда стоит неподвижно. Она молчит. Долго молчит. Петронилла глядит на нее во все глаза, приоткрыв рот. Девочка не решается уйти, не смеет заговорить. Даже пошевелиться без позволения не может.
Наконец Эрмесинда спокойно спрашивает:
– Ты любишь меня, дитя?
– Да, – не задумываясь, отвечает Петронилла
И – пунцовая – бегом из трапезной.
Всю жизнь будет Петронилла помнить этот вечер: и наливающееся синевой небо над горами с первой, еще в закатном свете горящей, звездой; и факелы, без копоти, ровно, пылающие на обеих длинных стенах просторной трапезной в Фуа; и непорочную белизну покровов, устилающих стол; и запах свежего хлеба в корзине, и крупные чистые руки, преломляющие хлеб и раздающие – налево, направо; и большую книгу, полную странных слов…
В начале было Слово. И был человек по имени Иоанн. Он был один и опечален, и в сердце его непрошеной вошла тоска. И вот, когда он размышлял и был погружен во мрак, раскрылось небо, озаряя Творение, и пал Иоанн, испуганный. И в ослепительном свете предстал ему некий юноша. Но пока смотрел на Него Иоанн, изменился Он и стал как старец. И устрашился тогда Иоанн. Он же вновь оставил прежний облик и сделался наподобие дитяти. Он был единством многих форм, клубящихся в бесконечном свете, и формы открывались одна в другой. И молвил Он: «Иоанн, Иоанн, почему ты боишься? Зачем сомневаешься? Это – Я…»
Тот, старший, с резкими морщинами, читает. Его зовут Оливьер. Он читает не на латыни, как каноник, а на провансальском наречии – том самом, на котором слагаются песни.
Книга, раскрытая, покоится между его ладоней, обернутых вверх. Оливьер читает уже давно, но ни разу еще не перевернул страницу. В свете факелов Петронилла замечает, наконец, что глаза Оливьера прикрыты. Он неподвижен. Руки, разведенные в локтях, мертво пали на стол. Капюшон откинут; строгое, грубоватое лицо обнажено.
Петронилла голодна. Свежий хлеб в корзине так вкусно пахнет. Но Оливьер читает и читает. Она почти не понимает того, что он говорит. Эти слова темны для ее ума – детского, девичьего.
И вдруг Оливьер поднимает ресницы. Будто синим светом брызнуло – так горят его глаза.
Он заговорил.
– Что есть ад? – спросил Оливьер.
У Петрониллы сразу потянуло в животе, будто объелась кислых яблок. Она боялась ада и не хотела про это слушать.
– Ад – здесь, с нами, в нас, – молвил Оливьер. – Мы уже в аду. Ибо ношение этого смертного тела, обремененного немощами, слабостями, подверженного болезням и тлению, – и есть истинный ад для бессмертной бестелесной души. Немая и слепая, душа ваша помнит еще блаженство горней обители, где нет ничего тлетворного, где не жрет ее червь и не точит время…
Свет в окнах угасал. Все ярче горели факелы. Тени бродили по лицу Оливьера, застревали в складках его одежды.
– В чем призвание человека? – вопрошал Оливьер. Он говорил спокойно, будто рассуждал сам с собою, а не поучал слушателей. – В чем смысл и назначение нашей жизни здесь, на земле? – Он слегка коснулся пальцами раскрытой страницы. – Сказано: «Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И еще: «Я послан к овцам погибшим». И потому говорю вам: все будут спасены и никто не будет ввергнут в пучину адскую, но каждый рано или поздно возвратится в горнюю обитель, под созерцание доброго Бога.
– И грешники тоже? – тихо спросила Эрмесинда. Этот вопрос хотели задать многие, только не решались.
Оливьер помолчал.
Петронилла затаила дыхание. Ей очень хотелось услышать ответ. Каноник из аббатства святого Волюзьена всегда страшно кричал, когда речь заходила об адских муках, долго и со вкусом живописал котлы, чертей, раскаленные трезубцы. Особенно если бывал под хмельком.
Наконец Оливьер вымолвил:
– Рано или поздно спасены будут все.
Радостью окатило Петрониллу, будто в жаркий день водой из ушата. Все! В глубине души она считала себя ужасной грешницей.
– Ибо ничего пагубного не может исходить из рук доброго Бога. Дорогие мои, подумайте сами. Много ли в том добра, чтобы освободить лишь некоторых, а остальных осудить геенне? – Внезапно Оливьер вспыхнул. Пятна гнева проступили на скулах. – Попадись в мою власть такой бог, который позволил себе из тысячи сотворенных им спасти лишь одного! Я своими руками порвал бы его на части!
– Ха! – вскрикнул старый граф Фуа и звучно хлопнул ладонью по столу. – Вот это по-нашему!
Все с облегчением перевели дух. Даже хмурый Оливьер чуть улыбнулся.
И сказал Оливьер:
– Вот поэтому, дорогие мои, я просил нынче нашего доброго друга графа Фуа снять со стены деревянного идола, которому поклоняются католики. Вы знаете уже, что католические попы обманывают вас, выдавая за истину выдумки и оскорбительную для Бога ложь. Так называемое воплощение Иисуса Христа противно здравому смыслу и законам природы. Подумайте! – Синие глаза Оливьера настойчиво останавливались то на одном, то на другом. – Подумайте! Могло ли Вечное облечься в тлетворную материю? Могло ли Божество принять на себя бренное тело – эту обузу, это наказание, этот стыд? Не позорно ли Богу быть заключенным во чреве жены? – Он покачал головой, избавляя своих слушателей, явно не приученных к отвлеченным раздумьям, от необходимости изыскивать ответ. – Нет. Людям был послан ангел, который не имел надобности ни в чем земном. Если Он ел и пил, то только ради людей, во избежание соблазна для них. Он имел одно лишь воздушное тело. Все его страдания и смерть были иллюзией. Как Он мог пострадать, если земного тела не имел? Разве страдает облако, если пронзить его стрелой?
И снова Эрмесинда задала вопрос, словно бы от лица всех остальных:
– А как же апостолы, осязавшие Спасителя?
– Сестра, знай: если ученики и осязали Его тело, то лишь по особому помрачению, которое Господу было угодно навести на них. Воскресения же в том смысле, который понимают католики, быть не могло. Это было бы унижением Божества. Все, что имеет хотя бы малейшую связь с плотским, не может быть свято. Вот почему мы отвергаем крещение водой, ибо сказано: «Я крещу вас в воде в покаянии, но Идущий за мною сильнее меня. Он будет крестить вас Духом Святым…»
– «…и огнем», – сказал Рожьер де Коминж, заканчивая цитату.
Оливьер пристально посмотрел на него.
– И огнем, – спокойно согласился он. – Но не тем огнем, который ты подразумеваешь, дитя мое. Этот огонь надлежит понимать иносказательно, как проявление Духа Святого, ибо сказано: «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные… и исполнились все Духа Святаго». Ибо все, что названо в Святом Писании обыкновенными житейскими именами – «хлеб», «зерно», «плевел», «слепота», «пещера», «скот» – все это следует толковать не в прямом смысле, но в иносказательном и духовном, дабы не впасть в плачевную ошибку и через то – в грех.
От любопытства Петронилла забыла даже голод. Теперь, когда ее перестали пугать адом и геенной, она совершенно успокоилась.
Оливьер говорил:
– Итак, вы знаете теперь, что все земное и плотское суть пагуба. Следовательно, Иисус должен был взирать на болезни тела не со скорбью, но радостно. Ведь болезнь тела – это средство ко скорейшему разрешению человека от бренной земной оболочки и, следовательно, – благо.
Эрмесинда сказала:
– Мы читали, как Иисус умножил число хлебов и рыб и малым их количеством чудесно накормил многих. Разве не следует понимать это так, что Он все же заботился о пропитании тела и о том, чтобы оно не погибло?
Оливьер ждал этого вопроса. Улыбнувшись, он отвечал:
– Сестра, так буквально понимают Писание только простецы. За каждой тварью стоит замысел Божий, бесконечно далекий от твари и бесконечно совершенный, в то время как она сама несовершенна, ибо искажена земным воплощением.
– Да, – сказала Эрмесинда.
– Точно так же за каждым словом Писания стоит иной, истинный смысл. Хлебы, число которых таинственно возросло, суть хлебы духовные, то есть слова Жизни. Чем дольше говорил Он, уча людей, тем более умножались слова Жизни, так что в конце концов напитались тысячи жаждущих душ.
– Сказано также, что Иисус целил болезни тела, – проговорила Эрмесинда.
– И это надлежит понимать духовно, – наставительно сказал Оливьер. Теперь он обращался только к Эрмесинде; остальным же как бы дозволялось присутствовать при их доверительной беседе. – Слепые, которым Он давал прозрение, были на самом деле грешниками. Души их действительно пребывали в слепоте; Он же отверзал им очи, дабы они могли видеть самое себя.
– Но зачем же тогда Иисус видимо жил и страдал? – спросила Эрмесинда.
Теперь Петронилла ясно видела, что Эрмесинда знает правильный ответ на свой вопрос, а спрашивает лишь ради других – ради тех, кто не знает ответа и не решается перебить Оливьера.
Совершенная добавила:
– Ведь на самом деле Иисус не воплощался и не носил позорного телесного вретища. Не обманом ли были Его жизнь и смерть?
– Сестра, разве добрый Бог обманывает? Лжецом Он стал в руках католической церкви, извратившей слова Писания себе на потребу, – строго молвил Оливьер. – Иисус был призван как живой пример для человечества. Он учил людей отрешаться от плоти с ее страданиями. Он учил людей сбрасывать ветхую телесную оболочку, чтобы вернуться к истинному Богу и создать истинную Церковь, к которой мы с тобой принадлежим.
– Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! – воскликнула Эрмесинда.
– Истинно, – отозвался Оливьер.
– Аминь, – вразнобой подхватили остальные.
И Петронилла прошептала следом за ними:
– Аминь.
После короткого молчания Оливьер сделал знак своему сотоварищу, и тот встал. Повинуясь тому же знаку, поднялась из-за стола и Эрмесинда.
И вот тот человек, что был с Оливьером (он так и не сказал своего имени) протягивает руку старому графу Фуа; а граф берет за руку своего сына; тот – своего двоюродного брата Одо Террида; Одо Террид – Рожьера де Коминжа; Рожьер де Коминж – своего отца графа Бернарта. И так они стоят по правую руку от Оливьера.
А Эрмесинда сжимает своими сухими горячими пальцами вспотевшую ладошку Петрониллы; Петронилла прикасается к локтю своей матери Этьенетты; Этьенетта берет за руку домну Филиппу, супругу графа де Фуа; домна Филиппа – домну Эклармонду, сестру графа; а Эклармонда соединяет руку с рукой второй совершенной, которая пришла в Фуа вместе с Эрмесиндой. Вторая живая цепь становится слева от Оливьера.
Братья, сестры.
В наступившей тишине громко затрещал факел за спиной у Петрониллы. Эрмесинда потянула девочку за руку. Вся цепь, колыхнувшись, пала на колени – один увлекая другого.
Эклармонда де Фуа громко сказала:
– Благослови нас, добрый христианин.
И склонила голову, коснувшись лбом пола. Следом за нею точно так же склонили головы и остальные.
Оливьер молвил, серьезно и торжественно:
– Бог да благословит вас.
Выпрямились, но с колен не поднялись.
Петронилла смотрела на Оливьера во все глаза. Теперь, когда она умалилась перед ним, он еще больше вырос, сделался огромным, наподобие горы. Он был суров и прекрасен. И стар. В его глазах жил Святой Дух.
Заметно волнуясь, проговорил Бернарт де Коминж, отец Петрониллы:
– Благословите нас, добрый человек.
Нестройно подхватили эти слова Рожьер и Одо Террид, а из женщин – Эрмесинда и сомлевшая от собственной храбрости Петронилла.
Оливьер отозвался:
– Господь да благословит вас.
И в третий раз поклонилось ему все собрание.
И тот совершенный, чьего имени никто не узнал, сказал:
– Благослови нас, отец, и моли доброго Бога за нас, грешных, дабы сделал нас истинными христианами и даровал нам кончину благую.
И ответил Оливьер:
– Бог да благословит вас, чада, и да соделает вас истинными христианами, и да сподобит кончины благой.
– Аминь, – громко сказал старый граф Фуа.
– Истинно, – произнесла Эрмесинда.
И Петронилла, льнущая к ней восторженной душой, повторила с радостью:
– Истинно.
Оливьер оглядел собравшихся, как учитель старательных учеников. Сказал так:
– Вознесем же все вместе ту единственную молитву, которая указана истинным христианам.
И запел «Отче наш».
Он пел неожиданно красивым, низким голосом, гладким, как атлас.
Петронилла знала «Отче наш» по-латыни; совершенные же, все четверо, пели на провансальском наречии. Петронилла завидовала им и остро страдала оттого, что не может петь вместе с ними.
– …хлеб наш сверхсущный дай нам ныне… – выпевала рядом с ней Эрмесинда.
Домна Филиппа, жена графа де Фуа, тоже пела. И Бернарт де Коминж.
– Яко Твое есть Царство… – заключил Оливьер.
Отзвук сильного голоса еще некоторое время бродил по залу и, наконец, затих под потолком, в темноте, куда не достигал рассеянный свет факелов.
Подняв руку, Оливьер провозгласил:
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
– Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с нами, – отозвалась Эрмесинда.
– Отец, Сын и Дух Святой да сжалятся над вами, – сказал Оливьер.
– И да сделают нас истинными христианами, – произнесла Эрмесинда.
– Отец, Сын и Дух Святой да простят вам прегрешения ваши, – сказал Оливьер.
А Эрмесинда добавила:
– И да сподобят нас кончины благой.
Оливьер развел руки в стороны, приглашая всех снова занять место за столом. Когда суета улеглась, он неспешно благословил хлеб в корзине и, разломив, отдал – налево, направо.
И тут Петронилла поняла, как ужасно, как зверски она проголодалась.
– Я не выйду замуж! Я не хочу выходить замуж!
Петронилла горько рыдала. Бернарт де Коминж заметно растерялся, столкнувшись с неожиданным сопротивлением дочери.
– Все девушки выходят замуж, – сказал он наконец.
– Я не хочу замуж. Я хочу быть совершенной, – выговорила Петронилла сквозь потоки слез. – Я хочу быть как Эрмесинда… И как Эклармонда де Фуа…
Бернарт де Коминж позволил своей меньшой дочке выплакаться. Терпеливо выслушал все ее признания.
Девичьи мечты. Целомудрие. Воздержание. Пост и строгость. Внутренний жар. Могущество творить чудеса. Спасение души. Быть как агнец среди волков. Завоевать Царство Небесное. Войти в Небесный Иерусалим.
И вот Петронилла всхлипнула в последний раз и затихла: рыжеватая голова у отца на коленях, сама – у его ног, на полу. Он наклонился, поднял ее на руки. Петронилла вдруг зевнула. Ее маленькое личико покраснело и распухло.
Бернарт отнес девочку на кровать, закутал потеплее – у нее лязгали зубы. Уселся рядом.
Она поцеловала его руку и пробормотала:
– Отец, не отдавайте меня замуж. Лучше я стану совершенной.
– Ты еще успеешь стать совершенной, – сказал Бернарт де Коминж своему упрямому ребенку. – Не обязательно же отрешаться от мира в пятнадцать лет.
– Вы хотите, чтобы я погубила свою душу? – спросила девочка, вся в слезах. – Я хочу творить чудеса. Вы видели, как Эрмесинда…
– Глупое мое дитя, – со вздохом молвил Бернарт. – Замужество спасению не помеха. Ты примешь посвящение потом, когда состаришься. Многие так поступают. Посмотри на меня. Я ношу оружие. Я убиваю – и животных, и людей…
– Я не буду убивать животных! – сказала Петронилла. – В каждом из них может быть плененная душа! Только гадов – только их можно убивать…
– Иные люди почище гадов, – убежденно сказал Бернарт. – Я зачал детей, у меня есть жена. И все же я надеюсь на спасение, ибо в смертный час я успею отречься от земного. Я войду в чертоги Небесного Отца чистым и безгрешным.
Петронилла не отозвалась. Склонившись к дочери, Бернарт увидел, что она обиженно спит.
3. Безносый псарь
Бернарт де Коминж, отец Петрониллы, не раз высказывал вслух сожаление о своем повелении Песьему Богу ноздри рвать. Уж не потому, конечно, что скучал по его некогда смазливой роже.
Ноздри псарю оборвали рано. Тому едва минуло пятнадцать лет. В такие лета природа не глядит, псарь ты или кесарь: взор делается мутный и ищущий, а томление духа внезапно устремляется к какой-нибудь скотнице.
Стояла тяжелая зима. Граф Бернарт, его жена, дети, кормилица и графский оруженосец – все ночевали, сбившись в кучу, на обширной кровати. И все равно мерзли. Эклармонда де Фуа терзалась почти непрерывным кашлем. В самую лютую стужу она перебралась в хлев, под жаркий, как печка, скотий бок.
И вот настает новая ночь. Молодой псарь, влекомый могучим чувством, не чуждым и самому царю Соломону, устремляется ко хлеву, думая отыскать там милую скотницу – огромную бабищу, старше псаря в три раза.
А домна Эклармонда была девственна.
Псарь пробирается между скотов и с радостным визгом валится на спящую. Ловко разведя в стороны ее брыкающиеся ноги, с ходу тычет в нее толстым дрыном. Эклармонда ужасно кричит. По счастью, псарь с первого разу промахивается. Попадает ей дрыном в живот.
Тогда псарь устраивается на распластанной, наподобие лягушки, девушке, зажимает ей рот ладонью и принимается нашептывать на ухо разные куртуазности – уговаривать. Этому обучил его, наставляя, конюх.
Эклармонда дергается под псарем, извивается, лягается. Едва лишь псарь дает ей поблажку, как она тут же попадает острым коленом ему между ног. Взвыв, псарь обеими руками хватается за уязвленное жало.
– Ты чего? – орет он обиженно.
Эклармонда его – хрясь по физиономии.
– Слезь!.. Тварь!..
– Ой! – верещит псарь. Теперь он ясно видит, что лежит вовсе не на скотнице. – Ой, ой!..
На следующий день он уже валяется на снегу у желтой стены с зубцами – распухшей от побоев задницей кверху. Студит воспаленную рожу. Вместо носа у псаря теперь две дырки, как еще одна пара вытаращенных глаз. Вокруг провалов запеклась корка.
Ногу ему перешибли двумя годами позднее, на кухне – крал еду. Год выдался тогда несытный. Псарь легко отделался, могли и убить.
О хромой ноге блудливого псаря граф Бернарт не слишком сожалел, а об испорченной роже – весьма, и вот почему.
То и дело открывалось, что в замке кто-то портит девок. А то еще являлись зареванные мужланки из долины. Со слезами припадали к графу. Рассказывали несусветное: будто обрюхатили их «по графскому повелению», а муж теперь бьет…
Угадать обидчика по сходству его с новорожденным ублюдком было невозможно: на псаря теперь разве что безносый походил. Рвать же младенцу ноздри, дабы установить отцовство, никто из зареванных баб не соглашался. На том соломонов суд графа Бернарта обыкновенно и заканчивался.
Когда псарю было пятнадцать лет и он только-только лишился своей красоты, Петронилле сравнялось десять. Впервые тогда девочка и заметила этого раба и выделила его из числа других домочадцев. Да и то, по правде сказать, такого урода трудно не заметить.
Псарь красивую суку гребнем чесал. Собака лежала на боку, то и дело недовольно морща верхнюю губу, но псарю вполне покорялась – его уже и тогда звали Песьим Богом.
Петронилла обошла его кругом, поглядела с одного боку, с другого. Псарь поднял наконец голову, одарил ее двойным взором: глаз и голых носопырок.
– Ой! – сказала девочка. – Ты новый? Я тебя не знаю.
– Старый я, – молвил юноша.
– А почему я тебя прежде не видела?
– Это уж вам виднее, домна, почему.
Девочка села рядом на корточки и принялась ласкать суку, а псарь все водил гребнем по мягкой собачьей шерсти.
Так господское дитя свело дружбу с безносым рабом. После, когда вернулся домой любимый брат Петрониллы, Рожьер, – вернулся рыцарем – она совсем забросила дружбу с Песьим Богом. Но покуда Рожьера не было, всякий день заглядывала на псарню.
– Принесла? – деловито спрашивал Песий Бог.
Девочка одаряла его лакомыми кусками, похищенными со стола. За это он знакомил ее с собаками и растолковывал их повадки.
Один раз она спросила:
– А как тебя звать?
– Песий Бог меня звать. А хочешь – иначе зови, если получше придумаешь.
– Нет. По-настоящему – как?
– Не знаю, – беспечно сказал псарь.
– Но тебя ведь крестили в церкви?
– Не знаю, – повторил псарь, удивленный. – Может, и крестили. Мне не сказали.
– Всех ведь крестят, – убежденно сказала девочка. – Значит, и тебя тоже.
Псарю этот разговор совсем скучен. Но Петронилла прицепилась хуже репья.
– Если покрестили, значит, имя дали.
Тогда псарь, видя, что девочка никак не отстанет, сказал ей так:
– Знаешь что. Коли уж так тебе хочется, дай мне сама такое имя, какое понравится.
Подумав, Петронилла сказала:
– Хорошо. Тогда встань на колени.
Псарь, улыбаясь, повиновался.
Петронилла сорвала ветку с дерева и несколько раз взмахнула ею над головой псаря.
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я буду звать тебя Роатлант.
Псарь загыгыкал.
По весне Песий Бог подарил Петронилле щенка. Пса поименовали Мартыном. Был он белый, с россыпью черных пятен на гладкой шкуре, с длинным тонким хвостом и узкой долгой мордой.
Заставляя Мартына с рычаньем отбирать палку или выбирая блох с его голенького брюха, Песий Бог тешил Петрониллу рассказами. Знал он их великое множество. Иные были веселые, а иные и страшные.
– Псы – младшие детки дьявола, – говорит Песий Бог таинственно. – Я и сам имею над ними власть потому лишь, что получил ее от мессена дьявола.
Петронилла замирает в сладком ужасе. А псарь продолжает, поглаживая Мартына:
– Когда Господь Бог сотворил человека, был у Него помощник. Это как раз и был мессен дьявол. Ох, многое дал мне мессен дьявол и прежде всего – вложил в члены мои огонь неугасимый. Вечно ввергает меня этот дар в плачевные неприятности.
Петронилла тревожно глядит на него, потом на себя.
– А на меня эта беда не перекинется?
– Ты еще мала, – утешает ее псарь. – Слушай дальше. Создал Бог первого человека, а после, по совету мессена дьявола, – и женщину, Еву, подругу Адама. И вместе с нею создал он и плотское наслаждение. Вот уж воистину источник греха и несчастья.
Тут псарь показывает на свой нос – вернее, на то, что от носа осталось.
– Когда появилась женщина, то первым познал ее мессен дьявол, – продолжает псарь.
– Как это «познал»? – перебивает Петронилла.
– Будто никогда не видела.
Петронилла мнется.
– Вблизи – нет.
Псарь оглядывается по сторонам – нет ли кого, а после, покопавшись у себя в штанах, извлекает жало, источник многих своих бед и неприятностей.
– Гляди, только быстро, а то мне твой отец и это оборвет.
Петронилла внимательно смотрит.
– Можно потрогать?
– Давай.
Она прикасается пальчиком. Жало вздрагивает и устремляется на нее. Побагровев, Песий Бог прячет его в штаны и грубо требует у девочки, чтобы та шла в кухню и несла ему воды.
Видя, что она мешкает, прикрикивает:
– Живей!
Петронилла выполняет, что велено. Он развязывает тесемку на штанах, оттягивает их и говорит:
– Лей!
С ковшом в руке она колеблется.
– Что, прямо в штаны?
– Да. Давай, быстро.
Зачем-то зажмурившись, она льет. Псарь стонет.
– Скажут, что ты обоссался, – деловито говорит Петронилла, оглядывая псаря, пока тот завязывает тесьму потуже. – Ну ладно, рассказывай дальше. Значит, у мессена дьявола был такой же хвост, как у тебя, и он познал этим хвостом Еву…
– Да, только хвост у него не чета моему. И когда он еще до Адама познал Еву, то она родила на свет Каина, а уж Каин породил первых собак…
– Значит, собаки и люди – родня?
Петронилла поражена.
– Да, через мессена дьявола мы родня псам, – подтверждает Песий Бог. – Это родство видно из привязанности между людьми и собаками. А уж если человек может повелевать псами, это верный знак того, что ему помогает сам дьявол.
– И тебе?
– Да, – важно говорит Песий Бог.
Петронилла смотрит на него почтительно.
– Откуда ты только все это знаешь?
– Слушал, как учил один добрый человек. Совершенный.
– Он только про собак учил?
– Нет, он о многом толковал, да мне-то только про собак любопытно было…
Петронилла обнимает Мартына за шею. Пес вырывается и со слюнявым всхлипом облизывает ее лицо.
– Ну и пусть ты внучок дьявола. Я буду тебя любить, Мартын… до самой-самой смерти.
Мартын издох на пятый месяц от своего рождения, не проявив себя ничем замечательным. Его сразила собачья чума. Горестно было видеть, как угасает некогда веселый щенок, как умоляюще глядит глубокими, темными собачьими глазами – снизу вверх, будто до последнего часа надеясь на спасение. Петронилла изведала настоящее горе. Каждое утро она прибегала на псарню и подолгу, молча, просиживала с Мартыном, уложив его морду себе на колени. Она носила умирающему щенку молоко. Псарь предлагал удавить бедолагу и избавить того от страданий, но девочка надеялась все же выходить Мартына.
Наконец настал день, когда Песий Бог вынес ей окоченевшее за ночь тельце Мартына. У щенка менялись тогда зубы. Накануне смерти он потерял клычок. Петронилла забрала клычок себе, сказав, что оправит его в серебро и будет носить в перстне.
Вдвоем они завернули труп собаки в рогожу и унесли в долину, таясь от графа Бернарта, а пуще того – от служанок матери, чтобы те не подумали дурного. Псарь страшился этого куда больше, чем девочка.
Неподалеку от одной деревеньки, в малой рощице, выкопали могилку. Обливаясь слезами, девочка в последний раз прижала к себе Мартына, погладила его мягкое шелковистое ухо.
– Прощай, Мартын, внучок мессена дьявола, – сказала она. – Я никогда не забуду тебя.
– Ну, будет, – проворчал псарь. Он отобрал у Петрониллы Мартына, уложил его в могилку и закопал. Петронилла смотрела, как он работает.
– Роатлант, – окликнула она псаря. Тот не сразу отозвался, ибо так и не привык к имени, которым она его наградила. – Роатлант, неужели мы так и оставим его здесь лежать? Одного?
– Ага, – сказал псарь. – Так всегда и поступают с покойниками.
Петронилла что-то напряженно обдумывала. Псарь с интересом уставился на нее: какая еще затея посетит неугомонное дитя графа Бернарта.
– Давай хотя бы крест поставим, – сказала она наконец.
– Он же не человек, – возразил Песий Бог. Ему было лень мастерить крест.
– Ты же сказал, что он – как все покойники…
– Так-то оно так, да только крест ставят лишь тем, кто окрещен.
Петронилла хитро посмотрела на своего безносого друга.
– А когда ты помрешь – тебе тоже крест на могилу поставят?
– Почем я знаю. Может, меня в общую яму бросят.
– А сверху все-таки крест поставят.
– Поставят, – нехотя согласился псарь.
– Вот именно! – торжествуя, сказала Петронилла. – А ведь ты даже не знаешь точно, крещен ли ты.
– Я другое дело. Я все же человек.
– И мессен дьявол твой родич. А крест все-таки поставят.
Песий Бог понял, что спорить бесполезно. Вздохнул и принялся мастерить для Мартына могильный крест.
Мартынова могилка в роще одно время была наиболее чтимым Петрониллой уголком обитаемого мира. Девочка приносила туда цветы, ленты, фрукты, по целым дням просиживала в одиночестве, ведя долгие беседы со своим любезным Мартыном.
Но потом прошло лето, настала осень, а когда минули и зимние холода, возвратился из Тарба Рожьер де Коминж, и Петронилла позабыла и свою дружбу с Песьим Богом, и печаль по Мартыну: теперь рядом с нею был брат, рыцарь, самый прекрасный человек на земле.
4. Выбор Понса Амьеля
– Бу-у! Бу-у! – гудит труба, а щеки трубача то разбухают, то вдруг втягиваются, обозначая резкие складки у рта.
А рядом – сопельщики и дудельщики, и бубенщики, и даже один чрезвычайно нагломордый малый с гуденным сосудом, сделанным из козьей шкуры и изрыгающим меланхолические звуки.
Но пуще всех сегодня – барабанщик… ах, этот барабанщик и с ним еще дудочник! Подле них – самая большая толпа народу. Кто кричит, подбадривая игрецов, кто головой кивает в такт – так-так-так – кто ногой притоптывает, а которые и просто стоят недвижно, разинув рот и выкатив глаза.
Расставив барабаны, большие, и малые, и вовсе крошечные, с кулачок домны Элисаны, вовсю хлопочет над ними барабанщик. То пальцами их коснется, почти невесомо – ш-ш-ш – то вдруг пятерней хватит – бах! – то перебором пройдется – ту-тук! ту-тук! – и слышится, как дождь шумит по листьям, как пыль, подгоняемая ветром, течет по жарким улицам, вниз, вниз, к подножью холма, как отдаленно ходит по горам гром, как стучат где-то копыта: кто едет? кто поспешает?
Будто хозяйка над кастрюлями, трудится барабанщик – везде поспеть, ничего не забыть, здесь вовремя выпустить пар, тут сдвинуть крышку, а во-он тамочки разочек щепоточку соли бросить – тюк!
И лицом танцует вослед за пальцами – ни длинному носу, ни острому подбородку, ни впалым щекам, ни лбу – сплошь морщины – никому-то покоя нет, все в движении, все в пляске.
А дударь, летами куда помоложе, тихо дует в дудку – нежно поет дудка, голосом почти не деревянным.
Третьим товарищем волшебного барабанщика была девушка лет двадцати – рослая, полнотелая, чернокудрая девица с белыми руками, а под каждым пальцем у нее на тыльной стороне ладони – ямочка.
Стоит против дударя, ждет. Поводит плечами и бедрами, улыбается, выхваляется: заранее знает, что не оплошает.
Вот сыграет дударь куплетец, отлепит губы от дудки, усмехнется. Тотчас же девушка тем же голосом, что и дудка, куплетец повторяет – да так искусно она это делает, что закрой глаза и не разберешь, где девушкин голос, а где дудкин.
А конь под пальцами барабанщика стучит копытами все громче – все ближе всадник: кто едет? кто поспешает?
Эн Рожьер де Фуа – вот кто! Наипервейший сеньор во всей округе – вот кто! Наш милостивый господин – вот кто к славному городу Фуа приближается, и с ним – свита многочисленная, знатная да веселая, а знатнейшие меж гостей – эн Гастон, виконт Беарнский, и брат его эн Гийом де Монкад, оба востроносые, большеротые, с глазами быстрыми, дерзкими, лукавыми. Граф Фуа ростом невысок – когда не подпрыгивает, ряб, рыжеволос, зато уж сердцеед!..
А конь под ним черный, поводья золотыми кистями украшены; сам же всадник в белом и синем.
Бурлит, бушует, безумствует большая летняя ярмарка в Фуа.
А что это творится сегодня у городских стен?
– Пожалуй что не удастся нам нынче войти в этот город, эн Рожьер, – говорит Гастон Беарнский, останавливая коня.
– Отчего же? – возражает эн Рожьер.
– Да оттого, ежели вы этого еще не видите, что у городских стен кипит самая настоящая битва, – отвечает эн Гастон и щурит глаза. – И дабы целыми и невредимыми миновать ворота, придется нам перебить немалое число жителей Фуа, а сие, согласитесь, весьма нежелательно.
Тут эн Рожьер начинает смеяться и вместо ответа направляет коня прямо в гущу сражения.
А сражение завязалось нешуточное, ибо прихожане Сен-Волюзьен-де-Фуа с разнообразным оружием в руках ополчились на прихожан Сен-Жеан-сюр-Арьеж, и вот разят они друг друга яростно и с превеликим рвением. В воздухе густо летают гнилые яблоки и перезрелый виноград; градом сыплются черствые корки; крутясь, проносятся связки прелой соломы; с неприятнейшим чмоканьем настигают жертву комки сырого творога. Только успевай поворачиваться да отворачиваться, не то залепят нерасторопному глаза липкой мякотью, хлопнут гнилью по губам, а по волосам того и гляди растечется зловонная жижа.
Женщины в подоткнутых юбках, сверкая босыми ногами, подтаскивают к месту баталии одну корзину за другой. Высокие корзины, из белого прута плетеные, полнехоньки метательных снарядов. Яркое полуденное солнце масляно блестит на скользкой поверхности подгнивших фруктов, лица бойцов лоснятся от пота, загорелые руки так и мелькают, зубы скалятся в усмешке.
В этой битве женщины ни в чем не желают уступать мужчинам и разят неприятеля без всякой пощады и снисхождения. То у одной, то у другой выбьется из-под белого чепца темная прядка, прильнет ко влажному загорелому лбу… эй, эй, эн Гастон, не стоит зевать да заглядываться, ведь нынче такой день, что и вас не пощадят, ни ради знатности вашей, ни даже ради того, что вы вооружены.
Но вот городской трубач видит со стены великолепную кавалькаду и хватается за свою длинную трубу. А надобно сказать, что труба эта сделана была из звонкой латуни и гулкой вываренной кожи и звуком обладала весьма резким, так что и мертвым при ее реве впору пробудиться, в ужасе выскочить из гробов и мчаться куда-нибудь в ближайший кафедрал в ожидании Страшного Суда.
И вот трубач дует что есть мочи в трубу, и кричит труба во всю свою латунную глотку:
– Эй, вы! Слушайте, добрые жители Фуа! Глядите же, кто едет сюда, глядите, кто поспешает! Это же эн Рожьер де Фуа, наипервейший сеньор во всей округе, наш милостивый повелитель!
И расступаются волны людские, очищается воздух от метательных снарядов, склоняются потные взлохмаченные головы – по единому мановению замерла великая овощная битва! Только и слышно, как тяжко дышат возбужденные бойцы да как чавкают под ногами раздавленные овощи.
Граф де Фуа и его гости входят в город.
Любит город Фуа сеньора Рожьера. И прежде-то праздник по всему городу кипел, а тут, как эн Рожьер с гостями и свитою пожаловал, так и вовсе ярким пламенем вспыхнул, точно на раскаленную сковороду свежего масла плеснули!
А в замке уже готовятся встретить сеньора. Какой великий переполох царит весь день на кухне! Блюда серебряные и миски оловянные так и дрожат, так и подпрыгивают в нетерпении. Трепещут чаши для умывания, и подрагивают плавающие в них лепестки роз. Кружки подскакивают на полках, глиняные горшки разбухают с утробным звуком: у-ух! у-ух! И все прочие тоже в неописуемом волнении: солонки и котлы, сковороды и соусники, вертела и ухваты, шпиговальные иглы и ступка с пестиком, волосяные сита и шумовки, печные лопаты и кухонные ножи… все, решительно все пришли в смятение.
И было от чего трепетать обитателям этой кухни, если учесть какие яства нынче здесь выпекались, варились и жарились! Готовились здесь жареные перепела в соусе из кларета с добавлением винограда и орехов; и фазан с красном вине с сельдереем и сливками; и утка с соусом из вишни, и даже голуби – нарочно для эн Гастона и его брата Гильома де Монкада – потушенные так, как это делают хозяйки в Беарне, с кларетом, душистым перцем и бобами.
Все это кипело и шипело на всякие голоса, испуская из себя золотистый жир и различные соки и источая всевозможные ароматы, один другого соблазнительнее.
О том, что творилось на кухне, вы уже знаете, а теперь посмотрим, что происходит в большом зале.
Весь пол устлан мелким тростником; тут и там в изящном беспорядке разбросаны венки из свежих цветов. Все это благоухает, наполняя воздух приятнейшими ароматами. Повсюду расставлены скамьи, обложенные подушками; длинный стол готов принять нелегкий пиршественный груз.
А яства уже погрузились на роскошные блюда, подобно вооруженным паломникам, взыскующим Гроба Господня, когда те восходят на борт корабля, намереваясь отплыть на восток. Подняты паруса, задул попутный ветер – одно за другим пересекают тяжко груженые блюда большую кухню, поднимаются по лестнице и бросают якорь в столь долгожданной гавани.
Между блюд разложены ветки диких роз и пряной полыни; поданы и ножи, и тарелки, выставлены кубки и кувшины с вином и кларетом.
И вот уже трещат хрящи на крепких гасконских зубах. Ах, любо поглядеть, к примеру, на Гастона, виконта Беарнского, – как смеется он и пьет доброе красное вино, чуть раздувая крылья тонкого горбатого носа. Эн Гастону чуть больше тридцати; второго такого удальца поискать – все Пиренеи перерыть!
И все ж, однако, другие гости эн Рожьера, его друзья и вассалы немногим уступают эн Гастону. И если превосходил их Беарнский виконт в одном, то в другом перед ними, быть может, даже проигрывал. Так, к примеру, эн Гастон не умел слагать стихов.
Пиршество шло своим чередом, и ничто не мешало всеобщему веселью. Хозяин дома и полновалстный господин здешних земель, эн Рожьер де Фуа, исповедовал веру страны Ок и гнал из своих владений поповскую скуку. Даже распятия на стене не признавал, ибо, – как говорит сестра господина графа, достойная и добродетельная домна Эклармонда, – один только вид умирающего Христа способен отбить всякий аппетит даже у гасконца. Поэтому эн Рожьер и распорядился распятие снять, и с тех пор вкушал свою трапезу с неизменным удовольствием.
И вот в зал являются приглашенные музыканты, вооруженные сообразно случаю, – кто четырехструнной виолой, кто волынкой, кто флейтой, – и ну виолить, и волынить, и флейтить для услады собравшихся!
Поскольку гости графа де Фуа изрядно понимали толк не в одних лишь охотичьих да военных забавах, то и завязался между ними весьма любопытный разговор о музыке.
И присуждено было ими виоле с ее тихим мелодичным голосом звание наиблагороднейшего инструмента, хотя для музыканта она является наисложнейшей.
Но в этот момент волынщик, нешуточно обиженный недостаточным вниманием слушателей, смело выступил вперед и заиграл прежалостную мелодию, да такую нежную, что впору изумиться: и как это столь трогательные звуки могут исходить из козьей шкуры, сшитой особым образом наподобие мешка!
Тотчас же многие принялись восторгаться волынкой, ибо если не сам инструмент, то мастерство волынщика, несомненно, заслуживало самой высокой похвалы.
А мессен де Мираваль, один рыцарь из Каркассона, единственно только из желания досадить эн Рожьеру и вызвать его на спор, начал нахваливать чудесного барабанщика, которого видел нынче утром на площади. И даже изобразил, как это все происходило, пробарабанив рукояткой обеденного ножа по столу, по кубку с вином и по большому серебряному блюду, откуда по неосмотрительности плеснул себе на одежду жирным соусом.
Вот так и шла ко всеобщему удовольствию добрая беседа за богатым столом.
Один только аббат Гугон, новый настоятель монастыря Сен-Волюзьен, ничего не ест, ничего не пьет, ни с кем не разговаривает, а только оглядывается по сторонам и все мрачнее хмурит брови. А эн Рожьер, разумеется, это замечает, однако виду – до поры – не подает.
Печеных голубей сменила телятина, шпигованная чесноком; на смену волынщику явился флейтист. Тут аббат Гугон – все так же молчком – берет со стола ветку полыни и, отщипнув от нее несколько листьев, скатывает их в тугие комки и залепляет ими себе уши.
Этого уж не смог снести эн Гастон де Беарн, сидевший по левую руку от аббата. Наклонившись вперед, он громко осведомляется у эн Рожьера:
– Любезный друг, не соблаговолите ли разъяснить одну загадку?
– С превеликой охотой, дорогой виконт, – отвечает эн Рожьер.
– Отчего это святой отец залепил себе уши? Ни особого неблагозвучия, ни особого соблазна в этой музыке я не нахожу.
– Не могу не разделить вашего мнения, мессен. Однако о причинах столь странного поведения лучше бы вам спросить самого аббата.
– Я с радостью последовал бы вашему совету, – возражает тут эн Гастон, – да ведь у святого отца уши залеплены.
И оба сеньора погружаются в молчание, очевидно испытывая чрезвычайное затруднение.
Разумеется, аббат преотлично слышал весь их разговор; да и сами сеньоры об этом, несомненно, догадывались.
Раскраснелся аббат, рассердился, головой затряс, из правого уха полынный шарик выронил.
И начал аббат Гугон поносить все то, что происходило и происходит нынче в Фуа. Везде, решительно везде усмотрел он грех, срамословие, постыдное винопийство, разнузданность, пороки и открытое потворство ереси. Всем от аббата досталось! Все были и уличены, и изобличены, и осуждены!
Как мог, например, господин де Мираваль восторгаться каким-то уличным барабанщиком? Ведомо ли этому сеньору, что барабанщик непременно попадет в ад, где два зловонных беса станут отбивать дробь на его голове, пока череп не треснет и не рассыплется на тысячу кусочков! Да и самому господину де Миравалю следовало бы поостеречься, дабы не оказаться на месте злополучного барабанщика!
Что до волынки – то более осмотрительный сеньор ни за что бы не допустил в своих владениях игру на этом бесовском гуденном сосуде! Разве волынка – с ее дудой и трубкой для подачи воздуха, приделанными к мешку, – не напоминает рогатую голову черта? (Тьфу!)
Обычай же бросаться друг в друга гнилыми овощами – а это происходило в Фуа каждый год перед закрытием большой ярмарки, – аббат назвал бесовским и языческим.
Оно и понятно (продолжал Гугон), отчего в Фуа процветают столь скверные нравы. Достаточно вспомнить старое присловье: каков господин, таковы и слуги…
Теперь уж черед эн Рожьера брови супить.
Из века в век добром уживались между собою благочестивые святые отцы из аббатства и грешные мирские владыки – ведь на всех хватало и синего неба, и черной земли, и прозрачных вод. И оттого крепок всегда был Фуа душой и телом.
И с прежним аббатом, Понсом Амьелем, находился эн Рожьер де Фуа в наилучших отношениях. Да и как, если рассудить, не любить им друг друга, когда оба одинаково привержены были радостям земным – каждый по-своему, разумеется. Эн Рожьер неустанно совершенствовался в веселой науке, а Понс Амьель видел в ней еще одно проявление Господней благодати. Ибо и святой Бернар не считал любовь за нечто греховное и любимейшей книгой Библии избрал себе «Песню Песней».
О том, какую веру разделяет эн Рожьер, аббат Амьель, разумеется, хорошо знал. Однако и на веру катарскую смотрел Понс Амьель сквозь пальцы, сблизив их по возможности более тесно, дабы ничего лишнего, могущего вызвать у него гнев на эн Рожьера, к зрению не проникло.
И эн Рожьер де Фуа весьма чтил за это Амьеля, ежегодно приносил аббатству щедрые дары, на праздники посещал большую церковь с хором, а по особым случаям приглашал аббата к себе. Словом, между монастырем и замком издавна установилась добрая и искренняя дружба. Эн Рожьер не мешал братьям следовать уставу святого Бенедикта и соблюдать все семьдесят два правила монастырской жизни, а Понс Амьель, в свой черед, не препятствовал эн Рожьеру полагать о Боге так, как тому заблагорассудится.
Так оно и шло из года в год, без заминок и трения, пока вдруг Амьель не захворал и по старческой слабости не поддался болезни настолько, чтобы отойти в лучший мир.
Это событие вызвало немалое потрясение и в городе, и в монастыре. С добрым стареньким Амьелем пришли проститься все граждане Фуа и многие мужланы из близлежащих деревень, не говоря уж о соседях-сеньорах. Явились все, за исключением разве что неразумных младенцев, да и тех многие матери принесли на руках.
Два дня ворота обители стояли распахнутыми настежь. Понс Амьель, сухонький старичок с совершенно восковым лицом лежал в гробу, облаченный в простую белую одежду. Женщины преподнесли покойному аббату роскошное покрывало, расшитое рукодельницами за один день и одну ночь; для этого несколько именитых горожанок, запасшись цветными нитками и жемчугом, затворились в одном доме и не разгибая спины трудились над вышивкой, изображавшей крест, увитый цветущими ветками. Меж ветвей порхали разноцветные птицы, а сверху было вышито: «Пастырю доброму». Вот такой превосходный покров укрыл Понса Амьеля.
На третий день при скорбном громе колоколов тело доброго аббата Амьеля было предано земле, а ворота монастыря глухо затворились. Из Каркассона приехал провинциал ордена, дабы наблюдать за выборами нового аббата и по мере скромных сил направлять братию на этом каменистом пути. И в конце концов все сошлись на том, что добрейший Понс Амьель – да не прозвучит сие покойному в осуждение – был чересчур мягок к нерадивым и ослушникам, отчего и миряне, окружающие аббатство подобно бурным волнам, обступающим утлый челн, лишены были строгой духовной опеки. И оттого процветает в Фуа самая зловонная и злокозненная ересь.
И, ужаснувшись осознанному, избрали братья себе главою и наставником достопочтенного Гугона, известного твердой волей и непреклонным характером; этот Гугон еще при жизни прежнего аббата не раз высказывал недовольство слишком большой вольностью, дозволяемой как для души, так и для тела, кои отпускались бродить по собственному усмотрению, без надлежащего надзора.
Провинциал ордена одобрил этот выбор как весьма разумный, утвердил Гугона в новой должности и отбыл в Каркассон, совершенно успокоенный насчет этой обители; отныне она находилась в твердых руках.
Аббат Гугон увеличил подати для конверзов – полумонахов из простонародья, что трудились на монастырских землях к востоку от реки Арьеж; посадил в карцер на хлеб и воду двух братьев, опоздавших к полунощному пению, и велел стесать одну из капителей в монастырском дворике, а именно – ту, что изображала голову фигляра, растягивающего пальцами за углы большой смешливый рот.
Сделав все это, он покинул монастырь и вышел на улицы города, дабы лично измерить всю глубину падения нравов и впадения в ересь, коим, по примеру здешнего сеньора де Фуа, подвержены все горожане.
Как тут не пожалеть об Амьеле, как не всплакнуть о милом старичке, большом ценителе музыки, поэзии, изящного общества!
Не таков аббат Гугон. Обличает и поносит, осуждает и хулит, и не ведает при том ни страха, ни сомнений, и уж давно пора бы ему остановиться, однако священный раж безнадежно завладел новым аббатом, и потому все суровее делаются его речи. Вот уже не сидит он за пиршественным столом, среди прочих гостей, а возвышается посреди зала и громовым голосом живописует муки ада, ожидающие нечестивцев. И черти уж глумятся над теми, кто ныне глумится над установлениями благочестия, и выкалывают и высасывают глаза, что созерцали лишь земную красоту, пренебрегая небесной; и вырывают они внутренности, некогда ублажаемые обильными яствами; и выжигают они похотливым красавицам их упругие груди, и пронзают их раскаленными прутьями; и охотятся бесы на тех, кто прежде сам был увлечен охотою, и загоняют их как дичь, и варят себе в пищу, но те не умирают, ибо страдание их вечно…
Многое еще говорил аббат в притихшем зале, и по щекам молодых дам уже заструились обильные слезы. Как вдруг, разрушая оцепенение ужаса, встал эн Рожьер де Фуа, Рыжий Кочет, сеньор драчливый и славный, и громко крикнул, призывая к себе своих слуг:
– Эй, вы! Взять его!
Тотчас в зал вбегают пять крепких молодцов, они обступают аббата Гугона, и накладывают на него руки, и валят его на пол, потому что аббат ужасно кричит, и отбивается от них руками и ногами, и извивается, пытаясь освободиться, и бьется на полу, как припадочный.
И по повелению эн Рожьера стягивают бедному Гугону за спиною локти, и бьют его под колени, и связывают как кабана крепкой, втрое свитой веревкой, и эн Рожьер сумрачно глядит на все это, стоя чуть поодаль.
А эн Гастон Беарнский и его брат Монкад шумно веселятся и то и дело что-то, давясь от смеха, друг другу на ухо шепчут. Прекрасные дамы перестали проливать хрустальные слезы, на их нежные лица возвратился обольстительный румянец, розовые уста вновь улыбаются, вновь вкушают легкий кларет, темный виноград, сочное мясо, пропитанное ароматом чеснока, орехов и душистого перца.
– Лиходеи! – вопит связанный аббат. – Сквернавцы! Похотливцы! Скверноприбытчики! Памятозлобцы! Еретики! Вы убили Господа!
В этот момент волынщик приникает губами к дуде и подхватывает мешок из козьей шкуры как бы поперек живота, отчего инструмент испускает громогласный звук, по отвратительности не сопоставимый ни с чем. Голос аббата тонет в этом гнусном реве. Эн Рожьер лишь показывает жестом, чтобы аббата унесли и заперли в подвале, что и исполняется расторопными молодцами без малейшего промедления.
Дамы аплодируют волынщику. Зардевшийся и гордый, он принимает от них различные дары и знаки отличия – шарфы, цветы, даже серебряную застежку, а самая юная из дам снимает со своих золотых кудрей венок и торжественно возлагает его на двурогую волынку, признанную сегодня царицей всех музыкальных инструментов.
Избавившись таким образом от докучливого аббата, эн Рожьер де Фуа затеял вот какое развлечение: по его приказанию, в зал внесли большой деревянный ларец, инкрустированный костью и разрисованный красной и синей краской. Там содержалось великое множество пряностей, привезенных с Востока и бережно хранимых в доме. Это было одно из многочисленных сокровищ замка Фуа, и среди гостей эн Рожьера не нашлось бы такого, кто не пожелал бы тотчас все их перетрогать и перенюхать.
Эн Гастон немедля заявил, что у него в Беарне имеется куда более интересное и богатое собрание пряностей и что он, эн Гастон, берется не глядя всех их определить по запаху и вкусу и назвать поименно.
И вот что придумали тогда прекрасные дамы. Эн Гастону со смехом завязали глаза и усадили его в сторонке, а чтобы он не подглядывал, приставили к нему бдительную стражу из двух дам. Сидит себе эн Гастон, обмотанный шелковым шарфом, точно раненый, длинным носом пошевеливает, нижнюю губу покусывает, чтобы не рассмеяться. А дамы тем временем – шур-шур, звяк-звяк, хи-хи – что-то такое таинственное делают. Наконец готово! Одна за другой подходят они к эн Гастону и подставляют ему для пробы ручки. А ручки у них приправлены пряностями, и вот целуя их с превеликой радостью говорит эн Гастон:
– Домна Корица, благоуханная!
– Домна Гвоздика, проникновенная!
– Домна Сарацинский Перчик, злейшая!
– Домна Великолепный Кардамон, обольстительная!
И так далее.
А последняя домна – нарочно, чтобы эн Гастона с толку сбить, – протянула ему для поцелуя руку, ничем не приправленную. И когда приложился к ней эн Гастон губами, то сразу понял, какое здесь задумано коварство. Но и тут не оплошал эн Гастон и, поцеловав эту ручку, вскричал от всей души:
– А вот сия пряность – наисладчайшая, ибо именуется она Прекрасная Дама!
И был эн Гастон увенчан дамами как самый находчивый и куртуазный сеньор.
В таких забавах, ничем более не омрачаемых, проходило время, и лишь под вечер эн Рожьер вновь озаботился мыслями об аббате Гугоне. Тот находился в подвале, накрепко запертый, но отнюдь не безопасный. С аббатом надлежало как-то поступать. Вот уж эн Рожьер разоблачился, оставшись в одной рубахе, вот уж упал он в кровать, потревожив спящих там эн Гастона и его брата Монкада, а сон все не идет. Долго лежит эн Рожьер, рассеянно глядя в стену. А в подвале на тюфяке, хрустя соломой, так же без сна ворочается разъяренный аббат.
В конце концов так сказал эн Рожьер самому себе:
– Клянусь шляпой Господней! Завтра же я разберусь с этими канальями по-своему!
И приняв такое благое решение, эн Рожьер наконец спокойно заснул.
Что ни день – все более уверенно вступает в свои права щедрое, горячее лето. И для всякой твари, для каждого уголка веселой земли Ок нашлись у этого славного сеньора и особый подарок, и особенная ласка: для реки Арьеж – сверканье солнечных бликов, для зеленой травы и густолиственных деревьев – теплые дожди, для города Фуа – яркое синее небо, под которым так весело ведется торговля, и даже для аббатства Сен-Волюзьен кое-что сыскалось.
Невеселое настало время для обители – чего никак не скажешь о Рожьере де Фуа и его друге-беарнце эн Гастоне. Ибо именно эти два господина занимались правильной осадой монастыря. Потеха выходила тем более веселой, что ни осаждающие, ни осажденные не огорчали себя пролитием крови, и, обладая всеми несомненными радостями войны, кампания сия не представляла ни малейшей опасности для жизни. И потому многие из горожан с удовольствием присоединились к достойным сеньорам и умножили таким образом их армию.
Лишь один человек пал жертвой военных действий; собственно, его пленение и ознаменовало собою открытие баталии. Это был аббат Гугон. Он попрежнему томился в подвале по соседству с винными бочками, где мог воочию убедиться в том, что эн Рожьер де Фуа не имел обыкновения отказывать себе в питейных радостях – ибо ежедневно кто-нибудь из слуг спускался туда, дабы наполнить вином объемистый сосуд.
В аббатстве поначалу не слишком встревожились, когда отец Гугон не возвратился под благочестивую сень: немалое количество дел могло задержать нового аббата у его паствы – дерзкой, заносчивой и еретичной. Однако ж никому и в голову прийти не могло, что дела повернутся именно таким плачевным образом. На второй день пленения аббата Гугона решил эн Рожьер, что настала самая пора отправиться в обитель и там вступить с монахами в переговоры, дав им те объяснения, которые он, эн Рожьер де Фуа, сочтет нужными.
С этим намерением и прибыл он в монастырь, взяв с собой только очень скромную свиту.
Навстречу эн Рожьеру вышел эконом, отец Анселин – они с сеньором де Фуа были давние знакомцы. Сложил на животе крупные руки, хмуро на эн Рожьера уставился. Осведомился о делах, похвалил щедрый дар эн Рожьера каркассонскому кафедралу, также намекнув при этом на ветхость убранства большой старинной церкви аббатства. На это у эн Рожьера был припасен ответный намек: мол, при прежнем аббате, покойном Понсе Амьеле, подобные пожертвования текли неиссякаемой рекой, однако ж братия собственными руками воздвигла, можно сказать, преграду на пути столь изобильного потока.
Тут отец эконом взволновался не на шутку, ибо усмотрел в словах эн Рожьера неприкрытую угрозу. А эн Рожьер вдруг сделался холоден и как бы неприступен. И молвил, отбросив всякие церемонии:
– Этого хама и невежу, вашего нового аббата, я велел посадить на цепь, в подвал – пусть себе гавкает. И знайте, что всем вам крепко не поздоровится, коли не изберете себе иного аббата – такого, чтобы во всем походил на Понса Амьеля, а в терпимости к вере катарской и превосходил его.
Услышав такие речи, отец эконом ужасно рассвирепел и принялся стращать эн Рожьера карами небесными и стражей монастырской, на что эн Рожьер только посмеялся. И дав монахам три дня на раздумья, дабы опомнились и решились на перевыборы, эн Рожьер удалился.
Но вот минули и эти три дня, а монахи стояли на своем и даже прислали в замок молодого брата с письмом, в котором содержалось требование немедленно освободить аббата Гугона и впредь не вторгаться в дела, непосудные светской власти.
После такого открытого вызова эн Рожьер раздумывал и колебался недолго и вскорости принял новое решение, а эн Гастон, усмотрев в происходящем немало потешного, горячо поддержал эн Рожьера в его намерении.
Так и вышло, что монастырская братия оказалась отрезанной от всего прочего христианского мира, а сам монастырь превратился в подобие острова, окруженного со всех сторон опасным и во всех отношениях бесплодным житейским морем.
Осада велась следующим образом. Часть армии под предводительством эн Гастона блокировала доступ к монастырю со стороны западных ворот, обращенных к городу Фуа. Два конных разъезда, выслеживая возможного врага, постоянно бродили по окрестностям, то и дело немилосердно преследуя крепеньких, пышущих здоровьем крестьянских девок, которые во множестве попадались на пути. С востока дорогу, ведущую к монастырю, неустанно стерег Гийом де Монкад. А эн Рожьер де Фуа то и дело предпринимал решительные штурмы монастырских стен, для чего в сопровождении трубача приближался к ним вплотную, громким ревом трубы вызывал отца эконома и вступал с ним в длительные пререкательства.
Жаль, не всякую музыку возможно записать, и оттого стоило бы, конечно, постоять за плечом у эн Рожьера да послушать, какие тенсоны исполняли они с отцом экономом! Ведь и трубач не всякий раз оставался в стороне от их беседы. Напротив, он то и дело вступал в нее и поддерживал своего господина со всевозможным усердием.
– Как ты дерзнул, богохульник, посягнуть на самого Господа! – кричал эконом, раздувая грудь и краснея от гнева.
– Отнюдь не на Господа я посягнул, но всего лишь на дурака Гугона, набитого болвана, ханжу и лицемера! – отвечал эн Рожьер.
А трубач вторил оглушительным:
– Бу-у! Бу-бу-у-у!..
– По твоей милости многие братья уже слегли в болезни!
– Поверь, я искренне скорблю о них!
– У-у-у! Бу-у-у!
– И знай, что у нас заканчиваются припасы! Выдержать же лютый голод не всякому под силу!
– Так избавьте себя от ненужных страданий! Изберите другого аббата!
– У-у-у!
– И знай: каждая смерть падет на твою голову! Своими руками ты осудил себя на адские муки!
– Одумайтесь, упрямцы! Спасите мою душу, если не хотите спасти свое тело!
– Бу-бу-бу-бу!
– Никогда власть духовная не склонит выи пред властью светской, суетной и преходящей!
– Пощадите себя! Ведь все вы умрете от недостатка пищи!
– Что ж! Лучше смерть, чем столь жестокое посрамление! – кричал напоследок отец эконом, с каждым разом все менее уверенно, а труба насмешливо передразнивала почти человечьим голосом, вкрадчиво и сипло:
– Ба-а-а…
Вот так, без всякого успеха, проходили переговоры, а между тем время не стояло на месте и, нужно заметить, это было аббатству не к выгоде. Голод за монастырскими стенами усиливался. Между монахами стали уже появляться недовольные тем упорством, с каким братия противилась воле эн Рожьера.
И в самом деле. Если вдуматься, чего такого невозможного добивался от них эн Рожьер? Ведь не от веры чистой, католической повелевал им отрекаться! Хотел лишь одного: чтобы избрали они по доброму согласию с сеньором нового аббата из своей же среды – такого, чтобы мил был не только здешним монахам, но и светским владыкам. И ничего позорного в том многие уже – спустя месяц осады – не находили.
И настал наконец день, выпавший на самую середину августа, когда ворота аббатства широко распахнулись для победителей, и те с великим торжеством вступили на священную почву. Впереди шагал трубач и, через каждые семь шагов останавливаясь, оглашал воздух громким ревом трубы:
– А-а-а!
Следом, с длинными треугольными и раздвоенными флажками у стремени, колыхаясь многочисленными кистями и бахромой, звеня бубенцами одежды, ехали конными пажи – числом в шесть человек.
За ними на боевых конях бок о бок выступали сами сеньоры – эн Рожьер де Фуа, эн Гастон де Беарн и эн Гийом де Монкад, все трое с видом мрачным и неприступным – впрочем, все это было напускное. Эн Рожьер смотрел прямо перед собой как бы невидящим взором; эн же Гастон бросал по сторонам быстрые взгляды – отчасти любопытные, частью угрожающие. По правде сказать, его разбирал смех.
Замыкали шествие семь пеших копьеносцев, взятых более для устрашения, и большая крытая телега с продовольствием, предназначенным для исцеления страждущих и воскресения умирающих. Чего здесь только не было! Ни на что не поскупился эн Рожьер, всего припас от души – и светлого кларета, и фруктов, и свежего хлеба, и свиных окороков, и битой птицы. Все это добро прямым ходом было отправлено на кухню.
В зал заседаний капитула были приглашены лишь трое знатных сеньоров; прочие же расположились кому где заблагорассудится, и каждый нашел себе место отдохновения сообразно своему нраву – кто на травке в монастырском садике, кто поблизости от монастырской кухни, к которой примыкала просторная трапезная.
По счастью, зал заседаний капитула, куда вместе с сеньорами направились монахи, располагался в достаточном отдалении от кухни, иначе многие святые братья незамедлительно начали бы терять сознание от всех тех сытных, чарующих запахов, которые вскоре понеслись от котлов и сковородок, радостно приявших в свое лоно столь долгожданную, столь благословенную ношу: репу, горох, лук, вымоченное в виноградном уксусе и шпигованное чесноком мясо, потрошеных куропаток, заранее нафаршированных зелеными яблоками, и истекающего жиром гуся, которого распластали на сковороде особым образом, придавили специальной медной крышкой и прижали для крепости тяжелым камнем, дабы птица обжарилась до хрустящей корочки.
Вот какие дела творились на кухне. В зале же заседаний происходило нечто совсем иное.
Для начала эн Рожьер отказался занять кресло председательствующего, однако и отцу эконому, который временно возглавлял осиротевшую братию, руководить собранием не позволил. А вместо этого произнес следующую речь – превосходную и хорошо продуманную:
– Любезные господа! Я счастлив знать, что наше досадное разногласие будет вскорости совершенно разрешено и обращено в свою противоположность, и вы не станете более терпеть мук голода, а я буду избавлен тем самым от мук сострадания…
Говорил – а отцу эконому так и слышалось:
– Ба-а-а… У-у-у…
И вот, залепив уши слушателей медовым воском словес, перешел эн Рожьер наконец к сути дела:
– Лишь одного человека вижу я ныне достойным занять место распорядителя нашего собрания. Лишь он один сможет указать нам подходящую кандидатуру на аббатское кресло и только он обладает и властью и авторитетом утвердить нового аббата в его должности.
(«Бу-у-у…»)
Собрание шевельнулось и затихло – кого же укажет эн Рожьер?
А эн Рожьер воздел руки и возгласил:
– И это – наш досточтимый Понс Амьель!
Тут все страшно зашумели и принялись наперебой возражать эн Рожьеру, напоминая тому о главной причине, по которой Понс Амьель никак не сможет принять участие в выборах нового аббата – ведь святой отец уже почти два месяца как умер!
Однако не таков был эн Рожьер де Фуа, чтобы его можно было смутить подобной мелочью. Он продолжал настаивать на том, чтобы выборами руководил Понс Амьель и никто иной.
Постепенно эта мысль перестала уже казаться такой нелепостью, как поначалу, и уже нашлись у эн Рожьера сторонники. В самом деле, разве мы не обладаем твердым знанием о том, что души бессмертны и человек, умирая телесно, вовсе не покидает нас? И разве выдающиеся праведники и святые не продолжали духовно окормлять паству и спустя много лет после гибели своей бренной телесной оболочки? И благодаря таким рассуждениям многие начали склоняться к тому, чтобы призвать Понса Амьеля и умолить его дать своим заблудшим братьям надлежащие руководство и наставление.
Таким образом монахи, а вместе с ними и сеньоры, отправились в собор и там, помолившись и возжегши свечи, осторожно подняли каменную плиту, под которой покоился гроб с останками Понса Амьеля. В это время над монастырем разнесся колокольный звон – однако колокола затрезвонили не сами собою, как могло бы показаться поначалу, а при помощи звонаря, который рассудил, что так оно будет вернее.
Маленький гробик с телом старого аббата был с благоговением поднят из мрачных могильных глубин и поставлен на плиты пола. Затем, при всеобщем преклонении колен, с него сняли крышку.
Конечно, от двухмесячного лежания в гробу старенький Понс Амьель изрядно попортился, однако нетленность мощей, как известно, вовсе не является обязательным условием для признания усопшего святым. А Понс выглядел таким беззащитным, таким трогательным в своем расшитом саване, что у многих на глаза навернулись слезы. Сейчас никто не решился бы утверждать, будто старичок аббат не был блаженным и даже, быть может, святым. И потому, непрерывно окуривая гроб благоуханными смолами, его понесли в зал заседаний и водрузили там стоймя, прислонив днищем к креслу.
И стал смотреть Понс Амьель из гроба на братьев своих – слепо, но вместе с тем проникновенно.
Под этим взором ежились монахи, ибо устремлен он был прямо в душу, где невольно заворошилось вопрошание: как дерзну я, червь земной, решать, прощать, осуждать и голос возвышать?
А эн Рожьеру только того и надобно, чтобы братия в смятение пришла. Сам-то он вместе с эн Гастоном и кадильщиком весьма осмотрительно занял место за спинкой кресла. Если ему и приходилось с наибольшей отетливостью обонять покойного аббата, то, во всяком случае, это вполне искупалось избавлением от созерцания святого отца.
Итак, все расселись сообразно возрасту, сану, заслугам и обычаю и, под главенством усопшего Понса Амьеля, приступили к выборам.
Дело это оказалось долгим и трудным, ибо угодить строгим нравственным принципам Понса Амьеля было нелегко. Один брат не устраивал его в силу унылости характера, другой никак не мог руководить обителью, ибо чурался любых мирских радостей, третий никуда не годился вследствие свирепой нетерпимости к инакомыслию, четвертый ненавидел женщин, усматривая в них сосуды греха и источники всякого рода падения – уже одно это делало его совершенно неподходящей кандидатурой.
Все свои мнения покойный Амьель высказывал решительным тоном, а в последнем случае даже подпрыгнул в гробу – так возмутило его предложение избрать аббатом брата-женоненавистника.
Все это выглядело более чем убедительно, а то обстоятельство, что Понс Амьель говорил голосом Рожьера де Фуа, никого не сбивало с толку: на собрании не нашлось бы ни одного брата, который не был бы уверен в том, что общается непосредственно со святым отцом.
Так протекали выборы своим чередом, и многие уже начали уставать от долгих прений. К тому же мысль о яствах, что готовились в это самое время на кухне, невольно проникала в умы, приводя их все в большее смятение.
Наконец молвил Понс Амьель:
– Вижу я, что вы, возлюбленные, уподобились стаду овец, потерявших пастыря и повстречавших волка. И еще уподобились вы стае голубков, вдруг замеченных коршуном. И также уподоблю вас пугливым оленям, бегущим от жестокосердого охотника. Вы – как мыши робости, стерегомые котом соблазна! Ныне же отриньте робость и нерешительность, прислушайтесь к вашим сердцам! Ищите в своей среде того, кто открыт свету земного солнца, теплу земного хлеба, радости земного смеха! Ибо в радости – истинная добродетель и любовь к Господу, Творцу сущего! И разве не сказано псалмопевцем: веселитесь, играя на лютне?
– На гуслях, – поправил отец эконом.
Эн Рожьер, стоя за креслом, поморщился.
– Восславим Творца! – вскричал он и снова встряхнул гроб. Аббат опасно накренился, грозя вывалиться на пол и рассыпаться, но его, по счастью успели подхватить и поддержать со всевозможным почтением.
– Восславим! – отозвались братья.
И настала тишина. Лишь у самого выхода кто-то украдкой кашлял, удушаемый дымом курильницы.
И вышел вперед один молодой брат и безмолвно повергся во прах перед гробом. И вопросил его Амьель голосом эн Рожьера:
– Кого предложишь ты на мое место, сыне?
И ответил молодой инок, не поднимая склоненного лица:
– Себя, святой отец.
Тут повскакивали, забыв приличия, сразу многие братья и громко закричали, перебивая друг друга:
– Как такое возможно, святой отец?!
– Он слишком молод, святой отец!
– У него нет заслуг!
– Он грешник с головы до ног!
– Обжора!
– Выпивоха!
– Прелюбодей!
– Он слишком красив плотской красотой!
– Он суетен!
– Он дерзок!
– Ни усердия, ни смирения!
– Любит поспать!
– Никуда не годится!
Эн Рожьер выглянул из-за гроба, желая разглядеть простертого на полу монашка, однако увидел лишь груду тряпья. И велел:
– Встань.
Тот поднялся.
И впрямь оказался смазлив. И искры в глазах дерзкие, и рот большой, усмешливый. Ни во взгляде, ни в осанке не заметил эн Рожьер у него робости.
– Как зовут? – спросил эн Рожьер.
– Брат Ренье, святой отец. Да вы ведь меня знаете, – без тени смущения отвечал молодой инок. – Разве не меня высекли за кражу двух кувшинов монастырского кларета? Разве не я провел месяц в заточении после того, как самовольно отлучился из обители и был схвачен в объятиях веселой женщины? Разве не у меня нашли в келии копченую свиную ногу, за что продержали три седмицы на хлебе и воде?
– О, я знаю тебя! – отозвался эн Рожьер, убедившись в том, что слова монаха – чистая правда (ибо вокруг кивали, ворчали и хмурились). – Думаю, ты сможешь достойно руководить обителью. Приблизься же, дабы я вручил тебе мой перстень.
Не следует думать, будто эн Рожьер плохо понимал, что делает, и нарочно ставил во главе обители человека грешного, бойкого и летами неподобающего. Ибо как нельзя лучше знал, сколь быстро набираются ума, зрелости и твердости юнцы, получившие главенство над другими людьми. В поведении же брата Ренье чуялось эн Рожьеру знатное происхождение – в чем, кстати, он тоже не ошибся.
И надел эн Рожьер кольцо, отобранное у аббата Гугона, на палец брату Ренье, а после, чудесно преобразившись из Голоса и Воли покойного Понса Амьеля обратно в сеньора де Фуа, первым преклонил колени перед новым аббатом и приложился губами к его перстню. Примеру эн Рожьера последовали и эн Гастон, и брат его Монкад, а затем, один за другим, все монахи.
И с торжественным пением Te Deum и Veni Spiritus подняли они над головами открытый гроб с телом премудрого Амьеля, который и после смерти сумел вернуть обители мир, покой и процветание и дал ей достойного пастыря, успешно разрешив все раздоры со светской властью, и направились, ликуя, к собору, где и погребли Амьеля со всевозможными почестями и благодарственными молитвами.
5. Неравный брак
Город раскинулся на правом берегу Гаронны – широкой, быстрой, холодной. Прозрачные зеленые воды до позднего вечера источают свет.
В излучине реки, отдалясь от Тулузы, – как бы разглядывая ее на расстоянии вытянутой руки – Нарбоннский замок, старая цитадель готских королей.
Там засели франки – Монфор и его воинство. Его родичи, соратники, друзья.
А Тулуза – вон она, мелькает в узких окнах донжона, только голову поверни. Подглядывает да вертится: красноватый кирпич, серая глина, многоцветье рынков на неожиданных солнечных площадях, свет и тьма соборов. Вечно ускользающее обаяние Тулузы. Вечное протекание меж пальцев руки, одетой в железную перчатку.
Для Монфора «да» всегда означало «да» и было окрашено в белый цвет. Тулуза же различала столько оттенков и полутонов, что «да» в ее устах сплошь и рядом оборачивалось своей противоположностью.
И знали франки, что сидят посреди чужого народа, а прекрасная дама Тулуза только и ждет случая вцепиться им в горло.
Вон там, за открытым пространством, какое нарочно оставлено между городом и цитаделью, – там, за красноватыми кирпичными стенами, за тяжелыми деревянными ставнями, в вечных сумерках ущельев-улиц, – за каждым окном засело, таясь, вероломство.
И насмехалась Тулуза над франком Монфором, дразнила, в руки не давалась, в то же время постоянно оставаясь перед глазами. Вожделенная, недостижимая.
Да и кто, увидев ее хоть раз, не пожелал бы иметь ее своей?
…Ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные; она – пламень весьма сильный…
Гюи де Монфор возвращался из Рима. Вез весть брату.
Громадную, будто сундук с приданым, где и чаши медные, и кубки серебряные, и кольца золотые, и одежды, от драгоценных камней тяжелые.
Вез он брату земли и титулы.
Другого отяготила бы такая ноша; Гюи де Монфору была она легка. По правде сказать, всю дорогу до Тулузы мчался сломя голову и лишь завидев башни Нарбоннского замка – приостановился. Вперед вестника погнал; сам же двинулся как бы неспешно.
Вестник давно скрылся, а Гюи, нетерпение в себе удерживая, все повторял в мыслях заранее вытверженную фразу. И улыбался.
А гонец уж ворвался в Нарбоннский замок, всполошив монахов и кур. Будто демоны его настигали, за пятки хватали, так торопился. Завопил на весь двор, с седла пав:
– Едет! Мессир Гюи едет! Возвращается!.. Ох…
Гонца подобрали, заботливо отерли ему лоб и щеки от пота. И пошатываясь ушел отдыхать, ног под собой не чуя от волнения и усталости.
Гюи приближался без суеты. Со стен видели, как едет по полю, пыля, львиным знаменем ослепляя.
Граф Симон своего брата хорошо знал. Коли затеял Гюи гонца посылать, о своем приезде объявлять загодя, стало быть, причины у него есть встречу с братом оттягивать.
И потому не помчался навстречу, как хотелось, а вместо того облачился в камизот белый и сюркот красный и возложил себе на шею золотую цепь.
А графиня Алиса повелела прислуге, чтобы меньшим детям умыли лица и одели их сообразно.
И одели десятилетнего Робера в красное, а маленького Симона-последыша в синее. Родного же сына Гюи, именем Филипп, облачили в белое.
А дочери Симона – Амисия, Перронелла, Лаура – те первыми в большой зал донжона проникли. Это чтобы не пропустить ничего. Это чтобы ни одна песчинка в часах без них не упала.
На заднем дворе (едва успели сыскать по отцову приказу!) бились на мечах старшие сыновья графа Симона – Амори, наследник, первенец, и второй, Гюи, – тому едва минуло семнадцать лет.
Между братьями почти десяток лет разницы. Но дайте только срок. Вот минет еще лет пять – и изгладится это неравенство. И тогда идти им рука об руку, соединив жребии в один.
Гюи народился после трех дочерей и угадал – и обличьем, и нравом – в своего дядю и крестного, чье имя носил. Амори же был с отцом, с Симоном, сходен. Только наживать себе врагов, как это делал его отец, еще не наловчился.
Если бы не велели им сейчас же бросать забавы, до полусмерти загонял бы старший брат младшего. Ибо Гюи был упрям и в поражении не сознавался.
Так и собрали всех родичей в донжоне, чтобы ждать им всем вместе.
И вот понеслись от ворот Нарбоннского замка голоса – сразу много, вразнобой. Загремели копыта, хохот поднялся. Что-то звякнуло, будто выронили или бросили щит.
В окно Симон видел, как его брат Гюи спешивается, как конюх уводит лошадь и что-то ворчит себе под нос, мотая головой.
Гюи де Монфор, сбросив пыльный плащ на руки подбежавшему слуге, уходит в свои покои. Слуга забегает сбоку, спрашивает о чем-то. Гюи кивает.
Симон ждет.
В донжоне собираются, один за другим, рыцари, дамы и монахи.
За окном, на дворе, гомонят солдаты. Пронзительно взвизгивают женщины – вишь, вьются.
Дети, втайне изнывшись, теперь затихли подле дамы Алисы – смирные-смирные.
Наконец долгожданные шаги. Гюи неторопливо поднимается – чисто умытый, одетый в белое. Всё как задумывалось еще по дороге из Рима.
И дама Алиса с трудом удерживает в груди изумленный вздох: никогда еще не видела она этого своего хмурого, молчаливого родича таким сияющим.
А Гюи де Монфор нарочно длит мгновение.
Симон – недвижим, как статуя.
Медленно склоняется перед ним Гюи. Время растягивается, становится густым. Всякий жест, всякое слово вязнет, исполняясь особенной тяжести.
Звучным голосом произносит Гюи де Монфор – будто жемчужины одну за другой перед братом выкладывает (сколько раз еще на корабле себя натаскивал – как стоять да как говорить!):
– Приветствую вас, господин мой и брат, граф Тулузский и Лестерский, герцог Нарбоннский, виконт Безьерский и Каркассонский!
Ибо такова была весть, которую вез он из Рима.
Симон под загаром бледнеет.
Симон встает, подходит к брату.
Гюи улыбается от уха до уха.
– Свят Бог на небе, – говорит он, смеясь, – и есть свет правды на земле. Шесть лет трудились вы неустанно и вот – не напрасны были потери.
Помедлив мгновение, Симон крепко обнимает брата.
– Здравствуйте, мессир, – только это и говорит Симон. – Как же я рад, что вы, наконец, вернулись.
Амори – старший сын, наследник – глядит на отца во все глаза. Восхищенно, влюбленно, почти молитвенно. В груди ширится неистовый восторг.
Губы Амори шевелятся, привыкая: «Граф Тулузский… виконт Безьерский…»
Родные, соратники, друзья – те вокруг разом принимаются шуметь, смеяться, весело переговариваться, друг друга поздравлять.
И дама Алиса поднимается со своего места, чтобы низко поклониться своему супругу.
И Симон перед всеми целует ее руку.
Лучшей пары еще не видано, чем граф Симон и Алиса де Монморанси: оба полны зрелой силы, оба красивы, статны, широки в плечах и поясе.
Кругом кричат здравицы. Свят Бог на небе! Есть свет правды на земле! Увенчан Монфор победой, и труды его не напрасны!
И дочери – Амисия, Перронелла, Лаура – бьют в ладоши и смеются, радуясь на отца и мать.
И только ближайшим – Гюи и Алисе – открыто, что для Симона так и не наступило праздника.
Пустыми, мертвыми глазами смотрит Симон – куда-то в сторону, мимо жены, мимо любимого брата.
Шесть лет он трудился, проливая кровь. Шесть лет битв, ненависти, предательств. Шесть лет…
Счастливая весть задыхается, погребаемая под пеплом усталости – не разгрести, не отвести руками! Радость выцветает, блекнет.
Шесть лет.
Как можно громче произносит дама Алиса:
– Возблагодарим же Господа!
– Аминь, – отзывается Гюи.
И Симон, чуть запоздав:
– Аминь.
Точно камень опускается на плечи симонова брата.
Вот уж в ком-ком, а в недоброжелателях и врагах граф Симон никогда недостатка не ведал. Вся жизнь, почитай, в том и проходит. То один, то другой берется за непосильную задачу – загнать в гроб Симона де Монфора.
Да только не выстроен еще такой гроб, куда удалось бы впихнуть Симона. Богат ростом Монфор, костью широк и обилен.
И вот, когда Симон разогнал по углам врагов своих – пускай, коли не прошла еще охота, в пустом воздухе зубами клацают! – выбрался нежданно один, допрежь союзник, а ныне, по неведомой прихоти, новый враг.
Выступил вперед и преградил пути Симону архиепископ Нарбоннский Арнаут, хрупкий с виду старик.
– Нарбонна остается свободной, – заявил он во всеуслышанье.
Симону тотчас же услужливо донесли: так, мол, и так, мессир граф, архиепископ Нарбоннский Арнаут говорит: «Нарбонна остается свободной».
Симон уточнил:
– «Свободной»? Под властью, что ли, мессира архиепископа?
– Видимо, так, мессир граф.
– Я ему покажу свободу, – зарычал Симон, не слишком, впрочем, ярясь: не испугался. – Будет ему полная свобода с оторванными яйцами…
И спешно собрался в Нарбонну.
Уже в седле сидел и сотня конников за спиной томилась ожиданием, когда подошел к Симону его брат Гюи.
И сказал Гюи де Монфор своему властительному брату:
– Возвращайтесь быстрей, мессир, ибо, сдается мне, сейчас не лучшее время, чтобы ехать в Нарбонну.
Подбирая поводья, отозвался Симон удивленно:
– Отчего же не время?
– Оттого, что лучше вам поспешить в Иль-де-Франс, к королю, и получить в ленное держание те земли, которые вы завоевали мечом.
За левым плечом Симона неподвижен знаменосец. Держит большое тяжелое знамя с золотым монфоровым львом, упирая в стремя толстое древко. Знамя висит, лев на знамени спит, завернувшись в широкие складки.
Симон говорит своему брату Гюи:
– Я лучше вашего знаю, что мне делать.
– Разумеется, – отзывается Гюи.
Покладистый младший брат графа Монфора.
Однако от брата не отходит и дороги ему не освобождает.
Симон говорит нетерпеливо:
– Что же, по-вашему, мне уехать сейчас в Иль-де-Франс, а вам оставить эту змею, архиепископа Арнаута?
Гюи молчит.
Симон слегка наклоняется к нему с седла.
– Брат.
Гюи поднимает лицо.
Симон повторяет:
– Брат, да вы, никак, боитесь, что в Нарбонне я убью архиепископа Арнаута?
Гюи говорит:
– Да.
– А что голой задницей на ежа сяду – этого не боитесь? – громко спрашивает Симон.
Знаменосец шумно фыркает. А Гюи отвечает Симону без улыбки:
– Нет, мессир, этого я не боюсь.
– Ну так посторонитесь! – кричит Симон, выпрямляясь в седле.
Гюи отходит, дает ему проехать.
Неторопливо шествует конь, унося Симона к открытым настежь воротам Нарбоннского замка – тем, что обращают выходящего спиной к Тулузе. Лев на знамени чуть шевелится, просыпаясь.
– Да поможет вам Бог, брат, – в спину уходящему говорит Гюи де Монфор.
Симон уже не слышит его.
А Нарбонна и не бунтовала вовсе – выжидала, наблюдала. Старик архиепископ бушевал вовсю. Метал молнии и громы.
Кричал с кафедры:
– Нарбонна остается свободной!
Город слушал.
– Свободной! – надрывался архиепископ Арнаут.
…прислушивался…
– А если только Симон де Монфор посмеет прийти сюда и захватить власть в Нарбонне, то я…
…обдумывал услышанное…
– Я отлучу его от Церкви! – гремел Арнаут.
Тут город понял, что старенький архиепископ спятил, и прислушиваться перестал. Ибо невозможно представить себе большей нелепицы, чем Симон де Монфор, отлученный от Церкви.
А архиепископ Арнаут продолжал бушевать и кричать, и ногами топать, да так громко, что его даже в Риме услыхали и пальцем оттуда пригрозили. Чтобы и сам не позорился, и святую нашу мать католическую Церковь полной дурой не выставлял.
А тут как раз подошел к Нарбонне Симон де Монфор и с ним сотня копейщиков да юноша-оруженосец, настороженный и грозный.
Симон вошел в Нарбонну.
(«…Отлучу! Не сметь!..»)
Прошел по улицам, вверх от ворот, к дворцу виконта Нарбоннского, к кафедральному собору, к центральной площади.
(«…Остается свободной!..»)
И дальше, дальше, по улицам, по улицам, и остановился как раз перед резиденцией епископа.
На пороге, дерзко глядя в лицо сурового графа, стоял старик архиепископ. Раздувался от ярости. Раскинул руки крестом, выпятил вперед чахлую грудь.
– Стой, богохульник!
Симон остановился, махнул двум сержантам. Те спешились, подбежали.
– Откройте мне двери, – велел Симон.
– Да, мессир, – отозвался один из сержантов; второй же просто кивнул.
Архиепископа аккуратненько взяли за локотки, подняли и унесли. Арнаут потешно болтал в воздухе ногами – вырваться норовил.
Симон без улыбки смотрел ему в спину. И юноша-оруженосец, слегка приоткрыв рот, провожал архиепископа глазами.
Коней отвели на архиепископские конюшни. Бессовестно обобрали хозяйских лошадей, засыпав овса графским. И направились в резиденцию, где бесславно сгинул мятежный архиепископ Арнаут.
Через час знамя Монфора развевалось над Нарбонной, а граф, его младший сын Гюи и десяток сержантов уничтожали архиепископское вино.
Нарбонна, не молвив худого слова, присягнула Монфору.
Это было хорошо.
Наконец наступает время покоя. Долгий день близится к завершению, разговор перетекает с одного поучительного предмета на другой.
Над Нарбонной тихо угасает день.
Зима в этом году была мягкая, да и она на исходе; земля полна ожидания лета – вот-вот наступит оно после бурного взрыва цветов. Здесь зацветает всё разом, чтобы быстро отцвести, освобождая место плодам.
Симон рассеянно передвигает на доске шахматные фигуры. Против него – меньшой сын, Гюи.
Немного внимания уделял прежде Симон этому своему сыну – скучноват казался, мал и неказист. В минувшем году сделал своим оруженосцем.
К удивлению отца, Гюи явно обыгрывает его. Впрочем, Симон подвыпил.
…И вот, разрушая очарование тихого предвесеннего вечера, в зал всовывается встревоженная сержантская морда: усы торчком, борода клочком.
– Мессир!
После такого «мессира» Симон обычно велит подать кольчугу и седлать коня. Граф отодвигает шахматы в сторону, недовольно глядит в туда, откуда вот-вот прольется дурная весть.
– Что еще?..
– Мессир, архиепископ Арнаут сбежал!
– Очень хорошо, что сбежал! – рявкает Симон. – Неплохо бы ему сбежать куда-нибудь подальше от Нарбонны!
– Арнаут укрылся в часовне, – сообщает сержант.
– Да и хрен с ним, – говорит Симон.
– Он отлучил вас от Церкви, – выпаливает сержант и выжидательно втыкается взором в грозного графа: как?.. Что теперь скажет Монфор?..
Опрокинув доску с шахматными фигурками, Симон разражается хохотом.
Он хохочет так, что слезы выступают у него на глазах. Скоро вслед за ним смеются все, даже неулыбчивый Гюи, младший сын.
– Ох, – выговаривает, наконец, Симон, отирая лицо широкой ладонью. – Ну, потешил. Не думал, что так насмешит. Отлучил?.. Что, правда – отлучил?
– Да, мессир. – Теперь сержант позволяет себе ухмыльнуться. – Произнес анафему. Запретил вам, мессир, входить в Божьи храмы, получать разрешение от грехов, естественно. Интердикт. – Последнее слово дается сержанту не без труда. – Запрещено также служить в ваших владениях торжественные мессы, звонить в колокола и…
– Иди-ка выпей, дружок, – перебивает его Симон. – А что – епископ, говоришь, в часовне засел? И хулу на нас изрыгает? И даже анафеме предал? Ну-ну… Иди к нам, выпей.
Сержант, от изумления выкатив глаза, пьет. Прямо из графских рук, не догадавшись забрать у него кувшин. Симон, забавляясь, довольно ловко – для пьяного – льет вино из кувшина в сержантскую глотку. В конце концов, оба остаются в красных пятнах от пролитого, но ни сержанта, ни графа это не тревожит.
Наутро Симон вызвал к себе нескольких священнослужителей и, не дав им даже рта раскрыть, приказал по всему городу в колокола звонить и торжественную мессу везде служить.
– Не всякий день Нарбонна получает нового суверена, – пояснял при том граф. Усмехался. Озорство затеял, не иначе.
Священнослужители ощутимо забеспокоились.
– А как же интердикт?.. А как же архиепископ Арнаут?..
– Он где? – спросил Симон. – Все еще в часовне?
– Да, мессир.
– Вот пусть в часовне и сидит, – распорядился Симон. – Принесите ему туда поесть, что ли…
К величайшему облегчению архиепископа, Монфор скоро отбыл обратно в Тулузу, сопроводив свой отъезд новым оглушительным звоном, громом копыт, грохотом, ревом труб, пением Veni Creator и большими толпами народа на улицах.
Нарбонна глазела, разинув рот: надо же, сколько шума исторгает этот большой, чужой, этот страшный человек!..
Только когда Симон удалился, выбрался Арнаут из часовни. Хмурый, сломленный. Плюнул себе под ноги и оставил Монфора пока в покое. Немало иных охотников сыщется – ломать зубы о толстую шкуру франка.
А Монфор ехал к Тулузе. К своей Тулузе.
Сидел в высоком седле, привычно развалясь, подставлял солнцу начавшее уже бронзоветь лицо. Улыбался.
Миновали Каркассон.
Спустя несколько дней прошли Кастельнодари.
В начале марта Монфор был в Тулузе.
Он был дома.
Тулуза молчала. Ей бы высыпать толпами на улицы, ей бы убраться цветами, встречая своего нового графа, – а она каменно молчала. Деревянно молчала. Глиняно.
Монфор сжал пальцы в кулак – понял все сразу, не дурак ведь был. Повернул коня. Неспешно проехал по полю, отделяющему город от Нарбоннского замка. Приблизился к заранее уже открывающимся воротам.
Тулуза безмолвно смотрела ему в спину.
…Вот Симон скрылся в воротах. Тяжелые створы медленно затворились. Граф прибыл.
Граф потребовал, чтобы для него согрели воды.
Граф потребовал сытного обеда.
Еще граф потребовал, чтобы его оставили в покое.
Едва только передохнув после Нарбонны, Симон тотчас же разослал герольдов к городским старшинам и консулам. Назначил тем срок явиться в Нарбоннский замок для присяги.
Консулы слушали герольдов, печалились. Вот и все. Все кончено. Где-то наш добрый старый граф Раймон… Где-то его несчастный юный сын… Никогда больше не будет в Тулузе Раймонов. Будут теперь сидеть в Тулузе сплошь Симоны да Амори.
Присягать Монфору очень не хотелось, но не очень-то попрешь против папы римского, против короля французского, а главное – против Симона. Симон-то здесь, под боком!..
И потянулись консулы и старшины, горюя, в Нарбоннский замок, как им было приказано. Несколько бравых сержантов из числа симоновой свиты тщательно следили за тем, чтобы все шло ладно да складно.
Лучших людей Тулузы встречают в Нарбоннском замке с превеликой помпой, с трубами, со знаменами.
Граф Симон – в белом, его жена Алиса – в белом и синем, его брат Гюи – в красном, его старший сын Амори, как и сам Симон, ослепительной белизной сияет.
Епископ Тулузский Фалькон – в праздничном облачении, окруженный монахами. Крест в руке Фалькона сверкает, будто живой.
И еще тут прекрасные женщины из семьи Монфора и других знатных и славных семей – все роскошно убранные, в шелке и атласе, в золоте и серебре. И рыцари из числа друзей графа Симона.
Большой зал Нарбоннской башни залит светом. Ради торжественности даже факелы зажгли, хоть и стоял еще день.
В часовенке, что стоит внутри стен Нарбоннского замка, тонко и весело трезвонит колокол.
Консулы и старшины помалкивают, жмутся по стенам, переглядываются. Будто украли что. Выжидают.
Чего? Чего им ждать? Что с неба спустится сейчас старый граф Раймон, что разгонит он чужаков и, улыбаясь во весь свой большой веселый рот, скажет: мол, шутка все это, дурной сон, а вот давайте-ка мы с вами заживем по-прежнему?..
Пустые всё мечтания. Не будет больше в Тулузе Раймонов…
Один за другим опускаются консулы на колени.
Симон стоит над ними. Ждет.
Присягают – а что остается делать? – Монфору. Нехотя, будто жилы из себя вживую тянут.
Слушает.
Не поймешь, все ли из сказанного разбирает – неподвижен, хмур. Но принимает их вымученную клятву серьезно и даже как будто сердечно.
Затем поднимает руку и присягает сам. Медленно, тяжко роняет слово за словом. Смотрите все: Монфор присягает на верность городу Тулузе. Смотрите же!..
И видят все, кто хорошо знает графа Симона, что от полноты душевной он говорит.
Я, Симон де Монфор, благодарением Господа герцог Нарбоннский, граф Тулузский и Лестерский, виконт Безьера и Каркассона, перед лицом Господа и закона присягаю городу Тулузе в том, что буду ей добрым сеньором. Во славу Господа нашего Иисуса Христа и святой матери-Церкви я буду хранить верность своим подданным. В свидетели же себе я призываю Господа, святую Церковь и всех мужчин и женщин Тулузы. Клянусь быть ей добрым господином и хранить эту клятву, и город Тулузу, ее церковь, ее жителей, их жизни и добро. А если я совершу какую-нибудь несправедливость, то лишь по неведению, и пусть тогда лучшие люди города откроют мне правду и помогут исправить неправедное, ибо ложь и несправедливость неугодны Господу…
Эти слова записаны для Тулузы на специальной грамоте, которую герольд теперь держит в рукаве. Симон не поленился – затвердил их на провансальском наречии.
И вот граф замолкает, проговорив последнее слово. Тогда герольд передает грамоту епископу, а епископ вручает ее консулам и объявляет себя хранителем клятвы.
В отличие от графа Симона, консулы умеют читать. С поклоном приняв от Фалькона грамоту, они разворачивают ее. Глаз сам выхватывает первые строки. И содрогаются консулы – хоть и знают заранее, какое именно слово увидят.
«Я, Симон, граф Тулузский…»
Господи!.. Симон, граф Тулузский!..
Симон следит за ними – настороженный, внимательный.
Висит тяжелое молчание. Оно тянется так долго, что, в конце концов, неловко делается уже всем.
Вигуэр Тулузы сворачивает грамоту, сжимает ее и торжественно воздевает руку. Печать качается, свисая на ленте. Симонова печать: всадник с роговой трубой.
– Мы сохраним ее в городском архиве, – говорит вигуэр Тулузы. – А вы, мессен, будьте нам добрым господином, как и поклялись.
Кого в Тулузе возненавидели сразу и навсегда, так это франкских сержантов. Монфор привел их с севера, они служили ему за жалованье, наречия провансальского почти не понимали, а за господина своего готовы были свернуть любую шею – пусть только пальцем ткнет, какую именно.
Они-то и принесли в город графский приказ, больно уязвивший гордость Тулузы: докончить разрушение городских стен. Немедленно!
– Мессир, – осторожно сказал графу его младший, разумный брат Гюи, – вы слишком торопитесь.
В прежние времена никогда не случалось разногласий между Гюи и Симоном. Были как две руки одного тела. Иной раз и слов не требовалось, только взглядом обменяются. И больно было Симону оттого, что начал Гюи ему противоречить.
– Что-то не возьму в толк, брат, о чем вы толкуете, – молвил граф Симон.
– Тулуза к вам не привыкла. Она вас боится, а вы еще больше пугаете ее.
– Вот и хорошо, – проворчал Симон. – Пусть и дальше боится.
– Ничего хорошего, – возразил Гюи. – Испуганная женщина может ударить в спину.
– Тулуза – не женщина. Тулуза – город, – сказал Симон, отлично зная, что лжет.
Об этом Гюи не стал с ним спорить.
– Вы не должны столь поспешно сносить стены, – повторил он упрямо.
– Это вы так считаете, брат? – осведомился Симон. И брови сдвинул.
Ну уж. Гюи де Монфора насупленными бровями не проймешь.
– Я, – ответил Гюи – очень спокойный.
– Хватит, – оборвал Симон. – Я не собираюсь оставлять Тулузе ее укрепления. Мне не нужен здесь мятеж.
– Будет, если вы не перестанете показывать ей свою ненависть.
– Плохо я понимаю, брат, о чем ведете вы речь.
– Понимаете. Вы распорядились отделить Нарбоннский замок от города дополнительным рвом.
– Распорядился, – охотно признал Симон. Он почитал себя в этом деле правым.
– Вы обещали стать для города добрым господином.
– Я и не отказываюсь, – рявкнул Симон, раздраженный. – Снесу стены, выкопаю ров – и сразу же сделаюсь добрым. Не выводите меня из терпения, брат.
Гюи бесстрашно глядел в его бешеные серые глаза.
И молчал.
Симон замолчал тоже. Наконец, он отвернулся и начал постукивать по стене пальцами.
– Я не могу уехать в Иль-де-Франс и оставить вас здесь почти беззащитными. Я думаю о своей семье!
И тут Гюи взорвался.
– Черт побери! – заорал он (Симон даже подскочил). – Проклятье, брат!.. Вы с первых шагов показываете этому городу, что ничуть не доверяете ему. Как же вы будете управлять Тулузой? Вы чувствуете себя здесь как в осаде!.. Это же ваш город! – Он схватил Симона за плечо. – Тулуза и без того сильно запугана. Вот увидите – она ударит вас в спину…
Симон долго не отвечал. Наконец сердито высвободился и буркнул:
– Для того и копаю ров, чтобы не дотянулась. Я ведь знаю, о чем думали эти сраные консулы, когда присягали мне на верность. Их от меня трясет. И от вас тоже, от всех нас… Они о своем Раймоне мечтают. Подумайте сами, как я оставлю замок, Алису, младших детей, если…
Гюи покачал головой и больше не сказал ни слова.
Так были снесены стены Тулузы и выкопан ров, отделивший Нарбоннский замок от города. Сенешалем сделал Симон верного человека, Жервэ де Шампиньи, доверив тому беречь город и замок.
И с успокоенным сердцем отправился на север – получать, как надлежит, завоеванные им земли в лен от короля Франции Филиппа-Августа.
На севере деревья другие. И небо более синее. В Тулузе оно будто выцвело от жары. И весна здесь более поздняя…
Из буйного цветения Симон вернулся в мокрый исход зимы.
Скрывая улыбку, ехал шагом. Мужланы вываливали на обочину дороги, глазели голодными после зимы глазами на графа Монфора – как шествует он во главе уставшей, забрызганной грязью свиты. Встречали как святого. Им загодя растолковали это.
Многие, увлекаясь, валились на колени. Кричали:
– Благословен будь, победитель ереси!
В этих краях прошло детство Симона. Пустые по весне поля, деревянные дома без окон, плетеные изгороди, мартовский разлив грязи на дорогах.
Симон улыбался.
Филипп-Август принял его сердечно.
Покоритель Тулузы. Искоренитель ереси. Лучший друг Господа Бога.
Осыпанный дарами, увязший в почестях, обласканный королем, Симон принимал знаки королевской милости сдержанно, с молчаливым достоинством.
При огромном стечении самых знатных людей королевства передал Филипп-Август Монфору отвоеванные им у ереси земли. Даже на коленях не выглядел Симон умаленным. Понимал ли, что сделался вровень с владыками Европы? Ибо графы Тулузские всегда были нешуточными соперниками королям Иль-де-Франса…
И дивился король: как удается держать в узде эдакого зверя?..
Так ты хочешь Тулузу, мой Симон? Ты добыл ее себе. Ты завоевал ее своей доблестью, своей верностью, своим мечом, своей кровью. За шесть лет неустанных трудов ты воистину заслужил ее.
Во имя святой и неделимой Троицы, мы, Филипп, благословением Господа король Французский, в присутствии собравшихся сеньоров, передаем нашему вассалу Симону де Монфору как нашему истинно верному человеку, который принес нам клятву верности и присягнул нашей короне, права на феоды и земли, которые он отвоевал у еретиков и врагов Господа нашего Иисуса Христа в графстве Тулузском, герцогстве Нарбоннском, виконтствах Безьерском и Каркассонском, а также права на феоды, которые Раймон, будучи графом Тулузским, держал от нас. Дано в год 1216, апреля 10-го дня, в 37-й год нашего правления…
6. Черное знамя
В Авиньон стекаются отряды. Рыцари рвутся умереть за отца, за сына, за Тулузу. Мятеж против Симона зреет, наливается соками, набирается града и громовых разрядов. Все гуще туча, готовая излиться новой войной.
И кипит душа у молодого Рамонета. Началось! Пресвятая Дева, началось!..
Вместе с рыцарями приносят ему свою жизнь и простолюдины – все смертельно серьезные, как оно обыкновенно с мужланами и происходит, доведись им взять в руки оружие.
И вот приходят в Авиньон десяток человек из Бокера и просят доставить их немедля к доброму графу Раймону. Завидев графа, они, как один, валятся на колени и начинают кричать:
– Наш граф вернулся! Слава Иисусу Христу! Господин наш вернулся!
И говорит им старый граф Раймон, прежде дав накричаться вволю:
– Друзья мои, встаньте, ибо время воздавать почести еще не настало. Скажите лучше, что заставило вас проделать всю эту дорогу из Бокера до Авиньона?
Вот какую весть принесли эти люди. Город Бокер готов первым сбросить с себя ярмо ненавистных франков и зовет для того к себе графа Раймона…
Прежде Бокер принадлежал Жанне Английской и был частью ее приданого, когда она сделалась – четвертой! – супругой графа Тулузы и родила ему Рамонета.
Затем этот город подчинялся архиепископу Арльскому; тот же благополучно сдал его Симону. Оставил Симон в Бокерской цитадели умеренный гарнизон и на том позволил себе более не тревожиться.
Решили между собою прежний граф Тулузский и его сын, что будет только справедливо отобрать у Монфора Бокер. С какого боку ни зайди – и по человеческим уложениям, и по Божеским – должен Бокер отойти Рамонету. И если уж развязывать с Монфором войну, то лучшего, чем Бокер, начала и измыслить невозможно.
Отдал Раймон эту войну целиком на руки своего сына. Сам ощущал себя утомленным. Тяжело на пороге старости лишиться всех достояний. Да и в прежние годы не столько на поле брани силен был Раймон Шестой Тулузский, сколько в изощренной дипломатии. Умел беречь кровь ловким сплетением слов и улыбок. Проливал же ее лишь по принуждению, без всякой охоты и искусства – оттого обильно.
И потому захотел старый граф Раймон из Лангедока скрыться. Наметил провести дни в Арагоне, у родичей последней своей, пятой по счету, жены – Элеоноры. Думал также сидеть там не праздно, но собирать помощь для войны и присылать ее Рамонету.
Впервые отпускал своего соколенка в ясное небо. Пусть летит. Силы ему даны немалые, а дерзостью не в отца удался; скорее, в дядьку – английского Ричарда, прозванного Львиным Сердцем.
В Бокере стерег достояние симоново Ламберт де Лимуа, рождением каркассонец. Насадил его Симон в бокерской цитадели, дал ему сотню: двадцать рыцарей, а сверх того – пехотинцев, арбалетчиков, конюхов, щитоносцев и оруженосцев.
Берегли гарнизон от внезапностей и неприятностей крепкие стены цитадели. Город Бокер стоял на скале; мысом врезаясь в певучие воды Роны, оседлал утес, стек по склонам, заканчиваясь второй стеной – внешней, обносящей подол.
С юга город хранила река. С северной же стороны можно было подняться к цитадели по пологому склону. Потому выстроено там было еще одно укрепление, дополнительное, именем Редорт. Там находились, сменяя друг друга, арбалетчики.
И сидел Ламберт с гарнизоном в цитадели, предавался скуке, играм азартным, пьянству необременительному да разврату извинительному. Следил, чтобы в Редорте не дрыхли свыше положенного человеку от Бога. Надзирал за тем, чтобы в цитадели не переводился запас хлеба, сушеных яблок и рыбы, живой птицы и, главное, воды в больших бочках (ибо колодца в скале продолбить не озаботились). Гонял солдат, дабы не все были пьяны одновременно; над рыцарями же такой властью не обладал.
Было этому Ламберту сорок лет или около того. Рост имел высокий, лицо и руки костлявые, голос хриплый, обычай некуртуазный. Желтые волосы на солнце выгорели почти до белизны; лицо же загорело, как пергамент.
Ламберт считался за человека скучного. Стихов не слагал и не слушал. Да и вообще чаще молчал, чем разговаривал. С охотой обсуждал только одно: устройство осадных башен. Много размышлял над этим, неизменно дивясь – сколь изобретателен ум человеческий.
И вот однажды, в час предрассветный, неспокойный, врывается к Ламберту лучник, ужасно пучит глаза и кричит громким голосом:
– Мессир! Раймон! Раймон, мессир!..
Ламберт подпрыгивает, будто его ужалили. Он выскакивает из кровати, по неловкости наступив на спавшую с ним девицу, и поспешно облачается.
– В Редорте знают? – спрашивает.
– Еще бы не знать, коли проклятые еретики его сожгли…
Ламберт шипит, как жаровня, когда на нее плюнешь. Гремя по узкой лестнице, сбегает во двор. Лучник поспевает следом, в оба уха зудит:
– Будто ниоткуда повыскакивали… Всю ночь, должно быть, шли. А горожане отворили им ворота. Видно, ждали. Сговорились. Весь нижний город занят еретиками…
Ламберт почти не слушает. Во дворе уже седлают лошадей, разбираются по отрядам.
На северном склоне холма зарево – пылает Редорт. Внизу, у Роны, блестят шлемы и доспехи. Небо занимается розовым светом зари.
– Из Редорта есть кто? – кричит Ламберт наугад.
К нему подбегают двое, оба – само угрюмство. В одном Ламберт признает арбалетчика, в другом – щитоносца.
И щитоносцу-то, не дав и слова молвить, с размаху лепит по щеке: хрясь!
– Просрали Редорт, сволочи, – говорит Ламберт де Лимуа.
Арбалетчика, однако, и пальцем не касается, только взгляд тому посылает – злющий! – и спрашивает:
– Сколько их там?
– Не считал, – говорит арбалетчик.
– Что же ты делал там так долго?
– Убивал, – говорит арбалетчик, мрачнее ночи.
Ламберт дергает верхней губой – скалится.
– Не похваляйся.
И садится в седло и собирает к себе людей, думая прорваться через мятежный подол к воротам нижней городской стены.
С грохотом, с криками, щетинясь тяжелыми копьями, вонзается рыцарская конница в узкие городские улицы и растекается по холму – устремляется вниз. Следом, по расчищенным путям, бегут пешие.
Но вот передовой – длинное копье наперевес, ищет, кого бы подхватить, кого бы пронзить, из живого сделать мертвым – вдруг с криком летит в грязь вместе с запнувшейся лошадью. С хрустом ломаются кости. Доспехи только помеха; всадник и конь – оба бьются, кричат.
Поверх упавших – новая заминка: еше двое наскочили и сверзились, не удержались.
Виной всему протянутая через улицу закопченная цепь, черная, в рассветных сумерках невидимая.
И набегают отовсюду горожане, доселе скрытые, и умелыми руками добивают рыцарей, покуда те беззащитны. То-то радости, что ловушка удалась.
Вот из боковой улицы вылетают трое конных, на Ламберта устремляясь, – бокерцам подмога и рыцарская защита от верховых.
Один из троих без шлема – бледное, удлиненное лицо с огромными глазами, нежное, вдохновенное, почти девическое.
И кричат ему бокерцы:
– Раймон! Раймон!..
Ламберт уже поухватистей берется за копье, вкладывая его в упор, уже разворачивается в сторону юного всадника.
– Раймон! Раймон!..
Однако Рамонет – хорошо научил его отец! – от этого боя уклоняется, скрывается в дебрях улиц, а вместо себя оставляет Ламберту двух других. Те достаточно тяжелы, да и к тому же их двое.
И отступает Ламберт, ибо видит – не пробиться ему через подол, не выбраться из Бокера через нижние ворота. Он уводит отряд вверх по склону, обратно к цитадели, и страшно спешит при этом: как бы их и вовсе не отрезали от крепости, как бы не перебили на узких улицах.
– Монфор! – кричит Ламберт хрипло.
Широко разевает рот в безобразной гримасе, чтобы дать голосу больше воли.
– Монфор!..
Это имя будто силы придает. А может, так только чудится.
Солнце заливает Рону ярким светом. Внизу, у подножия скалы, хорошо видны палатки и знамена Раймона Тулузского с золотым крестом на красном поле.
Вот и цитадель – успели! Ламберт снимает шлем, сбрасывает латные рукавицы, проводит ладонями по влажным волосам.
– Всех шлюх – вон из цитадели! – кричит он.
Девицы и сами не прочь: смекнули, что крепость, похоже, скоро заморят голодом, если только огнем не сожгут. Кто спал, тех скоро пробудили.
Для всех неожиданно Алендрок де Пэм был изобличен в том, что держал двух девиц одновременно. В иное время посмеялись бы – известный шутник этот мессир Алендрок! – но тут не до веселья: Ламберт спешил закрыть ворота.
Вместе с девицами выбрался из цитадели и сам рыцарь Алендрок, наспех переодетый в простонародные тряпки, полные вшей и вонючей трухи.
Пока Симон был на севере, в Тулузе вместо него оставался его брат Гюи. О нем уже знали, что Гюи – это то же самое, что Симон, только еще хуже.
И вот сеньору Гюи докладывают, что некий простолюдин, вида обтрюханного и гнусного, назойливо рвется повидать мессира де Монфора и утверждает при том Бог знает что.
Гюи о ту пору пробовал сарацинский меч. Пояснял старшим племянникам (а Филипп и Робер с Симоном-последышем поблизости терлись), какая хватка в работе таким мечом надобна, какие повороты уместны и так далее. Не бросать же ради какого-то мужлана столь увлекательное и нужное занятие.
Однако вскорости слуга возвратился опять. Смущаясь, сказал, что простолюдин тот хоть и выглядит сущей скотиной, на деле является благородным сеньором Алендроком, которого оба брата Монфоры помнят еще по походам в Святую Землю. И в замке тоже признали.
Тут уж Гюи побросал и сарацинские мечи, и племянников, и поспешил на двор, где действительно сидел Алендрок де Пэм, вонючий и злой.
– Иисусе милосердный! – вскричал Гюи. – Что это с вами такое приключилось, мессир Алендрок?
И с добрым чувством протянул уж к нему руки, чтобы обнять, но в последнее мгновение опамятовался и отдернул – побрезговал.
Алендрок угрюмо молвил:
– Велите сперва приготовить для меня горячую воду.
Гюи отправил девушку Аньес – та поблизости вертелась, от любопытства изнывая: что за мужлан такой. Наказал Лизу отыскать, умаслить и попросить, чтобы пришла мессира Алендрока пользовать.
Эта Лиза была одна старуха, черная от древности. Монфор привез ее с востока и очень берег, ибо Лиза с непревзойденной ловкостью умела выбирать вшей.
Алендрок вздохнул. На Гюи глянул. И сказал просто:
– Мессир, Раймон занял весь Бокер, кроме цитадели. Мы хотели вырваться из города, да только двадцать человек даром потеряли.
– А Ламберт? – спросил Гюи, собственным ушам не веря.
– Заперт в цитадели и просит о помощи.
Гюи скверно выругался по-арабски. Алендрок покраснел – понял.
Тут явилась девушка Аньес и сказала, что самая-самая большая бочка в замке наполнена горячей водой по самое горло, а Лиза, хоть и ворчит, но ждет мессира. И в бочку постелено полотно, чтобы не обзанозиться. И в воду добавлено немного масла для мягкости.
– Уж не знаю, что еще сделать, – заключила девушка.
– Уйти с глаз, – сказал Гюи. Аньес обиделась, убежала.
Алендрок встал.
– Посылайте за вашим братом, – сказал он Монфору. – Чем скорее вернется Симон, тем лучше. Собирайте вассалов, не то Рамонет уморит наших людей в цитадели…
– Рамонет?
– А, я забыл вам сказать. Это не старый Раймон. Это его сопливый сынок, Раймончик.
И бросив Гюи сживаться с услышанным, Алендрок исчез на кухне.
Наутро Гюи приготовил и разослал с полдюжины писем сеньорам, державшим земли от Монфора. Кроме того, направил послание их с Симоном старшему брату Амори, на север, а также альбийскому сеньору де Леви, женатому на сестре Монфоров – Гибурге. Всех сеньоров просил об одном и том же: собрать, сколько возможно, вооруженных воинов и прибыть с ними в город Ним. Оттуда Гюи хотел выступить на Бокер.
Особое письмо он обратил самому Симону, умоляя того скорее возвращаться в Лангедок.
Рамонетовым людям радость глаза застит: думают, если сумели загнать франков в цитадель и вынудили их запереться, так и выкурить их оттуда будет нетрудно.
Ну-ну. Попробуйте.
Ламберт скалит в недоброй усмешке крупные желтоватые зубы.
Десятка два горожан подобрались под самые стены бокерской крепости. Ров хотят засыпать. Наваливают мешки с песком, вязанки дров, охапки соломы. Особенно усердствуют перед воротами.
И сами же вослед своей ноше валятся! Из крепости арбалетчики, скрываясь за зубцами, посылают в них одну стрелу за другой.
С угрюмым любопытством смотрит за этим Ламберт. А сам прикидывает, сколько воды для питья в бочках осталось и велика ли удача Алендрока – хватит ли, чтобы до Тулузы довести или же где-нибудь под Кастельнодари иссякнет. Но вообще слыл Алендрок за человека везучего.
Между тем у ворот поднимается нехорошая возня. Арбалетчики везде не поспевают.
Хворост перед воротами цитадели с веселым треском занимается, и жадные оранжевые пальчики огня тянутся уже к створам…
И… Ламберт недоглядел! Сверху, со стены, на пламя обрушивается, сверкая, широкая лава воды… Господи, целую бочку опорожнили!
Ламберт подбегает, спотыкаясь. Ламберт страшно, хрипло орет:
– Кто?..
Все молчат.
– Кто такой умный?..
Находит, наконец, не в меру расторопного сержанта и долго бьет его перчатками по морде. Хотел бы повесить, но в крепости сейчас каждый человек на счету. Так и растолковал, когда бить утомился.
Однако штурм цитадели не удался. Настал вечер, под стенами сделалось тихо. Ламберт выставил стражу, назначил смену, сам же повалился во дворе, где еще по недосмотру оставалась мягкая травка, и безмятежно заснул.
Пробудил его дождь.
Во всяком случае, с неба на лицо Ламберта упало что-то влажное. Он засмеялся, еще не до конца проснувшись, потянулся рукой к щеке, где чувствовалась влага. Уже рот открыл, думая крикнуть, чтоб подставляли бочки – пусть хоть сколько воды прибавится.
Но тут Ламберт пробудился окончательно. Отлепил от лица то, что пало откуда-то сверху. Поднес к глазам. Губу прикусил мало не до крови, удерживая брань.
Он держал в руке бесформенный кусок мяса, еще липкий.
Огляделся.
Весь двор был усеян кровавыми комками. Ламберт встал, прошелся среди них, нагнулся, поднял еще один. Этот сохранил форму.
Неожиданно Ламберт всхлипнул – как-то бесслезно, горлом. То, что он поднял с земли, было отрезанным человеческим ухом.
Отбросив находку, Ламберт поднялся на стену. Часовой встретил его хмурым взглядом.
– Где у них катапульта? – спросил Ламберт.
– Вон. – Часовой показал в сторону церкви Святой Пасхи. – Где звонница.
Ламберт поглядел на смутный в сумерках силуэт церкви, мельком позавидовал отменному зрению часового. Потом сказал задумчиво:
– Мы потеряли в городе человек двадцать, да?
– Некоторые были живы, – сказал часовой. И посмотрел Ламберту прямо в глаза.
– Что у тебя во фляге? – спросил Ламберт.
– Что?
– Фляга пустая?
– Нет, еще осталось…
– Дай, – велел Ламберт. И видя, что солдат жадничает, прикрикнул на него. Солдат нехотя отдал ему флягу.
Ламберт влил в себя скудные солдатские запасы вина, бросил пустую флягу под ноги и спустился со стены обратно во двор.
Второй залп из катапульты Рамонет дал к полудню. На цитадель посыпался дождь из отрубленных кистей рук. У некоторых были отрезаны пальцы – видать, снимали кольца.
Ламберт велел собрать все бренные останки, завернуть в эсклавину и похоронить у маленькой часовни.
Сам же снес все запасы съестного, какие были в крепости, в один из казематов, заложил засовом, привесил крепкий замок, а ключ на цепочке сунул себе под рубаху.
У каземата его остановил капеллан, маленький, ворчливый старичок.
Ламберт посмотрел на него устало.
– Что еще случилось, святой отец?
– Ваши люди хотят, чтобы я отслужил мессу, – сказал капеллан. У него был недовольный вид.
Ламберт рявкнул:
– Ну так отслужите! Для чего еще вы тогда здесь нужны?..
– Они хотят, чтобы я отпел эти… руки…
– А что, – спросил Ламберт, – существует какое-нибудь каноническое запрещение?..
Капеллан наградил его пронзительным взором.
– Кое-кто из тех, кому они принадлежали, возможно, еще живы…
Ламберт надвинулся на капеллана, сутулясь больше обычного. Налился красным. И неприятным, скрипучим голосом произнес:
– Они все равно умрут, святой отец. Раймончик не оставит в живых ни одного франка. Он будет резать их на куски. Отслужите мессу, как вас о том просят.
И не оборачиваясь пошел прочь, оставив капеллана думать над услышанным.
Ламберт оказался прав. На следующий день катапульта на звоннице церкви Святой Пасхи разродилась градом отрубленных ног. Одни были тронуты тлением, другие сочились свежей кровью.
Сержант, который собирал обрубки в большой холст, сказал Ламберту:
– Мессир… а если Алендрок де Пэм по дороге погибнет?
– Не погибнет, – сказал Ламберт.
– Мессир, – назойливо повторил сержант.
– Попридержи язык, – сказал Ламберт, – не то вырву.
– Мессир, – сказал сержант, – а их сорок четыре…
– Кого? – не понял Ламберт.
– Ног, – пояснил сержант. – А рук было сорок три…
После мессы Ламберт собрал своих людей – тех оставалось чуть больше семидесяти – и сказал им так:
– Приготовьтесь умереть с честью.
– Значит, Монфор не придет? – спросил один из рыцарей.
Ламберт ответил:
– Монфор придет. Другое дело, мы можем не дожить до этого.
Наступило странное затишье. Рамонет решил не тратить сил впустую и не штурмовать Бокерскую цитадель, а вместо того уморить гарнизон голодом и жаждой.
Со стен и крыши донжона осажденные видели, как внизу проносит прозрачные воды Рона, как подходят по реке корабли с продовольствием. Корабли из Авиньона и даже, кажется, из Нарбонны – если судить по флагам.
Огненное колесо медленно катилось по низкому, мутному от зноя небу. Наступило лето.
Монфор пришел.
Примчался, прилетел, загоняя лошадей, еле живой от усталости, с воспаленными глазами, с больным желудком. Скулы на его широком лице торчали так, что грозили порвать кожу – толстую, плохо пробиваемую франкскую шкуру.
С ним были полторы сотни рыцарей, вассалов французской короны.
Получив письмо от брата и узнав, что в этом письме написано, Симон явился к своему сюзерену. Тряхнул кулаком, где стискивал братнино послание, а после тем же кулаком о стену грохнул и отправил проклятие вероломным Раймонам.
Его католическое величество Филипп-Август не меньше симонова обеспокоился тем, как развиваются события на Юге. Клятвы были еще свежи, битвы еще кровоточили в памяти, не осыпалась еще с Монфора позолота почестей. И потому повыдергивал король Франции полторы сотни ленников своих из их владений и отправил вместе с Симоном в Лангедок – во исполнение обетов.
Мыслями о пехоте Монфор пока что себя не заботил – этого добра можно набрать и южнее.
Без пеших, без обоза, без женщин – отряд в полторы сотни конников примчался в Ним, где назначил встречу Гюи де Монфор. Словно из воздуха появился в городе граф Симон, так что в Ниме при виде его аж крестами вокруг себя замахали: не чудится ли? В самом деле, разве дано человеку столь быстро переменять одно место на другое? Иные из Иль-де-Франса до Лангедока по полгода добираются; Монфор же в две седмицы набрал людей и эдакое пространство с ними одолел.
Да только своего брата Гюи и его католического воинства в Ниме Симон уже не застал. Не дождавшись, ушли на Бельгард – малый городишко в нескольких верстах от Бокера.
Бельгард вздумал было сдаться Рамонету, но тут же отказался от этой мысли, едва только завидел золотого вздыбленного монфорова льва.
Все эти новости донесли до Симона в Ниме.
Симон сказал:
– Очень хорошо.
И потащил весь свой отряд в местный собор, к мессе.
Лошади заполонили площадь перед кафедралом. Конюхи, удерживая их, охотно вступали в перебранку с горожанами. Те для такого дела повысовывались из окон. Да только одно было плохо: почти не понимали они наречие друг друга.
Симон с его рыцарями, гремя шпорами, звеня кольчугами, источая едкий запах конского пота, загромоздили нимский кафедрал. По распоряжению графа, епископ исповедал и причастил франков, все полторы сотни.
После этого Монфор тотчас же оставил город и скорым шагом двинулся на Бельгард.
И вот подходит Гюи де Монфор под стены Бокера – а Симона еще нет. Симон в это время только-только приближается к Ниму, о чем его брату пока что неведомо.
С Гюи большое войско – все, кто отозвался и пришел, являя верность клятвам, а таких немало.
В Бокере, конечно, сразу увидели. Как не видеть, когда шли берегом, развернув знамена.
– Мессен, – сказали верные друзья Рамонету, – сдается нам, что это симонов лев надвигается на нас своей оскаленной пастью.
И повелевает Рамонет закрыть городские ворота и поднять на стены котлы со смолой и маслом.
А между тем Гюи разворачивается на равнине перед Бокером и начинает бить рукоятью меча в щит и кричать Рамонету обидное – чтобы тот вышел из города и дал, как полагается, бой.
Рамонет пока что слушает да в монфоровом войске знамена считает. Затем снаряжается сам и велит еще сотне рыцарей снарядиться как для битвы и выводит отряд за ворота. Однако на широкую равнину они не выходят, а вместо того выстраиваются вдоль стен. На стенах ждут арбалетчики и под котлами с маслом разведен огонь.
Время разворачивает свой свиток, виток за витком, а на равнине перед Бокером, кроме пустой перебранки, ничего не происходит.
Слегка подав вперед лошадь, кричит Гюи де Монфор сильным, красивым голосом:
– Эй, Раймончик! Что ты делаешь в моем Бокере?
Рамонет напрягается, пытается отвечать достойно.
– Кто тебе сказал, франк, что это твой Бокер?
– Доблесть моего брата!
– К черту твоего брата, франк!
– Многие пытались, Раймончик, да немногие после того живы!
– Это город моей матери! – срывая уже голос, кричит сын Раймона Тулузского.
Да только разве переорешь Гюи де Монфора?
– Которой? Запутался я в женах твоего отца, Раймончик! Сколько их у него было? Шесть? Семь?..
К вечеру рыцари, истекшие потом под доспехами, отходят в Бельгард.
Рамонет, осипший, скрывается в Бокере.
К вечеру следующего дня в Бельгард врывается Симон. Его конница грохочет и гремит и опустошает все окрест, как саранча Судного Дня.
Гюи выходит к нему навстречу и без улыбки, крепко, обнимает брата.
– Наконец-то! – говорит он.
И берет Симона за руку и ведет в свою палатку, над которой развевается, дыбясь, золотой лев.
– Вы голодны? – спрашивает он.
– У меня живот болит, – ворчит Симон. – Две недели жрал-срал, с седла не слезая.
– Я скажу стряпухе, чтобы принесла молока.
– Скажите мне лучше, что здесь происходит.
Гюи начинает рассказывать. Ему уже известно обо всем: и о том, как к Раймону прибыли посланцы из Авиньона, и о том, как старый Раймон уехал за Пиренеи, оставив войну молодому, и о том, как Ламберт де Лимуа оказался заперт в цитадели.
– Так что теперь, мессир, Раймончик осаждает Ламберта, а мы осаждаем Раймончика.
– Ох, – говорит Симон, потирая поясницу, – и задница у меня тоже болит. У вас тут есть постель?
Не дожидаясь ответа, идет шарить в братниной палатке. Вскоре находит ворох соломы и вытертую оленью шкуру, все это бросает посреди палатки, подняв тучу пыли, и сверху обрушивается сам.
Гюи стоит над ним, долговязый, как цапля. Молчит. Симон говорит – снизу:
– Что же вы замолчали? Продолжайте.
Гюи начинает перечислять имена сеньоров, которые отозвались на его призыв и явились в Ним.
– Выходит, так, – говорит Симон, – что конница у нас с вами, брат, изрядная, но пехоты не привели ни вы, ни я. Без этого мяса наша превосходная конница увязнет…
– Наберем в окрестных деревнях. Долго ли сунуть мужланам по пике и объяснить, как надлежит бежать подле конных…
Слушая и одобрительно кивая, Симон вместе с тем почесывает в штанах и вдруг, перебив брата, произносит задумчиво:
– Кажется, я кое-что еще отбил себе об это проклятое седло.
– Я напишу Алисе, – с серьезным видом говорит Гюи.
– Завтра попробуем выманить Рамонета на равнину, – говорит Симон и неудержимо зевает во весь рот. – Где эта ваша стряпуха с молоком?..
Однако выманить Рамонета из Бокера не удалось и Симону. Единственное, что сделал сын бывшего графа Тулузского, – вывесил на стенах, обратив к лагерю Монфора, несколько трупов с отрубленными руками и ногами.
Неподвижно сидя на коне, Симон смотрел на почерневшие куски мяса, облепленные мухами. И молчал.
У Симона было странное выражение лица – грустное, почти нежное. Будто перед ним спало невинное дитя.
Потом Симон повернулся к своему брату и молвил:
– Раймон горько заплачет над тем, что делает сейчас.
В несколько дней Монфор нагнал пехотинцев. Он взял их в окрестностях Нима, оторвав от работ в разгар лета. Уходили под бабий вой, смущенные, но перечить не смели.
По велению Симона, лагерь обнесли рвом и палисадом. Несколько раз в ночное время на лагерь франков пытались нападать из Бокера и откуда-то из леса, но всякий раз безуспешно.
Продовольствие Симон щипал по приронским городам. Те не находили большого ума в том, чтобы открыто ссориться с грозным Монфором, когда тот близко.
По рассохшимся черствым дорогам тянулись к Бокеру телеги, груженные для Монфора хлебом, сыром, большими клетками с живой птицей. Гнали коров и коз. С этими обозами Симон не ленился отправлять хорошую охрану – местные жители то и дело норовили побольнее цапнуть франков и разжиться их поклажей.
Осада началась и потянулась, повлекла один день за другим…
Ламберт совершенно изменил свое мнение касательно Рамонета и теперь называл его не «сопляк», а «говнюк».
На пятую седмицу осады Ламберт вывесил на крыше донжона большое черное знамя. Оно сонно висело теперь в знойном безветренном воздухе рядом со львом Монфора.
Симон смотрел на него из-за стен Бокера. Скрипел зубами.
В цитадели припасы были на исходе, как ни берег их Ламберт. Лихие воины, крепкие мужчины, привыкшие к доброй трапезе, еле таскали ноги.
Ламберт ходил по крепости, нескладный, как портновская мера, сплевывал розовым и ругался сиплым голосом. Его потемневшие глаза злобно глядели из-под грязной желтой челки.
Хуже голода была жажда. Тухловатой воды в бочках оставалось меньше половины.
А Симон – там, внизу, – выжидал.
Исходила шестая седмица, когда Ламберт распорядился забить первую лошадь. Собрали кровь, разделили между всеми мясо и, как получилось, насытились. Все, что не съели, выбросили за стену, в город, чтобы не разводить тухлятины.
То-то настало Рамонету веселье. Долго не думал, когда от Ламберта лошадиные останки посыпались. Стало быть, оголодали франки. Скоро донжон глодать начнут.
– Надо Монфора порадовать, – сказал Рамонет.
И велел доставить за городские стены лошадиную голову с оскаленными зубами. Не поленились смешливые бокерцы, переправили ламбертовы объедки его сеньору. Ни одного мосла не пожалели. Жаль, не увидеть, как бесится проклятый франк.
Через день после того вдруг ожила катапульта на церкви Святой Пасхи – а доселе дремала. Пустила неожиданно камень и угодила в грудь ламбертову лучнику. Сидел меж зубцов на стене, с жадностью на Рону глядел. Переломал камень все ребра, впился во внутренности и там остался. И лежал лучник в тени зубцов, а кровь медленно, густо вытекала из его тела и пачкала серую кладку стены.
Постращав цитадель катапультой, решил Рамонет взять ее штурмом. Небось, франки довольно ослабели от голода, чтобы пальцем их пережать.
На стены крепости наползла осадная башня. Управляли ею горожане, десятка два. Ламберт, приникнув к узкому оконцу, следил за нею. Мысленно всю ее прощупал, разобрал-собрал, оценил. Оценил, кстати, не так высоко. Простенькое устройство, сделанное наспех, без любви и выдумки.
С башни взлетели крючья. Скрежеща, вцепились в стену.
Тотчас же несколько горящих стрел, обмотанных паклей, воткнулсь в деревянное чудище.
– Еще! – заревел Ламберт.
С уханьем раскачали, толкая баграми, раскаленный котел со смолой и последним толчком опрокинули на башню. Вослед пустили десяток пылающих стрел.
Снизу понесся страшный вой. Ламберт засмеялся, выставляя зубы на костлявом лице.
Башня горела. Пламя, вздымаясь выше крепостной стены, кричало почти человеческим голосом. Жаром палило лица осажденным. А Ламберт хохотал во всю свою пересохшую глотку.
С Роны долетел порыв прохладного ветра, шевельнул черное знамя, отбросил с глаз волосы, остудил разгоряченные щеки. От башни остался обугленный остов, а что сталось с нападающими – Ламберт узнать не озаботился.
Цитадель осталась стоять.
Капеллан отслужил праздничную мессу в маленькой часовне. За время осады капеллан иссох, сделался будто вяленый и сильно состарился. Он проговаривал мессу с большим трудом, иной раз и вовсе переходя на свистящий шепот.
Ввечеру забили еще одну лошадь, устроили пир. Ели конину, запивая тухлой водой. Было радостно.
Наутро…
Наконец!
Симонова осадная башня больно кусает нижнюю стену Бокера. Пока с нею идет расправа, бьет в закрытые ворота. Стучит, зовет. Насмехается.
Кричат от боли франки, облитые с бокерских стен кипящим маслом, только Симон не слушает их криков.
И вот ворота растворяются. В душе Симона все разом вздрогнуло – будто ловчего сокола в небо пустили.
Оглушая, вылетела на равнину конница. Рамонет решился встретить врага в открытой битве.
Сошлись лава с лавой. Монфоровы осадные орудия, забытые, догорали у стен.
Гром небесный обрушился на долину Роны. Воды ее помутились от крови.
И слушал Симон страшную музыку битвы, и сам он был этой музыкой.
На что привыкли франки к виду смерти, но даже и они в этот день содрогнулись. Битва закончилась ничем – разошлись, разведенные темнотой. Рамонет – за стены, Симон – в свой лагерь. Покрытые пылью и кровью, пали, чтобы заснуть. И только собаки и мародеры всю ночь бродили по полю боя, ища поживы.
А черное знамя по-прежнему полоскало на слабом ветру. Бессловесно звало Симона, взирающего хмуро – снизу вверх.
Бой на равнине смутил его. Раймон Тулузский имел похвальное обыкновение бежать перед Симоном. Раймончик оказался тверже.
Сломанные копья и мечи, пики, алебарды, ножи, пробитые кольчуги, залитые красным доспехи, вывернутые забрала, иссеченные тела, вырванные внутренности – равнина смердела смертью.
Симон сказал своему брату Гюи:
– Мы сидим здесь двенадцатую седмицу и все без толку.
– Мы сидим здесь, – отозвался Гюи, – а Ламберт сидит там.
Симон без того был мрачен, а тут и вовсе сделался как полночь.
– Проклятье, брат. Будто я хоть на мгновение могу позабыть об этом…
– Вам придется оставить Бокер.
– Чтобы Раймончик и дальше отбирал мои города?
– Мессир, – повторил Гюи, – если вы хотите увидеть Ламберта живым, вам придется снять осаду и начать переговоры.
– Ламберт еще держится, – упрямо сказал Симон.
Но Гюи, когда надо, выказывал себя на диво твердолобым.
– Вы не успеете взять Бокер. Цитадель погибнет раньше.
– Если бы Ламберт умер, – сказал Симон, – они спустили бы черное знамя. Я знаю Ламберта. Он не умрет, пока я ему не позволю.
– Он умрет без вашего позволения, когда у него закончится вода, – негромко отозвался Гюи.
Симон не захотел отвечать ему.
Минуло несколько дней.
Черное знамя – под солнцем выгоревшее, ставшее бурым – висело на крыше донжона.
Ламберт был жив.
Цитадель ждала помощи.
Настал август. Земля переполнилась урожаем. Мужланы, пригнанные в армию Монфора, тосковали и маялись – домой хотели. Но своевольно покинуть графа не решались. Как бы за такое Монфор целую деревню не спалил.
И вот ночью у палисада франкского лагеря ловят какого-то человека. Подкрадывался, таясь в тени. Его валят на землю лицом вниз, крутят ему руки за спиной, а после, взяв за волосы, тянут голову назад, чтобы ловчее перерезать горло.
Этот человек не сопротивляется и не делает ничего, чтобы спастись, и только кричит на наречии Иль-де-Франса, чтобы ему оставили жизнь до того мгновения, когда он сможет увидеть графа Симона.
Тут этого человека хорошенько связывают и гонят в лагерь. У палатки графа Симона спрашивает симонов оруженосец и сын, меньшой Гюи:
– Зачем тебе непременно видеть мессира де Монфора?
Тот человек плачет и дрожит и заметно, что он изголодался.
– Я принес ему вести, – говорит он хрипло. – Я принес вести из цитадели. Дайте мне напиться…
Ему дают. Он выхлестывает целый ковш, обливаясь.
– Что же, – говорит тогда оруженосец, – твоя весть такова, что не доживет до рассвета?
– Развяжите меня, – просит тот человек.
Но молодой Гюи, отцов оруженосец, только усмехается.
– Это уж граф Симон решит, стоит ли тебя развязывать. А пока что ложись и спи. И не надейся, что я спущу с тебя глаз, пока граф не проснется.
Симон пробудился рано. Ему тотчас же показали ночного гостя – тот спал, скорчившись и морща во сне лицо. Глядя на него, сказал Симон:
– И вправду плохи дела в цитадели.
И повелел немедля освободить ламбертова человека.
Тот, пробуженный от беспокойного сна, громко закричал. Симон рявкнул на него. Он закопошился и кое-как поднялся на ноги.
– Ты кто? – спросил Симон.
– Жеан из Нейи, мессир.
– Ты из цитадели?
– Да, мессир. Ламберт де Лимуа говорит: если граф Симон нас не вызволит, мы все умрем. Воды осталось на седмицу, а из съестного – одна лошадь…
Жеан тяжко вздохнул и опустился на землю. Его плохо держали ноги.
Глядя на Жеана сверху вниз, спросил граф Монфор:
– Сколько человек осталось у Ламберта?
– Шесть десятков.
После того Симон обременил Жеаном оруженосца, наказав накормить и умыть тому лицо. Жеан, пошатываясь, ушел вослед меньшому Гюи.
Симон повернулся к Бокеру, задрал голову. Знак близкой смерти все так же осенял цитадель. И день наступал все такой же жаркий и безветренный.
Совет был собран в симоновой палатке. Пришли уставшие, злые. Осада была бесплодной. Время уходило впустую. Сидеть под крепкими стенами всегда было делом скучным, а тут и вовсе непозволительно затянулось.
Говорили все разом, избывали недовольство – шумно, не стесняясь в выражениях. Симон почти не слушал.
За эти седмицы Монфор постарел, обрюзг, под глазами набухли мешки, в резких морщинах вокруг рта залегли тени.
Неожиданно он выглянул из палатки и крикнул кому-то, скрытому пологом:
– Иди сюда!
У входа завозились. Симон обратился к собравшимся спиной. Те постепенно замолчали: что еще за диво приготовил Монфор, чтобы удержать несмирных своих баронов под стенами надоевшего Бокера?
А Симон за руку ввел в собрание Жеана из Нейи. Был теперь Жеан куда менее грязен, но все оставался измученным и оголодавшим.
На него уставились с недоброжелательным любопытством. Что еще за мужлан такой?..
А Жеан вовсе не мужлан. Жеан копейщик, да только все равно смутился.
Не выпуская его руки, сказал Симон баронам:
– Мессиры! Вот Жеан из Нейи. Сегодня ночью он пробрался к нам от Ламберта. Я хочу, чтобы вы услышали, что он скажет.
Жеан глуповато улыбнулся. Симон подтолкнул его.
– Повтори для этих сеньоров то, что говорил мне.
– Мессиры, – заговорил Жеан. Глядел он при этом на Симона. – Ламберт де Лимуа прислал меня к вам сказать, что жить цитадели осталось менее седмицы. Они все умрут там от жажды… Ламберт говорит: почему они медлят? Разве они не видят, что мы умираем?
Он замолчал, переводя дыхание.
– Ну так что, – сказал Симон. – Видим мы черное знамя?
Бароны молчали.
– А льва моего видим? – вдруг спросил Симон.
– Что? – вырвалось у Гюи. Он не вполне понимал, куда клонит брат.
Симон широко, недобро улыбнулся.
– Да то, что лев мой голоден. Сделался как этот Жеан, тощий да жалкий… А вы не хотите его накормить, мессиры, – проговорил Симон, постепенно разогревая себя. Он был полон темной силы и хорошо управлялся с нею. Медленно обводил глазами собравшихся, будто и их хотел запалить своей голодной яростью.
– И то правда, – сказал, засмеявшись, буйный Фуко де Берзи. – Что мы тут сидим без толку? Накормим бедного зверя, да так, чтоб у него из-под хвоста полезло.
И начал говорить о штурме. Предлагал навалиться всей силой и…
Симон прибавил:
– Мы не можем отдать Раймончику Ламберта. Даже если, вызволяя его, потеряем больше людей, чем спасем.
А Жеана отпустили – нечего ему тут больше делать.
15 августа
Шесть дней на то, чтобы спасти Ламберта. Один из этих шести потратили, разбивая сухую землю и таская бревна – сооружали внешнее укрепление перед палисадом лагеря. Как раз напротив тех ворот Бокера, что назывались Винными.
Рамонет глядел, как потеют франки, усмехался. Крепко, видать, его, Рамонета, боятся, если свой лагерь решили еще редутом усилить.
А Симон знал, что Рамонет усмехается, и веселился от души. Ибо не из страха возводил редут, а для отвода глаз.
И вот наступает утро, и Симон скрывается за валом против Винных ворот. У Симона большой отряд. Он ждет.
А Фуко – тот дорвался: с гиканьем, шумом, увлекая за собой горстку храбрецов, несется к воротам Святого Креста. С ним, грохоча, мчит телега с камнями и тяжелыми бревнами. Ее толкают сзади и, разогнав хорошенько, пускают. Телега бьет о палисад и заваливает его. Следом катит черепаха, несущая в своем чреве таран. Берзи прорывается к воротам Святого Креста и начинает бить в них тараном.
Как ошпаренные, выскакивают из города бокерцы. Из Винных ворот, конечно. И хотят ударить по Фуко.
И тут на них из засады бросается Симон.
Битва закипает сразу в двух местах.
И день остановился, бесконечный и яркий, как картинки в часослове. Красные древки копий – будто нарочно их выкрасили. Лошади спотыкаются о завалы тел. С кольев свисают кишки. Крик и вонь, звон металла и стон земли.
Остановились, когда стало темно, – будто ото сна очнулись. Симона отбросили к самому палисаду его лагеря, вынудили отступить и скрыться, но штурмовать не захотели, ушли в Бокер.
В лагере разило, как на бойне. Посреди палаток, где было свободное место, запалили факелы. Стаскивали туда раненых. Медикусы помыкали баронскими оруженосцами и разоряли припасы, бесконечно требуя овечьего жира, меда, чеснока.
Между медикусами сновали монахи и те из рыцарей, кто не хуже костоправов умел промывать раны и накладывать повязки.
Симон крепко спал в своей палатке.
– Мессир!..
Монах. В руке, окровавленной по локоть, – горящий факел.
Симон сел, сердито уставился на него.
– Что случилось?
– Пленный. Он ранен.
– Ну так добейте его, – сказал Симон. – Я спать хочу.
Но от этого монаха за здорово живешь не отделаться. Он настырен и неуступчив. Он не желает отдавать на расправу католика.
– С чего вы взяли, что он католик? – спрашивает Симон. Зевает душераздирающе.
– Вы должны остановить ваших людей, мессир, – говорит монах. – Они хотят предать его мучительной смерти. Они хотят… в отместку за поражение…
Монах говорит еще что-то. Сонная тяжесть тянет Монфора к земле. Со стоном он поднимается на ноги.
– Где этот ваш католик?
Монах обрадованно тащит Симона за собой. Граф спотыкается.
– Что он говорит? – спрашивает Симон.
Монах объясняет, что пленный ничего не говорит, только кровью плюется.
Среди раненых и вправду лежал кровавый куль, перехваченный веревкой. Дергался, всхлипывал.
Симон подошел поближе. Велел монаху перевернуть пленного на спину и посветить.
Оказался пленный молод. Был светловолос, лицом неинтересен – некрасив и мелок. Однако что-то знакомое померещилось в нем Симону. Ибо многих баронов в Лангедоке знал он и прежде, и не все с ним враждовали насмерть.
Пока что Симон сказал:
– Сними с него веревки и перевяжи его раны.
Когда это было сделано, Симон уселся рядом с пленным. Спросил, как того зовут, чтобы знать, каким именем отметить могилу.
Белобрысый и бровью не повел, назвался охотно:
– Понс де Мондрагон, иначе – Понс с Драконьей Горки, мессен.
И напиться попросил.
Монах ему воды по симонову знаку дал. Симон подождал, пока Понс перестанет захлебываться.
– Драгонет с Драконьей Горки – не родич ли твой? – спросил Понса граф Симон.
Понс радостно отвечал, что граф Монфор говорит чистую правду. Драгонет – старший его брат и рыцарь великих достоинств. И всем ведомо, что доблестен он, верен слову, с бедными щедр (хоть и сам небогат), к побежденным милостив, с победителями учтив и…
Симон хмыкнул.
– Помню твоего брата. Драгонет. А как его настоящее имя?
– Гийом.
– Что же, Понс, твой брат Гийом тоже против меня воюет?
– Да кто же из благородных и верных рыцарей против вас нынче не воюет? – отвечал простодушный Понс.
Симон сперва хотел прогневаться, да поневоле рассмеялся. Жаль было бы убить этого Понса.
– В прежние времена у меня не было ссор с твоим старшим братом, – молвил он Понсу.
– В те времена вы, мессен, были в Лангедоке единственным сюзереном, – пояснил Понс охотно. – Но нынче все переменилось. Ведь вернулся наш прежний граф, наш Раймон. Как же нам не отстаивать наследие его, коли он исконный наш владетель?
– Ваш Рамонет режет пленных на куски, – задумчиво сказал Симон.
Тут беспечный Понс вдруг озаботился, устремил на Симона тревожный взгляд.
А Симон это заметил и рассмеялся.
– Вот ты, Понс, сейчас в моей власти и, как я погляжу, не очень-то боишься.
– Нет, – сказал Понс, – я боюсь.
Он и вправду испугался. Даже губы побелели.
Симон смотрел в темноту, туда, где был Бокер. На стенах еще тлел расклеванный воронами труп франкского рыцаря. Худо Симону было.
– Не стану я тебя на куски резать, Понс, – сказал Симон, наконец.
– Благодарю.
Это Понс от всей души произнес.
– А вместо этого отпущу тебя в Бокер, – продолжал Симон. – Вижу я, что раны твои несерьезны и завтра уже сможешь уйти.
Понс призадумался.
– Для чего вы меня хотите отпустить, мессен? – спросил он. – Я ведь никакого слова вам не давал
– Хочу воспользоваться тем расположением, какое было прежде между мной и твоим братом. Скажи ему, как я обошелся с тобой, и передай вот что: пусть устроит мне встречу с Рамонетом, сыном Раймона.
Понс нахмурился.
– Не возьму я в толк, мессен, чего вы добиваетесь.
– Тебе не нужно ничего брать в толк. Передай Гийому мои слова. Ради этого я оставляю тебе твою жизнь, не то висеть тебе посреди моего лагеря вниз головой.
Поднялся, оставив Понса в смущении, и ушел в свою палатку.
А Понс подумал-подумал и безмятежно заснул. И во сне ему грезились красивые птицы.
Весть из Тулузы от сенешаля Жервэ была такая: едва прослышав о приближении прежнего графа, Раймона, забеспокоился город, прокатились по нему разные слухи. Все кругом шушукаются и перешептываются – прикидывают, как ловчее перекинуться от Монфора под руку изгнанного тулузского графа. Тем более сейчас подходящее время, считают смутьяны, что Симон от Тулузы в отдалении. Завяз в Бокерской осаде и не скоро выберется. Если вообще выберется. А молодой Рамонет сделался ныне средоточием всех надежд и упований…
Симон этой вестью со своими баронами поделился. И спросил их: что бы они ему предложили?
Молчание прихлопнуло симоновых баронов вместе с Симоном, как крышка гроба. Только слышно было, как за пологом палатки конюх негромко уговаривает лошадь: «хорошая моя… хорошая моя…»
Наконец Гюи, брат Симона, сказал:
– Будто вы сами, мессир, ответа не знаете. Тринадцать седмиц мы стоим под стенами Бокера и всякий день боимся не увидеть наутро знамени на донжоне. Нужно снимать осаду и возвращаться в Тулузу. Иначе потеряем и Ламберта, и вашу столицу…
– Хорошо, – сказал Симон.
Устроить переговоры для Симона взялся Драгонет с Драконьей Горки. Явился по зову, полученному через своего младшего брата Понса (Монфор действительно отпустил того в Бокер, как и обещал).
Был этот Драгонет невзрачный, малого роста хромец, в улыбке двух передних зубов не хватает. Но Симон знал ему цену: боец этот Драгонет очень хороший. За то и был Дракончиком прозван.
Завидев Симона, склонился перед ним Гийом-Драгонет и от души поблагодарил за младшего брата: что не повесили, не разрезали на куски, не содрали кожу и так далее.
Симон выслушал, невесело усмехаясь. Спросил невпопад:
– А что, пленные, каких Рамонет ваш взял, – они уже все мертвы?
– Да, мессен, – отвечал Драгонет. – К счастью.
Симон угостил Драгонета в своей палатке вином и фруктами, не слишком, впрочем, того удивив: в Бокере припасов доставало. За неторопливой беседой подобрались и к тому, ради чего встретились: к условиям перемирия. Драгонет, всегда многословный и суетливый (и сейчас весь извелся, все вещи в симоновой палатке перетрогал), сделался вдруг в речениях кратким. Видать, то передавал, что было от других наказано.
Сеньор де Монфор снимет осаду и уйдет от Бокера, не требуя этих земель и забрав все войска. В таком случае гарнизон, запертый в цитадели, будет пропущен через город и сможет воссоединиться с сеньором де Монфором.
Симон сказал, что условия ему подходят. Предложил место встречи: равнину перед Винными воротами.
Драгонет перекосил лицо.
– Там до сих пор воняет, мессен. Нельзя ли…
– Зато это открытое место, – перебил Симон. – Почти невозможно устроить засаду.
Драгонет спросил зачем-то:
– Почему «почти»?
– Потому что, по милости Господней, невозможного не бывает.
– Аминь, – торжественно заключил Драгонет и встал. – Я рад, мессен, что мы с вами завершаем это дело миром.
Симон оделил его сердитым взглядом и ничего не ответил.
На следующий день Рамонет предстал перед своим смертельным врагом. Юный сын Раймона стоял на поле, бывшем недавно полем битвы, слегка подергивая тонкими ноздрями: не все трупы были похоронены. Откуда-то из оврага доносился запах разлагающейся плоти.
Рамонет ждал, поигрывая тонкими перчатками. Длинные темные волосы свились в локоны у висков и на затылке. Ветерок теребил светлые рукава его камизота.
И вот разом поднялись над полем вороны, невидимые в овраге, и заполонили воздух черными перьями и шумным карканьем.
Предшествуемый воронами, шел Симон де Монфор.
Остановился в трех шагах, не спеша здороваться.
Старый Симон, провонявший дымом и потом, в тяжелых доспехах, седой, был шире Рамонета почти вдвое, хотя едва ли превосходил ростом: Раймоны были высоки и стройны.
Видя, что граф Симон стоит как столб, Рамонет чуть улыбнулся и поклонился ему с подчеркнутой учтивостью.
– Приветствую вас, мессен граф де Монфор.
Симон ответил:
– Примите ответное приветствие, мессир.
И замолчал, тяжко глядя Рамонету в лицо.
Не смущаясь нимало некуртуазным обхождением франка, Рамонет заметил:
– Мне сказывали, что ваши люди в цитадели испытывают трудности.
И махнул перчатками в сторону черного знамени.
– Да, – сказал Симон.
Рамонет обласкал старого льва лучистым взором.
– Город мой, а люди ваши, – сказал он. И хлопнул перчатками по ладони. – Вы хотели забрать своих людей из моего города. Я правильно вас понял? Или этот Драгонет опять что-то перепутал?
– Вы поняли правильно.
Симон неподвижен. Ни вонь, ни жара ему будто нипочем. И с Рамонетом разговаривает, едва скрывая раздражение. Слова сквозь зубы цедит.
Рамонета симонова злоба только забавляет. Чем злее Симон, тем веселее сыну Раймона Тулузского.
И совсем уж лучезарно говорит Рамонет графу Симону:
– Что ж, все это можно устроить. – Небрежно, будто о пустяке. – Вы получаете… то, что осталось от ваших людей, и немедленно уходите с моей земли.
И еще раз улыбнулся Симону. Подождал. Симон хранил молчание. Рамонет медленно поднес перчатки к лицу, чтобы скрыть зевоту.
– Хорошо, – бесстрастно вымолвил Симон. – Назначьте время.
– Завтра на рассвете.
Симон поднял глаза к донжону. Еще половина дня и одна ночь.
– Хорошо, – повторил он ровным тоном.
– Благодарю вас, мессен, – сказал Рамонет, изящно кланяясь. – А мне говорили, будто франки неуступчивы.
– А вы повесьте тех, кто вам это говорил, – посоветовал Симон. И не прощаясь пошел прочь, обратив к Рамонету широкую прямую спину.
Ламберт де Лимуа и с ним пять дюжин человек – все, кого удалось сберечь за три месяца осады – покидают Бокерскую цитадель.
Город смотрит, как идут побежденные – отощавшие, с запавшими глазами, с иссохшими, полными вшей волосами. Оружие тяготит их, гнет к земле. Телегу с наваленным на нее скарбом тащат пятеро солдат. Сбоку от телеги шагает капеллан, щуплый, будто мышка.
Развернув оба знамени – и красное с золотым львом, и черное без всяких знаков – спускаются они по склону к Винным воротам.
Бокерцы смеются им в лицо, плюют под ноги, бросают грязью в спину.
Симон со своими баронами выходит им навстречу, за палисад. Смотрит, слегка щуря глаза, как открываются ворота и показываются – сперва знамена, затем люди.
Один за другим выходят они на равнину. Следом несутся выкрики и хохот. Франки словно не замечают.
Опережая знаменосцев, скорым шагом подходит к Симону Ламберт де Лимуа и, остановившись, преклоняет колено.
Обеими руками поднимает его Симон.
Ламберт сделался совсем тощим, одни мослы – настоящий Мессир Смерть. Лицо у него усохло, стало маленьким, каким-то старушечьим, только хрящеватый нос упрямо торчит – почему-то вбок, будто сломанный.
– Я рад вас видеть, – говорит Симон тихо.
Ламберт де Лимуа улыбается.
– Я тоже, мессир.
7. Ссора с дамой
Снова Ним – в горьком воздухе ранней осени. Отступление. Проклятье, отступление!
Старый лев пятится, исхлестав себя по ребрам. Слегка приоткрыты крупные, желтые клыки, утроба исторгает гулкое ворчание. Впервые в жизни отходит от добычи этот зверь, унося на языке привкус ее крови.
По сухим дорогам гремят железными ободами телеги. Большие колеса волокут на себе мешки с подсохшим хлебом – последнее, что взяли с ощипанных бокерских вилланов. Хуже мешков – бессильно простертые люди, перемолоченные осадой: у кого в боку стрела, у кого воспалилась худая рана.
Симон подгоняет: быстрей!
Симон спешит в Тулузу.
От грохота тележных колес больно в ушах. Ламберт, наголодавшийся, черный, как сарацин, горбится в седле – груда крупных мослов под рваным плащом. Ради Ламберта Симон обидел конного сержанта: согнал с лошади, заставил пешим трястись за телегой.
Пешими идут многие – даже из тех, кто к такому вовсе не привычен. Лошадей не хватает. Какие пали, каких съели. Деревни между Нимом и Бокером, сколько их было, все раздеты догола трехмесячной осадой; там уж и взять нечего.
Тех мужланов, что забрали в армию Монфора в начале лета, теперь милостиво разогнали по домам: ступайте себе, мужланы.
На второй день армия входит в Ним.
Городу теперь печаль и забота: как бы поскорей выпроводить Симона с его сворой. Симон и сам рвется в Тулузу: беспокойно ему очень. Городским старшинам отдается повеление: добыть лошадей, числом не менее ста, но таких, чтобы могли свезти на себе всадника в кольчуге. Фуража доставить – на пять дней, с запасом. Для трехсот человек – провизии на три дня. Нагрузить на телеги. Коли телег недостанет, значит, добавить телег.
И видит Симон, что старшины нимские полны рвения и готовы расторопность явить и усердие. И за то желает граф Симон, как есть он верный рыцарь, вознаградить город Ним и уберечь его от посягательств возможного супостата. И потому оставляет он Ниму гарнизон на шею, с наказом беречь город сей, как девственницу, от любого насилия.
Старшины выслушали Симона с видом почтительным и кислым. Графу Симону до того было весьма немного интереса. Знал, конечно, что поторопятся спровадить его из Нима и ради того мать родную ломбардским кровососам в залог отведут, лишь бы скорей доставить франкам стребованное и избавиться от тяготы.
Старшин отпустил и призвал своего сына Гюи.
Гюи явился, припоздав. На хмурый взгляд отца ответил хмурым взглядом, но оправдания себе никакого не сказал.
Был Гюи таким же мертвенно-серым от усталости, как и прочие. Гнусный привкус имеет поражение, уродует даже и тех, кого обошло раной или увечьем. Мальчишке семнадцать лет, а глядит стариковски. Это всё поражение. Проклятье, это всё поражение.
Симона унылый, пеплом припорошенный вид сына раздражает еще больше, чем опоздание. Сердито велит избавить свою светлость от кольчуги, шнурованного дублета, сапог. Кольчуга на Симоне пахнет горячим железом и пылью.
Гюи нерасторопен и неловок. Гюи вообще всем плох, с какого боку ни зайди. Когда только в тело войдет, когда силы наберется? Тонкий, будто березка. Пора бы раздаться в плечах и поясе, стать шире, устойчивее. Хотя – вот, всю жизнь перед глазами – его дядя и крестный, младший брат Симона. Тому уж давно минуло сорок, а до сих пор такой тощий, хоть жилы тяни.
Стоя с отцовскими сапогами в руках, Гюи вдруг сказал:
– Из Тулузы опять худые вести.
– Повешу, – молвил Симон. Со стоном растянулся на кровати, сладко хрустнул косточками.
– Кого?
– Гонца.
– Что его вешать, – сказал Гюи. – И без того все знают. Будто Тулуза прежнему Раймону отписывает, зовет его обратно, а вас похваляется выгнать.
Помолчав, Симон спросил:
– Многие ли такое себе в голову вбили, что Тулуза…
Поперхнулся. А Гюи прилепил и вовсе невпопад:
– После Бокера что только в голову не придет.
– Вон!.. – заорал на сына Симон.
Гюи увернулся от пущенной в голову лампы. Сгинул. Лампа разбилась.
Симон яростно заворочался на кровати, устраиваясь для сна. Его донимал гнев. Хуже блох и клопов.
После Бокера что только в голову не придет!..
И вот уж Тулуза начинает слать письма в Арагон, где скрывается этот вероотступник, этот Раймон, прежде граф Тулузский, ныне – пустое место, бывшее нечто – теперь же ничто…
Симон верит. Симон верит каждому слову обвинения. Эти слова летят в него со всех сторон: о неверности Тулузы он получает известия почти непрерывно.
Рамонет-Раймончик, опьянев от удачи, бродит не скрываясь по землям Тулузского графства. То один, то другой городишко, втихую давясь радостью, машет, приманивает его к себе, сулит людей, провизию, блядей, лошадей и вечную любовь.
Наконец, Симон засыпает. Усталость давит его, не дает вздохнуть, примостившись на груди тяжелой, как турнирный доспех, тушей.
Симон оставил в Ниме с гарнизоном Ламберта. Тот не противился – и сам хотел отоспаться, отъесться, отпиться. И все остальное – тоже.
Симон спешно уходил на Тулузу. Уходил так, будто ему предстояло там воевать, а не мирно зимовать в окружении друзей и родичей.
Прощаясь с Ламбертом, Симон не удержался – попрекнул:
– Сберегите для меня Ним, мессир, коли уж не смогли удержать Бокер.
Уязвленный, Ламберт покраснел и молвил сухо:
– Прощайте, мессир.
Симон отозвался:
– Да хранит вас Бог.
И вышел вон.
В низком проеме, где пришлось пригибать голову, казался граф Симон огромным, как боевой слон.
С отрядом в триста всадников помчался Симон в Тулузу – помчался что есть духу. На ходу ели, на скаку спали.
По дороге рассылал гонцов по всем вассалам и гарнизонам, во все замиренные города и замки. Точно сеятель семена в разрыхленную почву, бросал весть и с нею призыв. И ждал Симон, чтобы взошли от тех семян не колосья, а воины, одетые в железо.
Местом сбора назначался Монжискар, малый город верстах в пятнадцати от Тулузы.
Точно обманутый муж, повел себя Симон совсем некуртуазно – на то и франк. Наука веселого вежества велит на шалости супруги глаза закрывать; с милым же дружком ее и самому свести задушевную дружбу.
Симон иначе замыслил. Дружку дамы своей вознамерился рубаху на голову задрать, заветное место жгутом перетянуть и по драгоценным колокольцам – серпом, серпом!.. А красотку – для дальнейшей острастки – высечь пребольно.
Юный Рамонет и впрямь пел обольстительные песни почти под самым окном у дамы Тулузы. Город чуял близость родной крови. Трепетал, волновался.
Разъяренный Симон с большой армией нежданно явился в Монжискаре – по воздуху перенесся, не иначе!
Рамонет призадумался. Отступился. Затаился.
В Тулузе тоже успели счесть флажки монфорова воинства.
Сочтя же, сделали выводы.
Забеспокоились.
Сильно забеспокоились. А главное – по делу.
Уже показались вдали башни Нарбоннского замка, уже заблестела впереди, сверкая, лента Гаронны, когда навстречу Симону выступили лучшие граждане Тулузы, числом сорок один, во главе с вигуэром.
О том тотчас же донесли Симону.
– В задницу их, – молвил граф, не удручая коня повелением замедлить шаг.
Брат Симона Гюи заметил:
– Мессир, будьте осмотрительны. Примите их.
Симон повернул к младшему брату лицо, докрасна загорелое, обрамленное хауберком – будто сросшееся с железной этой скорлупой. По резким морщинам, прочертившим лоб, растеклись капли пота. Правая рука Симона вдруг слегка задрожала. Он разжал пальцы, которыми стискивал поводья.
– Вам следует поговорить с ними, – повторил Гюи.
Симон разлепил наконец губы.
– Хорошо.
Медленно отведя назад руку, пальцем приманил к себе оруженосца – пусть приблизится.
– Идите скажите этим ублюдкам: Симон, граф Тулузский, выслушает их.
И вот Симон восседает на своем широкогрудом коне – огромный, сумрачный – а лучшие граждане Тулузы, плавая в поту, предстают перед ним. Морда симоновой лошади утыкается в грудь вигуэра.
Вигуэр начинает дозволенные речи.
– Мессен граф! Всецело преданная вам Тулуза выслала нас, избранных своих представителей, дабы мы, выражая пред вашим лицом всю ту неслыханную радость, которая, обуревая нас при известии о благополучном возвращении того, кто…
Даже симонова брата – уж на что терпеливый – и то жгутом скрутило.
А Симон – скала; недвижим под липким потоком.
Лучшие граждане тем временем бросают то влево, то вправо опасливые взгляды. Их беспокоит мрачность исхудавших франкских лиц и великое количество оружия. И эти тревожащие приметы видят они повсюду вокруг себя.
Вигуэр продолжает точить мед.
Симона извещают о счастии, которое охватило Тулузу при первом же слухе о приближении нового графа.
Симону выражают всеобщую любовь и преданность.
Симон непременно должен узнать о том, что Тулуза готовит ему праздничную встречу, как положено, с шествием, цветами и колокольным перезвоном…
– С перезвоном? – вдруг оживает Симон. – Готовит? Звонаря, что ли, за неусердие высекли?
Сбитый с толку, вигуэр замолкает и отвешивает изящный поклон. А Симон вновь погружается в каменное молчание.
Гюи, его брат, потихоньку подбирается ближе – удержать за руку, когда граф вигуэра начнет на куски рубить.
Вынырнув из поклона, вигуэр продолжает плести искусные словеса. Целый ковер на глазах у франкского воинства выткал. Итак, преданная Монфору Тулуза преисполнена глубочайшего изумления, видя своего господина идущим на нее чуть не войной. Разве не обменялись они клятвами, наподобие брачных, в присутствии прелатов, лучших людей города, благороднейших из рыцарей Иль-де-Франса, а также Господа Бога? И вот эта великолепная, эта смертоносная армия, мессен, – о!.. Разве не у себя дома вы, мессен? Да – вы возвратились к себе домой! В свои владе…
Тут симонова лошадь мотнула головой. Вздумалось ей так, скотине бессловесной. Вигуэр шарахнулся в сторону, теряя лоск и достоинство. Симон продолжал глядеть в пустое место, где только что был вигуэр.
– Ваша столица… – подал голос вигуэр, обретая прежнюю осанку. – Ваша Тулуза…
Вот тогда-то Симон и заревел во всю мочь:
– Моя Тулуза?! Моя Тулуза?!. Ах вы… сучьи дети… Вы!.. Ах, вы мне рады? Вы рады мне, да?.. Что ж тогда у вас из штанов воняет?.. Или у вас всегда воняет?
Он слегка надвинулся на вигуэра, оттесняя того, и Гюи чутко двинулся вслед за братом.
С новой силой Симон заорал, нависая над вигуэром с седла:
– А мне насрать, нравлюсь я вам или нет! Я – ваш господин! Ясно? Отвечай, ты!..
Вигуэр подавленно молчал, перебирая на месте ногами.
Симон задрал голову к небесам.
– Господи милосердный! – И снова на вигуэра (а в углах рта беловатой пеной закипает слюна): – Выблядки! Из-за вас я бросил Бокер! Из-за вас!.. Спешил… Я весь в дерьме!.. Бокер, Тулуза!.. Моя столица!.. Потаскуха!..
– Мессен! – запротестовал вигуэр. Уже совсем слабенько. – Слухи о юном Раймоне… Что юный граф Раймон… Слухи…
– Заткнись!.. Ты!.. – хрипло закричал Симон. Он кричал так, будто вигуэр находился на удалении полета стрелы. – Мне доносят! Вы сношаетесь с Раймоном, шлете ему письма!.. – Он всей ладонью хватил себя по бедру. – Ляжки перед ним раздвигаете!..
– Письма?.. – проговорил вигуэр, отступая на шаг, иначе Симон бы его опрокинул. – Ляжки?..
Симон кашлянул и плюнул, попав вигуэру на колено.
– Что – значит, просрал я Тулузу? Так вы ему писали? Звали его?..
– Мессен, – повторил вигуэр, – на самом деле…
У Симона вдруг сделалось горько во рту.
– Вы никогда меня не любили, – сказал он тихо. – Вы одного только своего Раймона любите…
Его брат, услыхав эти ревнивые слова, прикусил губу.
Симон поднял руку и торжественно проговорил:
– Клянусь Честным Крестом – я войду в Тулузу и возьму там все, что мне потребуется. Иисус мне свидетель, не сниму кольчуги и не положу меча, покуда не наберу от города заложников.
Вигуэр попятился. Оглянулся. Его спутники, лучшие люди Тулузы, стояли такие же бледные, растерянные. А огромный всадник над ним все грозил, грозил громким, хриплым голосом.
Заложники. Много. И не сброд, а самых знатных. Самых знатных.
– Эй! Хватайте их!
Два голоса, почти одновременно, почти слово в слово:
– Мессир, остановитесь!
– Мессир, не делайте этого!
Яростный взгляд – влево, вправо. Гюи де Монфор и рыцарь Ален де Руси. Та-ак.
Третий голос – снизу:
– Не совершайте ошибок. Сын мой, любимое мое дитя, вы будете потом горестно сожалеть…
Епископ Фалькон, пеший, без кольчуги, в одном только пыльном дублете. Стоит, запрокинув к Симону светлое, спокойное лицо. Разговаривает с графом бережно, будто с больным.
– Подождите несколько часов, сын мой. Совсем недолго. Подождите.
Симон тихо стонет сквозь стиснутые зубы.
– Прошу вас, – говорит епископ. – Я решу дело миром.
Симон молчит.
Фалькону подводят коня. Ловкий, как юноша, Фалькон садится в седло. Последний взгляд на Монфора – тот будто в странном сне.
Епископ гонит коня в сторону города. Десяток солдат мчится за ним – свита.
Симон долго смотрит им вслед. Переводит взгляд на вигуэра. Вигуэр лежит лицом вниз, пачкая одежду из превосходной дорогой ткани, а на спине у него сидит солдат и сноровисто вяжет ему руки. Еще несколько лучших людей Тулузы валяются снопами в таком же положении. Остальные стоят на коленях, белые как мел.
У Симона проясняется, наконец, в глазах.
– В замок их! – кричит он. – В подземелье! На цепь!
– Брат! – Гюи хватает Симона за плечо. – Брат! Остановитесь!
Симон стряхивает руку Гюи и обкладывает своего брата последними словами.
Осадив коня у Саленских ворот, Фалькон кричит, чтобы посторонились и дали дорогу. Человек двадцать горожан, вооруженных чем попало, толкутся, преграждая путь. Толкутся бестолково, как овцы. Но вот среди них трое, одетых похуже, а вооруженных получше… И еще один – в кольчуге, и осанка у него что надо, и меч на бедре ладный, и глядит спесиво и с вызовом.
Конные за спиной у епископа сердятся, шумят.
Тот, со спесивой рожей, хватает лошадь епископа под уздцы.
– Назовитесь, – требует он. – Сперва назовитесь, мессен.
Фалькон произносит свое имя. Тотчас же один из горожан – кому и раньше красивое, скучноватое лицо всадника показалось знакомым – выскакивает вперед:
– Это же наш епископ!
– Какой же он «наш»? – Спесивец отворачивается от Фалькона. – «Наш»? В армии Монфора?
– А разве Монфор – не наш граф? – спрашивает простодушный горожанин.
Фалькон повышает голос:
– Скорей, пока не случилось беды!
Лошадь мотает головой. Спесивец выпускает поводья, отступает в сторону. Фалькон теснит горожан.
– Расступитесь! Дорогу! Дайте дорогу!
Он врывается в город. Десяток мчится за ним. Спесивец орет им вослед от Саленских ворот:
– Какая еще беда?..
Улицы наполнены громом копыт. Отряд растянулся. Более двух в ряд даже на самых широких улицах не помещается. Сворачивая в переулок, Фалькон едва не сшиб женщину с угольной корзиной на голове. Корзина обрушивается на мостовую. По камням рассыпается уголь. Прижавшись к стене и пропуская мимо епископа со свитой, женщина плачет и бранится. На волосах у нее сбилось покрывало, грубого полотна, в черных пятнах.
Симон, не глядя, бросает на руки своего сына Гюи плащ и пояс с мечом, так что Гюи совсем погребен под этой грудой и делается как бы невидим.
Навстречу отцу выходят Амори – старший сын, наследник – и сенешаль Жервэ. Симон здоровается с сенешалем, дружески обнимает старшего сына, прижимает к широкой твердой груди. Спрашивает на ходу – как мать, как другие дети, здоровы ли.
– Не озорничали? – спрашивает Симон, оглядываясь во дворе. – Донжон не уронили?
Хохочет.
Не по-доброму смеется отец, исполнен гнева и тревоги. Амори совсем не весело, когда он видит это, однако и Амори улыбается тоже. Попробуй не улыбнись, если граф Симон шутку изрыгнул…
В раскрытые ворота на веревке, будто полон, тянут лучших граждан Тулузы. Всех – числом сорок один, во главе с вигуэром. Обернувшись, Симон все с той же недоброй ухмылкой глядит.
И Амори глядит. Радость от встречи с отцом сменяется на его лице заботой.
Симон говорит своему сыну Амори:
– Это заложники.
Амори молчит. И Жервэ молчит.
Симон повторяет (а ухмылка все шире, и беловатая корка в углу рта – засохшая слюна – трескается):
– Я взял от Тулузы заложников.
Амори молчит.
– Я хочу, чтобы вы разместили их в казематах, какие посуше.
– Хорошо, – говорит Жервэ.
Заложников загоняют во двор. Ворота с грохотом отхлопывают их от равнины, от Гаронны, от милой Тулузы. Солдаты – у многих сохранилась неизгладимая печать палестинского солнца – опускают полон на колени. Пусть ждут, что уготовил им граф. Они пленные, у них времени навалом. Пленным торопиться некуда.
Амори разглядывает их издалека. Забота все глубже бороздит его молодые черты. Кое у кого из заложников лица уже расцвечены побоями.
– Как их много! – говорит Амори отцу.
– Будет еще больше!
Симон отвечает громче, чем нужно. Пусть слышат. Пусть все слышат, даже те, кто с радостью отвратил бы слух от него, от Симона – Симона де Монфора, графа Тулузского.
– Господь с вами, мессир! – вырывается у сенешаля Жервэ. – Не слишком ли сурово вы поступаете с этими людьми?
А Симон – на весь двор – р-ряв:
– А коли и впрямь вздумает Тулуза бунтовать – повешу их на стенах. Одного за другим. Одного, – тык пальцем в сторону полона, – за другим – за другим – за другим… – Вытянув вперед темные, навсегда сожженные солнцем крепкие руки в белых шрамах: – Своими руками! – И, к Амори, без всякого перехода: – Где ваша мать?
– Ждет вас, мессир. – Амори показывает, где.
Все дальнейшие хлопоты о заложниках Симон переваливает на сенешаля, а сам широким шагом направляется к башне – туда, где ждет его дама Алиса.
Гюи, брат Симона, всё еще остается за стенами замка. Он возвратился к арьергарду и теперь следит за тем, чтобы все сеньоры с их отрядами разместились на равнине, не чиня излишних беспокойств друг другу.
Тулуза тревожится.
Тулуза знает за собою грех и потому страшится.
Фалькон влетает на площадь, распугивая беспечных кур, резко осаживает коня перед самым собором Сен-Сернен. Тотчас же двое из его свиты подбегают, чтобы помочь епископу оставить седло. Фалькон задыхается. Однако едва лишь его ноги касаются земли, как он отталкивает поддерживающие руки и опрометью бросается в собор.
Споткнувшись о нищего, всполошив двух унылых богомольных старух, врывается в ризницу.
– Где аббат?
Находят и приводят аббата. Тем временем Фалькон уже пробудил от сонного полузабытья ленивого дьякона. Дьякон устрашился и в одночасье сделался усерден.
А Фалькон отдавал приказы – будто пожар тушить прибежал.
Велел звонить.
Велел созывать народ.
Распорядился послать за консулами, за нотаблями и членами большого совета. Вынь да положь Фалькону нотаблей. Хоть из-под земли!..
Сомлев в страхе и неизвестности, Тулуза, едва только заслышала колокола, встрепенулась: вот оно!.. Сейчас все расскажут, все разъяснят!.. Что – как там Симон? Очень ли гневается? Будет наказывать или нет? И если повесит, то кого?
Сейчас!.. Сейчас!..
Площадь и базилика быстро заполняются людьми. Конники Монфора, отряженные в епископскую свиту, вздымаются над толпой. То и дело расталкивают людей, чтобы освободили путь для городской знати: тем место не на площади, а в соборе.
На ступенях, среди нищих (те-то уж рады-радешеньки приключению), утвердился Кричала – передавать толпе на площади слова, говорящиеся в соборе. Одним ухом Кричала в базилике, другим – вовне, на площади.
Вышел Фалькон – как был, в запыленной одежде, без надлежащего облачения, с одним только посохом в руке.
– Кто это? – понесся шепот.
Фалькон заговорил.
– Возлюбленные дети! Что вы натворили? Зачем подвергли себя смертельной опасности?
Этот голос – высокий, ломкий – многие узнали, ибо нередко слышали его прежде.
– Вроде, епископ это, Фалькон, – зашелестели голоса в паузу, пока Кричала надрывался на ступенях: «Зачем, говорит, опасности себя подвергаете? Смертельной!»
– Фалькон, Фалькон. Епископ. И посох у него.
– Мало ли что посох! Если б в ризах – тогда да, конечно. В ризах – тогда был бы Фалькон, а то…
– Дурные вести доходят до графа Симона, вашего доброго господина. Будто бы за его спиной Тулуза задумала предаться в руки еретиков.
– «За спиной у Симона, значит, Тулуза предалась еретикам! – вот что подумал Монфор», – драл глотку Кричала, а в толпе внимали, ужасаясь. – «Симон о том возьми да проведай! Вот что случилось!»
Тихий, от сострадания трепещущий, голос старого епископа:
– Я знаю, что это неправда. Господь знает, что это неправда. Этого не могло быть. Тулуза клялась Симону в верности. Не могла солгать Тулуза.
И столько спокойной убежденности в словах Фалькона, что слушатели его в то же самое мгновение проясняются лицами, просветляются взорами и невольно кивают головами, доселе клонившимися под тягостью дум. Ну конечно же, не может лгать Тулуза!.. Тулуза никогда не лжет. Вот и Господь это знает.
– Симон, граф Тулузский, в сильном гневе.
– «Гневается Симон. Зол ужасно!» – самозабвенно орет Кричала.
– Я знаю, каков в гневе Симон де Монфор. Вам же лучше не знать этого, ибо гневается он на вас.
В соборе – молчание. Кричала выплевывает на площадь:
– «Симон, говорит, на нас в страшной злобе. Того и гляди в клочья порвет»!
И дает петуха.
Кто-то, захлебываясь, кашляет под самой кафедрой. Консулы растревоженно смотрят снизу вверх – на Фалькона.
Епископ продолжает:
– Возлюбленные дети! Я научу вас. Вы не должны бояться Симона, хотя бы он и сердился на вас. Ведь вы не ведаете за собою никакой вины.
Кричала молчит. Задумался. В толпе начинают наседать:
– Что он говорит? Что епископ сказал?
– Говорит, будто нет на нас никакой вины! – сипло орет Кричала. Те, кто подобрались слишком близко к нему, шарахаются, будто их криком отбросило, – так неожиданно он завопил.
Фалькон в соборе уговаривает – негромко, проникновенно:
– Забудьте страх. Тулузу и Монфора связывают узы, наподобие брачных. Смело идите к нему. Покажите ему, что вы покорны его власти, а он не прав в своих подозрениях. Граф Симон глубоко верует в Господа. Он устыдится.
Кричала надсаживается:
– К Монфору идти советует! К ногам этого франка пасть! Покорность показать! Говорит – тогда, мол, простит…
Собор еще почтительно внимает епископу, а площадь уже волнуется.
– Монфор – франк! Что еще ему на ум взбредет?
– Знаем мы, как повинную голову меч не сечет! Очень даже сечет! Сам сек…
Из-под кафедры спрашивает епископа один из консулов:
– Боязно нам отдаваться в руки Монфора. Кто его знает, Симона? Он – франк…
– Я его знаю. Его знает Церковь. Граф Симон гневлив, но отходчив. Доверьтесь мне. Я сумею вас защитить. Вы же сейчас смело ступайте к Монфору и защищайте Тулузу. – Фалькон тяжко переводит дыхание. – Договоритесь с ним по-хорошему. Пока еще можно… Я удержу его руку.
Время уходит – неудержимо утекает, и с каждой песчинкой в часах его становится все меньше.
Толпа на площади шумит, да так громко, что уши начинают болеть. Откричавший свое Кричала сидит на ступеньках среди нищих. Те делятся с ним водой и дружески давят пойманную на Кричале вошь…
Еще чего – к Симону идти! В ноги ему пасть! Ему в ноги падешь, а он тебя как раз этой ногой по морде – только зубы подбирать успевай. Нет уж, лучше к Саленским воротам идти, там, говорят, Спесивец баррикадой улицу загородил.
Другие возражают. Монфор к Нарбоннскому замку целую армию привел. Видали – вон уж и шатры ставят, и костры палят, над кострами что-то жарят. Последнее дело для города с графом ссориться, если он и гневлив, и армию привел. Да и Фалькон обещал за руку Монфора удержать…
Первые – свое:
– Станет Фалькон за нас заступаться! Фалькон – католик; он с Симоном заодно.
– Господь с вами, конечно же Фалькон – католик. Кем еще ему быть, коли епископом в Тулузе поставлен?
Спросили Кричалу. Он-то почти что в самом соборе был. Хоть одним ухом – а епископа самолично слышал. Как, стоит Фалькону верить?
Кричала плечами пожал, сказал сипло:
– По мне так, хоть все они в огне сгори. Жила бы Тулуза.
Все сразу, объединившись, загалдели. Вот ведь от души человек сказал! Сразу видать – из-под самого сердца слова вынул. Да, добрая речь.
И так, согласно кивая, разошлись: одни пошли к Спесивцу баррикаду крепить, а другие – за Саленские ворота, на поклон к Монфору.
Симон имел обыкновение мыться чуть ли не крутым кипятком, поэтому вода, хоть и остыла немного, но все же оставалась горячей.
Гюи, сын Симона, просидел после отца в деревянной ванне, пока не сомлел. Грязи – что с отца, что с сына – натекло предостаточно. Родственная грязь: потревоженная пыль одних и тех же дорог.
Наконец, Гюи выбрался на волю. Оставляя мокрые следы, прошлепал к лавке, где бросил одежду.
Аньес, заискивающе улыбаясь, подала молодому господину рубаху, помогла натянуть на влажное тело. Ребра, позвонки, ключицы, острые лопатки – всего Гюи обежала пальцами. Мил он ей.
Гюи дал себя одеть, позволил огладить. На лавку плюхнулся, вымолвил со вздохом:
– Ох. Устал…
И вдруг ухватил Аньес поперек живота и, весело визжащую, подмял под себя.
Знатная баррикада получилась у Спесивца. Воздвиг ее (и многие спешили ему в помощь) напротив Саленских ворот. Только что это за ворота, если стены снесены? Одно воспоминание осталось.
Спесивец не стал дожидаться исхода разговоров Симона с городом. Будто бы и без того не понятно, чем эти разговоры закончатся. Большой кровью они закончатся.
Горожане – и страх им, и вместе с тем праздник – выбрасывали из окон всякий хлам, с превеликой охотой жертвовали баррикаде рухлядь, обломки и даже крепкие вещи, несли старую мебель, мешки с соломой, дрова. От строительства возле собора Сен-Этьен похитили и доставили бревна и кирпичи. Все это наваливалось на пересечении двух улиц и обильно сдабривалось сверху битыми горшками.
Нарбоннский замок хорошо виден отсюда, с баррикадной верхушки, где Спесивец и его друзья-удальцы в ожидании событий подкрепляют силы хлебом и разбавленным вином. Передают из рук в руки флягу, перешучиваются, переругиваются, пересмеиваются. В ставни нависших рядом домов, озорничая, стучат: вдруг оттуда красивая девушка выглянет.
Оружие – заостренные палки, копья, топоры, пращи, два неплохих арбалета и у Спесивца рыцарский меч.
Передний вал баррикады щетинится десятками кольев, направленных на замок, – как бы в оскале.
Нарбоннский замок. Средоточие могущественного монфорова гнева.
Вот видят Спесивец и остальные: по соседней улице движется процессия во главе с нотаблями. Торжественно колышется знамя, красное с золотым крестом. В задних рядах горожане, из тех, кто поплоше, усиленно тянут шею: разглядеть бы, что там, впереди. Нестройно распевают Veni Creator, выкликают: «Монфор!» и «Тулуза!» – сочетание имен невозможное, несбыточное.
А навстречу шествию, рассыпавшись по пустому полю, отделяющему город от замка, мчится другая толпа. Что-то кричат на бегу, только разобрать невозможно за дальностью.
В головах процессии видят, что у Нарбоннского замка творится неладное. Замедляют шаг, а то и вовсе останавливаются. Сзади топчутся, наседают.
У самых ворот один людской поток встречно сливается с другим. Хвост процессии продолжает завывать на все лады Veni Creator, а в воротах уже водоворотом вьется паника. Нотабли пытаются развернуть назад. С поля все прибывает и прибывает испуганного народа.
– Назад!.. – кричат беглецы. – Монфор!..
Сзади напирают:
– Монфор! Монфор! Тулуза!
– Скорее!.. В город!.. Симон взял заложников!
Над головами шевелится красное полотнище, вспыхивает золотой тулузский крест.
– Назад!.. Назад!.. В город!..
Беглецы втискиваются между нотаблями – белые от страха глаза, тяжелое дыхание.
– Симон! Симон велел убивать всех!
Страх прокатывается по толпе, как судорога по умирающей змее.
– Назад! Назад!
Знамя исчезает. Несколько солдат из свиты Фалькона окружены слепой от ужаса толпой. Солдаты испуганы не меньше. В них летят плевки и угрозы, угрозы и плевки – но это только до первого удара. А после уже не остается от них ничего, что можно было бы похоронить по-христиански.
По телам, растоптанным в кашу, оскальзываясь, толпа несется обратно в город.
Спесивец, стоя на верхушке баррикады, размахивает руками – зазывает:
– Сюда! Сюда!
Многие бегут к нему, под защиту баррикады. Другие, будто одержимые жаждой, растекаются по улицам. Возле епископской резиденции остались еще люди Монфора.
Обманом проникли в город! Нарочно проникли! Убивайте всех! Убить их всех!
Франков гонят, как дичь. Франков всего шестеро – но вооружены; но защищены кольчугой и шлемом; но бьются отчаянно, не разбирая, кто попадает под удар – мужчины или женщины, старики или дети.
Франки погибают один за другим, все шестеро. Их тела волокут к баррикаде.
Спесивец велит снять с убитых оружие и все ценное, раздеть и усадить на баррикаде в непристойных позах. Это исполняется с восторгом. Мертвецам связывают руки, заставляя держаться за уд. Все кругом хохочут и радуются, будто только что одержали величайшую победу.
Еще несколько баррикад преграждают доступы к Дораде и Капитолию. Тулуза пьяна собственным мужеством.
Пусть приходит. Пусть только сунется.
И сунулся – Гюи, брат Симона, его друг, его цепной кобель. С ним сотня всадников – тяжелая рыцарская конница – и десяток лучников. И еще старший сын Симона – Амори.
От всадника до всадника – большое расстояние. Широко рассеялись по всему полю и потому кажется, будто их очень много. Сперва медленно, а затем все быстрее и быстрее – разгоняя лошадей, криком грея в себе ярость – конница накатывает на город.
Тулуза ждет, готовая содрогнуться под первым ударом.
Все ближе, ближе…
Ворвались – сразу в нескольких местах. Загремели, заголосили по улицам, не глядя ни вправо, ни влево. На скаку разрубали и кололи все, что шевелится: человека, свинью, собаку – ни перед кем не удерживали руки.
Из окон, с крыш на конников вдруг дождем посыпались камни, обломки черепицы, палки, горшки – что ни попадется. Лошади пугались, шарахались.
Вылетев за поворот, Гюи резко натянул поводья. Первая баррикада едва не насадила его на колья. Обернувшись, Гюи закричал тем, кто шел следом:
– Назад! Бароны, назад!..
С трудом развернулся на узкой улице. Конь упрямился, тряс головой и вдруг заржал, оседая на задние ноги. В его бок, пронзив простую белую попону, вонзилось длинное копье. Гюи успел выдернуть ноги из стремян. Падая, конь придавил его. Гюи страшно закричал. Один из франков, спешенный, уже бежал к нему.
Гюи с трудом высвободил из-под конской туши руку. Солдат выволок симонова брата, и оба они тотчас пали на мостовую, хоронясь от стрел и камней. Не поднимая головы, пятясь, отползли назад и скрылись за углом. Конь, истыканный стрелами, остался громоздиться перед баррикадой.
– Зажгите баррикады! – крикнул Гюи, вскакивая на ноги.
К нему подлетел Амори – светлые волосы, широкое лицо.
– Дядя! У Дорады и дальше, за Капитолием, – там улицы перегорожены.
– Наденьте шлем, – сказал ему Гюи.
Лучники уже срывают с плеча колчаны, вынимают стрелы, загодя обмотанные соломой и тряпками, – все быстро, молча, привычно. Один за другим выскакивают из-за угла, посылают в баррикаду горящие стрелы – и снова скрываются.
Вскоре вся улица затянута дымом. В огне скрываются и туша коня, и мертвые франки, насмешки ради выставленные перед баррикадой, и острые зубы-колья.
Спесивец и его сотоварищи бегут сломя голову прочь и с ними вместе спасаются и жители соседних домов. Пламя, весело треща, растет, поднимается выше, зализывает ставни домов, нависающих справа и слева…
Сопровождаемый пожаром, Гюи отступает на север от Саленских ворот, к собору Сен-Этьен.
– Тулуза! – кричат со всех сторон. Из окон, с крыш. И вместе с этим кличем изливаются на людей Монфора нечистоты, мусор, битые горшки, камни.
– Бокер! Тулуза! Тулуза!
Перед конными бегут, припадая к стенам, лучники. Нависающие над первыми этажами более широкие вторые спасают пеших от града камней, которым горожане осыпают конников.
– Быстрее, бароны! – кричит Гюи де Монфор. – К Сен-Этьену! К Сен-Этьену!
Стремительно повернувшись, Гюи ищет взглядом Амори. Старший сын Симона цел. Вот он наклоняется, подхватывает на коня лучника – у того разбита голова. Слепой от крови, лучник обвисает в седле, тяжко наваливается на Амори.
Сжимая зубы, Амори скалится. Амори очень похож на Симона.
Гюи кричит:
– Племянник! Наденьте шлем!
В следующее мгновение мир для Гюи меркнет. Голова – благодарение Создателю, защищенная шлемом – наполняется гулом, сквозь забрало течет что-то липкое, вонючее. Гюи хватается за шлем, срывает его. Из шлема выливается зловонная желтоватая жидкость. Гюи кашляет, плюется. Повсюду сыплются камни и палки. Ругаясь, Гюи вновь надевает шлем.
Последний поворот.
Вырвавшись из теснины улиц, как из западни, на площадь перед собором Сен-Этьен, Гюи оглядывается. Епископская резиденция спокойна – островок невозмутимости.
За спиной у Гюи, возле Саленских ворот, дымится, готовясь запылать, город.
Следом за Монфором и из соседних улиц на площадь вылетают всадники. С грохотом несутся к собору. Город остается позади. По ущельям-улицам тянется удушливый черный дым, и мятеж тонет в нем. Горожане торопятся спасти свои жилища и свое имущество.
Издалека завидев этот дым, Симон с малым отрядом спешит на помощь брату.
День уже истощается, сменяясь долгим кровавым вечером.
Не решаясь увязнуть в улицах, Симон обходит город с внешней стороны и готовится ворваться туда через Серданские ворота.
Там уже ждет отряд городского ополчения. И оружие-то у них неплохое, и выучка заметна (надо же!), и командиры из рыцарского сословия.
Пробиваясь друг к другу, братья грызут этот отряд с головы и хвоста, покуда остатки ополченцев не обращаются в бегство и не удирают искать укрытия у святого Сатурнина, в соборе Сен-Сернен.
Отплевываясь кровью и желчью, выбирается из мятежной Тулузы Гюи де Монфор и с ним его отряд – всего сто восемьдесят пять человек.
От копоти черный, приметно вонючий, Гюи сжимает руки брата. Симон окидывает его с ног до головы быстрым, наметанным взглядом: цел.
– Где Амори? – спрашивает Симон вместо приветствия.
– Я здесь.
Амори – в пятнах чужой крови, но невредимый.
На равнине пылают костры. В городе дымит, тлеет, угасает пожар. Медленно меркнет закат.
Аньес, сонная, входит, пошатываясь. Подает большой медный таз с водой. Симон склоняется, черпает обеими ладонями, плещет себе в лицо и за шиворот, шумно фыркает.
Аньес зевает во весь рот. И скучно ей, и томно, и спать охота.
Брат же Симона, как назло, затеял долгое умывание. И так себя польет водой, и эдак. Целую лужу надрязгал. Под конец и вовсе головой в таз засунулся, волосы намочил.
Симон уже растянулся на кровати. Глядит лениво. Неожиданно спрашивает у девушки:
– Это тебя, что ли, привечает мой сын Гюи?
Девушка давится зевком. Глаза сразу делаются настороженными.
– Да, мессир.
И приседает.
– Как тебя звать?
– Аньес, мессир.
Симон осматривает ее – внимательно, с усмешкой. Аньес – создание юное, тоненькое, под просторной рубахой никаких округлостей не проглядывается.
Отвернувшись, Симон говорит:
– И охота костями о кости стучать.
Аньес глупо хихикает в кулачок.
Наконец симонов брат завершает свое бессмысленное плюханье и требует полотенце. Аньес обтирает его мокрые, коротко стриженные волосы – темные, с проседью. Ее руки двигаются медленно, неловко, да и вообще она нерадива.
– Все, мессир? – спрашивает Аньес с надеждой.
– Убирайся.
Девушка забирает полотенце, подхватывает таз и неспешно покидает комнату.
Это маленькая, темная комната на третьем этаже башни, возле оружейного склада. Здесь есть кровать, достаточно просторная для трех человек. В большом одноногом подсвечнике коптит толстая белая свеча.
Амори уже спит. Амори – воин; если рядом нет опасности, спит в любом шуме.
– Хотел спросить вас, брат, да при Амори не решился, – говорит Симон. – Чем это от вас сегодня так разило? Уж не обоссались ли вы с перепугу?
Гюи хохочет.
– Мне на голову вывернули ночной горшок.
– Так я и подумал.
Гюи гасит свечу, подходит к кровати.
– Подвиньтесь.
Некоторое время они лежат молча. Амори тихо, как ребенок, посапывает во сне.
Симон говорит задумчиво:
– Вы уже знаете, сколько человек потеряли?
– Двадцать шесть.
– Как она меня ненавидит…
– Кто?
– Тулуза.
Гюи молчит.
Симон приподнимается на локте.
– Завтра повешу заложников.
Молчание.
Симон резко поворачивается к брату.
– Почему вы молчите?
Гюи нехотя отзывается:
– Не делайте этого.
В темноте Симон шипит:
– Вы все время, все время перечите мне.
– Потому что вы начали терять рассудок, мессир.
– Вы постоянно теперь ставите мне палки в колеса.
– Особенно сегодня, в Тулузе.
– Я должен был сразу повесить этих лицемеров и взять город с ходу. Тогда вы не лежали бы тут обоссанный.
– Мессир, если вам нужен добрый совет, то вот он. Просите Фалькона. Он уладит дело миром. Просите епископа. Он ведь и сам этого хочет.
– Я устал! – говорит Симон. – Если бы вы знали, как я устал.
– Решите дело миром, – повторяет Гюи.
– Добавьте, что я во всем виноват.
– Не только вы.
Симон сжимает свои большие кулаки.
– Я раздавлю ее. Я раздавлю ее так, что вода из камней потечет.
– Мессир, это ваш город.
Помолчав, Симон осведомляется – раздраженный:
– Так что же я, по-вашему, должен делать?
– Мессир, я очень хочу спать.
Гюи отворачивается от брата и почти мгновенно проваливается в сон.
Спустя короткое время Симон грубо вырывает его из забытья. Прямо над ухом Гюи он громко произносит:
– Знаете ли, брат, почему я до сих пор не велел вздернуть вас за непокорство?
Гюи сонно бормочет, что не знает.
Симон задирает брови, резко обозначив морщины на лбу. Даже в темноте – неполной, ибо край неба в окне озарен лагерными кострами – видно загорелое лицо Гюи: темное пятно на белом покрывале.
– Только потому, – сердясь, говорит Симон (ему безразлично, слышит ли его брат), – что на этом свете у меня только два искренних друга: вы и Алиса.
Два дня метался Фалькон между разъяренным Симоном и оскорбленной Тулузой. Пытался одолеть пролитую ими кровь.
Осунувшийся, бледный, переходил из дома в дом, везде получая одни только попреки.
А ему нужно было, чтобы его выслушали, вот и ходил, как нищий за подаянием.
Тулуза Фалькона не любила, но – дивилась. Всегда найдет, чем занять эту капризную, совсем не благочестивую красавицу. А ведь с виду и не скажешь, чтобы изобретателен был и находчив: обличьем скучноват, хоть и хорош собой.
В молодые годы баловался Фалькон трубадурским искусством и даже преуспевал в сочинительстве, но после что-то такое случилось с ним, забросил лютню и веселое вежество и подался в монахи.
Сперва, как сделался епископом, Тулуза аж привзвизгнула: епископ-трубадур!..
А Фалькон тогда еле концы с концами сводил, церковь была разорена, католиков перечесть – хватало пальцев на руках у него да у дьякона; прочие же исповедовали катарскую веру, либо не исповедовали никакой.
Однако даме Тулузе, на насмешки скорой, не позволил Фалькон сделать из себя посмешища. Вместо того взялся за нелегкий труд в католичество эту даму обращать. Она вся извертелась, то одного острослова на Фалькона напустит, то другого. Тут и убедилась, что у епископа немало острых ножичков в рукавах прячется.
Попривыкла к нему. Полюбила даже. Но потом пришел в Тулузу граф Монфор, и Фалькон открыто принял сторону франков.
Монфора дама Тулуза своему епископу так и не простила.
А он продолжал ходить от двери к двери и стучать, прося милости.
За спиной у Фалькона собор Сен-Сернен, перед носом тяжелая дверь. Дом богатый, два окна на площадь. С двери на епископа поглядывает, ухмыляясь, медная шутовская морда с кольцом в зубах.
А за дверью, в господских покоях над лестницей сидят за кружечкой доброго вина два старых приятеля, два состоятельных торговца – Гуго Дежан, хозяин дома, и сосед его Белангье. Оба давние друзья и обожатели графа Раймона. Не раз сиживал веселый старый граф с ними за одним столом.
Разговаривают.
Уж конечно, епископа своего бранят на все корки.
– Нарочно все подстроил, дьявольское отродье.
– Разумеется, нарочно.
– Надо было догадаться! «Пусть, мол, самые знатные идут на поклон к Монфору»!..
– «Смягчить его сердце»! Вы можете себе представить, чтобы у Монфора вдруг смягчилось сердце?
– У Монфора вообще нет сердца.
– Слишком уж хитер Фалькон. Явился будто бы с миром, а сам с собою свиту протащил. Чтобы истреблять потом народ…
– Хорош пастырь: собрал овечек и погнал их в пасть волку…
Много нелестного о епископе высказали; после утомились.
– Я ведь его еще в Марсалье знал, – сказал Белангье задумчиво. – Я держал там лавку… Вел дела с его отцом, с мессеном Альфонсо.
– Почтеннейшая личность, – вставил Дежан. Он тоже знавал мессена Альфонсо.
– Слишком поглотили его торговые заботы. За сыном-то недоглядел.
– Да, – подхватил Дежан, – случается такое, чтобы у добрых родителей вырастали дурные дети.
Они пили вино и жевали хрустящие хлебцы. Они во всем были согласны друг с другом. И только на душе сладковато и тревожно ныло ожидание.
Белангье засмеялся.
– А знаете ли, друг мой, какую историю я слышал о ханжестве Фалькона?
О Фальконе рассказывали множество историй, одна другой забавнее.
– В прежние времена, – начал Белангье, – когда Фалькон еще не подался в монахи, сочинял он, как вам известно, песенки. Так, дрянь песенки. Но затем раскаялся и художество трубадурское из сердца изверг.
Дежан слушал, заранее улыбаясь.
– И стоит теперь кому-нибудь спеть прежнюю фальконову безделку, как он немедленно карает сам себя и в тот день не ест ничего, кроме хлеба, и пьет только воду.
Оба засмеялись. Потом Дежан сказал:
– Вот бы заставить его поголодать.
– Это легко устроить, – молвил Белангье. – Всегда сыщутся доброхоты сообщить стишки желающим.
– А мелодия?
Белангье засмеялся.
– Ничего, сосед, проорем без мелодии; от этого хуже не сделаются.
И достал клочок, где поверх плохо затертых цифр – локти ткани, помноженные на солиды, – были накарябаны стихи.
– Откуда у вас? – спросил Дежан.
– Говорю вам, доброхоты сообщили. Весь город знает, что сейчас Фалькон…
Тут служанка поднялась наверх, к господам, и испуганно доложила:
– Там Фалькон.
Дежан развернулся к ней всем корпусом.
– Ты ему не открыла?
– Нет, мессен, – ответила служанка.
Дежан встал и направился к входной двери. Белангье, чуя потеху, пошел за ним следом.
Дверной молоток застучал снова. Дежан подобрался к окошечку в двери и громко спросил:
– Кого там черти принесли?
Грозно спросил, даже брови нахмурил, хотя из-за двери этого видно не было.
– Епископа Фалькона, – необидчиво отозвались с площади.
– Так скажи им, пусть унесут обратно.
Белангье тихонько засмеялся.
– Отворите мне, – попросил Фалькон. – Я хочу поговорить с вами.
– Вот еще! – выкрикнул Белангье. – Отворить вам! Ведь вы только прикидываетесь кроткой овечкой, а на самом деле вы – епископ дьяволов.
И ликующий взгляд на Дежана бросил: как?.. Дежан закивал, давясь безмолвным смехом.
– Это правда, – грустно согласился Фалькон. – Ведь вы дьяволы, мессены, а я – ваш епископ.
Дежан с Белангье переглянулись. Пора! Белангье извлек свой клочок со стихами, оба почтенных торговца сблизили над ним головы и дружно заорали:
– Был слишком нежен с вами я,
Вы отвернулись от меня,
И друга верного гоня…
За дверью было тихо.
– Ушел? – шепотом спросил Дежан.
Белангье пожал плечами. Дежан резко распахнул дверь. Фалькон стоял на пороге. Дежан столкнулся с ним лицом к лицу.
– Благодарю вас, – молвил ему Фалькон.
Дежан растерялся.
– За что?
– Никогда не поздно вспомнить о своих грехах, – пояснил Фалькон.
– Это вы о себе? – хмыкнул Белангье. Пергамент в рукав сунул.
– Да и о вас тоже.
– Ладно, – перебил Дежан. – Говорите, зачем пришли, и уходите. Без вас было куда лучше.
– Я сейчас уйду, – утешил Фалькон. – Я приходил с просьбой.
– Говорите, говорите. А что, монахи все попрошайки?..
– Я прошу вас помириться с графом Тулузским.
Дежан с Белангье сочно захохотали. Потом Дежан произнес:
– С графом Тулузским я в большой дружбе, а вот с захватчиками и чужаками и вправду подчас враждую.
– Я говорил о Симоне де Монфоре, – спокойно сказал Фалькон.
Дежан криво улыбнулся.
– Раз вам удалось истребить полгорода одним только коварством.
– Вы же знаете, что это ложь.
Дежан призадумался.
– Ну и что? – сказал он с вызовом. – А чего вы от нас добиваетесь, мессен епископ?
– Я хочу, чтобы завтра вы пришли в Вильнёв для разговора с сеньором де Монфором.
– Да вы в здравом ли рассудке? – вмешался Белангье. – Вы действительно думаете, что мы придем?
– Да.
– Потому что вы нас попросили?
Фалькон усмехнулся.
– Из любопытства.
И пошел прочь.
– Эй! – крикнул ему в спину Дежан. – А что там такого любопытного будет?
Фалькон не ответил.
Дежан с досады плюнул и захлопнул дверь.
Утро и день Фалькон провел в Тулузе, уламывая чванливых горожан одолеть испуг. К вечеру, иссиня-бледный от усталости, выпив только горячей воды, ушел из своей резиденции неподалеку от собора Сен-Этьен и направился к Нарбоннскому замку. Дьякон шумно причитал ему вслед, однако остановить не посмел.
В Нарбоннском же замке бушевал Симон де Монфор. Бурно ссорился со своим братом Гюи и рыцарем Аленом де Руси – давнишним другом еще по Святой Земле. Рыцарь Ален был верзилой, каких поискать, выше Симона, с хмурым, грубоватым лицом. Симон отдал ему город Монреаль.
Все трое ужасно кричали друг на друга.
– Я сдеру с них кожу! – орал Симон.
– Да вы ума лишились, мессир!
– А Тулузу я…
– Да замолчите же!..
– …по камешку!..
– Посмейте только!..
– …уничтожу…
– От вас все отвернутся!
Фалькон попытался что-то сказать, но за день бесконечных разговоров с неуступчивой Тулузой осип, а перекричать Симона не так-то просто даже его брату Гюи.
– …сжечь гнездо…
– Мне что, на колени перед вами встать? – завопил Гюи в лицо брату. – Выслушайте же меня!
Симон слегка отпрянул.
А Гюи и в самом деле брякнулся на колени и так, на коленях, принялся поносить своего старшего, своего любимого брата.
– Вы утратили разум, мессир! Прежде я любил вас! Теперь стыжусь! Прежде я преклонялся!.. А сейчас… мне вас жаль!
– Ах вы, дерьмец! – рявкнул Симон. – Немедленно встаньте!
– Не встану! – разъярился Гюи. – Так и буду стоять!.. вам на позор!..
– Только себя опозорите!
– Это вы себя опозорите, если разрушите город! Придите в себя, брат!
– Я и без того в себе!
– Вижу я, что наша мать однажды разродилась дураком! – крикнул Гюи.
Симон размахнулся, чтобы ударить его. Ален схватил графа за руку.
– Вы будете жалеть, – сказал Ален после краткой паузы и выпустил руку Симона.
Тут Фалькон побледнел еще сильнее и стал тихо оседать на пол.
Братья тут же забыли свою ссору и бросились к епископу. Фалькон слабо отталкивал их руки и качал головой.
Симон подхватил епископа на руки и отнес на кровать, в опочивальню. Согнав пригревшегося там пса, Симон осторожно опустил Фалькона на смятые покрывала.
– Вы больны? – спросил он.
Гюи запалил лучину.
Фалькон тихо сказал:
– Я не болен.
– Что с вами? Я позову лекаря.
– Не нужно. Я устал.
Симон помолчал. А Фалькон, радуясь наступившей тишине, с укоризной сказал своему графу:
– Я весь день ходил, как побирушка, по городу, упрашивал…
– Вы сегодня ничего не ели, – сказал проницательный Гюи.
– Я поел в городе.
– Лжете, мессен епископ, – сказал Гюи, удачно передразнивая марсальский выговор Фалькона.
– Может, и лгу, – не стал отпираться Фалькон.
– А почему вы не ели? – насел Симон. – Я скажу стряпухе… Где эта… Аньес?
Фалькон мгновение смотрел Симону в лицо – прямым, сердитым взглядом. Потом опустил веки.
– Не нужно жечь Тулузу. Не нужно сдирать кожу… И оставьте меня, наконец, в покое.
Гюи сунул лучину горящим концом в воду. Симон, наклонившись, поцеловал сухую стариковскую руку епископа и вышел вслед за братом.
Вильнёв – новый квартал старой Тулузы. У Тулузы после поражения уже нет стен; у Вильнёва их еще нет.
И вот ранним утром в Вильнёве, между Нарбоннским замком и Тулузой, начинается большой сход. Там, где расступаются дома, давая место воскресному рынку, появляются городские нотабли, богатые торговцы, владельцы мельниц Базакля и другие важные персоны. И Дежан тоже здесь. Фалькон опять оказался прав: его пригнало любопытство.
Нотабли беспокоились. Все же, что ни говори, а Тулуза грозному Симону (хи-хи, но в кулачок, тихонько) недурно насовала. Да еще после Бокера, где он тоже позора нахлебался. Может ведь и не простить. Может ведь и вправду заложников перевешать, как грозился.
Вскоре вслед за тем прибыл и граф Симон. Явился под сверкание знамен, под рев труб, окруженный конниками, ослепляющий доспехами.
Не дав нотаблям времени опомниться, провозгласил:
– Бароны! Вы немедленно отдадите мне моих людей, которых держите в плену.
Растерянные, нотабли отвечали, что таковых очень немного, но препятствий к их выдаче не имеется.
– Заберите их, мессен.
– Хорошо, – сказал Симон. – Очень хорошо.
И засмеялся, махнув рукой в латной рукавице, только отблеск сверкнул (нарочно ведь всего себя в железо заковал!)
– А вы, господа, останетесь у меня в заложниках, – огорошил нотаблей Монфор.
Тут-то и проклял Дежан и легкомыслие свое, и коварного епископа. Рванулся было с площади, да повсюду проклятые монфоровы сержанты – хватают за руки, вяжут запястья, срывают пояс с оружием.
– Фалькон! – закричал Дежан, дергая связанными руками. – Фалькон!..
Железной башней возвышаясь над смятенной толпой, усмехается граф Симон. Серые глаза блестят на загорелом лице.
Фалькон приблизился, прошипел сквозь зубы:
– Если хоть волос упадет с их головы…
Симон наклонился в седле.
– Волос не упадет. Голова – возможно…
– Не смейте!.. – свистящим шепотом выкрикнул Фалькон. Почти взвизгнул.
– Ну-ну, – молвил Симон, выпрямляясь. – Ничего я с ними не сделаю. Отпущу через день-другой.
Фалькон гневно смотрел на него. И молчал. Симон склонил голову набок.
– А вы и вправду так любите свою негодную паству? – спросил он.
– Да, – сказал епископ.
– Не трону ваших ягняток, – сказал Симон, кривя губы. – Только вот научу их бояться.
Условия, под которые освобождались все заложники, взятые в Тулузе, были таковы: город сносит остатки стен и разрушает все укрепленные дома в городской черте. Почти у каждого из тех, кто томился в ожидании свободы по подвалам Нарбоннского замка, имелся в Тулузе богатый дом с башней и подполом – малая приватная крепостца внутри городских стен.
Симон слушал стоны. Усмехался. Знал, что заплатит Тулуза эту цену, лишь бы вызволить своих.
Дал городу время осознать, что на сей раз обойдется без казней. Все, кто ходил в эти дни с оружием и убивал людей Монфора, прощены.
Прощены!..
И только после того нанес окончательный удар. Пусть Тулуза выкупает кровь деньгами. И назвал сумму – тридцать тысяч серебряных марок.
Целую седмицу Тулуза голосила и причитала, будто Вифлеем во дни избиения младенцев. Сержанты входили в дома, рылись в сундуках, сносили деньги в собор Сен-Этьен – собирали положенное.
Гюи хотел остановить брата, но тот только огрызнулся:
– А баронам платить чем будете? Мы здесь застряли надолго…
8. Пиренейская невеста
Мужа Петрониллы, дочери Бернарта де Коминжа, звали эн Гастон де Беарн. Он был ровесником ее отца. В сорок лет глядел эн Гастон таким же молодцом, как и в двадцать, только молодая его жена не умела этого оценить и первое время тосковала.
Эн Гастон владел многими землями, в том числе Гасконью и Бигоррой. Он был также в родстве с семьей де Монкад – одной из наиболее знатных в Каталонии. Да и нравом, по правде сказать, наделен был подходящим и мало чем отличался от родичей Петрониллы. Так что со временем она свыклась с новым житьем и даже начала находить в том удовольствие.
А Гастон с превеликой радостью породнился с семьей, где все вечно были взъерошены – и душой, и телом. Позабыв о разнице в летах, подолгу пропадал на охоте вместе с братьями своей жены – родными, двоюродными, побочными, молочными.
Владения Гастона – места дикие, а здешние сеньоры, как сказывают, через одного рождаются с косматым сердцем.
Было эн Гастону чуть более двадцати, и столько же – Раулю де Исла по прозванию Роллет и Одару де Батцу, а еще – Югэту де Бо, этот чуть постарше, но только годами, а разумом все так же юн. И дамы у них имелись – госпожи Файель, Виерна и Беатриса; и занятие для тех и других сыскалось вполне по душе.
По весне возвели прекрасные дамы замок цветочный – в горах, в потаенном месте. Гирлянд наплели, между кольями их натянули, лентами перевили. Крышу из лент и веток заткали цветами. А внутри настелили ковров, набросали подушек, принесли вина, яиц, сыров и со сладким изюмом булочек, чтобы было чем обороняться, когда настанет желанное время штурма.
Покамест мешкали рыцари. Добраться до замка непросто, а услужавших мужланов, которые доставили туда и самих прекрасных дам, и все потребное для строительства и обороны, красавицы милостиво отпустили. И наказали строго-настрого: чтоб молчок!
В ожидании дамы не слишком скучали: играли друг для друга на лютне, кушали сладкие хлебцы, заплетали по-разному волосы: домна Файель – черные, смоляные; домна Виерна – огненно-рыжие, а домна Беатриса – пшеничные, золотые.
А еще милые дамы сплетничали.
Про Югэта де Бо – что он скоро женится. Про Одара де Батца – будто находясь в превеселом расположении духа отправился он на охоту и ошибкою зарубил двух коз у собственных мужланов. Что до Роллета, то ему приписывали до десяти малолетних ребятишек, рассыпанных, как зерна, по всей пиренейской земле – где только имелись подходящие пашни. А эн Гастон в те годы страшно враждовал с одним вздорным сеньором из Лимузена по имени Бертран де Борн, и с королем Генрихом Плантагенетом – тоже; но эта вражда так ему прискучила, что скрылся эн Гастон в горах и ничем более не занимался, кроме милых шалостей.
– И вовсе он не трус! – сердилась домна Виерна, когда об этом заговаривали.
– Ну, где же они, в конце концов! – сказала наконец домна Файель с досадой. – Эдак мы успеем состариться, пока нашу твердыню возьмут штурмом!
А сеньоры тем временем вовсе не дремали – пробирались по горам и лугам, сквозь суровые деревеньки, через пастбища и луга. То огромный лохматый пес на них накинется, то мужланка, что полощет на реке белье, запустит в них деревянным башмаком – о, сколько опасностей подстерегает храбрых кавалеров, пока они, молодые, белозубые – в руках вместо копий шесты с венками, на поясе вместо мечей плетеные бутыли с вином – разыскивают цветочный замок, чтобы напасть на него, чтобы наброситься, чтобы одолеть и взять сладкую добычу.
Вот уже и речка вертлявая, безымянная, в этих краях самая широкая – скачет по острой хребтине ущелья, перемывает позвонки-камушки. Мост здесь был, но ранней весною его смысло вниз, в долину, остались только старые каменные опоры. На скале, выше воды в человеческий рост, – маленькое каменное распятие. Не распятие даже, а только один Христос с жалобно раскинутыми руками и подкосившимися ногами. Ступни у Христа огромные, горсти – огромные, бородатое лицо сморщено и наклонено к плечу, с рук свешиваются желтые клочья старой травы – оставлены наводнением.
Двинулись кавалеры вдоль речки, переговариваясь. Что тут сделаешь? Дамы, похоже, далеко забрались, их вдруг, с наскока, не отыщешь. За реку переправляться надо, а по колено в ледяной воде по коварным камушкам идти неохота.
– Каждый год переправу сносит, – сказал эн Гастон, сердито плюнув. – Мой отец посадил здесь когда-то переправщика… Может, он и до сих пор сидит.
Стали искать переправщика и действительно вскорости натолкнулись на хижину, сложенную из обломков моста и крытую колкими ветками.
– Ну вот, полюбуйтесь! – возмутился Одар де Батц. – Никого!
А похлебка с размоченным хлебом в горшке была еще теплая, так что нерадивого переправщика следовало высматривать где-нибудь поблизости. Решили подождать – живая душа от теплой похлебки далеко не уходит. И вправду, вскоре появился детина косматый, росту огромного. Речью был невнятен, голосом груб, пахло от него кислым сыром – в общем, это был мужлан из мужланов.
Поначалу тугим своим рассудком не мог вместить – кто к нему явился и что от него требуется; но затем Гастон вышел вперед и закричал, ногами топая:
– Ах ты, глупый лохмач, косорукая скотина! Я – твой господин, Гастон Беарнский, повелитель здешних мест!
Детина тотчас съежился, закрыл ручищами лицо и, плача, повалился наземь, а Гастон с торжеством оглядел своих сотоварищей.
– Эй! – прикрикнул Гастон на мужлана. – Меня и этих господ переправь на тот берег, да поживей!
Мужлан, не поднимая головы от земли, так и взвыл нечеловеческим голосом. Тут Гастон, изловчившись, пнул его в бок, но только рассадил себе на ноге палец – мужлан оказался твердым, как камень.
Переглянулись между собою господа знатные, богатые, беспечные и плечами пожали. Придется сапоги уродовать, ноги молодые калечить, самим через речку перебираться.
Первым засмеялся и махнул рукою Югэт де Бо. Хоть и намеревался он в нынешнем году вступить в хороший брак, это не мешало ему томиться по надменной и кисленькой домне Файель. Если вытащить из ее черных кос все ленты и жемчужные нитки, волосы оденут ее плотным плащом до пояса и чуть ниже. И сквозь блестящую прядь видно, как раздвигаются губы и поблескивают темные глаза. Очень нужно Югэту на тот берег.
– Делать нечего, придется идти вброд, – сказал Югэт де Бо.
И размахивая цветочными шестами, все четверо начали спускаться от хижины к шумной, крикливой реке. Чуть приподняв крупную голову, глядел им вслед упрямый мужлан.
Немного сбившись с пути, взял Югэт чуть правее и вышел не к мосту, а там, где обрывалась тропка и бил из земли маленький родничок, сбегая к реке. А возле самого родничка лежал лицом вниз какой-то человек, недавно убитый неведомым крупным зверем, – щека объедена, одна рука обглодана дочиста, и одежда так перемазана, что не понять даже, какого он был сословия до того, как случилась с ним эта беда. Только потом увидели поодаль деревянный башмак.
– Еще теплый! – прокричал, стараясь заглушить шум воды, Роллет и сжал кулаки. – Его убивали, пока мы ждали у хижины…
Эн Гастон рассматривал следы, кусал рот, бледнел. И Одар де Батц, охотник с семилетнего возраста, вдруг взялся ладонями за горло, словно ему сделалось нехорошо: никогда в жизни не видел он таких следов. Они были велики даже для очень крупной собаки – чуть меньше медвежьих, с совершенно человеческой узкой пяткой и длинными пальцами с когтями.
– Надо сказать переправщику! – крикнул Гастон.
Бросили жребий – выпало Одару идти обратно к хижине, и вскоре он скрылся между деревьев.
– Вот судьба! – воскликнул Роллет. – Родился этот бедолага в муках, жил в глуши и жизнь вел самую грубую, а все-таки и он гулял по цветущим лугам и любился с крепконогой девчонкой…
– Мужланы не умеют чувствовать! – возразил Югэт де Бо.
– Не знаю, не знаю… – задумчиво произнес Гастон. – Мужланки – те умеют.
– Женщины не имеют сословия, – отрезал Югэт. – Женщина вообще не обладает самостоятельным бытием.
– В таком случае, почему бы вам не жениться на домне Файель? – ядовито осведомился эн Гастон. – Худородна, зато хороша собой и вас любит.
– Домну Файель я люблю куртуазной любовью, – сказал Югэт де Бо.
После шумной реки лесная тишина навалилась душным одеялом. Вскоре Одару начало казаться, что за ним следят, и одновременно с этим он ощутил небывалый страх. Никогда в жизни не испытывал храбрый Одар ничего подобного. Страх поселился сразу везде: помутил зрение, наполнил уши странными звуками, сделал нерешительными ноги и слабыми руки. Хватаясь за стволы, Одар еле плелся по склону. И вдруг, отделившись от толстого дерева – и откуда только взялся? Одар мог бы поклястся, что мгновение назад его здесь не было! – возник давешний мужлан.
Сердце так и оборвалось у Одара де Батца, но он схватил себя за грудь рукою в жесткой перчатке и проговорил строго, хоть и заплетающимся языком:
– Там, у реки, лежит мертвый человек, растерзанный каким-то животным. Подбери его да отнеси в деревню, чтобы похоронили. Это твой господин, это сеньор Гастон, тебе приказывает.
Мужлан пробормотал невнятно и глухо:
– Ах, святой Христофор и все угодники… Нашли… – А потом внезапно он оказался совсем рядом с Одаром (опять же, непонятно, каким образом – только что стоял далеко) и ухватил его за руку жесткой нечистой лапищей. – Идем-ка, господин мой, идем, а я рядом пойду.
И потащил Одара с собой, как тряпичную куклу, – по кустам так по кустам, по камням так по камням – пока впереди не показалась полоска мелкой гальки и не стали видны спины ожидающих кавалеров. Тут мужлан замешкался, а рядом с ним остановился и Одар де Батц, тяжело дыша. Глядя на своих сотоварищей из-за деревьев, вдруг понял Одар, как они беззащитны и слабы: зверь, прыгнув с этого места, легко прокусит шею любому из них. И тут он поймал взгляд мужлана, быстрый и хитрый, и схватился за пояс, где носил нож:
– Ах ты, нечесаная скотина!
Мужлан замычал, совершенно как больной медведь, затряс опущенной головой. А Одар, поуспокоившись, добавил:
– Так не забудь – велено тебе снести тело в деревню. Пусть отец каноник определит, следует ли предавать его христианскому погребению, или же надлежит бросить в проточную воду, или же поступить еще как-нибудь.
– У! – сказал вдруг мужлан.
Одним прыжком Одар очутился возле прочих кавалеров и, отирая лицо, промолвил:
– Уйдемте отсюда поскорее. Признаться, отродясь не испытывал я такого позорного страха.
Эн Гастон вошел в речку последним. Он все оборачивался и повторял:
– Это был мой человек, мой человек…
– Вот глупая история! – воскликнул Югэт де Бо, оказавшись на другом берегу. Отсюда и деревья, и темная, бесформенная туша мужлана, и пятно убитого на светлом бережку – все выглядело далеким, безразличным. Мужлан между тем выбрался к самой воде. Он шел, низко пригибаясь и горбя спину; затем встряхнулся и выпрямился. Одару почудилось, будто лохмач снова глядит ему прямо в глаза. Желая избавиться от наваждения, сказал Одар де Батц:
– Поспешим к нашим дамам! Сдается мне, они успели без нас соскучиться.
И все четверо беспечно зашагали прочь от реки.
Роллет мечтал о нежной Беатрисе. Эта домна, юная и пышная, как свежий хлеб, была, к тому же, умна и умела поддержать беседу, затевая самые удивительные споры. И представлялось Роллету, как сидит она в цветочном замке, надувая губы и отколупывая пальчиком кусочки от сладкого хлебца. И уж наверное домна Беатриса времени не теряла – клевала его, клевала да весь и съела. И теперь на пухлых ее губах крошки и привкус изюма, поцелуешь такую домну – и сыт на целую неделю.
– Мой человек! – повторил эн Гастон уже в который раз. – Чума на этих мужланов!
– Будет вам, – недовольно проговорил Югэт де Бо. – Всю забаву испорить норовите.
– Если б вашего мужлана заел дикий зверь… – начал эн Гастон запальчиво.
Югэт де Бо остановился.
– Тогда что? – спросил он насмешливо. – Что бы случилось?
– Ничего! Вы бы этого так не оставили!
– В моих владениях, хвала Создателю… – заговорил было Югэт де Бо и вдруг замер. – Боже! – воскликнул он. – Наши дамы!
Действительно среди деревьев замелькали цветные платья, а вскоре донеслись и голоса:
– Мессены! Мессены! Эн Гастон! Эн Югэт!
И прямо в объятия кавалеров влетели Беатриса и Файель, а третьей дамы, Виерны, с ними не было.
Рыцари окружили их, стали ласкать и успокаивать. Горячие круглые плечи дам так и прыгали под утешающими ладонями, словно пойманные птички. Обе они были белы, волосы их растрепались, одежда пооборвалась и была облита темно-красным, густым – как будто в них плеснули из чана сиропом.
Дамы ничего не могли объяснить, лишь немо раскрывали рты, откуда вылетали сдавленное рыдание, и писк, и икота.
– Они обезумели от ужаса, – сказал Югэт де Бо. – Бедняжки! О, бедная Файель!
– Это ведь кровь, – заметил Гастон. – Кровь у них на одежде. Где Виерна? Что случилось?
А Одар де Батц позеленел и затрясся всем телом, словно перепугался вдруг еще больше, нежели дамы. Зубы у него громко застучали, и он поскорее отбежал в сторону, не желая опозориться. Однако никто не стал бы упрекать его, ибо страх – это одно, а низкий поступок – совсем другое; низких же поступков Одар де Батц не совершал никогда, оставаясь чистым с отроческих лет и до последнего вздоха.
С трудом уговорили дам снять выпачканную одежду, заменив ее рыцарскими плащами. После этого домна Файель разрыдалась и плакала долго, с облегчением. А домна Беатриса попросила дать ей вина из бутыли, перевела дух и рассказала наконец о случившемся.
Сидели они, как было условлено, в замке из цветов и ожидали начала веселого штурма, а покамест разговаривали о кавалерах, о нарядах, загадывали цветы и платили проигрыш песнями – словом, от скуки развлекались. Затем услышали осторожные, тихие шаги вокруг цветочных стен и затаились, поскольку решили, будто это рыцари отыскали их отрадное убежище и высматривают слабые места. До слуха доносилось дыхание, низкое, с легкими хрипами, как будто поблизости находился некто страдающий кашлем или удушьем. Но вот эти хрипы сделались громче и наконец превратились в горловое рычание.
– Наверное, пастух, – предположила дама Виерна. – Забрел сюда со своими козами и собаками и недоумевает.
– Надо прогнать его, – решила дама Файель. – Эти козы могут испортить нам всю забаву.
Не успела она проговорить эти слова, как кто-то снаружи потянул за цветочную гирлянду. Дамы сердито закричали, желая прогнать докучливую скотину. Они ожидали увидеть в открывшемся просвете наглую козью морду, но вместо того перед ними появилась черная лапа с когтями и сразу вслед за тем – длинная косматая голова.
– У него острые уши и узкие глаза, – рассказывала Беатриса. – А нос почти как у человека, только темный. И взгляд… умный. Он понимал, кто мы. Он что-то такое знал. Звери так не смотрят.
Беатриса глубоко вздохнула и опустила веки.
– Спать хочу, – шепнула она.
И действительно тотчас погрузилась в сон – или забытье? – но очень ненадолго и вскоре, слабо вскрикнув, пробудилась. А пробудившись, увидела, что лежит на коленях у Роллета.
– Зверь сморщил нос, как недовольный барин, а потом вдруг метнулся и схватил Виерну. Мы поначалу ничего не поняли – нас облило горячим, и мы побежали, – так закончила свой рассказ Беатриса.
Кавалеры и дамы отправились обратно к реке. Шесты с венками побросали и разговоров до самого берега больше не вели. Спустились, по безмолвному уговору, в стороне от того места, где нашли растерзанного – незачем бедных дам лишний раз тревожить. А возле переправы опять увидели лохматого мужлана – ходил вперевалку и, что-то мыча, обирал сухую траву с каменного Христа.
– Кто это? – содрогнувшись, спросила домна Файель.
– Переправщик, – ответил эн Гастон. – Его мой отец здесь поселил, чтобы переправлял людей с берега на берег.
– Какой страшный! – молвила домна Беатриса.
А переправщик, завидев господ, начал лыбиться и кланяться – вообще держался он так, словно встречал их впервые и ни о чем случившемся понятия не имел.
– Где твой паром, дурак? – спросил эн Гастон.
Мужлан поклонился, криво изогнув при этом шею, и проворчал:
– Водой унесло, господин мой, да по весне всегда так. Не успел… дела.
– Какие у тебя могут быть дела, чумичка неумытый? – вспылил Гастон. – Твое дело – переправа!
– Дела… – упрямо повторил мужлан и несколько раз встряхнулся всем телом.
– Для чего же ты здесь посажен? – рассердился наконец Гастон. – Отвечай, болван!
Мужлан вскинул голову и дерзко глянул на Гастона. Глаза у него оказались звериные, со светящимся расширенным зрачком.
– Стеречь, – промолвил он невнятно. – Святой Христофор… он на переправе. Полезайте мне на плечи, господин мой…
И одного за другим перенес мужлан всех господ на противоположный берег. А каменный Христос, расставив руки с чуть согнутыми, словно от многолетней грубой работы, пальцами, хмуро глядел им вслед.
– Святой Христофор? – переспросил каноник, отец Беральдус, неуловимо схожий с каменным Христом на переправе. – Это мужлан так сказал? Переправщик? – Он помолчал, повздыхал, повертел в пальцах деревянное распятие и четки. – А где тело? – спросил он вдруг.
Разговаривали в маленькой часовне на краю деревеньки; прилипла деревенька к боку горы и жила от пастбищ; каменная часовня, возведенная здесь в незапамятные времена, еще византийцами или везиготами, была от старости черной. Земля словно пыталась вытолкнуть ее из себя и каждый год под стеной прорастало деревце или куст, отчего в каменной кладке уже начали появляться трещины, хотя все растения немедленно вырубались.
Дамы отдыхали в самом богатом из здешних убогих домов – лежали на соломе, пили горячее, козой воняющее молоко; а за это дочерям дома на приданое подарили жемчужную нитку.
Рыцари немедленно отыскали каноника – и едва лишь завидели его, сразу поняли: знает этот отец Беральдус куда более, чем хотел бы открыть.
– Что еще за тело? – сказал эн Гастон, едва лишь каноник задал неосторожный вопрос.
– А разве нет… никакого тела? – удивился отец Беральдус.
– Есть, и даже два, но вам-то откуда это известно?
Отец Беральдус вздохнул.
– Раз переправщик заговорил о святом Христофоре, значит – беда.
Он взял свечу и пошел от алтаря влево, туда, где была маленькая дверца.
– Там склеп, – сказал Гастон. – Верно?
Отец Беральдус не ответил. Он отворил дверцу – за нею оказалась лестница, ведущая в подземелье, – и начал спускаться. Рыцари двинулись следом. Внизу действительно находился склеп. Надгробья выглядели ухоженными, даже те, что обветшали от старости. Над одним горела масляная лампа, а рядом стояла небольшая статуя. Она по колено утопала в увядших цветах. Статуя изображала мужчину с удлиненной песьей мордой, трагически и вместе с тем забавно сочетавшей черты зверя и человека. К затылку звериной головы были прикреплены расходящиеся лучи из медных пластин – сияние.
– Это святой Христофор, – объяснил отец Беральдус. – Слыхали о нем? Жил тяжко, страшно… за грехи много претерпел… даже в обличье поменялся. Он был великан, а жил на переправе, и коли река уносила паром, путники садились ему на спину…
Эн Гастон обменялся со своими товарищами быстрым взглядом. Отец Беральдус как будто не заметил этого, хотя чуть улыбнулся – словно бы про себя.
– А наш переправщик – его ваш отец, сеньор мой Гастон, на берегу посадил – он ведь безумец. Бредит святым Христофором. Все ждет, когда на его переправе появится сам Христос. Вот тогда усадит он Господа себе на спину и понести вместе с Ним все грехи мира…
– Похвальное желание, – сухо произнес Югэт де Бо. – Однако при чем тут мертвое тело?
– А? – Отец Беральдус мелко заморгал, и все его старое, складчатое лицо вдруг расползлось в рассеянной улыбке. – Мертвое тело? А где оно?
– В лесу, отец Беральдус, на берегу реки – одно, и выше по склону – другое.
– Я отправлю туда людей, – захлопотал каноник. – Вы придете на мессу?
– Нет! – хором ответили Югэт де Бо и Рауль де Исла по прозванию Роллет, а эн Гастон де Беарн и Одар де Батц столь же единодушно произнесли: «Да!».
– Вот и хорошо.
Отец Беральдус явно не заметил этого разногласия.
И они снова поднялись в часовню.
Роллет и Югэт, забрав обеих дам, в тот же час уехали прочь; что до Гастона с Одаром, то они действительно охотно выслушали всю мессу и присутствовали при погребении – местного сыровара и несчастной домны Виерны.
Был в часовне и переправщик – смоченные водою косматые волосы его были кое-как приглажены, голова опущена, руки висели. Пока шло отпевание, стоял на коленях, не поднимаясь, и только медленно покачивался из стороны в сторону, а когда закончилось, быстро и незаметно исчез.
– За ним! – сказал Гастон своему спутнику.
Одар де Батц поджал губы.
– Повременим, – попросил он. – Сказать по правде, сеньор Гастон, меня от одного только вида его в дрожь кидает. Я его по следу потом найду.
И они остались.
Деревенские жители, признав эн Гастона, поначалу робели, держались тихо, но после мессы словно кто-то враз сорвал печать с дотоле безмолвных уст. Окружили Гастона, виконта Беарнского, потянули к нему молящие руки, стали просить, чтобы избавил их от зверя.
Тут открылось, что лютый хищник уже не в первый раз дает о себе знать столь ужасающим образом. Порою годами о нем не вспоминали, но затем находили вдруг пастуха с разорванным горлом или пропадал ребенок, а то и парень с девушкой, которым взбрела мысль прогуляться вдали от всех.
– Я ничего этого не знал, – молвил эн Гастон, добрый сеньор, когда все это выслушал. И обещал непременно помочь своим людям и даже поклялся святыми именами исполнить обещание.
Тут вперед выступил один человек, немолодой и хмурый, и обратился к своему господину:
– Не в обиду будь сказано, но ведь и мы не сложа руки сидели – ходили на зверя с рогатиной и охотничьим луком, только его ничто не берет.
– Это потому, – отвечал эн Гастон, – что вы мужланы; а когда за дело возьмется рыцарь, то зверь неминуемо погибнет.
– Хорошо бы так! – крикнули в толпе, а собеседник эн Гастона добавил:
– Такое вполне возможно, господин мой, потому что поговаривают, будто этот зверь и сам весьма знатного рода.
И вот собралось восемь человек самых отважных и опытных охотников и оба сеньора с ними, вооруженные все на мужицкий лад вилами. Вышли поутру, пока кругом сверкает чистая крупная роса, и долго петляли, покоряясь тропинке, по боку горы. И близкое, казалось бы, расстояние, а попробуй пройди! Вослед им долго летели мерные удары одинокого колокола, то заглушенные, то вдруг звонкие и отчетливые, но затем они стихли.
Одар де Батц быстро отыскал след – огромные грубые сапожищи проходили по тропинке совсем недавно. Затем, как бы из пустоты, возник и второй след – с когтями и длинной пяткой. Некоторое время они тянулись рядом, перекрывая друг друга, но после сапожищи начали спускаться к реке, а когти, двигаясь большими прыжками, направились к лесу, по склону вверх.
Охотники остановились. Двое или трое заговорили о переправщике: следовало бы его пытать и вызнать все о звере! Но прочие желали идти по звериному следу и покончить наконец с душегубом. Эн Гастон запомнил малодушных – чтобы в решающую минуту на них не полагаться – и повел небольшой свой отряд к лесу.
Они прошли тропой, где след был отчетлив, а затем оказались на поляне. Роса уже высохла, и в траве следы потерялись. Пока Одар де Батц высматривал примятые травинки, из чащи на него глянули глаза. Это продолжалось лишь миг, однако Одар успел ощутить на себе этот взгляд. Остановившись, сеньор де Батц тихо сказал:
– Он здесь.
И показал рукой, чтобы охотники разошлись вправо и влево, охватывая зверя с обеих сторон.
Но ничего сверх этого они сделать не успели. Между деревьями мелькнуло темное тело – словно человек чрезмерного роста, странно выгибая руки и ноги, пронесся перед глазами, а затем прыгнул. В прыжке у него выпросталась еще одна нога – эн Гастон запоздало понял, что это длинный и прямой, как палка, хвост. А затем все смялось в бесформенный кровавый ком: одежда, волосы, шерсть, клыки, кость, обнажившаяся под сорванной плотью. Один из охотников захрипел и громко булькнул, послышалось тихое горловое рычание, а затем все стихло. На поляне остался растерзанный человек. Зверь исчез. Никто из прочих не успел даже добежать до него.
Гастон подошел к убитому, тронул рукой его щеку, коснулся век.
– Я убью эту гадину, – поклялся он.
След уводил их все глубже в лес. Иногда им казалось, что они слышат негромкий клокочущий смех или различают среди кустов мелькание. Один раз Гастон, поднявшись на обломок скалы, отчетливо увидел, как в густой траве стремительно двигается длинное тело, покрытое бурым мехом, со вздыбленными волосами на спине. Зверь стелился, как ящерица, его морда быстро поворачивалась вправо-влево. Гастон поднял вилы, чтобы метнуть их, но в то же самое мгновение зверь исчез.
Эн Гастон спрыгнул вниз, к своим спутникам, и громко, не стыдясь, разрыдался.
До ночи его видели еще дважды, но всякий раз он успевал скрыться. Ночевали с разведенными по периметру кострами, не отходя от лагеря даже по нужде. Никто не спал. Из-за завесы огня на охотников, не отрываясь, смотрели невидимые глаза. Их взор погас только под утро, и тогда сон внезапно сморил всех девятерых.
Это забытье длилось совсем недолго; при пробуждении не досчитались еще одного – он попросту исчез. Земля вокруг вся была истоптана знакомыми следами.
И снова начался бесконечный день погони. Одар де Батц сказал Гастону Беарнскому:
– Мне теперь кажется, будто я всю мою жизнь гоняюсь за этим зверем.
За ночь все осунулись и как будто постарели. Глядел Одар на своего друга Гастона и не узнавал: рот и щеки после грубой трапезы вымазаны у виконта бараньим жиром, волосы завязаны в грязную тряпицу, вилы в руке держит ладно, словно сызмальства к ним привык. Слушает Гастон, как шевелится в его груди косматое беарнское сердце, которое досталось ему от предков. Теперь не человек зверя – зверь человека должен опасаться.
В кружении хищника по лесу улавливалась своеобразная закономерность. Он как будто боялся уходить слишком далеко от некоего места, и к полудню Одар уже не сомневался в том, что такое место существует.
– Логово! – с отвращением произнес эн Гастон.
Одар сказал:
– Думаю, нам следует разделиться. Я попробую отыскать его убежище, а остальные пусть преследуют его самого.
Тот хмурый мужлан, который прежде говорил, будто зверь – знатного рода, возразил:
– Не верная ли это гибель – идти к нему в логово в одиночку?
– А много ли проку в том, что мы ходим по лесу все вместе? – ответил ему Одар де Батц. – Он все равно таскает нас, как кур, по одному. Впрочем, – добавил он, обращаясь к хмурому мужлану, – я взял бы с собою тебя, если ты согласен.
– Я согласен, – сказал тот. И назвал свое имя – Лойс.
Прочие посмотрели, как Лойс и Одар скрываются в лесу, а затем продолжили путь.
Спустя недолгое время Лойс сказал:
– Его здесь нет. Он еще не понял, что мы отошли от прочих.
– Откуда ты знаешь? – удивился Одар.
– Знаю, – проворчал Лойс. – Вы думаете, господин мой, что один только вы угадываете зверя? Я разыскивал его не один месяц, и следы всегда приводили к реке, а там обрывались. Если то, что я думаю, – правда, то нашему доброму сеньору действительно следовало бы пытать перевозчика – он многое должен знать.
Они спустились к воде и на самом берегу увидели старый след с глубокими ямками от когтей, и еще несколько царапин на гладком камне. Но затем, как и говорил Лойс, все оборвалось. Зверь пошел по воде.
Одар обменялся со своим спутником коротким взглядом, и оба, по безмолвному соглашению, зашагали берегом вниз по течению.
– Ты ведь находил его, а? – прошептал Одар. – Ты ведь и раньше видел его логово?
Лойс молча кивнул. Одар схватил его за плечо.
– Но если ты знал, почему же никому не показывал?
Лойс все так же молча высвободился и пошел дальше. Затем он перешел реку вброд и поманил за собою Одара. Над высоким берегом в густом кустарнике таилась маленькая хижина. Ее стены были густо обмазаны глиной и облеплены стеблями камыша, так что со стороны это уединенное жилище оставалось совершенно незаметным. Вокруг стоял тяжелый дух протухшего мяса.
Одар встретился с Лойсом глазами, и тот кивнул.
– Он закапывает здесь кости и недоеденные куски.
Лойс подошел к хижине и толкнул незапертую дверь, а затем отошел в сторону и обернулся к Одару с непонятной улыбкой. Преодолев себя, Одар подошел ближе и заглянул внутрь. Он ожидал увидеть что угодно, только не то, что вдруг предстало глазам. Единственная комната хижины, с маленьким очагом, способным давать тепло, но негодным для приготовления пищи, была обставлена изысканно и даже роскошно. На стенах висели гобелены с изображением дам, цветов и фруктов, над очагом красовался щит – Одар с изумлением увидел герб Беарна. На полу стояли красивые голубые сосуды. Имелись здесь игрушки – деревянная лошадка, тележка и кукла в богатом платьице. Одежда, разбросанная по кровати, предназначалась для знатного юноши – правда, она была очень грязна.
Рассмотрев все это за считаные мгновения, Одар отскочил от хижины, будто ужаленный. Лойс поглядывал на него и ухмылялся.
– Почему же ты никому не говорил об этом? – снова спросил его Одар.
– А кто бы мне поверил, господин мой? – отозвался охотник. – Все это не моего ума дело. Вот если бы я убил зверя, хищника, – тогда с меня и грех долой. А подстеречь и заколоть мальчика из графской семьи – нет, господин мой, на такое у меня рука не поднимется. Пусть уж это сделает наш добрый господин эн Гастон.
– Эн Гастон этого тоже делать не станет, – пробормотал Одар де Батц.
– Я раз видел, как переправщик ласкает зверя, – вдруг сказал угрюмо Лойс. – Зверь так и вился у него под ногами, ходил взад-вперед, цеплял его хвостом, а переправщик мычал что-то – подвывал, вроде пел.
– А ты, я погляжу, многое видел, – сказал Одар, удивляясь все больше и больше хмурому мужлану.
– Что тут странного, коли зверь утащил и убил мою девочку, – ответил ему Лойс. – Здесь я ее и нашел. – Он кивнул на кусты, среди которых пряталась хижина. – Я про него тогда почти все разведал. Только убить, пока он в зверином обличии, не удалось. Пойдемте-ка лучше, господин мой, обратно в деревню. У нас дома сегодня гороховый суп с поджаренным хлебцем.
Хотел было Одар де Батц прогневаться, но передумал. Этот простолюдин словно бы читал все его мысли как свои собственные. И о том, что смертно напугал Одара зверь, Лойс тоже знал. И потому Одар де Батц согласился.
Тем временем Гастон де Беарн забирался все дальше в лес и в сумерках, когда уже искали место для ночлега, зверь напал на них снова. Теперь уже охотники не отходили друг от друга и, едва метнулась в воздухе знакомая тень, все сбежались, держа наготове вилы. Гастон ощутил прикосновение горячего лохматого тела. Казалось, будто шерсть, вздыбленная над сильными мышцами, нагрелась от внутреннего жара. Из пасти смердело падалью, старой кровью. Не глядя, Гастон вонзил вилы, и тотчас кто-то рядом грубо толкнул его – второй охотник метнул свои вилы в косматый бок, а затем и третий, тонко взвыв, бросился с ножом к задранной кверху морде, целясь в белое, почти голое горло.
Зверь сильно дернулся, вырвался и побежал. Вилы, торча из пушистого бока, на ходу колебались, как рыбьи плавники. Ослепленный болью, цепляясь рукоятями вил за кусты, зверь бессмысленно бегал по кругу, а затем вдруг рухнул на брюхо. Он дышал шумно, с громким хриплым рычанием. Охотники, сбившись в кучу, стояли поодаль и смотрели, как он издыхает. Двоих или троих зверь успел зацепить когтями, все без исключения были в крови. Неожиданно зверь взвизгнул, дернул сразу всеми четырьмя лапами и застыл.
– Господь милосердный! – воскликнул Гастон. – Мы убили его!
Они упали на колени, обнимаясь, плача и благодаря Бога, а зверь глядел на них мертвыми стеклянными глазами, в которых поочередно отражались все его убийцы, сперва Гастон, а за ним и прочие.
Решено было запалить факелы и нести зверя не мешкая в деревню; по правде сказать, оставаться на ночь возле него, даже и мертвого, никому не пришлось бы по душе. Изготовили носилки, и когда уже стало совсем темно, двинулись в обратный путь, распевая на ходу гимны в честь Пречистой Девы и святых Катерины, Сальвиана, Сатурнина, Волюзьена, Стефана и других.
Мужлан-перевозчик в эту ночь не спал – предчувствуя страшное, бегал по берегу, заламывал руки. И дождался: сперва заслышал нестройное пение, словно бы пьяные горланили, ворочая неподатливыми языками, затем увидел в горах мерцание факелов, поначалу отдаленное. Жаркое оранжевое пятно медленно плыло между по лесу, и чем более оно приближалось, тем благозвучнее делалось пение, и вот уже начал перевозчик различать на противоположном берегу фигуры, которые двигались по склону, отчетливо видные между стволами. Впереди, облитая золотым светом, ступала прекрасная Дева в длинных одеждах, а в руке она несла огненный меч. Следом шествовали благообразные старцы с епископскими посохами, а за ними – юноши и девы без числа, их лица в неверном прыгающем свете разглядеть было невозможно, хотя понятно было, что все они прекрасны – ничего прекраснее и вообразить нельзя. На плечах они держали носилки, а на носилках стоял высокий мальчик, одетый в звериную шкуру. Он был хорошо сложен, но голову имел собачью. И все-таки вокруг бедной песьей головы стояло тихое золотое сияние, и плыли посреди этого сияния маленькие голубые незабудки.
Тоскуя, как немое животное, метался у воды перевозчик и все смотрел и смотрел на дивное шествие.
И тут проговорил некто у него за спиной:
– Перенеси и меня на тот берег, к ним, перевозчик.
Мужлан подпрыгнул, отбросил с глаз тяжелую сальную прядь, обернулся. Прямо на него глядел со скалы мужицкий Христос с темным страдальческим лицом и повторял:
– Перенеси меня к ним, перевозчик.
Одним прыжком подскочил к нему мужлан, схватил каменного Христа обеими руками за ребристые бока, потянул. Статуя легко сошла со скалы, и переправщик, хохоча во все горло, водрузил ее себе на спину, а затем побежал обратно к реке и по дороге делал огромные прыжки.
Шествие уже почти скрылось, следовало торопиться. Ледяная вода подскакивала, кусая переправщика за бедра, камни, как живые, подворачивались под его сапогами.
– Быстрее, быстрее! – жадно торопил тот, кто сидел у него на спине.
– Тяжело… – прохрипел переправщик.
– Ты же несешь на себе все грехи мира, – сказала ноша. – Поспеши, иначе мы опоздаем!
Мужлан, всхлипывая, бросился бежать по бурному потоку, но оступился и упал лицом в воду.
Возвращаясь в Тарб, эн Гастон снова проезжал через эту безымянную речку. Одар де Батц, бывший с ним, все помалкивал – хижину они с Лойсом спалили и не сказали о ней ни словечка.
– Смотрите, – вдруг произнес эн Гастон.
Оба остановились.
В реке, придавленное тяжелой каменной статуей, лежало тело переправщика. Несколько секунд оба рыцаря разглядывали его, а затем эн Гастон в сердцах махнул рукой и пустил свою лошадь рысью.
Вот какая земля досталась новой графине Бигоррской. Но чем устрашить дитя Бернарта де Коминжа? Не старыми же страхами!.. Юная Петронилла выказала такую хватку, что изумились все гастоновы домочадцы. Не прошло и двух лет, а девочка – теперь в тяжелом чепце, со связкой ключей на поясе – уже ловко распоряжалась и в замке, и на сыроварне, оставив мужу заботу об оброках, налогах, войне и охоте.
Петронилла де Коминж не стала куртуазной дамой. Она не содержала пышного двора. В старом замке в Пиренеях на самой границе с Каталонией не проходили праздники Юности и Любви. Белые ручки супруги Гастона не вручали призов за лучшую песнь во славу Амора. Поссорившиеся любовники не прибегали к ней как к Милому Арбитру. Ей не посвящали сирвент. Под окном у нее не торчал безнадежно влюбленный кавалер. Может быть, оттого, что окна ее опочивальни обрывались в пропасть.
Словом, ничего такого куртуазного не происходило.
День низался на нитку рядом с другим точно таким же днем. Жизнь сама собой выстраивалась в долгие четки с равновеликими бусинами. Детей у Петрониллы не рождалось. Каждое утро, открывая глаза, она видела горы, властно заполняющие узкие окна. Зимой окна затягивали мутным бычьим пузырем, а в лютые холода закладывали ставнем.
Война началась в Лангедоке, когда Петронилле было двадцать два года. Эн Гастон собрал своих вассалов, согнал с земли мужчин, способных носить оружие. Он опустошил Гасконь, Гавардан, Бигорру и вместе со своим братом Монкадом ушел сражаться против Монфора.
Петронилла пряла шерсть, слушала разговоры женщин, простолюдинов, солдат. С наступлением зимы стада спускались по склонам в долину, оставляя пастбища снегу и ветрам. А ветры задували знатные, подчас погребая под снегом целые деревни. Хмурые бигоррские крестьяне выпекали ржаные хлебы с отрубями, большие, как тележные колеса, – запасали их на несколько месяцев вперед. Липкий и тяжелый, хлеб черствел, и его рубили топором, чтобы потом размочить в воде.
В суровую зиму 1210 года от Воплощения Петронилла почти не покидала постели, постоянно кутаясь в шерстяные покрывала. Крестьяне оставили свои дома и перебрались жить в хлев, где благодарно согревались о бока овец и коров.
На следующий год Гастон ненадолго заглянул в Бигорру, после чего вновь сгинул в водовороте бесконечной войны с Монфором. Он забрал с собой почти всех мужчин и лошадей, увез зерно, оставив крестьянам, по настоянию жены, лишь немного – для сева. Гастону было пятьдесят четыре года, его жене – двадцать пять.
Спустя год эн Гастон умер.
Ранней несытной весной 1212 года он возвратился в Бигорру. Он был уже болен, как и многие из тех немногих, кто воротился вместе с ним. В те дни особенная гнилая лихорадка косила людей. С тяжелым вздохом улегся эн Гастон на широкую супружескую кровать, сейчас такую холодную.
Несмотря на возраст и болезнь, был все так же красив – смуглый, горбоносый, с мужественной складкой у узких губ. Велел послать за Петрониллой.
Петронилла примчалась из Лурда, где предполагала провести лето, ибо война приближалась, а Лурд – самый надежный из окрестных замков.
Однако перевезти туда Гастона было невозможно. Гастон уходил. Жизнь по капле выцеживалась из его жилистого тела, сотрясаемого лихорадкой, изъеденного недугами и усталостью.
Снег в горах еще не сошел. В душной опочивальне, где угасал Гастон, все окна были наглухо забиты клочьями старых овечьих шкур. Коптила тусклая масляная лампа; у лампы уныло дремала служанка. Воняло подгоревшим молоком.
И вот туда стремительно входит Петронилла – только что с седла и тотчас к мужу. Ей двадцать седьмой год, она вошла в пору позднего цветения.
– Вы пришли, – говорит Гастон, зарытый в теплые покрывала, исхудавший, почти истаявший на кровати.
Как была – в морозном меховом плаще – женщина ложится рядом с ним.
– Вы звали меня, вот я и пришла, – отвечает она просто. – Ведь я ваша жена, эн Гастон.
Он берет ее прохладное лицо в свои пылающие ладони, оборачивает к себе. Маленькое востроносое личико в золотистых конопушках.
– Ах, жена, – говорит он с тяжелым вздохом, – как жаль, что я умираю.
Петронилла не делает ни малейшей попытки высвободиться, хотя лежать с отвернутой головой неудобно. Она смотрит на своего старого мужа. Она видит клеймо смерти на его красивом лице, но ни сострадания, ни жалости не ощущает. Просто смотрит – доверчиво и отстраненно.
Этот человек не играл в ее жизни почти никакой роли. Он жил далеко от нее, и заботы у него были свои. Десять лет назад он взял ее в жены, но так и не сумел сделать матерью. Теперь он умирает.
Гастон приближает пересохшие губы к ее уху. Она слышит шепот:
– Я хочу отойти в чистоте. Помогите мне.
– Позвать священника? – спрашивает она. Спокойно, деловито.
– Нет. Найдите… Оливьера, Госелина, Бернарта Мерсье, Мартена… Кого-нибудь из них. Вы должны знать, где они ныне ходят…
Он торопливо перечисляет имена совершенных, подвизающихся в Гаскони.
Петронилла шевелится рядом с ним на постели, укладывается поудобнее. Все тем же равнодушным тоном переспрашивает:
– Так вы хотели бы умереть в катарской вере?
– Да, – отвечает Гастон. Внезапно его темные глаза вспыхивают. – Черт возьми! Жена! Я, знаете ли, немало крови пролил ради…
И заходится в бурном кашле.
Петронилла отирает забрызганное лицо.
– Хорошо, – тихо говорит она.
И обнявшись, они засыпают.
Разыскивать Оливьера не пришлось. Скоро он явился сам. С ним были еще двое совершенных. Оливьер обращался с ними как с сыновьями; те же держались с ним почтительно, будто со строгим отцом.
Скрестив на груди руки и склонив голову, Петронилла – графиня Бигоррская – замерла перед ними.
– Благословите меня, добрые люди.
– Благодать Господня да будет на тебе, дщерь, – отозвался Оливьер.
Она выпрямилась. За десять лет Оливьер ничуть не изменился. Все то же грубое нестареющее лицо, все те же резкие тени в морщинах. И все так же горит неукротимый синий пламень в глазах – смертных глазах, распахнутых в Небесный Иерусалим.
– Прошу вас разделить с нами хлеб, – сказала графиня смиренно.
Гости вслед за нею прошли в теплую, по-зимнему натопленную кухню. Неурочный теленок, лежавший у печи в большой плетеной корзине, при виде их поднял морду, поводил пушистыми ресницами.
Петронилла погладила его крутой лобик. Теленок тотчас же норовисто толкнул ее в ладонь.
Оливьер неожиданно тепло улыбнулся.
Петронилла кликнула стряпуху. Та вбежала, споткнулась взглядом о гостей. Застыла с раззявленным ртом. Пробормотала:
– Ох ты, Господи…
Совершенные, все трое, удобно расположились у очага. С благословением приняли горячую воду и кусок влажного, липкого, как глина, крестьянского хлеба. Графиня Бигоррская, отослав стряпуху, прислуживала сама.
Терпеливо выждала, чтобы гости согрелись, утолили первый голод. Только тогда спросила:
– Как вы узнали, что эн Гастон, мой муж, просил разыскать вас?
– Эн Гастон нуждается в нас, не так ли?
– Да.
– Мы пришли.
Душная опочивальня залита огнями. Коптят факелы, громко трещат толстые сальные свечи, смердят масляные лампы. В узкие окна задувает ветер с горных вершин.
Эн Гастон потерялся на просторной кровати. По его изможденному лицу бродят смертные тени. Графиня Петронилла, десяток домочадцев и несколько соседей – все собрались у ложа умирающего, чтобы тому не было столь одиноко.
И вот пламя свечей в ногах кровати колыхнулось, будто от резкого порыва. В опочивальню входят трое совершенных. Мгновение – глаза в глаза – смотрят друг на друга Оливьер и Петронилла, и, подчиняясь увиденному, графиня Бигоррская опускается на колени, понуждая к тому же остальных.
– Благословите нас, добрые люди.
Негромко произносит второй из совершенных:
– Бог да благословит вас, дети.
И тотчас же все трое словно бы перестают видеть домашних и друзей Гастона. Те, помедлив, один за другим постепенно поднимаются с колен.
Неспешно простирает руки Оливьер. Младший из его спутников накрывает их полотенцем, оставляя свободными лишь кисти. Второй подает большую чашу с двумя ручками. Оливьер медленно опускает руки в воду, держит их там некоторое время, а затем вынимает и дает воде стечь с кончиков пальцев. Мгновение кажется, будто руки Оливьера истекают огнем.
Но вот полотенце снимают и укладывают на грудь Гастона. Гастон вздрагивает – ему холодно. Наклонившись, Оливьер негромко говорит ему что-то на ухо, и Гастон успокоенно затихает. Даже озноб, кажется, отпускает его.
Ладонь Оливьера покоится теперь на голове Гастона. Сильные, красивые руки у Оливьера. Белые пальцы зарываются в густые темные кудри умирающего. Прикрыв глаза, Оливьер начинает говорить – еле заметно покачиваясь из стороны в сторону, растягивая, выпевая слова:
– В начале было Слово. И был человек по имени Иоанн…
Я буду вдовой, думает Петронилла.
Синева Небесного Иерусалима горит в молодых, вечных глазах Оливьера. Петронилла слушает, не понимая ни слова. Синева смыкается над ее головой, утопив, поглотив. Когда эта утопленность становится невыносимой, Оливьер резко обрывает чтение. От неожиданности все вздрагивают: точно убаюканного ударили.
– Брат! – страстно спрашивает Гастона Оливьер (а пальцы совершенного зашевелились на голове умирающего, сжимая его влажные пряди). – Брат! Тверда ли твоя решимость?
Еле слышно отвечает Гастон:
– Да.
И, кашлянув, громче:
– Да.
– Искал ли ты спасение в католической церкви?
– Да.
– Но то было прежде, не так ли?
– Да.
– Знаешь ли ты, что прежде ты заблуждался?
– Да.
– Готов ли ты терпеть за истинную веру?
– Да.
– До последнего часа?
– Да, – говорит Гастон. И снова его одолевает кашель.
Оливьер замолкает. Ждет. Эн Гастон хрипло, трудно дышит, пытаясь справиться с кашлем. Наконец он просит:
– Благослови же меня, брат.
– Господь наш Иисус Христос да благословит тебя, брат, – отзывается Оливьер. У Петрониллы вдруг перехватывает горло. Этот ласковый, низкий, братский голос исторгает у нее слезы.
Гастон, блестя глазами, неотрывно смотрит на Оливьера, будто бы тот мог избавить его от страха и смертной муки, – как голодное дитя на мать с ломтем хлеба в руке.
А Оливьер продолжает вопрошание.
– Обещаешь ли ты служить Богу и Его Писанию?
– Обещаю, брат, – шепчет Гастон. У него лязгают зубы, его трясет в ознобе.
– Не давать клятв?
– Обещаю.
– Не прикасаться к женщине?
– Да.
– Не спать без одежды?
– Да.
– Не убивать живого – ни человека, ни дикое животное, ни птицу, ни домашнюю скотину, – ибо кровь неугодна Господу, пусть даже пролитая за святое дело?
– Я не буду… убивать, – с трудом выговаривает Гастон.
– Обещаешь ли ты не есть ни мяса, ни молока, ни яиц?
– Да.
– Соблюдать четыре сорокадневных поста в году?
– Да.
– Не совершать ничего без молитвенного обращения к Господу?
– Да.
– Ничего не делать без спутников из числа твоих братьев?
– Да.
– Обещаешь ли ты жить только для Господа и истинной веры?
– Обещаю, – говорит умирающий.
Оливьер протягивает ему свою книгу, с которой, видимо, не расстается. Гастон приникает к ней губами.
– Обещаешь ли ты, брат, никогда не отрекаться от нашей веры?
– Да.
– Даже и в руках палачей?
– Да.
И Гастон бессильно падает назад, на покрывала.
Оливьер кладет книгу ему на грудь, как на жертвенник, и скрещенными ладонями накрывает его голову.
– Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! – возглашает Оливьер. Умирающий вздрагивает под его руками. – Дух Святой, Утешитель, приди, низойди на брата нашего!
– Истинно, – отзывается один из совершенных.
Второй подхватывает:
– Дух Святой, Утешитель, приди, низойди на брата нашего!
Первый вновь произносит:
– Истинно.
– Славим Отца и Сына и Святого Духа! – восклицает Оливьер.
Гастон вжимается в свои покрывала. Оливьер освобождает, наконец, его голову от тяжести своих рук и забирает с его груди покров и книгу. Гастон вздыхает свободнее.
– Отец наш, сущий на небе, – начинает петь Оливьер. Гастон вторит ему. Он знает эту молитву. Петронилла тоже теперь знает ее. Вместе с совершенными (их уже не трое, а четверо) она просит доброго Бога об избавлении от власти зла – творца всякой плоти, и о хлебе сверхсущном, который есть слова Жизни.
Когда последнее «истинно» смолкло, Оливьер склоняется к Гастону. Гастон приподнимается ему навстречу, вытянув губы трубочкой, и Оливьер подставляет под этот поцелуй свой утонувший в бороде рот. После, выпрямившись, передает поцелуй стоящему рядом; тот – своему сотоварищу, а третий из совершенных, поскольку рядом с ним оказалась Петронилла, лишь касается ее плеча книгой. Петронилла передает поцелуй той унылой девке, что караулила гастонову смерть, просиживая у господской постели, – и так дальше, от одного к другому, пока поцелуйный круг не замкнулся.
– Брат, – говорит Оливьер Гастону, – живи отныне в чистоте и храни свое обещание, ибо в этом – залог твоего грядущего спасения.
– Да благословит тебя Бог, брат, – отзывается эн Гастон. – Я буду жить в чистоте, как обещал…
На рассвете он скончался.
Перед уходом Оливьер благословил впрок несколько больших коробов с хлебом, чтобы оставшимся было что вкушать в минуты, когда потребуется утешение.
– А утешение будет вам насущно необходимо, – сказал Оливьер графине Бигоррской. – Ибо утекли времена лазурные и проницаемые для света и настали времена железные и проницаемые для тьмы.
Гастон остывал в опочивальне. Беседа между совершенным и вдовой Гастона происходила во дворе, куда прислуга нарочно притащила короба. Окруженный хлебами, овеваемый сильным, уже весенним ветром, Оливьер вещал:
– Вкушайте хлебы Жизни во всякое время, ибо сказано: «Я есмь хлеб Жизни». Ешьте этот хлеб в ознаменование нашего братства и единства истинной Церкви.
Младший из его спутников спросил почтительно:
– Отец, в прежней своей жизни я слышал, как учили католики о том, что освященный хлеб есть тело Христово.
– Сын, – отвечал Оливьер, – они лгали. Ибо сказано: «Дух животворит; плоть не пользует нимало». Хлеб освященный не может преобразоваться в плоть Иисуса, ибо плоти Иисус не имел. Нелепице и лжи учили католики. Подумай, сын. Хлеб и вино суть грубая земная материя.
– Истинно, – сказал совершенный, склоняя голову и вновь поднимая ее.
– Кто есть отец грубой земной материи?
– Я не хочу поименовывать его.
– Назови! – сурово велел Оливьер.
Потупясь, младший из совершенных вымолвил:
– Дьявол.
– Как же творения дьявола могут пресуществляться в кровь и плоть одного из ангелов?
Совершенный молчал.
– Сын! Нелепице и лжи учили католики!
Смиренно пав на колени, совершенный склонился перед Оливьером и замер. Помолчав немного, Оливьер позволил:
– Встань.
И, не простившись ни с кем, как бы прогневанный, Оливьер переступил через короба и направился к воротам.
И вот эн Гастон, умиротворенный, одеревеневший, чисто прибранный, со втянутыми внутрь щеками и носом как клюв, шествует на плечах слуг из опочивальни в семейную усыпальницу. Его провожают жена и домочадцы, а также три дюжины сержантов и двое соседей, прибывших ради такого случая, благо добираться недалеко. Каноник Гуг хотел было явиться тоже, но Петронилла наказала слугам преградить ему пути.
– Не собаку хороните! – бессильно кричал каноник, грозя кулаком.
Безносый псарь пялился на него с широкой ухмылкой.
– Собаку хоронить – вас позовем. – И ловко попал канонику по голове тяжелой кожаной рукавицей. – Сперва тонзуру бы побрили, а то Святому Духу и приземлиться-то некуда.
Пока велись эти бессвязные разговоры, эн Гастон проплыл по воздуху на носилках к месту своего упокоения. Сняли одну из плит в полу и уложили в подземную клеть покрывала и подголовье, а после, на длинных полотенцах, спустили туда же негнущегося Гастона. У Петрониллы в руках свеча. Горячий воск стекает на деревянное кольцо, надетое у основания. Склонившись над смертной пропастью, в последний раз глядит на своего мужа. Один глаз у Гастона приоткрыт, тонкие губы чуть искривлены.
– Покойтесь с миром, эн Гастон, – говорит Петронилла. Ей легко и немного печально.
И вот плита задвигается, и эн Гастон остается в темноте, рядом со своей матерью, графиней Бигоррской, в ногах у своего отца, Гийома де Монкада. А Петронилла и остальные выходят из склепа, жадно вдыхая мокрый весенний воздух.
Петронилла сменила одежду на более темную. Запретила веселье и плотские утехи на два месяца. Засела за прялку. Она не слишком остро ощутила перемену в своей жизни. С первых лет замужества она привыкла к одиночеству.
И вот седмицы со дня похорон не минуло, как Петронилла, заглянув по хозяйской надобности в малую опочивальню, застала там одну из своих прислужниц – совершенно голую, затисканную – и кем? Песьим Богом!
Песьего Бога Петронилла еще десять лет назад выпросила у своего отца – в подарок на свадьбу. Бернарт де Коминж поморщился, но в такой малости не отказал. А Песьего Бога никто не спрашивал. Это псам он был бог; графу же Бернарту – вонючий раб, хоть и ощутимо полезный.
Уродство скрадывало его молодость, но никак не сказывалось на нраве – озорном и блудливом. Он хорошо управлялся с собаками, а эн Гастон любил охоту; потому Песий Бог легко прижился в Бигорре.
Увидев его в первые же дни траура с девкой на постели, где отошел их господин, вдова Гастона Беарнского запустила в обоих тяжелой связкой ключей. Девка, визжа, удрала – только розовая попка мелькнула. Песий Бог остался сидеть на месте, как был, в спущенных штанах. Опустив голову, задумчиво созерцал то, что свисало между ног.
Петронилла расплакалась.
Видя, что госпожа бить его, вроде как, не в настроении, Песий Бог натянул штаны, завязал бечеву. Вздохнул, сидя на разоренной постели. Спросил:
– Я пойду?
Петронилла не ответила.
Он поднялся и осторожно вышел.
Петронилла нашла и подобрала ключи, повесила их на пояс. И снова, как и давным-давно, когда отец заставил ее выйти замуж, ей показалось, что жизнь проходит мимо.
9. Наследница Бигорры
– Вы думаете, сестра, что вы теперь вдова? – Смех. – Просто вдова Гастона? – Смех, еще более заливистый. – Вы действительно так думаете?
– Почему вы смеетесь?
Сидящий перед нею человек так похож на Гастона, что Петронилле то и дело становится не по себе. Те же темные, волнистые волосы, не подверженные белой краске старости, тот же воинственный нос и не менее воинственный подбородок. Это младший брат покойного виконта Беарнского – Гийом де Монкад. Рот до ушей, в глазах искры – стареющий чертенок.
– Я смеюсь вашей ошибке, сестра. Вы – не вдова. Вы – невеста!
От этого слова Петронилла содрогается, как от удара.
– Господи! – вырывается у нее. – Оставьте же меня в покое! Я не хочу больше выходить замуж.
Ей тридцать два года. Тонкая золотистая паутина окутывает ее хрупкую фигурку. Так легко представить себе Петрониллу сухонькой благообразной старушкой.
Монкад берет ее за руку. Склоняется к ней, доверительно засматривает в лицо.
– Дорогая сестра. Вы столько времени живете одна. Красота ваша увядает без ласки, а хозяйство хиреет без мужского пригляда. Между тем Бигорра…
Долгие речи о Бигорре. О нашествии франков, будь они прокляты. О доблести и знатности Ниньо Санчеса – двоюродного брата короля Арагонского…
Петронилла почти не слушает. Она не хочет никакого Санчеса. Ей не нужно родство с арагонской короной…
Да, но – Бигорра… Но – Монфор, будь он проклят… Но – Наварра, Гасконь, Каталония… Пиренеи должны остаться гасконскими. Не Монфору же их отдавать, сестра, вы согласны? Нет, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Монфор…
И вот Петронилла – в красном, как девственница, стоит рука об руку с этим Санчесом Арагонским, окруженная блестящей, изнывающей от любопытства свитой, сплошь незнакомыми людьми – то родня и близкие ее покойного мужа.
Часовня, где происходит сговор, разубрана и разукрашена, как майская беседка при куртуазном дворе. Каноник, отец Гуг, сегодня важная персона. Он расхаживает взад-вперед перед обручающимися, сверкает украшениями – и на шее-то у него золото, и на пальцах сплошь рубины.
Свадьба назначена через месяц. Гости заполоняют замок. Теперь здесь тесно, шумно, но как-то скучно. Еще загодя устанавливаются столы для пиршества. Скоро будет забито много птицы. Уже зарезана свинья. Санчес и Монкад устраивают большую охоту. Берут двух кабанов.
Около полудня каноник является в часовню. Святой отец не утруждает себя ранними пробуждениями. Он вваливается в часовню полусонный, жуя на ходу, – и вдруг застывает в испуге. На полу, в пятне света, падающего из круглого окна под самым потолком, простерто неподвижное тело. Подобравшись поближе – бочком, тишком, – каноник видит, что это графиня Бигоррская.
Петронилла в разорванной рубашке, с плеточкой в кулачке, лежит на холодном полу у статуи Богоматери, щекой на босой ступне Девы Марии, слегка выдвинутой из-под плаща. Графиня крепко спит. Ее губы распухли от долгого плача. На белом плече красная полосочка, оставленная плеточкой. Статуя смотрит на спящую Петрониллу вытаращенными, ярко разрисованными глазами.
Каноник в ужасе озирается по сторонам, но в часовне не обнаруживает никого, кто мог бы помочь. Вылетает на двор и тут же натыкается на безносого негодяя, которого ненавидит всей душой. Псарь никакой роли при графине не играет – торчит себе на псарне; однако каноник то и дело спотыкается об эту образину.
И вот каноник растерян, а псарь сюсюкает с собакой, будто с девкой. Та преданно вылизывает его рожу.
При виде каноника Песий Бог ничком валится на землю и, надавив собаке на холку, понуждает животное лечь на брюхо. Так, распластанный, орет:
– Благословите нас, добрый человек!
Шипя, как змея, каноник бьет раба ногой в бок. Псарь переворачивается на спину, дергает в воздухе руками и ногами, отбрыкиваясь от собаки и истошно крича:
– Убил!.. Убил!..
Собака радостно гавкает.
– Заткнись! – вопит каноник не своим – каким-то бесстыдно петушиным голосом.
– Убил… – самозабвенно стонет Песий Бог.
– Сукин сын!
– А-а…
– Кобель!..
Песий Бог встает на четвереньки, трясет головой и вдруг, задрав ногу и помогая себе рукой, ловко пускает струю прямо на каноника. Отец Гуг едва успевает отскочить.
С безопасного расстояния каноник кричит:
– Графиня!.. Графиня умирает!
– А? – Песий Бог садится по-собачьи, склоняет голову набок. – Помирает? Уже? А где?
– В часовне!
– В вашей часовне любой помрет, – дерзит раб. – Вон, мои собаки туда и носу не кажут.
Однако поднимается на ноги и идет следом за каноником. Некоторое время глядит на Петрониллу – та как лежала в забытьи, так и лежит – и разочарованно тянет:
– Да она и не помирает вовсе. Спит она. Вам с похмелья померещилось, добрый человек.
– Отнеси ее в спальню, – говорит каноник. – Негоже на полу лежать. Застынет.
Песий Бог глядит на каноника с ухмылкой. Затем, скрестив на груди руки и с деланным смирением склонив голову, проборматывает:
– Я и забыл, добрый человек, что совершенным запрещено прикасаться к женщине, ибо сказано: «Добро человеку жены не касатися…»
Не дав канонику времени достойно ответить, наклоняется над графиней и берет ее на руки. От натуги псарь шумно пускает ветры. Каноник отмахивается и бранится.
Песий Бог осторожно оборачивает графиню лицом к себе. В прореху ее рубахи видна грудь, маленькая, остренькая.
– Вот ведь фитюлечка, – умиляется безносый раб, едва не зарываясь в прореху безобразной рожей.
Петронилла шевелится у него на руках, тихонько постанывает.
– Умаялась, – говорит Песий Бог. Разжимает стиснутый кулачок Петрониллы, отбирает у нее плеточку, сует канонику. – Заберите, добрый человек, пригодится.
Каноник ворчит сквозь зубы.
– Бедненькая, – продолжает ворковать над Петрониллой псарь, – ведь сама себя стегала, не иначе. Довели.
– Графиня – благочестивая католичка, – значительно роняет каноник. – Графиня каялась.
– В чем ей каяться-то? – недоумевает псарь, оглядывая Петрониллу. – У ней грехи как у птички.
Но каноник не в состоянии отвечать. Он не может даже запретить псарю называть себя «добрым человеком». Каноника одолевает мучительная икота, ибо накануне он, подобно остальным, был весьма невоздержан в еде и питье.
– Идите выпейте чего-нибудь, добрый человек, – советует раб. – На вас и глядеть-то больно.
– Отнеси графиню на постель, – велит каноник. – Что стоишь?
– Отнесу, отнесу, – заверяет псарь. – Похмеляйтесь без страха, все сделаю.
– Знаю я, что ты сделаешь, блудодей.
Не доверяя Песьему Богу, каноник сопровождает его до самой опочивальни. Уже в кровати, закутанная, Петронилла сонно открывает глаза. Над нею склоняются два мужских лица – туповатых, любопытствующих.
Графиня краснеет.
– Ступай вон, – говорит она Песьему Богу.
Тот лениво удаляется.
Каноник уже успел глотнуть вина. Ему уже легче думается, руки-ноги вновь приведены к порядку и слушаются, в соответствии с тем, что сказано у святого Августина: «Ум приказывает телу, и тело повинуется».
– Я заснула в часовне? – тихо спрашивает Петронилла.
– Вы были в забытьи, домна. Должно быть, вы рано пришли на молитву и молились слишком истово.
– Да. Еще затемно. Мне не спалось, отец Гуг. Думаю, это бесы одолевали меня. Такие недобрые, такие греховные мысли…
Каноник с пониманием кивает головой. Да, это, должно быть, были очень недобрые, очень греховные мысли. И очень злые бесы. Ибо трудно канонику представить себе достаточную причину для того, чтобы подняться с постели ни свет ни заря.
– Скажите мне, дочь, что это были за греховные мысли?
Видно, что Петронилла изнемогает от стыда. Каноник подбадривает ее.
– Говорите, говорите же. Раскаяние убивает грех, покаяние отгоняет бесов.
– Я каялась…
– Да, и весьма усердно. Вы стегали себя плеточкой, дочь. Ваше раскаяние было искренним, мы это видели. Но вы должны исповедаться.
– Ох, отец Гуг…
Канонику признаться во всем не так страшно, как Оливьеру. На Оливьере нет пятна. Он устрашающе чист, почти нечеловечески. Однако Петронилла сомневается во власти каноника разрешить ее от греха. В конце концов, она говорит:
– Сказано: исповедайтесь друг другу.
– Пусть это послужит вам к духовному укреплению, дочь.
– Отец Гуг, я желала смерти другому человеку.
В светлых глазах Петрониллы – долгая тоска.
Отец Гуг поражен.
– Вы? Господь с вами, домна! Все так любят вас. Вы так кротки, так всем любезны…
Она молчит. Каноник придвигается ближе, его лицо делается строгим.
– Говорите же, дочь. Кому вы желали смерти?
– Я хотела… Я молилась, чтобы Монкад и его друг Ниньо Санчес, мой жених… чтобы оба они на охоте свалились в пропасть и сломали себе шею.
Зима уныло плелась от Пиренейских гор – вниз, в долины, а оттуда уж засылала гонцов на равнину, к восходу солнца. Голая Тулуза жалась к правому берегу Гаронны под высокомерным взором, всегда устремленным на нее из Нарбоннского замка.
От холодов привычно маялись все: и воины, и женщины, и простолюдины, и монахи, и чада с домочадцами графа Симона. Раскаленная докрасна жаровня усердно согревала только одну комнату во всей башне: ту, что отведена для меньших детей. Там же проводил время второй сын симонов, Гюи, а с ним увязалась и тощенькая его подружка Аньес.
И вот скучным снежным вечером граф Симон ведет долгие разговоры со своей супругой, дамой Алисой, и со своим братом Гюи, и с мужем своей сестры, мессиром де Леви из Альбижуа, и со своим старшим сыном Амори, а дети, под добрым солнцем маленькой жаровни, развлекаются совершенно иным образом.
Сыновья Симона, Робер и Симон-последыш, а с ними и двоюродный их братец Филипп – все разом наседают на Гюи-меньшого. Вот бы одолеть такого важного противника. Вот бы опрокинуть его на спину, наподобие черепахи, – пусть подергает руками-ногами, пусть побрыкается. Вот бы на животе у него утвердиться, кишки ему пооттаптывать.
Гюи, смеясь, отбивается. Время от времени – для порядка – наделяет то одного, то другого братца преувесистым тумаком. Филипп громко ревет – Гюи разбил ему губу.
Всю солому на полу разворошили, будто мышь ловили.
Посреди комнаты, на расстоянии вытянутой руки от жаровни (чтоб пожара не случилось) – просторная кровать. Там и спят все графские отпрыски, сбившись в кучу, как щенки одного помета. Сейчас на этой кровати, зарытая в одеяла, восседает Аньес – раскинув тощие ноги, уронив руки между колен, – остренький носик, большой улыбчивый рот, ясные глазки. Глядит Аньес на своего возлюбленного и господина – как он с мальцами забавляется – и сердечко у ней от любви к нему стучит то сильнее, то слабее.
И вот дети, навалившись хищной стайкой, безжалостные, как зверьки, пересиливают взрослого недруга. Они роняют Гюи на пол. Копаясь в соломе у самой кровати, Гюи отлягивается от них длинными ногами. Но Аньес видит, что еще немного – и Гюи запросит у мальцов пощады. Того и гляди загрызут.
Теперь разобижен Робер. Ему сильно досталось по скуле. Взревев ужасно, он с кулаками бросается на Гюи и нешутейно уже норовит выдавить старшему брату глаз. Гюи уворачивается, ловкий и гибкий, и, прижав Робера к полу, угощает его двумя короткими ударами меж лопаток. Гюи бьет локтем, а локоть у Гюи костлявый и твердый, как дротик.
Остальные братцы тем временем висят у Гюи на загривке, точно охотничьи псы, взявшие кабана.
Аньес в постели стонет от смеха.
Но тут неожиданно входит граф Симон. Ой-ой! Аньес с тихим писком ныряет под покрывала. А Симон на нее и не смотрит – зря перепугалась. Граф оглядывает побоище взором грифа-стервятника: нет ли падали поклевать. Гюи, придавленный своими тремя братьями, отчаянно пыхтит на полу.
– Вот вы где, – говорит Симон своему сыну Гюи и подталкивает его ногой. – Я искал вас.
Гюи стряхивает с себя братьев. Замешкавшегося Робера Симон снимает сам – за шиворот – и забрасывает на кровать, ловко угодив в Аньес. Скрытая одеялом, та говорит:
– Ой!..
Разом поскучнев, Гюи встает на ноги.
– Я вам нужен?
– Да.
За стенами – промозглый вечер. Не вздумал же отец выступить в поход на ночь глядя, в преддверие зимы?.. Гюи надеялся заснуть на теплой постели, под боком у жаровни, в куче братьев, обняв Аньес. Девушка такая худенькая, что почти не занимает места.
Симон глядит на сына, щурясь. На мясистом лице графа все явственнее проступает усмешка.
Гюи плетется к отцу – плечи опущены, голова повешена. Симон манит его пальцем.
– Не печальтесь, – говорит Симон. – Не агнец, не на заклание идете.
– А куда? – спрашивает Гюи.
Симон шумно фыркает.
– Вы женитесь.
Как и ожидается, Гюи широко разевает рот и замирает в таком положении. Вид у него достаточно дурацкий, чтобы насмешить Симона.
Мальчишки принимаются понимающе хихикать, толкать друг друга локтями, показывать на Гюи, хлопать себя между ног. Усердствует главным образом старший из троих, Филипп, а двое остальных – за ним следом.
Позабыв свои страхи, Аньес высовывает из кровати блестящий глаз.
Симон – уже открыто – усмехается.
– Вам понравится, вот увидите.
И уходит, уводя за собой ошеломленного Гюи.
Дети забираются на кровать к Аньес. Она обхватывает их, кутая в покрывала. Вместе с ними тихонько покачивается – баюкает, утешает. Все четверо смотрят вослед графу, хотя тот давно уже скрылся из вида.
Скрылся – и увел с собою Гюи.
Наступает ясное утро, и небо над горами – сверкающей, бездонной глубины, и воздух залит осенним золотом и полон горьковатого запаха дыма.
В этот день из Тарба прибывает епископ, который должен венчать Петрониллу с Ниньо Санчесом – высокородным отпрыском графа Россильонского, кузеном знаменитого короля Педро Арагонского и так далее.
Однако встреченный с превеликим почетом епископ нынче ужасно суров и, кажется, немного растерян.
Он освобождается от тяжелых зимних плащей. Он позволяет проводить себя к башне (а слуги суетятся вокруг и так и эдак, то сбоку заглянут в строгий лик святого отца, то спереди забегут).
Его усаживают в кресло, придвигают поближе жаровню. Тихо шипят: «Где Детц?» Прибегает Детц, мальчик с черными от грязной работы пальцами. Пристроившись возле святого отца, усердно растирает его закоченевшие ноги.
Тогда-то только святой отец и объявляет со всевозможной торжественностью, что венчать Ниньо Санчеса с графиней Бигоррской не вправе и что, напротив, он прибыл объявить помолвку недействительной. Святой отец неспешно перечисляет десяток препятствий к этому браку – догматического характера и иного.
Внутренне Монкад кипит от негодования, однако епископа не перебивает – пусть выскажет все, что считает необходимым. Наконец, епископ замолкает. Мальчик помогает святому отцу обуться и убегает.
Тогда Монкад произносит вкрадчиво, встопорщив при том усы:
– Насколько мне известно, в Гаскони, кроме вас, имеются и другие прелаты, святой отец.
Святой отец отвечает:
– Насколько мне известно, все прелаты в Гаскони держатся того же мнения, что и я.
– А епископ Ошский?
– Сын мой, препятствия к браку вашей сестры с сеньором Ниньо Санчесом остаются неизменными.
– Знаю я, что это за препятствия! – орет Монкад, уже не стесняясь.
Он готов разразиться длинной тирадой и перечислить все свои подозрения и прямые обвинения, но епископ опережает его, молвив утомленно:
– Вот и хорошо, сын мой. Это существенно упрощает дело.
Так вот и случилось, что жених Петрониллы де Коминж, высокородный Ниньо Санчес, вкупе с братом ее покойного мужа, Гийомом де Монкадом, а также и вся прожорливая орава их гостей, не теряя присутствия духа, отступили перед превосходящими силами противника и двинулись на запад, в горы, в то время как противник накатывал с востока, от Тулузы.
Петронилла осталась на попечении епископа Тарбского. Через несколько дней к нему присоединился также епископ Ошский, а спустя седмицу – и Олеронский.
Монкад же и Санчес тем временем заняли замок Лурд, превосходно укрепленный и снабженный всем необходимым для того, чтобы выдержать долгую осаду, ибо они не теряли надежды все же заполучить впоследствии и всю Бигорру.
К Гюи теперь не подступиться. Гюи – рыцарь. Он женится на Петронилле де Коминж, он получит за женою графство. Аньес шмыгает мимо, не поднимая глаз. Однако Гюи успевает поймать ее, пробегающую, за волосы. Аньес потешно верещит – ровно мышка, если ухватить ту за хвостик. Гюи хохочет. Он тащит Аньес в оружейную. Она сердится, обвиняет его в жестокосердии: в оружейной пол каменный, ничем не застеленный, а лавок и вовсе нет. Но Гюи смешно, он не слушает ни упреков, ни жалоб.
На каменном полу и вправду так жестко, что Аньес непрерывно пищит. И вообще она недовольна. А Гюи – тот очень доволен.
Вдруг он спрашивает у Аньес:
– А ты не беременна?
– Не знаю, – отвечает она.
– Хорошо бы ты была беременна.
Она пожимает плечами. Гюи усаживается рядом с ней на полу, задумчиво глядит куда-то вбок, мимо Аньес.
– Ложись, – говорит он повелительно. Ни с того, ни с сего.
– Что, снова?
Он не отвечает. Она послушненько укладывается на спину, прикрывает глаза. Ждет. Гюи принимается давить пальцами ей на живот.
– Ой, что это вы делаете?
– Ищу ребенка. Где ты его прячешь? Где вообще вы, женщины, прячете детей?
Аньес не выдерживает – заливается хохотом. Тянется руками к своему возлюбленному, лезет ему под рубаху.
– Это вы прячете моего ребенка, мессир Гюи. Вот здесь.
А на следующее утро граф Симон забрал Гюи с собой в Бигорру – женить его на старой графине, на этой еретичке – дочери, сестре, вдове злейших врагов Монфора.
Симон де Монфор как в Бигорру явился, так еще загодя принялся хмурить брови: повсюду ему чуялись ересь и недовольство. С Симоном был отряд в сто человек; все хорошо вооружены и преданы католической Церкви. Так вез Симон своего второго сына, дабы тот укрепил владения Господа на западе Страны Ок. Ибо не один только Монкад понимал, что Бигорра – ключ к Пиренеям; в этом отношении мыслил с ним Симон сходно.
Мессир епископ Тарбский подготовил уже Монфору добрую встречу: расчистил ему пути, сделал их вполне ровными. Монкада с Санчесом лишил надежды и изгнал, пригрозив еще и отлучением от Церкви, если станут чинить препятствия к браку. Взятых Монкадом на охоте кабанов велел изжарить, закоптить и, обложив мочеными яблоками, выставить на стол.
Монфору забота эта пришлась весьма по душе. Припал к стопам святого отца с искренней благодарностью. Бывали времена, когда Монфор повелевал прелатам, но наступало и такое время, когда прелаты властвовали над Монфором. Очень тонко умел граф Симон различать, когда одно время сменяется другим.
С дороги освежились, и голод утолили, и отряд симонов разместили в тепле и сытости, и потребовал тогда граф Симон, чтобы представили невесту жениху, а жениха – невесте. Да и самому любопытно было взглянуть на дочь Бернарта де Коминжа – небось, ряба, да руда, да безмозгла, как курица, если в отцовскую родню удалась.
И вот восседает Монфор – хоть и некуртуазен, но величав и спесив, как надлежит. А рядом Гюи, лицо каменное, а взгляд беспокойный.
Отец Гуг за руку приводит Петрониллу. Та одета скромно, по-вдовьи, только цепь на груди золотая. Она вежливо кланяется гостям, наклоняя свое рябенькое личико.
Монфор – не так неотесанны франки, как о них болтают! – встает со своего места, и забирает графинюшку у каноника, и подводит ее к креслам, где заранее уже лежит мягкая подушечка, и усаживает, и целует ее ручку, а после говорит, окатывая Петрониллу запахом чеснока и моченых яблок:
– А этот рыцарь – Гюи де Монфор, мой сын.
Гюи тоже встает и тоже подходит к Петронилле. Преклонив колено, как учили, говорит деревянным голосом:
– Я приехал просить вашей руки, госпожа.
Петронилла бледна, под глазами круги, тонкие губы бесцветны. Она старше Гюи ровно в два раза.
Еле слышно она отвечает:
– Прошу вас, мессен, встаньте.
Наслушавшийся в Лангедоке куртуазных романов, Гюи отвечает, как должно:
– Нет, я не встану, госпожа, покуда вы не ответите мне согласием.
– Вы же знаете, мессен, – говорит Петронилла, – что все уже решено и сговорено.
У нее такой несчастный вид, что Симон ощущает во рту привкус кислятины.
Поздно вечером, когда Петронилла удалилась в свою одинокую опочивальню, Симон задумчиво молвил:
– …Бигорра…
И потребовал вина.
И Гюи потребовал вина. И белого хлеба.
– А то от этого чеснока что-то отрыжка свирепая.
Служанка, почему-то помертвев, аж приседает.
– Белого нет, мессен. И вообще – нет. То есть… Он невкусный.
– Неси невкусный.
– Он… Ой…
Служанка мнется. Не может ведь она сказать Монфору, что хлеб освящен Оливьером, совершенным катаром?
Подражая отцу, Гюи сдвигает брови.
– Что – с червями?
– Нет, мессен.
Симон поворачивается в ее сторону, невнятно рычит – не то горлом, не то утробой, совершенно по-медвежьи. Служанку точно ветром сдувает.
Она убегает, она берет хлеб, она, плача, отламывает половину от большого каравая, несет Монфору и подает. Она отводит глаза, ей жутко.
Бедная девушка, она твердо убеждена в том, что Монфор, едва лишь откусит, так тут же и падет мертвым. Посинеет весь, и язык у него распухнет и вылезет изо рта, наподобие того, как молочная каша вылезает из котла, и шея раздуется…
И тогда ее сожгут за то, что она отравила графа Симона. И графиню Петрониллу сожгут. Скажут – по приказу графини.
И все это случится потому, что Монфор решил отведать хлеба, освященного добрыми людьми.
Однако покуда служанке мерещатся все эти страхи, Монфор и его сын – оба с удовольствием обмакивают хлеб в вино и отправляют в рот, ломоть за ломтем. И ничего дурного с ними не случается, и никакое благословение их не берет.
Монфор поднимает от кубка глаза и грозно говорит служанке:
– Брысь!
Девушка убегает, грохоча башмаками.
Оставшись наедине с Гюи, Симон возвращается к прежнему течению своих мыслей. Повторяет, еще более задумчиво, чем прежде:
– …Бигорра…
У Гюи ощутимо портится настроение.
– Какая же она старая и некрасивая, мессир.
Симон устремляет на Гюи свирепый взор.
– Бигорра?
– Графиня Петронилла. Мне совершенно не хочется любить ее.
– Видел уж, кого вам хочется любить, – ворчит граф Симон. – Через десять лет ваша Аньес будет еще страшнее Петрониллы де Коминж.
– Эти десять лет еще не прошли, – замечает Гюи.
– Зато она умрет лет на двадцать раньше вас, – утешает сына Симон. – Да и кто заставляет вас любить ее? Она должна родить вам наследника, вот и все.
Гюи хмурится. Симон дружески обхватывает его за плечи.
– Мне нужна Бигорра, – говорит он. – Вы будете стеречь для меня Пиренеи. Я хочу, чтобы мои дети породнились с Лангедоком.
Он смеется.
– Того и гляди вы начнете заноситься передо мной, мессир граф Бигоррский.
Гюи наконец улыбается, пока что через силу.
– Разве я посмею, мессир граф Тулузский?
– Съел? Освященный хлеб?
Безносый псарь поражен. Глаза у него вытаращены, рот раскрыт, распахнутые ноздри с сопением втягивают воздух.
Служанка кивает.
– Слопал. Как Бог свят.
– И не поперхнулся?
Служанка мотает головой,
– Здоровехонек.
Псарь погружается в глубокие раздумья.
6 ноября
Венчание происходило в Тарбе. Присутствовали епископы Кузерана, Оша, Олерона, многочисленное духовенство из аббатства Сан-Север-де-Рустан, из Асте, Сарьяка, Артаньяна, Сан-Пьера.
Симон постарался на славу. Гасконские прелаты, много терпевшие от местной знати, вполне предавшейся еретикам, теперь позабыли прежние мучения. Они получили назад потерянные было земли и готовы были за это устилать путь Симона розовыми лепестками. Про себя Симон усмехался, но преклонение принимал милостиво.
Маленькая рыжеволосая невеста тряслась от зимнего холода, стоя перед епископом Тарбским, рука об руку с рослым, юношески угловатым женихом. В раскрытые настежь ворота собора задувал ледяной ветер.
Местная знать взирала на происходящее с настороженным любопытством. Симон, окруженный своими вассалами и сержантами, поглядывал за тем, чтобы обошлось без скандалов. А что гасконские бароны весьма охочи до скандалов – то было видно издалека. Однако верно и то, что Симона де Монфора они страшились нешутейно и потому держались смирно.
После долгого обряда молодых вывели на ступени собора и стали осыпать деньгами и зерном. Пущенная кем-то монета неудачно стукнула невесту по лбу. Петронилла жалобно пискнула. Гюи стало вдруг жаль ее. Он обнял ее и прижал к себе. Петронилла была совсем как ледышка и очень костлявая.
Колокола гремели в небесах так, что снежные шапки на горных вершинах подрагивали. Нерасторопные (впоследствии высеченные) слуги принесли, наконец, меховые плащи с капюшоном. Петрониллу закутали, как младенца. Гюи под всеобщий одобрительный рев взял ее на руки и поцеловал в посиневшие губки.
Такая выходка очень понравилась гасконским баронам. Они радостно завопили, а кое-кто попытался подражать молодому мужу и ухватывал всех встречных женщин, кого за зад, кого за грудь. Это усугубляло сумятицу.
Свадебный пир длился вдесятеро дольше против торжества в церкви. Гасконские прелаты напились вровень с гасконскими баронами. Симон торжественно выпроводил своего сына Гюи вместе с Петрониллой в спальню, добавив, что тех ждет работа поважнее пьянства. Гасконские бароны за спиной у Симона при этом реготали.
Занавес опустили, лучину запалили, служанку выставили вон. Повернувшись к своей жене, Гюи увидел, что Петронилла плачет. И без того-то казалась она ему скучной. Теперь ее личико сделалось совсем кислым, сморщилось, стало с кулачок.
– Перестаньте реветь, – резковато молвил Гюи.
Беззвучно всхлипывая, Петронилла сняла красное блио, осталась в одной рубашке – красивого тонкого полотна.
Гюи швырнул в угол все то, что натянул на него утром оруженосец: и наборный пояс (безделка, но богатая), и сюркот, и рубашку с узорами по подолу.
Жена уже сидела на постели, свесив ноги. Гюи с размаху плюхнулся рядом, решив про себя покончить с неприятностью как можно быстрее. Взял ее за плечо, надавил, развернул, заставил лечь. Она улеглась, уставилась в потолок безрадостным взором. Когда он для порядка чомкнул ее в щеку, то брезгливо дернулся: лицо было мокрое.
– Да что вы все рыдаете? – недовольным тоном спросил Гюи, снова усаживаясь на постели.
Петронилла шмыгнула носом, высморкалась в подол рубахи.
– Извините.
– И снимите с себя эту власяницу, – добавил Гюи. – Как это я буду делать вам ребенка, если вы – будто труп, завернутый в пелена?
Петронилла послушно разделась. В свете двух лучин, что горели в изголовье кровати, роняя пепел в большой медный таз с водой, Гюи разглядел полоски, оставленные плеточкой на плечах и спине жены. Потрогал пальцем. Голая Петронилла поежилась.
– Что это у вас, а?
– Это…
– Вас что, плеткой били? – определил Гюи и нахмурился.
– Это… я сама. В часовне.
– А, – сказал Гюи успокоенно. – Ну давайте, ложитесь же.
Брякнулся с ней рядом.
– Вытрите лицо, живо. Не жена, а жаба. Вся сырая.
Отвернулся.
Он слышал, как она возится, тяжко вздыхая.
– Готово?
– Да.
Гюи приподнялся, взял ее за остренький подбородок и поцеловал. Губы и веки Петрониллы были солеными.
Согласно договору, заключенному вместе с браком и оглашенному после свадебной церемонии в присутствии высших духовных иерархов Гаскони, Бигорра передавалась отныне во владение Гюи де Монфора с тем, чтобы впоследствии перейти к его детям от союза с Петрониллой де Коминж. Графиня Бигоррская, в свою очередь, получала от супруга ежегодное содержание в пятьсот серебряных марок. Этот сбор в пользу Петрониллы де Коминж должен осуществляться впредь в качестве налогового сбора в окрестностях Каркассона (перечислялись феоды и мелкие владения) перед Пасхой.
– Пятьсот серебром… Это, я думаю, телег пять нагрузить надо одними деньгами, не меньше.
– Это в сотню раз дороже, чем сам ты стоишь, болван.
В простонародье бурно обсуждают услышанное, с многозначительным видом пережевывают новости. Собственно, простонародью немного дела до этой свадьбы, но – любопытно.
Протрезвевшие гасконские бароны один за другим приносят клятвы верности Гюи де Монфору, восемнадцатилетнему мальчишке, франку. Он и нравится им, и раздражает. Как всякий истовый католик, через слово – «Господь, Господь», а чуть что не по нему – хвать за оружие.
Гюи принимает присягу за присягой. После дает торжественную клятву управлять этими землями, никак не нарушая местных обычаев, если только эти обычаи не оскорбляют Господа.
С Петрониллой он встречается только в постели. Они почти не разговаривают между собой.
Гюи – воин и мальчик, беспощадное и набожное дитя Симона де Монфора. Что общего у него с дочерью графа Бернарта?
10. Простец Симон
Мышью под носом у кота явился в Тарб Оливьер, именно в те дни, когда там засел Монфор. Симон был еще пьян – вином, торжеством, но более всего чудным словом «Бигорра».
Оливьер привел с собою человека, которого именовал своим сыном. Как и многое другое, их родство надлежало толковать, однако, лишь в духовном смысле. Оливьер никогда не зачинал плотских детей и никогда не прикасался к женщине.
Был болен некий Гийом де Жерон, богатый торговец овцами, живший тогда в Тарбе. В час смертный он вдруг затосковал. Велел не пускать к себе священника, а вместо того начал молить домочадцев и родных, чтобы нашли и привели к нему для утешения совершенного катара. Доселе Жерон считался благочестивым прихожанином Святого Стефана, и потому многие из домашних его были удивлены такой просьбой.
– Болезнь тягостна для мессена. Он утратил рассудок.
– Клятый Монфор еще в городе, да и сын его поблизости. Выведает – всех нас повесит вниз головой.
– Совершенного не так-то просто найти. Они искусны прятаться.
– Ни один совершенный, если он в уме, не пойдет сейчас в Тарб. Это верная смерть.
– Совершенный – придет.
– Так ведь Монфор здесь…
– Совершенный придет.
Не успел замолчать шепоток, как у дверей дома – красивого, с белой башенкой – выросли две фигуры, по виду страннические, и попросили приюта и милостыни. Их пустили, но не дальше кухни.
…А после, как распознали…
Жерон молвил успокоенно, когда ему о том сообщили:
– Я знал, что совершенный придет.
Оливьер – седовласый, синеглазый, высокий – стоит у постели умирающего и обеими руками, источающими свет и пламя, раскрывает перед ним двери в Небесный Иерусалим. Прочим – кто рядом – дозволено лишь краем глаза увидеть это, лишь заглянуть мимолетом и украдкой; Жерону же предстоит сейчас туда шагнуть.
В начале было Слово. И был человек по имени Иоанн. Он был один и опечален, и в сердце его непрошеной вошла тоска…
– Благословен Господь наш Иисус Христос! Как хорошо, добрый человек, что вы пришли.
– Бог да благословит тебя, сын. Разве я мог не прийти туда, где во мне нуждаются?
– Многие сомневались.
– И ты тоже, сын?
– Я – нет, добрый человек. Я не сомневался.
И вот, когда он размышлял и был погружен во мрак, раскрылось небо, озаряя Творение, и пал Иоанн, испуганный. И в ослепительном свете предстал ему некий юноша…
– …Таким образом, души, совращенные дьяволом, ушли от Лика истинного доброго Бога и остались в одиночестве. И дабы они не погибли до времени, когда им спастись, дьявол сотворил для них грубую телесную оболочку. Там они обречены прозябать до той поры, покуда не воссоединятся в истинной Церкви, не истают в слезах истинного покаяния и не получат истинного утешения.
Оливьер прервал поучение, переводя дух, а его спутник (его звали Аньен) воскликнул:
– Дух Святой, Утешитель, приди низойди на нас!
– Истинно, – отозвался Оливьер. И возложив руки на голову Жерона (тот часто задышал ртом, и в его глазах проступили слезы), спросил: – Брат! Тверда ли твоя решимость принять нашу веру целиком и до конца?
– Да, – хрипло сказал Жерон.
Вокруг неожиданно возникла суета – несли свечи. Оливьер посторонился, давая прислуге место водрузить две толстых сальных, ужасно коптящих свечи в изножье кровати. Стало светлее. Оливьер будто оделся пламенем.
Наконец вновь установились тишина и неподвижность.
Оливьер продолжил вопрошание.
– Брат, даешь ли ты обещание, которое услышит также и Господь, что будешь служить Богу и Его Евангелию?
– Да.
– Не убивать животных и людей?..
Жерон вдруг бессмысленно захрипел. Сухие пальцы начали судорожно поддергивать покрывало, в которое он был закутан.
Не смущаясь, Оливьер продолжил:
– Не прикасаться к женщине, даже и невинно, не спать раздетым, не есть ни мяса, ни молока, ни яиц, ничего не делать без молитвы?
За Жерона ответил Аньен, спутник Оливьера:
– Да.
Суета вдруг возобновилась. Кто-то яростно проталкивался к смертному ложу Жерона. И снова Оливьер остановился и начал ждать, покуда все затихнет.
Справа и слева от совершенного явились два дюжих франка – в кольчугах, вооруженные. Были они опьянены тьмой и от них сильно пахло железом. Еще десяток шумно топтался у входа. С ними был разъяренный приор из кафедрала Святого Стефана, которого не пустили к умирающему, призвав вместо того Оливьера.
И вот франки накладывают руки на Оливьера, а двое других – на Аньена, и у Аньена вдруг подгибаются ноги и делается тягостно в животе.
Жерон медленно водит головой, перекатывая ее вправо-влево, и похрипывает тихонечко, будто напевает, – всей своей изнемогающей утробой. Пальцы его неостановимо шевелятся.
Оливьер спокойно говорит:
– Позвольте нам довершить обряд, добрые люди.
Приор из Святого Стефана гневным взором глядит на обоих совершенных.
– Погубить свою душу он уже успел с вашей помощью, а для раскаяния ему хватит и единого мига.
И совершенных уводят.
Диво в том, что Оливьер вовсе не спокоен, как видится окружающим его людям, – нет, напротив: Оливьер весь трепещет от восторга, ибо сейчас сбывается его самое заветное, самое тайное желание.
Гюи де Монфор, граф Бигоррский, на охоте. С ним Петронилла, его жена, и двое рыцарей из Иль-де-Франса, а также все то охотничье наследство, которое досталось ему от покойного Гастона Беарнского: и добрая свора, и псари, и загонщики.
Увлеченный охотой, Гюи совсем позабыл о Петронилле и не сразу узнал свою старую, постылую жену в белорукой всаднице с прыгающими на спине золотыми косами, с разгоряченным, смеющимся лицом. На скаку она взяла в седло собаку и промчалась мимо, крича что-то на диком горском наречии. Засмотревшись на женщину, Гюи едва не упал с коня, но вовремя спохватился.
Симон де Монфор, правая рука Господа Бога, меч Господень, новый Иуда Маккавей. Ибо разве не о Симоне сказано:
«И восстал вместо него (Маттафии) Иуда, называемый Маккавей, сын его. И помогали ему все братья его и все, которые были привержены отцу его, и вел войну Израиля с радостью. Он распространил славу народа своего; он облекался бронею, как исполин, опоясывался воинскими доспехами своими и вел войну, защищая ополчение мечом; он уподоблялся льву в делах своих и был как скимен, рыкающий на добычу; он преследовал беззаконных, отыскивая их, и возмущающих народ его сожигал.»
Привели Оливьера и сына его, Аньена, перед грозное лице Симона де Монфора, в графскую резиденцию в Тарбе. И встретились они в окружении сторожевых гор и облаков, рвущих свой мягкий живот о старые скалистые вершины и изливающих из разодранной утробы кровь дождя и плоть града и снега.
Гюи, граф Бигоррский, был в те часы на охоте, в долине, а Гийом де Жерон, богатый торговец овцами, обмываемый губкой, смоченной в воде и уксусе, глядел белыми глазами за грань земного бытия – упокоенный, молчащий.
Симон велит сержантам убрать руки с плеч Оливьера – пусть стоит свободно. Вот Оливьер и стоит свободно – стройный, старый, бестелесный почти – и бесстрашно глядит на Симона.
Симон говорит:
– Как завоевал я земли эти мечом и доблестью и получил их от Папы Римского и государя моего, короля Франции, в ленное держание, то и суд здесь вершу я.
– Суди же меня по своему закону, – отвечает Оливьер. – Я готов говорить с тобой.
Приор из Святого Стефана говорит:
– Этот человек поносит святую католическую Церковь и совращает в свою ересь других.
– Я не еретик, – возражает Оливьер. – Вера наша чиста, и в том, что мы исповедуем, нет поношения Господу. Отрезвитесь от опьянения тьмой и выслушайте.
Симон молчит.
Приор говорит:
– Пусть произнесет перед вами, мессен граф, исповедание свое, чтобы вы слышали и поняли.
– Хорошо, – говорит Симон.
– Мы верим в истинного Бога. В Сына Его Иисуса Христа. В сошествие Святого Духа на апостолов. В воскресение. В крещение. В спасение для человека, будь то мужчина или женщина – безразлично.
Воцаряется молчание. Симон глядит на Оливьера и безмолвствует. Глядит на одного только Оливьера, будто никого другого рядом и нет.
Оливьер поднимает руки, снимает с головы капюшон.
Приор с ненавистью произносит:
– Да, конечно. Они веруют в воскресение, но не тела. Они признают крещение, да только не водой. У них и Писание есть, но не такое, как наше, и книг Ветхого Завета они не принимают. Да, они говорят о спасении, но лишь для тех, кто перешел в их дьявольскую секту. Они лгут и уворачиваются, мессен граф, этому научил еретиков их отец – дьявол.
При этих словах приор яростно обмахивается крестом.
Симон спрашивает у Оливьера:
– Правда ли, что вы поклоняетесь дьяволу?
Оливьер отвечает:
– Мы верим в истинного Бога и к нему обращаем молитву и упование. Но признаем мы также и творца всего непотребного и злого.
– Что же есть зло?
– Все, что имеет плоть.
– И ты?
Оливьер не опускает глаз.
– И мое тело – тоже.
Симон хорошо знает Евангелие. Он превосходно понимает, какую роль сейчас навязывает ему этот еретик. Тихо скрипит зубами.
Синие глаза Оливьера улыбаются.
Симон спрашивает:
– Правду ли говорят о вас, что вы призываете дьявола, и он является вам как черный кот и что вы лобызаете его под хвостом?
– Я этого не делал, – говорит Оливьер.
– Правда ли, что вы совокупляетесь, подобно змеям, в клубке, что убиваете потом рожденных таким образом детей?
– Нет, это неправда, – отвечает Оливьер. – Многие из нас девственны.
– И ты?
– И я.
Симон – отец семерых детей, тяжеловесный, настоящее пиршество плоти. Он хмурится. Ему вдруг делается противно.
Приор говорит:
– Этот человек, Оливьер, – он смущает веру, совращает души, губит католиков. Разве всего этого не достаточно, чтобы осудить его смерти?
Оливьер, не глядя на приора, отзывается презрительно:
– Невежество – истинный враг души. Ваши прелаты, мессен граф, не прелаты, а Пилаты. Сами грешат, а осуждают смерти невинных. Не мы, а они губят людей, совращают их души.
От этого «Пилата», брошенного прямо в лицо, Симон окаменевает. Только широкие крылья носа подрагивают.
Наконец Симон спрашивает:
– Ты живешь здесь, в Тарбе? Где твой дом?
– Я пришел в Тарб только сегодня.
– Зачем?
– Вы хорошо знаете, мессен граф, зачем. Ведь это вы оторвали меня от смертного ложа, когда умирающий принимал утешение из моих рук.
– Ты знал, что я здесь?
– Да.
– Как же ты посмел явиться сюда?
Оливьер слегка подается вперед.
– По примеру апостолов, подхватив из их рук упадающий пастырский посох, ходим мы по дорогам, от селения к селению, от города к городу. Везде мы разносим слово истины. Мы как агнцы среди волков, среди гонений и притеснений. Мы живем под смертным страхом. Но нет ничего такого, что заставило бы нас оставить этот путь, ибо наше Царство – не от мира сего.
Симон спрашивает:
– Кто призвал тебя в Тарб?
– Господь.
– Я спрашиваю, кто тот посланный, который передал тебе просьбу явиться в Тарб?
– А я и отвечаю вам, мессен граф: Господь.
Симон впервые за все время обращает взгляд на Аньена. Кивает тому подбородком: говори. Тот с готовностью вступает в разговор:
– Мессен, мой отец говорит правду. Мы сидели за братской трапезой – это было за много верст отсюда, в одиноком месте. Мой отец творил молитву. И вдруг посреди молитвы он остановился и поднял голову, будто его внезапно окликнули. Но никто из нас не слышал никаких голосов. Тогда мой отец вдруг встал и сказал, что его позвали. Он взял книгу Писания, кусок хлеба, положил все это в сумку и велел мне сопровождать его.
– Где же это «одинокое место»?
– Я не могу сказать.
Оливьер перебивает:
– Напрасно вы стали бы искать там наших братьев. Они уже оставили это убежище.
– Их много, ваших братьев?
– Да.
Оливьер глядит на Симона чуть ли не сочувственно.
– Мессен, – обращается он к Монфору.
Прямо к Монфору, минуя приора из Святого Стефана, стражу, Аньена.
– Мессен, ведь вы убьете нас, не так ли?
– Не я, ваши грехи убивают вас, – медленно отвечает Симон. – Грех – жало смерти.
Очень тихо Оливьер говорит – жалея Симона:
– Сын мой, мы – не волки и не лицемеры. Мы – добрые христиане. А вот враги наши – злые наймиты. Послушай меня. – В голосе Оливьера еле заметно дрожит, вибрируя, тонкая струна восторга. – Послушай меня, сын мой, и признай мою правоту. Мы поклоняемся истинному Богу, но признаем также и бога Зла, которого католики называют «дьяволом». Ибо не может бесконечно благой Бог сотворить ничего злого и несовершенного. Иначе придется утверждать, что благой Бог сотворил и допустил, чтобы были смерть и боль, наводнения и пожары, гибель младенцев и жен, кормящих сосцами и носящих во чреве, насилие над девами, увечье мужей, рабство, моровое поветрие… Подумай! Разве мог неизъяснимо добрый Господь сотворить этот плотской мир, исполненный боли и тлена? Разве могла выйти из Его рук эта жалкая страждущая плоть, беременная собственной смертью?
Симон улыбается.
Он улыбается уже давно, но только Оливьер, увлеченный своей горячей проповедью, не сразу это заметил. Наконец совершенный замолкает, споткнувшись о симонову странную улыбку, будто бегун о лежащий на дороге камень.
– Чему ты так улыбаешься, сын мой?
– Я тебе не сын, – перебивает Симон. – Как ты можешь говорить «сын», если ты – девственник? Ты не знаешь, что такое «сын»! Отцовство – богатая и светлая вещь, но достигается на иных путях.
– Мессен, вы хотите возразить мне, отвергнуть мое рассуждение?
– Нет.
– Мессен, разве вы в силах возразить мне?
– Нет – повторяет Симон. – Я невежда. В твоих рассуждениях, на мой взгляд, нет изъяна.
– Чему же вы улыбались, мессен граф?
– Тому, что ты, несмотря на всю твою ученость, погиб и сгоришь в адском огне, а я и этот невежественный приор, которых ты столь презираешь, – мы оба спасены.
– Рассудит Господь, – говорит Оливьер, отступая на шаг.
– Завтра ты будешь сожжен на костре, – говорит Симон.
– Знаю. – И Оливьер таинственно улыбается.
Тут Аньен, вырвавшись из рук симоновых сержантов, бросается к ногам графа Симона и начинает умолять о пощаде. Симон брезгливо смотрит, как Аньен корчится на полу, содрогаясь в бесслезных рыданиях, как давится собственным страхом.
Поймав взгляд Симона, Оливьер замечает – равный равному:
– Вы сами видите теперь, мессен, сколь отвратительна и слаба плоть.
Симон поворачивается к одному из своих сержантов.
– Водрузите это туловище на ноги и узнайте, чего оно хочет.
Аньена хватают за подмышки, несколько раз вразумляют по щекам и, наконец, в обезумевшем взгляде Аньена проступает ясность.
– Я хочу… я принесу покаяние, – лепечет он. – Я отрекаюсь… от преступной ереси.
– Вот и хорошо, – говорит Симон.
Вперед выступает приор от Святого Стефана. Аньен, мешком рухнув на пол у рясы приора, начинает шумно поносить катарскую веру. Он обвиняет своих бывших братьев в приверженности дьяволу.
Приор перебивает:
– Я назначу тебе покаяние. Сейчас же будет довольно, если ты прочитаешь credo.
– Credo in unum Deum, Patrem… Отец мой, я не помню.
Приор подсказывает. Аньен взахлеб повторяет.
Повторяет – а сам то и дело косится на Симона. Точно собака, что спешно заглатывает украденный с хозяйского попустительства кусок. Симон позволяет ему дочитать до конца, а после, решительно хлопнув себя по коленям, произносит заключительное слово:
– Я рад, что спасется хотя бы один. – И сержантам: – Отведите их в темницу. Завтра сожгите обоих.
– Так и сказал? «Сожгите обоих»?
– Да.
– Но ведь один, вроде бы, отрекся?
– Он сказал: «Обоих».
– Господи! Воистину, великий простец этот граф Симон.
На рыночной площади сооружен помост. Собран хворост. Погода стоит сырая и скучная, поэтому хворост собирали не по лесам, а по домам. Кое-кто из горожан спешит сам принести вязанку, но большинство лишь угрюмо подчиняется симонову повелению.
Граф Бигоррский возвратился с охоты и совершенно одобрил отцовское решение.
«Обоих». Ему любопытно.
– Жаль, что я не смог поговорить с этим Оливьером.
– Ничего, еретиков в вашей Бигорре еще предостаточно. У вас будет случай… Только никогда не вступайте с ними в препирательства. Их не переспорить. Они со всех сторон вроде как правы. Обложились стихами из Писания, как щитами. И все превзошли и постигли, не чета нашему невежеству.
Гюи глядит на Симона, широко распахнув глаза.
– А как же вы с ними спорили, мессир?
– А я с ними и не спорил. Говорю вам, они так плетут слова – не разрубишь. Я их просто не слушал. Когда они пытались смутить меня, я то читал про себя ave Maria, то повторял «иди в задницу, иди в задницу», – говорит граф Симон.
И заливается громким хохотом.
В полдень похоронно зазвонили колокола. Горы хмуро взирали слепыми белыми вершинами, как из храма выводят двух человек, окруженных стражей. Ночь оба осужденных провели в подземной крипте, под полом кафедрала, рядом со святынями – в уединении, в молитве, в промозглой сырости, с оковами на руках и ногах.
Они шли медленно, одеревеневшие от холода, мелко переступая скованными ногами. Гром колоколов заглушал тихий перезвон их цепей.
Петронилла рядом со своим мужем, на коне, как и он. В последний раз видит она Оливьера. Она встречается с ним глазами. На мгновение ей делается жутко. Вдруг Оливьер окликнет ее. Вдруг расскажет ее мужу и свекру о том, что и она некогда преклоняла перед ним колени и испрашивала его благословения. Но Оливьер молчит. Его суровое, очень старое, очень бледное лицо лоснится от пота. В углу рта капля крови. Оливьер боится.
Аньена ведут под руки. Он глубоко ныряет на каждом шаге.
Приор громко спрашивает Аньена:
– Сын мой, в последний раз скажи перед всеми, как ты хочешь умереть – еретиком или католиком?
Аньен кричит:
– Католиком!
И умоляюще глядит на Симона, тяжело дыша раскрытым ртом. Симон осеняет себя крестом.
Аньена берут за скованные руки, грубо поддергивают ближе к Оливьеру и так, за запястья, связывают, обернув их друг к другу лицом. И Оливьер, мертво улыбнувшись, целует Аньена в мокрые губы и кладет голову ему на плечо. И Аньен, хоть и отворачивается, но тоже вынужден положить щеку на плечо Оливьера.
Вздымается пламя, запаленное сразу шестью факелами, взвиваются и корчатся в огне одежды и, заглушая погребальный гром, кричат умирающие в муке люди.
Запрокинутое лицо Симона залито красноватым светом, серые глаза раскрыты – впитывают увиденное. По площади ползет жирный дым.
Потом огонь стихает. Вместе с огнем смолкают колокола кафедрала.
И вдруг тишину прорезает испуганный вопль, пронзительный и тонкий:
– Чудо! Чудо!
Колыхнувшись, толпа подается к помосту. Симон слегка трогает коня, чтобы подобраться поближе.
Оливьер превратился в черный остов. Тело Аньена осталось неповрежденным. Огонь съел только кисти его рук и обгрыз щеку, которой тот прикасался к Оливьеру.
11. Лурдское Рождество
И двух седмиц со дня брачных торжеств в Бигорре не минуло, как вытащил граф Симон своего сына Гюи из супружеской постели и вместе с ним бросился на Лурд, где в старом замке – еще римляне здесь свою крепость имели – засели Монкад и Санчес. Все не смирить им жадную душу с тем, что потеряны для них и графство, и графиня.
Не успели толком обсидеться, а граф Симон – вон он, внизу, в долине, под стенами. Зубы точит. И Гюи с ним.
Местным мужланам – стон один: мало их Монкад ощипал, придется теперь Симона с его воинством кормить. А надолго ли Симон в Лурде застрянет – того никто не провидит. Может, и надолго. Вот уже и тучи отяжелели, грозят снегом опрастаться, вот и Рождество накатывает… Симон упрямо сидит в долине, а Монкад – в Лурдском замке, и ничего не меняется, только время течет себе и течет.
В мыслях о Рождестве Симон вдруг взор от замка оторвал, стал озираться по сторонам. Часовню для него в долине нашли. Выстроена давно, с виду неказиста, не первый год заброшена, того и гляди на голову рухнет. Так графу и доложили: на ладан, мол, часовня-то дышит.
Симон не поленился, съездил посмотреть. Внутрь вошел, оглядел. Запах затхлый ноздрями втянул. Увидев, оскорбился, ибо обижен здесь был Господь. И взялся Симон обиду эту целить.
Нагнал вилланов, велел в меру умения храм крепить, очищать и восстанавливать. Ибо желал граф Симон справить Рождество честь по чести; осаду же Лурдского замка снимать при том не желал.
Вилланы от натуги заскрипели. Неохота им было ерундой заниматься. Но Симону перечить не станешь. Симону даже важные сеньоры перечат опасливо.
Потому что Симон – он всегда был в большой дружбе с Господом Богом, а здешние важные сеньоры с Господом Богом были то в мире, то в ссоре.
Священника Симон во всей округе не сыскал; пришлось в Тарб посылать, к Петронилле: пусть отправит сюда каноника, отца Гуга. Солдату посыльному наказал вернуться до Рождества, не опоздать.
Устроив таким образом свои религиозные нужды, предпринял Симон штурм Лурдского замка – на пробу. Подобрался, оскальзываясь на склонах, под самые стены; ударил в ворота раз-другой и бесславно скатился обратно, вниз, в долину. Разъяренный Монкад отбивался столь свирепо, что сбросил с холки Монфора. Смотри ты!..
Монфор уселся внизу. Раны зализал. Немного их и было – ран. Наверх уставился алчно. Сидел, как зимний волк, под деревом, где неурочный путник спасается.
Без всякого толка минула еще седмица, и вот под стены Лурда явился из Тарба отец Гуг, продрогший и недовольный. Он-то думал Рождество в Тарбе справлять, при Петронилле, в тепле, сытости, а его в грязную деревню пригнали, к мужланам дурнопахнущим да франкам сумасшедшим.
Вот выходит граф Симон из того дома, где ночевал. Будто медведь из берлоги, выбирается из маленькой крестьянской лачуги (и как только там помещался!) – рослый, в овчином плаще. Бросил в лицо горсть снега, умылся. На стальной седине остались белые хлопья. Глядеть на Симона – и то зябко.
Каноник поодаль стоит с уксусным видом. Ежится.
– А, святой отец, – говорит граф Симон, – добро пожаловать.
Каноника хватают медвежьей хваткой и тащат в убогое жилье, где кисло пахнет прелой соломой и овчиной. Каноник пачкает одежду о закопченные стены.
Ради белого зимнего света Симон оставляет дверь в лачугу открытой, но каноник продрог, каноник умоляет закрыть дверь и запалить лучше лампу. Масло в лампе прогорклое, дышать становится нечем.
Симон самолично подает канонику скисшее молоко в горшке и кусок твердого хлеба. Ворча насчет поста, каноник торопливо ест, обмакивая ломоть в молоко.
Симон с усмешкой глядит, как каноник жует черствый хлеб. Потом говорит (коварный Симон!):
– Вам, наверное, не терпится увидеть нашу часовню, святой отец?
Канонику не терпится лечь в постель и зарыться в теплые шкуры. Канонику не терпится обратно, в Тарб. Но от Симона разве так легко отделаешься? Потому каноник вяло отвечает:
– Разумеется.
Симон забирает горшок с молоком.
– Тогда не будем терять времени.
И без всякого сострадания тащит каноника на холод, прочь из надышанной, теплой берлоги.
У часовни теперь не столь плачевный вид. Она выглядит хоть и убогой, но вовсе не заброшенной. Мужланы, страшась симонова гнева, и впрямь постарались, как умели: выгребли всю сгнившую солому с дохлыми мышами и птичьим пометом, алтарь подкрепили жердиной. Даже занавес повесили, правда, из дерюги, в какой уголь носят, но совсем новой, не замаранной еще.
Много видел Симон на своем веку разоренных храмов; потому эта часовня показалась ему вполне достойной. Каноник держался другого мнения. Оно немудрено: вся затея Симона казалась ему блажью. Однако, как и лурдские мужланы, посчитал отец Гуг, что перечить графу Симону бессмысленно. И даже опасно.
Все эти мысли можно без труда прочитать у каноника на лице; да только граф Симон и такого малого труда себе не дал. Оставил святого отца наедине с его новым храмом: пусть пообвыкнутся друг с другом.
А Гюи, граф Бигоррский, тем временем был занят поединком с одним из своих вассалов. И так они один другого загоняли, что только пар от обоих густой исходил.
И побил гасконец Гюи де Монфора, поскольку старше был, сильнее и опыта имел куда больше; а побив – испугался, но страх свой искусно скрыл.
Гюи же, хоть и заметно омрачился от поражения, однако учтиво поблагодарил гасконца за науку.
А тут ему сказали, что прибыл из Тарба отец Гуг и завтра будет заново освящать часовню, какую для Симона нарочно нашли и очистили. Гюи гасконца бросил, пошел каноника смотреть.
– А, святой отец, – сказал Гюи де Монфор, завидев каноника, – доброго вам дня.
– И вам, мессир, – отозвался каноник, но нелюбезно. Видел, что не просто так прибежал здороваться с ним молодой граф Бигоррский. Неуёмные эти Монфоры, вечно им что-то нужно сверх того, что уже имеют.
– А что, – помявшись, сказал Гюи, – жена моя ничего мне не передает?
– Нет. Вы известий ждете?
– Не знаю, – проворчал Гюи. Он теперь сердился. – Моя мать всегда передает для моего отца – письма или на словах…
Каноник поглядел на симонова сына – сбоку, по-птичьи, – и спросил, являя нежданную душевную чуткость:
– Что, мессир, странно вам быть теперь женатым?
Гюи покраснел, отвел взгляд и ничего не ответил.
Вот уж и Рождество минуло. Сразу по окончании празднеств Симон еще раз пошел штурмовать Лурдский замок, попытавшись подняться по другому склону.
Отец Гуг с нескрываемым облегчением отбыл обратно в Тарб, ссылаясь на заброшенность тамошней паствы. И без того ведь согрешил, осиротил на Рождество графиню Петрониллу. Симон не без оснований возражал, что Петронилла оставлена была на попечение епископа Тарбского; однако нерадивого каноника от себя все же отпустил.
Второй штурм Лурда окончился такой же неудачей, как и первый. Осажденные шумно ликовали и бросали в Симона нечистотами.
Год 1216-й от Воплощения был на исходе. Симона все чаще охватывало беспокойство. Наконец он призвал к себе своего сына Гюи и сказал ему так:
– Я добыл вам жену и вместе с нею графство. Одна только заноза в боку у вас осталась: замок Лурд. Да и пес бы с ним. Пусть нарыв созреет, а там, глядишь, и сучец с гноем из раны выйдет. Мне же сейчас терять на него время недосуг. Ежели вам охота, сын, можете продолжать осаду, но мой совет – отправляйтесь обратно в Тарб.
– А вы куда отправитесь? – спросил Гюи (а сам то и дело бросает взгляды вверх, на Лурдский замок: что, продолжать осаду или впрямь, по отцовскому совету, плюнуть?)
– Есть один человек на Юге… Тут не сучец, тут целое бревно в глазу, у самого зрака. Того и гляди окривею.
И назвал – а мог бы и не называть, Гюи без того сразу догадался: граф Фуа.
Неистовый рябой старик Фуа, Рыжий Кочет, – вот уж кто жизнь положил на то, чтобы Симона жизни лишить. Только тогда и отступился, когда Церковь наложила тяжелую свою, в перстнях, руку на достояние его – за пособничество еретикам. Больше года пробыл под отлучением, а после – епископам в ноги бросился. И сына своего, и племянников – всех туда же бросил. Пинками под покаяние загнал: Фуа дороже гордости, а вера катарская временные отступления дозволяет.
Папа Римский был доволен. Возвратил старику и замок его, и все достояние. Только обложил штрафом непомерным, хотя – если постараться – вполне посильным.
Симон, как мог, рвался помешать замирению Фуа с Церковью. Было бы в силах Монфора – палкой бы суковатой обернулся, лишь бы между спицами этого колеса втиснуться, лишь бы его вращение остановить.
Старик Фуа, Рыжий Кочет, все потуги симоновы, конечно, видел и только посмеивался: а ничего у вас, мессен Симон, и не получится!..
Однако ж отыскал Симон малую лазейку.
Вцепился мертво.
Графы Фуа выстроили, пока под отлучением находились, замок Монгренье неподалеку от своей прежней столицы. Не голыми же им оставаться, коли Церковь старый замок Фуа, гнездо родовое, у них отобрала!
Симон тотчас же раскричался. Монгренье – нарушение договоренности Фуа с Церковью. Насмешка над покаянием. Если графы Фуа – и отец, и сын, и вся свора их братьев и племянников – если все они впрямь решились стать добрыми католиками, пусть докажут чистоту намерений своих. Пусть снесут Монгренье.
Старик Фуа раскричался не меньше симонова. С какой стати ему сносить Монгренье, ежели поклялся он в верности сразу трем епископам – и Магеллону, и Фонфруа, и кардиналу Петру – всем, кому велено!.. Как есть он, граф Фуа, верный католик…
Тут-то Симон и озверел. Отродясь не было в Фуа верных католиков! Вражда Симону взоры застит. Покуда крылья Рыжему Кочету не обломает – не спать Монфору спокойно.
А Рыжий… Ну да ладно, потом о нем, о Рыжем.
Вот так и вышло, что после трех седмиц бесплодной осады ушел из Лурда Симон. И вместе с ним ушел и сын его Гюи, граф Бигоррский. В Тарбе Симон не поленился натравить на Монкада и Санчеса гасконских прелатов. Те торжественно отлучили симоновых недругов от Церкви. За непокорство Папе Римскому. На том и оставили их в покое. Под отлучением – считай что с вырванными зубами, запертые в Лурде – они теперь немногого стоили.
12. Монгренье
Рожьер де Коминж пристально смотрит на свою сестру Петрониллу – таким долгим, испытующим взором, что она поневоле смущается.
Пытается Рожьер заметить перемены в облике сестры, ибо никому во всей большой семье родичей Фуа не по нутру было все то, что сделал с Петрониллой Монфор.
А Петронилла, сколько ни всматривайся, ничуть не переменилась, даже досада берет. Все та же вечная девочка на пороге стерегущей старости, с немного унылым, но правильным, даже красивым, если приглядеться, лицом.
В первое мгновение, завидев перед собою брата, расцвела радостью, потянулась было обнять, подставила лоб для поцелуя – забылась.
Она-то, может, и забыла, да только Рожьер де Коминж ничего не забыл. Отстранил сестру и холодно, как чужой, поцеловал ей руку.
А прислуга уже воркует, уже несет на стол печеного в глине гуся, хлеб, сушеные яблоки и виноград, размоченные в вине урожая прошлого года.
Петронилла и смущена, и тревожится. И радость – неугомонная птаха – бьется потаенно, ибо от всей души любит графиня Бигоррская своего брата Рожьера.
Рожьер же скучен и как будто совсем выпустил из памяти, как любили они друг друга в годы ее девичества.
Садятся за стол – всё молчком. Рожьер споласкивает пальцы в глиняной чаше, отирает о полотенце, берется за широкий столовый нож с костяной рукояткой.
Памятны – и нож этот, и чаша. Ножи к свадьбе Петрониллы с Гастоном Беарнским отец дарил. Сорок штук – не поскупился, все отдал: пусть пируют у дочери на славу, пусть разом садятся за стол в ее доме сорок человек одних только почетных гостей, а сопровождающих и лишних – без счета. Чашу она сама из дома забрала. Почему-то нравилась ей, хоть уже и тогда со щербинкой была.
Графиня негромко расспрашивает об отце: здоров ли, где сейчас находится; если недалеко, то можно ли его навестить.
Отец здоров, хотя годами уже отяжелел. Сидит он в Сен-Бертран-де-Коминж, а уж навестить его – тут как супруг Петрониллы на это посмотрит…
Рожьер отвечает сдержанно, будто опасаясь проронить лишнее слово. Знает, конечно, о чем сестра хочет спросить, да не решается.
А Петронилла – недаром сестра своих братьев; подолгу вокруг да около не кружит. Помолчала, помаялась и подняла глаза – отважная:
– Что говорит наш отец о моем втором браке?
Рожьер недобро усмехается, наклоняется к сестре.
– А сами вы, сестра, что думаете о вашем втором браке?
– Не желала я ни первого брака, ни второго, – в сердцах говорит Петронилла и бросает на стол свой нож. – Господь свидетель, я не делала из этого тайны, да разве меня спросили? Первый супруг годился мне в отцы, второй – в сыновья… Что я должна обо всем этом думать? Что мне следует думать об этом, брат?
Рожьер не сводит с нее глаз.
– Сестра, вы уже понесли от Монфора?
Она заливается краской.
– Сестра, – настойчиво повторяет Рожьер, – вы зачали от него?
Она качает головой.
– Слава Богу! – говорит Рожьер, откидываясь на высокую спинку. – Будем надеяться, что вы неплодны и что Симон ошибся в своих расчетах.
Вот тут Петронилла делается совершенно красной. Будто горячим паром ей в лицо плеснуло.
– Брат! Что вы такое говорите!..
Рожьер протягивает через стол руку, чтобы погладить сестру по пылающей щеке. У него старое, злое лицо, губы некрасиво поджаты.
– Вы сущее дитя, сестра. И все такая же плакса. Слова вам не скажи, сразу в слезы. Я ведь не желал вас оскорбить.
Она молчит. А Рожьер продолжает:
– Вы же понимаете: начни вы сейчас носить Монфору детей, наследников, – и Бигорра…
– Брат! – с отчаянием произносит Петронилла. – Ох, брат!..
Они смотрят друг на друга, разделенные столом и печеным гусем. Входит девушка с кувшином сладкого вина, удивлена: почему обед не тронут. За окном вдруг слышится шум, громкие голоса, смех. Ржет лошадь. Кто-то кричит: «Да забери, забери ты ее, ради Бога!..» Рожьер велит девушке уйти. Наконец Петронилла спрашивает брата:
– А что Фуа?
Фуа!.. Желтые стены с зубцами, оранжевые маки на зеленых склонах, гром копыт по въездной дороге, золотые и красные полосы графского герба – старинное человечье гнездо высоко в горах, на полпути между грешной землей и Господом Богом. Немолчный орлиный клекот, сердитые крики прожорливых птенцов, хлопанье крыльев, запах сырого, только что расклеванного мяса. Воинственный, веселый Фуа, лучшее место на свете.
– А что Фуа?
И то правда, откуда бы Петронилле знать, что происходит в Фуа? Сидит в Тарбе, бедняжка, и дальше своего Монфора ничего не видит. Хорошо. Рожьер потешит ее новостями о Фуа.
Их дядя, старый граф Фуа, сейчас в Каталонии, по ту сторону гор. Незадолго до Рождества получил от церковных властей разрешение. Отлучение с него сняли, допустили к причастию. А главное – возвратили замок и земли Фуа…
Целый год – все то время, что старый граф находился под отлучением, – в родовом гнезде хозяйничали скучные чужаки, монахи из аббатства святого Тиберия. До того жадные, что – представляете? – самого Монфора туда не допустили!
Впервые за весь разговор Рожьер смеется. Но и смех у него стал недобрый.
– Симон хотел было сунуть в Фуа франкский гарнизон, а монахи ему от ворот поворот! Дескать, без всяких франков помощь получают от самого Господа Бога. И выгнали Симона. Симона – выгнали!..
Прикрыл глаза и тотчас будто въяве увидел Фуа, оскверненный, захватанный чужими руками.
Петронилла тихонечко, чтобы брат не заметил, вздыхает. А Рожьер полон новостей, как грозовая туча – тяжелой влагой. И одна весть другой печальнее, хоть уши ладонями зажимай, как в детстве, когда гремит гроза.
Как вышло, что со старого графа, их дяди, сняли отлучение? Уж всяко не даром сделали это католики. Дал им граф, как требовали от него, клятву. Никогда не мутить католическую веру, не давать еретикам ни приюта, ни корки хлеба, ни лоскута ткани. Никогда не прятать у себя катарских священнослужителей и совершенных, но напротив – выдавать людям Монфора их убежища…
– И наш дядя поклялся? – почти шепотом спрашивает Петронилла.
Рожьер снова усмехается.
– Да.
– Вижу я, – говорит его сестра, – что наш дядя любит Фуа больше спасения души.
– Это так, – соглашается Рожьер, кривя губы. И добавляет (а сам следит за ней украдкою): – Да ведь и я тоже.
– Вы?
– И еще наш брат, молодой Фуа. Мы трое – все мы принесли такую клятву.
У Петрониллы выступают жгучие слезы. Все это время, что она сидит за столом против брата, позабыв о печеном гусе – все это долгое время слезы у нее наготове. Так и ждут случая вырваться на свободу. Сострадание к братьем душит Петрониллу, тискает ее горло, не дает вольно вздохнуть.
А Рожьер говорит, безжалостно оглядывая при том сестру, будто барышник – кобылу:
– С нас взяли такую клятву, а вас положили под Монфора.
Ее брат, Рожьер де Коминж. Рыцарь. Самый лучший человек на свете. Ему сорок лет. На лбу и скуле у него новый шрам, которого раньше не было; от этого шрама лицо обрело угрюмое выражение. Рожьер болен своим унижением. Оно пожирает его внутренности, оно изглодало его хуже антонова огня.
– Да поможет нам Бог, брат, – говорит Петронилла неожиданно твердым голосом, – да поможет Он нам в нашем несчастии.
– Плохо помогает нам Бог, сестра, – отвечает Рожьер хмуро. (А шум за окном затих; только брат с сестрой позабыли о нем, не успев толком заметить). – Нашему дяде пришлось выкупать Фуа ценою чести и немалых денег.
– Сколько он отдал?
– Пятнадцать тысяч мельгориенских солидов.
– Папе Римскому?
– Аббатству святого Тиберия.
– Господи! Где же он взял столько денег?
Рожьер пожимает плечами.
– Обобрал вилланов. Кое-что нашлось для него в Каталонии. Часть прислал из Арагона наш добрый граф Раймон…
При звуке этого имени – недосмотром с губ сорвалось, само, без спроса! – у обоих слезы вновь проступают на глазах. «Раймон!..» Вскочив, Петронилла бросается к брату, обхватывает его обеими руками, тесно прижимается к нему, замирает в долгожданном объятии. Рожьер де Коминж склоняет лицо к ее голове, едва касаясь губами макушки. Будь ты проклят, Монфор! Будь поклят!..
А Монфор – вот он. Не вошел – влетел.
– Здравствуйте, жена.
Отстранившись от брата, Петронилла смотрит на Гюи. Зарделась, как девочка.
– Здравствуйте, мессен.
Рожьер де Коминж, с красными пятнами на скулах, неприятно улыбается.
– Это мой брат, Рожьер де Коминж. Это мой муж, Гюи де Монфор.
И берет одной рукой за руку брата, а другой – мужа и поворачивает их лицом друг к другу. Пальчики у Петрониллы тоненькие, влажненькие, холодненькие.
– Здравствуйте, мессир.
– Здравствуйте, мессир.
Оба безупречно вежливы, безупречно высокомерны – и брат, и муж. Спесь с обоих стекает медленно, как мед.
Обидчик сестры оказался моложе, чем даже представлялось Рожьеру. Заносчивый мальчишка, недавно принявший из отцовских рук рыцарские шпоры. Небось, еще спотыкается с непривычки.
Робея, Петронилла спрашивает у него:
– Вы голодны, мессен, с дороги?
– Еще бы! – говорит Гюи.
Выдернув руку из пальцев Рожьера (а тот и не противился), положил жене на талию всей горстью, будто зачерпнуть хотел, чуть стиснул ребра – не ребра, а ребрышки, чему тут только замуж выходить. Чмокнул в щеку, как чмокнул бы Аньес, небрежно. И за стол уселся, а сев – первым делом к печеному гусю потянулся.
Брат и сестра, помедлив, сели тоже. Молчали. Гюи уплетал за обе щеки, только хрящи на зубах трещали. Не обращал никакого внимания на тяжелое безмолвие, повисшее над столом. Сын Монфора сел обедать, не сняв пояса с мечом, и оттого ему было спокойно.
Рожьер вдруг громко рассмеялся. Петронилла подняла на него глаза, отложила нож.
– Чему вы так смеетесь, брат?
(А у самой сердце упало: не убили бы сейчас один другого).
– Подумалось, – отвечал Рожьер, – о забавном. Сказал бы мне кто прежде, что сяду за один стол с Монфором…
Гюи и бровью не повел.
Петронилла же, побледнев, молвила:
– А я, брат, ложусь в одну постель с Монфором, и знаете, что я вам скажу?
Рожьер хлебом обтер с губ гусиный жир, склонил голову набок.
– И что же вы мне такого скажете, сестра?
– С Монфором лежать в постели куда лучше, чем с эн Гастоном или этим Ниньо Санчесом.
Гюи неприлично захохотал, брызгая соусом. Схватил свою маленькую, старую, свою некуртуазную жену, стиснул так, что она слабенько пискнула, а после оттолкнул и снова принялся за гуся.
Рожьер смотрел на них с отвращением. Женщина – она как мягкая глина в мужских пальцах; кто мнет ее сильнее, тому и покоряется.
– Кстати, – сказал Гюи с набитым ртом, – ваш брат Монкад, родич…
Рожьер не сразу понял, что Гюи де Монфор с этим «родичем» обращается к нему.
– Монкад все еще в Лурде, – продолжал Гюи как ни в чем не бывало. – Мой отец так и не выкурил его оттуда.
– Неужто сам Симон отступился? – спросил Рожьер. – Вот уж ушам своим не верю.
– Отступился? – Гюи хмыкнул. – Граф Симон, мой отец и господин, оставил Лурд потому лишь, что его позвали более неотложные дела.
Рожьер молча сверлил Монфора глазами, как бы вымогая у него продолжения. А Гюи вовсе не собирался скрывать новости.
– Вам будет любопытно узнать, родич, где сейчас граф Симон. – На время Гюи даже перестал жевать, чтобы посмотреть, какое лицо сделается у Рожьера. – Он в Фуа.
Услышав это, брат и сестра одинаково побелели.
– Симон ненавидит Фуа, – зачем-то сказала Петронилла.
– Да, – охотно согласился Гюи, – но это вовсе не означает, что Симон не хочет Фуа.
Вот тут Рожьер и потерял, наконец, самообладание.
– Чума на Монфора! – закричал он и хватил по столу кулаком. И снова некрасивые красные пятна поползли по его щекам. – Будьте вы прокляты! Вы и ваша жадность!
Гюи слушал.
– Граф Фуа примирился с Церковью. Он отрекся от ереси, дал клятвы… И я, и наш брат, молодой Фуа, мы все… Деньги, целый мешок мельгориенов – пятнадцать тысяч всыпали в ненасытную глотку аббатства святого Тиберия, будь оно неладно… Мы храним мир, как обещали… Что вам еще от нас нужно?
– Фуа, – спокойно объяснил Гюи, отламывая от ломтя хлеба.
Рожьер смотрел, как сын Симона жует. Наконец спросил:
– В таком случае, может быть, вы расскажете также и о том, какой повод отыскал ваш хитроумный отец, чтобы занять Фуа?
– А, я же говорил, что вам будет любопытно…
Для порядка помучив Рожьера, Гюи назвал: Монгренье.
– Там сидит сейчас ваш брат, молодой Фуа. А это противно клятвам вечного мира…
Рожьер, уже не стесняясь, разразился проклятиями. Петронилла зажала уши, а Гюи слушал с искренним интересом. И не переставал есть и пить. Когда Рожьер замолчал, Гюи сказал усмешливо, совсем как иной раз его отец Симон:
– Я так и знал, родич, что мои новости заденут вас за живое.
Встал, с хрустом зевнул. Бросил жене:
– Идемте.
И напоследок, уже на пороге, Рожьеру:
– Доброго вечера вам, родич.
Глядя, как Петронилла послушно выходит вслед за мужем, Рожьер чувствовал, что у него немеют руки. Никогда, за все сорок лет, ему еще не выпадало такого унижения.
Вы только посмотрите на наш Монгренье, мессен! Вы посмотрите на него внимательно, извергнув из сердца страх, и тогда сразу отринутся от вас все сомнения.
Взять эту твердыню не под силу никому, даже Монфору. Стоит, будто воин в дозоре, на вершине голой, безлесной скалы. Ни уцепиться, ни скрыться здесь никому. Везде настигнут стрелы, и камни, и льющаяся со стен раскаленная смола.
Вниз, обдирая задницу об острые осколки, – это пожалуйста, сколько угодно; но вверх – нет, вверх по ней не подняться.
Так говорил молодой граф Фуа своему двоюродному брату Рожьеру, когда тот с дурными вестями примчался в Монгренье из Тарба сломя голову.
Рожьер, однако, стоял на своем: следует поостеречься нам с вами, брат, ибо Симон придет. Симона ничто не остановит – ни голый склон, ни раскаленная смола. Подняться-то он, может быть, и не поднимется, но и нам спуститься вниз не позволит. А запасы, сколько бы их ни было много, когда-нибудь заканчиваются, если их неоткуда пополнить.
– Так ведь отец мой примирился с Церковью… Папа Римский издал буллу относительно Фуа…
– Да срал Симон на буллу! – закричал Рожьер.
Молодой Фуа, видя такую невоздержанность, призадумался. Но потом снова покачал головой:
– Нет. Не может того быть.
– Увидите, – сказал Рожьер зловеще. – Я узнал Монфора, на беду. Симон безумен. Симон не остановится нарушить папское повеление, ибо он дружен с Господом Богом и не страшится гнева церковников.
Помолчали, подумали.
Но потом нашли еще одного заступника за Монгренье, покрепче папской буллы, – зиму. И то правда. Зимой не воюют, замков не осаждают; зимой в замках отсиживаются. Зима – она сама хоть кого осадит, и много у нее воинов: и холод, и ветер, и мокрый снег с дождем, залепляющий глаза.
Так рассудили между собою братья и успокоились. Но все же поставили лишнего человека на плоской крыше донжона, дав тому добрый меховой плащ и валежника для огня – пусть обогревается вволю, коли уж такая невзгода на долю выпала, сторожить на ледяном ветру, не появится ли безумный франк Симон.
И вот – уж февраль начал заметать и выть по ущельям на разные голоса – закричал стороживший на крыше:
– Симон! Симон идет!
И горящую стрелу на двор, мимо окон, пустил.
Оружие загремело, шаги затопали, снег захрустел под ногами, голоса загалдели – все разом.
Поначалу не хотели верить. Приснилось сторожевому, не иначе. Той зимой бородатые гасконские крестьяне пугали друг друга Симоном, точно малые дети впотьмах: кто первый от страха лужу под себя пустит.
– Так ведь Гюи, муж Петрониллы, похвалялся…
Да мало ли что он врал, этот юнец!.. Чего не скажешь, желая больнее уязвить. Не из камня же и железа он сделан, этот Симон, чтобы в разгар лютого февраля с конной армией в горы потащиться.
Ах, нянькина лопотня, утешить не могущая дитятю перепуганного!
Рев рогов прорезал метель, золотой лев вздыбился на древке – ветром услужливо развернуло стяг: смотрите!..
Ибо плоть северян иная, чем плоть жителей Юга. И кровь в жилах северной выделки обращается медленнее, и цвет ее иной – гуще она, чернее. Мысли же тех, кто родом с Севера, всегда обращены в одну сторону и не расходятся ни вправо, ни влево.
И потому пришел Симон под стены Монгренье в начале февраля, не дожидаясь ни подмоги от вассалов своих, ни одобрения от Римской Церкви. Не побоялся перед Римом себя полным говном выставить, ибо был франком латинской веры и знал, что победителей не судят.
А Симон пришел в Монгренье, чтобы победить, и ни для чего иного.
Обошел неприступную скалу кругом. Впереди сам ехал, неспешно, – рослый, с непокрытой, в издевку, головой, светловолосой, одного цвета с метелью. За ним тянулись остальные – осматривались, примеривались, по скользкому склону вверх-вниз взглядами ползали.
Симон велел костры палить, греть землю для ночлега. Вздымая снег, как некогда пески Палестины, помчались пятеро конных от Монгренье вниз, по долине: деревни разведывать, искать, где взять хлеба людям и сена лошадям.
Завороженно смотрят за Симоном братья Петрониллы. Вот его скрыло за пеленой, но снова вынырнул из метели темный силуэт, и крупная фигура двинулась дальше, кругами, кругами, высматривая слабые места Монгренье.
Рожьер взял у сторожевого арбалет, подержал в руке, привыкая, подпустил Симона ближе и выстрелил, да только без толку. Симон повернулся в ту сторону, откуда прилетела стрела, и, видать, засмеялся. С такого расстояния смерть не достигнет.
Симон обустраивался внизу, а Фуа с Коминжем – наверху; так что жили они в некоем подобии родственного согласия. Осмотрели припасы, осведомились насчет хвороста и угля, пересчитали стрелы, перетрогали лезвия, поранив при том несколько пальцев – довольны остались.
И вот ночью сели братья Петрониллы в башне, кутаясь в плащи овчиной к телу. Устроились у стены, и инеем пошел кирпич, сжирая тепло живой плоти.
Не спалось им в эту ночь.
– Вы были правы, брат, – говорит молодой Фуа, – а я ошибался. Но ведь Папа Римский издал буллу… Мой отец будет взывать к Церкви…
А в окне – зарево от симоновых костров.
– Симон долго не выдержит. Ведь не из камня же он…
Говорили и сами не верили тому, что Симон не из камня.
– Оставил же он Монкада в Лурде. Вот и от Монгренье отступится, когда поймет, что не взять ему Монгренье.
Говорили, а сами знали: от Монкада отступился, но от них не отступится Симон, покуда жив.
– Да ведь человек же он, умрет он когда-нибудь.
– Да, Симон человек, он умрет.
А костры пылали всю ночь, веселя сердце франка. Он не боялся ни зимних холодов, ни гнева церковников, ни тем более вражеского оружия, ибо дружен был с Господом Богом и никогда еще не вступал с Ним в ссоры.
Утро перетекало в вечер, ночь сменялась рассветом, день уходил за днем. Зима тянула по земле бесконечные позвонки своей голой хребтины.
Шел дождь и задувал ветер.
Валил снег и лютовал ветер.
Град бил в лицо и ветер неистово швырял комья снега.
Погода этим февралем стояла отвратительная. Не столько даже морозно было, сколько промозгло.
Симон упрямо торчал внизу, под стенами Монгренье, и никуда уходить не собирался.
В начале марта старый граф Фуа, Рыжий Кочет, с громкими криками примчался из Каталонии – верхом, почти без свиты, опасно оскальзываясь на обледеневших склонах. Исхудал дорогой от невзгод и волнения, на щеках белые пятна.
Влетел в аббатство святого Тиберия, едва ворота плечами не снес, рухнул с коня прямо в ноги аббату – и в рев. Разве не заплатил он аббатству пятнадцать тысяч мельгориенских солидов?.. Разве не присягнули – и он сам, и сын его, и племянник Коминж – во всем, что велено было?.. Разве не оставалась католическая вера в Фуа незамутненной?.. Разве не хранил свято мир?..
Уже скоро три месяца как ни с кем не поссорился Рыжий Кочет, и сын его, и племянник его Коминж – да когда такое бывало!..
Аббат над рыдающим стариком воркует ласково: все так, чадо, все так!..
Рыжий плачет и волосы на себе рвет, и головой о землю биться хочет, и ищет справедливости, и молит о защите, и припадает к стопам – только пусть святые отцы помогут ему клятого Монфора из Фуа выгнать.
Старика с промерзлой земли поднимают, под руки в кельи уводят, белые пятна на щеках меховой рукавичкой отирают, вина горячего в клокочущее горло вливают – осторожненько.
Симон де Монфор зарвался. Симон де Монфор занесся. Симона де Монфора, конечно же, призовут к ответу.
Рыжий в теплую постель благодарно пал и, уже засыпая, застонал, худо ему было.
Наутро, едва пробудившись, с новой силой кричать и плакать принялся. Ибо, может быть, впервые в жизни был старик Фуа кругом чист и прав перед католической Церковью и не ведал за собою ни единого греха против ее интересов.
Аббат сказал, что к Монфору уже послали человека.
Рыжий поуспокоился, попритих, стал Симона ждать, праведный гнев в себе лаская.
Спустя малое время прибыл в аббатство Симон. И ничего его, Симона, не берет – ни старость, ни усталость, ни невзгоды, ни непогода. Стрелы – и те, кажется, летают мимо, обходят Симона стороной: в такое тело угодить себе дороже.
И вот предстает Симон перед аббатом и стариком Фуа, выше обоих на голову. Ноги расставил устойчиво, крупные ладони на рукояти меча скрестил. Воздвигся – будто навеки утвердился, в пол впечатался изваянием. Зачем звали? Бойтесь теперь!
И на обвинителей своих взирает сурово и уж конечно без всякого страха.
Говорит ему аббат святого Тиберия:
– Слыхали мы, граф Симон, будто бы вы держите в жестокой осаде замок Монгренье?
А у Симона и мысли нет отпираться да оправдываться. Истинная правда, Монгренье осажден, ибо, думается Симону, так угодно Господу.
Аббат сдвигает брови.
– Отчего же, граф Симон, полагаете вы безрассудно, будто лучше нашего знаете, что угодно Господу, а что неугодно?
«…Посему Иуда со своим войском вдруг направил путь свой в пустырю к Восору и взял этот город, и избил весь мужеский пол острием меча, и взял все добычи их, и сожег его огнем; а оттуда отправился ночью и шел до укрепления. Когда наступало утро, и подняли глаза, и вот, народ многочисленный, которому числа не было, поднимают лестницы и машины, чтобы взять укрепление, и осаждают бывших в нем. Увидел Иуда, что началась битва и вопль города восходил на небо трубами и громким криком, и сказал воинам: сражайтесь теперь за братьев ваших. Он обошел врагов с тыла с тремя отрядами и затрубили трубами и воскликнули с молитвою; и узнало войско Тимофея, что это – Маккавей, и побежали от лица его, и он поразил их великим поражением…»
Некстати вспомнилось. А Симон стоит как камень, и удивительным образом начинает аббат прозревать и чувствовать – прав Симон. Не сам он себя Иудой Маккавеем назвал; но если подбирать Симону второе имя – лучшего не придумаешь.
А Симон говорит:
– Стою под Монгренье и жду, пока падет мне в руки, будто спелый плод. Ибо граф Фуа – еретик, и сын его склонен к ереси, и племянник его Коминж у себя еретиков привечает. Да они и не делают из этого тайны.
Тут Рыжий Кочет за плечом аббата багровеет. Хрипит – от возмущения полузадушенно:
– Я присягнул!.. Мы присягнули!.. Мы храним… уже три месяца!..
А Симон на него и не смотрит.
– Клятвам еретика цена грош и то не всегда, а лишь в торговое воскресенье. Их вера дозволяет лгать и присягать в чем угодно.
Рыжий осеняет себя неистовым крестом, он плюет себе под ноги, он кричит:
– Я католик! Я всегда держался латинской веры!
Симон же и бровью не ведет. Молчит тяжеловесно, будто булыжников наелся.
Аббат говорит Симону весьма строго:
– Граф Симон, вы должны снять эту осаду, ибо Фуа клятв не нарушает.
– Нет уж, – отвечает Симон аббату. – Монгренье выстроен в нарушение мирных клятв и в то время, пока граф Фуа находился под отлучением. Эта крепость должна быть снесена. Если уж граф Фуа, добрый католик… – Слова «порождения ехиднины» не прозвучали бы в устах Симона более ядовито! – …Если граф Фуа не хочет восстановить справедливость и уничтожить Монгренье, я сам сделаю за него это дело. Иисус мне свидетель, много грязи разгребли уже эти руки… – Тут Симон слегка шевелит пальцами, обхватывая рукоять меча еще теснее. – Я был золотарем Господним ради чистоты во всей Его вотчине. Не привыкать.
– Сын мой, я призываю вас утихомириться, смирить гордыню и перестать вещать от имени Господа. Вы должны снять осаду и…
– Отец мой, призовите лучше графа Фуа, коль скоро он такой добрый католик, оставить лицемерие и научите его истинной покорности.
И ушел, оставив Рыжего рыдать и злобиться, теперь уже бесплодно.
Аббат погружается в трудные раздумья: как бы так повернуть, чтобы Симон и вправду оказался чист и справедлив? Ибо к Симону лежало сердце аббата, а от графа Фуа отворачивалось, невзирая на пятнадцать тысяч мельгориенских солидов.
Великим Постом, незадолго до Пасхи, в Монгренье заговорили о том, что придется отдавать себя на милость Монфора.
– «Милость Монфора»! Вы представляете себе, мессены, какова может быть эта милость?
Мессены себе это представляли и потому омрачались и вздрагивали. Позорно, стыдно сдаваться победителю, а ненавистному врагу – еще и страшно. Больно уж разъярили Симона упрямые братья Петрониллы.
Тогда один рыцарь из бывших с ними, именем Драгонет де Мондрагон, хромой, от оспы безобразный, так сказал, улыбаясь голодным ртом:
– Я знаю Симона лучше вашего, ибо до прошлого года был с ним в добрых отношениях, а в Бокере я осаждал его человека, Ламберта, и о нем вел с Симоном переговоры.
Рожьер де Коминж нахмурился; однако Драгонета выслушали внимательно.
Он сказал:
– Граф Симон таков, что когда дает слово, то держит его. Нужно просить Симона, чтобы он позволил нам выйти из Монгренье свободными и с оружием. В обмен мы отдадим ему Монгренье без боя. Иначе он уморит нас голодом.
– Понадобится время, чтобы заморить нас до смерти, – заметил Рожьер. Ему не хотелось вести с Симоном переговоры. – А времени у Монфора нет.
Драгонет возразил:
– На такое дело время у него найдется.
Рожьер хотел было спорить, но Драгонет лишь усмехнулся криво и предложил проверить.
Вот так и вышло, что утром страстного четверга спустился с горы хромой рыцарь невысокого роста и, еще издали размахивая шарфом (какой нашелся, а нашелся красный), завопил, чтобы его, не убивая, доставили к Симону.
К рыцарю подбежали, оружие, заподозрив подвох, отобрали, но рук вязать не стали и так отвели к Симону.
Симон перезимовал. Был точно зверь, начавший по весне менять пушистый зимний мех на летний. Ну да ладно; ведь Драгонет еще хуже того выглядел, исхудал да почернел, и усы у него поредели.
Симон Драгонета сразу признал. Засмеялся.
– Опять вы?
– Я, – сказал Драгонет. И засмеялся тоже.
Симон пригласил его разделить с ним трапезу.
Поскольку для войны силы немалые надобны, то постов в эту зиму Симон не держал. Да и захотел бы – не смог, ибо хлеба в долине уже не было, весь давно истребили. Ели тощих весенних зайцев да птиц, какие попадались.
Драгонет по своему росту умял несоизмеримо много. Симон глядел на него, улыбался.
– А что, вы там, в Монгренье, лошадей уже поели?
– Давно, мессен. Да наверху почти и не было лошадей.
– Долго же вы держались, – молвил Симон.
– Припасов хватало, а вода с неба падала, – пояснил Драгонет с набитым ртом. – В Бокере вашего Ламберта больше всего безводье донимало.
Симон задумчиво смотрел, как Драгонет двигает челюстями.
– Думал, вы еще в начале марта ко мне прибежите.
– Зачем же вы столь низко нас цените, мессен? – Драгонет даже обиделся. – Ламберт, небось, только тогда и сдался, когда Смерть с ним на одну блохастую подстилку примостилась, под бочок.
– Это вы врете, сеньор с Драконьей Горки, – сказал Симон. – Ламберт так и не сдался. Это я вам тогда сдался, чтобы только его вызволить.
– Да? – Драгонет обтер губы. – Я позабыл. Ох, спасибо за угощение, мессен.
Симон сказал:
– Передайте графу Фуа и Рожьеру де Коминжу: Симон де Монфор, граф Тулузский, отпустит весь гарнизон Монгренье, свободными и с оружием, ибо желает справить Пасху не обремененным осадной работой. Взамен же я хочу вот чего. Пусть Рожьер де Коминж и его брат Фуа на коленях перед алтарем присягнут в том, что в течение целого года не поднимут на меня оружия. Если они этого не сделают, то умрут еще прежде Пятидесятницы.
Драгонет призадумался.
– Я так и говорил им: чтобы извести вас, мессены, у графа Симона время всегда найдется.
И встал, чтобы идти.
Симон окликнул его.
– Возьмите.
И протянул Драгонету тонкую перчатку – шелковую, с золотым шитьем. Одну.
Драгонет повертел ее недоуменно в пальцах.
– Это для графа Фуа?
– Для вас. Да берите же. И смотрите, не потеряйте.
Драгонет хитро усмехнулся, спрятал перчатку за пазуху.
– Сдается мне, мессен, скоро вы потребуете ее обратно.
– Прощайте, – сказал на это Симон. И гаркнул: – Отдайте ему оружие!
Выйдя из палатки, он долго смотрел, как маленькая фигурка, ковыляя, взбирается на гору.
В канун Пасхи, 25 марта, защитники Монгренье оставили замок и, присягнув Симону во всем, что тот потребовал, отправились на каталонскую границу.
Симон посадил в Фуа и Монгренье свои гарнизоны и спешно покинул Пиренеи, потому что получил новые вести, на этот раз с Роны.
И вести эти были дурными.
13. Рона бурлящая
Гюи де Монфор, брат Симона, нынче в Каркассоне.
Гюи, второй сын Симона, – в Тарбе, со своей женой, графиней Бигоррской. Одним глазом в сторону Каталонии косит – не движется ли напасть на отца его; другим – за женой приглядывает: как, не брюхата ли еще? Да только разве их, женщин, разберешь, где они детей прячут?
Сам Симон занят, насаждает в Фуа свой гарнизон и улаживает дела с гасконскими прелатами. Те, как ни противно им это, принуждены кое-как, криво-косо оборонять от симонова произвола Рыжего Кочета. А тот раскукарекался на всю округу, попробуй угомони.
Дама Алиса и меньшие дети – в Тулузе, под надежной защитой Нарбоннского замка.
Старый Раймон, бывший граф Тулузский, – в Арагоне, у родичей своей последней жены Элеоноры, достойной мачехи Рамонета.
А где же Рамонет?..
А вот он! Кто хотел его, на свою беду, увидеть?
Рона в зареве его костров, будто греческим огнем облита. Красноватый отблеск выплескивается на стволы деревьев, лижет стены Сен-Жилля.
Сен-Жилль! Город, куда завтра предстоит войти.
– Мессен! Их привели! Вон они, там!..
– Где?
«Их» – шестнадцать человек, франков, взятых живыми в утреннем бою, недалеко от Сен-Жилля. Не бой и был, так – столкнулись передовые отряды.
У большого костра теснятся городские ополченцы из Бокера и Авиньона, оружие у них заметно лучше, чем выучка. Это главная опора Рамонета, мясо на его костях, его рабочие руки. Крестьян очень немного: лето стоит – не до войны. И рыцари Юга, верные вассалы, благородные соратники.
Собрались посмотреть на пленных, посмеяться. Хотя что тут особенного смотреть?
Франков, связанных одной длинной веревкой, с хохотом выбрасывают на середину, к ногам Рамонета. Они валятся большим неряшливым снопом – пал один, потянул за собою остальных.
Рамонет стоит, разглядывая.
При свете огня Рамонет, двадцатилетний юноша, еще прекраснее, чем при солнечном. Черные в темноте глаза сверкают, рот охотно смеется.
Шутки вокруг так и сыплются, для Рамонета одна другой солоней, а для франков – горше. Пленные тужатся понять, над чем вокруг смеются, но языка провансальского почти не понимают. А тут еще слова тонут во всеобщем хохоте. Нехорошие лица у этих франков. Лучше бы им вовсе не жить, этим франкам.
Сын Раймона Тулузского шуткам не препятствует – дает высказаться всем, кто только этого хотел, даже мужланам.
Когда выдохлись и замолчали, тихо пересмеиваясь между собою в полумраке у костра, так молвил юный граф:
– Давайте лучше отпустим этих франков на волю. Не в обозе же их с собой тащить? У нас и без того хватает подружек да шлюх…
Смешки попритихли совсем. Как это – отпустить на волю? Ради чего же тогда брали в плен? Ради чего двух человек потеряли убитыми и еще пятерых – ранеными, неизвестно, когда оправятся. Этих франков отпустишь, а завтра снова бейся с ними у стен Сен-Жилля. Лучше уж бросить их в Рону, как есть, связанными, пусть пускают пузыри.
А Рамонет улыбается от уха до уха. Губы у него нежные, едва опушенные темным мягким волосом.
– Не даром, конечно, освободим их – за выкуп. Возьмем с них плату, какую захотим…
Тут уж многие заулыбались, ножи на поясе оглаживать стали. Знали, какова любимая шутка Рамонета над побежденными врагами. А связанные франки у костра – те закаменели. Не забыли, видать, Бокера.
Рамонет неспешно кругом их обошел. Ногой потыкал, норовя по лицу попасть. Понимал, что все на него смотрят.
Поклонился соратникам своим (те рты разинули, в восторге за юным графом наблюдая). Молвил:
– Эй, есть ли среди вас торговцы?
Нашлись торговцы, двое. Рамонет им еще отдельный поклон отвесил, те от счастья онемели.
– Научите же меня, рыцаря, как следует покупать, и продавать, и сбивать цену, чести не роняя!
Из торговцев старший по возрасту отвечал степенно:
– То великое искусство, за один раз не обучишься.
– Тогда будем торговаться безыскусно, – сказал Рамонет. И пленным: – Есть у вас уши и носы, мессены, и вот что я вам скажу: сильно глянулись мне они. Хочу их себе оставить; вы же сами мне без надобности.
В темноте кто-то из авиньонских ополченцев стонал от хохота.
А один франк спросил, коверкая язык:
– В чем же твоя торговля, Раймончик?
Ответил юный граф, воинство свое веселое озирая:
– В том, что можете откупить свои носы, коли пожелаете. За нос по пяти марок, а за каждое ухо – по три.
И уселся на подушку, какую для него нарочно возили – не потому, что изнежен был, вовсе нет, а чтобы отличаться от прочих.
Началась потеха. Можно было, конечно, без всякого выкупа у франков их достояние отобрать, а самих ножами изрезать, как пожелается, но куда забавнее оказалось смотреть, как они по кошелям шарят, деньги выковыривают, со слезами друг у друга одалживаются.
Наконец приелось и это. Зевнул Рамонет и крикнул, не вставая:
– Что, собрали выкуп?
Ответа дожидаться не стал, махнул рукой авиньонцам: начинайте.
Пленных стали отвязывать по одному. Кто брыкался, вразумляли по голове. Расстилали на земле, будто девку, раскладывали крестом руки-ноги. На дергающиеся ноги усаживался обильный телесами молодец, руки прижимали двое других. Четвертый, ловкий и умелый, с острым ножом пристраивался в головах.
Наклонялся низко.
– Ну что, – выговаривал раздельно, чтобы тупоголовый франк понял, – сберечь тебе что-нибудь из красы или не дороги ни нос, ни уши?
Одни сумели откупить нос, другие – нос и одно ухо, трое выкупились полностью, а семерых обкорнали, будто поленья суковатые. И смеялись у костра, глядя, как кромсает мясник франкам их ненавистные лица. После, когда нож поработал, франка, истекающего кровью, оставляли корячиться на прибрежном песке: в эту ночь, да и в ближайшие другие, большого вреда уже не причинит.
Трое откупившихся сидели на земле с затекшими от веревок руками и ногами. Слушали, как тягуче расползается над Роной долгий крик боли. Из темноты, хлюпая лягушками, сыпались им на колени еще теплые, кровоточащие куски человеческого мяса, и не было ночи конца.
Еще не рассвело, когда Сен-Жилль огласился погребальным звоном. Звонили недолго и вскорости смолкли, но тревога, пробуженная торжественными звуками колоколов, осталась.
– Что это было? Кто умер?
– Нас от Церкви отлучили, вот что это было.
– За что?
– За то, что нашего графа Раймона любим и помогаем ему возвратить себе наследие.
Из кафедрального собора медленно выходили клирики, один за другим – все. Босые, в разодранных на груди одеждах, многие – в рубище. Волосы осыпаны пылью, на плечах следы ударов плетки. Молчали, не смотрели ни вправо, ни влево.
Горожане, притихшие, вываливали на улицы.
Последний из уходящих клириков немного задержался. Запер тяжелую дверь собора, несколько раз повернув ключ.
Окруженный дьяконами, епископ вынес Святые Дары.
Перед процессией испуганно расступались, спешно давали дорогу. Будто зачумленных из города провожали.
А клирики – те так уходили, будто бы, напротив, город был зачумлен, а они спасали чистоту свою от зловонного дыхания смерти.
У многих горожан неприятно тянуло в животе. Одно дело – ругаться с приходским священником, совсем другое – жить в проклятом городе, быть отлученным. Душа поневоле голодать начинает.
Городские ворота в ранний час стояли закрытыми. Клирики остановились, ждать стали. И все молча.
Горожане догадались открыть ворота. Распахнулись нехотя, со скрежетом, будто по меньшей мере столетие к ним не прикасались.
Мрачная процессия колыхнулась, двинулась снова. Кто-то из уходящих неловко налетел на другого, так спешил оставить Сен-Жилль.
Воздев над головой руки, так, чтобы Святые Дары были хорошо видны безмолвной толпе, епископ Сен-Жилльский плюнул на мостовую и, брезгливо переступив плевок босыми ногами, вышел вон, за ворота.
Немногим позже стража видела со стен, как весь клир, собравшись на берегу, моет ноги – стряхивает с себя прах Сен-Жилля. Один дьякон, на вид никак не старше двадцати пяти лет, омывал ступни своего епископа, черпая воду ладонями. Епископ стоял неподвижно, сомкнув ладони над драгоценным ларцом.
Затем клирики побрели прочь, вниз по течению Роны.
Рамонет тоже видел их. Появился на гребне холма, верхом на лошади. Поглядел в их прямые спины.
Ветер трепал лохмотья порванного облачения, злодействовал над остатками седых волос епископа.
Рамонет повернулся к своим спутникам, одарил их открытой, ясной улыбкой.
– Догоните их, – сказал он одному рыцарю, авиньонцу. – Пусть заберут уродов, ловчее будет побираться да фиглярствовать.
Засмеялся рыцарь из Авиньона и погнал коня по берегу, святым отцам вослед.
Клирики еще издали заметили верхового. Остановились, сбились тесно. Епископ еще крепче прижал к груди ларец. Дьякон – тот, что мыл ему ноги, – заслонил его собой, а сам сощурил глаза, присматриваясь: не блеснет ли меч.
– Эй, святые отцы! – закричал, стремительно наезжая, рыцарь из Авиньона. – Подождите-ка!
…А лето в самом начале. Трава пахнет – с ног сшибает. Упасть бы в нее лицом, не видеть… По лугам вьется сверкающая лента реки, вдали – красноватые стены и башни Сен-Жилля.
De profundis clamavi ad te, Domine…
А всадник настиг, описывает круги, зажимает в кольцо, не дает уйти – пастуший пес вокруг неразумного стада. На лице ухмылка, но меч в ножнах.
Спросил его епископ сурово (а у самого еще гремит в ушах смертное De profundis):
– Для чего мы тебе, чадо?
Отвечало чадо, с седла наклонясь:
– Есть у нас несколько католиков, франков. Приблудились, скоты бесполезные. Утопить бы, да жаль, все-таки живое дыхание. Господин наш Раймон, Божьей милостью молодой граф Тулузы, спрашивает вас: не возьмете ли из милосердия себе хлам сей бесполезный?
Дурное предчувствие охватило епископа.
– Приведите их, – молвил.
Всадник рассмеялся, назад помчался, к Рамонету.
Вскоре из-за холма раздавленной гусеницей выползли пленные франки, связанные за шею длинной волосяной веревкой. Впереди – те, кто цел остался, поводырями. За ними увечные. Лица распухли багровой подушкой, глаз не видать, волосы слиплись, в кровавой коросте. А сбоку кружит авиньонец, погоняет, смеется. Вручает конец веревки младшему дьякону и уезжает прочь – от хохота помирает на скаку, мало с седла не падает.
Клирики остаются с бедой на руках: шестнадцать воинов; трое нуждаются в хлебе, а прочие – в целении, да только где взять им лекаря?
Дьякон, торопясь, снимает кусачую веревку, развязывает франкам руки. Слепые от боли и ран, франки еле шевелят губами – пытаются говорить.
И так сказал им епископ, наружно как бы сердясь:
– Молчите! Встаньте на колени.
И все – и франки, и клирики – опускаются на колени, а дьякон подает книгу, какую сберегал в кожаной сумке.
Раскрыв ее и помолчав немного над страницами, говорит епископ Сен-Жилльский:
– Слушайте.
«Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней! Ибо гнев Господа на все народы и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их…»
Он читает и читает и все не может остановиться, упиваясь. И слушают франки и клирики, и сверкающая Рона в зеленых берегах, и красные башни под синим небом.
И нет тления этим словам.
«Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие; скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне…»
Тут пресекся голос у читающего. Пал на колени вместе с остальными и зарыдал от гнева и бессилия.
И вот уходят они дальше по берегу, больные опираясь на здоровых, все босые, все истерзанные душой и телом, и золотистая дымка раннего летнего утра окутывает их, постепенно скрывая от глаз.
Основные силы Рамонета – в Бокере и Авиньоне. В этих городах он открыто провозгласил себя независимым государем, завел печать с надписью: «Раймон VII, граф Тулузы, герцог Нарбонны, маркиз Прованса». То и дело прикладывал ее к разным грамотам и письмам.
А Симон?..
Симон – далеко. Симон застрял в Пиренеях, в Фуа. Не скоро выберется. Фуа – груз тяжелый, его так запросто с ноги не стряхнешь.
Ну а пока старый лев барахтается в горах, Рона набухает мятежом, и вот она выходит из берегов, заливая город за городом волной яростной и радостной: свобода!
Все броды по реке заняты. Пусть он только сунется, Симон!.. У Сен-Жилля сторожат переправу сен-жилльцы, а у Вивьера – вивьерцы. Не любит пехота городских общин так воевать, чтобы к ночи не вернуться к себе под кров, за стены родного города.
Несколько кораблей из Авиньона ходят по реке вверх-вниз. Развозят продовольствие, приглядывают за берегами.
И вовсе не страшно оказалось бунтовать, напротив – весело. Ну, где этот Симон, что медлит? Испугался? А вот на Роне никто не боится. Нечего бояться. Ведь здесь Раймон, Рамонет – законный государь, юный граф Тулузы, воин, властитель, баловень, красавец и храбрец – молодой Раймон, в котором, сколько ни ищи, не сыщешь изъяна.
Много дней минуло с тех пор, как предали проклятию и оставили мятежный Сен-Жилль, и вот показался впереди замок Берни, одна из твердынь на Роне, оплот бунта. Даже не подняли головы, чтобы посмотреть на высокие стены – ни клирики, ни калеки. Как шли, шатаясь от слабости, как шли, от голода шалея, так и продолжали – без всякой надежды на людей, на одного Бога уповая. Только епископ ступал твердо и ларца никому не отдавал, хотя ему эта ноша стала уже казаться чрезмерно тяжелой.
Из шестнадцати франков с ними оставались только одиннадцать. Прочих похоронили, как пришлось, на берегу, ибо в города, восставшие против Монфора, католическое духовенство допускать не захотели.
И вот со стороны Берни понесся им навстречу всадник.
Остановились.
И сказал епископ спутникам своим, чтобы пали на колени и молились со счастьем и смирением. И еще сказал он им радоваться, ибо нет ничего лучше смерти, принятой за веру в час молитвы. И сам первый начал, прикрыв глаза и сложив ладони на ларце, как на алтаре.
И так стали они, по совету своего епископа, ждать смерти. А всадник приближался, взбивая песок.
Подлетев, закричал всадник, врываясь в хор печальных, хриплых голосов:
– Не вы ли клирики сен-жилльские?
Замолчал епископ, прерванный посреди молитвы. Следом за ним, один за другим, стихли и остальные.
– Это мы, – молвил, наконец, епископ. И поднялся на ноги.
– Благодарение Создателю! – сказал тогда всадник. – Граф Симон зовет вас в свои палатки…
Поначалу решили было путники, что ради злого смеха послал к ним этого всадника Рамонет. Не насытился еще глумлением, новое ругательство придумал.
В самом деле, откуда бы взяться здесь, на Роне, в нескольких верстах от Берни, Симону де Монфору? Все знают, что Симон в Пиренеях, что надолго увяз он в Фуа. Как сумел добраться так скоро? Не по воздуху же перенесся?..
Но это и вправду был Симон – пыльный, уставший, обозленный. Совершать быстрые переходы выучили его сарацины, еще в прежние времена. И умел Симон переноситься из края в край, как по волшебству, и не щадил он при том ни полей, ни людей, ни лошадей. Но в первую голову не щадил граф Симон самого себя.
Ворвался на берег Роны, распугивая вилланов и городское ополчение, и с ходу врезался в Берни. Второй день держал осаду, стоял палатками, присматривался, прицеливался. А в лесу уже валили столетнее дерево для тарана. Назавтра готовился Симон взять крепость штурмом.
Как прослышал о том, что случилось в Сен-Жилле, послал человека на розыски, а когда отыскались клирики, сам навстречу епископу выехал.
Седла не покидая, смотрел Симон, как проходят на трясущихся ногах франки, числом одиннадцать, в землю устремив изуродованные лица.
С калеками Симон разговаривать не стал. Их разобрали по палаткам, кто захотел.
Симон пригласил к себе одного только епископа. Разложил перед ним хлеб, вино, сушеное темное мясо лесного зверя. Умолил подкрепить силы.
И передал епископ Симону все новости, какие знал. Симон слушал, не перебивал, только омрачался все тяжелее.
Наутро, едва стало светать, погнали франки своих коней к Берни. Покатили на тяжелых колесах большой таран – два дня вострили, вгрызались топорами в столетнюю древесину. От вражеских стрел прикрывали черепахой.
Палатки, имущество, раненых, священников – все оставили в лагере, в малом удалении от стен замка, не боясь. Знали: сегодня этой твердыне начертано пасть.
Походя подожгли городок, жмущийся к стенам Берни, и в черном дыму ударили тараном в ворота замка. Сверху хотели вылить на них раскаленную смолу, но пока калили, ворота треснули.
И увидел Берни перед собой разъяренного Симона. Первым ворвался он в пролом и зарубил двух солдат у павших ворот. Следом за ним ринулись франки, и не остановить их уже было.
Вертясь на коне посреди двора и так уходя от стрел, закричал Симон во всю глотку:
– Поджечь здесь всё!..
Черные клубы уже тянулись внизу, заволакивая горящий город. С крыши донжона посылал стрелу за стрелой упрямый лучник.
Франки хватали телеги, валили на них хворост и солому, вкатывали в башни, запаливая факелами. Донжон курился дымом, извергая клубы из узких окон, подобно дракону. Дым душил, хватал за горло, заставлял выбегать на двор навстречу мечам и стрелам.
Во двор сгоняли пленных – мужчин и женщин, детей и стариков, воинов и горожан, знатных и простолюдинов.
Симон, сидя на лошади, безучастно взирал на них, копошащихся внизу.
Шевельнул ноздрями и гаркнул зычно:
– Увечных сюда!..
Пока подходили увечные франки, один другого страшнее, от общей толпы отогнали, по приказу Симона, простолюдинов обоего пола и детей, кому на вид было меньше десяти лет. Прочих же отдал Симон на расправу.
И руками изуродованных Рамонетом франкских воинов повесил Симон в Берни несколько десятков рыцарей и горожан, стариков, юношей и женщин. И самого владельца замка, Аймара де Берни, и жену его, и старшего сына, четырнадцатилетнего юношу. Младшего же, отыскав в толпе отпущенных, велел высечь и обратить в рабство.
И смотрели те немногие, кто оставлен был Симоном в живых, как бьют пятками умирающие. И никто не отводил глаз.
И печален был Симон и на диво задумчив.
И впервые за долгие дни, проведенные во тьме отчаяния, улыбнулись увечные франки.
А Симон двинулся дальше по Роне бурлящей. И за спиной у него остались черный дым и громкие крики птиц – не на один день им теперь работы расклевывать тела, вывешенные на закопченных стенах.
Все переправы по Роне заняты мятежниками. Слух о расправе над Берни достиг уже Бокера, но сдаваться на милость Симона Рамонет пока что не собирался, хотя многие были устрашены.
Тут прибыл, наконец, из Рима долгожданный папский легат, кардинал Бертран. Оказался еще более свирепым католиком, нежели сам граф Симон. Мгновенно сцепился с графом, поругался с ним и высокомерно отбыл в Оранж.
Один.
В Оранже легата тут же осадил Рамонет.
Бранясь на чем свет стоит, Симон бросил всё и рванулся в Оранж – вызволять кардинала.
Рамонет боя не принял, отошел. Кардинал выбрался из западни невредимый, но злющий!
А у стен поджидал его избавитель, граф Симон, – тоже злющий! Да еще как!..
Встретились.
Поговорили.
Легат ярился. Сен-Жилль и Авиньон наотрез отказались пускать к себе посланца папы, который прибыл вершить дела войны и мира.
– Не желают пустить добром, войду силой.
Симон слушал легата и ярился тоже: сила, которой похвалялся легат, как своей собственной, была его, симонова.
Симон шел по Роне.
Жирный дым от Берни достигал, казалось, самых удаленных крепостей, разнося с собой удушливый страх. И никому не хотелось, видя Симона, проверять: как, треснет родимая скорлупка, если граф Симон сомкнет на ней свои железные челюсти, или выдержит?
Один за другим открывали перед ним ворота здешние замки. Входил в них Симон рычащим зверем, грозил и миловал, и дальше шел.
А Рамонет сидел за Роной, недосягаемый. С непринужденной легкостью раздавал льготы городам Лангедока, пришлепывая документы своей новой печатью: «Раймон VII, граф Тулузы…»
И Адемар, виконт Пуатье, в эти дни открыто принял сторону Рамонета.
И повернул Симон прямо на Адемара. Тот не слишком обеспокоился: достаточно преград лежало между Симоном и замком Крёст на Дроме, где сидел тогда виконт Пуатье. Не дотянутся франки.
А Симон застрял на берегу Роны, против переправы, что близ Вивьера. Стоит, измеряет расстояние задумчивым взглядом, брови хмурит. Ну, и молчит, конечно.
В Вивьере забеспокоились – самую малость: а что как двинется Симон прямо на город.
Но Симон пока что ничего не предпринимал. Приглядывался, прикидывал. Легат ему в оба уха кричать устал: прорываться, прорываться!..
На шестой день безмолвного стояния Симон вдруг от Вивьера отошел. В городе возликовали: струсил!
А Симон отошел вовсе не ради того, чтобы оставить Вивьер в покое. И не мог он какого-то Вивьера струсить. Уж кому-кому, а Рамонету неплохо бы об этом догадаться.
В эти дни к Симону из Иль-де-Франса прибыл отряд в сто всадников, долгожданная помощь от короля Филиппа-Августа. Прислал, как обещал, обязав служить Симону шесть месяцев из одного только долга; по истечении же этого срока могут, если пожелают, остаться с Монфором, но за плату.
Сто всадников, рыцарей с Севера. И с ними радость – Амори. Старший сын, наследник.
Теперь, после долгой разлуки, не только другие, но и Симон видит в Амори себя самого – на тридцать лет моложе. Таким был Симон, пока сухой ветер Святой Земли не выбелил его волос, не вытемнил кожи.
Амори улыбается, Амори сияет. И Симон невольно улыбается ему тоже.
Ни у кого не водится такого числа злых врагов, как у Симона, зато и друзья у него искренние. Самыми же близкими были ему младший его брат и старший сын.
И Амори целует руку Симона, и Симон, смеясь, обхватывает его и прижимает к себе. И многие, кто видит их вместе, завидуют.
Отвязывают шатры, сгружают вьюки. Ставят палатки возле симоновых. В недрищах лагеря глухо позвякивает посуда.
После полугода, проведенного в Бигорре с Гюи, с младшим сыном, Симон не может наглядеться на старшего.
Гюи – тот как будто постоянно ждет от отца подвоха; всегда насторожен, молчалив, хмур. Есть у Гюи своя жизнь, скрытая от глаз Симона: то возня с меньшими братьями, то возня с девками по кухням. И все это тишком, пока отец не видит. И оттого тяжело бывает Симону с младшим сыном.
Амори же весь как на ладони, ясен и светел. И отважен, и крепок.
Симон говорит Амори:
– Благословен Господь! Наконец-то вы со мной, сын.
Амори слегка краснеет и только улыбается в ответ. Хотелось бы ему сказать, что рад бы умереть за отца, но такие слова с губ не идут. Да и что говорить, коли и без того все открыто между ними.
И вот два дня новое воинство бездействует вдали от Вивьера. Ест горячее, пьет холодное. Лошади бродят без ноши на спине, щиплют траву, спокойно поводят ушами, слушая, как гудят шмели.
На третий день собираются и быстро выступают на Вивьер.
А там уже сочли угрозу минувшей. Пехота городской общины Симона вовсе не ожидала и потому, когда ударил всей силой, то побежала. Пешему с конным совладать непросто, нужна особая выучка. Да еще не растеряться бы. Конный над тобой – как Георгий над гадом, поневоле по земле, извиваясь, поползешь и обратишься в постыдное бегство.
Пока Симон пехоту пугал, пока брызгами, полными радуги, любовался (падали в Рону, оступаясь, убегающие пехотинцы), наехала авиньонская конница, полсотни храбрых рыцарей. Выскочили сразу справа и слева и с передовыми франков схватились, уже на равных. Того не знали, что Симон подкрепление получил. Знали бы – сразу отошли.
И пали авиньонцы до последнего человека; из горожан спаслись немногие. Повлекла Рона кровавый след. Где лизнуло волной, на песке оставались красные полоски. А после сама же и смыла прозрачной водой, чистой, хрустальной. И забылось Роне.
А Симон перешел реку и, не останавливая движения, ворвался в Вивьер. Амори рубился бок о бок с отцом; радостно ему было. И несколько раз выходило так, что Симон успевал прикрыть сына, а один раз Амори вовремя поспел к отцу и уберег его от раны.
Настала ночь, и Вивьер пал. Озарен был пожарами до самого неба. Огонь отражался от вод реки. И горели костры. В эту ночь почти не спали. Кто раны баюкал и зализывал, кто сторожил, ожидая подвоха.
Утро над рекой будто попробовало сперва воду, бледно засветив ее гладь, а после неожиданно пролилось багрянцем и золотом. Подле этого великолепия еще убоже и страшнее встал перед глазами обугленный Вивьер, будто зуб гнилой. Собирали убитых по берегу – и своих, и чужих – пока солнце не поднялось в зенит. Отпели всех разом и захоронили, торопясь, на католическом кладбище.
Могилу, одну на всех, творили местные мужланы – их Амори для этой работы согнал. Рыли мрачные, сами бледнее трупов – в уверенности, что проклятые франки их живьем рядом с мертвыми зароют.
Когда могила была готова, Амори мужланов отпустил на все четыре стороны. Те припустили – обувку, у кого была, на бегу теряли. Всё ждали, что передумает франк.
Ни казнить, ни миловать Симон в Вивьере не стал. Некого было здесь казнить и миловать. Не перепуганных же мужланов снова ловить, каким Амори уйти дозволил.
И пошли дальше – на Адемара де Пуатье. Он был еще далеко в своем Крёсте, имея и на этом берегу Роны между собою и Симоном не одну преграду.
Первой оказался Паскьер. Симон задержался здесь недолго. Штурмовали, не остановившись, прямо с марша, только обоз в нескольких верстах бросили. Лестницы на стены пали, в ворота таран вломился, и полезли со всех сторон франки. Амори остался внизу, с тараном, под черепахой. А Симон третьим по лестнице поднимался, следом за двумя солдатами. Первого сразу убили. Второй ввязался в бой. Симон, спрыгнув на стену следом, бросился вниз, на двор, увлекая за собою троих противников.
Этот бой был недолгим и потери оказались невелики с обеих сторон. С мечом в руке прошел по замку Симон, плечом к плечу со своим старшим сыном.
Наказал брать пленных, разоружать и сгонять в подвал, но не убивать. Владельца же крепости велел доставить к нему.
Ростан де Паскьер отбивался дольше всех, прижатый в углу. Последний солдат уже отдался в руки франков, а Ростан все бился. Когда усталый меч в его руке переломился, отбросил в сторону обломки и заплакал.
Раненого, с опаленными волосами и бровями, скрутили его и потащили к Симону.
Симон нашел в донжоне лучшие покои и там ждал, отдыхая. Пока ждал, лицо умыл той водой, что оставалась в широкой медной чаше (и даже лепестки шиповника в ней еще плавали, для приятного запаха).
Приволокли Ростана. У того голова мотается, белые глаза закатились, весь правый бок в кровище. Изнывающего, к ногам Симона бросили. От стыда Ростан слабо застонал. Встать хотел и не смог. Так и остался извиваться червем под ногами проклятого франка.
Посмотрел на него Симон сверху вниз и неожиданно глянулся ему Ростан. Велел перевязать его раны, напоить вином, какое получше найдется, уложить на постель и не тревожить.
Когда все это было сделано, пришел граф Симон к Ростану де Паскьеру и долго стоял возле него, простертого в немощи. Ростан на него глядел и плакал.
Спросил Симон:
– Вы знаете меня, сеньор?
– Вы граф Монфор, – сказал Ростан. Хотел еще прибавить проклятие, но не сумел. А слезы все так же медленно выползали из его глаз.
Тогда сказал ему граф Симон:
– В Берни я повесил четыре дюжины человек разного звания.
Ростан шевельнул рукой, будто для крестного знамения, но даже и руки поднять сил не нашел.
– Я не стану делать этого с вашими людьми. – Симон топнул ногой в пол, показывая, где находятся сейчас люди Ростана.
Ростан все молчал.
– Я оставлю им жизнь, – повторил Симон.
Тогда Ростан тихо спросил:
– Всем?
Легат Бертран советовал Симону пощадить только искренних католиков, а нетвердых в вере повесить. Но Симон ответил Ростану де Паскьеру:
– Всем.
– Что я должен сделать?
– Вы должны присягнуть мне на верность. – И, видя, что Ростан колеблется, добавил: – В Берни я этого не предлагал.
Ростан сказал:
– Я стану вашим человеком, мессен, как вы требуете.
Наутро Симон ушел из Паскьера, не тронув там ни одного камня.
Симон шел по Роне скорым шагом, торопясь обогнать свою злую славу и дым пожаров. Но корабли, пущенные по реке, опередили его. И потому невдалеке от Драконьей Горки ждала франков во всеоружии малая крепостца. Мосты ее были встопорщены, решетки опущены, рвы наполнены мутной, зацветающей водой. На стенах угрожающе кренились чаны с маслом, только поверни рычаг.
Вот Амори с тремя конными отделяются от отряда, чтобы заехать в деревню, расспросить о замке. Деревенские напуганы. А испугаешься тут, когда из самого чрева полудня, из утробы дрожащего знойного марева, вдруг вылетают на поле четыре всадника и, ломая поднявшиеся уже колосья, несутся прямо на тебя.
Склонясь с седла, Амори хватает первого попавшегося мужлана, какой не успел убежать. Тот сперва бьется, после безвольно обвисает. Экая франкская страхолюдина на него наехала!
Амори встряхивает мужлана, с отвращением хлопает его по мокрой бородатой морде. Тот выпучивает глаза, не видя над собой молодого, веселого лица – ничего не видя, кроме собственного ужаса.
– Эй, скажи-ка, как зовется замок? – спрашивает Амори.
Мужлан слабо мычит. Амори снова хлопает его по щеке.
– Замок, – повторяет он. – Крепость. Как она зовется?
До мужлана туго, но доходит смысл вопроса.
– Басти, – бормочет он в бороду.
– Кто господин? Сеньор? Имя?..
– Гийом…
Амори выпускает мужлана. Как бы в штаны не напустил с перепугу, потом вонять будет – не отмоешься. Тот хлопается на спину, как жук, и долго еще моргает, ничего не соображая: что это было? Всадник же давно исчез.
Амори влетает в деревню, вспугивая кур, гусей, женщин и двух беспечных хрюшек. Одну свинку франки тотчас же насаживают на копье и с гиканьем, под страшный поросячий визг, под слезливую брань женщин, уносятся прочь – догонять Симона.
Так и узнали, что крепостца именуется Басти, а владелец ее носит имя Гийом.
Уплетая свинку, взятую в деревне, Симон фыркает: немного же разузнали! «Гийом»! В этих краях любой владетель если не Раймон, Рожьер или Бернарт, то непременно Бертран либо Гийом… А свинка хорошая, упитанная. Все не зря наведывались.
Крепостца перед ними – как на ладони: небольшая, но воинственная. И уже сейчас видно, что к завтрашнему вечеру падет. Но и то понятно, что падет не без сопротивления.
– Давайте спать, – говорит Симон сыну. – Завтра много работы.
И еще засветло валится граф Симон в горячую траву и почти мгновенно засыпает. И нет ему дела ни до жары, ни до шума в лагере, ни до насекомых.
Басти и вправду пала на следующий день. Симон щелкал такие крепости, как орехи. Потерял на лестницах четверых. Еще двое поломали себе руки-ноги, падая. В самой Басти убитых и вовсе не было. Одному только отмахнули лоскут кожи с виска.
Пока франки обшаривали Басти, отыскивали, нет ли подвоха, не прячется ли где-нибудь свихнувшийся арбалетчик, которому втемяшилось пасть, перестреляв перед тем десяток врагов, Симон утвердился на крыше башни, прямо на камнях. Сперва окрестности озирал, вдруг к Басти подмога идет. Потом, успокоившись, сел спиной к зубцу, от солнца горячему. Скрестил ноги, подставил лицо теплу.
Рядом с Симоном стоит легат, ужасно недовольный. И того уж хватило, что оставил в живых Ростана де Паскьера, по всему видать – отъявленного еретика. Похоже теперь, что и Басти намерен Симон пощадить. Стоял над ухом и бранил Симона.
Симон голову повернул, странновато на кардинала поглядел – так сарацины смотрят, когда им, с их точки зрения, говорят чушь.
Привели владельца Басти, того самого Гийома. Был без шлема, потные волосы взъерошены. Еще издали, по подпрыгивающей походке, признал его Симон. И рассмеялся, легата изумляя.
Как он мог выпустить из памяти, что настоящее имя Драгонета было Гийом?
Амори сбоку от пленного шел, смотрел, как ведут Гийома. Вместе на башню поднялся, к отцу. Гийома следом за Амори потащили.
– А, сеньор Драгонет, – молвил Симон, завидев его, – добрый день. Я должен был раньше догадаться, что это вы.
Драгонет хмуро улыбнулся. А Амори на отца своего дивился: всякий раз найдется у Симона, чем огорошить.
Драгонет полез за пазуху. Тотчас же Амори, не доверяя, перехватил его руку, но Симон сказал сыну:
– Отпустите его.
И извлек Драгонет шелковую перчатку, ту самую, что получил из рук Симона в Монгренье. Помахал ею, будто мух отгоняя.
– Ваша правда была, мессен, – сказал он. – Вот и снова мы с вами встретились.
Симон хмыкнул.
– Вас это, никак, опечалило?
– Опечалило, – согласился Драгонет. – Ибо всякий раз наши встречи мне вовсе не к выгоде.
Не обращая внимания на прогневанного кардинала, сказал Драгонету Симон:
– В четвертый раз я не стану вас щадить, поэтому лучше нам покончить с нашей враждой сегодня. Вам со мною не совладать. Мне же, видит Бог, совсем не хочется поступать с вами по справедливости.
– По справедливости? – переспросил Драгонет.
Амори видел, что этот Гийом-Дракончик Симона не боится и вражды к нему не испытывает.
Симон сказал:
– По справедливости я поступал в Берни, где оставил в живых только простолюдинов и ребятишек младше десяти.
Драгонет призадумался. Потом встретился с Симоном глазами, и рот у него разъехался от уха до уха.
– Ваша взяла, мессен, – сказал он. – Я присягну вам. На вашей стороне биться я не стану, ибо не к лицу мне это. Но и оружия на вас больше не подниму.
И отдал шелковую перчатку Амори, а тот возвратил ее отцу.
– Да, – вспомнил Симон, – а где ваш брат Понс?
Драгонет неопределенно махнул рукой.
– Понятия не имею.
Симон понял, что Драгонет лжет, однако уличать его не захотел. Встал, потянулся. Протянул Драгонету обе руки.
– Ну, – молвил Симон, – чем вы будете нас угощать в вашем замке?
И перешагнул Симон через Басти, прошел Мондрагон, и осталась только одна преграда между франками и Крёстом – Монтелимар.
Были этот город и замок над ним как бы двуглавы: имели двух сеньоров, сообща владевших замком и землями вокруг. Владельцы между собою ладили плохо и каждый тянул на себя.
И вот один захотел биться с франками до последнего издыхания. Нашлись у него в городе сторонники, готовые выдержать все тяготы осады и встретить, если потребуется, смерть.
Но другой владелец вовсе не желал идти против Симона, ибо знал: не выстоять Монтелимару против такого числа франков. А вести о том, что они сделали в Берни, донеслись и досюда. И потому хотел помириться с Симоном, не успев поссориться. И многие в городе держали руку этого второго сеньора.
Так и вышло, что прежде чем начать враждовать с франками, сошлись в нешутейной распре жители Монтелимара. И те, кто хотели мира с Симоном, одержали верх, ибо их было больше.
И открыли они франкам ворота Монтелимара.
Воинственный сеньор с частью своих сторонников бежал; мирный же принес присягу и получил из рук Симона весь Монтелимар, целиком.
И вот настает тот день, когда Симон со своим войском подходит к Крёсту, и останавливается у его высоких стен, и задирает голову, разглядывая. И плечом к плечу с Симоном стоит его сын Амори, а за спиной у него – три сотни франкских рыцарей, не считая оруженосцев, конюхов и пехоты, – вся сила, что есть сейчас у Симона.
Солдаты ставят палатки, окапывают кострища, чтобы не наделать в лагере пожара. В лесу отыскивается хороший ручей. И уже присматриваются люди Монфора к здешней охоте и близким деревням, подыскивают, где пастись лошадям.
И видит Адемар де Пуатье, что осаждать его будут долго, все жилы вытянут. Понадобится – так и башню осадную построят.
Крепкий, жадный лагерь вырос под стенами Крёста.
Адемар смотрит вниз, считает флаги. Не только франки ходят под рукой Симона. Вон там щит сеньора Алеса, а ведь он родич одной из бывших жен старого графа Раймона. И еще здесь люди из Паскьера. И Леви из Альбигойского диоцеза. И Лимуа из Каркассонского округа.
В Крёсте скучно и вместе с тем тревожно. Осада – история нудная, требует выдержки.
Франки озорничают по всей округе. Траву вытоптали, поля выколотили. Уж и женщины в их лагере появились, снуют между палатками и кострами, смеются визгливо.
У Симона терпение звериное: залег у входа в нору и попробуй его сдвинь.
Лето перевалило зенит и потянуло год к закату – всей тяжестью урожая.
Когда по деревням начался обмолот, вышел Адемар навстречу Симону и заговорил с ним о мире.
– Какой может быть между нами мир, – сказал ему Симон, – коли вы открыто сторону Раймончика взяли.
Адемар губу покусывал, все раздумывал, как бы от Симона откупиться. Да так, чтобы поверил и ушел с земли. Все равно ведь своего добьется.
Симон и сам хотел бы с Крёстом замириться без боя. Взять-то эту крепость он бы, конечно, взял, но людей положил бы без счета. Вот чего Симон совсем не желал.
И сказал Симон, открывая перед Адемаром всю свою варварскую простоватость:
– Тогда поверю в искренность миролюбия вашего, когда согласитесь вы со мной породниться.
И без лишних слов предложил ему свою дочь – любую: Амисию, Лауру, Перронеллу – с тем, чтобы выдать ее за адемарова сына.
– И как станем мы с вами родичами, то вражды между нами больше не будет.
Адемар с облегчением согласился.
…Громче всех возмущался потом папский легат, кардинал Бертран.
Но Симон попреки оборвал, молвив, по возможности, кротко:
– Я не собираюсь покрывать Лангедок трупами и пеплом. Эта земля не для того дана мне в ленное держание. Я хочу влиться в ее вены новой кровью и так обратить в католичество.
Амори слушал, запоминал.
Но легат заговорил снова. Теперь вспомнил библейского праведника, отдавшего дочь на поругание чужеземцам, лишь бы не нарушить законов гостеприимства.
Симон слушал с интересом, а после вдруг засмеялся и махнул рукой.
– Оставьте причитать, святой отец. Сын Адемара – благородный рыцарь, молодой, полный сил и наружности отменной. Я его видел.
14. Тулуза мятежная
Стихла Рона. Берега ее исполнились покоя.
Горький дым прежних пожаров улегся. Первые дожди смыли копоть с камней Берни и Вивьера. И только еще в душе горчило что-то. Кому любо каждый день видеть у себя в городе франков, невозбранно разгуливающих, где им вздумается? Рослые, хорошо вооруженные, часто пьяные. А вино не слабость в них греет – удаль. У кого холодок между лопаток не побежит?
Франки отдыхали, на охоту всей сворой ездили, на пирах веселились и даже куртуазность, как умели, выказывали.
Симон – тот больше за шахматами сидел. То выигрывал у Адемара де Пуатье, то проигрывал ему. Сыну же своему Амори Симон не препятствовал веселиться, как тому только пожелается: пусть носится сломя голову, покуда молод.
Неспешно текли разговоры о грядущем брачном союзе. Ничего не упустить бы. Размеры приданого, величина ответного дара, земельные наделы, предназначенные супругам, их детям. Перебирались достоинства дочерей Симона, всех трех, Перронеллы, Амисии, Лауры. Все три красивы, широки в бедрах, хорошо воспитаны. Ну, в этом Адемар и не сомневался: какие еще дочери могут быть у такого отца?
И другие беседы были в том же роде. И тишина нисходила в усталую душу Симона.
Стоит сентябрь, месяц прозрачный, светлый, печальный, когда небеса чуть выше над землей, чем в иное время.
И вот вечером, незадолго до того, как солнцу опуститься и исчезнуть за кронами деревьев, едет Симон по берегу Дромы. Впереди темной громадой замок Крёст, по правую руку роща, по левую река в перламутровом предзакатном мерцании.
Симон едет один, как рыцарь из поэмы, шагом, склонив голову на грудь, доверив дорогу коню. На нем только кольчуга – ни шлема, ни доспеха. За долгие годы свыкся Симон с тяжестью кольчуги. Иной раз и спит в ней, не находя в том ни малейшего неудобства.
Впервые за долгое время в душе его установился мир. И как только стихло кричащее сердце, сразу услышал он неслышный шепот лепестков Вселенной.
Бог говорил к миру.
Симон слушал…
– Мессен!
Из рощи вылетает конник. Несется прямо к Симону и заступает ему дорогу. Уставший конь под верховым ширит горячие ноздри.
Тишина рассыпается горстью медяков. Симон уже с мечом в руке. Насторожен и опасен, ни следа недавней задумчивости. Потому и прожил полвека, что всегда успевал повернуться лицом к своей смерти.
– Мессен!
Симон поворачивает коня так, чтобы солнце не слепило глаза, щурится, разглядывая конника. Тому не больше тридцати, у седла щит и меч в полторы руки, ножны затасканные, кольчуга плохонькая. Всадник покрыт пылью, на рукаве кровь. От усталости еле жив.
И беда его окружает, глядит из расширенных зрачков. Совсем недавно видел этот всадник свою смерть, едва ноги унес.
А всадник говорит почти жалобно:
– Ох, это вы, мессен.
Он вздыхает тяжело, всей грудью, и клонится щекой к лошадиной гриве.
Симон все еще не доверяет ему.
– Кого вы искали?
– Графа Симона, мессен…
– Это я, – говорит Симон. И глаз не сводит: только шевельнись лишний раз! – Назовитесь.
– Анисант из Альби… Я присягал вам вместе с моим сеньором, де Леви, тем, что женат на вашей сестре, мессен.
Симон молчит – ждет.
– Меня прислала дама Алиса. Госпожа Алиса, ваша супруга…
Из-за тяжелого браслета на левой руке достает письмо, запечатанное хорошо знакомой Симону печатью: всадник с трубой у губ, под ногами коня вьется пес.
Симон принимает у Анисанта письмо, мимолетно подносит печать к губам: Алиса.
Анисант с трудом покидает седло. Подходит к реке, долго пьет, зачерпывая воду ладонями, умывает лицо, приглаживает волосы.
Симон спешивается тоже и привязывает обоих коней. Подходит ближе к Анисанту, показывает на его руку:
– Вы ранены.
– Это наименьшая из моих бед.
Письмо Алисы лежит в ладони Симона.
Анисант говорит очень тихо:
– Мессен, я еду к вам от самой Тулузы, останавливаясь только для короткого ночного отдыха.
Запах близкой беды бьет Симону в ноздри. Так явственно, что на миг земля уходит у него из-под ног. Резким движением сжимает письмо в кулаке.
– Что случилось? – кричит Симон. – Что еще случилось?
– Мессен, мне трудно говорить об этом…
Анисант отводит глаза. Тяжелое дыхание Симона обдает его щеку, будто исходит от крупного зверя.
– Что случилось? – повторяет Симон.
И говорит ему посланец Алисы:
– Мессен, вы потеряли Тулузу…
Любимое имя, самочинно слетевшее с губ в разговоре с сестрой, жгло Рожьера огнем – и жарким, и сладким: «Раймон»!
Старый граф Раймон Тулузский скрытно вышел из Арагона, преодолел Пиренеи трудными дорогами, которые ведомы лишь пастухам и разбойникам, – и вот он в Кузеране.
Они все ждали его здесь, от нетерпения пальцы изгрызгли, едва до костей не сглодали: и Рожьер де Коминж, и его отец Бернарт, и молодой граф Фуа, и знатный рыцарь де Сейссак, и другие…
И вот несется Понс Кормилицын Сын – без седла, молотя лошадь босыми пятками, и блажит:
– Едет граф! Едет!..
Рухнуло сердце у братьев Петрониллы и все в душе их обвалилось разом: граф Раймон!..
А Раймон спешился, ведет лошадь в поводу. На уздечке тихо позвякивает бахрома. Да и не ведет вовсе, лошадка сама за ним ступает, как привязанная, каждым мелким шажком красуется.
И видит Рожьер долгожданное, красивое, старое лицо с легкой сеткой морщин, с безвольной складкой у губ, с лучистыми темными глазами, полными донного света. И ничего больше вокруг себя не замечает Рожьер, кроме этого лица.
А Раймон идет себе как ни в чем не бывало, чуть лукавый, слегка виноватый: неужто из-за меня весь этот переполох?
Позабыв приличия, Рожьер выбегает ему навстречу и, не добежав трех шагов, падает на колени – на оба! – и простирает к нему руки.
Раймон склоняется над ним и поднимает с колен, и обнимает, как собственного сына, и утешает, и уговаривает. Теперь все будет иначе, все будет хорошо…
И остальные, кто вышел встречать Раймона, обступают старого графа тесной толпой, целуют его руки и одежду, и смеются и плачут от радости. И Раймон – заласканный, зацелованный – смеется и плачет тоже. Наконец-то вокруг родные лица.
Бернарт де Коминж произносит торжественно:
– Добро пожаловать домой, мессен.
А де Сейссак добавляет:
– Не верится, что вы вернулись, мессен. Вы с нами!
– Я здесь, – заверяет его Раймон, протягивая к Сейссаку тонкую руку в перстнях. – Я с вами, сеньоры.
И обнимая за плечи Рожьера и графа Бернарта, он идет дальше, а лошадь деликатно следует за ним.
И Рожьер де Коминж громко хохочет, запрокинув голову к небу. Поблизости, почти незаметный, хихикает Понс Кормилицын Сын.
Раймон вернулся. Теперь они отомстят Монфору за все унижения.
Было время, когда все были молоды и хороши собой и, соперничая, ухаживали за красивыми дамами.
И чудили – чудили так, что впору теперь самим не поверить: неужто может человек такое – мало что выдумать, так еще и сотворить?
И на все хватало сил и внутреннего жара: и на стихи, и на любовь, и на дружбу, и на охоту, и на самозабвенное вранье. И оставалось еще немного, так что иногда они ссорились, чтобы слаще было примирение.
А сыновьям достались война и изгнание.
Так крепко любил граф Раймон свой народ, что ни одному человеку из владений Тулузских не желал причинять стеснения, пусть даже еретику.
И последними, самыми яркими, закатными красками запылало при нем небо над Тулузой. И все разом под этим небом пели и голосили, кто как хотел, – вольно, во всю глотку, а граф Раймон был полон любви и радовался.
И в добросердечии и беспечности своей пропустил он то короткое время, когда следовало умерить слишком громкий голос катаров в своей стране. И отлучили графа Тулузского от Церкви, а владения его отдали католикам.
И настала для Тулузы долгая ночь.
Чего ждут теперь от Раймона его старые бароны и молодые их сыновья, изголодавшиеся душой по музыке, по свободе и свету?
Думают, что одним своим возвращением вернет он былое великолепие? Что вновь расцветит Лангедок цветами любви и воли?
Раймон пьет вино, смеется, он вспоминает одно куртуазное приключение за другим. Обрывки стихов и песен, имена трубадуров и прекрасных женщин, смех и слезы – ах, какое было время, Господи!
И вот в этот щемяще-сладостный поток, дразнящий и без того взволнованное сердце, врывается хриплый голос Рожьера:
– Тулуза готова восстать, мессен. Все готово. Тулуза ждет только вас, мессен. Вместе мы вышвырнем Монфора. Возьмите нашу кровь, если она для этого потребуется.
И меркнет все перед взором Раймона. Бывший граф Тулузский – не трус. Но он не воин.
А молодые сыновья старых баронов полны нетерпения, и кровь бьется в их венах, рвется наружу. И ради того, чтобы вернуть в Лангедок куртуазность, хотят они убивать, колоть и резать, вешать и жечь, без пощады, без милости и сожаления.
И говорит Рожьер де Коминж с легким укором:
– А сын ваш со своими авиньонцами творит чудеса.
И еще он говорит:
– Ваша Тулуза ждет вас, мессен.
Вместо ответа Раймон улыбается, и лучики света разбегаются вокруг его темных глаз.
– Я потерял Тулузу? Ах ты… щенок! Тварь!.. Выблядок!.. Что ты плетешь? Повтори!
– Это правда… Вы потеряли ее, мессен.
Коротко размахнувшись, Симон бьет Анисанта по лицу. Тот не выдержвает – вскрикивает. Из разбитой губы проступает кровь.
– Повтори!
Анисант молчит. У него темнеет и мутится в глазах.
Второй удар – по раненой руке.
Взвыв, Анисант валится на траву.
– Повтори!
– Мессен, в письме… там все сказано.
– Лжешь. Предатель!
– Нет…
– Кто тебя послал?
– Алиса…
Анисант, наконец, находит в себе силы сесть. Слизывает кровь с губы, обтирает подбородок. Из полумрака с ненавистью смотрит на него Симон.
– Ты лжешь!
– Все правда, мессен…
– Приведи сюда кого-нибудь, кто знает грамоту. Живо!
Симон протягивает Анисанту руку. Посланец с опаской принимает от него помощь.
Симон подталкивает его в спину.
– Быстрей, – сквозь зубы погоняет он.
И Анисант уезжает.
Солнце почти совсем уже скрылось в роще, но у воды еще светло. Симон ждет. Наконец до его слуха доносится стук копыт. Поднявшись с травы, Симон поворачивается на звук. И меч в его руке.
– Анисант!
– Это я, мессен.
– Кого ты привез?
В седле позади Анисанта сидит насмерть перепуганный монашек, из тех, что бродят между монастырями, живя подаянием.
Симон снимает монашка с седла. От того разит тухлой рыбой. Анисант остается на коне, подальше от Симона.
Симон протягивает монашку письмо. Повернувшись к угасающему свету, монашек ломает печать, вопросительно глядит на Симона и, получив кивок, утыкается в буквы.
– Вслух, – велит Симон.
– Сейчас, господин…
Монашек бубнит и бормочет, разбирая про себя написанное. Рыцарь за его плечом терпеливо ждет. Анисант, от голода, усталости, боли еле живой, горбится в седле, но уехать и лечь в постель, какая найдется для него в Крёсте, не решается.
Наконец монашек поднимает к Симону испуганное лицо.
– Тут сказано… да вы, господин… кто вы такой?
– Я Монфор, – обрывает Симон. – Что тут сказано?
– Алиса, жена Монфора, просит своего мужа как можно быстрее прибыть в Тулузу к ней на помощь…
Долина расступается перед отрядом. Горы становятся ниже, отступают дальше, а затем и вовсе сменяются холмами. Холмы сглаживаются, оседают, делаются пологими, и вот уже о них напоминают только волнистые очертания горизонта.
Раймон идет по долине Гаронны. Все ближе Тулуза.
Франков пока что нет и следа.
В Авиньон уже послали гонца. И еще одного – в Бокер, дабы как можно скорей уведомить Рамонета.
Долина в безраздельной власти тучной осени. Так налита соками, что, кажется, ударь по земле неосторожно – и хлынет жидкое золото.
И до Тулузы всего несколько верст…
Страхи и сомнения оставили Раймона, сердце в груди бьется сильно, торжественно, как соборный колокол в праздничный день.
Верховой, посланный вперед отряда, возвращается. Скачет во весь опор, погоняя лошадь.
– Монфор!
И сразу смолк радостный звон, оборвался колокол и ухнул, бессвязно гремя, в утробу:
– Как – Монфор?..
Но выступил уже вперед Рожьер де Коминж, на верхового грозно наехал:
– Какой еще Монфор? Он сейчас на Роне.
Граф Раймон неподвижен в седле, внешне – невозмутим. Разве что чуть бледен. О том, что в душе у него творится, никому знать не надобно.
Слушает торопливый разговор Рожьера с верховым.
– Откуда здесь взялся Монфор?
– Не сам. Франки!
– Много их?
– Не считал. Много.
– Далеко отсюда?
– В Сальветате.
Близко!
Сорок всадников и с ними Рожьер остаются в Сен-Жюльене, где застигла их дурная весть. Рожьер снимает со спины арбалет, налаживает тетиву, чтобы лучше оберегать своего графа, случись беда. И Раймон улыбается ему ободряюще, как будто Рожьер нуждается в утешении от страха.
Молодой Фуа с отрядом в десять человек мчится в Сальветат.
Прочие ждут в роще на полпути между Сен-Жюльеном и Сальветатом. Успеют прийти на помощь и Рожьеру, и Фуа, если потребуется.
Посреди двора стоит телега. Двор крестьянский – просторный, зажиточный. Сараи, хлев, подсобки, жилая часть, его обступившие, полны разного добра.
Поперек въезда косо лежит жердина. Сбили трое всадников, когда на двор заскакивали. Надо бы ее совсем убрать, не то переломят, как телегу поволокут.
Хозяин, хмурясь, ведет низкорослую лошадку, чтобы запрячь ее. Двое работников – сын да зять – перетаскивают из амбара мешки, сваливают на телегу.
Печаль такая, наслал Монфор на весь Сальветат своих людей, чтобы хлеб взяли.
Меньшая дочь, здоровенная девка, в углу двора с ведром воды стоит. Рот разинула, на франков глазеет, даже тяжесть на землю опустить забыла.
Те на конях, вооруженные; двое за поклажей приглядывают – полные ли мешки насыпали лукавые мужланы; один на девку косится, больно уж вид у нее потешный.
И вдруг, будто из ниоткуда, взрывается тишина криками, громом копыт, звоном оружия. И можно уже разобрать, как кричат, приближаясь:
– Раймон! Раймон! Тулуза!
Шарахнулась крестьянская лошадка, заплясали под франками кони. С треском вышибая загородь, влетает на двор всадник.
Девка ахнуть не успела, как сшибло ее наземь, спасибо в суматохе и вовсе не растоптали. Ведро опрокинулось, вода растеклась повсюду.
С тяжелым звоном скрестились мечи. Телегу перевернули, друг перед другом вертясь на огромных боевых конях. Первому всаднику второй в помощь пришел. Франков стеснили, стали наседать с обеих сторон.
Пропоротый случайным ударом мешок раззявил утробу, и потекло оттуда зерно – на землю, в лужу, под бьющие копыта.
Девка посреди лужи сидит – юбка задралась, ноги белеют – глаза с перепугу зажмурила потуже и визжит:
– И-и-и!..
Мужик с сыном и зятем едва в хлев спастись успели, когда верховые между собой схватились.
По всему Сальветату крик пошел, отовсюду оружие гремит.
И бежали франки, а молодой Фуа погнал их перед собой. Кого настигал – убивал не разбирая.
Вылетели все разом в поле птичьей тучей. Как на грех, туда, где еще убрать не успели.
Среди колосьев оторвались франки от погони и положили немалое расстояние между собой и провансальскими рыцарями. И вот собрались с силами и обратились обратно на молодого Фуа, столкнувшись с ним на краю поля.
В Сальветате видели, что бой завязался. Видели и то, что с коней упало несколько человек, убитыми ли, ранеными ли, не разглядишь.
И отступил молодой Фуа перед франками, а те его назад, через Сальветат, погнали.
Тут уж мужланы дальше зевать не стали. Подхватили ножи и мешки – и бегом на край поля, туда, где в золотом море плешь вытоптана. И никого не страшились они, ни рыцарей, ни Господа Бога.
Всю плешь обшарили, пятерых поверженных нашли. Двое еще дышали. И пресекли крестьянские ножи это слабое дыхание, чтобы не мешало. Взяли с павших кольца и оружие, деньги, одежду – все, что на тело надевалось и с тела снималось. Раздетые трупы закопали, оттащив за край поля, чтобы хлеба не поганить.
Мечталось еще коней поймать, но разве их словишь, зверей таких! Да и не заживется рыцарский конь в крестьянском хозяйстве.
Так что отступились мужланы, довольствуясь и тем, что было ими уже взято. И смотрели один на другого ревниво, ибо одним от добычи досталось больше, а другим меньше.
Молодой Фуа увлек франков за собой туда, где поджидал в засаде большой отряд.
А как влетели франки в рощу, на ту поляну, то окружили их сразу со всех сторон, частью перебили, частью захватили в плен и с коней сойти понудили.
Стояли пленные и ждали своей участи.
И вот со стороны Сен-Жюльена выехал всадник с малой свитой. Неспешно ехал, глазами по сторонам поводил, оглядывал рощу, будто ласкал ее взором.
Остановился перед пленными. К спутнику своему повернулся, будто спрашивая: «Ну, и что теперь я должен делать?»
А тот, на полкорпуса поотстав, арбалет в чуткой руке держит, брови хмурит, и недавний шрам на его скуле заметен.
Кивнул на пленных.
– Франки.
Раймон прищурился, еле заметно покачал головой.
– Не все. – И голос возвысил для пленных: – Кто старший?
Один шевельнулся и ответил:
– Я.
Арагонский солдат его за локти держал, незаметно ножом в ребра утыкаясь. Другой тянул за волосы. Так подвели поближе к всадникам, чтобы тем удобнее было разговаривать.
– Назовись, – тихо сказал арбалетчик.
Тот назвал свое имя – Жорис.
– Ты знаешь ли, кто я? – спросил красивый старик, которого оберегал арбалетчик.
– Если вы скажете мне, мессен, то буду знать, – ответил Жорис вежливо.
– Я Раймон, граф Тулузский, – проговорил старик с удовольствием. И улыбнулся. По выговору пленника он слышал, что тот из Прованса.
Жорис смотрел на него молча, чувствуя, как арагонец сильнее тянет за волосы. Наконец молвил Жорис:
– Мне жаль, мессен.
– Откуда ты родом, сынок? – спросил Раймон.
– Из Нима, мессен.
Тогда Раймон перевел взгляд на прочих пленников и увидел, что среди них больше половины – южане.
– Как же так вышло, что ты сделался человеком Монфора?
И услышал Жорис в голосе Раймона грусть. И боль. А арагонец подтолкнул в бок кинжалом, чтобы отвечал графу не мешкая.
Жорис сказал:
– Я присягнул ему, как и многие другие. Ведь Монфор теперь граф Тулузский и господин этой земли.
– Что ты делал в Сальветате? Грабил?
– Я собирал для него хлеб, мессен.
Тогда Раймон отвернулся от этого Жориса и сказал своим спутникам негромко:
– Повесьте этих предателей.
И отъехал прочь, на край поляны, и стал смотреть оттуда.
Рожьер махнул арагонцам, показывая на огромный старый дуб.
Дерево это росло в отдалении от прочих, на свободном пространстве, вольготно раскинув толстые ветви во все стороны. Роща как будто нарочно расступалась ради него.
И не нашлось бы ни в Сальветате, ни в Сен-Жюльене человека, который не чтил бы этого дерева, хотя давно уже рассыпались прахом кости тех, кто приносил жертвы меж его корней.
Хватило у дуба мощи снести на себе все четырнадцать тел – всех, кого повесили в тот день по приказу Раймона Тулузского. Жориса из Нима попридержали. Дали увидеть смерть всех его спутников, после чего вздернули вниз головой, как издревле поступают с предателями.
У Раймона было время посмотреть расправу.
Стоял белый день; Тулуза близилась, а подходить к столице засветло он не решался. Поэтому в роще дожидались, пока свет дня начнет меркнуть и только после этого снялись и снова двинулись в путь.
Уходя с поляны последним, Рожьер повернулся в седле и прекратил мучения Жориса, пустив стрелу в его почерневшее лицо.
К ночи вышли к городу со стороны предместья Сен-Сиприен, отделенного от Тулузы Гаронной.
Выпрямившись в седле, Раймон тревожно всматривался в темноту, пытаясь угадать очертания своей утраченной столицы. Страх и сомнения снова принялись терзать его. Не стыдясь слабости, перед близкими говорит о ней Раймон открыто. Не высоко ли взлетели? Не широко ли размахнулись? Одолеем ли Монфора? Не было ведь еще такого случая, чтобы отступал Симон.
– А Бокер?
Да, но ведь после Бокера он больше не знал поражений. Он прошел всю Рону огнем и мечом. Он покорил множество городов и замков, сперва взяв их силой, а после склоняя к себе лаской. И в конце концов Рамонет вынужден был признать, что его славную победу под Бокером граф Симон постепенно обратил в ничто.
– Мне страшно, – сказал Раймон Тулузский.
– Мы на краю великих перемен, – отозвался старый граф Бернарт де Коминж. – Страшиться великого – в человеческой природе.
Раймон промолчал. Но взгляда от моря черноты, где тонула спящая Тулуза, так и не оторвал.
– Молчите, вы!.. – кричит Симон, попеременно оборачиваясь то к Анисанту, то к монашку. – Молчите оба! Молчите обо всем, что здесь говорилось… Ни слова! Ты! – Он ухватывает монашка за худую эсклавину и сгребает в горсть. – Хочешь быть епископом?
Монашек потрясенно безмолвствует. Ему страшно.
– Я сделаю тебя епископом! Дам тебе монастырь, слышишь? Город дам, кафедрал! Только никому не говори о письме… о Тулузе! Иначе убью.
Монашек без худого слова валится на колени.
Симон направляет острие меча Анисанту в горло. Тот неподвижен в седле.
– Убью, – повторяет Симон. – Если ты не поможешь мне… проговоришься… На куски разрежу…
– Что я должен делать? – спрашивает Анисант устало.
– Лгать, – отвечает Симон. И коротко, лающе смеется. – Лги хорошенько, Анисант, и я дам тебе под начало сотню копейщиков. Веришь мне?
– Да, мессен, – говорит Анисант.
Симон отвязывает своего коня, садится в седло.
– И гляди, Анисант, – добавляет он, – чтоб улыбался.
– У меня болит рука, мессен, – говорит Анисант.
Посреди ночи в дом Дежана – того, что жил в приходе Сен-Сернен, двумя окнами прямо на собор, – постучали.
Стучали тихо, очень осторожно, чтобы не переполошить соседей. И того довольно, что насмерть перепугали служанку Дежана, а та уж потрудилась навести страху на своего хозяина.
Шлепая босыми ногами, влетела в господскую опочивальню. Глиняная лампа в руке так и прыгает. Служанкино лицо то выскакивает из темноты, то вновь проваливается.
Страшным голосом она возглашает:
– Там… у двери!
Дежан выбирается из кровати, полусонный, сердитый, с гадкой слабостью в коленях. Следом за служанкой направляется к двери.
Там и вправду скребутся.
– По ночам не подаю, – говорит Дежан грубо. Он испуган.
С улицы доносится негромкий голос.
– Это я, Белангье. Отворите.
На пороге действительно стоит сосед Дежана, Белангье. Счастливый, растревоженный.
– Раймон вернулся.
Дежан молчит, плохо понимая, о чем речь.
Белангье повторяет:
– Сегодня утром его видели близ Сальветата. Сейчас он в предместье Сен-Сиприен, стал лагерем.
– Раймон? – переспрашивает Дежан. – Кто его видел?
– Мой сын.
– Раймон? – повторяет Дежан. Он как в тумане. – Откуда он здесь?.. Да не ошибся ли ваш сын?
– Как он может ошибиться, если столько раз видел Раймона в нашем доме… Нет, говорю вам, он вернулся. Он стоит лагерем в Сен-Сиприене. С ним армия…
Дежан – пятидесятилетний, плотный, с брюшком, в длинной рубахе, глаза вытаращены, щеки трясутся. И все это в неверном свете лампы, которая в руках служанки подскакивает, точно живая жаба.
Всхлипнув – поверил! – Дежан бросается к Белангье и обнимает его.
Белангье шепчет:
– Завтра мы увидим его, нашего доброго графа…
– Завтра? – Дежан вдруг отталкивает соседа. – Завтра? Я увижу его сейчас!
И – забыв одеться, забыв запереть двери – стремительно уходит прочь, мимо Сен-Сернена, мимо спящего монастыря Сен-Роман, вниз по улицам, к Гаронне.
Берег пуст и темен, нигде ни проблеска света, ни промелька. И вдруг впереди, за мощной, ленивой водой, затеплился огонек. Еле различимый. Один-единственный.
Рыдание вновь подступает к горлу Дежана. Он с трудом унимает бьющееся под подбородком сердце. Скинув рубаху, Дежан бросается в воду.
Гаронна теплая. Она обнимает его текучими струями, обвивает, точно прядями распущенных волос, и мягко влечет к берегу, на отмель.
Огонек впереди так и тлеет – не почудился.
Дежан отчаянно выгребает, одолевая реку наискось. Наконец плюхается животом на мокрый, сосущий песок отмели. Встает, шатаясь, выбрасывается на берег. Он обессилел. Он хватается за траву, он долго еще выкашливается, вылеживается, ждет, пока вернется дыхание.
Кругом разлита непроглядная тьма. Слабый огонек, мерцавший путеводной звездой, исчез. Канул во мраке.
Дежан поднимается на ноги. Шаг, другой. И вон он бредет, вытянув перед собой руки, как слепой. Один, в бескрайней ночи. На берегу никого нет.
Или… что там, впереди? Он снова видит огонек далекого, очень маленького костра. Улыбка озаряет лицо Дежана.
Он делает еще шаг навстречу свету и натыкается на копье.
– Мессен! – Молодой Фуа давится от смеха.
Раймон поднимает голову, отвечая улыбкой на улыбку. Огонек едва вьется у его ног, маленькое сердечко тепла.
– Мессен, мы поймали на берегу… голого!
И арагонцы предъявляют Дежана.
Тот и вправду в чем мать родила, глаза от стыда и ужаса зажмурены.
У костерка поднимается хохот. Дежан тоненько скулит сквозь стиснутые зубы. Его живот заметно вздрагивает.
– Бог мой! – говорит Раймон весело. – Да этот Монфор с моих тулузцев последние штаны снял!
Дежан приоткрывает одно веко – подглядеть – и вдруг видит перед собой Раймона.
Раймона, живого и невредимого, Раймона во плоти. В точности такого, каким бережно сберегался в памяти: задорного и в то же время как будто немного печального.
Выкатив глаза, Дежан испускает страшный рев.
– Мессен! – орет он, извиваясь и дергаясь в удерживающих руках арагонских солдат. – Граф!.. Господин!.. Слава Создателю!.. Раймон!.. Вы вернулись!..
Раймон, смеясь, поднимается ему навстречу.
– Оставьте его, – говорит он арагонцам. – Отпустите. Это Дежан.
Мокрый, голый, вспотевший, Дежан, тряся жирком, бросается к Раймону. Он валится в ноги своему графу, цепляется руками за его одежду, целует его колени.
– Господь услышал! Так долго!.. Мессен, это вы!.. Тулуза! Мы ждали… Скажите только слово…
– Дежан, друг мой, встаньте, – мягко произносит Раймон.
Дежан задирает голову, с обожанием глядит на графа.
– О мессен, скажите только слово, и все эти сраные франки… все они будут…
Молодой граф Фуа снимает с себя плащ, бережно кутает голые плечи Дежана. Гостя усаживают возле костра, рядом с Раймоном, подносят вина. Дежан заливается слезами и не может больше вымолвить ни слова.
И граф Раймон говорит – уверенно и звонко:
– Бог за нас! Я возьму Тулузу.
Ночью Раймон отходит подальше от берега Гаронны и скрывается в перелеске. Тулуза – вот она, протягивай руку и бери, да только как перебраться за реку? Пока Раймон Тулузский безмятежно шутит об этом с Дежаном, Рожьер де Коминж тихо переговаривается с молодым Фуа.
Оба моста через Гаронну надежно охраняются франками. Пройти в город по мостам – значит прорываться с боем.
– Брод, – говорит Рожьер. – Тот, у мельниц Базакля.
Молодому Фуа тоже не нравится мысль затевать с франками битву на узких мостах.
– Под носом у франков, брат? – спрашивает он Рожьера.
Тот пожимает плечами.
– Другого поблизости нет…
Перед самым рассветом армия Раймона отходит от Сен-Сиприена и продвигается вверх по течению Гаронны, все время оставаясь скрытой за деревьями.
Впереди слышен настойчивый шум воды. Еще немного – и покажутся мельницы.
Тулуза остается за спиной. Всадники один за другим выступают между стволов. Белые клубы тумана вьются под ногами лошадей, как призраки.
Река, мельница, кони – все тонет в густом тумане. Роща, покрытая золотой листвой, стоит странно безмолвная. Ни дуновения, ни шепотка. Все замерло в ожидании рассвета. Отяжелевшая от росы паутина, порванная, покинутая пауком, неподвижно свисает с ветки – будто никогда не касалось ее ничье дыхание. Влажные листья не шуршат под копытами.
Отряд передвигается в тумане, будто плывет, не касаясь земли. Дикая охота, шествие мертвецов.
У плотины передовые останавливаются, ждут отставших. На берегу туман плотнее, кони утопают по грудь.
Рожьер поворачивается в седле, машет рукой. Призрачные всадники один за другим начинают переходить реку. Волны тихо поплескивают под ногами лошадей. Внизу шумит падающая вода.
Идут без спешки, но и не мешкая. Солнце вот-вот поднимется над кронами деревьев и разгонит спасительный туман.
Отряд идет теперь по правому, «тулузскому», берегу Гаронны. Назад, к городу. К Саленским воротам.
В Нарбоннском замке тихо. Переправу не обнаружили.
Вырвавшись из ночного плена, солнце выходит в небо во всем своем жаре и великолепии и заливает оба берега Гаронны щедрым потоком золота. И в ответ ему благодарно вспыхивает на знамени Раймона золотой тулузский крест.
Пора!
Раймон взмахивает мечом и тотчас слышит за своей спиной громкий крик:
– Раймон! Раймон! Тулуза!
Сперва медленно, а после все быстрей несется конница к Саленским воротам – в город, будто на встречу с давно и нетерпеливо ожидающей невестой.
Тонкой, стремительной змейкой начинающегося пожара мчится по Тулузе весть. Раймон вернулся. Во главе большой армии он вошел в город через Саленские ворота. Он подошел со стороны Базакля. Он явился отомстить франкам за позор, за грабеж и унижения.
И город вспыхнул страхом и восторгом, будто подожженный сразу со всех сторон. Навстречу армии Раймона, к Саленским воротам, бегут люди.
– Раймон! Тулуза! Тулуза!..
На ступенях собора Сен-Сернен вьется безумец, живущий подаянием.
– Иисус Христос с нами! Услышал, услышал! Утренняя звезда с нами! Гром, гром! Скатилась с неба! Скатилась! Горит, горит! Ярко горит! Наш господин! Вернулся, вернулся! Иисус услышал! Звезда услышала! Раймон! Раймон! Раймон! Раймон!
И многие, шалея от радости, хватали ножи и колья и так выбегали на улицу.
Тулуза беснуется.
Мало кого удивило бы, вырастай по цветку везде, где ступала нога раймоновой лошади.
Горожане целуются на улицах. Падают на колени и прикладываются к мостовой, там, где прошли арагонские конники. Хохочут и обнимаются до хруста в костях. К Раймону тянутся трепещущие руки, норовят уцепить его стремя, коснуться одежды, сапог, бока его лошади – точно к святыне льнут.
А Раймон счастливо улыбается своей Тулузе.
И кипит вокруг восторг, как варево в котле.
Спесивец проталкивается сквозь толпу, врываясь на улицу перед графом Раймоном. Не глядя ни на арагонских солдат, ни на добровольцев из Фуа – прямо в лицо Раймону! – кричит Спесивец:
– Смотри, наш добрый господин!
В руках Спесивца бессильно обвисает франк – много таких убил нынче утром в Тулузе Спесивец. Одежда с пленного почти вся сорвана, тело покрыто кровью и синяками. Светлые волосы в грязи. А еще бы им не быть в грязи, если Спесивец франка, когда упал, по лицу ногами бил. Не человек уже – кусок мяса.
Франка рывком заставляют поднять голову. Из разорванного рта исходит розоватая пена.
– Смотри, наш добрый господин!
И – хвать франка ножом по горлу, а после скорей отбросить умирающее тело и самому отскочить, пока хлещет кровь.
Франк валится под ноги раймоновой лошади.
– Спасибо! – кричит Спесивцу Раймон.
Лошадь переступает через труп и несет Раймона дальше.
Раймон вернулся! Наш добрый граф вернулся! Раймон снова в Тулузе и теперь уже навсегда!
Со стены Нарбоннского замка смотрит дама Алиса на город Тулузу.
Залитая солнцем осени женщина в светлом платье, сама как осень – статная, под покрывалом толстые косы, закрученные вокруг ушей.
Ни ветерка, даже здесь, наверху. Спит на знамени вздыбленный лев.
А город там, внизу, кричит, проливает кровь и радуется.
Сенешаль Жервэ бледен. Он поднимается по лестнице и выныривает рядом с Алисой. Молча она протягивает ему руку, и сенешаль сжимает ее пальцы – будто мужчине. Алиса морщится: перстень больно уязвил кожу.
Но разговор начинает не об этом – сразу о главном.
– Я видела золотой крест на красном знамени.
– Это Раймон, – говорит Жервэ.
– Старый?
– Да.
– А Рамонет?
– Не знаю, – отвечает Жервэ. – Думаю, его здесь еще нет.
– Но будет, – говорит дама Алиса.
– Да, – соглашается сенешаль. – Рамонет придет.
Алиса замолкает, не сводя глаз с бушующего города. Сенешаль стоит рядом, рослый, широкоплечий. Ровесник ее старшего сына. И больше – никого: ни мужа, ни братьев, ни взрослых сыновей. Только дети: Робер, Филипп, Симон-последыш и девочки, девушки, невесты – Амисия, Лаура, Перронелла…
Алиса покусывает губу. Думает.
Сенешаль добавляет:
– Их больше двухсот, конные.
– Вы считали?
– Да.
– Больше двухсот, – повторяет Алиса. – И еще вся Тулуза…
– Не вся, – говорит вдруг сенешаль. – Смотрите!
В сторону Нарбоннского замка бегут люди. Они рассыпались по всему пустому полю между Саленскими воротами и стенами цитадели.
Сперва Жервэ кажется, будто тулузцы, рехнувшись от счастья, решили захватить замок голыми руками. Но спустя мгновение он убеждается в своей ошибке. Одни гонятся за другими. Тех, кого настигают, убивают на месте.
– Отправьте отряд, – говорит Алиса. – Отгоните эту сволочь, а беглецов впустите.
Она остается на стене – смотреть. Из ворот замка вылетает на поле десяток легких конников и мчится навстречу толпе. Как пастухи овец, отделяют они беглецов от преследователей, тесня тех лошадьми и устрашая длинными копьями.
Толпа, вооруженная больше собственной яростью, показывает спину. Несколько легких дротиков летят вслед, и трое из бегущих валятся лицом вниз, так и не добежав до Тулузы.
Спасенных – стадом в хлев – загоняют в ворота Нарбоннского замка. Решетка за их спиной поспешно опускается.
Господи, как мало отпущено времени!..
Сенешаль Жервэ хочет, чтобы дама Алиса с детьми покинула Тулузу как можно скорее.
Вместе с Раймоном явились эти клятвопреступники, Фуа и Коминж, которые в Монгренье давали Симону слово в течение года не поднимать на Монфора оружия.
По всему городу выслеживают, гонят и убивают франков. Франков и тех, кто водил с ними дружбу.
Соборы Сен-Сернен и Сен-Этьен полны людей, думающих найти спасение от смерти у алтаря. Те, кто оказался в эти часы в другой части города, бросились к Нарбоннскому замку.
Сенешаль Жервэ хочет, чтобы Алиса крепко подумала над этим.
Алиса слушает, сжимает тонкие губы в ниточку. Сейчас она становится неуловимо похожа на Симона.
Да, нельзя терять времени, пока из Тулузы еще можно выбраться.
– Гонцов! – говорит Алиса и хлопает решительно в ладони. – Немедленно – в Каркассон, в Крёст, в Тарб! Вызвать сюда моего мужа, деверя, сыновей.
– А вы, госпожа моя?
– Я остаюсь.
Сенешаль очень бледен.
Алиса сердито смотрит на него – что за промедление!.. На поясе у нее печать Симона, всадник с трубой.
– Госпожа моя, я боюсь…
…Амисия, Лаура, Перронелла, девочки, невесты. И мальчики – Робер, Филипп, Симон-последыш. И мятежный город за стеной…
– Я тоже боюсь, – отвечает Алиса. – Пошлите же за капелланом, быстрее!
Сенешаль так и делает. Пока ждут, чтобы продиктовать письма, сенешаль говорит Алисе:
– Нарбоннский замок может выдержать осаду. Но стены возле старой римской башни ненадежны.
– Им сейчас не до штурма, – отзывается Алиса. – Они грабят…
Сенешаль Жервэ смотрит ей в глаз и молчит. По его молчанию Алиса понимает: сенешаль не доверяет крепости.
– Неужели они могут взять Нарбоннский замок? – спрашивает Алиса. – Скажите искренне, мессир! Неужели Раймон в силах войти сюда? После всех мер, которые принял мой муж?
Жервэ говорит:
– Да, госпожа.
Алиса поднимает руку. Перстни на ее пальцах вспыхивают под солнцем.
– Перед лицом Господа Бога клянусь: ни я, ни мои дети, ни мои племянники – никто из нас не попадет в руки еретиков живыми. Если мы не дождемся помощи – умрем. Симон отомстит за нашу кровь.
Анисант ест и пьет. Он сидит на краю стола. То и дело коротко отбрехивается на расспросы о Тулузе. Да, там почти ничего не изменилось. Чудный город, приятно владеть такой землей. Красивых девушек прибавилось – пришли из соседних деревень и малых городов, прослышали, что скоро вернутся франки.
Во главе стола, далеко от Анисанта, по правую руку от хозяина, Адемара де Пуатье, восседает граф Симон. Дивится на Симона Анисант из Альби и не иссякает изумление. Куда исчезло симоново отчаяние? Где он его прячет? На обратном пути к Крёсту видел Анисант, что лицо Симона было в слезах. И давил Симон слезы кулаками. И уже на подходе к замку вдруг рассмеялся граф Симон и сказал Анисанту:
– А теперь улыбайся, Анисант, иначе я убью тебя.
И погнал коня галопом.
Он показал Адемару и своим рыцарям письмо Алисы, запечатанное печатью с изображением всадника. Он показал им посланца, дружески обняв того за плечи. Рану свою Анисант объяснил стычкой с грабителями. И улыбался – улыбался, как велел ему Симон.
Симон сказал Адемару и своим рыцарям, что настало время возвращаться в Тулузу. Вот и дама Алиса извещает о торжественной встрече, которую готовят в столице для франкского рыцарства. А те, кто пришел на подмогу из Иль-де-Франса, даже и не видели еще прекрасной Тулузы!
Стоя на столе, веселый и пьяный, кричал Симон:
– …наши дамы с белыми руками, с нежными губами!..
И смеялись и били в ладони франки.
– …наша новая столица, прекрасный город Тулуза!..
И кричали в ответ франки от радости.
– …довольно ратных трудов положено, довольно пота и крови пролито в пыль…
Кивали франки: да, довольно!
– И теперь мы заслужили отдых! – ревел Симон, багровый от натуги. – Мы победили!
И ревели неистово пьяные его соратники.
А Симон, уже спрыгивая, крикнул напоследок:
– В Тулузе нас ждут! Приготовлена встреча! В Тулузе…
И голос его оборвался.
Кругом пили и смеялись. И Симон, усевшись снова за стол, пил и смеялся вместе со всеми.
Ночь была на исходе, когда граф Симон вломился в покои, которые занимал кардинал Бертран.
От шума легат проснулся. Симон нависал над его кроватью, источая свирепый хмельной дух.
– Что вам нужно, мессир? – спросил легат резко. Между ним и Симоном так и не установилось приязни.
– Святой отец, – отозвался Симон тихо, – я лгал.
Легат молча уставился на Симона. Не настолько же пьян граф де Монфор, чтобы…
Симон сказал:
– Прочтите письмо дамы Алисы.
И сам запалил для легата лампу. Поднес ее к кровати и держал, пока кардинал разбирал послание. Легат прочел письмо два раза, не веря собственным глазам.
– Вам читали это? – спросил он.
– Да.
– Мятеж? – переспросил легат.
– Раймон отнял у меня Тулузу, – сказал Симон. – Моя жена, мои дети, племянник – все они заперты в Нарбоннском замке. Видит Бог, я…
– Зачем же вы не сказали рыцарям всей правды?
– Я не хочу, чтобы они оставили меня. Многие и без того недовольны долгой войной. Они нужны мне в Тулузе.
– Вы хотите…
– …подманить их как можно ближе к городу, чтобы отступать было уже некуда.
Повисло молчание. Лампа затрещала и потухла: в ней закончилось масло. В окне медленно светлело небо.
Наконец кардинал Бертран спросил:
– Кто еще знает правду?
– Посланец моей жены. Монах, который читал мне письмо. Я запугал его… Вы, святой отец. И я.
– Посланец? Этот, как его…
– Анисант из Альби.
– Да он ведь улыбался, кажется, и участвовал в вашем… веселом застолье.
– Я пригрозил ему смертью, если проболтается.
Легат пронзительно глянул Симону в глаза.
– Рана у него на руке – тоже след ваших угроз, мессир?
– Нет, но я бил его.
Кардинал Бертран проговорил, медленно осознавая случившееся:
– О Господи…
Симон встал на колени возле кровати, обратил к легату серое от усталости лицо.
– Столько пролито крови, столько положено трудов – скажите, святой отец, почему все мои усилия не благословляются Господом?
От Симона разило выпивкой и конским потом. Даже легату в нос шибало, хотя утонченным обонянием посланец папы не отличался.
И сказал Симону легат:
– Крепитесь, сын мой. Это испытание…
15. Предместье Сен-Сиприен
Алиса смотрела…
«Когда услышал Санаваллат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над Иудеями; и говорил при братьях своих и при Самарийских военных людях, и сказал: что делают эти жалкие Иудеи? неужели им это дозволят?.. неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные?..
Мы однако же строили стену, и сложена была вся стена до половины ее. И у народа доставало усердия работать…
Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одною рукою производили работу, а другою держали копье. Каждый из строивших препоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили…»
Тулуза мятежная, когда увидела, что жена грозного Монфора надежно заперта в Нарбоннском замке и никак не может воспрепятствовать, принялась возводить стены, разрушенные Симоном.
Строили у ворот Монтолье и у Саленских ворот, углубляли рвы и чистили старицу Гаронны выше по течению Нового моста.
Это было, может быть, лучшее время дамы Тулузы. Не стало различий между бедными и богатыми, простолюдинами и знатными, женщины трудились наравне с мужчинами, дети – со взрослыми. Лучшие люди города, берясь за тяжелые корзины с землей и камнями, не боялись оборвать кружева на одежде.
Для Тулузы наступило обетованное Царство Небесное, и не было там в те дни «ни Еллина, ни Иудея».
Корзины, нагруженные вынутой землей, передавались из рук в руки – будто летали по воздуху вдоль всего рва. Канавы прорезали почву, наполняясь мутной водой. Старица вновь ожила, а над нею вырос вал. На телегах, на плечах перетаскивали длинные жерди.
Днем и ночью стучали топоры. Для палисада острили тяжелые бревна.
Возвести настоящую каменную стену Тулуза не успевала, но деревянную подняла в короткий срок. Мощные бревна, заостренные вверху, были врыты в землю на треть и хорошо укреплены поперечинами.
Далеко видно в прозрачном осеннем воздухе. Далеко слышно, как днем и ночью поет и смеется Тулуза мятежная. И страха не было у нее в те дни; ради недолгого срока, проведенного в Царстве Небесном, стоило потом принимать и муки, и смерть.
И не знала Тулуза, сколько дней отпущено ей было такой жизни; знала только, что мало.
По истечении времени оказалось, что этих дней было всего девять.
На десятый день по возвращении Раймона прибыли под стены Тулузы одновременно оба Гюи – и дядя, и племянник, один из Каркассона, другой из Бигорры, и с каждым был небольшой отряд.
Завидев друг друга издали, приостановились, начали всматриваться. Сын Монфора первым разглядел, с кем столкнулся на узкой дороге посреди широкой равнины и с криком погнал коня навстречу родичу.
Обнялись от души. И сказал брат Симона:
– Не будем ждать. Давайте подъедем к городу ближе и нанесем внезапный удар там, где найдем брешь.
На это молодой граф Бигоррский ответил:
– Хорошо.
Свели два отряда в один и, не останавливаясь даже для краткого отдыха, понеслись в сторону Тулузы. Взволновали дорожную пыль, гром исторгли у пересохшей за лето земли. Остался позади Нарбоннский замок – головы не повернули взглянуть на него. Скорей, скорей, пока Тулуза в смятении, покуда растеряна она и не успела собраться с силами.
Прямо в брешь у Саленских ворот устремились они, туда, где еще не закончена была работа. Мимолетом подивился брат Симона тому, как много успела, оказывается, Тулуза – нежная, взбалмошная – за столь малый срок. Но не было у него времени дивиться долго.
У пролома остановил коня, руку с мечом вскинул и прокричал, выпевая слова, будто в рог затрубил:
– Бароны, франки! С коней!
И первым соскочил на землю, обращая себя в пехотинца.
Ярясь громким криком, бросились франки на город, оскальзываясь на насыпи свежих валов. Две женщины с корзиной, полной камней – вдвоем волокли, надрываясь, – полетели в ров; корзина, теряя камни, вслед за ними. У палисада зарубили нескольких горожан. Кто с топором был, кто с ножом – над бревнами клонились, тесали и острили. Теперь сами бревнами пали. Переступили через трупы и так ворвались в город, погнав перед собой перепуганных людей, какие на пути подвернулись.
Да, пообносилась дама Тулуза, пока пребывала в своем Небесном Царстве! Все люди в ней стали одинаковы, не разберешь, какого и звания. От тяжкой работы одинаково в грязи.
И кричали, убегая, тулузцы:
– Франки, франки!..
А франки настигали их и били в потные спины.
И по всей, казалось, Тулузе заревели боевые рога, гнусаво и грозно, – в точности такие, как у всадника на симоновой печати.
– Монфор! – кричал сын Симона, но рога заглушали его голос.
И гасконцы, что пришли вместе с ним на зов его матери, кричали тоже, повторяя непривычное еще губам имя своего нового графа:
– Монфор! Монфор!
И все глубже вгрызались они в тело Тулузы, беспощадно кромсая ее острыми мечами.
А в глубине Тулузы, в самом ее чреве, постепенно зарождался новый звук – гром копыт, в узких улицах оглушительный. И вот навстречу франкам выскакивает конница, надежда дамы Тулузы, ее спасение. И бьет каждого всадника по левому плечу, покуда не взят на локоть, треугольный тарж, и горят на нем золотые и красные полосы – Фуа. Опять осиное это гнездо разродилось злым роем.
Рассыпаются повсюду.
Гюи, брат Симона, уходит от удара, пропускает всадника мимо себя и в последний миг разит лошадь. А в Гюи уже летят арбалетные стрелы. И с крыш вдруг метнули камень, да только промахнулись – попали по издыхающему коню.
Гюи жмется к стене. Из соседней улицы тоже слышен гром копыт. Поверженный всадник перед Гюи беспомощно бьется под конской тушей. Гюи поглядывает на него, примеривается, как ловчее убить, покуда не выбрался. Но отовсюду несутся на него красно-золотые осы, и Тулуза полнится ликующим криком:
– Фуа! Фуа! Фуа!..
Бросив бой незавершенным, Гюи ныряет от них в узкий переулок, куда конному не пробраться.
А младший сын Симона неподалеку от своего дяди и крестного бьется со Спесивцем. Спесивец долговяз, одет бедно, вооружен крепко и старше он молодого бигоррского графа ровно в два раза. И не со Спесивцем бьется уже сын Симона, а с собственной смертью, ибо ранил его Спесивец, глубоко рассек ему кисть правой руки и вынудил переложить меч в левую. А левая для Гюи – совсем не то, что правая.
И кривил уже в усмешке курносое свое лицо Спесивец. Зарубил бы симонова сына, если бы не старший Гюи. Вовремя успел к своему крестнику и принял удар, тому назначенный. А после, пока Спесивец поворачивался, уязвил врага под подбородок.
Нехорошо засмеялись тогда оба Гюи де Монфора, племянник и дядя. Сегодня убили они Спесивца, который много крови Симону попортил в Тулузе. Прозвание свое получил он за заносчивый не по состоянию нрав и за вздернутый нос. Настоящее же его имя было Эмери из Эстретефонды.
И ревели в Тулузе трубы, сделанные из бычьих рогов. Однако иначе ревели они, чем в начале битвы. Отзывали франков из Тулузы, собирали их за стенами – отступление играли.
А Тулуза кричала:
– Фуа! Фуа!
Сжатые со всех сторон, вынуждены были франки пробиваться к юго-востоку и там, через ворота Монтолье, выбираться из города, как из западни. А земляной вал здесь выше и палисад крепче, и осмелевшие люди куда злее.
Последний взгляд на Тулузу, на собор Сен-Этьен, видный из-за вала, – и вот франки садятся на коней и гонят их к Нарбоннскому замку. Следом влечется обоз. Все устали – и конные, и пешие, и обслуга, и лошади.
В Тулузе оставили сегодня франки восемнадцать человек, из них четверо – рыцари.
Дама Алиса ничуть не опечалена поражением, хотя и сын ее, и деверь одинаково хмуры. И одинаково сдержанно целуют ее руки.
На левой, протянутой сыну, – красное пятно: закусила, когда увидела со стены долгожданную конницу. Ибо в тот миг боялась дама Алиса разрыдаться. Не хотелось ей выходить навстречу радости с заплаканным лицом.
И старший Гюи просит простить им неудачу.
Так говорит дама Алиса дорогим родичам своим:
– Не к лицу нам печаль, раз мы снова вместе. Мы будем ждать Симона.
А у сенешаля Жервэ будто тяжелый камень с плеч свалился.
Всю дорогу от Крёста гнал Симон немилосердно, но не забывал при том смеяться и шутить, чтобы ни у кого не возникло подозрений.
И веселились бывшие с Симоном рыцари, ибо умел граф Симон ввернуть такое забавное словцо, что не один день после вспоминалось. Как оживет в груди, иной раз совсем некстати, так и трясешься со смеху.
Спешку свою объяснял Симон нетерпением, а вечерами иного разговора и не вел, кроме как о женщинах. Да и что тут требовалось особенного объяснять? Кто не знает симонова обыкновения носиться из края в край, так что человеческому глазу и не уследить.
И зачем рассуждать лишнее, коли мятеж потушен и Рона перестала бурлить, а дамы, тоскуя, зовут назад, в Тулузу – насладиться отдыхом, пирами, охотой, объятием белых их рук?..
Анисант из Альби держался от Симона подальше и старался не попадаться ему на глаза. Тяжким комом сырой глины ворочалась у него в животе правда, не давала и губ в улыбке раздвинуть. Но Симона Анисант боялся и потому продолжал хранить мертвое молчание о том, что знал. Угрюмство свое перед другими отговаривал раной.
А Симон, стервец, нет-нет да поймает его глазами. Поймает и ухмыльнется. Но зря не мучил – с разговорами не подходил. Только раз, переходя неглубокую речку, оказались они с Анисантом рядом. И вдруг засмеялся Симон.
Не удержался тогда посланец Алисы.
– Дивлюсь на умелое лицемерие ваше, мессен.
– Дивись, – фыркнул Симон. – На меня многие дивятся, не ты один.
– Ведь на вас теперь никто и не смотрит, а вы все веселость из себя давите.
Симон искоса на Анисанта поглядел. Видел, что нешуточно зол на него этот рыцарь, и еще позлить его захотел.
– Да ведь мне и вправду смешно.
– Чему же вы веселитесь? – спросил Анисант.
– Уж ты-то, сотник, хорошо знаешь, чему. Скоро скажу им правду, то-то веселье настанет…
– Где?
– В Базьеже. Оттуда до Тулузы меньше двадцати верст.
Анисант угрюмо сказал:
– Разорвут они вас на части, мессен.
А Симон уперся кулаком о бедро и, открыв в улыбке широкие зубы, ответил:
– Вот уж нет, сотник. Поверь.
В Базьеже, оповещенный заранее вестником, ждал их брат Симона – Гюи. Стоял верховым, неподвижный. По левую руку от него – молодой бигоррский граф, за спиной – двадцать всадников с копьями.
Симоново войско остановилось. И выехал Симон вперед, навстречу брату и сыну. Сделал знак Амори и легату следовать за собой; прочим же показал оставаться пока на месте, чтобы не учинилось беспорядка.
На самом деле хотел положить расстояние между собой и обманутыми рыцарями, ибо была доля истины в том, что говорил Анисант.
Еще один человек присоединился к Симону, без спроса – Анисант из Альби. Из-за обмана смертным страхом боялся он оставаться один среди франков.
Отъехав на десять шагов, повернулся вдруг Симон лицом к своим рыцарям и проговорил громким голосом (а сам ладонью меча касается):
– Мессиры! Как придет время, судите меня таким судом, каким пожелаете, а сейчас узнайте: я вас обманул. Старый Раймон возвратился из Арагона и отнял у меня Тулузу. Я привел вас в бой.
Поначалу царило молчание. Ничем иным не могли ответить гордые бароны на такое признание. А Симон глядел на них, застыв в каменной ухмылке. Как, легки ли вам симоновы шутки и по спине ли их тяжесть?
И вот – взорвались.
Закричали все разом, к Симону хлынув и Симона обступив:
– Лжец!..
– Позор!..
– Как вы посмели!..
– Трус!
– Что? – спросил тут Симон.
Да не на труса напал. Прямо в лицо закричал Симону конник:
– Вы трус, мессир!
Видел Симон, что конник этот простого звания и родом не из Иль-де-Франса, а откуда-то из Прованса. И вынул меч из ножен, чтобы зарубить его перед всеми, ибо такие пожары лучше всего кровью гасить.
Но легат Бертран удержал Симона.
– Именем Господа нашего! – закричал кардинал. Рукавами взмахнул. – Во имя Иисуса Христа, замолчите же!
Симон на конника дерзкого холодно глядел, а конник глаз перед Симоном не опускал – злобой исходил и обидой. И все больше нравился он Симону, сам о том не подозревая.
А когда все смолкли, наконец, так сказал легат, Симона удивив безмерно:
– Это я присоветовал графу Симону утаить от вас правду, бывшую в письме дамы Алисы. Никто не знал о том, что произошло в Тулузе. Даже Амори де Монфор. Посланца Симон вынудил молчать. Все это было сделано по моему указанию. Это я обманул вас. Вот как рассуждал я тогда: пусть малый грех поможет одолеть грех великий. Малый грех – моя ложь; пусть ляжет мне на душу и отягчит ее невеликой тягостью. Великий же грех – ересь, которую мы пришли побороть…
После этих слов еще некоторое время кричали и беспокоились. Чутко выждав – ни больше ни меньше, чем следовало, – гаркнул Симон во всю глотку:
– Мессиры! Мой брат Гюи де Монфор говорит: возьмем Тулузу, пока она не оделась еще стенами и не ждет нападения.
Гюи подался вперед и заговорил. Его встретили внимательно, едва ли не с приязнью. Красивый голос Гюи хорошо был слышен по всему войску. И ветер помогал, подхватывая слова симонова брата: одно удовольствие носить такой голос, звучный, почти певческий.
Тулуза, говорил Гюи, город большой, многолюдный. И богата она, так что припасов там скопилось множество. А если иссякает хлеб или мясо, то всегда находит Тулуза дорогу к другим городам и деревням. И потому затевать осаду – верный способ нажить себе беды на десять лет.
Не лучше ли сразу, не дав себе даже роздыху, пойти на штурм, чтобы потом зато наслаждаться в Тулузе покоем, сколько пожелается?
– Я пытался взять ее, – сказал Гюи, – но не сумел, ибо был малочислен и слаб. У меня заготовлены лестницы и веревки для штурма, а теперь, когда вы здесь, мессиры, то появилась и сила.
Пока Гюи говорил, и бароны и рыцари слушали его, Симон, наклонившись, поцеловал легату руку и молвил тихо:
– Благодарю.
И сразу отвернулся, приняв высокомерный вид.
Вот кусачие веревки обвивают верхние колья палисада, и лестницы с треском падают на валы, выступая верхними концами выше заграждения. По всему периметру, от старицы Гаронны до собора Сен-Этьен, поднимаются и лезут по веревкам, лестницам, в бреши разъяренные франки. Многих еще гложет досада на Симона и спешат они сорвать зло на Тулузе.
Перебив всех, кто сторожил Саленские ворота, раскрыли путь конникам, и Симон во главе отряда ворвался на улицы, огласив их стуком копыт и ревом роговых труб. И гремело, отлетая от испуганных стен:
– Монфор! Монфор!
Но повсюду встречали франков арбалетчики и со всех сторон летели короткие тяжелые стрелы, пробивающие с такого близкого расстояния добрую кольчугу.
Рожьер де Коминж наказал не принимать с франками ближнего боя – издалека их убивать. Особенно же надлежало беречься Симона и его брата.
Из окон и с крыш на нападающих то и дело выворачивали корзину камней, благо этого добра в Тулузе заготовили много.
И, как и в прошлый раз, стали отходить франки, а бесславная смерть наступала им на пятки, обжигала затылок.
И видел сын Симона, меньшой Гюи, как родич его, Рожьер, закладывает стрелу и поднимает арбалет. Едва успел метнуться к стене, до последнего мига не верил. А зря не верил! Не пугать – убивать его взялся Рожьер.
Скривил губы брат Петрониллы и послал мужу сестры проклятие. И безмолвно поклялся сам себе молодой граф де Коминж: настанет день, когда этот Гюи будет лежать мертвым у его ног, и тогда смоется обида, нанесенная глупой Петронилле.
Под градом камней и стрел выбирался Симон из Тулузы. В сумятице сразу потерял из виду и брата, и обоих сыновей. Бился молча. И те, кто узнавал графа Симона, избегали его.
Меч у Симона длиннее и тоньше, чем большинству привычно. В ширину не более трех женских пальцев; острие имеет заточенное. Такой меч требует особого искусства им владеть, а при надлежащем умении пробивает кольчугу, разит наверняка и насмерть. И потому мало находилось охотников схватиться с Симоном.
И повсюду были в Тулузе засады и ловушки.
Большой камень ударил Симона в грудь, так что там, внутри, что-то звучно хрустнуло, пресекая дыхание. Симон потерял воздух, а второй камень оглушил его по голове. Пал Симон на шею лошади, и вынесла его лошадь из кричащего, разящего, стреляющего города – чудом не погубил себя Монфор.
А когда Симон открыл глаза, то увидел тусклое, вечереющее тулузское небо. Поблизости мирно переругивались на наречии Иль-де-Франса. Повернув голову и морщась от боли, Симон разглядел шевелящийся под ветерком бок шатра. Потом шатер натянули потуже, и он замер.
– Брат, – позвал Симона знакомый голос.
Симон осторожно перекатил голову в другую сторону. Зажмурился от боли. Немо шевельнул губами – голоса, оказывается, не было.
Гюи наклонился к старшему брату, подставил ухо его бессильным губам.
Симон прошептал:
– Где Амори?
– Цел, – ответил Гюи.
Разом расслабив лицо, Симон мгновенно заснул.
Наследием прошлых времен, когда мир был менее многолюден, а память о Христе куда более свежей, осталась в Нарбоннском замке римская башня, сложенная крупным серым камнем, прямоугольная, почти без всяких украшений, если не считать осыпавшегося барельефа над входом.
Она стояла так, что слепящее солнце проникало в ее широкие окна только к вечеру. За то и любил ее Симон, хотя зимой жить там было холодно.
Едва оправившись от неудачной атаки, собрал Симон в римской башне своих баронов и старших сыновей. Многие еще не остыли от обиды. Особенно негодовали те, в отношении кого симонова недоверчивость была оправдана.
Но вскоре разногласия позабылись. Всех увлекла трудная задача: взять город.
А Тулуза, дразнясь, лежала перед ними, хорошо видная в окна. Полукруг с почти ровными краями, отсеченный от левого берега Гаронны, будто ножом, гладью реки. Два моста притягивают берег к берегу, длинные, деревянные, с острой кровлей, густо крытой соломой.
На левом берегу липнет к Гаронне предместье Сен-Сиприен, обсевшее небольшую церковь святого Киприана. В это предместье сбросила дама Тулуза все то, что немило ей в нарядных, богатых кварталах: таможню и склады, Гасконский порт, госпиталь святой Марии – печальный приют для дряхлых стариков и порченых женщин.
Сердясь, смотрели на Тулузу франкские бароны. Слишком близко видели они ее.
Первым заговорил, противу ожиданий, не Симон, а кардинал Бертран. Нарочно не замечая неприязненных взглядов (а этим добром его со всех сторон одаряли щедро), поведал, что готовит и вскоре разошлет письма ко всем католическим государям и самым знатным лицам из тех, кто не носит короны. И так узнают они обо всем, что происходит в Лангедоке. Легат же будет просить их прислать сюда больше рыцарей и пеших воинов в помощь Монфору. И все посильно примут участие в крестовом походе против катарской ереси, плачевно изъязвившей эту землю.
А когда падет Тулуза, надлежит графу Симону истребить в ней всех мужчин, кто только не погибнет раньше от меча, а женщин и детей разослать по монастырям.
И многие внимали легату жадно, как будто он давал им напиться воды.
Епископ Фалькон дождался, пока кардинал Бертран замолчит, и проговорил тихо:
– Граф Симон, граф Симон, вы получите помощь от всего католического мира и возьмете Тулузу, как брали прежде другие города. Но пощадите побежденных, как вам уже случалось делать. Я знаю этот город, Тулузу, я знаю ее людей. Они еще хорошо послужат вам.
Легат перебил Фалькона:
– А, мессир граф, не слушайте его. Своим словом я отдаю вам жизни этих еретиков и пособников ереси, значит, вы можете казнить их всех, и Господь не станет с вас спрашивать. Он не спросит: Симон, где Тулуза? Он не будет мстить вам за эту кровь и не потребует отчета.
Фалькон пробормотал, пробуя на вкус эти слова: «Симон, где Тулуза?..»
Граф Симон вздохнул, будто ото сна очнулся. Заговорил резко и громко:
– Бароны! Пока письма кардинала Бертрана не прочитаны теми, кому они назначаются, мы располагаем только своими силами. На это и нужно рассчитывать. Вы видели Тулузу, мессиры, вы пробовали ее на зуб. Это большой город. Она выдержит любую осаду, пока к ней идет продовольствие из Испании, Гаскони… Бигорры.
При последнем слове Симон встретился глазами со своим сыном Гюи. Гюи прикусил губу, но глаз не отвел.
Симон хлопнул ладонью по колену.
– Суть. Тулузу необходимо отсечь от ее кормушки. А засыпают ей в корыто через левый берег, через Гасконский порт.
И махнул рукой в сторону Сен-Сиприена.
– Уничтожить мосты, – тотчас предложил один из баронов.
– И раскопать брод у мельниц Базакля, – подхватил Симон. – Поздравляю, мессир, удачная мысль.
Спорили долго, брызгали ядом. Фуко де Берзи предложил не мудрить – выстроить на левом берегу крепость и таким образом взять предместье в свои руки.
– Хорошо бы, но не успеем, – сказал Симон с сожалением. – На это сил у нас нет. Придется нам просто занять Сен-Сиприен, а там будь что будет.
И снова бросил взгляд в окно, на предместье. Он поймал себя на мысли, что с некоторых пор присматривается к этому городу так, будто выискивает в Тулузе то место, которое станет ему смертным одром.
Заключил:
– Я пойду первым. Я хочу, чтобы все вы шли со мной.
Брат Симона протянул ему руку, а за ним – и остальные. Своему сыну Гюи сжал Симон пальцы чуть сильнее, чем прочим, словно прощения просил за ту несправедливость.
Сенешалю Жервэ сказал Симон с благодарностью:
– Я прошу вас, мессир, оставаться в Нарбоннском замке и беречь его так же хорошо, как вы делали это и прежде. Думается мне, проклятые еретики воспользуются нашим отсутствием, пока мы будем заняты в Сен-Сиприене.
И еще сказал Симон, прежде чем все разошлись:
– Мы сделаем так, что с левого берега в Тулузу будет проникать только ветер.
Широкие плоскодонные корабли с низкими бортами, на каких по реке перевозят зерно, выстроились у правого берега Гаронны почти вплотную друг к другу, покрывая спокойные воды почти сплошным настилом. Но стоит ступить на них, как тотчас же нетвердая эта опора начинает покачиваться под ногами, смущая: никакой рыцарь не любит воды и кораблей.
На суда заводят лошадей, переходят сами – в доспехах, с мечами и копьями. Покрикивая, загоняют овец. В больших клетках галдит и трепыхается птица. Все это свежее мясо для монфорова воинства.
Пешие, вооруженные ножами и пиками, несут свернутые и перетянутые кожаными ремнями шатры. В мешках хлеба на несколько дней.
Стоит невообразимый шум. Животные кричат, каждое на свой лад, а люди – всяк по-своему – бранятся между собою.
Грузятся у Мюрэ, в пятнадцати верстах выше по течению от Тулузы. Досюда, по крайней мере, не долетают камни из тулузских катапульт.
И вот баржи, тесно трущиеся борт о борт, постепенно начинают отходить от берега. Большой квадратный парус опущен, лежит, свернутый, под ногами. Бестолковые рыцари все время наступают на него.
Отталкиваясь длинными шестами, корабельщики медленно выводят неповоротливую баржу на середину реки. За первой следует вторая, третья. Всего их пять; больше не нашли.
Разгрузка идет так же шумно и долго. Животные пугаются, хотя баржи подошли почти вплотную к берегу. Полоска воды, которую надо преодолеть, устрашает.
С треском падают утлые сходни. Некоторые сержанты спрыгивают, минуя сходни, прямо в воду – но только конные. Стоит октябрь, вода в Гаронне уже холодная.
Наконец, разобрали весь груз, собрали обоз.
Симон – поверх доспеха плащ со львом – возглавляет отряд. Конь под Симоном высокий, широкогрудый, сильный. Несет на себе и тяжелого всадника, и свой собственный доспех.
Выступают, не дожидаясь обоза, – догонит.
До предместья Сен-Сиприен добрались скоро и заняли его без лишних хлопот. Из Тулузы, конечно, видели, да только поделать ничего не могли.
Симон велел устраивать лагерь вокруг Гасконского порта, а вместо укреплений приспособить таможню, оба госпиталя и склады. Мог бы и не объяснять: с ним были рыцари, которые понимали все это не хуже Симона.
Пока подходил обоз, пока ставили шатры, пока перегораживали проходы между складами, младший сын графа, Гюи, забрел в приют для убогих, сочтя его пригодным для жилья.
Вошел – темноволосый, высокий, в длинной, ниже колен, кольчуге. Остановился в маленьком дворе, где над густыми грядками приподнимался деревянный колодезный сруб. Грядки потрогал – трава, вроде сорной. Может, целебная. На вкус гадкая.
Огляделся.
За галереей, какие обычно устраивают в монастырях, крепкие кирпичные стены и, вроде бы, кельи. Вот эти-то кельи и думал занять Гюи для своего бигоррского отряда. Монастырь удобно оборонять, если придется.
Шагнул к галерее. А там, снятые со стен, стояли в ряд водостоки, какие обычно лепят под крышу большого собора, чтобы дождевая вода ловчее извергалась и не размывала стен.
Были они сделаны из камня в виде дразнящихся уродов и воющих собак. Прежде нависали над головами, выблевывая потоки, теперь же словно сидели на задних лапах, запрокинув голову с разверстой пастью.
И показались они забавными симонову сыну. Больно уж старательно задирали морды, больно уж потешно выли. Разглядывал их Гюи, посмеиваясь, пока вдруг одна из фигур не шевельнулась.
Гюи замер, оружие тронув. А уродина повернула голову и беззубой пастью на Гюи надвинулась.
Гюи мысленно призвал имя Господне, но уродина не каменела. Напротив. Встряхнулась, как из воды выбралась, поднялась и вприскок побежала к молодому бигоррскому графу. Обнюхала его, горбясь. Гюи от ужаса сомлел. А уродина головой трясла, лохмотьями мотала и бормотала что-то.
И тут Гюи разглядел, что напугала его безумная старуха, видимо, здесь живущая. Разом отпустил страх, пришли стыд и злоба. Пнул уродину ногой, чтоб убиралась. Несильно пнул, только чтоб отогнать.
Она хихикнула, между грядок пробежала, петляя и не помяв ни одной, и уселась на краю колодезного сруба.
Гюи хотел было повернуться и уйти из поганого места, как старуха завопила ему в спину, шамкая, но вполне внятно:
– Я тебя знаю! Я тебя знаю! Сын Монфора!
Гюи остановился. Его редко угадывали. Амори, старший брат, – тот действительно походил на отца. Иным, кто знавал Симона в молодости, жутко делалось. Словно годы вспять повернули. Прежде, особенно в детстве, Гюи мучился завистью к брату; после же как-то забыл об этом.
А безумная затряслась от смеха, скаля голые десны.
– А, страшно? Бойся, бойся! Сын Монфора! Сын, а не Монфор! И не будешь!..
Разинув рот, Гюи глазел, как она копошится и возится на срубе. Вот забормотала опять себе под нос невнятное, вроде бы запела, а после вдруг заверещала:
– Ай, ай! Сын Монфора! Где похоронить?.. Где могила?..
Принялась сдвигать крышку, которой был накрыт колодец, лихорадочно цепляя пальцами тяжелое дерево. Крышка не поддавалась.
Визжа, старуха спрыгнула и посеменила обратно в галерею к каменным фигурам, но по дороге наткнулась на неподвижно стоящего Гюи. Влетела головой ему прямо в колени.
Он с отвращением увидел, как сквозь редкие свалявшиеся волосы просвечивает серая кожа головы. Отшвырнул старуху от себя.
Она повалилась на грядку и забилась и заверещала – все тоньше и тоньше. Изо рта у нее потекли слюни.
– Замолчи! – крикнул Гюи и выхватил меч.
Старуха заметила оружие. Быстро оборотилась на четвереньки и поскакала на галерею. Там спряталась за спину воющей собаки с четырьмя торчащими из пасти клыками и захныкала.
Растерянный, Гюи так и остался стоять с обнаженным мечом посреди двора.
Во двор заглянул один из гасконцев.
– А, вот вы где, мессен, – молвил он, завидев Гюи. – Как, хорошее здесь место?
– Нет, – ответил Гюи, вкладывая меч в ножны. – Поставим палатки у таможенных складов. Там надежней.
И не оглядываясь вышел вон.
Вечер наступил ясный и холодный. Симон стоял на берегу, один. Гаронна струилась тихая, почти безмолвная, залитая окровавленным закатным золотом, будто на дне ее таились сокровища Нибелунгов. Впереди, хорошо освещенная, лежала Тулуза. Соборы, дома, башни, недостроенные деревянные укрепления над старицей Гаронны – всё это вылепливалось вечерним солнцем так объемно и густо, что, казалось, – протяни руку и коснешься.
Завороженный, Симон не двигался. В этот час Тулуза открывала взору всю свою красоту, не стыдясь и не насмехаясь. Она будто говорила: «Вот я», утверждая свое присутствие на земле.
И Симон видел ее узкие, полные эха, улицы, щедрые площади, монастыри, богатые кирпичные дома, которые из-за снесенных по его, Симона, приказу башен кажутся обезглавленными. Он видел ее всю.
Она была прекрасна.
И эту прекрасную даму граф Симон намеревался уморить голодом и утопить в крови.
Ночью, ближе к рассвету, в самые холодные часы, по лагерю франков ударили одновременно с двух сторон: из предместья и с берега. На обоих мостах были сметены симоновы кордоны и перебита стража.
Пока на берегу шел бой, в лагерь ворвались жители Сен-Сиприена. Они сломали заставу между двух складов и рассыпались среди палаток.
Поначалу им, кажется, всё удавалось. Вооруженные дубинами и кольями, горожане схватились с франками, пока те были полуодеты, пеши и почти безоружны.
Но вот один за другим начали выходить на них закованные в броню рыцари. Мало кто из нападавших остался после этого цел, а большинство полегли.
Пока франки были заняты сумятицей в своем лагере, по мостам на левый берег переправилось немало воинов, и впереди арагонских и наваррских рыцарей – братья Петрониллы, Рожьер де Коминж и молодой Фуа.
Рожьер сосредоточен и хмур; в руке меч, за спиной арбалет. Ворвался на коне в башню, охранявшую подступы к мосту на левом берегу, но не увидел там никого живых. Прошел ее насквозь, как ворота, и ступил на берег, а там погнал коня вверх, к монфорову лагерю.
Горели уже шатры франков, и метались по высоким стенам госпиталя черные тени, будто темные великаны. Чтобы лучше было видно, молодой Фуа велел запалить склады. Пламя ревело кругом, озаряя поле битвы.
Из самого, казалось, пекла вылетели арагонцы и впереди всех, с гербом Фуа на щите, молодой граф, такой же рыжий и яростный, как его отец.
Сошлись, позабыв о пеших, конные с конными, со всех сторон окруженные огнем.
Пешие спасали свою жизнь, ища укрытия.
Рожьер снял с плеча арбалет. Как и все, он хорошо различал Симона. Гордец Симон не поленился надеть свой плащ, и золотой лев метался по его груди и спине: я здесь!
Рожьер пустил стрелу, но в суматохе промахнулся. Симон приметил арбалетчика и двинулся к нему, задерживаясь для кратких поединков по дороге. Но Рожьер, как и в прошлый раз, не принял боя с Монфором и отошел прежде, чем Симон успел приблизиться.
Постепенно светало. Когда солнце приподнялось над горизонтом, стало ясно, что франкам придется отступать. Они постепенно начали отходить по левому берегу в сторону Базакля, где был брод. Арагонцы теснили их и гнали. Теперь, когда настало утро, Симон, наконец, увидел, что франков вдвое меньше, чем их врагов.
Вот уже слышен шум воды на перекате и на противоположном берегу Гаронны хорошо видны мельницы. У мельниц ждет, не скрываясь, большой отряд копейщиков. Да кто же вам, мессен де Монфор, позволит здесь переправиться!
За спиной у Симона кричали:
– Наварра! Наварра!
Франки отходили к Мюрэ.
Баржи по-прежнему покачивались у левого берега.
Наваррцы достигли причала почти одновременно с франками. У самого уреза воды снова закипел бой.
В сумятице, теряя одного человека за другим, франки спешно грузились на баржи. Они торопились отплыть.
Симон с небольшим отрядом повернулся к наваррцам лицом и с того мгновения ничего больше не видел и не слышал.
Не видел он, как легкая конница бросается вплавь через реку и как многие тонут, не добравшись до середины потока.
Как стрелы находят одну цель за другой.
Как по сходням и прямо из воды лезут на баржи спешенные франки.
Как затаскивают раненых, орущих от боли.
Как бесятся и ржут испуганные кони, норовя цапнуть зазевавшегося.
Роняя в воду сходни, рывком отходит от берега первая баржа. Франки берегут щитами корабельщика с багром и шестом, чтобы того не поразила стрела.
За первой баржей, неловко кренясь, отходит вторая.
Симон продолжает биться, не подпуская к переправе наваррскую конницу. Справа и слева от Симона погибают франки, но он и этого почти не замечает. Он сражается, будто погрузившись в смертельно опасный, одному ему внятный сон.
А баржи одна за другой выплывают на стремнину, и река относит их вниз по течению, к знакомой корабельщикам отмели, от которой начинается удобный путь на правый берег.
И вот остается последняя баржа. Сходни уже втянули. Франки из симонова отряда, бросив бой, скачут к воде.
Симон остается один, последний. И последним отворачивает от врагов своего тяжелого, закованного в броню коня и гонит его прочь.
Багры уже впились в берег, медленно отводя неповоротливую посудину на глубокую воду. Не останавливаясь, Симон бьет коня шпорами. Конь взвивается и прыгает – огромный, как слон, с тяжелым всадником на спине.
Царапнув низкий борт и разбив доску обшивки, передние копыта срываются. С оглушительным плеском, подняв огромный водопад сверкающих брызг, Симон уходит под воду.
Вся Гаронна, казалось, взорвалась в тот миг криком.
Орали арагонцы – несколько лет назад они потеряли под Мюрэ своего короля и рвались отомстить за это Симону.
Вопили наваррцы.
Ликовали тулузцы.
Смеялись братья Петрониллы – оба потные, окровавленные, в пыли и копоти.
А на баржах молчали, онемев от ужаса.
На несколько мгновений мир остался без Симона де Монфора, и вдруг стало ясно, как много места занимал этот человек.
Затем почти все на последней барже разом кинулись к тому борту, где сгинул Симон. Баржа опасно накренилась. С проклятиями корабельщики принялись отгонять рыцарей, чтобы те не опрокинули судно. Наконец у борта остались всего несколько человек и среди них – тот злющий копейщик, который у Базьежа не побоялся обвинить Симона в трусости.
Сейчас он свесился за борт, высматривая что-то в воде. Ему показалось…
Корабельщики налегли на шесты.
Солдат поднял голову и заорал на провансальском наречии:
– Мать вашу, стойте!..
– Нас тут перестреляют! – крикнули ему в ответ. – Утопят вместе с твоим Монфором!
И снова оттолкнулись шестами. Баржа шевельнулась и пошла.
Солдат вскочил, сбив корабельщика с ног, и выхватил у него багор. Замахнулся на лежащего, чтоб не помешал, и опять навис над бортом.
Что-то темное медленно копошилось в глубине. Солдат подцепил багром и…
Темное пошло наверх удивительно легко. Всплеск – и показалось запрокинутое лицо с раскрытыми глазами, по которым текла вода.
Солдат бросил багор под ноги и подхватил Симона за подмышки. Полуобернувшись, крикнул:
– Да помогите же!..
Едва Симон поднялся из воды, как тотчас же стал очень тяжелым. Его с трудом втащили на баржу и брякнули.
Симону удалось высвободиться из стремян. Конь пошел ко дну, увлекаемый доспехом.
Несколько стрел вонзились в борт баржи.
– Берегите корабельщиков! – закричал кто-то из франков. – Отходите же! Отходите!..
Баржа вышла на стремнину.
Солдат ловко разрезал ножом ремни на симоновом доспехе, содрал и отбросил кирасу, перевернул графа вниз лицом и выдавил из него воду.
Симон ожил: начал кашлять и плеваться. Солдат засмеялся, упираясь локтями в широкую графскую спину. Симон выругался и велел отпустить.
Солдат снял локти, помог Симону сесть. Симон обтер лицо ладонями и тут только увидел, кто вытащил его из воды.
– Чума на тебя, дерзец, – сказал граф Монфор. – Как тебя зовут?
– Альом из Фанжу.
Симон глядел на этого Альома, усмехаясь, и лязгал зубами от холода. Потом сказал:
– Что стоишь? Сними с меня кольчугу.
Баржа ткнулась в берег. К ней уже бежал симонов брат Гюи. Симон трясся, не в силах унять дрожь, в одной рубахе, насквозь мокрой.
– А, брат, – молвил он, завидев Гюи, – скучали вы без меня?
И потянул рубаху через голову, представ перед воинством совершенно голым.
У кого-то, как это обыкновенно водится, сыскалась фляга с вином. Вынырнув из рубахи, Симон выпил, обтер губы и после этого позволил брату закутать себя в теплый плащ.
Альом из Фанжу поглядывал на него издалека. Но Симон еще не успел его забыть – подозвал, кивнув через плечо.
– Останься со мной, – велел он. И добавил с непонятной ухмылкой: – А то мне без тебя страшно.
И снова Симон в Нарбоннском замке и с ним его бароны и его родичи, все злые. Симон, после падения в октябрьскую Гаронну осипший, кашляет через слово, он грозит и обещает.
Новости неутешительны.
– Граф Фуа стал таким храбрым, потому что получил большое подкрепление.
– От кого? – хрипит Симон.
– Пришел Рыжий Кочет и с ним бешеные наваррцы. Без них ни Рожьер, ни молодой Фуа не посмели бы напасть на Сен-Сиприен.
– Клятвопреступники, – с отвращением говорит Симон визгливым шепотом.
– Бог покарает их, – спокойно и уверенно отзывается епископ Фалькон. – Кардинал Бертран разослал свои письма и готовит церковное отлучение Тулузы. Никому не под силу бороться с Господом, хотя, по человечьим меркам, возмездие может запоздать.
У Симона жар, он с трудом сидит на неудобном кресле без спинки. Но – сидит. И так же прямо, как всегда.
Он смотрит в окно, на дерзкую Тулузу, словно умытую ясным осенним ветром, и клянется сиплым голосом, то и дело срываясь на рычащий хрип:
– Через пять дней я встану на ноги, и мы попробуем еще раз.
Он заходится кашлем и запивает свою слабость вином. И добавляет, почти совсем неслышно:
– Не может быть, чтобы счастье оставило меня навсегда.
Не теряя времени, Тулуза продолжала наращивать стены, укреплять земляные валы деревянной обшивкой и палисадом. Рвы перед валами становились все глубже. Кое-где натыкали заостренных кольев. Работали под прикрытием катапульт, смеясь над бессилием франков помешать.
Перед воротами Монтолье за то короткое время, что Симон был болен, воздвигли дополнительный земляной вал и назвали его, как и в Бокере, Редорт. То ли по лености сочинять новое имя, то ли в намек и напоминание. Под защитой этого Редорта заделывали бреши у самих ворот.
В те же дни выкатили большую катапульту к другим воротам – Саленским. Начали обстреливать Нарбоннский замок.
Поначалу, казалось, ничего страшного, мушиные укусы. Но вот со стороны римской башни, где были самые старые стены, вдруг осыпалось несколько камней.
Холодным рассветом – октябрь уже заканчивался – Симон неожиданно напал на Саленские ворота. С ним был небольшой отряд. Франки успели поджечь катапульту и перебить прислугу.
В Саленских воротах начался бой.
Горожане, хорошо обученные Рожьером, встретили конницу длинными кольями. С деревянной башни, выстроенной слева от ворот, полетели стрелы. Рядом с Симоном охнул и упал Альом из Фанжу – недолго прослужил своему графу. Симон едва заметил это, прорубаясь в город.
Настоящий удар по Тулузе был нацелен в другом месте – у ворот Монтолье. Эту атаку возглавлял брат Симона и с ним Амори де Монфор.
Пока тулузцы отражали старого льва, молодой смял Редорт и погнал горожан к стенам. Убегая, те падали в глубокие рвы, напарывались на колья, стерегущие франков, тонули в холодной воде.
Амори первым ворвался в Тулузу. Младший отцов брат остался прикрывать ему спину.
Захватить Тулузу, Господи!.. Сказать: вот вам Тулуза, отец!..
С криком Амори гнал горожан по улицам. Симон дал ему две сотни конников, и сейчас они, будто косари в страду, снимали в городе обильную жатву.
И кричала дама Тулуза, обезумев от ужаса:
– Святая Мария, спаси!..
А с левого берега, со стороны предместья Сен-Сиприен, молча смотрел на Тулузу обугленный госпиталь святой Марии, и выли каменные псы, и дразнились каменные уроды.
– Наварра! Наварра!
От квартала Сен-Сернен, лавиной, несется наваррская конница.
Сошлись недалеко от монастыря святого Романа, на площади – вот где есть место развернуться!
Амори бьется, забыв себя. Амори хочет взять для своего отца Тулузу.
И бок о бок с Амори его дядя Гюи, молчаливый, надежный. Когда рядом Гюи де Монфор – будто каменная стена прикрывает спину.
И вдруг рушится эта стена, и сквозняк идет у Амори между лопаток.
Откинувшись на спину лошади, Гюи лежит неподвижно. Он чуть сполз влево, но высокое седло и стремена не дают ему упасть.
Амори не может сейчас прийти ему на помощь, на Амори наседают сразу двое. Но отец недаром потратил столько времени на старшего сына и дал ему такой же меч, какой носил сам. Амори отобьется от двоих.
И потом, отбившись, уходя все дальше и дальше в глубины улиц, он уведет второго коня, и Гюи де Монфор все больше и больше будет клониться вбок, так что в конце концов Амори вынужден будет остановиться и подхватить его. И тут он увидит, что в горле Гюи сидит короткая арбалетная стрела…
По всей Тулузе франки снова сражаются за свою жизнь. И снова они отступают. Кажется, никогда не иссякнет Фуа, осиное гнездо под стрехой неба. И выдавил Рыжий Кочет Монфора из узких улиц Тулузы.
Со стен Нарбоннского замка бросает камни катапульта. Едва только отступающие франки миновали поле перед воротами Монтолье, как сенешаль Жервэ велел начать обстрел. Он не позволит преследователям выйти из города и продолжить погоню.
Едва добравшись под стены Нарбоннского замка, слепой от слез, Амори снимает своего дядю с коня. Тот тяжелый, будто куль с песком. Еще теплый.
Гюи обвисает на руках племянника. Амори опускает его на землю, рвет застежку под горлом, касается ямки, где должна биться жизнь. Но Гюи неудержимо стынет под руками, и жилка не шевелится.
Вокруг франки, их много, но Амори никому не позволяет подходить близко, Амори рычит и плачет. Кто-то подает ему кинжал с широким клинком. Амори подносит кинжал к губам симонова брата, но лезвие остается незамутненным.
– Какой меткий выстрел, – восхищенно говорит один из франкских рыцарей.
– Господи, – стонет Амори, пав убитому на грудь, – как я скажу об этом моему отцу?..
Симон вырвался из Тулузы одним из последних. Злой, покрытый ратным потом, на ходу сорвал шлем, швырнул его на руки младшему сыну, забыв, что тот сделался бигоррским графом и с тех пор перестал быть его оруженосцем.
В замке уже ждут.
Расступаются, дают дорогу.
Молчат.
Сразу заподозрив неладное, Симон глядит вправо, влево. Амори здесь. Бледный, уставший, но здесь.
И, наконец, Симон видит.
С птичьим криком падает на землю возле брата. Хватает за руку, ощупывает лицо, горло привычным, почти лекарским движением.
Склонившись низко, говорит мертвому на ухо неслышное. Поднимает его на руки – легко, будто ребенка.
На пути у Симона вдруг оказывается епископ Фалькон, бесшумный, светлый, как сова.
Симон рычит в тихое лицо епископа:
– Что?..
Фалькон показывает на часовню.
– Сюда.
И Симон уносит брата в часовню. Стрела в горле Гюи высовывается у Симона из-за плеча.
Одетый в то самое нарядное платье, в каком входил в донжон Нарбоннского замка с радостной вестью из Рима, лежит Гюи де Монфор в часовне. Здесь не вздохнуть от множества горящих свечей. Весь пол залит воском. Из маленького круглого оконца под крышей и через открытую дверь проникает немного света.
Симон на коленях в изножье смертного ложа. Никто не смеет к нему приблизиться.
У Симона сухие глаза. Симон – калека. Будто ему отсекли половину тела. Душа трещит, сейчас разлетится кровавыми клочьями.
Кто-то неслышно входит в часовню и осторожно, чтобы не потревожить, опускается на колени за спиной у Симона.
Не оборачиваясь, с ненавистью, спрашивает Симон:
– Кто здесь?
– Я, – тихо отзывается молодой голос, – Гюи.
Вот тут-то Симон и вздрагивает – всем телом.
Поворачивается. Протягивает руки. Крепко ухватывает за плечи младшего сына. Рывком притягивает к себе.
У Гюи печальное, немного виноватое лицо.
Несколько мгновений Симон жадно вглядывается в его черты и вдруг сильно прижимает к себе.
И младший сын слышит, как отец плачет – захлебываясь, навзрыд.
16. Великая осада
Вместе с первым снегом прибыл в Тарб молодой граф Бигоррский. С Петрониллой встретился холоднее, чем расставался. Будто прогневала его чем-то, покуда не виделись, а чем – неведомо.
Потчевать свою светлость велел. Угощался долго и обильно. Все, кто были за столом, уж притомились жевать и откусывать, а сын Монфора ел себе да ел. Только не в коня корм: Гюи всегда много ел, но всё оставался таким же тощим.
Молчаливым он и прежде был, а вот лицо у него сделалось какое-то иное, почти незнакомое. Таким не помнит его Петронилла – суровым, мрачноватым. Будто пламенем его опалило.
Поглядывала Петронилла на юного своего супруга, гадая: что такого могло с ним случиться за время их разлуки?
А ничего особенного с ее мужем не случилось. Просто Рожьер, брат графини, убил Гюи де Монфора. И сразу сделалась монфорову сыну противна эта рыжая Петронилла с бледными веснушками на вечно мокром носу.
Глядит на него чуть ли не жалобно. И снова будет плакать в постели.
Молодой граф в Бигорру с малым отрядом приехал, а уехать хотел с большим. Собирался склонить гасконских баронов поддержать его отца, Симона, и дать ему людей, лошадей, оружие и припасы, какие сыщутся.
Об этом и были все мысли монфорова младшего сына, а о родичах жены старался он и вовсе не думать.
Но несмотря на это, ночью пришел к Петронилле и исправно выполнил супружеский долг. Жена прильнула к нему под бок костлявенькой мышкой – с холодненькими пальчиками, с хлюпающим носиком. Всхлипнула тихонечко. Гюи машинально высморкал ей нос, как частенько делал с маленькими братьями.
– Ух, лягушка, – сказал он. И почти мгновенно заснул, вольготно раскинувшись на просторной кровати.
Петронилла безмолвно проплакала всю ночь и наутро встала с распухшим лицом.
Гюи заметил это, когда она помогала ему одеваться.
– Что это вас так разнесло, жена? – спросил он с подозрением. – Вы больны, а?
Она покачала головой, боясь разрыдаться и тем вызвать его гнев. Гюи затянул пояс и сказал догадливо:
– Что, опять ревели?
И когда она кивнула, спросил:
– На этот раз из-за чего? Обидел я вас?
Петронилла довольно долго молчала и вдруг, подняв глаза, проговорила:
– Муж, вы меня совсем не любите.
Гюи искренне удивился. Так удивился, что на кровать обратно шлепнулся и рот разинул, будто деревенщина на ярмарке.
Полюбопытствовал:
– А почему я должен вас любить?
– Но ведь я выдана за вас замуж…
Петронилла залилась багровой краской и замолчала. Гюи глядел на нее исподлобья. Под его взглядом она краснела все больше и больше.
– А если я… – прошептала Петронилла. – Если я вам… ребенка… то…
Гюи честно ответил:
– Скажите спасибо, жена, что я вас не придушил без лишних затей. Ваши братья – клятвопреступники. А Рожьер де Коминж убил моего дядю…
Петронилла присела на кровать рядом с мужем. Сложила руки на коленках, повертела пальчиками. Робко ткнулась лицом мужу в плечо. Не отодвинулся.
– Если вы меня ненавидите, – сказала Петронилла, – тогда почему же… ночью…
– Отец велел, – ответил Гюи просто.
Нынешняя зима была для Симона долгой и одинокой. И не упомнит, когда столько печали наваливалось на него разом.
Сперва отправил в Бигорру младшего сына: пусть наберет, сколько сможет, подкрепления у драчливых гасконских баронов. Не все же они на стороне еретиков драчливость свою тешат?
Вскоре после того уехала в Иль-де-Франс дама Алиса.
Кажется, впервые в жизни так между ними вышло, что не Симон ради похода оставляет Алису, а наоборот – она бросает супруга в одиночестве и отбывает в путь.
Алиса хотела просить для Симона помощи у короля Франции Филиппа-Августа. Настало время, сюзерен, выполнять обещание. Настало время.
Алиса де Монморанси была в кровном родстве с королем и потому полагала скоро склонить его к согласию.
Все так; да только непривычно это – чтобы Симон оставался, а Алиса уезжала…
Вместе с графиней уехал на север и епископ Фалькон.
И нависла над Нарбоннским замком мокрая, скучная южная зима. Сочилась влагой, томила бездействием и вовсе не спешила заканчиваться.
А дама Тулуза тоже затаилась за своими валами и палисадами. До самой почти весны не тревожила Нарбоннский замок вылазками, не щипала и не покусывала старого льва за желтые бока. Зимовала.
Симон подолгу просиживал у могилы брата – молился, грезил. Время будто застыло, перестав двигаться от истока к завершению.
Когда настал, наконец, Великий пост, Симон начал истово поститься и выстаивал мессу иные дни по два раза. Он почти ни с кем не разговаривал. Он тосковал по брату. Ему не хватало Алисы. Ему не хватало Фалькона.
В Тарбе Гюи пробыл полтора месяца. За такой срок заручился поддержкой четырех баронов и с их помощью увеличил отряд на пятьдесят человек. Но это было и все.
Дважды они с Петрониллой выезжали на охоту и один раз из этих двух едва не сломали себе шею на горных кручах.
На прощание Гюи поцеловал жену ласковее, чем предполагал. А та обвила его шею тонкими белыми руками. У локтей уже проступили веснушки, предвестники нескорой весны.
– Прощайте, муж, – сказала она. – Я так хотела бы родить вам ребенка.
Гюи усмехнулся. Эту песенку она напевала ему в оба уха вот уже полтора месяца.
– Я был бы вам очень признателен.
Петронилла отстранилась, подергала мужа за рукав.
– Смотрите же.
– Куда?
Гюи повернулся кругом. Петронилла засмеялась.
– На меня смотрите. Видите?
Ничего особенного в своей жене Гюи не приметил. Петронилла никогда не была хороша собой. В последнее время у нее немного расплылись носик и губки. Гюи относил это на счет ее плаксивости и непреходящей простуды.
– Что, не видите? – настойчиво повторила она. – Не видите, как я подурнела?
– Вижу, – проворчал Гюи. – Я думал, вас обидит, если я скажу.
– Я понесла от вас, – сказала Петронилла, торжествуя.
– Вы уверены?
Она кивнула.
Захохотав, Гюи подхватил ее на руки. Потом и сам будет себе дивиться – что за радость иметь дитя от нелюбимой женщины? Но, видать, такими уж вырастил их Симон: детей, наследников, в этой семье почитали за великое счастье.
Петронилла взвизгнула, когда Гюи ловко ущипнул ее за бок, как делал прежде с кухонными девками, и поставил на ноги.
– Вы мне такая милее, – сказал он. – Пусть подурнели, зато – мать моего сына.
– Или дочери, – добавила Петронилла. Она была счастлива.
– Пусть дочери, – согласился ее муж. – Я много раз видал, как это случается с другими. Помню и то, как у моей матери родился последний сын. Уже здесь, в Лангедоке…
– Как его назвали?
– Симон. Как отца.
Петронилла задумалась.
– Ваша мать – она, наверное, любит вашего отца?
Как легко сходило с ее губ это куртуазное слово – «любовь». И как трудно укладывалось оно в голове ее мужа.
– Не знаю, – сказал, наконец, Гюи. – У нас не говорят «любовь». У нас говорят «верность».
Сколько же холода в этих франках…
– Я люблю вас, муж, – сказала Петронилла де Коминж.
Гюи погладил графиню по волосам, как маленькую.
– А я не знаю, моя госпожа, люблю ли я кого-нибудь.
– Но ведь у вас же есть… другие женщины…
– С тех пор, как вы моя жена, – нет.
Петронилла спросила с горечью:
– Что, тоже отец велел?
– Нет, епископ Фалькон, – простодушно брякнул Гюи.
Сен-Сернен, 250 год
Ближе к началу времен жили на этой земле люди иного языка, о которых не помнят нынешние, ибо те не были их предками. Но уже и тогда стоял прекрасный город Тулуза, родным любовь, а пришлецам – пустое вожделение…
Одни уже веровали тогда в Господа нашего Иисуса Христа и в честь Него выстроили маленький храм за тулузскими стенами. Другие же пребывали во тьме и, досадуя, то и дело воздвигались войной на познавших свет.
Первым епископом Тулузским был некий Сатурнин, римлянин рода хорошего и состояния немалого. Был он ростом высок, лицом красив, на язык остер, на руку скор, сердцем же мягок, как теплый воск, только об этом не многие догадывались.
Например, такое о нем рассказывают.
Однажды служил он в маленьком храме. Собралась почти вся община, по большей части, конечно, женщины.
И вот посреди службы ворвался в храм человек. Такую радость перебил! Женщины на него закричали, негодуя, стали таскать за волосы и прочь выталкивать.
Ибо по человеку этому сразу было видать, что оказался он здесь ошибкой.
Но Сатурнин запретил женщинам бить этого человека и гнать его прочь, а вместо того подозвал поближе, чтобы выслушать.
Отцепил тот человек от себя впившиеся в тело ногти сердитых женщин и к Сатурнину приблизился. Шел с опаской, ибо был епископ высок ростом и на вид грозен.
Оказался пришелец родом варвар и был он рабом – из тех, что делают на богатых виллах грязную работу: чистят канавы, вывозят мусор. На лице раба клейма негде поставить. Был он, к тому же, в кровь избит, а разило от него чудовищно.
– Что тебе здесь нужно? – спросил его епископ.
Раб шумно дышал. Видать, перед тем долго бежал очертя голову.
– Это что тут, храм? – спросил он вместо ответа.
– Да.
Раб тотчас же сделался деловит чрезвычайно.
– Право убежища есть или как?
– Дитя, ты в какого бога веруешь?
– Ни в какого, – оборвал раб. – Убежище есть?
– Да, – сказал Сатурнин. – Но если ты искал безопасности, то выбрал неудачно. Власти сейчас почти не признают наших прав.
– А чей это храм? Какого бога?
– Бога Единого.
Раб призадумался, облизывая губы. Сатурнин попросил одну из женщин, чтобы принесла рабу напиться. Пока он, булькая, глотал воду, епископ молча усмехался, непонятно чему.
Наконец раб вернул кувшин и спросил хмуро:
– Вы эти… восточная секта?
Сатурнин назвал имя Иисуса Христа, с любопытством наблюдая за рабом. Тот со стоном ухватил себя за лохматые волосы и пал на пол.
– Ой-ой… А до нормального храма мне уж не добежать…
– Да ты, никак, сбежал, откуда не следует?
– Тебе-то что? – разозлился раб. – Ищут и скоро найдут меня. А от вас, я гляжу, помощи, как от коз…
И с сожалением оглядев сатурнинову паству, залился горькими слезами.
Рассказывают, что Сатурнин заступился за этого человека и выкупил его на собственные деньги, после чего отпустил. Рассказывают также, что спустя год он вернулся к Сатурнину, принял от него крещение и верно служил ему до самой смерти епископа.
Но другие говорят, будто тот человек ушел, забыв поблагодарить, и никогда больше не показывался в Тулузе. Сатурнин же вскоре выбросил этот случай из головы и ни разу о нем не вспоминал.
Ибо были у первого епископа Тулузы дела куда как поважнее.
Однажды утром направлялся Сатурнин к своему малому храму, что находился за городскими стенами. Путь его лежал мимо большого храма языческих богов на Капитолии, где в этот час жрецы готовили в жертву красивого белого быка.
И когда мимо проходил Сатурнин, огонь на их жертвеннике внезапно погас.
Настигли жрецы Сатурнина и повалили на землю, а повалив избили. Он же молчал и не звал на помощь. Когда жрецы устали бить его, спросил их епископ:
– Как, стало вам легче?
Они промолчали, тогда он спросил опять:
– Утолили свой гнев?
Они ответили:
– Да.
Сатурнин снова осторожно заговорил с ними.
– Могу я теперь идти? Меня ждут сегодня за городскими стенами.
Но жрецы ответили, что отпустить на волю такого злого колдуна и святотатца они не могут.
Сатурнин вздохнул и покорился им. Был он уже стар, и Бог звал его к себе.
Жрецы взяли того быка, от которого отказались их боги, и вывели на крутые ступени храма. Затем они связали старому епископу руки и ноги, пропустили веревку у него под животом, между ног и плечей, и привесили пленника под брюхом у быка, так что спиной Сатурнин слегка касался земли, а лицом упирался в бычьи яйца.
Язычники стали, смеясь, злить быка. Они кололи его острыми ножами и стегали палками, но пока не отпускали, удерживая за веревку, привязанную к рогам. Бык бесился и пытался бить их рогами.
Тогда Сатурнин молча заплакал. Близкая смерть сделала его слабым. Но он не стал ни о чем просить жрецов, потому что Бог все громче и громче призывал его к себе.
Наконец язычники отпустили разъяренного быка. Он промчался по ступеням храма, вырвался из города и унесся в поле – избывать злобу.
К вечеру две женщины вышли в поле и увидели, как, окруженный роем жирных мух, пасется белый бык, охлестывая хвостом гладкие бока. Под брюхом у животного болтался багрово-черный мешок. Подойдя ближе, они разглядели, что это человек с наполовину содранной кожей и переломанной в нескольких местах спиной.
Одна женщина стала кормить быка хлебом и льстить ему нежным голосом, а вторая разрезала веревки и освободила зверя от ноши.
Только по кольцу на правой руке и признали Сатурнина.
Одна женщина сняла с волос покрывало и завернула в него тело, а другая сняла плащ. И так, вдвоем, понесли тело епископа к малому храму, чтобы там похоронить.
Это случилось почти за тысячу лет до того, как граф Раймон, по счету тулузских Раймонов шестой, собрал свой народ в собор святого Сатурнина, чтобы обсудить: как дальше отражать проклятых франков, позарившихся на прекрасный город Тулузу?
И говорил граф Раймон под высокими, красновато-золотистыми сводами:
– Вы помните, как хороша была прежде наша Тулуза. Ныне везде зияют бреши, повсюду пепелища и развалины. И Монфор упорно домогается превратить ее в пустыню. Он говорит, будто пришел сражаться с ересью. Нет, Монфор привел на нашу землю своих голодных франков, чтобы погасить свет любви. Чтобы навсегда погибла куртуазия и с нею – доблесть рыцарства…
И кричали и спорили между собой горожане, переговаривались, улыбаясь и хмурясь, рыцари – из Фуа, Арагона, Каталонии, Наварры, а собор Сен-Сернен, как старый дедушка, заботливо хранил их всех, будто обнимал большими теплыми руками.
Приход Сен-Сернен. Душа Тулузы.
Любящая, пылкая, своенравная, нежная, упрямая, любопытная.
Минула Пасха 1218 года от Воплощения. Надвинулся и расцвел май. Теперь Раймон то и дело наскакивал на лагерь франков, но до серьезных сражений не доводил – так, дразнил и тиранил.
И вот у Симона не осталось больше ни веры, ни надежды.
С кардиналом Бертраном граф Симон и прежде не очень-то ладил; теперь же, после общей зимы, вовсе между ними всё расстроилось.
Легата долгая зима и бесполезная весна измучили еще больше симонова. Симон воин; он умел выжидать. Легату же подавай все сразу, по первому велению. Легат был церковником и ждать не желал.
И потому винил кардинал Бертран графа Симона в лености и бездеятельности, в нерешительности, в неумении, в том, что разинул рот на такой кус, который между зубов не помещается.
В уныние вгонит, а после унынием же и попрекает: мол, грех. Тем и живет.
Своего сына Амори Симон от легата берег, в лагере держал. Сам же изнемогал и не чаял уж разрешения от бед.
И вот приходит к Симону сенешаль Жервэ, от радости дрожащий, и без худого слова зовет на стены.
Следом за сенешалем поднимается Симон на ту стену, что обернута к полуночи, и видит, как приближается к Нарбоннскому замку кавалькада, расцвеченная множеством славных флагов.
Рычат львы и леопарды, бесятся куницы и медведи – идущие и готовые прыгнуть. Разевают клювы хищные птицы, встопорщены их когти. По зеленой равнине накатывают они на Тулузу, а люди, скачущие под этими знаками, и сами им под стать и несут в груди сердца львов и леопардов.
Впервые за долгие месяцы озаряется улыбкой лицо Симона – постаревшее, усталое. Была эта улыбка скуповатой, трудной, будто позабыл Симон, как это делается.
И вымолвил Симон:
– Как красиво!..
Впереди кавалькады женщина верхом на крупном коне. В гриву коня вплетены цветные ленты, попона под седлом с кистями, с уздечки свисает бахрома. А всадница в белом и золотом, широкие рукава с меховой оторочкой разлетаются, подол вьется. Белый мех у ворота ласкает гордую шею. Рослая, широкая в кости, сияющая, вся – как полдень. Толстые пшеничные косы бьют ее по спине и плечам.
Господи! Дразнит она, что ли, мужа своего, одевшись девушкой?
Симон сбегает со стены. Симон бросается к лошади – как был, без седла, летит навстречу.
И вот они сходятся в полуверсте от Нарбоннского замка. Со смехом протягивает Симон руки к Алисе. Она вынимает ногу из стремени, чтобы Симону ловчее перебраться к ней в седло.
Под общий хохот граф Симон усаживается на алисиного коня позади жены. Он обнимает ее при всех, целует в затылок. Дотянувшись из-за спины, забирает в жадную горсть ее пышную грудь.
– Пустите, – отбивается Алиса. – Что за ребячество, мессир.
– А, прекрасная дама, – отвечает ей Симон. – Наконец вы мне попались. Больше я вас никуда не отпущу.
– А я от вас больше никуда не уеду.
Симон оглядывает рыцарей, его обступивших.
– Как я рад вам, мессиры! – говорит он. – Ну, уж теперь-то мы покажем этим сукам!
Уж конечно, такая блестящая кавалерия не осталась в Тулузе незамеченной.
Молодой Фуа и его братья, Рожьер и Одо Террид, без труда угадывали, каковы ближайшие намерения Симона, и потому бросились укреплять Сен-Сиприен.
Под зорким желтым птичьим оком Рожьера жители предместья – даже дураки из приюта, какие уцелели – таскали камни и бревна. По всему Сен-Сиприену наваливали кучи мусора, выстраивали заграждения – лишь бы конница не прошла, а большего не требуется. Между улиц, и без того кривых и узких, появились опять баррикады. Оба госпиталя, расположенные выше и ниже Нового моста, превращены в бастионы.
Рожьера видели повсюду. Охваченный злой радостью, с потными оранжевыми волосами, перевязанными на лбу ремешком, как у мастерового, он появлялся то у госпиталя на берегу, устрашая горожан, дураков и двух бесстрашных монахинь, то в глубине предместья, у церкви святого Киприана, где проводили ров.
Тулузу плавила невыносимая жара. Казалось, самая утроба земли источает влагу, делая воздух густым и почти непригодным для дыхания. Глазам больно было смотреть на Гаронну, а тусклое небо нависало так низко, что цепляло башни Нарбоннского замка, хотя оставалось безоблачным.
У Мюрэ Симон переправлялся на левый берег – на тех же баржах, что и минувшей осенью. Все шло, как полгода назад: раздраженные рыцари, орущие корабельщики, испуганные кони, бестолковые овцы и еще более бестолковая пехота.
Отряд с Симоном был невелик, сколько уместилось на баржи.
И вот граф Симон подходит к Сен-Сиприену. Все в точности, как минувшим октябрем. Ревут роговые трубы, кричат, ярясь, всадники, грохочут телеги, поспевая за неспешным шагом конницы.
В глубокие рвы, что у церкви святого Киприана, летят с телег мешки с травой, скатываются бревна. А чтоб не препятствовали мостить пути графу Симону, конные наседают на обороняющих рвы.
И Анисант во главе своих копейщиков гонит жителей предместья, чтобы чиста была дорога перед франками.
Прошли первую линию заграждений, почти не задержавшись. Телеги бросили там же – все равно завязнут в извилистых улицах.
Ворвались в предместье, поначалу помех не встречая. И тут ждало их, как и затевали братья Петрониллы, главное – ради чего так легко и впустили франков.
Баррикады превратили Сен-Сиприен в клубок – будто нить с веретена упала и спуталась и от узлов не расцепить ее. И повсюду ждали ловушки, везде жадно сторожили засады, а камни и стрелы готовы сорваться с каждой крыши, из-за каждого поворота.
Пехота больше путалась под ногами у коней, чем помогала. Жара давила все тягостней. Доспехи раскалились. Многие франки сняли шлемы и поплатились за это.
И дрогнули франки.
Видя это, Симон начал отходить. Отступал медленно, осмотрительно, опасаясь, чтобы Рожьер не загнал их в какую-нибудь охотничью яму, загодя вырытую на столь крупного зверя.
Наконец, вырвались на берег Гаронны. С башни, охраняющей подступы к Новому мосту, вслед уходящим франкам полетели камни, но стреляли невпопад и большого урона не нанесли.
Симон опять отступал.
Гаронна сверкала для глаз нестерпимо, будто облитая по поверхности ртутью. Кони уносили тяжелых всадников вдоль уреза воды. Под копытами река вскипала.
По левую руку от отступающих осталась красноватая стена госпиталя святой Марии, мелькнули сгоревшие еще осенью склады, в провале улицы показался и сгинул оскал баррикады – гнилые зубы в ухмылке урода.
Дальше – деревья и убогие хижины и, наконец, только деревья.
Симон поднимает руку, Симон кричит, и его хриплый крик прокатывается по рядам отступающих:
– Сто-о-ой!..
Встали лагерем недалеко от предместья. Передохнуть, выждать. Расседлали лошадей, окопали место для костров, на землю бросили плащи и сами повалились, переводя дух, – вот и лагерь.
Симон от горячих доспехов избавился и тут же заснул мертвым сном в разливе голосов и грохота – устал.
Разбудил его ближе к ночи Гюи, молодой бигоррский граф. Мясо уже прожарилось – нарезанное тонкими ломтями, насаженное на свежие прутья.
Симон обтер ладонями потное лицо, крякнул, уселся, скрестив ноги. Начал жевать, поначалу безрадостно, а затем все более увлекаясь.
Гюи рядом с отцом пристроился. У этого-то всегда за ушами трещит.
Ели, молчали. Потом, как покончили с трапезой, вдруг рыгнули одновременно и, встретившись глазами, рассмеялись.
А небо над ними становилось все более мутным. Тучи так и не наплыли; влага копилась в наднебесной тверди, чтобы разом, обрушив своды, пасть на Тулузу.
Такой грозы здесь и не бывало. Час проходил за часом, а ливень хлестал, не ослабевая. Беспрерывно гремело и рокотало, громыхало и кашляло, трещало и обваливалось – небо, гневаясь, кричало, и в этом крике терялись смертные голоса.
Наступила ночь, но тьма так и не опустилась на вострепетавшую землю: мрак был рассечен и исхлестан светом негаснущих молний.
Гаронна, и без того полноводная (в горах еще таяли снега), вырвалась из берегов. Взбесившийся поток сорвал и унес, разметав, оба моста. Чудом уцелели только крепостные башни, выстроенные у корней Нового моста, там, где мост упирался в берег.
Реке будто передалась одержимость Симона овладеть Тулузой, так яростно набросилась она на город. Мельницы Базакля были разрушены, дома затоплены, собор Сен-Пьер наглотался воды.
Гаронна ворвалась в предместье Сен-Сиприен и полностью очистила его для Симона. Ее живые воды смыли и рассеяли баррикады, заграждения, рогатки, земляные валы, палисады.
Проклиная своевольную стихию, Рожьер гнал коня на полночь.
Мокрый до нитки, Монфор стоял под дождем, обернувшись лицом к Тулузе. В бледном свете молний красная Тулуза казалась окрашенной в торжественные фиолетовые цвета императорского траура. Дождь накрывал ее покрывалом небесного гнева.
«И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом… и лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди; все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло…
И ковчег плавал на поверхности вод…»
Гроза бушевала весь следующий день и утихла только к вечеру.
Симон не стал дожидаться, пока с высоты упадет последняя капля. Когда он вернулся в опустевший Сен-Сиприен, дождь еще шел.
Небесный гнев отдал предместье в руки франков. Оно было полностью очищено от всех ловушек, лишено защитников и отрезано от города.
Пешим, по колено в воде, шел Симон по опустевшему Сен-Сиприену.
На площади у церкви лицом вниз лежал утопленник. Его бессильные руки качнулись на воде, когда ее взволновал проходивший мимо Монфор.
Сен-Сиприен быстро превратился в хорошо укрепленный военный лагерь. Его обнесли рвами. Из обломков баррикад, какие нашлись, построили крепкие палисады. Мокрая одежда на работающих курилась паром.
Сам Симон разместился в госпитале. Его не смущали тени безумцев, бродившие по саду. Прочные стены госпиталя легко превращали это здание в крепость. Их отмыло от копоти, оставшейся от осеннего пожара в Сен-Сиприене.
Ох… Наконец-то Симон может избавиться от сырой одежды и выспаться в сухой постели.
Из окон госпиталя хорошо виден разоренный берег Гаронны. Прямо на Симона глядит укрепленная башня Нового моста. Торчит, напрасно уцелев, как перст, – вызывающе и дерзко. Башня до сих пор занята арагонскими солдатами.
Вторая башня виднеется на правом, «тулузском», берегу. Там тоже, несомненно, имеется гарнизон.
Минул день, второй. Сен-Сиприен оставался у франков. Тулуза покамест притихла, примолкла, затаила страх.
Симон поглядывает теперь на башни по обоим берегам: как бы гарнизоны оттуда выбить.
И вот тут-то Алендрок де Пэм не нашел иного времени, чтобы явиться с разговором к Симону (тот со своим родичем Леви при молчаливом Фальконе рассуждал о башнях, и так и эдак прикидывая).
– Мессир! – начал Алендрок, противу обыкновения хмурый. – Как есть я ваш давний соратник, то и скажу прямо.
Симон к нему повернулся. Алендрок в глаза не смотрит – сердится.
– Полгода служили мы вам, мессир, по вассальной присяге, а сверх того срока, как было оговорено, – за плату. Ибо эти земли, где мы проливаем кровь, не наши ленные владения.
Алендрок говорит, а Симону уже наперед известно все то, что он скажет.
– Теперь же вы и платить нам перестали, мессир, а службы хотите прежней.
– У меня нет денег, – говорит Симон. И знает, что не поверит ему рыцарь Алендрок.
Так и оказалось.
– Вы взяли от Тулузы тридцать тысяч марок, мессир. Как же так может случиться, чтобы у вас не оказалось денег?
– Кончились! – рявкает Симон.
Но Алендрока не смутить.
– Мессир, – повторяет он, – осада эта нам не к чести и выгод от нее мы не видим. Опасностей же много. Вы и сами знаете, что ваши люди предпочитают умереть, лишь бы не попасть в плен – таковы здешние сеньоры и простолюдины.
После краткого молчания Симон спрашивает, цедя:
– Всё?
– Мессир, до Пятидесятницы мы уйдем от вас, если вы не станете нам опять платить, как обещано.
И тут Симон взрывается.
– Никуда вы не уйдете! Грозить он мне вздумал! Ублюдки! Никуда вы отсюда не денетесь! Опозорить себя хотите?
– Мессир, это вы себя опозо…
Но Симон кричит Алендроку, чтобы убирался с глаз долой, покуда не побит.
Алендрок насупился, с места не сдвинулся. Граф Симон орет на него, не стесняясь, как на провинившегося холопа. Того и гляди вправду бить начнет.
Наконец так молвил Алендрок де Пэм:
– Не я один от вас хочу, чтобы слово вы сдержали, мессир.
Симон буркнул:
– А вы всем передайте то, что от меня слышали.
– До Пятидесятницы, мессир, – говорит Алендрок.
И уходит, оставляя Симона истекать пеной бессильного гнева.
Молчание тянется долго. Наконец Симон вздыхает, опускает плечи и говорит тулузскому епископу, от которого не имел духовных тайн:
– Одно знаю: или я брошу Тулузу себе под ноги, или…
И замолкает, усмехаясь.
– Или? – осторожно напоминает Фалькон.
Симон заключает отчетливо, почти с весельем:
– Или она меня убьет.
С той башней, что стояла на левом берегу, почти под окнами госпиталя святой Марии, граф Симон расправился незатейливо и скоро. Под стены подкатили катапульту, взятую здесь же, в Сен-Сиприене, и начали скучно метать камни, не меняя прицела.
Гарнизон, запертый в башне, пробовал огрызаться, но вскоре растратил все стрелы и притих. Мессир Голод уже пробрался в башню. Его, понятное дело, не звали, но о скором его появлении догадывались.
Рожьер и Террид на правом берегу изнывали от заботы, да только башне от этого не было никакого проку. Тулузцы пытались даже доставить осажденным хлеба и воды, но Симон успел раньше.
После очередного залпа его катапульты башня обрушилась со страшным шумом. Взметнулся столб воды, выше прежней башни, и рухнул обратно в Гаронну. Люди, бывшие в осаде, погибли.
Над руинами взметнулся флаг Монфора.
И вот прибыл в Тулузу долгожданный Рамонет, молодой граф всея Тулузы или как он там себя беззаконно именовал. Насмешливо кривя узкие губы, Симон с крыши госпиталя смотрел на помпезное шествие, сотрясающее правый берег. Потом спустился в лагерь и велел копейщикам держаться наготове. Мол, скоро.
Наутро по броду против разрушенных мельниц Базакля, не таясь, пересек реку гордый бокерский герой и с ним множество доблестных авиньонских рыцарей.
Симон без особенного труда отбил их атаку и погнал Рамонета назад, к берегу, на ходу обходя его справа и слева.
Рамонет видел, что еще немного – и франки сомкнут клещи на его нежной шее. Несся к Гаронне сломя голову.
Прикрывая переправу для юного графа, Террид поставил одну катапульту у брода, другую – возле уцелевшей башни Нового моста.
Башню обороняли с особенным ожесточением. Кроме десятка рыцарей, готовых биться за Рамонета насмерть, там засели, скрываясь за высокими щитами, арбалетчики из Фуа.
Монфор и бок о бок с ним оба его старших сына во главе своих отрядов влетели на правый берег. Не останавливаясь, разделились. Симон отвлек на себя почти весь отряд Рамонета. Сыновьям оставил башню.
Под градом стрел и камней помчались к ней Амори и его младший брат Гюи. Зарубили прислугу, искрошили щиты вместе с арбалетчиками – кто не успел скрыться.
Затем Амори махнул брату, чтобы тот остановил малый отряд копейщиков, а сам начал забрасывать башню горящими факелами.
В башне яростно кричали. Когда занялись деревянные перекрытия, крики задохнулись. Франки заняли вход, готовые убивать спасшихся от пламени.
Издалека до Амори донесся утробный рев роговых труб: отец звал отступать. Амори погнал коня по берегу, к броду. Он слышал, как за спиной у него, разбрызгивая воду, скачут франкские конники.
И только миновав брод, понял вдруг, что брата с ним нет.
Гюи остался на правом берегу.
Две коротких, тяжелых арбалетных стрелы. Придавили, будто глыбой. Одна пробила грудь, вторая пригвоздила левую руку к узловатым корням старого дерева. И оттого не шевельнуться.
Неподалеку горит башня. Гюи не может видеть ее, но его обдает волнами жара.
Он дышит все тише. Жизнь выходит из тела с каждым вздохом.
К нему подходит человек. И еще несколько. Они разговаривают. Гюи почти не различает голосов – всё тонет в долгожданном белом тумане. Смертное безмолвие опускается над ним.
Один голос:
– Сын Монфора!
Другой:
– А, так я не ошибся…
Наклонившись, этот человек засматривает в мутнеющие глаза молодого бигоррского графа. Назойливо так смотрит, будто влезть хочет.
– Я Рожьер де Коминж, родич. Признал меня?
Гюи шевелит губами. «Pater nos…» В углу рта выступает розовая пена.
Выпрямившись, Рожьер с размаху бьет его в бок ногой.
– Вот тебе Бигорра!..
И еще Рожьер говорит, не заботясь больше о том, слышит ли его Гюи де Монфор:
– Перебросьте эту падаль в Нарбоннский замок. – И добавляет, усмехнувшись: – По кускам.
Незрячая и глухая, подстреленной гусыней бьется Алиса. Кричит по своему ребенку, будто мужланка из Иль-де-Франса. Зареванные дочери виснут у нее на руках.
Пшеничные волосы, доселе не знавшие седины, разом подернуло пеплом. Растрепались, мотаются помелом.
Пугая дочерей, Алиса бессмысленно мычит и стонет.
Но вот врывается, на ходу расплескивая горячее, Аньес – тощенькая, невидная Аньес, нерадивая прислужница, подружка Гюи де Монфора. Того Гюи, что лежит сейчас в гробу, до глаз закрытый покрывалом.
Аньес бесцеремонно отрывает от Алисы девушек, отпихивает их в сторону, словно ненужный хлам. Она цепко хватает Алису за шею, приобняв ее – крупную, дрожащую всем телом. Подносит питье к трясущимся губам госпожи.
Алиса отбивается, пытается увернуться. Но настырная, ненавистная сейчас Аньес – откуда только наглости набралась! – силком поит ее, щедро поливая при том роскошный атлас графининого платья.
Алиса выталкивает из груди трудный крик:
– А! А! А!
– Голубчик, – бормочет Аньес, выронив кувшин (разбился, разлился!) – Голубчик, родная…
Аньес гладит ее по распухшему лицу, по волосам, целует ее колени, ее ноги, и все бубнит и бормочет, все поет и плачет:
– Родная, милая…
И все это тонет в низком бабьем вое.
И вдруг Алиса замолкает.
Замолкает в то же самое мгновение и Аньес, разом перепугавшись до смерти: такую-то дерзость явила!
Поглядела на нее Алиса с недоумением. И спросила:
– Ты кто?
– Я… Аньес…
Так ничего не поняв и не вспомнив – имя «Аньес» ей ничего не говорило – Алиса пала девушке лицом в колени. Медленно поглаживая ее содрогающиеся плечи, Аньес запрокинула голову и молча подавилась слезами.
Второй сын Симона завернут в отцовское знамя с рычащим вздыбленным львом. Отец по правую руку, мать – по левую; оба холодны и строги и избегают встречаться глазами. Робер и Симон-последыш цепляются за Амори, а тот оглушен и растерян.
Аньес прячется среди домочадцев, ближе к выходу из часовни. Боится, как бы госпожа Алиса ее не заметила и не признала.
Епископ Фалькон, бледный, с покрасневшими от бессонной ночи веками, ведет погребальную службу так бережно, будто младенчика на вытянутых руках несет. Слово за словом отпускает на волю, постепенно облачая убитого в одежды любви и света.
У лежащего в гробу недостает левой руки. Тело Гюи рассекли на части и весь день, забавляясь, бросали через стену, в Нарбоннский замок. Солдаты собирали их по двору и сносили в часовню.
К вечеру Симон заглянул туда, где покоился сын. Увидел. Левой руки так и не нашли. Стояла жара, медлить с похоронами было нельзя. Симон велел отпевать как есть.
И вот теперь, пока идет служба, Симон старается об этом не думать.
17. Ныне отпущаеши…
Что солнце не выжгло, вытоптали ноги – вокруг Нарбоннского замка не сыскать ни травинки. Земля утоптана, высушена, едва не звенит. Низко нависает белесое тулузское небо.
Эдакое диво громоздится у полуночных ворот, тех, что обращены к дороге, уводящей прочь от Тулузы!
Устойчиво расставив ноги, задрав голову, любуется граф Симон огромной осадной башней.
Еще прежде по симонову зову примчался из Нима Ламберт де Лимуа, знаток и обожатель механизмов. Несколько дней провели неразлучно, об орудиях рассуждая. Симон вспоминал то, что в Святой Земле успел повидать; Ламберт же свои мысли высказывал.
Башню поименовали «Киской» – за то, что рычаги для метания камней и горящих факелов сходны с кошачьими лапками. Киска – сооружение затейливое и грандиозное, наподобие собора. Сверху, кроме хищных лапок, есть впивучий мост с крючьями: как закинешь на стену, так вгрызется – не оторвешь. Катапульта у Киски мощная, брошенный ею камень летит на версту.
Ходят Симон и Ламберт вокруг Киски, едва не облизываются: нравится им.
Башня громоздится над ними на высоту в три симоновых – немалых – роста. В длину же она вдвое больше, чем в высоту.
Она лежит на больших деревянных катках.
Хоть и утоптана, хоть и высушена летняя земля, хоть и черствее она рабской доли, а все же Киска проминает на ней глубокие борозды.
«Или я брошу Тулузу себе под ноги, или она меня убьет».
Под защитой чудища можно подобраться под стены и сделать подкоп, так что рухнет стена, костей не соберешь. Можно перебраться поверху, для чего и мост. Можно забросать Тулузу камнями, облить греческим огнем, запалить и сжечь и тем самым избавить себя от этой несчастной любви.
Ибо как еще назвать ту страсть, что обглодала, изъела Монфора? Он не мог овладеть Тулузой и не в силах был отлепить ее от сердца; сплелись в смертном соитии и разорваться уже не могли.
Были среди франков и такие, кому эта страсть виделась одним неразумием. И не скрывали они от Симона своих мыслей, ибо во всем были ему равны; помогали же ему из любви к Господу и Церкви и по вассальному долгу перед королем Филиппом-Августом.
И сказал Симону мессир де Краон, знатнейший рыцарь из тех, что прибыл в Лангедок по зову дамы Алисы:
– Сдается мне, мессир, что вы охвачены безумием.
Симон погладил Киску, будто это была девушка, и охлопал ее бревенчатый бок, будто была она добрым конем, и ответил Краону так:
– Я думаю зажечь город греческим огнем. – Он произнес «грижуа», «греческая забавка» – слово, известное всем, кто был в Святой Земле. – Клянусь Святой Девой, мессир, Тулуза на своей шкуре изведает, каково это изделие сарацин!
Краон – ровесник Монфора; как и граф Симон, состарился под кольчугой и шлемом.
И отозвался Краон:
– Господь с вами, мессир! Не пепелищем же собираетесь вы править?
Но тут вмешался кардинал Бертран, раздраженный всеми и вся.
Для начала напустился на Краона.
– Так что же вы, мессир, – загодя ярясь, осведомился кардинал, – сомневаетесь в том, что Господь поможет нам овладеть Тулузой?
Краон, в глаза легату дерзко глянув, сказал:
– Я сомневаюсь в том, что графу де Монфору вольготно будет править пепелищем.
А легату только дерзости и надо было. Раскричался:
– Не всякому слову, какое рвется с губ, волю давайте! Думайте, мессир, прежде чем говорить! Не усомняйтесь в милости Божией! Господь осудил Тулузу смерти и послал меня сказать вам это.
– Да? – насмешливо молвил Краон. – А я-то, темнота, думал, будто вас послал папа Гонорий…
Легат вспылил. Хотел ударить Краона по лицу, но Краон перехватил пастырскую десницу.
Кардинал Бертран выдернул руку и резко сказал:
– За слабоверие и дерзость я осуждаю вас посту, на хлеб и воду.
– Надолго? – спросил Краон.
– На два дня.
Краон повернулся к Монфору и сказал высокомерно:
– Знать бы заранее, какие дела здесь творятся. Не стал бы слушать вашу супругу. Ноги бы моей здесь не было! А вы, мессир де Монфор, оставайтесь ковать свою погибель, коли вам охота.
Симон только и сказал ему:
– Прошу вас, мессир, подчинитесь легату.
И ушел Краон в бешенстве.
А легат, проводив его глазами, начал Симона грызть.
– Вы теряете уважение воинов Христовых. Скоро вы не сможете удерживать их в руках. Вы нерешительны, вы стали слабы…
Симон сжал губы, чтобы не отвечать.
Кардинал Бертран сощурил глаза – за долгую зиму успел возненавидеть Симона – и добавил едко:
– Должно быть, старость притупила ваш воинский дар, а неудачи и грехи лишили рассудка…
Симон склонил голову и тихо спросил легата:
– Святой отец, могу я нижайше молить вас об одной милости?
– Просите, – отозвался легат, немного удивленный. Он не ожидал от Монфора такого смирения.
– Уйдите, – еле слышно проговорил Симон. – Ради всего святого, уйдите отсюда!
– Давай!..
Под крики, рвущиеся из натруженной утробы, под резкие сигналы свистков, тянут башню за кожаные ремни. Будто гребцы на галере: взяли! взяли!..
Тяжелые колеса катков, сделанные из цельного спила, начинают оборачиваться.
– Давай!.. Давай!..
Долго, натужно влечется башня под стены Тулузы. Вот она выплывает из-за Нарбоннского замка – смертоносное чудище, одних устрашая, других радуя.
Сбоку от тянущих башню идут солдаты с высокими щитами, прикрывают от стрел и камней.
А Тулуза, едва только завидев Киску, тотчас же признала в ней свою близкую погибель и начала обстреливать сразу с двух сторон: от Саленских ворот и от ворот Монтолье.
По разумному приказанию Симона, Киску обливают водой из бочки. Бочку поднимают на самый верх осадной башни с помощью блоков и веревок. Деревянная Киска должна быть все время влажной, чтобы ее непросто было поджечь. По такой жаре приходится таскать бочки несколько раз в день.
Долго не приступали к вечерней трапезе – ждали графа Симона; тот все не шел. Только Краон потребовал хлеба и воды и вкушал, на легата не глядя, с видом горделивым, будто невесть какое яство.
Амори сказал, наконец, что за отцом надо бы послать.
– Я пойду, – молвил епископ Фалькон. И легко поднялся из-за стола, не позволив себе возразить.
Фалькон знал, где искать Монфора, и не хотел, чтобы тому помешали.
Монфор был у могилы обоих Гюи, брата и сына, на маленьком кладбище под стеной часовни. Стоял на коленях, выпрямив спину и вытянув перед собой сложенные ладонь к ладони руки.
Фалькон замер, боясь разрушить его уединение.
Симон молился вслух, в самозабвении, как это часто с ним случалось, когда переставал заботиться о том, звучат ли слова в голос или же гремят в одной только душе.
Закатное солнце обливало Симона расплавленным золотом. На стене часовни застыла в неподвижности его тень, темный, увеличенный профиль с крупным носом и тяжелым подбородком.
Он произносил слова уверенно, и Фалькон понял, что он делает это не впервые. Почти не дыша, епископ слушал.
Симон просил о смерти. И как же он расписывал ее перед Богом, как упрашивал, какой милой представлял ее в своих мольбах. Чаял найти в ней покой и долгожданный мир, полнилась она тишиной. Той тишиной, в которой так слышен шелест лепестков Вселенной.
И тосковала душа Симона по этой тишине. Глотнуть бы ее, исцеляя раны, – а там суди меня судом Своим, Господи!
Симон замолчал. Опустил руки и совсем другим тоном спросил (а головы так и не повернул – на спине у него глаза, что ли?):
– Подслушиваете, святой отец?
– Да, – сказал Фалькон.
Симон встал, приблизился к епископу – высокий, в наступающих сумерках страшноватый.
– Зачем? – спросил он Фалькона.
– Собственно, я пришел звать вас к трапезе. Все уже собрались.
– А, – отозвался Симон. И замолчал. Но с места не тронулся.
Тогда епископ Фалькон сказал ему бесстрашно:
– А вы, оказывается, малодушны, мессен де Монфор.
Симон скрипнул зубами. Фалькон взял его за руку.
– Идемте же, вас ждут.
Но сдвинуть Монфора с места ему не удалось. Симон стоял неподвижно. И безмолвствовал. Наконец он заговорил:
– Скажите одно, святой отец: почему наша кровь не дает всходов?
– Почему вы так решили?
– А что, разве это не так? – в упор спросил Монфор.
Фалькон откликнулся:
– На все воля Божья.
– Господь не благословил мои труды, – упрямо повторил Монфор. – Все было напрасно. Кардинал прав: я становлюсь старым…
– Кардинал вовсе так не считает. Просто он хочет таким образом подхлестнуть вашу решимость.
– Меня не нужно подхлестывать! – зарычал Симон. – Я не вьючный верблюд, чтобы меня…
– А вы гордец, – заметил Фалькон.
Помолчав, Симон отозвался, уже спокойнее:
– Конечно.
– И притом малодушны.
Неожиданно Симон проговорил:
– Дыхание мое ослабело, дни мои угасают; гробы предо мною…
Он все еще держал епископа за руку и сейчас больно смял его пальцы. Фалькон поморщился.
– Простите, – опомнившись, пробормотал Симон.
Епископ Тулузский улыбнулся, потирая руку.
– Вы помните, малодушный гордец, чье имя носите?
– Симона Петра…
Фалькон пропел вполголоса:
– Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam…[1]
– «Камень», – задумчиво повторил граф Монфор. – Я – Симон, я – Петр, я – камень, положенный в основание…
Фалькон внимательно смотрел на него снизу вверх ясными светлыми глазами.
– Но я ведь не камень, – совсем тихим голосом добавил Симон. – Я человек, мессир. Я человек, и мне бывает больно…
О симоновой слабости знает только Фалькон. Наутро Симон опять огрызается в ответ на попреки вечно раздраженного легата, он снова орет на рыцарей, которые грозятся уйти, если граф не заплатит. И на Тулузу обрушивается первый залп из мощных катапульт Киски.
Кому Киска, а кому геморрой в задницу.
Строптивая дама Тулуза не желает Монфора. Не желает и все тут! Этот франк ей противен. От его домогательств ее с души воротит.
А быть осажденной – особенный образ жизни, и ей это даже начинает нравиться. Потому что не одолеет граф Симон даму Тулузу. Не по зубам орешек.
Не только воины – даже простолюдины, даже женщины бьются теперь с клятыми франками.
У ворот Монтолье помогают они управляться с катапультой. Сейчас одна беда у Тулузы, одна цель – монфорова осадная башня. На нее направлены сейчас все силы.
25 июня
Рассвет едва занялся. Но уже и в этот ранний час грозило прохладное утро превратиться вскоре в испепеляющий полдень – вечный полдень Тулузы, который почти сразу сменяется ночью.
В часовне Нарбоннского замка шла ранняя месса. Слушали женщины, младшие дети, а из рыцарей – сам граф Симон, сенешаль Жервэ и пятьдесят человек лучших бойцов, которых Симон держал в замке, всегда под рукой. В маленькой часовенке все не помещались, потому многие оставались у входа, слушая из-за раскрытой двери.
Остальные крестоносцы оставались в лагере за стенами, либо у Киски, под прикрытием высоких, обтянутых кожей и облитых водой щитов, за какими обычно сберегаются лучники.
Когда внезапно взревели трубы и раздались – обвалом – громкие крики, Симон и головы не повернул. Даже Фалькон, который вел службу в этот немирный утренний час, запнулся и продолжил после краткой паузы.
Бой завязался сразу в двух местах – перед обоими воротами, ближайшими к Нарбоннскому замку. Пока молодой Фуа у Саленских ворот стягивал на себя франкскую конницу, Рожьер де Коминж подбирался к башне. С Рожьером были арагонцы.
Трубы рвали воздух, их хриплые голоса дырявили уши. Под копытами звенела сухая земля.
И вот у Монтолье под знаменем с золотым крестом показался сам старый Раймон Тулузский. Крик сделался нестерпимым.
Возле Киски шла резня. Скрываясь за палисадами перед воротами Монтолье, арбалетчики из Фуа посылали стрелу за стрелой. Многие франки побросали щиты и бежали, спасаясь на лошадях. Среди них было много раненых. Раймон велел преследовать их.
Солнце быстро наливалось жаром, разогревая доспехи.
И вот в часовню Нарбоннского замка врывается копейщик. От него пахнет пылью и горячим железом, и руки у него в крови. Прерывая епископа, прямо с порога орет:
– Мессир! Граф Симон!
– Пошел вон, – не поворачиваясь, говорит Симон.
Копейщик бежит, толкаясь, к Симону, хватает графа за плечо, трясет, будто хочет пробудить.
– Мессир! Нас побили!
– Правильно сделали!
– Мессир!..
– Твою мать!.. – шипит Симон.
– Ваши люди умирают!.. – кричит копейщик. – Без вас они погибнут!..
Ударом кулака Симон отшвыривает солдата.
– Дай мне приобщиться, ублюдок! – кричит Симон. – Не видишь, я стою у Святых Таин. Убирайся!
Сенешаль Жервэ помогает копейщику встать и вместе с ним выходит из часовни. Месса продолжается. У Симона странно безмятежное лицо.
В раскрытые двери часовни долетает голос Жервэ – велит седлать коня.
Шум битвы то приближается, то удаляется. Ревут рога, ржут кони, гремят копыта, звенит оружие. С визгом проносятся заряды из катапульт.
Перед Саленскими воротами, против Нарбоннского замка, бьются – упорно, не достигая перевеса.
У ворот Монтолье франки отходят. Киска остается беззащитной, брошенной людьми. Пламя на пробу пытается лизнуть ее – спасибо, облитый водой! – деревянный бок.
– Монфор! Монфор!
Резервный отряд в Нарбоннском замке мается и кается. Душа рвется в битву, вызволять своих. Рвется так настойчиво, что, кажется, вот-вот покинет тело.
– Монфор!..
Симон будто не слышит – невозмутим, собран, серьезен. Неземной покой окружает его, одевает холодноватым светом. Луч солнца падает теперь из круглого окна под крышей прямо на симоново лицо с резкими мясистыми чертами, зажигает серые глаза желтоватым звериным огоньком.
Симон выглядит старым.
И он красив.
– Мессир!..
Этот не стал топтаться на пороге. Грохоча, прошел к самому алтарю.
Алендрок де Пэм – проклинающий себя за то, что не исполнил угрозы, не бросил Монфора. Остался на свою голову, хотя Пятидесятница уже миновала.
– Симон! Вы что, в бога, в душу, в мать?! Ваша набожность!.. Раймон топит нас в дерьме!..
Не глядя, Симон поднял руку, прикрывая Алендроку рот.
– Уже скоро, – спокойно сказал он. – Сейчас я увижу Спасителя.
Фалькон онемел, стоя со Святыми Дарами в руках. И пока епископ переводил дыхание, Симон вместо него проговорил заключительные слова:
– Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace.[2]
Он встал и взял гостию. Луч света лился у него за спиной, истекая из малого круглого оконца.
– А, засранцы! – закричал Симон своему резервному отряду. Хрипловатый голос Симона разлетелся, казалось, по всему замку – таким долгожданным был он и так жадно ему внимали. – Ну, что? Накостыляем этим блядям?
– А-а-а!!. – пронесся согласный рев.
– Идемте! – крикнул Симон, перекрывая все остальные голоса. – Идемте, умрем за Него, как Он умер за нас!
И, спущенные, наконец, с цепи, бросились франки к лошадям.
Раймон бежал.
Бежал и молодой Фуа со своими стрелками, и Рожьер де Коминж с отчаянными арагонцами.
Не успевшие перебраться за палисады бросались ко рвам, оступались, захлебывались в мутной воде.
Симон гнал их, смеясь. Сила переполняла его. И многим в мареве жаркого дня виделось, будто Симон погружен в красноватое сияние.
Едва оказавшись за крепким палисадом перед воротами Монтолье, Рожьер велел стрелять из катапульты. Женщины, прихожанки святого Сатурнина, утопая в поту, подтащили корзину с камнями. Дали первый залп.
– Там еще остались наши! – крикнула одна.
– Стреляйте! – сквозь зубы повторил Рожьер. – Там Симон!
Когда катапульта разразилась вторым залпом, франки спаслись за укрытиями возле Киски. Сооруженные для обслуги осадной башни, они оставались еще нетронутыми.
Симон был уже в безопасности. Прижимаясь к влажной, опаленной неудачным поджогом стене башни, он смотрел на поле Монтолье в щель между высокими щитами.
От Саленских ворот мчался Амори де Монфор. Камни и стрелы летели мимо, не успевая задеть его, – казалось, Амори обгоняет собственную смерть.
В следующее мгновение, оглушенный камнем, он на всем скаку упал с коня и грянулся о землю недалеко от спасительных щитов. Тотчас же несколько стрел впились в землю возле упавшего.
Молча – зверем – бросился к своему сыну Симон. Вскочил на ноги, опрокинул щит, оттолкнул от себя копейщика. Ему что-то кричали вслед.
За палисадом, у ворот Монтолье, лихорадочно перезаряжали катапульту.
Сквозь боль и звон в ушах Амори чувствовал отцовские руки. Симон схватил его за плечи, встряхнул, исторгнув у сына стон.
– Быстрей! – выговорил Симон, не поднимая забрала. – Что развалились? Сын, нас с вами сейчас прихлопнут.
Он выпрямился, помогая Амори встать. Тот шатался, цепляя ногами уплывающую землю.
Рев катапульты. Они все-таки успели перезарядить ее.
Отцовские руки ослабели. Падая, Амори еще услышал звон и какой-то странный звук, будто камнем раскололи камень.
И почти сразу вслед за тем стало тихо. Амори сперва решил, что оглох или умер.
Но над всем полем действительно повисла тишина. Последние камни пали безвредно. Только у Саленских ворот еще звенело оружие, но вскоре Раймон отступил за стены. Алендрок, покрытый кровью с ног до головы, не стал его преследовать.
Все будто переводили дыхание.
Копошась на земле, Амори снял и отбросил шлем. Приподнялся на коленях.
Симон лежал рядом, раскинув руки. Из-под забрала сочилась темная струйка крови.
Амори осторожно освободил отца от шлема. Сейчас любой арбалетчик мог пустить стрелу в открытую спину Амори – монфорову сыну было безразлично.
Под смятым шлемом Симон был темно-багров, почти черен. Там, где камень ударил его по голове, ползла кровавая змея. Белки широко раскрытых глаз слепо таращились со страшного, чужого лица.
Захлебываясь, Амори потащил его к башне. Несколько франков выскочили из укрытия, бросились ему помогать.
Симон всегда был виден издалека. Из-за роста, из-за льва на плаще.
В том, что камень сразил именно его, сомнений не было. Потому и замолчали, одинаково потрясенные случившимся.
И вдруг от ворот Монтолье раздался одинокий вопль. Это был голос женщины, уличной торговки овощами, привыкшей выпевать сквозь многолюдье свой товар.
Она кричала, захлебываясь ликованием:
– MONTFORT ES MORT!..
Оцепенение держалось, покуда не начала спадать жара. К вечеру Рамонет ударил по Сен-Сиприену и без труда выбил оттуда франков. Он захватил в плен более тридцати рыцарей. Их имущество было разграблено, а сами они, с веревкой на шее, доставлены в Тулузу.
Несколько дней назад отпевал сына; сегодня отпевает отца.
Симон лежит на том самом месте, где стоял гроб с телом Гюи. Симон одет в белую рубашку. На нем красный сюркот с золотыми крестами тулузских графов и золотыми львами Монфоров. В его большие, исполосованные шрамами руки вложен крест.
По очереди подходили целовать страшное черное лицо. Робер расплакался, а маленький Симон-последыш глядел долго и серьезно.
Амори держался подле матери. Сейчас, когда все глаза вот-вот обратятся на него, старший симонов сын все острее чувствовал, до какой же степени он не Симон. Да и кто сможет заменить грозного Монфора?..
А Симон лежал перед ними неподвижный, далекий.
Что, растерялись?.. Теперь они не могли насесть на него, как прежде, со своими заботами, со своим раздражением, и требовать от него, требовать, требовать… Симон ушел. Он получил то, о чем просил Господа Бога.
За стенами замка копали большую яму, приносили хворост, свозили бревна, обрубали ветки, связывая их вязанками.
Из кухни, навалив на телегу, выволокли большой котел, в каком обычно варили бычьи и кабаньи туши, чтобы достало насытить полсотни человек.
Утвердили котел над ямой, привесив, наподобие колокола, на веревке между крепко вбитых в землю бревен. Ведрами, передавая из рук в руки, как на пожаре, набрали воды из Гаронны.
И стали ждать, пока кончится служба, а пока запалили хворост и начали греть воду.
Посреди службы в Нарбоннский замок пожаловали от Раймона Тулузского: десяток копейщиков, трое арбалетчиков и все они при важной персоне – Дежан в наилучшей своей одежде.
Его встретил сенешаль Жервэ. Просил подождать.
Дежан пожал плечами: дескать, вам же хуже. Устроился в удобном кресле, где ему показали сесть. Угостился неплохим вином, отменными фруктами.
Ждал долго. Соскучился.
Амори почему-то не спешил.
На самом деле сенешаль не стал тревожить Амори во время похорон. А Дежан пусть подождет.
Жервэ нарочно проводил его в те покои, откуда не видно часовни.
Симона переложили из гроба на носилки, где загодя постелены были длинные кожаные ленты. Вынесли из часовни. Обошли двор и вышли через полуночные ворота. Те самые, что уводят из замка прочь от Тулузы.
Огонь ревел, обложив котел со всех сторон. Вода закипала. От множества пузырьков, поднявшихся со дна, стала белой, как молоко.
Шествие остановилось. Носилки осторожно опустили на землю, взялись за ленты, свисавшие справа и слева.
Подняли графа Симона. Ветер шевелил его одежду и волосы; сам же был каменно тверд.
Медленно, медленно, держа за ремни, опустили шестеро рыцарей своего графа в мутную воду. На миг она снова стала прозрачной, и так, сквозь хрустальную пелену, в последний раз стал виден Симон.
А затем яростное кипение поглотило его. Среди пузырей, взрывающихся на поверхности, только иногда можно было еще различить темное – красные с золотом одежды Симона – Симона IV, графа Монфора и Лестера.
Окруженная своими детьми, стояла у котла дама Алиса. Ветер и жар били ей в лицо.
Амори встретился с Дежаном подчеркнуто вежливо. При молодом графе находился кардинал Бертран. То и дело сжимал ему плечо, будто клешней прихватывал.
Дежан сказал:
– Мессен, я хотел бы знать, с кем вести переговоры по одному занятному делу.
– Со мной, – сказал Амори. – Я граф Тулузский.
Дежан позволил себе усмехнуться.
– Мессен. Вчера вечером мы выгнали ваших людей из предместья Сен-Сиприен, где они занимались грабежом. Сейчас у нас на руках тридцать два ваших рыцаря, все знатного рода. Они решительно ни на что не годны и нам не нужны. Нам не прокормить их. Тулуза – не богадельня. Правда, мы полны милосердия и делаем для них все, что в наших силах. Дали каждому по нищенской суме на шею. Водим по улицам, чтобы добросердечные горожане могли бросить им подаяние. Кстати, многие подают. Правда, денег почти не подают. Откуда у нас деньги после того, как ваш отец нас ограбил? Фрукты… даже камни… И не все попадают точно в суму, но как можно винить в этом бедных простолюдинов? С нас ведь не спросишь ни меткого глаза, ни твердой руки. Иной раз по шее попадут, иной раз по лицу… Наш добрый граф Раймон думает отдать ваших франков на потеху городу. Но если вы еще не совсем обнищали, то можете выкупить их.
Амори побледнел. Он знал, как Раймон обходится с пленными.
– Сколько? – спросил он сквозь зубы. – Сколько он хочет, ваш Раймон?
– По пятнадцати серебряных марок за каждого, – сказал Дежан. И встал. – Пусть ваш человек нас проводит. Я вернусь завтра.
– Мессир! – окликнул этого горожанина Амори, когда тот уже уходил. И когда Дежан обернулся с улыбкой, сын Монфора уточнил: – Вы вернете их мне целыми и невредимыми.
Дежан изысканно поклонился и вышел.
Тело Симона вываривалось до ночи и еще всю ночь. У котла сторожили, следя, чтобы не прикипало к стенкам. Когда выпарилась почти вся вода, костер разобрали и котел остудили.
Из мутной жижи выбрали все кости, омыли их в Гаронне и сложили в ларец, завернув в большой, украшенный вышивкой, плат.
Остальное осторожно вылили в глиняный сосуд с широким горлом и захоронили рядом с могилой симонова брата Гюи. Там, где еще недавно столько времени проводил сам Симон – разговаривая с умершим братом и выпрашивая у Бога себе мира и покоя.
Пленные вернулись, угрюмые и злые. Многие были ранены и почти все избиты.
Из тридцати двух человек, выкупленных Амори на собственные деньги, только четверо пришли в часовню, где стоял ларец с прахом Монфора.
Наутро большой отряд провансальцев, некогда присягавших Симону, отказался дать клятву верности его сыну. Свыше двухсот человек открыто перешли на сторону Раймона Тулузского. Амори не мог их остановить.
Войско расползалось под его руками. Как будто вытащили из стены замковый камень, все вокруг рушилось и сыпалось. Амори не был Симоном.
Но у него достало еще воли собрать оставшихся и бросить их на последний штурм Тулузы. Следует отдать должное легату – тот надорвал свою луженую глотку, помогая молодому Монфору.
Амори поджег палисады и катапульты, стоявшие за ними, облив бревна смолой. Пока горожане сбивали и заливали пламя, франки сшиблись с арагонской конницей. Бой длился целый день. Тулуза, рыча от ярости, извергала из своих улиц все новых и новых защитников – авиньонцев, бокерцев, наваррцев, каталонцев…
К вечеру Амори отступил.
Старший сын Симона был ранен и еле жив от усталости. Он едва позаботился о безопасности Нарбоннского замка – это сделал за него сенешаль Жервэ.
Теперь у Монфора оставалось так мало людей, что все они могли разместиться за стенами замка. Лагерь франков опустел.
Наутро, погребенный недовольством легата, Амори хмуро объявил о том, что снимает осаду.
Он не увозил с собой из Тулузы почти ничего. Ни добычи, ни славы. Только ларец с прахом Симона.
Уходя, Амори зажег Нарбоннский замок.
Он уходил на восток, в Каркассон. Замок пылал за его спиной огромным факелом. Дым застилал прекрасный город Тулузу, так что если бы Амори обернулся, он не смог бы даже увидеть ее.
Но он не оборачивался.
Кости Симона погребли в каркассонском соборе Сен-Назар, после пышной церемонии, среди пурпура и золота, под торжественный звон колоколов и многоголосое пение.
Кардинал Бертран, словно позабыв все распри и разногласия, бывшие между ним и Симоном, объявил покойного графа святым мучеником за веру, а гибель его сопоставил с кончиной первомученика Стефана, побитого от гонителей камнями.
У Фалькона все не шел из головы тот разговор с Симоном, на могиле Гюи.
Симон – Петр – камень…
Мужество оставило Алису, она рыдала и билась на руках своих детей.
Эпилог
Поздней осенью, когда франки отступали по всему Лангедоку и скорая победа над ними была очевидна, Рожьер выбрался в Пиренеи, к сестре.
Петронилла жила в Лурдском замке (где уж и вспоминать забыли о Ниньо Санчесе). Здесь было безопасней – склоны круче, стены выше и крепче.
О, оттуда, из-за стен, приходят к Петронилле все страхи и беды. Туда уходят от нее мужчины – враждовать, умирать.
Петронилла угостила брата молодым вином и мясом барашка. Показала ему псарню и конюшню, которыми гордилась. С таинственным видом, держа за руку, сводила в винный погреб. Добавила со смехом, что показала бы и прядильню, да боится, как бы рыцарь не соскучился.
И чем больше смотрел и слушал Рожьер, тем больше дивился он. Сестра жила в своем Лурде, словно в заколдованном замке. Бурное течение времени обходило ее стороной.
Все та же старая прялка у очага. Все та же чаша для умывания, глиняная, со щербинкой – надо же, до сих пор не разбила! И все тот же уродливый псарь поклонился Рожьеру, когда тот заглянул посмотреть щенков.
– Ну, – молвил, наконец, Рожьер, – маленькая моя Петронилла, все ли сокровища вы мне показали?
Она слегка покраснела и не ответила. Рожьер протянул руку, взял ее за остренький подбородок.
– Слыхал я, сестра, что нынешним годом вы были в тягости?
– Это правда, – отвечала она смущенно. – Господь послал мне, наконец, такую радость.
– Так вы родили своему Монфору дитя, как хотели?
– Дочку. Я показала бы вам, но она сейчас спит.
– Вы окрестили ее?
– Да.
– Не дождавшись ни отца, ни меня?
– Брат, – сказала Петронилла, – я боялась оставлять ее некрещеной так долго.
– Какое хоть имя вы ей дали?
Глядя Рожьеру в глаза, Петронилла ответила тихо:
– Алиса…
Рожьер прикрыл веки, прикусил губу.
Петронилла потянула его за рукав, виноватым голосом окликнула:
– Брат… Мессен…
Коротко размахнувшись, Рожьер точным ударом бьет в висок свою сестру, графиню Бигоррскую.
Без стона она валится на пол у его ног.
Рожьер поворачивается и выходит вон.
Он седлает коня, отталкивая взволнованную прислугу. Он выезжает за ворота. Горы расступаются перед ним и вновь смыкаются за его спиной.
У Петрониллы в ее заколдованном замке больше не будет брата.
Петронилла приходит в себя ночью. Ей холодно, ее трясет в ознобе. С ней случилось непоправимое горе, но она пока не может вспомнить – какое.
Луна ярко горит в черном небе, заливая задний двор.
Петронилла лежит на колючей подстилке из соломы. А рядом сидит безносый псарь и рассеянно водит рукой то по волосам своей графини, то по лохматому брюху проказливого молодого кобеля, от удовольствия пустившего слюни.
1996 – 2002