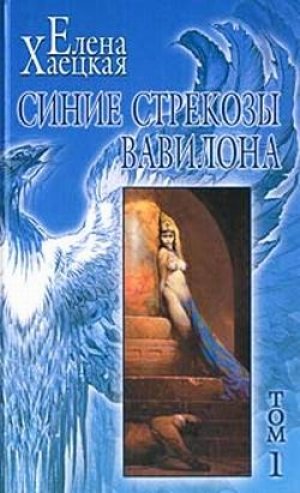
Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз…
О.Мандельштам, цитированный по памяти
Пиф пила кофе у себя на кухне – босая, в одной футболке на голое тело. Ходики оглушительно тикали и время от времени испускали утробное ворчание. Сквозь пыльные, два года не мытые окна, сочился солнечный свет.
Стояло лето, такое жаркое в городе, что каждый вдох грозил удушить. Поэтому Пиф вздыхала осторожно, в несколько приемов.
Ей предстояло дежурство, и она заранее готовилась к томительному отсиживанию суток в Оракуле. Но с этим ничего нельзя поделать: регулярные суточные дежурства особо оговорены в контракте, который она подмахнула полтора года назад.
Встала, поставила новую порцию кофе. Залезла с ногами на подоконник, высунулась в окно, насвистывая:
Посидев с пять минут, Пиф услышала, как за спиной шипит, выкипая, кофе. Пиф сползла с подоконника, выключила газ. Наполнила, не споласкивая, чашку второй порцией. Когда кофе сбежит, остатки горчее, чем обычно. Весь аромат на плите, среди засохших макарон и старой суповой лужи. Лужа давняя, пошла трещинами, как степь в пору засухи.
Но вот и вторая чашка допита. Теперь – одеться в белое, до земли, платье, убрать волосы под покрывало, синее с белой полосой. Очки с толстыми стеклами придают этому архаическому одеянию совершенно идиотский вид. Но без очков Пиф почти ничего не видела.
Прилаживая на лбу покрывало, вдруг, как в первый раз, разглядела себя в зеркале. Пифия. Младшая жрица. Сотрудник Оракула.
Оракул – известное в городе учреждение. Один банк данных дорогого стоит, а какими делами там ворочают – того ни в одном банке данных не сыщешь.
Белая полоса на покрывале означает, что жрица дала обет безбрачия. За безбрачие в Оракуле идет ощутимая прибавка к жалованью. Фирме это обходится дешевле, чем оплачивать роды и пособия по уходу за детьми. Кроме того, безбрачие существенно влияет на качество транса.
Пиф сняла очки, чтобы не видеть себя. Жизнь показалась ей вдруг исхоженной вдоль и поперек.
– В конце концов, – сказала она непонятно кому, – я слишком долго приучала себя не наступать дважды на одни и те же грабли. И никто же не предупреждал, что количество грабель строго ограничено. А вот теперь, похоже, они кончились…
Верховный Жрец Оракула ехал на работу в самом мрачном расположении духа. Вчера он разбил машину. Совершенно бездарно разбил. Впилился в задницу грошовой «Нупте», которая вздумала вдруг притормозить, пропуская пешехода. Ну, кто в наше время пропускает пешеходов?
Конечно, Верховный Жрец оказался еще и виноват и с него слупили за грошовую нуптину задницу, которой самое место на помойке. В довершение всего, покуда шли нудные разбирательства, кто кому должен, откуда-то из-под раскаленного асфальта выскочил замызганный подросток с маленьким пластмассовым ведерком, где плескала грязная мыльная пена, и чрезвычайно ловко размазал пыль по стеклам бессильного серебряного «Сарданапала». После чего повис на локте у владельца машины и начал скучно требовать денег. Верховный Жрец с трудом отодрал от себя цепкие пальцы, воняющие дешевым мылом, сунул денег. Подросток скрылся.
Теперь «Сарданапал» на платной стоянке, ждет ремонта, а Верховный Жрец едет на работу в метро. Такси он не доверяет, частным шоферам – тем более.
Добираться на метро даже быстрее, чем на машине. По крайней мере, в пробку не попадешь. Но воняет здесь чудовищно. Из-под каждой мышки несет своим неповторимым зловонием. Казалось, запахи незримо сражаются в воздухе, отвоевывая себе жизненное пространство. Верховному Жрецу, стиснутому в духоте со всех сторон, потному, вдруг резко ударил в нос его собственный запах, и Верховный Жрец ощутил острый стыд.
Вышел на платформу станции «Площадь Наву», вздохнул с облегчением. Поезд ушел, открыв синий кафель стен. Темная голубизна – сродни стрекозиным крыльям, сродни изразцам Ассирии – плеснула в глаза.
Пропылила мимо стайка уличных гадалок, египтянок, – гомоня по-птичьи, цепляя прохожих парчовыми юбками; в смуглых губах мелькают белые зубы.
Верховный Жрец толкнул стеклянные двери станции, вышел на ступеньки, сразу окунувшись в жаркую духоту летнего утра. Вавилон подхватил его, властно потащил за собой – к пропыленной площади Наву, к ослепляющему свету, сквозь душный воздух, полный запахов нагретого асфальта, людского пота, нафталина, тополиного пуха, подгоревшего мяса, которое жарится тут же, чуть не на ступеньках.
И никому сейчас в Вавилоне нет дела до того, что по разбитому асфальту площади Наву, по зловонным лужам и кучам мусора ступает сам Верховный Жрец Оракула. Человек, обладающий в этом городе огромной властью. Он знает здесь все и всех. Любое прошлое готово открыться ему, любое будущее. Непочтителен Вавилон, а уж площадь Наву – и подавно; нет здесь робости ни перед кем. Здесь нечего терять. Здесь все давно уже потеряно.
Вавилон – сам свое прошлое и будущее, он – всегда, во все времена. Сколько ни разгоняй грандиозное торжище на площади Наву – полупомойку, полуярмарку, – все равно возродится, вернется на свое место и выплеснет на грязный асфальт вперемешку грошовый товар и дорогой, пользованный и ненадеванный, сгоревшие лампочки и древние граммофоны, вареную из всякой дряни помаду, колбасные палки с белесым налетом плесени, треснувшие чашки, облезлые игрушки, носки домашней вязки, гвозди в стеклянных банках, постельное белье, куртки, платья, халаты, пальто – и новые, и с себя, и с покойных родственников…
Это по одну сторону.
А по другую – нищие.
Много их здесь, на площади Наву, больше, чем у храмов. И другие здесь нищие. Не благостны, не смиренны. Злобны, как псы, всё норовят цапнуть, обругать.
Тысячи жадных рук тянутся со всех сторон. Перед глазами трясут товар, прыгают скрюченные пальцы – у одного купи, другому просто так дай.
Человек идет по Вавилону, пробираясь между торговцами и нищими. Между соблазном и спасением, своим путем идет человек по Вавилону. И все равны на этом пути.
Верховного Жреца вытолкнуло в угол площади. Налетел на смертельно пьяную женщину. Копошилась под ногами на асфальте – крошечного росточка, с бессмысленным опухшим лицом, в обносках с мужского плеча. Брюки не сходятся на животе, расстегнуты; на брюках кровь. Больно женщине, мычит, корчится, хватает себя руками, пачкает их в крови. Другая стоит над ней, равнодушно выспрашивая что-то.
Верховного Жреца затошнило. А толпа уже понесла его дальше, мимо детских колготок, туфель со стоптанными каблуками, мимо битых будильников и новеньких гаечных ключей, пачкающих подстеленные газеты янтарным маслом…
…Старая-престарая бабка, закутанная, несмотря на жару, в траченый молью платок сидит на ящике. На груди кусок коробочного картона; под крупным «ПОМОГИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!» мелким почерком во всех подробностях описывается богатая злоключениями, нелегкая и долгая бабкина жизнь. Другая бабка, такая же убогая и древняя, с интересом читает, опираясь на клюку…
Сам на себя смотрит Вавилон, не нужно ему никаких зеркал. Сам себе он и пророк, и истина.
Что ты делаешь здесь, Верховный Жрец Оракула? Что ты делаешь здесь?..
Трущобы из трущоб – рабские кварталы Вавилона. Проходи, пожалуйста, господин, если не страшно рылом пропахать кучу отбросов, оскользнувшись по неловкости или с непривычки – по сгнившему мусору ходить особая сноровка нужна. По четвергам вывозят отсюда на кладбище умерших за целую неделю, не разбираясь между рабами и вольными бродягами, так что лучше приходить все-таки в пятницу. Но если уж приспичило нынче, то милости просим: чего изволите?
Рабские бараки обнесены толстой стальной проволокой, сквозь нее пропущен ток, да такой, что у стражника рыжие патлы дыбом стоят. Под проволокой собачий труп – полезла, дурища, ну и шарахнуло. Пусть теперь разлагается в назидание людям.
Морща лицо, кривя губы, входит Верховный Жрец в маленькую караульную. Двое солдат, сняв сапоги, сидят с ногами на лавке, увлеченно шлепая картами. Один, завидев посетителя, досадливо сплюнул, встал, ленивым шагом подошел – в разматывающихся портянках ступая по грязному полу – сунулся в «докУмент», хотя и так знал, кто перед ним стоит. Видал фото в газете. И перед выборами висело везде. Вот кто денег настриг с этих выборов, так это Оракул.
Повертел корки, с любопытством поглядел – каков был Верховный Жрец в восемнадцать лет, когда эти корки ему только-только выдали. Ничего был парнишечка. Даже и не верится. Интересно, какие думки варились в котелке под пушистыми светлыми волосами? И ведь выварились… Солдат даже взгрустнул: разная судьба у людей, кому какая, кто в Оракуле деньги делает, кто здесь, на вонючей лавке, похоже, так и подохнет…
Выходя на территорию квартала, Жрец услышал за своей спиной обрывок разговора:
– А что, Оракул тоже этот сброд покупает?
– Экономят, паскуды…
Хлопнула дверь за спиной, отсекая солдатские голоса.
Осторожно шел Жрец, приподнимая край облачения, чтобы не замараться. Исступленно мечтал о ванне, о благовониях, о тихих, прохладных залах Оракула. А какой грязью замаралась здесь душа – о том лучше не задумываться.
Но выхода другого нет. Машина разбита, денег на ремонт нужно немалое количество, а взять неоткуда. Только что сэкономить на программисте.
Программист Оракулу нужен хороший. И вольнонаемный. На этом настаивала Верховная Жрица. Верховный Жрец хорошо понимал ее правоту: рабы склонны к недобросовестному труду. Но у серебристого «Сарданапала» на платной стоянке было иное мнение.
Толкнулся в барак – выкрашенный зеленой краской строительный вагончик, на двери приколот листок бумаги из школьной тетрадки, химическим карандашом, с грамматической ошибкой, было выведено каракулями: «ПРОГРАМИСТЫ».
Смрад понесся из тесной комнатушки. Нары в два яруса, с верхних свешиваются грязные босые ступни – великие боги Орфея, какая вонь! Протянулась рука, поковыряла между пальцев ног, снова исчезла.
– Куда без провожатого-то, не подождамши! – распереживался кто-то за спиной у жреца.
Маленький лысенький человечек в синей расстегнутой тужурке, похожий на допотопного железнодорожника. Утирая пот с лысинки, он расстроенно глядел на Жреца крошечными красными глазками.
– Разве так можно, господин, без провожатого – да прямо к этим соваться? Нана Заступница!.. Так не делается. Тут же кто содержится? Бандюга на бандюге. Деликатная публика с ними должна аккуратно… Тихо вы, звери! – визгливо прикрикнул он на рабов, которые зашевелились на нарах.
Сверху на Верховного Жреца выпала с кого-то вошь. Он вздрогнул, как от удара. Надсмотрщик осторожненько снял вошь с облачения, пробормотал «сичас мы ее» и исключительно ловко придавил.
– Извольте, – проговорил он, вытесняя Жреца плечом из вагончика. – Я их выгоню, мерзавцев, на белый свет. Там уж и посмотрите, какой на вас глядит, того и выберете.
Верховный Жрец с облегчением покинул вагончик. Приметил на рукаве еще одну вошь, брезгливо сморщился, стряхнул, не притрагиваясь руками.
Из вагончика доносилась матерная брань, топот, грохот. Потом дверь с лязгом распахнулась, и один за другим, щурясь на яркий солнечный свет, вывалились рабы. Их было шестеро. Последним надсмотрщик выпихнул здоровенного детину с мясницкими ручищами. Вышел сам, аккуратно притворил за спиной дверь, обтер лицо грязным носовым платком.
– Извольте.
Все шестеро вызывали у Жреца только одно желание – никогда их больше не видеть. Слабо верилось, что эти люди способны порождать программные продукты.
Надсмотрщик, человек простой, принялся показывать товар лицом. Хвалил их зубы, размахивал флюорографиями, просил пощупать мышцы. Щупать Жрец решительно отказывался, вопросы задавал такие, что надсмотрщик вконец расстроился – не знает он таких названий, о чем речь идет, не понимает, а уж кормили мы их, господин, отборно.
Цену заломил немалую; глазками же суетился так, что Верховный Жрец не сомневался: добрую долю от вырученных средств намерен положить себе в карман. Что ж, сам Верховный Жрец, собственно, тоже за этим пришел в рабский квартал. Экономия на всем, выгода себе.
Выбирал долго, всем даже надоело. Остановился на самом дешевом. Двадцать шесть лет, университет закончил с тройками, морда кислая, двух зубов уже не хватает.
– Не давался лечить, паскуда, – сказал надсмотрщик с обидой в голосе и замахнулся на раба кнутом.
Тот поморгал белыми ресницами, поглядел тупо.
Верховный Жрец просмотрел диплом, сунулся в медицинские справки.
– Так это что же, братец, вши у него? – сказал он наконец.
– Ну, – с готовностью согласился надсмотрщик.
– Почему, в таком случае, в справке написано: «педикулезом не страдает»?
– Каким еще педикулезом?
– Вшами, – сквозь зубы, с отвращением пояснил Жрец.
– А… Так он страдает разве? – Надсмотрщик обернулся к белобрысому программисту. – Страдаешь, рыло?
Белобрысый угрюмо отмолчался.
– Не страдает он, – убежденно сказал маленький надсмотрщик.
– Липа справки-то, – встрял один из рабов, за что получил пинка.
Белобрысый вдруг испугался. Побелел – на такой-то жаре. Вцепился в рукав надсмотрщиковой тужурки.
– Вы что – ЕМУ меня продать хотите?
– Ты знай молчи, – прошипел надсмотрщик. – В богатое учреждение попадешь.
– В Оракул?
Аж губы затряслись.
Надсмотрщик изумленно оглядел белобрысого с ног до головы.
– Молчи лучше, – повторил он. – Счастье тебе привалило, Беда.
– Бэда, – поправил программист.
Надсмотрщик махнул рукой.
– Один хрен, беда мне с тобой. Кому ты нужен, с твоими тройками да религиозными заморочками…
– Не продавайте меня в ихний бесовский кабак, – умоляюще сказал программист.
Надсмотрщик схватил его за волосы и сильно дернул.
– Я тебе башку оторву, – зашептал он. – Молчи, Беда. Сгниешь ведь в рабских бараках.
– Лучше уж в бараках сгнить, чем служить Оракулу.
– Тебя не спрашивают. Раньше думать надо было, когда на тройки учился.
Верховный Жрец вытащил кошелек, раскрыл его под жадными взглядами рабов и надсмотрщика, отсчитал пятьдесят сиклей. Хрустящими новенькими ассигнациями с изображением башни Этеменанки.
Купчую писали в той же караулке, под угрюмым взглядом белобрысого программиста. Солдаты привычно подмахнули в графе «подпись свидетелей», шлепнули круглую печать, помахали ею в воздухе, гоняя смрад, – чтобы высохли чернила. И вручили Жрецу.
После бараков тебе хоть что раем покажется.
Шли, спотыкаясь, среди столпотворения вавилонской толпы: впереди Верховный Жрец Оракула, за ним белобрысый раб. И на душе у обоих было тошно.
В самом центре необъятного Вавилона стоит большое здание постройки времен рококо. Когда-то, в незапамятные времена, этот дворец принадлежал вельможе могущественному и богатому. Сюда приходили знаменитые поэты. Поднимались, не спеша, по широкой мраморной лестнице, между голоногих мраморных нимф. В гостиных с золочеными завитками по белым стенам читали свои знаменитые стихи. Замирая и млея, слушали их красавицы с белыми плечами, отраженные в сверкающих зеркалах.
И еще есть библиотека со стеллажами мореного дуба и готическим камином, где знаменитые поэты ебли знаменитых красавиц. Об этом написаны обширные литературоведческие труды.
Теперь в этом дворце разместился Оракул. Ступени здесь широкие и низкие, как в Кносском дворце. Пиф привычно метет их подолом длинного одеяния. И множество отражений Пиф двигаются в зеркалах справа и слева.
Только парадная лестница еще и сохранилась с тех давних времен, когда здесь гремело бесстыдное рококо. А праздничные, как коробки с новогодними игрушками, залы – те изуродованы фанерными перегородками, разделены на длинные, как пеналы, «офисы»: одна стенка и кусок потолка сверкает лепной позолотой, а с трех остальных, фанерных, уныло скалятся голыми задницами красотки из порнографических журналов.
По узким переходам между стенками снуют клерки, менеджеры, представители заказчиков. А то и сами заказчики – кто помельче – робея, бродят между хлипких стенок в поисках младшего жреца.
Иногда пройдет, пыля облачением, жрица. Перед пифиями, даже младшими, все почтительно расступались. Известны странноватым норовом – так полагалось.
Ох и взбесилась же Пиф, когда налетела, выскочив из-за поворота, на какого-то ротозея из низшей касты. Разглядев же его хорошенько, даже ахнула от гнева. Бритый наголо служащий из касты программистов. На локте (рубаху засучил – дрова колоть собрался, что ли?) восьмизначный номер: раб, из университета (812 – университетский шифр). Морда незнакомая, противная, белесая.
– Твою мать, – прошипела Пиф.
Злющая-презлющая.
– Извините, – сказал программист. Он растерялся.
Пиф покраснела, резко повернулась, взметнув подол, пошла прочь. Спина прямая, как будто аршин проглотила.
(«Не сутулься! – орала на нее Верховная Жрица, муштруя новенькую. – Не на панель пришла. Что ты себе под ноги шаришь? В небо устремляйся, в небо!..»)
И стоило вспомнить об этом, как заныл позвоночник – старая пифия треснула между лопаток посохом, чтобы лучше запомнились заветы старших.
Пиф шваркнула за собой дверью.
На ее рабочем столе, возле выключенного компьютера, уже лежали распечатки.
– Привет, – из полутемного угла сказала Аксиция.
– Прости, я тебя не заметила. – Пиф отодвинула кресло на колесиках, плюхнулась в него, развернулась в сторону Аксиции, спиной к своему столу.
Младшая жрица Оракула, Аксиция поступила на службу несколькими месяцами раньше, чем Пиф, и вместе с ней проходила подготовку у наставника Белзы. Тоненькая, как веточка, Аксиция казалась неуместно юной в суровом облачении жрицы. Пиф трудно было представить себе ее в наркотическом экстазе, исторгающей пророчества.
– Уже уходишь? – с сожалением спросила Пиф.
– Могу задержаться, – великодушно согласилась Аксиция. – Выпью с тобой чаю.
– Много было работы? – спросила Пиф, наблюдая, как девушка вынимает из ящика чашки, ищет заварку.
– Три заказа отклонила, – сказала Аксиция, заливая воду в кофеварку. – Ой, у нас все чашки немытые…
И потянулась к звонку – вызвать жреческую прислугу. При мысли о тетке Кандиде Пиф поморщилась: Оракул поскупился, по дешевке купил для младшего персонала невообразимо неопрятную старуху с бородавками на руках.
– Лучше уж я из немытой, – поспешно сказала она.
Аксиция фыркнула:
– Как хочешь.
– Что за заказы?
– Надоели эти банки, ни стыда ни совести. Сказано, что стратегическая информация не является объектом пророчествования Оракула… Шли бы к христианам, те, кажется, дают пророчества на что угодно…
– Допророчествуются, что их запретят, – лениво сказала Пиф. – Вода кипит.
– Вижу.
Аксиция выключила кофеварку. И продолжала рассказывать:
– Можно подумать, не знают, что валютные курсы не входят в компетенцию Оракула. На это есть финансовое управление… Нет, все равно лезут… Один аж ночью приперся, шоколадку сунул…
Пиф оживилась:
– Шоколадку?
Аксиция засмеялась, зашуршала оберткой.
Они выпили чаю, поболтали немного, и Аксиция ушла домой – отсыпаться после дежурства. Пиф грустно поглядела ей вслед. Встала, заварила себе чаю покрепче. Принялась за распечатки.
Два заказа. На одном пометка Верховного Жреца: «Обратить особое внимание». Видать, Оракул хорошие деньги за это взял.
Основными клиентами Оракула были крупные компании, финансовые и промышленные. Те платили за предсказания очень хорошие деньги. Собственно, на эти средства Оракул и существовал. Говорили, будто и вельможный особняк в стиле рококо купил, удачно предсказав одному банку неслыханное вознесение. Это было еще до введения государственной монополии на некоторые виды информации.
Конечно, обращались сюда и частные лица. Женщинам скидка; если вопрос касается ребенка – двойная скидка. Но к этим клиентам Оракул был не так внимателен, хотя ошибок и здесь почти не случалось: слишком просты вопросы, касающиеся личной жизни, слишком механистически действуют и реагируют люди, больно уж предсказуемы они. Многим довольно было бы обратиться к заурядной карточной гадалке. Но люди хотят, чтоб уж наверняка.
Пиф взяла «первостепенный заказ», и у нее сразу свело скулы. Интересует курс акций АО НЕФТЕНАЛИВНОЙ ПОРТ «ГРУДИ ИНАННЫ». Не любила Пиф эти заказы с акциями. На жертвеннике очень уставала от них. Эмоции грязные, тяжелые – страх, алчность, жестокость. Реалии мрачноватые: аварии, катастрофы, искаженные болью лица и тут же сытые физиономии. И ошибаться нельзя. Ни в коем случае. Потому что именно на этих заказах Оракул и делал свои баснословные прибыли.
Второй заказец был дешевый, простенький. Семейный.
Распечатки содержали первичную информацию по обоим вопросам.
Начнем с легкого, подумала Пиф.
АДИЯ-АН-ДАБИБИ, 43 ГОДА, ВЫСШЕЕ, 16 ЛЕТ… (а, это она в браке 16 лет состоит, старая грымза)… ДВОЕ, 15 И 10, СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР ФИРМЫ «ЗВЕЗДА ЭСАГИЛЫ», 95 СИКЛЕЙ… ого…
Запрос о детях. ДОЧЕРИ, МИЗАТУМ 15 ЛЕТ, КИБИТУМ 10 ЛЕТ…
МИЗАТУМ-ИШ-ДАБИБИ, 15 ЛЕТ, БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ ПРИ ЧАСТНОМ КОЛЛЕДЖЕ ВЫСШЕЙ БАНКОВСКОЙ ШКОЛЫ, НЕ ЗАМУЖЕМ (ну, это и так ясно). РЕЗУС-ФАКТОР ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, ФЛЮОРОГРАФИЯ: БЕЗ ПАТОЛОГИЙ…
Не база данных, а мусоросборщик.
КИБИТУМ-ИШ-ДАБИБИ, 10 ЛЕТ, ШКОЛА «ПОЛНОЛУНИЕ СИНА» (ЦЕНТР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ И ДУХОВНОГО ОБЛИКА УЧАЩИХСЯ В ДУХЕ БОГОПОЧИТАНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА НА СОЦИАЛЬНЫЙ УСПЕХ). Ага, а школа-то не простая. И частный колледж Мизатум, надо думать, тоже влетает этой Адии в копеечку… БЕЗ ПАТОЛОГИЙ… НЕ ЗАМУЖЕМ… (Кретины, в десять-то лет…)
Ладно. Поглядим, что поделывает наш муженек…
ДАБИБИ-ИШ-БАЛАТУ, 47 ЛЕТ, ВЫСШЕЕ, 16 ЛЕТ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФИРМЫ «ЗВЕЗДА ЭСАГИЛЫ», 750 ДИНАРИЕВ…
«ЗВЕЗДА ЭСАГИЛЫ»: НЕДВИЖИМОСТЬ: ТОРГОВЛЯ.
Пиф зевнула. Тоска, как в телесериале. Осталось только узнать имя секретарши генерального директора…
С таким раскладом мадам Адия могла обратиться к уличной гадалке. Из тех, что трутся на синей станции «Площадь Наву». Могла бы и не тратить деньги на Оракул. Лучше бы купила по мороженому Мизатум и Кибитум, порадовала бы девчонок напоследок, потому что, похоже, отец скоро уйдет из семьи. С ба-альшим скандалом.
Пиф вздохнула. Усмехнулась. Еще раз перечитала распечатку. Сделала еще один запрос. О Гузану-ан-Риманни (23 ГОДА, СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ, СРЕДНЕЕ, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОНКУРСА КРАСОТЫ В СОПРЕДЕЛЬНОМ АШШУРЕ…)
Отложила в сторону. Конопли на них жалко, клянусь Великой Матерью.
Заварила еще чаю. Ночь долгая. Перед ночью еще целый день, и ей нужна ясная голова.
(«Запомни: днем у тебя должна быть ясная голова, а ночью мутная».)
Телефон.
– Оракул, дежурная жрица.
Вкрадчивый мужской голос. Не голос, а пан-бархат.
– Девушка…
Пиф вспомнился утренний разговор с Аксицией.
– Меня уведомляли о вашем ходатайстве, – скучно проговорила она. Как по сукну ногтями процарапала. – К сожалению, полезные ископаемые, особенно стратегическое сырье, нефть и газ, их разведка, разработка и эксплуатация месторождений, равно как и прогноз на урожайность злаковых являются информацией, находящейся в монополии государства и не подлежащей разглашению фирмам, предприятиям, как коммерческим, так и производственным, политическим партиям, общественным организациям, включая профсоюзы, а также физическим лицам, согласно пункта восемь Устава о Действующем Оракуле.
– С-сука, – успел прошипеть голос, прежде чем Пиф брякнула трубку.
Вторая распечатка в три раза больше первой. И запросов придется сделать не меньше двух десятков. Пиф удобнее уселась перед компьютером, набрала пароль, вышла в базу данных организаций.
АО НЕФТЕНАЛИВНОЙ ПОРТ «ГРУДИ ИНАННЫ», СУЩЕСТВУЕТ 6 ЛЕТ, 10 ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ, АКЦИОНЕРЫ: БАНК «МАРДУК-НЕФТЬ» (10 ПРОЦЕНТОВ), КОРПОРАЦИЯ «МОЛОХ И СЕЛЕНА»…
«МОЛОХ И СЕЛЕНА»: НЕДВИЖИМОСТЬ: СТРОИТЕЛЬСТВО, ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ, ШЕСТЬ ЛЕТ, УСТАВНОЙ ФОНД 8 МИЛЛИОНОВ СИКЛЕЙ (В СЕРЕБРЯНЫХ СЛИТКАХ) Ясно, что в слитках: ассигнации для безналичых расчетов не подходят… А, вот: СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА…
Теперь глянем, что у нас в регионах, богатых нефтью.
ФАРСИЯ: КРУПНЕЙШИЙ… НЕФТИ… без вас знаю… ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ… Спасибо… Ага, вот последние данные…
Пиф посмотрела дату ввода: позавчера. Нахмурилась. Как можно делать прогноз, имея такую тухлую информацию? За вчерашний день в этой сраной Фарсии могло произойти тридцать три военных переворота. О чем и сообщила в отдел информации. (От гнева не вдруг дозвонилась – не сразу пальцами попадала в кнопки телефона.)
– На обед вы тоже тухлятину едите? – спросила она под конец. – И чья это обязанность – следить за актуальностью базы? Для чего вас тут держат?
Как в воздух спросила. На том конце провода каменно молчали.
Пиф швырнула телефон. Ее колотило от злости.
Ладно, успокойся, сказала она себе. В священное неистовство будешь впадать вечером, перед жертвенником.
Все еще сердясь, сделала запрос по службам транспортировки нефти. Два разорились, три процветают, остальные мелкота. Имеют ли эти три акции нефтеналивного… Ого, еще как имеют…
Постепенно работа увлекла Пиф. Она словно распутывала длинную нить, постепенно сматывая ее в клубок.
«Вы думаете, жрица должна много знать? Быть в курсе всего и вся? Это компьютер в курсе, отдел информации – в курсе. А жрица не должна ничего знать, – говорил Белза, наставник пифий в Оракуле. – Рассудок пифии должен быть пуст. Если угодно, любая хорошая жрица безумна. Знание – я имею в виду, конечно, не Орфическое Знание – ИНФОРМАЦИЯ должна ПРИСУТСТВОВАТЬ в жрице в растворенном виде. Она должна пропитывать вас, как вода промокашку. Существовать вне рассудка. В ТЕЛЕ, не в мозге».
Белза запрещал делать записи. Только наизусть. Он требовал, чтобы девушки воспроизводили прочитанное с первого раза. И добро бы тексты, а то какие-то бесконечные столбцы цифр, курсы акций, динамику роста цен в какой-нибудь Пятиречье.
У самого память была чудовищная, он никогда не ошибался. Пиф поначалу часто сбивалась. Она боялась Белзу до судорог. Никогда никто не вызывал у нее такого животного ужаса.
Он был рослый, лысый, сухощавый, с очень светлыми зеленоватыми глазами. За ошибки он бил по пальцам толстой указкой. И чем больше бил, тем чаще ошибалась Пиф. Ненависть к наставнику зрела в ней, как тропический плод. В первое же занятие ловким ударом он разбил камень в ее кольце, расцарапал ей руку.
Пиф посмотрела на белую точку на безымянном пальце левой руки. Вот эта отметина. Теперь вместо кольца.
В начале лета у Оракула возникли какие-то крупные неприятности с налогами, и Белзу в качестве консультанта продали банку «КРЕДИТ ВААЛА». Говорят, вырученной суммы хватило покрыть все недостачи. До Пиф и таких, как она, достоверная информация обо все происходящем в Оракуле не доходит. Приходится довольствоваться слухами.
Неожиданно экран пересекла наглая красная надпись: «ПРОСТИТЕ, ОШИБКА СИСТЕМЫ».
– Сволочь, – вымолвила Пиф.
И позвонила программистам. Осведомилась: они там что, слона на сервер уронили?
– А что случилось? – лениво спросили.
– У меня выкидыш.
– А у нас новенький, – сообщили программисты. – Мы вводим его в курс дела.
– Да? Тогда пусть вынет член из дисковода, – сказала Пиф, вешая трубку.
Через несколько минут на пороге показался давешний бритоголовый невежа с университетским шифром на руке.
– Это тебя, что ли, недавно купили? – спросила Пиф. – Оракулу, видать, некуда деньги девать. – Пиф отъехала в своем кресле от компьютера. – Погляди, что там случилось.
Бритоголовый наклонился над клавиатурой.
– Из какой операции вас выкинуло?
– Делала стандартный запрос.
Он бегло оглядел комнату в поисках стула. Придвинул кресло Аксиции, сел.
С полчаса Пиф то наблюдала за ним, то заглядывала в свою распечатку.
…ДИРЕКТОР БАНКА «МАРДУК-НЕФТЬ»… а он, оказывается, выдал дочь замуж за фарсийца… Так, а тот, через дядю-министра, связан с «АНДАРРАНСКОЙ НЕФТЯНОЙ ВЫШКОЙ»… Это уже интересно…
Новенький увлекся работой. Похоже, забыл, где находится. Даже вздрогнул, когда Пиф спросила:
– Ну?..
Поглядел на нее мутно, словно не понимая, что от него хотят. Потом спохватился.
– Попробуйте.
Пиф попробовала.
– Работает.
И выключила компьютер.
Бритоголовый встал, откатил кресло Аксиции на прежнее место.
– Я могу идти?
– Да, – сказала Пиф.
Он ушел.
Она растянулась на полу, на мягком ковре, уставилась в потолок, расслабилась. И почти физически ощутила, как информация уходит из рассудка, перетекает в тело, заполняет каждую клетку.
И неожиданно расхохоталась. Во все горло. Пифия должна быть бесноватой, подумала она. Положено. По-ло-же-но!..
Бухнула дверь. Новый программист Оракула, лежавший на нарах лбом в скрещенные руки, поднял голову. Поглядел мутно.
В проеме маячила фундаментальная фигура. В одной руке швабра, в другой ведро. Как скипетр и держава. Из ведра явственно несло хлоркой.
Фигура потопталась на пороге, высматривая в темноте – нет ли кого в комнате. Так и не высмотрев, спросила на всякий случай:
– Я приберу или как?
– Прибери, – отозвался с тощей подушки новенький. Неловко стало ему лежать, когда другой кто-то рядом работает. Сел, свесил босые ноги. С удовольствием ощутил на себе новые подштанники – выдали в Оракуле. Волосы сбрили, обработку от вшей провели, старую одежду, провонявшую каким-то особенным кисловатым рабским запахом, сожгли.
Общежитие для программистов – два нижних этажа флигеля, где в прошлые века вельможи держали конюхов и кухарок, – сильно отличается от рабских бараков в трущобах Вавилона. Только и сходства, что нары в два яруса. Да и народ подобрался куда как посытее, чем непроданные рабы, подобрее.
И еще были книги. Вот уж этого добра – читай не хочу. Порти глаза – на здоровье.
Бэда, человек ленивый, не счел это, впрочем, за большое преимущество. И пока его товарищи жгли казенное электричество в читалках Оракула, он отсыпался.
И отъедался. Ему постоянно казалось, что в следующий раз еды не дадут. Потому и набивал брюхо под завязку, пока дурно не становилось. Хлеба-то можно было брать, сколько влезет. В Бэду лезло много.
– Не наталкивайся ты хлебом, брюхо вздует, – урезонивал его старший программист Беренгарий.
Бэда со старшим, конечно, соглашался, но обжирался все равно. И в обед. И в ужин тоже.
Вообще же программистам в Оракуле не житье, а малина, разливался тот же Беренгарий. (Глянулся ему Бэда, даром что вид имел туповатый.) С шести вечера, если ты только не на дежурстве – а первое дежурство у новенького еще нескоро – можешь делать что угодно. Хоть умные книжки читай, хоть пьянствуй, хоть по девкам шляйся. Без денег, понятное дело, много не нашляешься. Ну да подожди немного, появятся у тебя и деньги.
Тут Бэда заинтересовался было. Даже жевать перестал. Своих денег у него отродясь не было – сам стоил немногого.
Беренгарий охотно пояснил: левые халтурки, то, се. Учись пока. А заказчики придут. Как мухи налетят. Иной раз и бабы подбросят, ко всему подход нужен. Только вот торопиться, Беда, не надо. И соваться куда не след, тоже не стоит.
– А куда не след? – спросил Бэда.
Беренгарий показал на электрическую розетку.
– Вот сюда, к примеру, пальцы не суй.
– Ясно, – сказал Бэда.
Как и большинство программистов Оракула, Беренгарий был рабом. И, судя по шифру на руке, учился тоже не лучшим образом. А вот, гляди-ка, продвинулся, до старшего дослужился.
Рослый, худой, светловолосый, глаза тонут за толстыми стеклами очков, мелкие черты лица все время в движении. Хитрющий Беренгарий. Куда до него Бэде…
Обо всем этом неспешно раздумывал Бэда, лежа в одиночестве на нарах. Он знал, что ему-то всяко до старшего не дотянуть. Даже до среднего – вряд ли. Болтаться ему среди младших до глубокой старости, если только раньше не продадут за профнепригодностью в какую-нибудь жилконтору – обслуживать машины для расчета квартплаты.
Уборщица возила шваброй по полу, гоняя густой дух общественной уборной. Дважды задела Бэду мокрой тряпкой. Он подобрал ноги, уселся поудобнее.
– Тебя как звать-то? – спросила вдруг уборщица, шумно переводя дух.
Бэда назвался. Уборщица выпрямилась, прищурилась, оглядывая его.
– Обрили-то тебя почему? Провинился перед ими, что ль?
– Да нет, вши у меня были, тетка, – честно сказал Бэда. – В бараке подцепил, покуда меня продавали… Там это быстро.
– А, – сказала уборщица. И недовольством от нее потянуло. – То-то старшой меня сюда направил. А я и думала: чего у вас тут мыть, вчера намыто уж… Из-за тебя, значит… У нас строго, так-то вот.
И снова наклонилась, налегла на швабру. Бэда равнодушно смотрел, как она работает. Потом зевнул.
– А тебя, тетка, как звать?
– Кандида, – пропыхтела уборщица.
– Хорошо тут, в Оракуле, тетка Кандида?
Она снова остановилась, оперлась о швабру.
– Как сказать… Сытно тут, конечно, спору нет. Муторно – оно тоже. Да где не муторно?
– И то, – согласился Бэда.
– Но ты гляди, не озоруй, – с неожиданной строгостью сказала Кандида. – Я-то уборщица и годы мои уже старые. Ты другое дело. Программист, шутка ли сказать, высшее образование… Сумей только угодить…
И с откровенным сомнением оглядела неказистую фигуру Бэды.
– Да нет, – сказал Бэда, как бы желая подтвердить справедливость ее сомнений, – куда мне…
Тетка Кандида оставила швабру посреди комнаты, подсела рядом с ним на нары. От нее крепко несло потом и хлоркой.
– Как же тебя, такого-то, взяли в Оракул?
– Не знаю… – И попросил неожиданно: – Принеси мне на ночь еще чего-нибудь поесть, а, тетка Кандида?..
– Наголодался, – вздохнула Кандида. Колыхнула могучей грудью, встала. Тяжко ступая, вышла, прихватив с собой ведро и швабру.
Бэда растянулся на одеяле, заложил руки за голову, уставился в потолок. Невнятно проползла мысль о том, что через каких-нибудь девять часов позовут завтракать. Поскреб бритую голову, откуда доктор вывел докучливых насекомых. Повернулся набок, примял подушку.
Когда Кандида вернулась – большой калач в платок завернут – новенький уже крепко спал.
Кандида постояла в нерешительности, не зная, будить ли, и все глядела на лицо спящего – почти детское, со страдальчески сдвинутыми во сне белесыми бровями. И так, умиляясь, потихоньку и сжевала весь калачик.
Время от времени Оракул проводил презентации и другие не менее пышные мероприятия. Каждое – событие в светской и деловой жизни Вавилона.
Банкиры, нефтяные магнаты, денежные воротилы, представители прессы, владельцы промышленных предприятий, два-три скандалиста из числа профсоюзных деятелей – таков был обычный состав приглашенных. Оракул обычно был представлен внушительными персонами из круга высших посвящений – Верховный Жрец, несколько программистов старшего и среднего состава.
И, конечно же, пифии.
Этих строгих женщин в белых одеяниях остерегались. Рассаживаясь, старались найти место подальше от них. Напрягались, если пифия обращалсь с вопросом, отвечали подчеркнуто вежливо. Шутка сказать: пифии! Эти дивные женщины и девы напрямую общаются с богами Орфея! Им дано присутствовать в кузнице богов, где куется будущее. Дыхание грядущего овевает подолы их одежд. Неземное осеняет их своими крылами. И так далее…
Нет уж. К чему только ни были привычны жители Великого Города, избалованные столицей, в чем-чем могли сомневаться – но только не в богоизбранности пифий. Никто и думать не смел, чтобы посягнуть на их святость и богоизбранность, даже в самых тайных своих мыслях.
Ни мистики, приверженцы богов Орфея, – к этой религии, собственно, и относился сам Оракул.
Ни огнепоклонники, на чьих гигантских каменных жертвенниках, не умолкая, ревело пламя, – те принадлежали преимущественно к торговому сословию и ворочали большими делами в нефтеразработках и нефтеторговле. (Среди клиентов Оракула добрая половина относилась к числу огнепоклонников.)
Признавались пифии и официальным вавилонским культом Бэл-Мардука.
Никто не смел усомниться в них.
Никто.
Ну… может быть, христиане. Но те вообще всех сторонились. В Вавилоне их было немного. Любовью сограждан они не пользовались. А что их любить-то? Сущий сброд. Рабы, нищие, представители низших сословий. У них был, вроде бы, убогий храм где-то на городской окраине, возле кладбища для преступников. Эти христиане представлялись Пиф сборищем шушукающихся фанатиков. Впрочем, она никогда еще с ними не сталкивалась.
Посещение официальных торжеств Оракула также входило в обязанности младшей жрицы, но, в отличие от суточных дежурств, не было таким утомительным.
На такой презентации Пиф обожала выискать какого-нибудь банкира из боязливых и начать осаждать его светской беседой. Тот откровенно пугался, потел, озирался по сторонам, точно кошелек украл. Отвязывалась только после того, как официальная часть заканчивалась и всех любезно приглашали к столу а-ля фуршет. А бутербродики со стола а-ля фуршет Пиф любила куда больше, чем пугливых банкиров.
Западное крыло вельможного особняка, где засел этот сумасшедший курятник – Оракул – было специально оставлено нетронутым. Здесь Оракул блистал во всей своей помпезной роскоши. Не было и следа наглого вторжения варваров с их фанерными перегородками и бумажными шлюхами из журналов. Белые стены здесь, как и положено, сверкали позолотой, канделябры здесь горели, как люстры в Большом Театре, под ноги услужливо стелились пушистые ковры… ну, может быть, в середине немного вытерты… И голоногих нимф и гологрудых амазонок из самого настоящего мрамора здесь было значительно больше, чем на парадной лестнице.
В большом зале с полом из наборного паркета заранее сервированы столы. В углу монументом маячит Кандида: длинное красное платье, лицо и руки отмыты дочиста, волосы убраны под белое покрывало. «И чтоб на тебя никто внимания не обращал, – строго упредил ее Верховный Жрец. – Не то продам. От тебя давно толку нет, только грязь размазываешь да сплетни носишь». Кандида кланялась, сложив руки на поясе, бормотала приниженно, клялась: ни одна живая душа не заметит, буду стоять, как мебель.
И стояла.
А мимо шли и шли.
Приглашенные. Служители Оракула.
И косили глазом не на Кандиду вовсе. На пять роскошных столешниц, где выставлены были в огромных блюдах микроскопические бутерброды, где искрилось шампанское и белое хорасанское вино в узких бутылках, обвитых цветным шнуром, где светились нежно и призывно дивной роскошью янтаря, халцедона, опала, лунного камня, родонита… у, не перечислить! – словом, виноград и персики, яблоки и груши, вишни и сливы…
Вот на что косились.
Особенно откровенно глядела Пиф. Она была голодной – после целого дня, проведенного в читальном зале библиотеки Оракула над многостраничными трудами по экономике Вавилона. Через неделю переаттестация, сказал Верховный. Если успешно сдаст, – повысит жалованье. Прилежная Аксиция своим ровным аккуратным почерком выписала шесть или семь названий. Теперь они с Пиф читают. Не было дня, чтобы не вспоминался добрым словом наставник Белза. Информация, даром что наполовину состоит из цифр, так и ложится в память…
…Ложится, вытесняя все другое, даже воспоминания детства, неожиданно подумалось Пиф.
– …Принципиально новая методика прогнозирования, позволяющая поднять точность предсказаний еще на одну сотую – а это, господа, очень и очень немало, если учесть, что Оракул в принципе не допускает ошибок, о чем вам, разумеется, уже хорошо известно и известно не понаслышке…
Верховного Жреца напряженно слушали. Ждали, когда перейдет к основному – к новой, несколько видоизмененной форме подачи заказа. Поскольку любая усовершенствованная методика требует немного иного способа представления информации о событиях, развитие которых желательно узнать с точностью до той самой одной сотой, о которой сейчас шла речь.
– …Таким образом, смежные области, а также области, смежные со смежными областями, и любые незначительные колебания в их развитии, могут иметь некоторое влияние на интересующий предмет, а могут и не иметь, и динамику этого влияния…
Презентация проходила в Готической гостиной. Вдоль стен, выложенных панелями холеного мореного дуба, расставлены стулья с высокими прямыми спинками, и местные магнаты, банкиры, воротилы и сошки помельче сидели чинно, сложив холеные руки на коленях. По другую сторону стола, разделявшего Гостиную пополам, так же смирно восседали служители Оракула. Скучающе ползали взглядом по потолку, по картинам над головами сидящих. Угасающий вечерний свет пробивался и все никак не мог пробиться сквозь толстые цветные стекла витражных окон. И многоцветная витражная роза горела под самым потолком.
Среди гостей Пиф вдруг разглядела своего бывшего наставника Белзу. Сидели среди каких-то жирных в хорошо подогнанных черных костюмах. И богаты, на толстых пальцах золотые кольца – тоже какие-то мясистые.
А грозный Белза как будто меньше ростом стал. Голову в плечи втянул, что ли, сутулиться начал? Не мог же он усохнуть за несколько-то месяцев, что Пиф его не видела. И облысел еще больше. Теперь венчик светлых волос едва оперяет голову. Под глазами круги. Они и раньше были, эти круги, только Пиф их не замечала.
Вот один из жирных что-то сказал. Процедил, едва соизволив шевельнуть толстыми губами. Белза с готовностью приник ухом к этим губам. Как хорошо помнились Пиф эти движения – стремительные, точные. Выслушал нового хозяина, что-то ответил вполголоса, уселся снова ровно.
Усталость иссушила его, состарила. И Пиф вдруг поняла, что Белза стал ей жалок.
Отвернулась, чтобы не встретиться с ним глазами.
Наконец официальная часть подошла к концу, и прием продолжился в соседнем зале, который среди служителей Оракула непочтительно именовался «предбанником». Голодные служители налетели на бутерброды, как воробьи на раскрошенную булку. Закусочка, деликатная и скуповатая, кончилась исключительно быстро.
С бокалом хорасанского вина Пиф разгуливала по залу, наблюдала. В углу два программиста (можно подумать, не кормят их в Оракуле! не вольнонаемные ведь) жадно пожирали фрукты.
Кандида, таясь, суетливо подбирала яблочные огрызки. Поймав взгляд пифии, побледнела.
– Пирожок вот спеку… – пробормотала она.
Пиф только бровями шевельнула.
– Можно? – совсем ослабев от страха, спросила Кандида.
– Бери, – разрешила Пиф. И поскорее ушла.
Сегодня было скучно.
Она подошла к окну, но сквозь витражи почти ничего не видела. В мути красных и зеленых стекол угадывались могучий Евфрат, причал, прогулочный катер.
– Пифка, – услышала она за спиной голос.
Обернулась.
Беренгарий. Ну, нахал.
И уже изрядно набрался – интересно, как это ему удалось?
Пошатываясь и глядя на нее мутно и ласково, старший группы программного обеспечения протянул ей свой бокал.
Пиф с подозрением отшатнулась.
– Что это?
– Коктейль.
И лукаво улыбнулся.
Оба фыркнули. Они давно работали вместе, им часто выпадали дежурства в одни и те же дни. Вокруг них постепенно образовалась пустота. Двое посвященных беседуют у окна, и цветные стекла раскрашивают их лица в шутовские маски.
Ни он, ни она не замечали этого почтительного отчуждения. А посетители Оракула, деликатно пожевывая бутербродики и посасывая маслинки, нет-нет, да бросали на них боязливые взгляды.
Что решается сейчас, что происходит в эти мгновения между жрецами?
– Ты что, льешь водку в шампанское?
– Угадала. Умная девочка.
– Да ну тебя.
– Ты попробуй, попробуй.
– Хочешь, чтобы я нализалась?
– Да ты же алкоголичка. Тебе пробку понюхать – и ты готова.
…Предсказательница, одержимая божественным духом Феба, берет из рук программиста бокал. Отдает ему свой. Боги, что за ритуал совершают эти двое? Какие молнии Силы проскальзывают между их соприкоснувшихся рук?
– А этот новенький, как его? – заговорила Пиф, прикладываясь к бокалу Беренгария. – Боги Орфея, какая гадость… Где ты достал водку?
– Пронес под поясом. Новенький-то? У него имя смешное – Беда…
– Противная рожа.
– Да нет, парнишка толковый.
– Троечник.
– Я тоже троечником был.
– Оно и видно.
Пиф приложилась к «коктейлю» основательнее. Ей понравилось. Попросила еще. Беренгарий сказал: «сейчас» и пошел за шампанским.
Теперь они пили вдвоем. И с каждым глотком Пиф становилось все лучше. Зал исчез. Раздвинулся, и стенами стала ночь, озаренная сполохами заката. И вместо потолка стало небо, а вместо канделябров – разбитая на куски луна. Исчезли люди, съедены были все бутерброды. Жертву принесли, и кровь протекла сквозь стекла, и стекла стали красными, и река, протекающая там, за стеклами, стала рекой крови.
Пиф громко сказала:
И ей подали трон.
Она села, бокал в одной руке, виноградная гроздь в другой. Ела виноград и плевалась косточками в гостей, и все почтительно смеялись и не смели отирать лица.
И хохотала.
И провалилась в темноту, где не было уже ни стен, ни ночи, не зарева, ни разбитой луны, ни кровавой реки, ни трона, ни власти, ни винограда.
А только темнота была.
В темноте засветилась белая точка. Это произошло не сразу. Может быть, минула одна вечность. А может, и не одна.
Чем была эта точка?
Постепенно она обрела очертания. Это была пятипалая рука. Рука лежала у нее на плече. Тело Пиф содрогнулось, рот раскрылся. Рука держала ее за волосы. Вторую руку она ощутила у себя на животе.
Да ведь это же меня выворачивает, сообразила вдруг она, а кто-то меня держит, чтобы не навернулась рылом в землю.
Она открыла глаза и обнаружила себя под мостом.
Совсем близко текла черная река, и она была огромной, холодной. На ее черной поверхности играли огни большого города, холодные, белые. Под мостом горел небольшой костер, возле него маячили какие-то смутно угадываемые тени. Рыбаки, что ли? Терлась бессонная кошка, пахло рыбой. Корюшкой пахло. Весь мост пропах этой корюшкой. Серебро чешуи отливало на камнях.
А чуть поодаль стояла она, Пиф, в белом жреческом одеянии, без очков (потеряла? разбила?). Рыбаки безмолвно смотрели. Не осуждающе, без любопытства.
– Где мои очки? – спросила Пиф, едва только обрела дар речи.
Ей подали.
Она нацепила их на нос.
– Садись, – предложили ей. И надавили на плечи, чтобы лучше поняла. Она опустилась – думала, на камни, но оказалось, нет, на ватник, расстеленный заранее. Поблагодарить и не подумала.
(Пифия!)
Перед ней стоял тот самый новенький программист со смешным именем Беда. Волосы уже немного отросли, торчали ежиком.
– Развезло тебя, мать, – сказал он сочувственно.
– Принеси умыться, – велела Пиф.
Он послушно пошел к воде, принес воды в горстях, щедро заливая все вокруг, обтер ее лицо.
И остался стоять перед ней, в темноте казался выше ростом, чем был на самом деле. Она сидела, опустив голову, думала.
Потом огляделась.
Безмолвные рыбаки. Бродяги. Темная тень рядом с ней. В синем небе носились чайки и кричали, кричали – тревожно, пронзительно, как будто находились они не посреди большого города, а где-нибудь в море, в нескольких милях от необитаемого острова. Городские фонари светили вдали, и белые чайки тоже светились в черном небе, как будто перья птиц натерты фосфором.
Горел костер, шумно грызла корюшку грязная кошка, чайки расклевывали блевотину, смиренно маячил над Пиф человек по имени Беда, и покой снисходил в ее душу. Будущее придвинулось, стало наплывать на настоящее, размазывая границы реальности.
И кровь потекла к месту своего успокоения. Пиф посмотрела на белобрысого и увидела, как рвется из жил на волю его кровь. Потом опустила голову. И увидела свою кровь, много своей крови, она текла, текла, бесконечно вытекала из бессильного тела, и не было силы, способной ее остановить.
– Ты где был? – угрожающе спросил Беренгарий.
Полотняно-бледный от бессонной ночи, новенький моргал на него белыми ресницами и безмолвствовал.
Беренгарий надвинулся на Бэду всей своей длинной угловатой фигурой, одновременно одной рукой заправляя майку в кальсоны.
– Где был, говорю? Дурак!
Бэда увернулся, сел на койку, молча принялся снимать ботинки. Зевнул с лязгом, по-собачьи.
Беренгарий навис над ним, отчетливо дыша перегаром.
– Верховный заходил, – сказал он. – Тобой интересовался.
Бэда пяткой загнал ботинки под койку и с наслаждением растянулся на матрасе. Почти сразу же заснул. Беренгарий постоял немного рядом, пошатываясь, после громко, со страданием, рыгнул и направился в сортир, хватаясь за стену и проклиная эту дуру Пиф, с которой так нажрался на презентации.
В полдень Бэду едва добудились два служителя, присланные нарочно Верховным Жрецом.
Верховный Жрец все еще пребывал в недовольстве.
За ремонт серебристого «Сарданапала» лукавый механик запросил вдвое больше того, что было сэкономлено на программисте. К тому же Верховная Жрица, вздорная баба постбальзаковского возраста с красными пятнами по всему лицу, явно собиралась настоять на ревизии. У Верховных давно уже шли серьезные разногласия практически по всем административным вопросам. Их отношения, и без того непростые, осложнялись еще тем обстоятельством, что для поддержания надлежащего неистовства в среде Оракула руководству было строжайше предписано регулярное оргиастическое совокупление.
Совокупляться Верховному Жрецу, задерганному интригами, собственным казнокрадством и нерадивостью подчиненных, давно уже не хотелось. А с Верховной Жрицей – тем паче.
Верховной же Жрице хотелось, но уж никак не с Верховным Жрецом.
Поэтому накануне полнолуния оба они находились в самом скверном расположении духа.
Зная все эти обстоятельства до тонкости, тетка Кандида загодя приобрела справку от местного эскулапа и теперь лежала у себя в каморе, больная чем-то заразным. Так что Верховной Жрице только и оставалось, что срывать свою злобу на каких-то старых отчетах, методически превращая их в кучу обрывков. Она называла это «устраивать снегопад».
А Верховному Жрецу подвернулся Бэда…
Пинать спящего на койке новенького программиста было неудобно, поэтому один из служителей просто огрел его предусмотрительно припасенной плеточкой.
Бэда подскочил, вытаращив глаза. То, что он увидел, очень ему не понравилось. Два дюжих молодца, облаченные в кожаные фартуки. По случаю жары, кроме фартуков, на них больше ничего не было, поэтому Бэда мог свободно обозревать их потные мускулистые торсы, густо поросшие, где надо, черным волосом, а когда те повернулись – то и на диво упругие ягодицы, помеченные клеймом. Шифр был незнакомый. (Впоследствии умный Беренгарий растолковал глупому Бэде, что такую метку ставит Министерство Внутренних Дел, при котором, собственно, и готовят костоломов. Впрочем, в дипломе у них значилось «мозгоправы». Их можно встретить во всяком приличном учреждении. Правда, Бэда до сих пор не работал в приличных учреждениях…)
– Да встаю я, встаю, – мрачно сказал Бэда. И когда мозгоправ огрел его вторично, рявкнул: – Одеться дай, кретин!
Подумав, мозгоправ плетку опустил. И то правда. Как тут оденешься, когда все время лупят.
Ворча под нос невнятное, Бэда натянул штаны.
– Будет, – лаконично сказал мозгоправ. И подтолкнул его в спину.
Бэда послушно пошел из комнаты – в одних штанах, босой. Беренгарий проводил его глазами и, вздохнув, постучал себя пальцем по виску.
Когда дверь за полоумным программистом закрылась, Беренгарий вытащил кипятильник и принялся готовить себе кофе.
– А за что его?.. – спросил кто-то из угла.
Всецело поглощенный своим похмельем Беренгарий ответил, не оборачиваясь:
– В бараке ночевать положено. Не вольнонаемный.
– Подумаешь! – фыркнули в углу.
– Гм, – сказал Беренгарий. – Так его со жрицей видели.
В углу почтительно свистнули.
– Рано начал, – заметили.
– Рано кончил, – поправил Беренгарий. – В прежние времена за такие дела яйца отрезали. Очень даже запросто.
В углу пожали плечами. На том разговор и закончился.
А Бэду тычками через двор погнали. И не то, чтобы так уж упирался Бэда – вовсе и нет; напротив, смирен был и топал, куда велели, без разговоров; а просто положено так было, чтобы тычками гнать.
Пригнали, в подвал на грузовом лифте спустили. Мрачный лифт, темный, еще деревянный. Двери за спиной хлопнули оглушительно и открылся коридор. Гнусный коридор. Да и весь флигель гнусный, а уж о подвале и говорить нечего. И запах стоял здесь неприятный. Воняло будто тухлой рыбой.
Белобрысый на то и дураком был, чтобы головой вертеть и с любопытством по сторонам смотреть. И даже лыбиться – будто не понимал, куда его ведут.
Привели.
Все, как положено: по стенам разное выставлено – тут тебе и «гантели царя Хаммурапи», и «ашшурская железная дева» (с шипами), и «седалище Семирамис» (тоже с шипами, только более острыми), и «шутка Эрешкигаль» (заостренные козлы, на которые сажают верхом), и «коготочки Наны»… Словом, набор внушительный. Впечатляющий, можно сказать, набор.
У стены, где оконце, вросшее в землю, стол с креслом. В кресле, туча тучей, – Верховный. Набычился, надулся, будто девку у него свели.
У ног его, прямо на холодном каменном полу, маленький чернокожий писец пристроился. Глазки в полутьме поблескивают, с лица улыбка не сходит: счастлив человек. На коленях дощечка, в руке стилос, за ухом еще один. Бритоголовый, коротконогий, с одутловатыми щеками.
Белобрысого программиста без худого слова за руки взяли – дался. Вложили руки в кольца, какие нарочно на цепях с потолка свисали. Ключом ловко повернули. Раз-два, замок замкнули. Только тут забеспокоился Бэда, головой задергал.
– Вы чего, мужики? – спросил ошалело.
Мозгоправы, разумеется, в ответ на такой глупый вопрос только промолчать могли.
А Верховный в своем кресле поудобнее устроился. Рукой махнул: начинайте.
Бэду и огрели по спине. Тот взвыл не своим голосом, на цепях запрыгал.
Верховный сказал скучно:
– Замечен в том, что ночь не в бараке провел.
– Так я же вернулся под утро, – возразил Бэда. Сдавленно так проговорил, неудобно говорить ему, на цепях повисши.
– Согласно внутреннему уставу Оракула, все не вольнонаемные… – начал Верховный Жрец, а завершать фразу не стал. Хоть и дурак этот новенький, а сам поймет.
Бэда и понял.
– Ну… виноват, – сказал он покорно.
– Где ночью был? – спросил Верховный Жрец.
Мозгоправ тут же снова Бэду плеткой уважил. Бэда завопил ужасно. После, слезами заливаясь, взмолился:
– Я и так все расскажу, как было. Чего сразу драться-то?
– Конституцию плохо читал, – сказал Верховный.
Бэда Конституции Вавилонской вообще не читал. Поэтому только носом потянул. А мозгоправ пояснил:
– По новой Конституции, рабов допрашивают исключительно под пыткой. Иначе показания считаются недействительными.
– Где был ночью? – повторил вопрос Верховный.
– Сперва на презентации, – сказал Бэда. Зажмурился. Пока не били – воздерживались. – Потом жрица ваша, Пиф, ослабела… Напилась и буянить стала. Какого-то жирного по морде съездила… Тут на нее холуи набросились. Жирный-то оказался директором какого-то банка…
Верховный сделал знак мозгоправу, и Бэда огреб очередную плетку.
– Так вашу!.. – возопил он. – До смерти, уроды, не забейте!
Слезы, уже не таясь, обильно стекали по его покрасневшим щекам.
– Ты знай рассказывай, как было, – грозно проговорил Верховный Жрец, – а нас не учи.
– Ну вот. Холуи на Пиф эту насели, за руки ее схватили. Один давай ее по щекам бить, чтобы в чувство, значит, пришла… Она хоть и стерва, а все же… Я ее у них отобрал и очки одному расколотил… Слушай, убери свою убивалку, а то подохну ведь!
– Не подохнешь, – сказал мозгоправ. – Нас нарочно учили, чтобы не подох. У меня и диплом медицинский есть…
И с маху хлестнул.
– Ма-ама! – закричал Бэда. – У меня, чую, уже и кровь по спине ползет…
– Это моча у тебя по ногам ползет, – сказал мозгоправ. – Давай.
– Я тебе не шлюха, чтоб давать!.. Господи, все за грехи мои… – заплакал Бэда. – В общем, унес я эту Пиф. Она по дороге два раза еще от меня выворачивалась, все плясать хотела. На стол какой-то полезла, стол своротила и канделябр… Дорогие же вещи, потом не расплатиться… Я ее на набережную снес, чтобы проблевалась…
– Значит, ты ушел с презентации в обществе младшей пифии Оракула, именуемой Пиф?
– Ну, – согласился Бэда.
– А тебе известно, что Пиф дала обет безбрачия, за что получает существенную прибавку к жалованью?
– Откуда мне чего известно? Вот на мою голову… – сказал Бэда. – Проблевал я ее, дуру малахольную, взял тачку – на ее деньги, конечно, – и домой повез. Она сперва смирная сидела, потом в драку с шофером полезла. Он едва не выбросил нас посреди города. Я пригрозил, что в Оракул нажалуюсь. Ну, довез он нас… Убери плетку, ублюдок!
Мозгоправ задумчиво помахал плеткой у Бэды перед носом.
– Пусть уберет, – сказал Бэда, обращаясь к Верховному Жрецу. – Он меня нервирует. Когда меня бьют, я говорить не могу.
– Не будешь говорить – применим настоящие пытки, – сказал Верховный Жрец.
Бэда беззвучно выругался и продолжил уныло:
– Нашел я у нее какие-то деньги, шоферу этому сунул. А девицу раздел и умыл как следует. Она уже уснула к тому времени. Тяжелая, как куль. Отъелась в Оракуле.
– Следовательно, – подытожил Верховный Жрец (маленький чернокожий писец рядом с ним старательно заскрипел палочкой по дощечке), – вы с младшей жрицей Пиф остались в ее квартире наедине в ночное время?
– Остались, – подтвердил Бэда. – А куда я, интересно, пойду через весь город? Да и эта… Пиф… Сперва, вроде, тихо лежала, после вдруг давай рыдать, за бритву хвататься… А как заснула, так тоже все не слава Богу: то захрапит, то руки разбросает и стонет… Хуже пьяного грузчика.
– То есть, вела себя непристойно?
– Да.
– А ты ее раздел, говоришь? – вдруг вспомнил Верховный еще одну подробность.
– А что, в грязном ее на постель класть?
– И на постель уложил.
– Да.
– Голую.
– Да.
Верховный Жрец побарабанил пальцами по колену. Маленький чернокожий писец склонил голову набок, слушая, будто прикидывая, какими письменами запечатлеть это постукиванье господских пальцев.
– И что было дальше?
– А ничего, – проворчал Бэда. – Что вы, в самом деле, пьяных баб не протрезвляли? Сбегал, как открылась, в лавочку, пива ей принес, чтобы очухалась…
– А она?
– Выжрала пиво, спасибо не сказала. Опять улеглась.
– А ты?
– А я сюда пошел.
– И все? – угрожающе спросил Верховный Жрец, хотя и так было понятно: и все.
– Ну, – сказал Бэда. Судя по его тону, он уже ни на что не надеялся.
– Еще пять кнутов за дерзости и непристойную ругань во время дачи показаний, – сказал Верховный Жрец, поднимаясь. – Потом в барак.
И вышел. Маленький писец на коротких ножках побежал за ним, точно собачка.
Утро, как справедливо замечено, имеет своих призраков. Шел Бэда от бабы стервозной да похмельной, и утренние сумерки обступали его. Остывшие камни набережной Евфрата точно сосали тепло живого тела. Зябко было, хотя день обещался опять жаркий и душный. Вот уже и площадь Наву, вот уж рабские бараки показались. Побродил Бэда вокруг, послушал зычный храп, из-за дощатых стен доносящийся. Плюнул себе под ноги да и пошел прочь.
И впрямь, лучше уж в Оракуле, в кабаке бесовском, чем тут, – прав был дедок-надсмотрщик, который Верховному Жрецу раба негодного всучивал.
Раза два оборачивался. Глядел, как барак отдаляется.
Пустой была площадь, только мусор повсюду валялся – час уборщиков еще не настал. На одном обрывке остались корявые буквы «ПОМОГИТЕ, ЛЮДИ ДОБ…»
Обойдя же ларь, густо истыканный этикетками с надписью цены, наткнулся Бэда на того самого дедушку, которого только что с благодарностью вспоминал. Лежал дедуля-надсмотрщик в синей своей, будто бы железнодорожной, тужурке, пятками и затылком в грязную мостовую упираясь, строгий, вытянувшийся. И совершенно мертвый.
Глядел пусто и скучно, а лицо у него было серое. Скоро уборщики придут, выметут мусор, клочки и обрывки, снесут в угол площади ящики и иное дерьмо и подожгут. И дедулю туда же, наверное, сунут, чтобы не разлагался. А может, похоронит его городская администрация, ежели он на службе числился.
Бэде до этого дела было немного. Только странно показалось, что на животе у дедка какой-то паренек примостился. Сперва Бэда паренька этого и не заметил, а после глянул и увидел: точно, сидит.
Босоногий, в одной только набедренной повязке, встрепанный мальчишечка лет, наверное, девяти или десяти, ясноглазенький, востроносенький. В носу ковырял задумчиво и на Бэду глазками постреливал.
– Привет, – сказал Бэда.
Паренек хихикнул. И видно было, что радостно ему.
– Ты чего здесь сидишь? – спросил Бэда.
Паренек огляделся.
– А что? – сказал он наконец. – Нельзя?
– Да нет, можно… – Бэда был растерян. – Только странно это.
– А чего странного?
– Так на трупе сидишь, – пояснил Бэда.
– А…
Мальчик поглядел на мертвого дедка и вдруг фыркнул, да так заразительно, что Бэда тоже улыбнулся. Хотя чему тут улыбаться? Ну, лежит за пивными ларями жмур. Положим, бывший знакомец. Мясо из рабской похлебки пальцами вылавливал и ел, это Бэда про него доподлинно знал. Ну, что еще? В купчих цену писал меньше, чем платили на самом деле. Так ведь кто этим не занимался? Все, почитай, занимались. Был, в общем, падлой средней руки этот жмур.
И все-таки что-то нехорошее было в том, что этот мальчик так на нем сидел. Бесцеремонно это.
Бэда так и сказал.
– Тебя как звать? – спросил мальчик, щурясь. – Я тебя, вроде бы, видел прежде.
– Бэда, – сказал белобрысый программист.
– Беда, – поправил мальчик. И зашелся хохотом. Едва не повалился, пятками задергал в воздухе, попкой сверкнул.
– Повязку намотай по-человечески, – строго сказал Бэда. Ему не понравилось, что мальчишка потешается.
– Иди ты со своей повязкой… Этот вот, – мальчик по жмуру постучал кулачком, – он же тебя Оракулу продал, да?
– Да…
– Говорил я ему, чтобы не делал этого. Ты ведь христианин, Бэда, верно?
– Ну. – Бэда заранее надулся. Ему немало пришлось уже выслушать по этому поводу. Бэда не был усердным христианином, как не был он усердным студентом, а теперь и сотрудником Оракула. Но переходить в иную веру не собирался.
– Так этот гад тоже христианином был, – сказал мальчик. – Представляешь?
– Не может быть! – Бэда даже рот приоткрыл.
– Точно тебе говорю.
– А откуда ты его знаешь? – спохватился Бэда. – Внучок, что ли?
На этот раз ему пришлось своего странного собеседника ловить, чтобы мальчик не стукнулся головой об угол ларька, так тот разбуянился от сугубого веселья.
– Я? Я-то? – наконец выговорил мальчик. – Да я же его душа!
Бэда сел рядом на ящик. Пошарив в карманах, вытащил украденный на презентации и так и позабытый мятый бутерброд с икрой. Поделил пополам. И вместе с душой покойного надсмотрщика из рабских бараков съел липкую булку с размазанными по ней икринками. Показалось вкусно.
Душа чавкала рядом. Поев, встала и с неожиданной злостью пнула покойника босой ногой.
– У, падла… – со слезой произнес мальчик. – Затаскал меня всего, замусолил… Дерьмом каким-то заляпал… Разве меня таким Господь сотворял? – Он развел в стороны тонкие свои руки, будто собираясь взлететь. – Меня Господь вот каким сотворял! Он меня воздушным сотворял! Мне в детстве видения были чистые и добрые! Я стихи слагал и… – Он всхлипнул без слез, горлом. – Я чистый был, светлый я был, да! Не смотри так! – напустился он на Бэду. – Что уставился?
– Тебя Господь красивым сотворил, – сказал Бэда без улыбки.
– Вот именно, – сердито подтвердил мальчик. Ресницами хлопнул. – А что со мной этот сделал? Во что он себя превратил? В церкви когда последний раз был?
– Я тоже давно не был, – сказал Бэда.
– О душе бы подумал, – укоризненно произнесла душа надсмотрщика.
– Вот я о ней сейчас и думаю, – сказал Бэда.
Он действительно о своей душе задумался. Но ничего пока что утешительного на ум не шло. Наконец Бэда сказал:
– Знаешь, что. Давай ты исповедуешься мне, а я – тебе. Я потом в храм пойду и за этого твоего вознесу…
– Что вознесешь? – спросила душа с подозрением.
– Ну… чего положено. Я у батюшки спрошу.
Душа призадумалась. А потом созналась, почти со слезами:
– Он меня в черном теле держал. Я почти и не знаю про него ничего. Иной раз вякнешь, совет дать попытаешься, так он, сволочь, сразу за бутылку – и пить. Я оттого и не…
Тут Бэда понял, что душа ужасно боится. Потому и врет.
Он так и сказал.
– Чего боишься-то? – добавил Бэда.
Душа передернула плечами, обернулась, будто боялась увидеть кого-то.
– Ну… Сперва-то мне радостно было, что избавился от него. А теперь действительно страшновато стало, – сознался мальчик. – Как я с Ним увижусь… что скажу…
– Все вы Господа Бога боитесь, точно сборщика налогов, – сказал Бэда. – Он же тебя вон каким сотворил.
– Сам не знаю… Боязно все-таки. Ты там вознеси за меня, что положено.
– Ладно уж, вознесу, – сказал Бэда. – Ты не бойся. Вот слушай лучше…
Обнял мальчишку (тот теплым оказался, даже горячим, как маленькое животное), к себе прижал.
Начал рассказывать. Сперва честно пытался о грехах своих говорить; только грехи у Бэды выходили какие-то совершенно несерьезные. Много врал – но только начальству и больше от безнадежности. Много крал, но опять же, преимущественно еду и от голода. Остальное по мелочи. Что учился плохо, так это не грех. Вот только в Оракул попал и теперь служит богам Орфея… с этим непонятно что делать. Нарочно служить как можно хуже? Бежать? А если бежать, то куда? Некуда Бэде бежать, разве что в Ашшур податься, так ашшурцы его в два счета снова в рабство продадут.
Потом просто про разное говорить начал. Про Оракул рассказывал, про тетку Кандиду, про старшего программиста – ушлого Беренгария, про дуру бесноватую – жрицу Пиф.
Душа слушала, будто сказку. Вздыхала тихонечко. Наконец Бэда замолчал, отодвинул мальчика от себя, в лицо ему заглянул.
– Ну что? – спросил он. – Не страшно тебе больше?
– Ага, – сказала душа надсмотрщика.
– Пойдем, что ли? – сказал Бэда.
Они с мальчиком встали и пошли дальше по площади. А дедок остался лежать за пивными ларями.
За Евфратом, перейдя мост Нейтокрис, Бэда с душой надсмотрщиковой простился и отправился в Оракул. Душа же побрела вниз по течению Великой Реки и скоро скрылась из виду.
Поскольку сегодня дежурства у Пиф не было, то она явилась в Оракул поздно – около часа дня. И в цивильном: легкие джинсы, полупрозрачная кружевная блузка (кружева настоящие, шелковые, цены немалой). Темные волосы тщательно вымыты и блестят, схваченные лентой.
Постукивая легкими каблучками по мраморным ступеням, взбегает по парадной лестнице – помилуйте, разве эту девицу, вдребезги пьяную, несколько часов назад тащили вниз, опрокидывая по дороге лакеев и канделябры? Слабый горьковатый аромат духов, уверенные движения. И во всех зеркалах, справа и слева и на потолке – Пиф Трезвейшая, Пиф Чистейшая, Пиф Неотразимая…
Она хотела заглянуть в библиотеку, взять заказанные Аксицией книги. Заодно сделать кое-какой левый заказик для Гедды – лучшей подруги еще со школьных лет. Гедда приторговывала какими-то снадобьями для повышения мужской и прочей потенции, интересовалась тенденциями.
Но все эти планы разбились почти мгновенно. Едва лишь Пиф успела протиснуться в тесный офис-пенал младших жриц и поздороваться с Аксицией, едва только принялась взахлеб рассказывать о своих вчерашних подвигах, как взревел телефон внутренней связи. Аксиция, извинившись перед подругой, прервала ее бурное словоизвержение и сняла трубку.
Голос Верховной Жрицы отчетливо прозвучал на весь офис:
– Пиф явилась?
– Да.
– Пусть зайдет ко мне.
Аксиция положила трубку и сказала задумчиво:
– Третий раз звонит.
Пиф дернула углом рта.
– Дура климактерическая.
И вышла, задев плечом перегородку.
Пиф любила Оракул. Ей нравилось это роскошное старинное здание. Нравились жрицы. Нравилось быть одной из них. Она как будто значила больше, чем другие люди. Пифия. Та, которая открывает будущее, пусть не всегда внятно, словно вглядываясь в пыльное зеркало. Которая видит обратную сторону вещей, вечно отвернутое от человека лицо тайны.
Она попала сюда на работу, можно сказать, случайно. Пришла по объявлению. Образование у нее было гуманитарное, оценки в дипломе хорошие; обет безбрачия дала с легкостью (все равно ей с мужчинами не везло и в любви она была разочарована). Тестирование прошла на удивление удачно. И вообще – человек нашел себя.
Работа в Оракуле приносила удовольствие. И деньги. Большего и ждать было нечего.
С Верховной она почти не встречалась. Верховная была наверху, руководила общим процессом, поддерживая в учреждении специфическую, только ему присущую атмосферу, где странным образом сосуществовали и сочетались – непонятно как, но весьма органично – иррациональная одержимость пифий и строгий мир компьютерного информационного обеспечения.
Верховная Жрица ждала Пиф в своем кабинете. Просторном, полутемном. На большом, еще прежних времен, столе тускло светится орфическое яйцо, обвитое змеей. Яйцо алебастровое, змея золотая. Все остальное тонет, растворяется в благоуханной полутьме.
У стола высокая спинка кресла. Черный коленкор, массивные золотые шляпки гвоздей. Две кобры со знаками Буто и Нехебт на головах, глядящие друг на друга, образуют навершие.
Прямо между змеиных морд – женское лицо. Когда-то очень красивое, холодное, с правильными, уже расплывающимися, но все еще изящными чертами. Верховная Жрица – египтянка, и поговаривают, будто некогда ее прикупил прежний еще Верховный Жрец. Поначалу будто бы полы мыла, после же путем хитрых интриг, подкупа и неразборчивости в средствах достигла положения жрицы. А там, шагая по головам, вознеслась в это кресло, нарочно для нее выписанное из страны Мицраим. Впрочем, это про любую Верховную Жрицу говорят.
Пиф вошла, склонила, как положено, голову.
Верховная Жрица не шевельнулась. Только на скулах красные пятна проступили – от гнева.
– Потаскуха! – прошипела Верховная Жрица.
Пиф молчала.
Дальнейший диалог очень напоминал разговор Беренгария с Бэдой, о чем, естественно, жрицы не подозревали.
– Где ты была ночью?
– Дома, госпожа.
– Дома? Ты была дома одна?
– Да, госпожа.
– Сука!
– Вряд ли, госпожа.
– Ма-алчать! – взвизгнула Верховная Жрица таким голосом, будто всю жизнь только и делала, что торговала репой.
Пиф брови подняла. Но из-под очков это было не слишком заметно.
Верховная спросила:
– Ты ушла с презентации одна?
– Не помню, госпожа.
– Пьяная?
– Разумеется, госпожа. Нам это предписано. – Пиф цитировала Устав: – Неистовство, странное, подчас шокирующее поведение…
– Приступы ярости, способность легко входить в состояние аффекта, – почти мечтательным тоном добавила Верховная Жрица.
– И оргиастический секс, – заключила Пиф.
– Смотря для кого, – сухо сказала Верховная Жрица. И поморщилась.
Пиф неподвижно смотрела на нее, не понимая, к чему клонит начальство. Начальство же пребывало в ледяном осатанении.
– Ты, девочка моя, кажется, получаешь безбрачные, – начала она.
Пиф кивнула.
– И давно?
– С самого начала работы, госпожа.
– Тебя это устраивает?
– Конечно.
– Так вот что я тебе скажу, подруга, – проговорила Верховная, слегка приподнимаясь в своем высоком кресле. – Вчера с презентации тебя унес какой-то раб из низшей касты программистов…
– Да? Я не заметила, – искренне сказала Пиф. Она и в самом деле почти не обратила внимания на человека, которым помыкала до самого утра.
– Да, – повторила Верховная Жрица. – От него до сих пор керосином разит, такой завшивевший…
У Пиф тут же зачесалось за ухом. Она украдкой поскреблась пальцем, хотя никаких вшей у нее, естественно, отродясь не было.
– Так и что с того? – спросила Пиф, все еще недоумевая.
– Что с того?! Да то, девочка моя, что плакали твои безбрачные!
Пиф поперхнулась:
– Неужели вы… вы что, думаете, что я?.. С программистом?..
– Он во всем сознался, – сказала Верховная Жрица. – Под пыткой он сознался во всем.
– В чем он мог сознаться?
– Тебе видней, – сказала Верховная и сжала губы.
– Он не мог ни в чем…
Пиф замолчала. Во-первых, она и сама не помнила событий вчерашней ночи. А во-вторых, если эта белобрысая образина (теперь она вспомнила, кто с ней был) наболтала… конечно, хвастался дружкам… Боги Орфея!..
– Ты лишаешься безбрачных, – сказала Верховная Жрица. – Я уже подала докладную. В бухгалтерии произведут отчисления. А как же иначе? Качество предсказаний может пострадать. И надлежит пресекать… Иначе же как?
– Да, – подавленно сказала Пиф. – Иначе никак. – И закричала прямо в лицо Верховной: – Сука!
Верховная слегка улыбнулась.
– Пшла вон, – проговорила она тихо, с невыразимым наслаждением. – Пшла… девочка моя.
Ворвалась, хлопнула дверью так, что чахлая традесканция пошатнулась на шкафу – едва подхватили ее чьи-то руки.
Растревоженным бульдогом, едва не вцепившись ей в ногу, повисла тетка Кандида.
– Куда? Барышня… Милая, родная… меня же прибьют за вас… Нельзя туда, нельзя! Ба-арышня!..
Дергаясь, острым локтем будто клюя тетку Кандиду в мягкую грудь:
– Отстань! Дура старая!
– Барышня… – позабыв с перепугу, где и находится, тетка Кандида взвыла (прежде прислугой была в богатом доме и на вздорных хозяйских дочек нагляделась).
Пиф стряхнула с себя служанку, кулаки стиснула, присела аж с натуги и заверещала страшно:
– Где он?!!
Беренгарий, ухмыляясь, сказал очень двусмысленным тоном, будто подразумевая нечто большее:
– Здеся…
Отшвырнув Беренгария, туда бросилась, куда кивнул.
– Сопляк! Дерьмо!
И понесла…
Программисты, кто в бараке был, с наслаждением слушали. Давно такого не бывало. Прямо роман.
Это чтобы младшая жрица, позабыв приличия, к программистам врывалась. Это чтобы пифия прилюдно грошового раба честила… Пусть в цивильном не сразу в ней пифию признаешь, да ведь главного это не отменяет: прибежала и орет. Аж визжит.
Нет, давненько такого не бывало. На памяти Беренгария – вообще ни разу.
За нарами в два яруса, отгораживая их от двери, большой шкаф стоит, боком повернутый, будто еще одна стенка. Шкаф как башня крепостная – гигантский, дерева темного, массивного. В шкафу шмотки всякие, молью полупоеденные, поверх шмоток разные провода навалены – иной раз что-нибудь оттуда и сгодится. Ну и еще всякое разное барахло, несколько порнографических журналов такой древности, что сейчас их и смотреть-то смешно. А под самым низом свили гнездо мыши.
За шкафом же «подсобка» – на шатком столике таз с мутноватой водой и синий жестяной рукомойник допотопной эпохи – ровесник законов царя Хаммурапи. После потопа мало что уцелело, такие сокровища, такие книги погибли – а вот эта ерунда, смотри ты, до сей поры людям служит…
Бэда безответный как раз под этим рукомойником и плескался, посуду за всем бараком мыл. На него обязанность эту повесили, пока тетка Кандида хворала своей заразной хворью. Хоть и знали, конечно, что хворь у Кандиды фальшивая, но не выдавать же старуху…
Рядом с Бэдой, на грязном ящике с белыми пятнами мыльной пены, душа надсмотрщикова мостилась. Ногами болтала и языком молола. Душу не то не видел больше никто, не то внимания на нее не обращали.
Мальчишка был теперь, помимо набедренной повязки, облачен в синюю дедову тужурку. Других перемен в его облике не наблюдалось.
– Видел Его-то? – спросил Бэда, прерывая длинное бессвязное повествование души о ее странствиях.
Мальчик коротко кивнул.
– Ну что, рассказал Ему?
– А… – Мальчик вздохнул и махнул рукой. – Он и так все знает.
– Ругался? – сочувственно поинтересовался Бэда.
– Не… Он расстроен, – еле слышно сказал мальчик. – Ой, ну не спрашивай про это, а то зареву…
И тут – грохот двери и звериный почти визг: «Где он?!!»
Душа беспокойно заерзала на ящике и вдруг смылась куда-то – Бэда даже не понял, как это вышло.
И вот, своротив по дороге стул и споткнувшись о чьи-то ботинки, врывается в закуток, от гнева раскаленная – едва не светясь:
– Ты!..
И с размаху – бац по скуле!
Бэда чашку отставил, мыльные руки о штаны отер, на ящик, откуда надсмотрщикова душа сбежала, опустился.
Младшую Жрицу он в цивильном еще не видел. В облачении – видел, голенькую – видел. Но когда она, горьковатыми духами пахнущая, белым кружевом окутанная, в джинсики светлые затянутая, на него наскочила – тут уж он растерялся.
Рот раскрыл и глупо на нее уставился.
Сверкая очками, Пиф кричала:
– Дерьмо!.. Дрянь!..
И поскольку он слушал, не шевелясь и не пытаясь вставить слово, она через несколько секунд иссякла.
Дыхание перевела, протянула руку и, набрав воды из рукомойника, лицо отерла. Утомилась, орамши.
Уже спокойнее спросила:
– Что ты Верховному наболтал?
– Ничего… – удивленно сказал Бэда. – А что случилось?
И лицо потер. У Пиф рука тяжелая, всей пятерней отпечаталась.
– Да то и случилось, что меня безбрачных лишили, – сказала Пиф, ничуть не стесняясь того, что Беренгарий и другие – кто там еще был – слышат.
– За что? – поразился Бэда.
– Тебе видней, – разъярилась она опять. – Что болтал?
Беренгарий появился из-за шкафа и, делая умильный вид, промолвил:
– Так он под пыткой… Пифка, из-за тебя человека на дыбе пытали!
– Не человека, а программиста, – огрызнулась Пиф.
– Да брось ты, пожалуйста, – сказал Беренгарий. – Чуть что по морде драться. Не де-ело…
Тут ожила забытая у входа тетка Кандида и снова запричитала и залопотала:
– Не дело барышне в бараке отираться! Уходили бы, госпожа, покуда не приметил кто…
Беренгарий на Кандиду цыкнул грозно: портила бабка всю потеху. Кандида отступилась и только слыхать было, как топчется в темноте, вздыхает, сопит – на новый приступ решается.
– А что случилось-то? – снова спросил Бэда.
– То и случилось. Сняли безбрачные… Ты хоть знаешь, сколько это?
Бэда помотал головой, все еще оглушенный.
– Больше, чем сам ты стоишь! – со слезами взвизгнула Пиф. Размеры ущерба вдруг пронзили ее, будто стрелой, причинив душевную боль силы неимоверной. – Тридцать в месяц! Тридцать серебряных сиклей, ублюдок!
– Да ну! – восхищенно сказал Беренгарий. – Только за то, что с мужиками не трахаешься?
– Преобразование сексуальной энергии… – начала было Пиф и рукой махнула. – Что я тебе объясняю…
– Я тоже с мужиками не трахаюсь, так мне за это ничего не платят, – глумливо произнес Беренгарий и, увидев, какое у Пиф сделалось лицо, попятился за шкаф.
А Бэда не нашел ничего умнее, как сказать:
– За меня не тридцать, за меня пятьдесят дали.
Пиф разъяренно засопела:
– Что ты ему наболтал?
– Да ничего. Мол, доставил младшую жрицу домой, умыл ее, раздел и уложил в постель.
Пиф заскрежетала зубами:
– Это ты называешь «ничего»?
– В определенном смысле это именно «ничего», – подтвердил Бэда. – А ты что, ничего не помнишь?
Пиф покачала головой.
– И как пиво тебе с утра приносил, тоже не помнишь?
– Какая разница? Главное – что они в протоколе написали.
Тут в коридоре за раскрытой дверью снова зашевелилась тетка Кандида, невнятно жалуясь на судьбу.
Пиф плюнула и повернулась, чтобы уйти. Беренгарий с хохотом крикнул ей в спину:
– Пифка! А ты что, и правда не помнишь, как с ним трахалась?
В отвратительном настроении Пиф прошла переаттестацию; в день получки расписалась за голый оклад, и Аксиция, аккуратно сложив в карман свою надбавку за безбрачие, пригласила подругу в кафе. Пили кофе, ели мороженое. Аксиция молчала, Пиф многословно бранила мужчин. Потом расстались.
Через неделю она снова вышла на суточное дежурство. Хрустя солеными сухариками в темном офисе, где горела только настольная лампа, Пиф читала информационно-аналитические материалы, принесенные Беренгарием еще до обеда. Зевала во весь рот, едва не вывихивая челюсти.
В офисе стоял крепкий кофейный дух, но все равно хотелось спать. Дела были скучные и несрочные.
Богатые родители балованного сынка интересовались будущим своего чада. И без всякого Оракула ясно, каким оно будет, это будущее. (Да, получит… Да, женится… Да, найдет… Да, достойно продолжит… Нет, не полюбит… Нет, не научится… и т.д.) Достаточно на морду этого сынка поглядеть (мамочка с папочкой даже фото прислали, так озаботились).
Второе дело – и того скучнее. Какая-то лавчонка, которую содержат мать с дочерью, хочет изменить профиль деятельности. Торговала недвижимостью, а хочет перейти на стеклотару. Как это скажется на их бизнесе? («Хочем процветать»). А-а-ахх, зевала Пиф. Да никак не скажется. И охота деньги Оракулу выкладывать за чушь эту собачью… Шли бы лучше в публичный дом работать к госпоже Киббуту, которой Беренгарий громогласно поет хвалу неустанную. Там не только молоденькие девочки нужны, там и страхолюдинам работа найдется…
Бросила развернутые распечатки на край стола. Прошуршав, до самого пола повисли и на пол заструились бесконечной бумажной лентой.
Встала, чтобы еще кофе себе сварить.
И тут телефон зазвонил.
Пиф тут же сняла трубку. Ей было так скучно, что она обрадовалась бы даже Беренгарию с его дурацкими шутками. А еще лучше, если бы позвонила Аксиция.
Но это была не Аксиция. И даже не Беренгарий. Звонила Верховная Жрица.
Кислым голосом велела закрывать офис и подниматься наверх, в Покои Тайных Мистерии.
От изумления Пиф онемела. Тайные Мистерии на то и тайные, что на них никого из посторонних не допускают. И уж не младшей жрице…
Верховная, зная, почему младшая жрица ошеломленно молчит, повторила – будто из бочки с уксусом:
– Наверх. Немедленно!
– А дежурство… – пискнула Пиф.
– …в задницу… – малопонятно сказала Верховная.
– Не положено… – еще раз пискнула Пиф.
– …велено… – донесся голос Верховной. – …матери…
Пиф положила трубку. Сняла очки, потерла лицо ладонью. Происходило что-то странное. Странное даже для такого учреждения, как Оракул. Но коли приказание исходит от Верховной… Плюнув под ноги и угодив прямо на распечатку, младшая жрица нацепила очки на нос, выключила свет, в полной тьме на ощупь заперла хлипкую дверь офиса-пенала и по узкому коридорцу выбралась на парадную мраморную лестницу, откуда поднялась на самый верхний этаж, в Покои Тайных Мистерий.
Тайные Мистерии проходили каждый месяц, на полнолуние. Кроме того, их приурочивали к затмениям, лунным и солнечным, и иным священным и полезным дням. К участию в них допускались лишь высшие посвященные орфического культа, в первую очередь – Верховный Жрец и Верховная Жрица. Слияние мужского и женского начал, символизирующее, кроме всего прочего, неразрывное единство руководства Оракулом, было необходимым элементом функционирования всей системы.
Преодолевая последний лестничный пролет, Пиф уже издалека почуяла густой аромат благовоний. Из-за неплотно закрытой тяжелой двери, обитой медью, выплескивалась музыка – то взрыдывая, то шепча, то истерично визжа, то вдруг разливаясь нежнейшими трелями.
Пиф потянула на себя дверь и, замирая, ступила в Покои.
Она увидела круглый зал. Ротонду. Посреди ротонды стояло низенькое ложе. Оно покоилось на львиных лапах, искусно вырезанных из черного дерева и инкрустированных перламутром и слоновой костью. Ложе было застелено пурпурными покрывалами. Пиф хватило мгновения, чтобы понять, что пурпур настоящий, не синтетический.
Кроме ложа, в комнате имелся столик, на котором помаргивал красным огоньком музыкальный центр, исторгающий из четырех колонок сразу ту самую дивную музыку, что так поразила непосвященную жрицу.
Повсюду были разбросаны фрукты, мраморный пол был скользким от давленого винограда. В изголовье ложа на специальной подставке имелись бесчисленные кубки и стаканы, полные вина. Кубки в виде напряженного мужского члена, чаши в виде женских грудей, стаканы в форме смеющихся рогатых сатировских голов, сосуды в форме пляшущих исступленных менад…
По стенам, истекая кровавыми слезами, горели в подсвечниках красные ароматические свечи.
Пиф едва не задохнулась. Она остановилась посреди комнаты, недоумевая.
– Сними обувь, потаскуха! – резко приказал женский голос. Пиф быстро наклонилась, расстегивая босоножки. Липкий давленый виноград тут же неприятно дал себя знать под босой ступней.
Верховная Жрица сидела у самой темной стены ротонды на низеньком сиденье, вроде табуреточки. Пиф только сейчас разглядела ее. Темные одежды скрадывали фигуру Верховной, почти растворяя ее в полумраке.
– Ну, – проговорила Верховная Жрица, обращаясь явно не к Пиф, – ЭТУ ты, надеюсь, трахнуть в состоянии?
Рядом, на такой же скамеечке, зашевелился Верховный Жрец.
– Гм… – протянул он неопределенно. Видно было, что он всматривается в ту, которая только что вошла.
От растерянности Пиф потеряла дар речи.
А Верховная сказала ей:
– Разденься.
Пиф сняла с волос жреческое покрывало. Расстегнула пряжки на плечах. Одеяние упало к ее ногам, безнадежно пачкаясь в виноградном соке.
– Ну!.. – настойчиво подгоняла ее из темноты Верховная Жрица.
Пиф расстегнула бюстгалтер, вылезла из трусиков, оставшись только в очках.
Верховная Жрица снова повернулась к Верховному Жрецу:
– Ну так что? ЭТУ будешь? Или у тебя вообще уже не встает?
Верховный Жрец разглядывал голую женщину и молчал. Пиф медленно покрывалась потом в душном помещении, пропитанном винными парами и сладким дымом благовоний. Ее тело залоснилось и начало тускло поблескивать в свете факелов и свечей.
Верховная Жрица резко поднялась со своего сиденья, прошумев длинным одеянием.
– Мерзавец! – отчеканила она. – Оргию срываешь!..
– Я не могу… – негромко сказал Верховный Жрец.
– А что ты вообще можешь?
Верховный Жрец отмолчался. Верховная наседала все напористей:
– Ты знаешь, что нарушаешь устав, импотент паршивый?
– Знаю… – сказал Верховный Жрец. И почти взмолился: – Ну, не могу я!
– Конечно, – язвительно проговорила Верховная, – ты только приписками заниматься можешь.
– Стерва! – рявкнул вдруг Верховный Жрец. – Ты сама!..
Они вступили вперебранку, поминая друг другу различные приписки и неудавшиеся интриги. Голая Пиф, чувствуя себя очень неловко, переступила с ноги на ногу. Виноград чавкнул под ее ступнями.
Верховные замолчали. Жрица сказала:
– Надлежащую оргиастичность необходимо поддерживать. Решай этот вопрос сам, как хочешь.
Тут Пиф наконец опомнилась и сказала:
– А мой обет безбрачия?..
Верховная Жрица поглядела на нее с усмешкой.
– Так с тебя же сняли безбрачные?
– Но я его не нарушала…
– А, теперь уже все равно… Ляжешь под этого импотента, как миленькая…
Верховный тихо зашипел.
Пиф поморщилась.
– Ляжешь, – повторила Верховная. Злорадно и уверенно. И пообещала: – Премиальные выпишем.
– Можно, я выпью? – спросила Пиф. Ей немедленно захотелось нажраться до положения риз.
– Разумеется. Это поддерживает оргиастичность, – сказала Верховная. Подошла, взяла ее за потную руку, сама отвела на ложе и помогла улечься. – Какой тебе?
– Вон тот, в виде члена, – сказала Пиф.
Верховная подала ей кубок, звонко щелкнула младшую жрицу по лбу, будто ребенка, и еще раз повторила:
– Премиальные выпишу, не обижу. Гляди, не подведи, подруга.
И вышла.
Наступила неловкая пауза. Пиф развалилась на ложе и присосалась к вину. От духоты она почти сразу разомлела. Захотелось спать. Верховный сидел у стены и не шевелился. И молчал.
Ну не мог он сегодня. Ни с этой бабой, ни с какой иной.
Встал, походил по ротонде. Не обращая на него внимания, младшая жрица со вкусом пьянствовала. И персиками, сучка, чавкала. А музыка продолжала безумствовать из подмигивающего музыкального центра, свечи потрескивали вкрадчиво, благовония наполняли комнату, сгущая воздух.
Подумав, Верховный подошел к стене и снял телефонную трубку.
– Беренгарий? – сказал он.
Пиф не слушала. Ну его совсем, этого Верховного. А винцо прили-ичное… Даже очень.
– …Нет? А кто сегодня дежурит? Ладно, зови… Нет, скажи, чтобы поднялся на третий этаж… Сам знаю, что Покои Тайных Мистерий… Не найдет, так проводишь… Слушай, ты, умник!.. Поговори мне!.. На каменоломни продам…
И с треском шмякнул трубку.
Из этого разговора Пиф не поняла ровным счетом ничего. Да и понимать ей ничего не хотелось. А Верховный снова затих, и она о нем опять забыла.
Потом дверь Покоев отворилась. В комнату хлынула нежданная струя свежего воздуха. Кто-то неловко затоптался на пороге. Потом, охнув, стал разуваться. Звякнула пряжка брючного ремня. Чав-чав-чав – подошел по винограду к ложу. Присел рядом. Голый, теплый, потный.
– Привет, – произнес он неприятно знакомым голосом.
Пиф повернулась на ложе. Прищурилась (без очков плохо видела, а очки положила на столик рядом с бокалами, чтобы не мешали).
– Иди сюда, – сказала она. И протянула наугад руку, сразу коснувшись чужого покрытого мурашками бока с выпирающими ребрами.
Этот, с ребрами, осторожненько улегся рядом. Ему было неловко. Пиф поняла это. Ничего, сейчас они оба напьются, и все будет ловко.
Верховный Жрец подошел к ним поближе, поглядел, нависая из темноты над низким ложем и проговорил, явно цитируя кого-то из древних:
– «Любите друг друга, сволочи».
И бесшумно удалился.
Пиф на секунду нацепила очки, чтобы разглядеть, кого это ей подсунули. Даже привзвизгнула от изумления:
– Ты?..
Бэда покаянно кивнул.
– Слушай, – спросил он младшую жрицу, – что здесь происходит?
– Оргиастическое совокупление здесь происходит, – мрачно сказала Пиф, снимая очки, чтобы только не видеть эту постную морду с белыми ресницами.
– Что?..
– Да ты совсем дурак! – разозлилась Пиф. – Руководству положено совокупляться. Это в Уставе записано… От этого в Оракуле надлежащая атмосфера, понятно?
Бэде ничего не было понятно. Он так и сказал.
– А при чем тут ты и я? Мы с тобой еще пока не руководим этим бесовским кабаком…
– А вот при том. Верховная Верховного терпеть не может. Откуда я знаю, какая ей вожжа попала? Позвонила мне, вызвала с дежурства… Ну да, все равно безбрачные с меня сняли… По твоей милости…
– Я помочь хотел… – начал Бэда.
– Да молчи ты! Помочь… Я и должна быть такой сумасшедшей, как ты не понимаешь… Вот менады… Возьми со столика стаканчик в виде бабы танцующей, а то я не вижу…
Бэда приподнялся на локте, нашел пустой стакан, повертел в пальцах.
– Девка пьяная… – сказал он. – Ну и что?
– Вот именно! «Девка пьяная»! Это менада – служительница Диониса. Неистовые менады растерзали Орфея, ясно тебе? Кровь и вино! Вино и кровь! Он с ними трахаться не хотел, вот они его и… в клочья… А голову в реку бросили, голова еще долго плыла и пела, пела… «Так плыли – голова и лира…» А ты – «девка пьяная»…
Бэда поставил стаканчик на место. Улегся, заложил руки за голову, тоскливо уставился в высокий, скрывающийся за клубами дыма потолок.
– И что теперь нам с тобой делать? – спросил он.
– Оргиастически совокупляться! – сердито сказала Пиф. Она тоже улеглась, вытянулась и уставилась в потолок. – Давай.
– Я не хочу… – растерянно проговорил он.
– Я больно хочу! – озлилась вконец Пиф. – Оргиастичность в учреждении кто будет поддерживать? Гомер с Еврипидом?
– А Верховный – он почему с тобой не стал? Не захотел?
– Импотент он! – взвизгнула Пиф. – Он ни с кем не хочет! Он только со своим серебристым «Сарданапалом» хочет!
– А… – сказал Бэда.
Они помолчали. В безмолвии пьяная Пиф начала засыпать. Бэда осторожно укрыл ее шелковым покрывалом, и она тотчас же открыла глаза.
– Ты чего? – спросила она шепотом.
– Ничего… Расскажи что-нибудь, если не спишь.
– Про что тебе рассказать?
– Как ты стала жрицей?
– Ну… – Пиф улеглась поудобнее. «Поудобнее» означало, что она прижалась к Бэде всем боком и положила голову ему на руку. – Просто нанялась. Прошла тестирование, медицинское обследование – и стала работать. Жрица – это ведь должность такая… в табеле… У меня даже посвящений нет. Кроме одного, самого низшего. Так оно у всех вольнонаемных в Оракуле есть.
– Понятно, – сказал Бэда.
– А ты? – строго спросила его Пиф.
– Что я… Меня не очень-то спросили, хочу я здесь работать или нет.
– Откупись, – предложила Пиф. – Пятьдесят сиклей не такие большие деньги.
– И что я буду делать, если откуплюсь? Здесь хоть кормят как на убой и за квартиру платить не надо…
– Получишь посвящение, сделаешь карьеру… В Оракуле очень хорошую карьеру сделать можно…
– Мне религия не позволяет, – сказал Бэда.
И обнял ее покрепче.
– Ну и дурак, – сказала Пиф. – А ты ничего, ласковый. Если очки снять и рожи твоей не видеть.
– А как ты видишь без очков?
– Пятна вижу. Белое пятно – лицо, темное – одежда.
Бэда погладил ее по лицу.
– А у тебя бабы были? – спросила Пиф, сомлев.
– Были…
– А какие тебе нравятся?..
– Которые в постели болтают, – сказал он.
Пиф хихикнула.
Завывающая музыка наконец иссякла. Только свечи трещали, но и они догорали. Постепенно становилось все тише и темнее.
– Иди ко мне, – шепотом сказала Пиф.
Он тихонько засмеялся.
– А я, по-твоему, где?
Пиф получила свои премиальные (в полтора раза больше безбрачных), дала подписку о неразглашении и честно постаралась обо всем забыть. Правда, часть премиальных ушла на покупку нового облачения – прежнее было не отстирать от пятен виноградного сока.
– Что самое удивительное, – говорила Пиф своей подруге Гедде, которой немедленно разгласила свое приключение, – так это ощущение, будто я нахожусь в эпицентре грандиозного любовного романа.
Гедда глядела на нее ласково и помалкивала, потягивая коктейль. Они сидели в маленьком кафе на углу проспекта Айбур Шабум и улицы Китинну (Хлопковой). Это было их любимое кафе, еще со школьных времен. Только тогда они заказывали здесь мороженое и сок, а теперь…
– Ты слишком много пьешь, дорогая, – заметила Гедда.
– Да? – Пиф нервно отодвинула от себя пальцем пустой стакан. – Я закажу еще, можно?
– Дело твое, – сказала Гедда.
Пиф заказала еще.
– И как будто ничего не случилось, – продолжала она, плюхаясь обратно в плюшевое кресло с новым стаканом в руке. – Верховная молчит, даже намеков не делает. Верховный – слишком большая шишка, он к нам и не заходит. Беренгарий только рожи корчит, но намекать не решается…
– А этот? – деликатно поинтересовалась Гедда, водя соломинкой по краю сткана.
– Этот? – Пиф вскинула глаза. – Вообще ни слуху ни духу. Может, его сразу после этого повесили, почем мне знать.
– А ты не спрашивала?
– У кого?
– У того же Беренгария, к примеру.
– Да? У Беренгария? Дать ему такой козырь в руки… Пиф интересуется каким-то безродным программистом, которому цена грош в базарный день… Очень надо!
Она сердито присосалась к своей соломинке. Содержимое стакана резко пошло на убыль.
Гедда помолчала, а после очень ласково произнесла:
– Да ты, мать, влюблена по уши…
– Я?!
– Не сверкай очками. Тут не жертвенник с коноплей, так что не впадай в буйство.
– Я влюбилась?
– Ага.
– В эту белобрысую образину?
– Вот-вот.
Гедда наслаждалась.
Побушевав, Пиф затихла.
– Кстати, не вздумай никому рассказывать. Я дала подписку. Так что учти, Гедда…
– Учту, – совсем уж нежно сказала Гедда. – Идем, горе мое.
Пиф уже вставила ключ в замочную скважину, когда на лестнице, пролетом выше, кто-то зашевелился и направился прямиком к ней. Пиф быстро заскочила в квартиру, однако захлопнуть за собой дверь не успела – грабитель (разбойник, убийца, маньяк, вымогатель, насильник) подставил ногу в грубом башмаке. Стиснув зубы, Пиф с маху вонзила в эту ногу каблучок, однако цели своей не достигла. Грубый башмак остался на месте.
– Пиф!
Только тут она подняла глаза и в полумраке разглядела грабителя (разбойника, убийцу, маньяка, вымогателя, насильника).
– Проклятье на тебя, Бэда, – проворчала она, отпуская дверь. – Входи.
– Я не один, – предупредил он.
– Начинается, – засопела Пиф. Она была разочарована и откровенно злобилась.
Бэда непонимающе посмотрел на нее.
– Я по делу, – пояснил он. – Если тебе сейчас неудобно, то скажи. Просто трудно выбраться из барака. А отпрашиваться у Беренгария неохота, хотя он, кажется, мужик хороший.
– Хороший, – согласилась Пиф. – Предаст, продаст и вместе пообедает, а так – душа человек.
Бэда вошел и сразу же, нагнувшись, принялся снимать ботинки. Следом за Бэдой в квартиру втиснулся второй – мальчик лет десяти в синей куртке с плеча взрослого мужчины, босой, с рожицей плутоватой, но хорошенькой.
– Это еще кто? – осведомилась Пиф. – Внебрачный сын твоей первой женщины, которая была тебе одновременно как мать?
Бэда растерялся. Он выпрямился, покраснев. А мальчик захихикал.
– Собственно, нет, – сказал Бэда. – Это… мой бывший надсмотрщик. Ну, еще там, в рабских кварталах, на рынке.
– Это? Надсмотрщик?
Такого феерического вранья Пиф никак не ожидала.
– Так вышло, – оправдываясь, сказал мальчик. – На самом деле меня Господь вот каким сотворил… а я уж потом напортил…
Пиф махнула рукой.
– Болтать глупости можно и на кухне, – сказала она. – Я поставлю чайник.
– А можно кофе? – спросил Бэда, нахальный, как все рабы, если их немного приласкать.
– Можно, – нелюбезно сказала Пиф, и Бэда опять испугался:
– Если тебе трудно, то вообще ничего не надо.
Пиф только фыркнула.
Все трое прошли на кухню. Пиф велела гостям сесть и не путаться под ногами, а сама принялась варить кофе и ворчать.
Наконец Бэда заговорил:
– Я к тебе пришел, потому что больше не к кому…
Польщенная, Пиф сразу же простила ему вторжение в компании с мальчишкой.
– Понимаешь ли, – продолжал он, – для него, и для меня тоже, это очень важно. А в Оракуле я только тебе доверяю…
Пиф слушала и упивалась.
– Говори, – подбодрила она его, когда он снова замолчал в явной нерешительности.
– Мне нужно денег, – сказал он. – Не очень много, но нужно. Своих-то пока что нет…
Кофе зашипел, убегая. Деньги. Вот и все, зачем он явился. Все сперва говорят, что она им позарез нужна, а потом с умильной мордой просят денег. И этот – туда же… «В эпицентре любовного романа». Было уже, помним-с.
– Сколько тебе потребно? – спросила она сухо.
Он встал.
– Четыре сикля, – сказал он очень тихо. И настороженно уставился ей в затылок. Он видел, что с ней творится что-то странное. Неприятное.
– Четыре сикля? – Она обернулась, ковшик с черными потеками кофе в одной руке, тряпка в другой. – Четыре сикля?
– Ты не можешь? Это много? – тихо спросил он.
Она разлила кофе по чашкам, вынула из холодильника сок – ребенку, уселась сама. Не сводя с Пиф тревожного взгляда, Бэда взял чашку и сел на краешек табуретки.
– Прости, если мы тебе помешали, – повторил он.
– Ты действительно вперся ко мне из-за четырех сиклей?
– Да.
– У тебя нет такой ерундовой суммы, ты хочешь сказать?
– Нет. У меня вообще никаких денег нет.
– Конечно, я дам тебе четыре сикля. Я могу и десять дать.
– Десять не надо. Четыре. Только… Пиф, это без отдачи. То есть, я отдам, если смогу, но не знаю, когда.
– Можешь не отдавать. – Она махнула рукой. – Мне за ту ночь столько заплатили, что я, наверное, Беренгария купить смогла бы.
Он помолчал немного, а после спросил:
– Тебе заплатили?
– Ну да. Премиальные, как и обещали. И подписку взяли о неразглашении, но я все равно Гедде разгласила… Я ей всегда все разглашаю.
– С меня тоже взяли. Сказали, что кожу сдерут, если стану болтать. Верховный сказал.
Пиф призадумалась.
– А если я стану болтать?
– Не знаю, – сказал Бэда. – Мне кажется, они не очень-то будут разбираться, кто из двоих наболтал.
Пиф вытащила из кармана мятую бумажку в пять сиклей и протянула ему. Он взял и сказал просто:
– Спасибо.
– Сиди уж, – махнула Пиф. – Расскажи мне лучше, где ты подобрал этого огольца…
Это был их последний вечер. Девятый после смерти дедули-надсмотрщика. Бэде было немного грустно. И тревожно. А мальчишка болтал, как ни в чем не бывало.
– Я буду тебя навещать, – обещал он. – Вот увидишь, все как-нибудь устроится.
Теперь, когда деньги у них были и можно было идти в храм и «возносить», что положено, мальчик совершенно успокоился.
Они бродили по Вавилону. В чернильной синеве ночного воздуха мерцали фонари. Огромный Евфрат медленно тащил свои воды, рассекая город на две части.
Мальчик вдруг признался:
– Пока этот… ну, мой… был жив, он никогда не видел города по-настоящему… Он вообще дальше рабских кварталов не хаживал. А что ему? За день смухлюет, вечером пропьет, благо винные лавочки рядом… Наконец-то я от него избавился. Мне как будто глаза кто-то промыл чистой водой…
Бэда молчал, слушал краем уха. Он прикидывал: влетит ему за то, что опять не в бараках ночь провел или не влетит. А надсмотрщикова душа говорила и говорила, смеялась и смеялась, а после вдруг отпустила руку Бэды и побежала.
– Пока! – крикнул мальчик, на мгновение обернувшись и от нетерпения подпрыгивая. – Я еще как-нибудь загляну к тебе! Потом!
Бэда сжал в кармане пятисиклевую бумажку, которую подарила ему Пиф.
– Пока, – пробормотал он. – До свидания, душа.
– Я вдруг подумала, – сказала Гедда, – как все это хрупко.
– Что хрупко? – спросила Пиф.
– Все. Ты, он. То, что вас связывает. Вообще – человек… Хлоп – и вот его уже нет…
– Зануда, – сказала Пиф.
Храм, куда Бэда отправился «возносить», существовал на полулегальных правах в знаменитых катакомбах Вавилона, впоследствии частично перестроенных под метро.
На станции «Площадь Наву» было несколько боковых тоннелей, выкопанных в незапамятные времена (еще до потопа, где несколько богатых семей думали спастись от бедствия). Один из этих тоннелей, скрытый неприметной скучной дверкой с эмалированной табличкой «СЛУЖЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН», был занят подпольной христианской общиной. За известную плату руководство вавилонского метрополитена смотрело на это сквозь пальцы.
Бэда разменял у тетки Кандиды полученную от Пиф пятисиклевую бумажку на пять сиклевок и одну такую сунул Беренгарию, чтобы тот отпустил его на несколько часов и, если что, выгородил перед начальством.
– Опять по бабам собрался? – спросил проницательный Беренгарий.
Бэда неопределенно пожал плечом.
Беренгарий небрежно повертел бумажку в пальцах и вернул Бэде.
– Ладно, забери. Купи ей мороженое.
– Здесь не хватит на мороженое.
– Да и не любит она мороженого, – подхватил Беренгарий. – Она водку любит.
Бэда похолодел.
– Кто «она»?
– Брось ты. Все уже знают. Пифка, вот кто.
– Я не к ней, – сказал Бэда. Но сиклевку забрал и сунул в карман. Он и сам любил мороженое.
БЛАГОСЛОВИ НИНМАХ И БОГИ ОРФЕЯ. ПО ВЕЛИКОЙ БЛАГОСТИ БОГОВ… КУРС АКЦИЙ… ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ… МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД… НЕРАЦИОНАЛЬНО… БОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНО… ПРОПУСКНЫЕ МОЩНОСТИ… ПОСТАВКИ ИЗ ЭЛАМА… ПОСТАВКИ В ЭЛАМ… ФЬЮЧЕРСНЫЕ СДЕЛКИ КАСАТЕЛЬНО ЭСАГИЛЬСКОЙ МУСОРНОЙ СВАЛКИ… аа-ахх… Аксиция, завари кофе, а? Пожалуйста…
Бэда надавил на неприметную белую кнопочку рядом с обшарпанной дверкой «СЛУЖЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ…» Спустя несколько секунд ожило переговорное устройство. За металлическим его забралом громко задышали, чем-то щелкнули и неприязненным тоном поинтересовались, кого нужно.
– Мне бы Петра, – робко сказал Бэда.
– Кого?
– Отца Петра, – повторил Бэда.
– Кто спрашивает?
– Бэда…
И оглянулся: не слышит ли кто. Но люди шли и шли непрерывным потоком по синей станции «Площадь Наву», погруженные в обычную свою суету – домохозяйки с сумками, откуда мертвенно, как сухие ветви кустарника, торчат ноги забитых кур; египтянки с их шумным говором, в широких парчовых юбках; клерки, на ходу интимно бормочущие в радиотелефоны; ленивые холуи, посланные господами по делу и явно задержавшиеся на площади Наву, где что ни шаг, то новое диво…
Кому тут дело до человека по имени Беда, который стучит в обшарпанную дверцу и просит позвать другого человека, по имени Петр…
А тут дверка как раз приоткрылась и Бэду впустили.
– Входи уж.
Вошел.
– Иди уж.
Пошел.
Узкий длинный ход, сырые стены в арматуре, кругом какие-то трубы. Но под ногами было сухо, а когда достиг обширного бункера, переделанного под храм, так и вовсе красиво. Между стенами и фанерными перегородками, установленными по всему периметру, поставили электрообогревательные устройства. Перегородки хоть и взяты на том же складе мебельных полуфабрикатов, что и уёбище, уродующее оракульное рококо, а отделаны совершенно иначе. Красивым холстом затянуты, разрисованы цветами и плодами. Будто в райский сад входишь.
С потолка три лампы на цепях свисали, рассеивая полумрак. В большом жестяном корыте, полном песка, потрескивали тонкие красные свечки, числом около сорока.
Рослый рыжий человек уже шел Бэде навстречу.
– Я Петр, – сказал он.
Бэда остановился, по сторонам глазеть бросил и на человека этого уставился.
Всего в том человеке было с избытком: роста, волоса, голоса. Так что рядом с ним совсем потерялся неказистый Бэда.
Потому, смутившись, стоял и безмолвствовал.
Потом о деньгах вспомнил и протянул их неловко.
– Вот…
– Что это? – строго вопросил рыжий.
– Четыре сикля. Мне ваш этот, который у двери, третьего дня сказал, что поминание четыре сикля стоит.
– В вазу положи, – распорядился рыжий. И указал бородой на большую медную вазу, стоявшую у порога. Бэда ее и не приметил, как входил, настолько поразил его храм.
Бэда послушно подошел к вазе и, свернув сикли в трубочку, просунул их в узкое горлышко. После снова к тому Петру повернулся.
– Умер человек один, – сказал Бэда. – Просил за него вознести… ну, все, что нужно. Вот я и пришел.
Рыжий пристально глядел на Бэду, пальцами бороду свою мял.
– А так редко в храм ходишь? Что-то я тебя не помню.
– Редко, – сказал Бэда. – Да из барака поди выберись… А как выберешься, так всегда дело какое-нибудь найдется.
– Ну, ну, – подбодрил его Петр. Но вид по-прежнему имел озабоченный и строгий. – Служишь-то как, хорошо?
– Как умею, – сказал Бэда.
– А ты, небось, плохо умеешь?
– Не знаю, – честно сказал Бэда.
– Кому служишь?
Бэда губу прикусил, понимая, что сейчас его выгонят.
– Оракулу, – ответил он еле слышно.
Тут рыжий побагровел, как свекла.
– КОМУ?
– Оракулу.
Помолчав, Петр уточнил, чтобы не вышло ошибки:
– В кабаке бесовском?
– Да.
Рыжий Петр замолчал, тяжким взором на Бэду уставившись. Потом сказал сердито:
– Уходи.
– Я сейчас уйду, – поспешно согласился Бэда, – только вы за этого человека… вознесите. Мне ничего больше и не надо.
– Тебе много что надо, – загремел Петр, – только ты, несчастный, этого не понимаешь…
– Да я понимаю… – проговорил Бэда, радуясь, что его пока что за шиворот не хватают и к дверям не тащат.
– Не понимаешь! – громыхал разгневанный Петр. – Из Оракула бежать надо, бежать! Эта лавка навлечет еще на Вавилон беды великие… – Помолчал и вдруг, смягчившись, спросил: – Как звали того человека?
– Не знаю…
Петр опять начал багровой краской наливаться.
– Как это – не знаешь? А как же ты за него хочешь молиться?
– Я-то помню, какой он и как выглядел… – растерянно сказал Бэда. – А там, где он сейчас, его и подавно знают… Это надсмотрщик мой бывший. Я, пока за проволокой на площади Наву вшей давил, держал его за полное дерьмо. Он же, подлец, голодом нас морил, а сам с работы полные сумки жратвы таскал… И справки медицинские подделывал, чтобы подороже товар сбывать. А душа у него была ясная и чистая… Но это только потом обнаружилось, когда он помер. А пока жив был, иной раз лежишь и думаешь – своими бы руками задушил эту гадину.
– Это хорошо, – медленно проговорил Петр, – что ты за мучителя своего молиться хочешь…
– Да какой он мучитель… Так, воришка, а что орал на нас – так то не мучительство, а одно только развлечение… – Бэда ухватил Петра за рукав. – Вы уж сделайте для него все, что надо, хорошо? Просто скажите: бэдин надсмотрщик с площади Наву, вот и все. Он в синей тужурке ходил.
Петр непонятно молчал.
Бэда повернулся, чтобы уйти, когда Петр рявкнул ему в спину:
– Стоять!
Бэда остановился.
Петр извлек откуда-то из-под своей рубахи необъятных размеров тяжелый крест и – как показалось перепуганному программисту – замахнулся на него.
– Голову наклони, дикий ты осел, – грозно молвил Петр. – Благословлю тебя.
На узорной решетке садов Семирамис висело большое объявление: «СОБАКАМ, РАБАМ, НИЖНИМ ЧИНАМ И ГРЯЗНОБОРОДЫМ ЭЛАМИТАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Поскольку Пиф никогда не была ни собакой, ни рабом, ни нижним чином, ни тем более грязнобородым эламитом, то на надпись эту внимания не обращала.
А тут поневоле обратишь, когда Бэда вдруг споткнулся, густо покраснел и выпустил ее руку.
Пиф – на этот раз в белоснежном виссоновом платье (пена кружев вскипает у ворота, оттеняя шею, увитую тонкой золотой цепочкой) – брови сдвинула, голову вскинула:
– Да пошли они куда подальше со своими объявлениями.
– Неприятности будут, – сказал Бэда тихо.
– Я – пифия, – высокомерно объявила Пиф. – Пусть только прибодаются…
Они миновали узорные ворота и оказались в прохладной тени под зелеными сводами садов Семирамис.
Странное это место в Вавилоне, сады Семирамис. Впрочем, какое место в Вавилоне не странное? Ноги собьешь, искамши, да и не отыщешь такого, пожалуй.
Еле слышно шуршит вода в скрытых под землей оросительных трубах. Трубы керамические, по старинной технологии сделанные. Во время потопа сады были разрушены, но потом их восстановили во всей былой красе.
Тут и там среди пышной зелени мелькают статуи – дельфины, бьющие хвостом рыбы, обезьянки с плодами в руках. Настоящие обезьянки прыгают с ветки на ветку. Кое-где на деревьях вывешены стрелки и указатели: «ТУАЛЕТ – 0,5 АШЛУ», «ЦВЕТЫ НЕ РВАТЬ», «ОКУРКИ В ТРУБЫ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НЕ КЛАСТЬ. ШТРАФ 40 СИКЛЕЙ», «ОСТОРОЖНО, ОБЕЗЬЯНЫ!»
– А что, обезьяны тут хищные? – спросил Бэда.
– Нет, ласковые. Из рук берут. Только гадят на голову, – пояснила Пиф.
Они обошли весь сад, оказавшийся, к удивлению Бэды, довольно маленьким (со стороны выглядел райскими кущами, не знающими пределов). Наконец Пиф объявила, что у нее болят ноги. Еще бы не болели, когда на такие каблучищи взгромоздилась!
Бэда купил ей мороженого, и они сели на лавочку под цветущей магнолией. От запаха у обоих разболелась голова, но уходить не хотелось. Пиф съела свое мороженое, выбросила стаканчик в траву и, сняв туфли, поджала под себя босые ноги. Бэда взял ее ступню в руки.
– Натерла, – сказал он, недоумевая. – Зачем женщины только носят такую неудобную обувь?
– Чтобы вам, дуракам, нравиться, – ответила Пиф.
– Мне бы больше понравилось, если бы ты ноги не натирала, – сказал Бэда. – А как ты выглядишь – это дело десятое.
Он тут же понял, что ляпнул невпопад. Впрочем, Пиф только вздохнула легонько. Мужчины всегда говорили не то, что она хотела бы от них услышать. Она привыкла к этому.
– Ну, и с чего ты взял, что я именно тебе хочу понравиться? – сказала Пиф, чтобы отомстить за свое разочарование.
Бэда не ответил.
В соседней аллее расположился духовой оркестр. Некоторое время они слушали музыку и молчали. Потом Бэда сказал неуверенно:
– Им заплатить, наверное, надо…
– Мы их не нанимали, – возразила Пиф. И поинтересовалась: – А что ты наплел Беренгарию, когда уходил?
– Что иду дискеты покупать.
– Он же проверит.
Бэда отмахнулся.
– Ему все равно, по-моему. Да и вообще, он симпатичный мужик.
– А тот мальчик… – вспомнила вдруг Пиф. – Твой надсмотрщик… Ты давно его не видел?
– Давно, – сказал Бэда. – Так ведь всё, девять дней прошло. Ушла душа. Я его и в храме отмолил. Помнишь, ты деньги нам давала?
Пиф сморщилась.
– Не нравится мне эта твоя секта.
– Христианство не секта. Это религия.
– Один хрен… – сказала Пиф, которая совершенно запуталась в богах и давно уже не давала себе труда разобраться.
– Да нет, не один, – сказал Бэда, неожиданно проявив твердость. – Совершенно разные хрены, поверь мне, Пиф.
– Ну ладно, отмолил, – проворчала она. – И что, теперь он, по-твоему, блаженствует… где там у вас праведные души блаженствуют? Как у всех, в райском саду? Или как?..
Бэда поднял глаза, мгновенно ощутив и благоухание цветов в саду Семирамис, и острый аромат разомлевших от жары трав, и тихое журчание животворящих водных струй, и печальные песни духового оркестра, и предгрозовую духоту, нависшую над городом…
– Будет гроза, – сказал он ни с того ни с сего.
– Ну и что? – отозвалась Пиф. Она все еще думала про райский сад.
– Не знаю, – сказал Бэда. – Да, пожалуй, я скучаю по нему, по этому надсмотрщику.
– Брось ты. Нашел, по кому скучать. Он тебя, небось, кнутом бил.
Бэда склонил голову набок.
– Ну и что? – спросил он.
Пиф потянулась и капризно сказала:
– Ну хорошо, хорошо… скучаешь… не секта. И ты ходишь в этот ваш храм? Где общественные виселицы?
– Есть еще один, в катакомбах, – ответил Бэда. – В метро. Только он подпольный.
– Скажи-ите… в катакомбах… там что, фальшивые деньги печатают?
– Нет.
Пиф сунула ноги в туфли и встала, покривившись. Сделала несколько ковыляющих шагов.
– Нет, – сказала она, – я так не могу. Лучше уж я босиком пойду.
И решительно сняла туфли.
Они побродили немного по саду, наслаждаясь прохладой и полумраком, а после вышли на улицу, и снова навалилась на них нестерпимая духота вавилонского лета, усугубленная пылью и смогом. Однако на священном берегу Арахту и дальше, выше по Евфрату, сгущалась уже темнота.
– Похоже, и правда будет гроза, – заметила Пиф. – Уж пора бы. Просто дышать нечем.
Она так и шла босая, ежась. Асфальт под ногами был раскаленным.
Некоторое время Бэда смотрел, как она идет – вздрагивая при каждом шаге, туфли в руках, – а после вдруг решился.
– Держись, – сказал он, подставляя ей шею.
Она засмеялась.
– Что, на плечи к тебе влезть?
– Нет… – Он заметно покраснел. – Я тебя так… на руках понесу. Ты за шею держись.
Она обхватила его руками за шею, уколов ему спину каблучками туфель. Бэда поднял ее с неожиданной легкостью. Он оказался сильнее, чем выглядел.
У него на руках Пиф смеялась, пока не задохнулась.
– Что люди подумают? – выговорила она наконец.
– Что я тебя люблю, – пропыхтел он.
Она не расслышала. Или сделала вид, что не расслышала. В конце концов, пифия должна быть со странностями.
– А если кто-нибудь из знакомых увидит? – мечтательно спросила она, вертя головой по сторонам.
– Не ерзай, – попросил он. – Ты все-таки не худенькая.
В конце концов, пифии положено быть со странностями…
Виссон ее платья обвивает клейменые руки Бэды, шелковые кружева щекочут его ухо и шею. Ну, Пиф… Ну, выбрала… Долго, небось, выбирала… Боги Орфея, а одет-то он как!.. Гедда бы оценила эту картинку.
О, Гедде она все расскажет. И как он в саду Семирамис боялся, что выставят с треском (а никто к ним даже и не подошел и не полюбопытствовал). И как по душе надсмотрщиковой убивался. (Гедда скажет: какова дама, таковы и поклонники – сама ты, Пифка, с придурью, и бой-френд у тебя такой же…) И как на руках нес – ее, царевну, ее, жрицу распрекрасную, ее, богачку неслыханную, – он, программист грошовый, он, оборванец, он, образина белобрысая… На глазах всего Вавилона, Гедда! На глазах всего Вавилона!..
Да только, похоже, не глядел на них никто.
А гроза все сгущалась и сгущалась, выдавливая последний воздух из легких, к земле пригибая…
Наконец, первые капли дождя упали. Тяжкие, будто кровь из вены. Бэда остановился, опустил Пиф на ноги.
– Передохну, а? – сказал он виновато.
А Пиф виноватости его и не заметила. Она сияла. Вся сияла – глаза, очки, улыбка.
Руки вскинула, обняла его. И он осторожно положил тяжелые ладони на ее талию.
Тут-то их обоих дождем и накрыло. Ливневым покрывалом окутало, плотнее холстины. Будто обернуло с головы до ног и друг к другу притиснуло.
Они стояли и обнимались, а дождь щедро поливал их и еще насмешничал где-то высоко над головами: «Ах-ха-хха! Ох-хо-ххо! Любовь до гррробба-а… дуррраки обба-а…»
Они обнимались все крепче и теснее, будто под тем отвесным ливнем ничего больше нельзя было делать, как только стоять прижавшись друг к другу. Наконец, дождь немного стих. И тотчас они размокнули объятия.
Смеясь, Пиф выбросила свои негодные туфли в Евфрат, и они тут же сгинули за пеленой воды, не успев еще коснуться реки.
– Ты что? – вскрикнул Бэда. – Они же дорогущие!..
– Дороже тебя, – подтвердила Пиф. – Ты всего пятьдесят стоил, а они – пятьдесят пять…
Им это показалось так смешно, что они прыснули.
– Я никогда не была так счастлива, – говорила Пиф Гедде, к которой прибежала, не успев даже сменить платье на сухое, как была – босая, с сосульками мокрых волос. – Никогда, Гедда!..
Гедда улыбалась.
– У тебя какие-то синие пятна на платье, – сказала она вдруг.
– Где? – Пиф нагнулась, придерживая кружева рукой. – Какие еще синие пятна?
Она подошла к зеркалу, оставляя мокрые следы на геддином паркете. Поглядела, щурясь.
И правда, тончайший белоснежный виссон был в каких-то непонятных синих пятнах, словно им подтирали пролитые чернила.
– Ох ты, – пробормотала Пиф, расстраиваясь. – Где это я так?
Гедда подумала немного, рассеянно глядя, как подруга трет запачканный виссон между пальцами.
– А твой этот Бедочка… – сказала она наконец, осененная догадкой. – Что на нем было надето?
– Хламида какая-то. Что все программисты в Оракуле носят, то и надето…
– Какого цвета?
– Синего… Дерьмо! – завопила Пиф яростно. – Эти скопидомы в Оракуле выдали ему, небось, самую дешевую… крашеную…
Она плюхнулась в кресло, закинула ногу на ногу.
Гедда сунула ей в руки бокал с крепленым вином.
– Согрейся, а то потом на жертвеннике сипеть будешь. Позорище мое…
Пиф отпила сразу полбокала и резко вздохнула.
Гедда внимательно следила за ней. Приключения Пиф всегда были бурными и увлекательными, но, выслушивая отчеты о них, надлежало соблюдать некоторую осторожность.
Пиф пила вино. Гедда подбавляла ей в бокал из бутылки и помалкивала.
Пиф пила.
Гедда молчала.
Наконец Пиф вполне оценила ситуацию и расхохоталась.
– Итак, мой возлюбленный на меня полинял… Гедда, ну скажи, – кто еще, кроме меня, мог так вляпаться?..
…ВО ИМЯ БОЖЕСТВЕННОГО ЧЕРВА МАРДУКОВА… КОН…САЛТИНГ…
– Аксиция, где у нас словарь иностранных слов?
– Как ты только переподготовку прошла? – спросила Аксиция, доставая с полки толстую книгу в темном переплете.
– Понятия не имею. Спасибо.
Пиф взяла книгу и рассеянно уткнулась в нее носом.
– О чем ты все время думаешь? – спросила вдруг Аксиция.
– А? – Пиф подняла глаза. Помолчала. Ответила растерянно: – Не знаю…
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ОКНА УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ. МНОГИЕ ЖИТЕЛИ, ОСОБЕННО В РАЙОНЕ ДОМОВ-КОЛОДЦЕВ, НА БЕРЕГУ ПУРАТТУ, ЗАБИВАЮТ СВОИ ОКНА ДОСКАМИ, ОТКАЗЫВАЯСЬ В ТАКОМ СЛУЧАЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГ. НАСИЛЬСТВЕННОЕ ВЗИМАНИЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ… ТРИ СЛУЧАЯ САМОУБИЙСТВА… НЕ ИМЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО РЕЗОНАНСА…
– Что-о?
Пиф сделала запрос. Храмовая сетевая конференция («ЭСАГИЛА-ИНФО») сохранила, к счастью, текст предсмертных обращений этих самоубийц. Все трое проходили по разделу «экономические самоубийства». Один писал, что не может жить при забитом окне, поскольку нуждается еженощном созерцании звезды Иштар. «Не перенести беззвездной муки», писал он словами древнего (еще допотопного) поэта.
«Беззвездная мука». Вот еще глупости.
На всякий случай Пиф сделала еще один запрос – о звездопоклонниках. Насчет появления новой секты такого направления «ЭСАГИЛА-ИНФО» хранила полное молчание. Скорее всего, никакой новой секты тут не было, а речь шла об отдельно взятом безумце.
Пиф было поручено изучить экономическую обстановку в Вавилоне для прогнозирования возможного социального взрыва. Запрос был правительственный, поэтому на подготовку прорицания младшей жрице выделили два дополнительных дня.
Правительство собиралось повысить некоторые налоги и поднять плату на воду, мотивируя это необходимостью реконструкции очистных сооружений на Евфрате.
– Не нравится мне все это, – промолвила Пиф, выключая компьютер.
Аксиция отложила в сторону распечатку, которую изучала с карандашом в руке.
– Что именно тебе не нравится, Пиф?
– Запрос не нравится.
– Я не помню случая, чтобы тебе нравился запрос. Кроме первого месяца работы.
– Возможно. Да, скорее всего, мне просто все надоело. Но в этом запросе есть что-то нехорошее… Червоточина какая-то…
Аксиция опустила подбородок на скрещенные руки.
– Знаешь что мне кажется? – сказала она. – Что ты допустила самую большую оплошность, какую только может допустить жрица Оракула.
Пиф подняла брови, так что их стало видно из-под оправы очков.
– Ты это о чем?
– Вот здесь, – Аксиция постучала себя тонким пальцем по груди, – должно быть пусто. Никаких эмоций. Ты не должна никого любить.
– Кроме подруг и мамочки?
– Вообще никого, – повторила Аксиция. – Жрица – пустой сосуд.
Пиф сморщилась.
– Я помню. Белза нам говорил…
– Он правильно говорил, Пиф.
– Отстань, – сердито сказала Пиф, забыв о том, что сама завязала разговор.
Пожав плечами, Аксиция снова взялась за свою распечатку.
«БЕЗЗВЕЗДНАЯ МУКА». НАЛОГ НА ОКНА… ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГА НА ВОДУ… ЧАСТНЫЕ АРЫКИ ПОДЛЕЖАТ ПОЛУТОРНОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ… НЕУЧТЕННЫЕ ДОХОДЫ… УЩЕМЛЕНИЕ ПРАВ ЧАСТНЫХ СОБСТВЕННИКОВ… СЛЕДСТВИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ВЗРЫВА…
Что-то во всем этом ей не нравилось. Она так и сказала Верховному, когда тот вызвал ее и спросил, как продвигается работа над правительственным заказом.
После той ночи в Покоях Тайных Мистерий они виделись впервые. Верховный Жрец осунулся и даже как будто постарел – видать, заботы грызли. Он сидел за столом в своем кабинете, постукивая пальцами по толстой папке с золотым тиснением «НА ПОДПИСЬ».
– Это была моя инициатива – чтобы заказ от правительства поручили именно вам, – начал он без предисловий. – Я считаю, что вы обладаете значительно более сильным потенциалом, чем это необходимо для рядовой младшей жрицы. Что вы скажете насчет второго посвящения?
Пиф прикинула: жрицы второго посвящения получают на восемнадцать сиклей больше. Почему бы и нет?
– Вот и хорошо. Просто замечательно, – сказал Верховный, хлопнув ладонью по папке. И с неожиданной откровенностью, весьма лестной в устах начальства, добавил: – Самое забавное, что в этом вопросе мы сошлись с Верховной Жрицей. За последние пять лет это едва ли не единственный вопрос, в котором мы с ней полностью единодушны.
Воспоминание о ночи в Покоях Тайных Мистерий мелькнуло во взгляде Верховного Жреца. Мелькнуло лишь на короткий миг, но Пиф успела его заметить. И позволила себе еле заметно улыбнуться, наклоняя голову в жреческом покрывале.
Она заговорила о заказе, для которого изучала материалы. Верховный Жрец настаивал на выполнении его в кратчайшие сроки.
– У меня такое ощущение, что клиента интересует совершенно не то, о чем он сделал запрос, – сказала Пиф.
– Забудьте обо всех ощущениях, – твердо сказал Верховный Жрец. – Вам велено изучить обстановку с точки зрения возможного социального взрыва, вот и изучайте. Никаких чувств при этом быть не должно. Жрица – пустой сосуд. Эмоции ни в коем случае не должны смущать ее во время встречи с богами…
За сегодняшний день Пиф слышала это второй раз. И если от Аксиции ей удалось отмахнуться, то слова Верховного всерьез задели ее. Неужели так заметно все то, что с ней происходит?
Проклятье.
В ТАКОЙ ВАЖНОЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ВАВИЛОНА ОТРАСЛИ, КАК РАБОТОРГОВЛЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЕТ СПРОС. СЛЕДСТВИЕ: ДЕШЕВИЗНА РАБСКОЙ СИЛЫ. СЛЕДСТВИЕ: БЕЗРАБОТИЦА СВОБОДНЫХ. СЛЕДСТВИЕ: НЕВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СВОБОДНЫХ СОДЕРЖАТЬ РАБОВ. СЛЕДСТВИЕ: ОБИЛИЕ НЕРАСКУПЛЕННЫХ РАБОВ, КОТОРЫХ СОДЕРЖИТ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ. СЛЕДСТВИЕ: ФИЗИЧЕСКОЕ СОКРАЩЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ НЕРАСКУПЛЕННЫХ РАБОВ ПУТЕМ ЛИКВИДАЦИИ (ВАРИАНТ: ПРОДАЖА ИХ ЗА ГРАНИЦУ = УТЕЧКА МОЗГОВ ИЗ ВАВИЛОНИИ, ЧТО НЕДОПУСТИМО ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ СООБРАЖЕНИЯМ). СЛЕДСТВИЕ: ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТЕСТЫ СО СТОРОНЫ ОРГАНИЗАЦИЙ «ДРУГ ЧЕЛОВЕКА», «ЖИЗНЬ РАДИ ЖИЗНИ» И ДРУГИХ. СЛЕДСТВИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ВЗРЫВА…
МАР-БАНИ: ПОТОМСТВЕННАЯ РОДОВАЯ АРИСТОКРАТИЯ… без вас знаю… Что у них там, в базу данных, вся Большая Вавилонская Энциклопедия забита? …ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ РАЗОРИВШАЯСЯ И СЛИВШАЯСЯ СО СРЕДНИМ (ВАРИАНТ: НИЗШИМ КЛАССОМ)… ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОППОЗИЦИОННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ… БЕСПРИНЦИПНОСТЬ… ОПОРА НА ТРАДИЦИИ… ИДЕОЛОГИЯ ДОПОТОПНОГО РЕЖИМА (ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ДИНАСТИИ)… ОТКЛИК У ПРОСТОГО НАРОДА ВСЛЕДСТВИЕ ПРОСТОТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ И БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ… Ого!.. ЗАМЕТНАЯ АКТИВИЗАЦИЯ (ИСТОЧНИК: ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ – СТИЛИСТИЧЕСКИЙ И СЕМАНТИКО-ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА «ХАЛДЕЙСКИЙ АНАЛИТИК»…) СЛЕДСТВИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ВЗРЫ…
…Не-на-виииижу!..
Треножник. Знакомый запах. Помещение – то тесное, то невыносимо, до вселенской необъятности, просторное, словно пульсирующее. Ничего нет в пульсирующей вечности, кроме беспредельной черноты и белой точки: Я.
Я в черноте.
Отдельно чернота и отдельно Я.
Потом возникают Они.
Сжимать губы, молчать, пока необходимость сама не разомкнет губы и не сорвет крика – ибо только то, что не может таиться, что сильнее человека, сдерживающего тайну за стиснутыми зубами, – только это и является истинным предсказанием.
Они обступают Меня, вдруг населив бездонную черноту.
Их много, но Я – большая.
Но Я – одна.
И вот уже Меня нет. Я – Чернота, а Они предо Мною суетятся и бесстыдно выдают все свои тайны, ибо полагают, что Чернота ничего не видит, что Чернота ничего не понимает, что Чернота ничего не замечает, что Чернота ничего не фиксирует и не передает тем, кто снимает все это скрытой видеокамерой…
О, как Они наги, бесстыдны, жалки…
Я – Чернота.
Я – Глаз.
Я – Око в центре Вселенной,
но Меня нет…
Стрекозы с темно-синими крыльями. Миллионы стрекоз, которые опустятся с небес в день, когда настанет новый Потоп. Весь мир полон стрекозиных крыльев – синее изразцов Ассирии… И вот они здесь, распластавшись сплошным лазуритом, между нищих и торговцев площади Наву… Тысячи стрекоз гибнут на колючей проволоке, по которой пропущен ток… Мертвые стрекозы растекаются по площади Наву… Люди, охваченные паникой, бегут, бегут, топчут стрекозиные тела, ломают их синие крылья, оскальзываются и падают лицом в мертвый лазурит…
Люди мертвы. Кровь течет по лазуриту. Раскинув руки, огромная Чернота – всесильная, вездесущая, незримая Я – несется навстречу обезумевшему людскому потоку.
Жрица дрожит, покрытая потом, широко распахнув глаза. Одна из камер показывает эти глаза крупным планом: они полны боли и сострадания. Губы жрицы подергиваются. Сейчас она разомкнет уста, сейчас прозвучит слово предсказания…
Сейчас… Сейчас…
Стонет низким, утробным, животным голосом, будто роженица, поднимает руки, хватает себя за щеки.
И – долгожданный пронзительный крик:
– Бэ-да-а!..
Рослый человек с запоминающимся лицом – неправильные, но выразительные черты, длинноватый нос, черные глаза, лоснящаяся черная борода, заплетенная в две косы – держит в руке листок. Фирменный бланк Оракула. Он в недоумении. Верховный Жрец тоже в недоумении, однако удачно скрывает это.
– Только одно слово? – спрашивает этот рослый человек. – «Беда»? Что она имела в виду?
Верховный Жрец пожимает плечами.
– Видите ли, уважаемый… да вы садитесь!
Однако высокий человек продолжает стоять.
– Я хотел бы знать, что означает это слово?
– Предсказания пифий не всегда однозначны. В данном случае мы, к сожалению, ничем не можем вам помочь.
– Может быть, имеет смысл вызвать эту пифию и задать ей несколько вопросов относительно видения?
– Дорогой мой.
Верховный Жрец позволяет себе некоторую фамильярность, какой никогда не допустил бы, будь перед ним рядовой клиент. Однако рослый человек не является рядовым клиентом. Это мар-бани, заговорщик, который явился к нему от лица нескольких представителей древнейшей аристократии Вавилона.
По мнению мар-бани, давно уже настала пора бросить бомбу. Городу необходим взрыв. Важно знать, насколько город готов к социальному взрыву и куда именно лучше бросать бомбу.
Запрос был сделан именно в такой формулировке. Прямо скажем, нестандартной. Жрица получила совершенно иной заказ, оформленный как запрос от правительства. Эти стервы пифии – чуткие на ложь, как муравьи на сахар. Прибежала: не нравится ей что-то в заказе. Подозрительным ей что-то там мнится.
Да, ей нужно дать второе посвящение. Причем, немедленно. Если все будет так продолжаться и дальше, девочка далеко пойдет.
Мар-бани оплатил заказ по двойному тарифу. Половину этих денег Верховный Жрец, разумеется, положил себе в карман. А если заговор увенчается успехом и произойдут перемены в правительстве, Оракул будет как сыр в масле кататься. Такое случалось уже один раз (после того случая Оракул и заполучил роскошное здание рококо, о чем сообщалось выше).
– «Беда». Что это означает? – недоумевал мар-бани.
Наставил свою великолепную бороду на Верховного Жреца: высокомерен и прекрасен в превосходном своем высокомерии!
– Милейший, я выложил такую кучу денег не для того, чтобы услышать одно-единственное слово!
– Дорогой мой, – снова проговорил Верховный Жрец, – вся неприятность в том, что жрица, работавшая над заказом, и сама ничего не помнит. Она вошла в транс, которому предшествовала тщательная аналитическая подготовка… Вам объяснить технологию вхождения в так называемый аналитический жреческий транс?
Мар-бани пожевал губами, уселся в кресло, которого прежде упорно не замечал, закинул ногу на ногу.
– Да уж, желательно, – обронил он.
Верховный Жрец оценил его поведение как дружелюбное.
– Изучив все обстоятельства, касающиеся данного дела, жрица обязана забыть их. И уверяю вас, пифии это умеют. Они проходят специальную подготовку, весьма жесткую, но эффективную. Затем, когда к ним приходят видения, они, как правило, представляют события как бы свершившимися, причем, в наиболее вероятном варианте. Это и является предсказанием. По окончании транса жрица переходит в руки медицинского персонала и два дня находится в карантине. Затем ей предоставляется трехдневный отпуск, после чего она приступает к работе над новым заказом…
– А какой у них срок жизни? – вдруг спросил мар-бани.
– Друг мой, вас это, очевидно, не касается, – сказал Верховный Жрец.
Мар-бани решил не затрагивать больше посторонних тем и снова повертел в руках фирменный бланк с предсказанием.
– «Беда»… Я могу ознакомиться с видеозаписью? – спросил он неожиданно.
– Вообще-то мы не предоставляем клиентам наши видеоматериалы, разве что возникают рекламации… – сказал Верховный Жрец. – Впрочем, рекламации практически не возникают.
– Считайте, что возникла, – сказал мар-бани.
Однако видеозапись его разочаровала. В течение получаса на экране телевизора дрожала и пучила глаза потная женщина, после чего завыла (мар-бани стало противно) и выдавила из себя это непонятное «беда».
Вернувшись в кабинет Верховного Жреца, мар-бани решился.
– Хорошо. Я принимаю ваше предсказание. Поскольку заказ был оформлен как запрос от правительства о возможности социального взрыва, то слово «беда», очевидно, означает «правительству следует остерегаться, ибо в случае неосмотрительных действий его ждет беда».
– Вот видите, вы сами великолепно во всем разобрались, – сказал Верховный Жрец.
Пиф открыла глаза.
Нет, ей не почудилось. Город был полон грома. За окном светило солнце, никакого дождя не было в помине. Стекла позвякивали, чашка на столе слегка дребезжала о блюдечко. Что-то большое, тяжелое непрерывно рокотало в чреве необъятного Вавилона, будто там неуклюже ворочалось гигантское чудовище, заплутавшее в лабиринтах улиц и дворов-колодцев.
Пиф находилась на карантине, в медицинском флигеле Оракула. Она много спала, много ела, проходила обследование, кварцевание, водный массаж и другие процедуры, долженствующие восстановить ее здоровье. Обычно жрица после транса, как и говорил Верховный Жрец заказчику мар-бани, остается в карантине на два дня, но для Пиф сделали исключение. Прошло уже шесть дней, а выписывать ее собирались только назавтра – итого семь дней.
Ее это устраивало.
До сегодняшнего дня, когда вдруг зашевелилось это странное, грохочущее.
«Ррр… до грробба-а…»
– Бэда, – пробормотала Пиф. И вдруг вскрикнула – она вспомнила: – Бэда!
На крик заглянула медицинская сестра в голубом облачении. Еле слышно прошелестела с укоризной:
– Голубчик, разве так можно…
– Тетку Кандиду сюда! – повелела Пиф.
– Невозможно, голубчик… Служительницам такого ранга вход в медицинский корпус строжайше…
– Нет! Тетку Кандиду мне! Хочу, чтоб Кандида прислуживала! – капризно проговорила Пиф, норовя запустить в сестру больничным тапком. – Ну!..
Сестра, которой настрого было приказано потакать всем капризам этой жрицы, поспешно выскользнула из комнаты и прикрыла дверь.
«Дурраки…» – рычало чрево Вавилона.
Пиф взяла с белого пластмассового подноса чашку. Крепчайший кофе. Таких чашек она выпивала в день не менее трех. Сестра пыталась протестовать, но Пиф закатила первосортную истерику.
(Истерика Жреческая Первосортная: «МНЕ ПОСМЕЛИ ПЕРЕЧИТЬ? МНЕ – ПОСМЕЛИ – ПЕРЕЧИТЬ? – М Н Е… – П О С М Е Л И… и так далее, по нарастающей, покуда у дерзкого не сдадут нервы, ибо у пифии, закатывающей Истерику Жреческую Первосортную, нервы как канаты).
После этого сестра смирилась.
И вот, не дожидаясь взрыва, едва лишь уловив первые нотки ИЖП в голосе Пиф – что уж скрывать, и без того довольно визгливом, – сестра побежала за этой неопрятной теткой Кандидой, которая моет полы в рабском бараке и у младшей жреческой обслуги и от которой вечно разит потом и хлоркой.
Пиф как раз допивала вторую чашку, когда тетка Кандида явилась. Вернее, так: сперва показалсь сестра, губы поджаты, лицо смертельно обиженное, голос уксусный:
– Я привела вам эту Кандиду, голубчик, как вы и просили.
– Спасибо.
Пиф подпрыгнула на широкой мягкой постели, разворошив скользкие шелковые подушки. Взметнула белоснежный пеньюар, вскочила.
– Спасибо!
Сестра исчезла. Вместо нее боком протиснулась в дверь громоздкая тетка Кандида. Как была, в синем халате. Ибо Пиф велела – НЕМЕДЛЕННО! Сестра и притащила старуху – НЕМЕДЛЕННО!
– Как же так, барышня, – укоризненно заговорила тетка Кандида, – от дел оторвали, даже переодеться не дали…
– И не надо, не надо переодеваться, – поспешно сказала Пиф. – Входи, да дверь затвори как следует.
Тетка Кандида повиновалась.
– Ну, – совсем уж неприветливо молвила она, – зачем звали-то, барышня?
– Что в городе происходит? – жадно спросила Пиф, раскачивая пружинный матрас.
– Для того, что ли, звали, чтобы я вам, значит, про безобразие это рассказывала?
– Да, да. Что там грохочет с утра?
Тетка Кандида с подозрением поглядела на Пиф – не посмеяться ли задумала младшая жрица. Все они с тараканами в голове, а эта так вообще бешеная.
Но Пиф была совершенно серьезна.
– Ну, говори же. Меня тут взаперти держат, пока я болею после транса…
Тетка Кандида придвинулась ближе и прошептала:
– Бунт, барышня. Настоящий бунт. Эти-то, богатеи из нынешних, власть всю забрали и народ давят, будто виноград на винодельне… Ну вот. А прежние-то владетели, допотопные, которых нынешние всех их богатств лишили и в нищее состояние ввергли, – они-то за народ. И народ за них биться пошел. Старые-то, ну, мар-бани – лучшую долю обещали… Говорят, закон такой сделают, чтобы всех рабов непременно раскупали. Чтобы нераскупленных, значит, не оставалось. И налог на окна отменят, а плату на воду в прежней цене оставят…
– Врут, – отрубила Пиф.
– Ох, барышня. А вдруг не врут? Народ ведь надеется…
– А грохочет что?
– Так танки в город вошли… Правители-то сразу вызвали военных, чтобы те, значит, народ разогнали… Ну, военные и стараются… С утра уж стреляют, побили, говорят, народу – страсть… – Тетка Кандида скорбно покачала головой. – Вот беда-то, вот беда какая!..
– Беда. Беда!
Пиф замолчала, широко раскрыв невидящие глаза.
…Стрекозиные крылья… Нет, это просто синий цвет – лазурит – кафель площади Наву…
– Беда, тетка Кандида, – сказала Пиф, лихорадочно схватив старуху за рукав. – Слушай, мне уйти надо.
– Уйти им надоть! – возмутилась старуха. – Здоровье свое беречь – вот что им надоть! Молодые еще, чтобы себя гробить… Сказано докторшей – лежать, значит, лежать. Нечего козой скакать. К тому же и неспокойно в городе.
– Тетка Кандида! – взмолилась Пиф. – Ты меня только выручи, я тебя откуплю. Как сыр в масле кататься будешь.
– Разбежалась, откупит она меня. Мне и в Оракуле хорошо.
– Ну ладно, скажи, чего хочешь, – все для тебя сделаю. Только помоги. Очень надо уйти. И чтоб эти все, – она кивнула на дверь, за которой скрылась сестра, – чтоб никто не знал.
– Да ничего мне и не надо, – совсем смутилась тетка Кандида. Но устоять перед напором Пиф не могла. – Ладно, говорите, барышня, чего удумали. Может, и помогу.
– Мне надо на площадь Наву. Там… человек один. С ним, наверное, беда.
Тетка Кандида вдруг с пониманием сказала:
– Любовь – она, девка, самая большая беда в нашей бабьей жизни и есть.
– Одежду принеси, а? Любую, хоть со вшами…
– Зачем со вшами? – окончательно разобиделась тетка Кандида. – Я тебе чистую принесу. И под росточек твой… А ты пока покушай хорошенько.
Бэда стоял в храме, что в катакомбах на площади Наву. Народу на этот раз собралось больше обычного, только Бэде это было невдомек, ибо ходил сюда нечасто и об обычае не ведал. Стояли, почти задевая друг друга плечами. Свечи все были погашены, чтобы люди не задыхались: хоть имелись вентиляционные колодцы, хоть и стояли за перегородками кондиционеры (община исхитрилась и купила на пожертвования), а все же подземелье – оно и есть подземелье. Душно здесь было.
Из полумрака, скрытый слушателями, громыхал отец Петр.
– Что вы мне тут о мятеже да о мятеже! Вы что, политикой пришли сюда заниматься?
Помолчал, обводя стоящих перед ним таким тяжким взором, что даже Бэда поежился, хоть и стоял в задних рядах и Петра вовсе не видел.
– Ладно, – уронил наконец Петр. – Будет вам и о мятеже, коли просите. – И зарычал грозно: – Чтоб в глупостях этих не участвовали, если храм свой любите и Бога своего почитаете! Чтоб витрин не били, чтоб домов не громили, чтоб людей не убивали, чтоб насилие над девками не чинили! Мар-бани на вашей крови хотят свою жирную задницу в правительственных креслах угнездить, а вы все, неразумные, и рады стараться. – Слышно было, что Петр скорчил рожу, потому что голос зазвучал ернически: – Вот-с, вот-с, господа, вот вам наша кровушка… – И проревел: – Дураки!!
После этого настала тишина. Только лампа, на цепях с потолка свисающая, вдруг еле слышно скрипнула.
Петр сказал:
– Сохраните ваши жизни для другого дела. Ступайте.
Народ пошел к выходу.
На площади Наву кое-где еще велась торговлишка. Бэда взял у лоточника вчерашнюю плюшку с творогом (была черствая и шла по половинной цене), принялся рассеянно жевать. Людей было мало. Рабские бараки за проволокой безмолвствовали, как вымерли. Только солдат в проеме караульной будки маячил, зевал.
Бэда свернул на широкую улицу Балат-Шин. Он хотел вернуться в Оракул до того, как Беренгарий, который вчера пришел откуда-то очень пьяный, очнется от тяжкого своего похмелья.
Народу и на улице было немного меньше обычного, хотя то и дело встречались прохожие. Прошла даже молоденькая няня с хорошенькой, как на картиночке, девочкой. Бэда ей сказал:
– Ты что ж в такое время с дитем по улицам бродишь, дурища?
Няня обиделась, пищать что-то стала, возмущаясь. Бэда только рукой махнул, слушать не стал.
Город и вправду был неспокоен, точно в животе у него бурчало, но пока что и на площади Наву, и на улице Балат-Шин было исключительно мирно.
И вдруг разом все переменилось.
Едва лишь свернув за угол, Бэда услыхал оглушительный всплеск, звон стекол, крики – веселые, пьяные – и поневоле к стене прижался. После разглядел: в конце улицы большая компания громила богатые магазины. Гулянье шло вовсю. Орали песни, все разом и невпопад. То и дело нагибались, поднимая с мостовой камни, либо пустые бутылки, чтобы запустить ими в стекло.
Бэда дальше пошел. Ему до громил дела не было – убивали только богатых.
Толпа и правда раба не тронула. Только покричала ему вслед, чтобы присоединялся.
Дальше таких компаний стало встречаться больше. Разбивали все, что билось, ломали все, что ломалось, крушили все, что крушилось. А что не поддавалось, то покамест оставляли – до иных времен.
В спешке резали пальцы, хватая из разбитых витрин еду и одежду, пачкали кровью добычу свою, поспешно к груди ее прижимая.
Бэда мимо шел.
И вот навстречу, из-за поворота, понеслась толпа. Не развеселая компания пьяных, да удалых, да горластых, – нет, охваченная паникой огромная толпа. Обильная, как воды евфратовы в половодье. Неслась, смывая все, что только на пути ни встречалось. Налетела на пьяных, разом песни свои позабывших, – смыла пьяных. Наскочила на мародера – тот растерялся, остановился, глаза выпучил, жевать забыл – подхватила, поглотила мародера и с собою потащила. А может, он не туда хотел идти? Может, он совсем в иную сторону идти хотел? Да кто тебя спрашивает…
Закружила и няню с хорошенькой девочкой, и двух египтянок в парчовых юбках (уж те верещали!), и домохозяйку с лицом замученным и сумками тяжелыми, и Бэду, как тот к стене ни прижимался… Тут хоть совсем размажься по этой стене, а все равно выковыряют и потащат.
Растворился в толпе бегущих и сам побежал.
Кого-то сильно толкнули во время бега этого (уже до улицы Балат-Шин добрались), прямо на витрину повалили. Закричал человек страшным голосом, когда толстое стекло под его тяжестью треснуло и начало полосовать живое тело, будто зубами грызть.
Толпа дальше неслась, повсюду оставляя за собой кровавые следы.
А следом, рокоча, неспешно танк выехал. Постоял на перекрестке несколько секунд, слепо пошарил в воздухе орудием и вдруг прямо по толпе выстрелил.
Чуткое тело толпы ждало этого, заранее содрогаясь в ужасе смертельном.
Вокруг Бэды упало несколько человек. Но толпа даже испугаться ему не позволила. Катилась и катилась бесформенным комом, подминая все лишнее, что катиться не могло. Упали убитые – по убитым покатилась. Упали раненые – и по раненым покатилась. Толпа была невинна, как дитя, охваченное страхом.
Будто пробку из бутылки, вытолкнуло толпу из улицы Балат-Шин обратно на площадь Наву.
Теперь вся площадь кишела народом. Часть людей понесло прямо на рабские бараки. Остановиться в этой давке было невозможно. И назад пути не было, ибо подпирали все новые и новые беглецы.
Из каждой улицы, что вливалась в площадь Наву, выкатывались с ревом и грохотом танки. Попробовали было люди в сторону Зират-Шин броситься – поздно. Оттуда уже жерло выпирает. Заметались, давя и топча друг друга.
В том углу, где рабские бараки помещались, десятки людей повалило на проволоку, что до сих пор под током стояла. Зашипела плоть, заплясала, будто живая. Кричали в толпе и плакали от ужаса, однако спасения не было – кто возле проволоки оказался, все на проволоке погибли.
Орали в бессильном страхе, солдат из будки караульной выкликая:
– Ток!.. Сволочи!.. Ток!
Пока решали солдаты, будет им что от начальства за самоуправство эдакое, пока с рубильниками возились…
Наконец, отрубили ток. И тотчас обвисли мертвецы и дергаться перестали, будто успокоились наконец.
Бэду же мимо пронесло и прямо к станции метро потащило. Как в дверях не раздавило – того не понял. Эскалаторы не работали – стояли, переполненные народом. Не сорвались – и то чудо. Толпа хлынула вниз, в катакомбы.
И прянула, встреченная автоматным огнем. На синий кафель станции «Площадь Наву» брызнула кровь. Кто уцелел, пал на плиты, руками голову прикрывая. А люди с площади все прибывали и прибывали. Наконец иссяк их поток – танки подошли вплотную к самой станции и перекрыли входы. Все, кто успел войти до этого, оказались заперты на эскалаторах и платформе.
И тут отворилась неприметная дверка с надписью «ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» и Петр, перекрывая своим ревом крик множества глоток, заорал:
– Сюда!
Очертя голову, спотыкаясь, мчались люди к этой дверке, слепо и безоглядно поверив в спасение свое. Бэда вскочил на ноги (до этого лежал лицом вниз) и тоже побежал к Петру. Его толкали и отпихивали, торопясь ворваться в убежище. С другого конца станции к беглецам уже подбегали солдаты.
Бэда ухватился пальцами за косяк двери, стараясь проникнуть внутрь, но тут его ударили прикладом по переносице и отшвырнули в сторону. Дверка между тем захлопнулась и с внутренней стороны кто-то быстро заложил засов.
Солдат, оттолкнувший Бэду, начал бить прикладом по переговорному устройству и, ругаясь, требовать, чтобы ему отворили.
Из переговорного устройства разгневанно рявкнул Петр:
– Здесь храм! Право убежища!.. Понял ты, дерьмо?
Солдат в ярости разбил переговорное устройство и выстрелил в металлическое забрало, отуда доносился голос Петра. Но никакого Петра там, конечно, уже не было.
С попавшей в ловушку чернью солдаты разобрались сноровисто и без долгих разговоров. Женщин и детей – кто на вид младше четырнадцати казался, ибо документов ни у кого не спрашивали – прикладами отогнали к эскалаторам. Мужчин же выстроили на платформе, лицом к рельсам, и одного за другим пристрелили.
Пиф шла по площади Наву, будто оказавшись посреди своего видения, где воздух был густым и твердым, хоть ножом режь, а стены домов и деревья тягучими, как резина. Но здесь все было настоящим. Дома, чахлые липы на краю площади, солдаты, мертвецы. Мертвецов было больше всего.
Пиф приблизилась к станции. Путь ей перегораживал танк. На броне сидел солдат и жевал кусок булки с растаявшим маслом.
Он рассеянно смотрел на женщину, которая шла мимо, вдруг опомнился и вскочил:
– Куда? Стой!
Пиф послушно остановилась.
– То-то, – сказал солдат, снова усаживаясь.
Пиф подошла поближе.
– Привет, – сказала она.
Он снова насторожился.
– Документы есть? – спросил солдат.
Пиф вытащила из кармана джинсов удостоверение младшей жрицы Оракула. Солдат посмотрел на удостоверение, на фотографию, на Пиф.
– Держи. – Он вернул ей удостоверение. – Как ты через оцепление прошла?
– Не знаю… Там что, оцепление?
– Конечно.
– Не знаю, – повторила Пиф. – Мне надо туда, на станцию.
– Не положено.
– Там один человек…
– Не положено, говорят тебе.
– Мне было видение, – сказала Пиф.
– А мне-то что, было у тебя видение или не было, – сказал солдат. – Мне начальство велело не пускать никого, вот и все тебе видение, красавица. Булки хочешь?
Он порылся в липком полиэтиленовом пакете, который лежал рядом, на броне.
– Спасибо. Что-то кусок в горло не лезет.
– Это поначалу со всеми так, – сказал солдат успокаивающе. И снова спросил: – Как же ты оцепление прошла?
Этот же вопрос задал Пиф командир танка, младший лейтенант Второй Урукской Набу-Ирри. Он тоже внимательно изучил удостоверение Пиф, постучал корочками с надписью «Государственный Оракул» по широкой своей ладони и, наконец, решился:
– Значит так, Иддин. Бери эту девку и топайте в башню Этеменанки. Сдашь ее лично его превосходительству генералу Гимиллу. Все-таки пифия, знаешь ли. Тут шутки шутить не стоит.
Иддину совершенно не улыбалось тащить бесноватую девку к его превосходительству генералу Гимиллу в башню Этеменанки. Он уныло обтер о штаны масляные пальцы, сказал «слушаюсь», взял автомат и подтолкнул Пиф локтем:
– Пошли, что ли.
И пошли: впереди солдат, равнодушно посвистывая сквозь зубы и хрустя сапогами по битому стеклу; следом Пиф, одурманенная жарой и странной, чересчур яркой, реалистичностью происходящего (и ведь на самом деле происходило, не мнилось, не снилось, не чудилось!) Встречавшимся патрулям объяснял, что конвоирует жрицу Оракула в башню Этеменанки. Кое с кем останавливался, перебрасывался шутками, прикуривал. Пиф терпеливо ждала, как ребенок при болтливой няньке. Потом шли дальше.
Едва миновали мост через широченный в этом месте Евфрат, как грохнул взрыв. У Пиф заложило в ушах и она оглохла. Солдат же покрутил головой, весело выругался, окурок бросил.
– Во рванули! – сказал он.
Пиф не услышала его. В голове у нее застряло гудение.
Она повернулась туда, куда показывал солдат, и увидела столб дыма и пыли, медленно оседающий в Евфрат. Воды поглотили и пламя, и дым, и обломки. Моста Нейтокрис больше не было.
– Идем, – сказал солдат, хватая Пиф за локоть. И потащил за собой дальше, оглушенную.
Башня Этеменанки господствовала над городом, поэтому генерал Гимиллу, как и следовало ожидать, оставил там солдат. Те втащили на верхний этаж пулемет и достали карты, чтобы скоротать время.
На втором этаже спешно разместили рацию.
Генерал же Гимиллу в башне не остался. Дальше двинулся Вавилон усмирять и к стопам повергать. Потому у солдата, который Пиф привел, сразу же возникла проблема: то ли по городу бегать и генерала искать (чтобы, как велено, с рук на руки), то ли сбыть свою обузу здесь и возвращаться на площадь Наву, к родимому танку…
Решился на второе. Сказал жрице:
– Вот что, красавица. Я тебя здесь оставлю. Ты главное лейтенанту покажись, чтобы знал, кто ты такая. А после уж от лейтенанта не отходи, а то неровен час солдаты обидят. Поняла?
Пиф кивнула.
Солдат видел, что она почти ничего еще не слышит после взрыва.
– Головой потряси, уши прочисти, – посоветовал он. И сам головой потряс для наглядности.
Пиф встряхнулась.
– Я поняла, – сказала она. – Ты иди, я здесь побуду.
– Документ береги, – напоследок сказал солдат. И – руки в карманы, губы в трубочку – вниз по ступенькам побежал.
Пиф, как никому не нужная вещь, в уголок приткнулась. На какой-то ящик села. Откуда в башне Этеменанки ящик? Это же храм, главная святыня города… Но уж видно устроено так, что если вторглись куда солдаты, там никаких святынь уже не остается.
Посидела, поглядела, как взад-вперед злющий лейтенант ходит, кого-то распекает, с кем-то по рации препирается. Наскучило ей. Встала, к окну подошла.
Внизу расстилался Вавилон. Клубы дыма поднимались над кварталами Шуанна, Туба, Литаму, Новый Туба (пусть горит, вот уж трущоб не жалко), Карраби и Кандингирра, где начинались уже нарядные загородные виллы… Евфрат лежал голый – не было уже обоих мостов, а набережная во многих местах была разворочена взрывами. И незнакомым казался Пиф родной ее город.
Она отошла от окна и снова забилась в угол. Кругом кипела оживленная деятельность, ходили люди в сапогах и сандалиях, звучали озабоченные начальственные голоса, доносились ругань, хохот, выстрелы, потом вдруг залаял и захлебнулся пулемет. Пиф сидела и ждала. У нее онемели ноги, но она не могла двинуться.
Дважды перед ней останавливались люди. В первый раз тот самый злющий лейтенант. Она молча сунула ему свои корки. Он рассеянно взглянул на них, сказал «а-а…» и вернул.
Второй раз прицепился один из солдат. Пиф и ему показала корки, однако в руки не дала. Солдат обругал ее и ушел.
Никто не спросил, кто она, что здесь делает, почему притулилась на ящике с патронами и чего ждет с долготерпением животного.
Да и сама Пиф слабо понимала, зачем она сюда притащилась и какого чуда дожидается – одинокий островок посреди непостижимой для нее солдатской жизни.
Она не могла бы сказать, много ли времени прошло. Дневной свет в окнах башни померк, зарево пожаров стало ярче. Грохот постепенно стихал в городе. Стали слышнее человеческие голоса. Неожиданно смолкли выстрелы, и Пиф показалось, что настала тишина.
Она пошевелилась, потерла затекшие ноги и поняла, что очень голодна.
И тут башня оказалась полна народу. Пиф не поняла, в какой момент все эти люди заполонили помещение на третьем этаже, где она таилась все это время. Ходили, мигая вспышками, бойкие девицы с фотокамерами. Совали микрофоны прямо в губы плотному коротко стриженому военному в белом мундире (это и был генерал Гимиллу). Несколько встрепанных женщин трясли замусоленными блокнотами. Одна из них сорванным голосом допытывалась:
– Но численность жертв установлена?..
Генерал лениво отбрехивался. Да, установлена. Конечно, примерно. Разумеется, восстановлен. Да, гарантирует. Естественно, отвечает. У вас что, есть сомнения?
– Орудия – не аргумент! – ярился какой-то бородач, размахивая обслюнявленным микрофоном перед самым носом генерала. – Сжечь не значит ответить!
– Нам велено было расстреливать сторонников мар-бани, – холодно ответил генерал, отведя микрофон от своего лица и скроив брезгливую гримасу. – Если вы принадлежите к числу таковых, милостивый государь…
– Гуманизм! – надрывалась растрепанная женщина с блокнотом. Вторая стояла рядом и хищно скалилась, посверкивая очками с разбитыми стеклами.
Генерал обвел собравшихся равнодушным взором.
– Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы, господа?
Ответом ему было настороженное молчание. Еще раз лязгнула фотокамера, озарив помещение мертвенным блеском вспышки.
– Отлично, – сказал генерал Гимиллу. – В таком случае позвольте мне сделать заявление.
Он не глядя протянул руку, и адъютант сунул ему в пальцы глиняную табличку, на каких пишутся все официальные документы. Тотчас же собравшиеся вновь жадно ощерились микрофонами, протягивая их к генералу, будто нищие за подаянием.
Генерал неторопливо отставил табличку на вытянутой руке – он был немного дальнозорок.
– «Глубоко сочувствуя народу вавилонскому, понесшему жертвы вследствие безответственных выступлений мар-бани, правительство вавилонское в храме Эсагилы сим постановляет: всех павших, независимо от их политических убеждений и обстоятельств гибели, предать достойному погребению. В случае, если убитый будет опознан родственниками или близкими и в случае, если означенным родственники погибшего убедительно докажут, что убитый являлся кормильцем семейства, означенному семейству будет назначена от правительства единовременная компенсация по утрате кормильца в размере 60 сиклей. На опознание убитых выделяются семь дней, считая с момента обнародования настоящего обращения к народу вавилонскому. Опознание будет производится в морге храма Гулы-Ишхары круглосуточно. Правила производства опознания будут вывешены на воротах храма».
Он отдал табличку адъютанту и негромко добавил:
– Пресс-конференция окончена.
И повернулся спиной, желая уйти.
– Генерал! – окликнул его один из журналистов.
Генерал Гимиллу обернулся, с явным неудовольствием поглядел на говорившего.
– Что-нибудь еще? Я чрезвычайно занят, знаете ли. Мне и так пришлось пойти навстречу вашим желаниям вопреки государственной необходимости и выделить драгоценное время на все эти разговоры.
Вперед выступили сразу двое – рослый черноволосый бородач и растрепанная женщина.
– Мы являемся представителями общественной организацией «Жизнь ради жизни», – агрессивно начал бородач. Женщина за его плечом кивала. – Мы настаиваем на том, чтобы представители общественных организаций были допущены в морг храма Гулы-Ишхары…
Генерал подумал немного и неожиданно согласился.
– Мы настаиваем на том, чтобы нас сопровождали представители иных организаций, – встряла растрепанная женщина.
– Например? – Гимиллу прищурился. Ему очень хотелось вышвырнуть нахалку в окно, и он вовсе не скрывал этого. К тому же, она была некрасива.
– Правительственных, – пояснила женщина.
Генерал продолжал глядеть на нее в упор, все более откровенно давая ей понять, НАСКОЛЬКО же она некрасива. И молчал.
И тут задерганный злющий лейтенант сказал:
– Здесь имеется представитель Государственного Оракула.
И безошибочно указал на Пиф.
Пораженная, Пиф поднялась. Злющий лейтенант подал ей руку. Как он ухитрился запомнить ее, если видел удостоверение служащего Оракула всего лишь мгновение и уже несколько часов не обращал ни малейшего внимания на ее присутствие?
Приволакивая ногу, Пиф подошла ближе к группе журналистов.
– Почему она хромает? – спросила растрепанная женщина. – Вы стреляли в нее?
– У меня ноги затекли, – хрипло объяснила Пиф.
Генерал Гимиллу фыркнул.
– Теперь я могу идти? – ядовито поинтересовался он. И, не дожидаясь ответа, вышел.
В ожидании, пока провожатые будут готовы выступить, журналисты бродили по комнате, где стало очень тесно и душно, возбужденно переговаривались между собой, перематывали фотопленку, листали блокноты с записями. Пиф снова подошла к окну. Чернота притаившегося внизу разгромленного города казалась беспредельной. Ночное небо озаряли пожары. Горизонт был беспокоен – горело даже далеко за городом.
Внизу, в Эсагиле, шла своя жизнь. Проезжали грузовики и бронетранспортеры. Внезапно оживал и начинал орать динамик – какие-то лязгающие команды, обильно разбавленные матом, без начала и конца, мгновенно смолкающие, когда выключали трансляцию. Несколько раз открывалась перестрелка, но и она смолкала, будто ножом обрубленная. Дважды Пиф слышала одиночные выстрелы. Растрепанная женщина, которая препиралась с генералом Гимиллу, подошла незаметно к окну и, услышав эти выстрелы, проговорила:
– Раненых добивают, сволочи…
Пиф отошла от нее подальше.
Ночь была бесконечной, но спать никому не хотелось.
Пиф нашла злющего лейтенанта и попросила у него поесть. Лейтенант глянул куда-то в угол, мимо Пиф, сунул ей в руки копченую рыбу с куском мокрого хлеба и ушел. Таясь от остальных, чтобы не отобрали, Пиф жадно проглотила хлеб и рыбу. Ей сразу стало легче и даже усталость прошла. И ночь сразу перестала быть бездонной.
Она снова села на ящик, обхватив колени руками. «СЛЕДСТВИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ВЗРЫВА…» Она дала прогноз. Почему они допустили?.. Смутно она догадывалась, что ее предсказание каким-то странным, непостижимым образом повлияло на решение мар-бани начать мятеж.
И еще она знала теперь, что предсказание было неправильным.
«Жрица – пустой сосуд.»
А она, Пиф, – вовсе не пустой сосуд. Она полна любви и страха.
– Эй, девка, – позвал ее кто-то тихим осипшим голосом.
Она подняла глаза. Злющий лейтенант. Стоит рядом, протягивает ей плоскую жестяную флягу.
– На-ка.
Она взяла, поболтала флягой. Там что-то плеснуло. Ей хотелось пить, поэтому она бросила на лейтенанта благодарный взгляд. Лейтенант неожиданно усмехнулся.
Во фляге была водка. Пиф закашлялась от неожиданности.
– Ух ты!.. – пробормотала она. И приложилась к фляге уже поудобнее.
Сделав еще несколько глотков, вернула владельцу.
– Ух. Спасибо.
Тот забрал флягу, завинтил потуже пробку и ушел.
Постепенно Пиф сморил сон. Она так и заснула в ярко освещенном помещении, под громкие возбужденные голоса журналистов.
Их выпустили из башни только к полудню следующего дня. Пиф проснулась оттого, что ее мучила страшная жажда. Она грызла губы и злилась. Но почти сразу же после ее пробуждения в башню вошел генерал Гимиллу и негромко сказал:
– Господа, конвой готов сопровождать вас. Убедительно прошу соблюдать порядок и спокойствие, иначе к вам будут применены санкции. В городе объявлено военное положение.
Храм Гулы-Ишхары находился в Шуанне, где вчера ночью лютовали пожары. Из развалин домов поднимался дымок. В пыльном летнем воздухе стоял едкий запах пожарищ.
Журналисты оживленно вертелись по сторонам, то и дело наводя камеры на сгоревшие дома. Кто-то из них горько рыдал, поскольку видеокамера оказалась разбитой. В голове у Пиф мутилось от жажды. Она подошла было к общественному колодцу, но солдаты отогнали ее, сказав, что местные жители сбрасывали туда трупы.
Во дворе храма распоряжались солдаты. Танк хозяйски расположился на клумбе, сломав несколько розовых кустов и разметав гусеницами при развороте комья жирной черной земли – драгоценнейшей земли, которую привозили сюда из Барсиппы и Урука.
Журналистов провели в просторные Залы Смерти – попросту говоря, в морг, где холодильные установки поддерживали постоянную температуру. Погибших продолжали сносить – работа по очистке города еще не завершилась.
На стеллажах в два яруса лежали одеревеневшие тела. Пожилой раб в черном ватнике и валенках на босу ногу ковылял от трупа к трупу. Непрерывно слюня химический карандаш, писал номер на босой ступне очередного покойника и ковылял к следующему. Когда журналисты входили в Зал Смерти, он как раз выводил номер 381.
Все вновь вошедшие тут же замерзли и принялись стучать зубами. Пиф отделилась от журналистов и стала медленно ходить между стеллажами, разглядывая лица убитых. Растрепанная женщина нагнала Пиф и повисла у нее на руке.
– Что вы скажете как представитель Государственного Оракула?
Пиф тупо посмотрела на нее.
– О чем?
– Как – о чем? Об этом бесчеловечном избиении!
– …СЛЕДСТВИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ВЗРЫВА… – проговорила Пиф.
– Вы согласны, что политика нынешнего правительства зашла в тупик? В экономический и социальный тупик? – наседала женщина.
– Да, – сказала Пиф, чтобы та отвязалась.
– Но как представитель государственного…
– Я не знаю, – с раздражением произнесла Пиф. И добавила, ощутив неожиданный прилив сил: – Отсохни, липучка.
Женщина, оскорбленно вереща, отстала.
А Пиф пошла дальше.
– «Триста… восемьдесят… пять…» – бормотал служитель в ватнике, мусоля карандашом чью-то грязную мертвую пятку.
Пиф подошла поближе, поднялась на цыпочки, чтобы увидеть лицо.
– Беда, девка, – сказал ей дружески раб. – Ты гляди, сколько народу побили. И все несут и несут.
Пиф молча смотрела на убитого номер 385. Он лежал, запрокинув голову, одна рука на груди, другая слегка развернута тыльной стороной. У сгиба локтя синела татуировка – номер. Пиф видела цифры: 812… университетский шифр. И дальше средний балл: 3.3 – да, он плохо учился. Он вообще не был усерден, ни в университете, ни потом, в Оракуле…
– Во как, девка, – повторил служитель. – Страсть, чего наделали.
Пиф смотрела на мертвеца и молчала. У него было безобразное синее пятно на переносице.
Раб сказал:
– Знакомца встретила, что ль?
Как о живом спросил.
Пиф кивнула. И прибавила:
– Кажется…
Раб ухватил мертвеца за плечо, повернул набок.
– Гляди, девка, в затылок его застрелили, – сказал он. – Вот ведь зверье… А перед тем еще и били.
– Положи его, – сказала Пиф. – Не трогай.
Она старалась, но не могла его узнать. Да и нечего было узнавать в этой окоченевшей пустой оболочке, где не оставалось больше никакого Бэды. По этой брошенной оболочке она даже плакать не захотела.
Да, но если он ушел, то куда? Где он, в таком случае, если здесь его больше нет?
Пиф поглядела по сторонам. В противоположном углу щелкали фотоаппараты, несколько человек осаждали руководителя работ по очистке города – тот на свое несчастье зашел в храм посмотреть, как идут дела.
Шаркая валенками, служитель пошел дальше ставить номера.
Мертвец лежал и бессмысленно таращился в потолок.
Пиф набрала полную грудь воздуха, насколько позволяли легкие, запрокинула голову к теряющемуся в полумраке потолку и страшным, нечеловеческим почти, голосом закричала:
– Бэ-э-эдааа!..
В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ КАЧЕСТВЕННО УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРАКУЛА И ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ВАЖНОСТЬ ЭТОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ЧЕТКОЙ РАБОТЫ ВСЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА ПРАВИТЕЛЬСТВА ВАВИЛОНСКОГО…
ПРИКАЗЫВАЮ:
…КОРЕННАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ… КАЧЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ… (и так далее)
…ОТНЫНЕ ДОЛЖНОСТЬ ВЕРХОВНОГО ЖРЕЦА СЧИТАЕТСЯ УПРАЗДНЕННОЙ. ДЕЙСТВУЮЩИЙ ВЕРХОВНЫЙ ЖРЕЦ ПОДЛЕЖИТ УВОЛЬНЕНИЮ С ВЫПЛАТОЙ ВЫХОДНОГО ПОСОБИЯ В РАЗМЕРЕ ПЯТНАДЦАТИ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ.
ВВЕСТИ ДОЛЖНОСТЬ ВЕРХОВНОГО МЕНЕДЖЕРА С ОКЛАДОМ В РАЗМЕРЕ, РАВНОМ ОКЛАДУ ВЕРХОВНОГО ЖРЕЦА…
…ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ЗЛОСТНОЕ НАРУШЕНИЕ ОБЕТА БЕЗБРАЧИЯ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ДАЧЕ ПРОРОЧЕСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ, ЧТО ИМЕЛО НЕОБРАТИМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПОСЛУЖИЛО ДЕТОНАТОРОМ (и так далее) МЛАДШУЮ ЖРИЦУ, ИМЕНУЕМУЮ ПИФ, УВОЛИТЬ ИЗ ОРАКУЛА ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ НЕПРИГОДНОСТЬ БЕЗ ВЫХОДНОГО ПОСОБИЯ.
…ХАЛАТНОСТЬ И БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ… ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ МЕДИЦИНСКОГО КОРПУСА ОШТРАФОВАТЬ НА СУММУ МЕСЯЧНОГО ОКЛАДА…
…ИМЕНУЕМУЮ КАНДИДА… …С ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ…
Ну вот, собственно, и все.