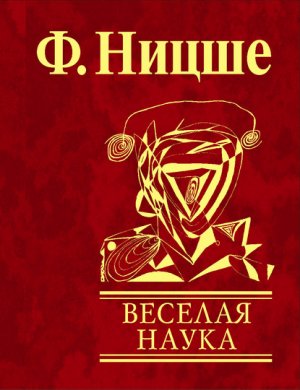
Предисловие ко второму немецкому изданию
1
Можно было бы дать здесь не одно, а несколько предисловий; но я сомневаюсь, чтобы путем предисловий мы достигли чего-нибудь существенного. В самом деле, мы ведь все-таки будем не в силах при помощи их приблизить к пережитому над вопросами, выдвинутыми в этой книге того, кто никогда не переживал ничего подобного. Она вся как бы написана на языке теплого ветерка: что-то задорное, беспокойное, противоречивое, непостоянное слышится в ней; каждому здесь одинаково чуется и близость зимы, и победа над этой зимой, которая идет, должна прийти и, быть может, уже наступила… Благодарность вырывается беспрерывно, как будто бы случилось что-то крайне неожиданное, и это – благодарность человека выздоравливающего, ибо неожиданностью-то и было выздоровление. «Веселая наука», название это указывает на сатурналии духа, который долгое время терпеливо выдерживал на себе страшный гнет – терпеливо, сурово и холодно, не покоряясь ему, но и не питая надежды от него освободиться; и вот сразу осенила его надежда на выздоровление, да и самое упоение здоровьем. И тут-то вот – к нашему удивлению – в надлежащем освещении выступает много такого, что было неразумного и прямо-таки глупого, умышленно расточается много нежности на вопросы колючие, которые обыкновенно не вызывают к себе теплого, внимательного отношения. Вся книга эта сплошь представляет собою праздник после продолжительного периода всякого рода лишений и бессилия; является ликованием возвращающейся силы, вновь пробудившейся веры в завтра и послезавтра, внезапного чувства и предчувствия будущего, близкой удачи, моря, вновь очистившего свою поверхность ото льда, целей, которые было позволено поставить снова и которые снова возбудили к себе доверие. А что осталось сзади меня! Пустота, изнурение, неверие в юности; старость не вовремя; тирания физического страдания, которое уступило место тирании гордости, отрицавшей все выводы, сделанные под влиянием страдания – а ведь выводы эти были утешением; – полное одиночество, как личная оборона против человеконенавистничества, ставшего до болезненности ясновидящим; принципиальное ограничение себя в области знания тем, что есть в нем горького, тяжкого, болезненного, как это предписывало отвращение, которое разрослось постепенно под влиянием неразумной духовной диеты и потворства, – известных под именем романтизма, – о, кто бы мог, подобно мне, прочувствовать все это! Да, тот простил бы мне не только мою безумную, распущенную «веселую науку», он простил бы мне и ту горстку песен, которую я прибавил на этот раз к своей книге – песен, в которых поэт почти непростительным образом издевается над всеми поэтами. Но увы! не на одних поэтов и их прекрасные «лирические настроения», должен излить свою злобу этот вновь воскресший человек: кто знает, какой жертвы он ищет, какое чудовище пародии прельстит его в ближайшем будущем? «Incipit tragoedia» – вот то заключение, которое звучит в конце этой рискованной, но неопровержимой книги: берегись! Возвещается что-то изумительно скверное и злое, и нет сомнения, что incipit parodia.
2
– Но оставим г. Ницше в покое: что нам за дело, что он, г. Ницше, снова стал здоровым?.. У психолога немного еще столь интересных вопросов, как вопрос о соотношении между здоровьем и философией; вот почему даже к своей собственной болезни он присматривается с чисто научным любопытством. Личность и философию ее связывают обыкновенно неразрывно, но не надо забывать тех различий, которые обыкновенно здесь наблюдаются. У одного философия слагается под давлением его нужды, у другого – под влиянием его богатства и силы. Первый чувствует известную потребность иметь свою собственную философию, как точку опоры, как средство, которое даст ему возможность успокоиться, излечиться, освободиться, возвыситься, уйти от самого себя; у второго она является роскошью, в лучшем случае сладострастьем торжествующей признательности, которая в конце концов должна быть начертана громадными космическими буквами на небесах идеи. Но каково же будет творчество той мысли, которая находится под гнетом болезни? – а ведь именно чаще и бывает так, что та или другая философская система определяется состоянием крайней необходимости. Именно это мы и наблюдаем у больных мыслителей, каковые в истории философии представляют из себя, быть может, подавляющее большинство. Психологам приходится сталкиваться с этим вопросом, и он, надо заметить, не выходит из сферы экспериментальной психологии.
Представьте себе путника, который, внушив себе проснуться к определенному часу, спокойно отдается сну: так же и мы, философы, отдаемся на время душою и телом болезни, как только допустим, что мы начинаем заболевать, – и равнодушно закрываем глаза на все, что находится перед нами. И как путник знает, что нечто не спит, а отсчитывает часы и разбудит его, так и мы уверены, что решительный момент найдет нас бодрствующими, что нечто тогда выдвинется вперед и застанет наш дух на работе, будет ли то слабость, регресс, покорность, ожесточение, помрачение или как еще там иначе называются все те болезненные состояния духа, против которых в моменты здоровья выступает гордость (ведь и в старинных немецких стихах певали: «самыми гордыми существами на земле будут гордый дух, павлин да конь»). И после такого самовопрошания, самоиспытания человек глубже проникает во все, что до сих пор входило в область его философского мышления: он лучше, чем это было раньше, угадывает все непроизвольные отклонения, закоулки, остановки и солнечные места мысли, куда страдающий мыслитель попадал просто, как страдающая личность; он теперь уже знает, куда больное тело и его потребности гонят, толкают, заманивают его дух, – на солнце, к покою, кротости, терпению, излечению, утехе в каком бы то ни было смысле этого слова. Всякая философия, которая мир ставит выше войны; всякая этика со своими отрицательными определениями понятия о счастье; всякая метафизика и физика, которым известны финал, конечное состояние чего бы то ни было; всякое сильное эстетическое или религиозное стремление к чему-то постороннему, лежащему по ту сторону, вне, свыше – дает нам право задать вопрос, не было ли болезненным состоянием все то, что вдохновляло философа? Бессознательное замаскирование физиологических потребностей, которые у нас прячутся под покровом Объективного, Идеального, Чисто духовного, доходит до крайних пределов, – и я часто задавал себе вопрос, не представляла ли, говоря вообще, вся философия до настоящего времени просто изъяснение и непонимание потребностей тела. За самыми ценными из тех суждений, которые намечают ход истории мысли, кроется непонимание физических свойств нашего тела, по отношению ли к индивиду, сословию или даже целой расе. И все эти смелые, безумные выходки метафизики, а в особенности все ее ответы на вопрос о ценности бытия, следовало бы считать симптомом известных телесных состояний; и если все эти положительные и отрицательные суждения о мире с научной точки зрения и не имеют никакого значения, то во всяком случае для историка и психолога они являются весьма ценными намеками, как сказано, в качестве симптома, указывающего на удачи и неудачи нашего тела, на те избытки, силу, самовластие, которые ему в истории выпадают на долю, или же на те препятствия, утомление и оскудение, которые гнетут его, на предчувствие близкого конца и истощение воли.
Я всегда ждал, что тот истинный врачеватель – философ, который найдет радикальное средство для всех народов, времен, рас, для всего человечества, – будет иметь достаточно мужества, чтобы выставить мое подозрение всем на вид и отважиться провозгласить такое положение: во всех философских системах в настоящее время речь идет не об «истине», а о чем-то совершенно ином, напр., о здоровье, будущности, росте, силе, жизни…
3
Вы уже догадываетесь, что я не мог быть неблагодарным к тому тяжелому периоду хилости, все преимущества которого и поныне еще не вполне мною исчерпаны; я не мог чувствовать к нему неблагодарности, когда достаточно ясно осознал, какое преимущество представляет мое обильное всякими переменами здоровье перед людьми, обладающими дюжим духом. Философ, который был много раз здоровым и выздоравливает все снова и снова, прошел в то же время столько же и философских систем; он только придает каждый раз своему состоянию известную духовную форму и отдаляется от него на известное духовное расстояние. Вот искусство такой трансфигурации и есть именно философия. И мы, философы, далеко не так свободно отделяем душу от тела, как делает это толпа, но еще меньше остается нам свободы, когда нам приходится отделять душу от духа. Ведь мы не лягушек размышляющих представляем собою; ведь мы являемся не каким-нибудь аппаратом с холодными внутренностями, который объективно регистрирует окружающие его явления. Ведь мы навсегда обречены из глубины страдания производить на свет свои мысли и с материнской заботливостью отдавать им всю свою кровь, сердце, огонь, страсть, страдание, совесть, судьбу. Жить для нас значит превращать в свет и пламя все, чем мы обладаем; такой же участи мы подвергаем и то, что нам встречается на пути. И вот относительно болезни мне сильно хочется задать вопрос: да разве, говоря вообще, она будет излишней? Ведь только сильная боль является последней освободительницей духа, ибо только она одна умеет дать то великое истолкование, которое из каждого U делает X, настоящий, правильный X, предпоследнюю букву алфавита.
…Только великая боль, та затяжная боль, во время которой мы сгораем, как на костре, заставляет нас, философов, спуститься на самую глубину и отстранить от себя всякое доверие, всякое добродушие, снять всякое покрывало, отказаться от всякой снисходительности, от всего серединного, – одним словом, ото всего, в чем раньше мы, быть может, полагали все наше человеческое достоинство. Я сомневаюсь, чтобы такая боль делала человека лучшим, чем он был прежде; – но я знаю, что она делает его более глубоким. Научимся ли мы противопоставлять ей нашу гордость, наше издевательство, всю силу нашей воли и будем похожи на индейца, который при самых страшных мучениях отвечает своему мучителю злобными выходками; или же перед лицом этого страдания обратимся к тому небытию Востока – нирване, – к той немой, неподвижной глухой покорности, самозабвению, саморастворению: – все равно из такого продолжительного и опасного господства над самим собою выходишь совершенно новым человеком, у которого несколько лишних вопросительных знаков, который стремится глубже, строже, упорнее, злее и спокойнее ставить вопросы, чем это делалось раньше. В том и заключается доверие к жизни, что сама жизнь стала проблемой. – И нельзя поверить, чтобы человек при этом неизбежно становился унылым и мрачным! Ведь возможна еще даже любовь к жизни, но только любите вы эту жизнь теперь по-иному. Вы любите ее так, как любите женщину, возбуждающую у вас к себе подозрение… Но та прелесть, которую представляют все эти проблемы, та радость, которую открывают все эти X, слишком велика у таких одухотворенных и воодушевленных людей, и это радостное настроение ярким пламенем поднимается постоянно над всеми требованиями, которые поставлены проблемами, над всеми опасностями, которые выдвигаются необеспеченностью положения, даже над тою ревностью, которую ощущает в себе любовник. Мы познаем тогда новое счастье.
4
Не забудем однако указать на самое существенное: из этого омута, из этого тяжкого состояния хилости и дряблости, из этого тяжкого и болезненного подозрения человек выходит перерожденным: с него теперь как бы снята кожа, он становится восприимчивее ко всякому соприкосновению и злее, к чувству радости он проявляет более тонкий вкус, язык его сделался нежнее для всего хорошего, в своей радости он приобретает вторую, еще более опасную невинность, – одним словом, он стал в одно и то же время и наивнее, и в сто раз хитрее, чем был когда бы то ни было раньше. И как противны становятся ему те грубые, бездушные, серенькие наслаждения наших ликующих «образованных», богатых и правящих классов. С какою злостью прислушиваемся мы теперь к той громадной ярмарочной суете, среди которой «образованный человек» и крупные городские центры настоящего времени позволяют принуждать себя к «духовным наслаждениям» при помощи произведений искусства, книг и музыки и при благосклонном содействии спиртных напитков! Как болезненно действуют на наш слух эти театральные выкрики страдания; сколь чуждой становится нашему чувству вся эта романтическая суматоха и путаница чувств, которую так любит образованная чернь, когда втягивает в себя возвышенное, приподнятое, напыщенное! Нет, если нам и в здоровом состоянии нужно какое-нибудь искусство, то это будет уже совершенно иное искусство – это будет насмешливое, легкое, подвижное, божественно спокойное, божественно изящное искусство, которое ярким пламенем запылает на прояснившемся небе! Искусство прежде всего для служителей его и только для его служителей! А затем мы даже лучше художников знаем, что для этого необходимо радостное чувство, радостное чувство во всем. И, как художник, я хотел бы доказать это. Есть вещи, которые мы, люди разумеющие, слишком хорошо знаем: о, если бы мы научились теперь, подобно служителям искусства, забывать и ничего не ведать! И в будущем вы едва ли снова встретите нас на пути тех египетских юношей, которые ночью нарушают в храме его торжественную и таинственную обстановку: обнимают статуи, раскрывают, обнажают и выставляют на свет все, что с полным основанием было скрыто. Нет, у нас отбило охоту к таким приемам, мы знаем, что это дурной вкус, мы не хотим гнаться во что бы то ни стало за истиной, у нас уж нет такого юношеского легкомыслия в любви к истине: для этого мы уже слишком опытны, слишком серьезны, слишком радостны, слишком глубоки и слишком часто для этого мы обжигались… Мы уже более не верим, чтобы истина все-таки оставалась истиной даже после того, как мы снимем с нее покрывало; мы достаточно пожили, чтобы верить в это. Теперь уже в силу приличия мы не стремимся видеть все обнаженным, непременно всюду присутствовать, все понимать и «знать». Иногда лучше с уважением относиться к той стыдливости, с которой природа прячется за загадками и пестрой неизвестностью. Быть может, истина и есть та женщина, которая не без причины не показывает своих оснований.
Уже не Baubo ли имя ее по-гречески?.. О, греки эти! Они умели жить: для этого надо было храбро оставаться на поверхности, в изгибах, на самом верху, боготворить мир, призраков, верить в формы, тоны, в слова, в целый Олимп призраков! Греки эти, несмотря на всю свою глубину, были людьми поверхностными. А разве не к тому же приходим мы, смельчаки, которые отважно взобрались на самые высокие и на самые опасные вершины современной мысли и, оглянувшись вокруг себя, посмотрели вниз? Разве мы в этом отношении не те же греки? Не те же поклонники формы, тонов и слова? а потому и не те же служители искусства?
Рута возле Генуи, осень 1886 г.
Шутка, лукавство и месть
(пролог в немецких рифмах)
Приглашение
МОЕ СЧАСТЬЕ
НЕУСТРАШИМЫЙ
РАЗГОВОР
ДОБРОДЕТЕЛЬНЫМ
БЛАГОРАЗУМИЕ
VADEMECUM – VADETECUM
ПРИ ТРЕТЬЕЙ СМЕНЕ КОЖИ
МОИ РОЗЫ
ПРЕЗИРАЮЩИЙ
СЛОВАМИ ПОСЛОВИЦЫ
ЛЮБИТЕЛЮ ПРОСВЕЩЕНИЯ
ТАНЦОРУ
МУЖЕСТВЕННЫЙ
РЖАВЧИНА
ВВЕРХ
ИЗРЕЧЕНИЕ ВЛАСТНОГО ЧЕЛОВЕКА
СКУДНЫЕ ДУХОМ
НЕПРОИЗВОЛЬНЫЙ ОБОЛЬСТИТЕЛЬ
К СВЕДЕНИЮ
ПРОТИВ ТЩЕСЛАВИЯ
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
ОБЪЯСНЕНИЕ
ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПЕССИМИСТОВ
ПРОСЬБА
МОЯ ТВЕРДОСТЬ
ПУТНИК
УТЕШЕНИЕ НАЧИНАЮЩЕМУ
ЭГОИЗМ ЗВЕЗД
БЛИЖНИЙ
ЗАМАСКИРОВАННОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ
РАБ
ОДИНОКИЙ
SENECA ET HOC GENUS OMNE
ЛЕД
ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ
ЛЕТОМ
БЕЗ ЗАВИСТИ
ОСНОВАНИЕ ВСЕГО ТОНЧАЙШЕГО
ДОБРЫЙ СОВЕТ
ИЩУЩЕМУ ОСНОВ
НАВЕКИ
РАССУЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ УТОМЛЕННЫХ
ВНИЗ
ПРОТИВ ЗАКОНОВ
ИЗРЕЧЕНИЕ МУДРЕЦА
ПОТЕРЯННУЮ ГОЛОВУ
БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ
ПИСАТЬ НОГОЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. КНИГА
ЧИТАТЕЛЮ
ХУДОЖНИК-РЕАЛИСТ
РАЗБОРЧИВЫЙ ВКУС
ГОРБАТЫЙ HOC
СКРИПИТ ПЕРО
ВЫСШИЕ ЛЮДИ
ИЗРЕЧЕНИЕ СКЕПТИКА
ЕССЕ HOMO
МОРАЛЬ ЗВЕЗД
Книга первая
Учение о цели бытия. – Бросаю ли я на людей взоры благосклонные или злобные, – мой глаз неизбежно застает их всех и каждого в отдельности за выполнением одной и той же задачи: сделать как можно больше для сохранения рода человеческого. Но берутся они за эту задачу не из чувства любви к этому роду, а лишь потому, что нет у них более древнего, более неумолимого и более непреодолимого инстинкта, как этот инстинкт, – даже более того: самый-то этот инстинкт и представляет сущность нашего вида и содержание жизни нашей толпы. Если мы, следуя обычным близоруким мыслителям, которые не видят перед собой дальше пяти шагов, будем пытаться разделить людей на субъектов вредных и полезных, на добрых и злых, то, напротив, прилагая больший масштаб, глубже вдумываясь в жизнь целого, мы в конце концов начнем относиться с недоверием и к своей осторожности, и к своей классификации. В самом деле, ведь зловреднейший человек, с точки зрения сохранения рода, приносит, быть может, громадную пользу, ибо поддерживает у других, самим фактом своего существования или своими действиями, такие стремления, без которых человечество надолго заснуло бы или совсем обленилось. Ненависть, злорадство, страсть к грабежу и господству и все остальное, что обыкновенно называется злом, служит для той удивительной экономии, – конечно, экономии очень дорогой, расточительной и в общем в высшей степени неразумной, – которая, как это несомненно доказано, до сих пор сохраняла наш род. Да я, признаться, и не знаю, можешь ли ты, мой ближний, проявлять в своей жизни недоброжелательство к роду и таким образом вести себя «неразумно» и «дурно»; ведь все, что так или иначе могло бы нанести вред нашему роду, устранено из жизни, быть может, уже несколько тысячелетий тому назад. Будешь ли ты следовать самым лучшим или самым дурным из своих побуждений, – ты все равно в сущности так или иначе будешь споспешествовать и благодетельствовать человечеству, и только за это люди будут тебя хвалить и над тобой издеваться! Но ты не найдешь такого человека, который сумел бы вполне, как следует насмеяться над твоими лучшими поступками, который дал бы тебе почувствовать безграничную твою скудость так, как того требует действительное положение вещей! Насмеяться над самим собой так, как следовало бы это сделать, посмеяться так, чтобы смех выходил из глубины самой истины, – не умеют и лучшие из нас, ибо не обладают достаточно сильным чувством правды, а наиболее одаренные из нас недостаточно для этого гениальны! Быть может, и для смеха придет еще свое время! Тогда человечество воплотит положение: «род – всё, индивид – ничто», и каждому будет во всякое время открыт доступ к этой последней свободе, к этой полной безответности. Быть может, только тогда смех вступит в союз с мудростью; быть может, только тогда придет время для «веселой науки». Пока же дело обстоит иначе, пока комедия бытия еще не «осознала» себя, пока еще остается полный простор для трагедии, морали и религии. Что же обозначает все новое и новое появление основателей моральных и религиозных систем, вожаков в борьбе за разные нравственные сокровища, руководителей в деле угрызения совести и религиозных войн? Что значат эти герои на этой сцене? Ведь до сих пор были только герои ее, а все остальное, – иной раз явно и непосредственно, служило им то в качестве машин и кулис, то в роли поверенных и лакеев. (Так напр., поэты всегда были лакеями какой-нибудь морали.) – Само собою понятно, что трагики эти работают в интересах рода, хотя сами они могут считать себя посланниками Божиими, а на свой труд смотреть, как на дело Божие. Они также способствуют успеху жизни человеческого рода, ибо укрепляют веру 6 эту жизнь. «Жить стоит, – так взывает каждый из них, – жизнь сама по себе представляет нечто ценное, жизнь скрывает нечто и за собою, и под собой, внимайте!» И вот то самое стремление, которое с одинаковым напряжением существует и у высших людей, и у людей самых заурядных, – стремление к сохранению рода, прорывается время от времени, как что-то разумное или под видом какого-нибудь страдания духа; ему подыскивают тогда блестящие обоснования и совершенно забывают, что в сущности-то здесь приходится иметь дело со стремлением, инстинктом, безумием, отсутствием всякого основания. Ведь человек должен любить жизнь. Ведь человек должен содействовать и своему преуспеянию, и преуспеянию своих ближних, как бы вы там ни называли все эти обязанности, и какие бы ни выдумали им еще названия в будущем! И вот процессы, совершающиеся в силу известной необходимости и без всякого отношения к какой бы то ни было цели, отныне являются как бы приуроченными к той или другой цели, и человек готов считать их даже последним требованием разума; – тогда-то выступает проповедник этических начал в роли учителя, трактующего о цели всего сущего; тогда-то он измышляет второе – уже иное – бытие, и, при помощи нового своего приспособления, выуживает это старое, обычное бытие. Да, он отнюдь не хочет заставить нас смеяться над бытием или над нами самими, или хотя бы только над ним; для него существует единица и только единица: она для него является альфой и омегой; в ней кроется какая-то тайна; рода же, суммы, нулей он не признает. Как бы глупы и фантастичны ни были его измышления и оценки, как бы далеко он ни сбился с истинного пути природы и как бы ни ошибался относительно ее условий, – ведь все, существовавшие до настоящего времени, этические учения были настолько неразумными и противоестественными, что человечество с любым из них пошло бы ко дну, если бы дано ему овладеть собой – но всегда, когда на сцену выступал «герой», создавалось нечто новое, какое-то страшное подобие смеха, то глубокое содрогание, которое испытывают многие единицы при мысли: «да, стоит жить; да, я не напрасно живу!» – и вот и самая жизнь, и я, и ты, и мы все оказываемся заинтересованными снова на некоторое время. И нельзя отрицать, что над каждым из этих великих учений о цели бытия царили до сих пор смех, разум и природа: коротенькая трагедия всегда в конце концов переходила в вечную комедию, и «волны безграничного смеха, – говоря языком Эсхила, – бьют, наконец, через величайшего из этих трагиков». Но, несмотря на все благодетельное действие такого смеха, эти вновь и вновь появляющиеся учения о цели бытия кладут свою печать на человеческую природу: у человечества появляется неотступная потребность в подобных учителях и подобных учениях. Человек мало-помалу становится фантастическим животным, которое способно выполнить условия существования лучше, чем всякое другое животное: человек должен время от времени верить, что ему известен ответ на вопрос, зачем он существует; род его не может возрастать, если в нем не будет проявляться периодически доверия к жизни, уверенности, что в жизни существует разум! И время от времени человеческий род снова делает торжественное заявление: «да, не все доступно смеху!» И самый осторожный друг человечества согласится: «не только смех и веселая мудрость, но и все трагическое со всем его возвышенным безумием служит необходимым средством для сохранения человеческого рода!» – И так далее! О! понимаете ли вы меня, братья мои? Понимаете ли вы этот новый закон прилива и отлива? Да и нам ведь дано в удел свое лишь время! Интеллектуальная совесть. – Я постоянно повторяю один и тот же опыт и все снова и снова чувствую к нему известное предубеждение. Мне не хочется поверить, чтобы можно было ясно доказать, что у большинства людей интеллектуальная совесть отсутствует; и часто казалось мне, что человек с притязаниями на нее в самом населенном городе будет чувствовать себя таким же одиноким, как в пустыне. Чуждыми глазами взглянет на тебя всякий и будет продолжать по-прежнему прикидывать встречные явления на своих весах, одно называя добром, другое злом. И ни у кого ведь лицо не покроется краской от стыда, когда обратишь ты внимание на то, что разновесы их не полновесные; никто против тебя не почувствует негодования: разве только посмеются над твоими сомнениями. Я хочу сказать: большинство не находит ничего предосудительного в том, что люди, не отдав себе предварительно ясного отчета относительно последних и самых надежных основ жизни и не позаботившись посмотреть, что кроется за этими основами, – верят в известные положения и, сообразно вере своей, устраивают жизнь, и к такому-то «большинству» принадлежат самые даровитые мужчины и самые благородные женщины. Что значит для меня все добросердечие, чистота и гений, когда люди, одаренные этими добродетелями, оказываются слабыми в области веры и суждений, когда они не стремятся всем своим существом к достоверности и не чувствуют в ней большой нужды, – когда в подобном требовании они не видят признака, отличающего высших людей от низших! У благочестивых лиц я встречал иногда ненависть к разумному и глубоко был им благодарен за это: таким путем, по крайней мере, выходила наружу злая интеллектуальная совесть! Но стоять среди этого rerum concordia discors, среди этой изумительной неизвестности и многозначительности бытия, стоять и не вопрошать, не дрожать от страстного желания задать вопрос, ни разу не почувствовать ненависти к вопрошающему, а, быть может, даже вяло потешаться над ним, – вот к чему я питаю искреннее презрение и прежде всего ищу этого чувства и у других. В силу какого-то неразумия, я стараюсь убедить себя, что у каждого человека, как человека, должно быть это чувство. И в этом-то проявляется своеобразно моя несправедливость.
Благородный и заурядный. Людям заурядным все благородные и великодушные чувства кажутся нецелесообразными, а потому и невероятными; такие люди только глазами хлопают, когда слышат о подобных чувствах, и вам так и кажется, что вот-вот они скажут: «и тут кроется какая-нибудь выгода, всего ведь не углядишь», – они недоверчиво относятся к каждому благородному человеку, как будто бы тот ищет себе выгод на каком-нибудь запретном пути. Если же вам удастся вполне их убедить, что лицу этому чужды какие бы то ни было эгоистические побуждения и преследования каких-либо выгод, то благородство они сочтут одним из видов глупости: они презирают благородного человека в его радостях и издеваются над блеском глаз его. «Как может он радоваться, когда ему грозит убыток, как можно с открытыми глазами искать себе вреда?! Право, благородные аффекты неизменно связываются с какою-то болезнью разума!» Так думают заурядные натуры и с презрением оглядываются вокруг: о, какое ничтожное значение придают они тем радостям, которые извлекает человек заблуждающийся из идеи, постоянно его преследующей. Заурядные натуры тем именно и отмечены, что в глазах у них неподвижно стоит забота о личной выгоде, и забота эта заглушает у них все, даже самые сильные побуждения. Удержаться от нецелесообразного поступка, на который толкает какой-нибудь аффект – вот в чем выражается их мудрость и чувство собственного достоинства. По сравнению с ними, высшие натуры являются в то же время и натурами наиболее неразумными. На самом деле человек благородный, великодушный, приносящий себя в жертву, находится действительно под властью своих порывов, и в самые лучшие моменты его жизни разум его молчит. Когда животное с опасностью для своей жизни защищает детенышей или, во время прилива страсти, идет на смерть из-за самки, то оно ведь не думает ни об опасности, ни о смерти и всецело находится под влиянием страстной любви к своему потомству или к самке и страха потерять предмет своей страсти: оно становится глупее, чем оно в действительности, точно так же, как это бывает с людьми великодушными и благородными. Симпатии и антипатии у них проявляют такую силу, что интеллекту приходится или молчать или подчиняться страстям. Сердце у них вступает в голову, и тогда-то заходит речь о страсти (кое-где мы встречаем также обратное положение и как бы «страдание навыворот»; так, напр., у Фонтенеля одно из действующих лиц кладет руку на сердце со словами: «и там, мой дорогой, тоже мозг»).
Заурядная натура за то и ненавидит человека благородного, что у него в страсти чувствуется отсутствие разума или какой-то извращенный ум; презрение это особенно усиливается в тех случаях, когда страсть связывается с такими предметами, ценность которых обыкновенному человеку кажется совершенно фантастической и произвольной. Он гневается на всякого, кто делает себя слугою своего брюха, но понимает прелесть той жизни, которая обращает человека в тирана; зато он совершенно не понимает, как можно, напр., рисковать своим здоровьем и честью из-за страсти к познанию. Вкус высших натур направляется на исключения, на предметы, которые обыкновенно никого не волнуют и считаются лишенными всякой привлекательности; высшие натуры обладают особым масштабом ценностей. При этом они не замечают, что масштаб их, благодаря идиосинкразии их вкуса, представляет собою нечто особенное, а считают свою оценку явлений такою же, как и оценка у других людей; благодаря этому, они проявляют постоянно непонимание, непрактичность. Очень редко случается, чтобы высшая натура сумела сохранить у себя настолько рассудка, чтобы понять обычного человека, как такового, и, сообразно с этим, регулировать свои отношения к нему; в большинстве случаев люди высшего пошиба думают, что их страсти – это те самые страсти, которые в скрытом состоянии можно встретить у каждого, и вера эта является непосредственным источником их горячности и красноречия. И вот, когда такие исключительные люди не чувствуют своего исключительного положения, то как могут быть поняты ими натуры обыкновенные, как могут быть оценены ими их правила поведения?! – Все это заставляет их говорить о глупости, о нецелесообразности и сумасбродстве человечества; они изумляются, как глупо течет жизнь мира и не могут понять, почему она не хочет сознать «нужд своих». – Вот в чем заключается вечная несправедливость со стороны людей благородных.
Сохранение рода человеческого. – Своим движением вперед человечество обязано людям, обладающим наиболее сильным и наиболее злым духом: они все снова и снова зажигали потухающие страсти – ведь всякое благоустроенное общество усыпляет страсти, – они пробуждали постоянно чувство сравнения, противоречия, желания чего-нибудь нового, рискованного, неиспробованного, они принуждали людей одни мнения противопоставлять другим мнениям, одни образцы – другим образцам. Чаще всего они действуют с оружием в руках, ниспровергают межевые знаки, нарушают чувство благочестия, но прибегают также и к религии, и к морали! У каждого учителя, у каждого проповедника нового учения вы найдете ту самую «злобу», – которая несет завоевателю бесславие, как только получит более деликатное выражение, а не будет немедленно приводить мускулы в движение! Но новое всегда и при всяких обстоятельствах является и злым, как нечто такое, что стремится проявить насилие, ниспровергнуть пограничные знаки и древнее благочестие; ведь добрым считается только старое! Добрыми людьми в каждое время называют тех, которые глубоко закапывают древние мысли и взращивают от них плоды. Это – землепашцы духа. Но земля понемногу истощается и вот снова чувствуется потребность в плуге зла. – В настоящее время существует одно основное заблуждение, которое особенным уважением пользовалось в Англии: оно учит, что наши суждения о «добре» и «зле» определяются нашим опытом о «целесообразном» и «нецелесообразном», что добром называют все, служащее для сохранения рода, а злом – все, для него вредное. В действительности же дурные стремления столь же целесообразны, столь же служат для сохранения рода и столь же необходимы, как и стремления добрые: – только функции их различны.
Безусловные обязанности. – Все люди, которые не могут в своей деятельности обходиться без сильных слов и возгласов, красноречивых жестов и положений, все эти революционеры-политики, социалисты, проповедники различных покаянных христианских и нехристианских учений, которые в действительности не заслужили и половины своих успехов; – все они говорят об обязанностях, и именно обязанностях с характером безусловности. Они прекрасно знают, что без обращения к таким обязанностям весь их пафос потерял бы всякое право на существование! И вот тут-то они или набрасываются на философию морали, которая выставляет те или другие категорические императивы, или воспринимают значительную часть религиозных убеждений, как это сделал Мадзини. Желая приобрести от других безусловное доверие, они и сами прежде всего должны безусловно поверить самим себе на основании какой-нибудь последней, неоспоримой и самой по себе достаточно возвышенной заповеди, служителями и орудиями которой они могли бы себя чувствовать и выдавать. Здесь мы встречаем также самых естественных и, по большей части, влиятельных противников всякого морального разъяснения и сомнения: но таковых немного. Напротив, повсюду, где выгода заставляет нас подчиняться, – хотя бы наше доброе имя и чувство чести, по-видимому, предписывали нам обратное, – существует обширный класс таких противников. Кто в качестве потомка напр., какой-нибудь старинной гордой фамилии, считает для себя унизительным даже подумать о том, что он является орудием какого-нибудь князя или партии и секты, или хотя бы какой-нибудь денежной силы, но тем не менее хочет или должен быть таким орудием, тот, чтобы оправдаться перед собой и другими, должен всегда иметь на устах разные патетические принципы: принципы безусловного долженствования, которым люди без стыда могли бы подчиниться и признать свое подчинение. Всякая более тонкая форма раболепства, связанная с категорическим императивом, является смертным врагом для тех, кто хочет придать обязанности характер безусловности, как этого требует от них внешняя благопристойность, да и не одна только благопристойность.
Потеря достоинства. – Наш мыслительный процесс в настоящее время совершенно потерял всю ту важность, которой он обладал раньше; над всяким церемониалом и торжественными жестами у человека, обдумывающего что-нибудь, в настоящее время смеются, и мудреца старинного образца сочли бы человеком невыносимым. Мы думаем быстро и походя и отдаемся часто самым серьезным мыслям и во время ходьбы, и между делами всякого рода; мы мало подготовляемся, даже мало отдыхаем, – точно мы носим у себя в голове безостановочно катящуюся машину, которая, даже при самых неблагоприятных обстоятельствах, все еще продолжает работать. Бывало, чуть показалось кому, что у него навертывается мысль, – тогда это было редким исключением! – что захотелось ему быть мудрее и отдать себя во власть какой-нибудь думе, – тотчас же лицу придавалось такое выражение, как будто человек собирался на молитву, всякое движение прекращалось, и наш мыслитель простаивал неподвижно, хотя бы даже на улице, в течение целых часов, пока мысль «приходила к нему»… на одной или на двух ногах. Вот то была обстановка, «достойная положения вещей»!
Несколько слов к трудолюбивым людям. – Кто пожелал бы теперь заняться изучением моральных вопросов, для того открылось бы необозримое поле работы. Такому исследователю пришлось бы остановиться мыслью над каждой из страстей в отдельности, проследить за изменениями ее во времени и у различных народов, а также у крупных и мелких индивидуумов; он должен был бы показать, насколько разумными и ценными люди считают эти страсти и какое освещение им придают. До сих пор все, от чего бытие заимствует свою окраску, не имело еще своей истории: в самом деле, разве есть у нас история любви, стяжания, нужды, совести, благочестия, жестокости? У нас нет даже полной сравнительной истории права или хотя бы только одного наказания. Разве исследовал кто-нибудь различные подразделения дня, последовательную смену отдыха, празднеств и покоя? Разве знает кто, какое моральное воздействие оказывают на нас наши средства пропитания? Разве располагаем мы философией питания? Неутихающий шум, поднятый в споре за и против вегетарианства, доказывает, что подобной философии у нас не существует!
Пытался ли кто-нибудь проследить за историей общежитий, напр., монастырей? Существует ли у нас диалектика брака и дружбы? Есть ли мыслители, которые занимались бы вопросами нравственности ученых, торговцев, художников, ремесленников? Обо всем этом следует подумать и подумать много. Разве до конца исчерпано, путем исследования, все то, что люди считают «условиями своего существования» и все разумное, все страсти и суеверия, которые, по их мнению, связаны с этими условиями? Если бы кто задумал проследить только то различие в росте, которое проявляется и может проявляться у человеческих стремлений в различных моральных климатах, то и в таком случае самый прилежный из нас нашел бы себе достаточно работы: потребовались бы поколения планомерно и согласно работающих ученых для того, чтобы установить в этой области надлежащую точку зрения и собрать материал. То же самое останется в силе и для того, кто пожелал бы обосновать различия, которые представляют моральные климаты (почему в одном месте блистает одно солнце моральных суждений и оценки, – в другом – другое?). Совершенно особая работа выпадает на долю тому, кто будет устанавливать ошибочность всех подобных оснований и сущность тех моральных суждений, которые высказывались до настоящего времени. Если мы допустим, что все эти работы уже выполнены, то на первый план тогда выступит священнейший из всех вопросов: в состоянии ли будет наука определить цели нашего поведения, после того, как она докажет нам свою способность отнимать у нас эти цели и уничтожать их, – и тогда человечеству откроется такой широкий простор для всякого рода экспериментирования, тогда будут перепробованы все виды героизма, тогда наступит век опытов, которые могут затмить все подвиги самопожертвования, известные нашей истории. До сих пор наука еще не возвела своих циклопических построек, но и для этого наступит свое время.
Бессознательные добродетели. – Все свойства человека, наличие которых он признает у себя, и которые он считает очевидными для окружающих, подчиняются совершенно иным законам развития, чем те свойства, о которых ему самому неизвестно, которых он почти не подозревает в себе и которые, благодаря своей нежности, скрываются от взоров даже наиболее тонких наблюдателей и умеют прятаться как бы за пустым пространством. Совершенно так же дело обстоит с тонкой скульптурой на чешуях у рептилий: ошибочно было бы подозревать, что эта скульптура служит украшением для этих животных или каким-нибудь орудием; – в самом деле, ведь открыть их можно только при помощи микроскопа или такого острого зрения, каким не обладают животные, для которых могли бы быть предназначены эти наряды или это оружие! Наши видимые моральные качества, а именно те качества, в которые мы явно уверовали, идут своим путем, – а наши невидимые, хотя бы и одноименные качества, которые, с точки зрения других людей, не служат ни украшением, ни оружием, идут также своим путем, и обладают такими линиями, таким изяществом и таким строением, которое могло бы, пожалуй, доставить удовольствие лишь какому-нибудь божеству, одаренному необычайным микроскопом. Мы, напр., обладаем прилежанием, честолюбием и проницательностью: всем известны эти наши качества, но, кроме того, у нас, по всей вероятности, имеется еще прилежание, еще честолюбие, еще проницательность, но для этих чешуек наших не найдено еще микроскопа! – И тут-то вот сторонники инстинктивной морали скажут: «браво! он считает, по крайней мере, бессознательную добродетель возможной, – с нас и этого довольно!» – Ох вы, невзыскательные люди!
Наши взрывы. – Еще на ранних ступенях своего развития человечество усвоило бесчисленное множество различных свойств и способностей, но усвоило оно их так слабо, в таком эмбриональном состоянии, что о них никто даже и не подозревает. И вот эти-то слабо усвоенные способности, спустя много времени, – быть может, несколько столетий, вдруг прорываются на свет Божий, и тогда проявляют силу и зрелость. Иногда может показаться, что некоторые века совершенно лишены того или другого таланта, той или другой добродетели: но подождите только внуков или детей внуков, – если только время позволяет ждать, – и они вынесут на свет внутреннее содержание своих дедов, то внутреннее содержание, о котором сами деды ничего не знали. Часто уже сын является предателем своего отца, который и сам начинает понимать себя лучше с тех пор, как стал отцом. Внутри у нас скрыты целые плантации и сады; или, прибегая к другому сравнению, все мы – растущие вулканы, для которых наступит вдруг час взрыва, – но как близок или насколько отдален час такого извержения, об этом, конечно, никто не знает.
Род атавизма. – На людей выдающихся я охотно смотрю, как на отпрыски и силы культуры прошлых веков, которые внезапно дали себя почувствовать в нашей жизни, иначе говоря, как проявление атавизма какого-нибудь народа или какой-нибудь цивилизации. В каждый данный момент такие люди кажутся чуждыми, редкими, необычайными: и всякому, кто чует в себе подобную силу, приходится ее беречь, оборонять, взращивать, несмотря на враждебное воздействие остального мира; и обладатель этих качеств становится то великим человеком, то безумным и страшным субъектом, смотря по тому, насколько он вообще находится в соответствии со своим временем. Прежде все эти редкие свойства были обычным явлением, а потому таковыми и считались: они не выделялись ровно ничем. Если даже допустить, что они еще и поощрялись, то все же при помощи их человек не мог стать великим, а если обладание ими не было сопряжено ни с какою опасностью, то они не могли сделать человека ни безумным, ни одиноким. – Вот именно подобные подделки под древние наклонности и встречаются по преимуществу в обособленных родах и кастах, тогда как там, где расы, обычаи, ценности меняются быстро, проявление атавизма в такой форме – маловероятно. Для развития народов темп, которым действуют его силы, играет такую же роль, как темп в музыке; для нашего случая – необходимо andante развития, как темп страдающего, малоподвижного духа – духа консервативных родов.