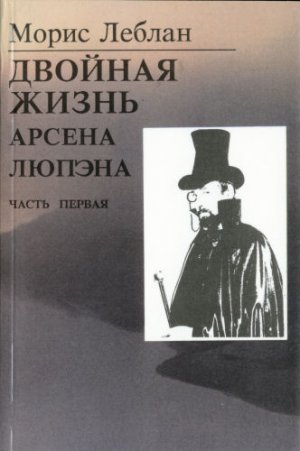
Глава 1
Резня
I
Господин Кессельбах остановился на пороге гостиной, взял за локоть своего секретаря и тихим голосом с беспокойством сказал:
— Чемпэн, кто-то сюда опять забирался.
— Ну что вы, мсье! — возразил тот. — Вы только что сами открыли дверь прихожей, и все то время, когда мы обедали в ресторане, ключ оставался в вашем кармане.
— Чемпэн, сюда опять кто-то входил, — повторил господин Кессельбах.
Он указал на дорожную сумку, лежавшую на камине:
— И вот вам доказательство. Эта сумка раньше была закрыта. Теперь — нет.
Чемпэн не согласился опять:
— Уверены ли вы, мсье, что закрыли ее? Впрочем, что там могло быть? Не имеющие ценности безделушки, предметы туалета…
— Ничего другого в ней нет потому, что перед уходом из осторожности я вынул бумажник… Иначе… Нет, Чемпэн, говорю вам еще раз, кто-то забирался сюда в то время, когда мы обедали.
На стене висел телефон. Он снял трубку.
— Алло… Говорит господин Кессельбах… Квартира 415… Да, да… Будьте добры, барышня, соедините меня с префектурой полиции… Службой Сюрте… Номер не требуется, не так ли? Хорошо, благодарю… Жду у аппарата…
Минуту спустя он заговорил опять:
— Алло!.. Алло! Я хотел бы поговорить с господином Ленорманом, шефом Сюрте. Это Рудольф Кессельбах… Алло!.. Ну конечно, шеф Сюрте знает, о чем пойдет речь… Я звоню с его позволения… Ах, его нет?.. С кем тогда имею честь?.. С господином Гурелем, полицейским инспектором? Кажется, мсье Гурель, вы присутствовали при нашей вчерашней встрече с господином Ленорманом… Так вот, мсье, то же самое произошло и сегодня. В квартиру, которую я занимаю, кто-то забирался. Если вы придете сейчас, может быть, обнаружите улики и что-нибудь выясните… В течение часа или двух? Отлично. Попросите указать вам апартамент номер 415. Еще раз благодарю вас, мсье!
Проездом в Париже, господин Рудольф Кессельбах, король бриллиантов, как его еще называли, либо, по другому прозвищу, — Хозяин Кейптауна (его состояние оценивалось более чем в сто миллионов) уже свыше недели снимал на четвертом этаже отеля Палас апартаменты из трех комнат, из которых две большие, с правой стороны, — гостиная и жилая комната — выходили на проспект, а третья, поменьше слева, была отведена секретарю Чемпэну и выходила на улицу Иудеи. За этой комнатой пять подобных помещений были заняты для госпожи Кессельбах, которая еще только собиралась выехать из Монте-Карло.
Несколько минут господин Кессельбах с озабоченным видом прохаживался по комнате. Это был рослый мужчина с румяным лицом, еще далеко не старый; голубые глаза мечтателя — их светло-небесный цвет проглядывал сквозь очки в золотой оправе — придавали ему выражение доброты и застенчивости, плохо вязавшееся с решительным видом, квадратным лбом и выдающейся вперед челюстью.
Он подошел к окну, оказавшемуся запертым. Впрочем, кто мог бы через него проникнуть? Отдельный балкон, тянувшийся вдоль квартиры, обрывался с правой стороны; с левой от других балконов над улицей Иудеи его отделял каменный простенок. Кессельбах прошел в свою комнату; она никак не сообщалась с соседними. Заглянул в комнату секретаря; двери, выходившие в комнаты, оставленные для госпожи Кессельбах, были заперты, засов на них — задвинут.
— Ничего не могу понять, Чемпэн, — признался он. — Вот уже несколько раз я обнаруживаю странные… очень странные, согласитесь, вещи. Вчера кто-то переставил мою трость… Позавчера, без всякого сомнения, трогали мои бумаги… И нельзя даже представить себе, как это могло случиться.
— Все это просто невозможно, мсье! — воскликнул Чемпэн, чья благодушная физиономия не выражала ни капли беспокойства. — Одни предположения… Доказательств просто нет… Только смутные догадки… И еще: в эти комнаты можно войти только через прихожую. Но вы еще в день прибытия заказали себе особый ключ, и только у вашего слуги Эдвардса имеется второй. Ему ведь вы доверяете?
— Еще бы! Скоро десять лет, как он у меня! Но Эдвардс обедает в то же время, что и мы, и это плохо. В дальнейшем он будет выходить из комнат только после нашего возвращения.
Чемпэн слегка пожал плечами. Хозяин Кейптауна, с его необъяснимыми страхами, несомненно, становился несколько странным. Чего бояться в гостинице, особенно если не держишь при себе — или на себе — ничего ценного, никаких более или менее значительных сумм.
Они услышали, как открылась входная дверь. Это пришел Эдвардс. Господин Кессельбах позвал слугу.
— На вас сегодня ливрея, Эдвардс? Я не жду на этот день визитов… Впрочем, нет, придет господин Гурель. Так что оставайтесь в прихожей и следите за дверью. Мы с господином Чемпэном должны как следует поработать.
Их работа, впрочем, продолжалась лишь несколько минут, в течение которых Рудольф Кессельбах просмотрел почту, пробежал глазами два или три письма и указал, как следовало на них ответить. Чемпэн, ожидавший с ручкой наготове, заметил вдруг, что мысли господина Кессельбаха витали совсем далеко.
Он сжимал в пальцах и внимательно разглядывал черную булавку, изогнутую, как рыболовный крючок.
— Чемпэн, — сказал он, — эту штучку я только что обнаружил на столе. И, видимо, она здесь не без значения, эта согнутая булавка. Вот вам и улика, вещественное доказательство.
Теперь вы не можете уже утверждать, что в гостиную никто не забирался. Эта вещица не могла попасть сюда сама.
— Конечно, нет, — отозвался Чемпэн. — Она попала сюда благодаря мне.
— Как это?
— Ну да, этой булавкой я скреплял галстук. Я снял ее вчера вечером, когда вы были заняты чтением, и машинально согнул.
Господин Кессельбах, явно задетый, прошелся по комнате. И сказал, остановившись:
— Вы, конечно, надо мной смеетесь, Чемпэн… И с полным правом… Не буду спорить, я стал несколько… эксцентричным, скажем так, после недавней поездки в Кейптаун… Дело в том… Вы просто не знаете, Чемпэн, что случилось нового в моей жизни, какой в нее вошел потрясающий замысел… Огромное дело, которое видится пока лишь в тумане грядущего, но которое уже вырисовывается в нем… И обещает стать чем-то колоссальным. Ах, Чемпэн, вы не можете себе и представить! Деньги — мне на них наплевать, они у меня есть… У меня их более чем достаточно. Но это — это больше, чем богатство, это — сила, могущество, власть. И если действительность оправдает мои предчувствия, я стану хозяином не только Кейптауна, но также других мест. Рудольф Кессельбах, сын котельщика из Аугсбурга, станет равным со многими из тех, кто глядел на него прежде свысока… И поднимется даже на большую высоту, Чемпэн, на большую высоту, чем они, можете мне поверить! Если только…
Он замолчал, взглянул на секретаря, словно пожалел о том, что сказал слишком много. Однако, увлеченный собственным порывом, заключил:
— Теперь вы понимаете, Чемпэн, причины моего беспокойства. В этой голове засела мысль, идея, не имеющая цены… О ней, может быть, кое-кто догадывается… И за мною следят, я в этом вполне убежден…
Послышался звонок.
— Телефон, — напомнил Чемпэн.
— Может быть, случайно, — добавил господин Кессельбах, думая о своем, случайно это…
Он взял трубку.
— Алло? По чьей просьбе?.. Полковника? Ага. Да, это я… Что у вас нового?.. Отлично!.. Значит я вас жду… Приедете со своими людьми? Отлично! Алло… Нет, вы меня не потревожите… я отдам необходимые распоряжения… Дело, значит, так серьезно? Повторяю, указание дано строжайшее… Мой секретарь и слуга охраняют вход, и никто сюда не войдет. Дорога вам знакома, не так ли? Тогда не теряйте ни минуты.
Он повесил трубку и сообщил:
— Чемпэн, сюда должны прибыть двое… Да, двое мужчин… Эдвардс впустит их…
— Однако… Господин Гурель, бригадир…
— Он прибудет позднее, через час. Поэтому пошлите сразу Эдвардса в контору отеля, пускай предупредит: меня ни для кого нет… Кроме как для двух господ, полковника и его друга, и еще — для господина Гуреля. Пусть запишут их имена.
Чемпэн выполнил распоряжение. Вернувшись, он увидел, что господин Кессельбах держит конверт, точнее — небольшой пакетик из черной кожи, по всей видимости — пустой. И, казалось, колеблется, не решаясь, как с ним поступить, положить в карман или еще куда-нибудь? Он подошел, наконец, к камину и бросил кожаный конверт в дорожную сумку.
— Закончим с письмами, Чемпэн, — сказал господин Кессельбах. — У нас остаются десять минут. Ага! Письмо от госпожи Кессельбах. Что же вы мне не сказали о нем, Чемпэн? Вы не узнали почерка?
Он не скрывал волнения, с которым рассматривал листок бумаги, который держала его жена, в котором сохранилась, быть может, частица ее сокровенных дум. Вдохнул аромат ее духов и, вскрыв конверт, медленно, вполголоса прочитал — отрывками, доносившимися до Чемпэна:
«Немного устала… Не выхожу из комнаты… Скучаю… Когда смогу к вам приехать?.. С нетерпением жду телеграмму…»
— Вы отправили утром телеграмму, Чемпэн? Значит, госпожа Кессельбах будет здесь завтра, во вторник.
Он весь светился радостью, словно груз его трудов стал внезапно намного легче, и любое беспокойство оставило его. Потирал руки, дышал всею грудью, — счастливец, всецело владевший всем, что составляло счастье, и способный его защитить.
— Звонят! Чемпэн, звонят в прихожую! Поглядите, кто пришел.
Тут вошел Эдвардс со словами:
— Вас ждут двое господ, мсье. Те самые…
— Я знаю. Они уже в прихожей?
— Да, мсье.
— Заприте входную дверь и не открывайте более никому… кроме господина Гуреля, бригадира Сюрте. А вы, Чемпэн, ступайте за этими господами и скажите им, что вначале я желаю поговорить с полковником. Только с полковником.
Эдвардс и Чемпэн вышли, прикрыв за собой дверь в гостиную. Рудольф Кессельбах подошел к окну и прислонился лбом к стеклу. Снаружи, внизу, экипажи и автомобили катили по улице двумя параллельными потоками, отмеченными двойной линией ограждения. Ясное весеннее солнце сверкало на металле и лакированных поверхностях. На деревьях распускалась еще робкая листва, почки каштанов раскрывали первые лепестки.
— Что там возится этот Чемпэн? — прошептал Кессельбах. — Сколько можно переговариваться!..
Он взял со стола сигару и, прикурив, выпустил кольцо дыма. И тут у него вырвался негромкий возглас. Возле него стоял человек, которого он не знал.
Рудольф Кессельбах невольно отступил на шаг:
— Кто вы такой?
Незнакомец, корректно, несколько даже элегантно одетый мужчина, черноволосый и черноусый, с твердым взглядом, иронически усмехнулся.
— Кто я такой? Полковник, которого вы ждете.
— Ну нет! Человек, которого я так называю, который подписывает свои письма этим именем… такой условной подписью… вовсе не вы.
— Совсем наоборот… Тот, другой, не более чем… Впрочем, дорогой мсье, это не имеет никакого значения. Главное — в том, что я… это я. И могу поклясться, что это так.
— Но тогда, мсье… У вас есть имя?
— Полковник. До нового распоряжения, зовите меня так. Господина Кессельбаха охватила растерянность. Кто этот незнакомец? Чего он хочет?
Он позвал:
— Чемпэн!
— Какая странная идея — звать кого-то еще! — заметил на это чужак. Разве вам недостаточно моего общества?
— Чемпэн! — повторил господин Кессельбах. — Чемпэн! Эдвардс!
— Чемпэн! Эдвардс! — в свою очередь воскликнул незваный гость. — Где же вы, друзья мои?! Вас зовут!
— Сударь, я прошу вас, я требую дать мне пройти.
— Но, дорогой мсье, кто же вам препятствует?
Он вежливо отстранился. Господин Кессельбах подошел к двери, распахнул ее и тут же отскочил назад. По ту сторону стоял другой незнакомец, с пистолетом в руке.
Он пробормотал:
— Эдвардс… Чеп…
Слова застыли на лету. В одном из углов прихожей он увидел связанных, с кляпами во рту, лежащих рядом на полу секретаря и слугу.
При всей своей впечатлительности и склонности к тревоге господин Кессельбах был мужественным человеком. Ясное ощущение опасности не могло заставить его растеряться; оно, наоборот, возвращало ему энергию, готовность к борьбе. Медленно, по-прежнему изображая растерянность и страх, он отступил к камину и прислонился к стене. Его палец нащупывал кнопку звонка. Найдя ее, он нажал.
— А дальше? — произнес незнакомец.
Не отвечая, господин Кессельбах продолжал звонить.
— А дальше? Нажимая эту кнопку, вы воображаете, что на ваш зов сейчас сбежится весь отель? Но, мой бедный мсье, обернитесь же к стене! И вы увидите, что провод обрезан.
Господин Кессельбах мгновенно повернулся, словно для того, чтобы проверить провод. Но тут же быстрым движением взял дорожную сумку, выхватил револьвер, прицелился в неизвестного и нажал на спуск.
— Черт! — заметил тот. — Вы зарядили эту штуку воздухом и тишиной?
Курок щелкнул еще раз, потом — еще. Выстрела не послышалось.
— Еще три выстрела, о Король Кейптауна! Где ваши шесть пуль? Вот как, мсье не желает более стрелять? Очень жаль, начало было прекрасным.
Он схватил за спинку стул, повернул его, уселся на него верхом, указав господину Кессельбаху на кресло, предложил:
— Потрудитесь же сесть, дорогой мсье, и будьте как дома. Сигарету? Я обойдусь. Предпочитаю сигары.
На столе лежала коробка. Он выбрал золотистую гаванскую сигару самой тонкой выделки, прикурил и, отвесив поклон:
— Благодарю вас. Сигара просто превосходна. А теперь — побеседуем, если вы не против…
Рудольф Кессельбах слушал его в полном недоумении. Кем была эта странная личность? Видя, как он мирно настроен и в то же время разговорчив, Кессельбах постепенно успокаивался, ему начинало казаться, что все могло решиться без насилия или грубости. Он извлек из кармана бумажник, вынул внушительную пачку банкнот и спросил:
— Сколько?
Тот посмотрел на него с удивлением, словно силясь понять. Помолчав, он позвал:
— Марко!
Человек с револьвером вошел.
— Марко, — продолжал незнакомец, — мсье так добр, что готов подарить тебе денег на пару тряпок для твоей подружки. Прими их, Марко.
Держа по-прежнему револьвер правой рукой, Марко протянул левую, взял деньги и удалился.
— Вопрос решен в соответствии с вашим желанием, мсье, — сказал неизвестный. — Теперь — о цели моего визита. Буду точен и, по возможности, краток. Мне нужны два предмета. Во-первых, небольшой конверт из черной кожи, который вы обычно носите с собой. Затем шкатулка из черного дерева, еще вчера находившаяся в этой дорожной сумке. Давайте же по порядку. Кожаный конверт?
— Я его сжег.
Неизвестный нахмурился. Наверно, вспомнил добрые времена, когда обладал безошибочными средствами заставить кого угодно заговорить.
— Ах! — проворчал он. — Вы начинаете меня раздражать, милейший.
И с беспощадной силой вывернул ему руку.
— Вчера, Рудольф Кессельбах, не далее, как вчера, вы побывали в Лионском кредитном банке, на бульваре Итальянцев, держа под пальто пакет. Вы арендовали сейф… Могу уточнить: сейф № 6 в кулуаре № 9. Поставив подпись и заплатив, вы спустились в подвал; когда же поднялись обратно, пакета с вами уже не было. Все верно?
— Совершенно.
— Следовательно, шкатулка и конверт находятся в банке.
— Нет!
— Отдайте мне ключ от вашего сейфа.
— Нет.
— Марко!
Марко тут же прибежал.
— Давай, Марко. Четверной узел.
Прежде чем господин Кессельбах успел приготовиться к защите, его запеленали в сложное сплетение веревок, которые врезались ему в тело каждый раз, когда он пытался совершить какое-либо движение. Руки были связаны за спиной, торс припечатан к спинке кресла, ноги перебинтованы, как у мумии.
— Марко, обыскать!
Марко повиновался. Две минуты спустя он вручил своему главарю маленький никелированный ключ, на котором были выбиты цифры 16 и 9.
— Отлично. А кожаный конверт?
— Не было, патрон.
— Значит, он в сейфе. Господин Кессельбах, соблаговолите сообщить мне секретный шифр.
— Нет.
— Вы отказываетесь?
— Да.
— Марко!
— Патрон?
— Приложи-ка дуло револьвера к виску мсье!
— Слушаюсь.
— Палец — на спуск.
— Есть.
— Ну как, старина Кессельбах, будешь говорить?
— Нет.
— Даю десять секунд, ни единой больше. Марко?
— Патрон?
— Через десять секунд ты прострелишь голову мсье.
— Слушаюсь.
— Итак, Кессельбах, считаю: раз… два… три… четыре… пять… шесть…
Кессельбах подал знак.
— Будешь говорить?
— Да.
— Ты успел вовремя. Итак, шифр… Слово, чтобы открыть замок?
— Долор.
— Долор… Имя госпожи Кессельбах, кажется, Долорес? О любовь, любовь!.. Марко, сделаешь все, что я сказал. И смотри, не ошибись. Повторяю… Отправишься к Жерому в известную тебе контору, отдашь ему ключ и сообщишь шифр: Долор. Поедете затем вместе в Лионский кредитный банк. Жером войдет сам, распишется в книге посетителей, спустится в подвал и заберет все, что найдет в сейфе мсье. Понятно?
— Да, патрон. Но если сейф случайно не откроется, если слово «Долор»…
— Спокойно, Марко. По выходе из банка ты расстанешься с Жеромом, поедешь к себе и по телефону сообщишь мне о результатах операции. И если, по случайности, слово «Долор» не позволит открыть сейф, у нас двоих, моего друга Кессельбаха и меня, состоится маленький, завершающий разговор. Кессельбах, ты уверен, что не ошибся?
— Да.
— В таком случае я смогу убедиться, что ты здесь ничего не скрываешь. Посмотрим, посмотрим. Марко, чеши!
— А вы, патрон?
— Я остаюсь здесь. Опасность никогда не была такой незначительной. Не так ли, Кессельбах, ты отдал все распоряжения?
— Да.
— Дьявол, ты что-то слишком быстро это сказал… Не стараешься ли выиграть время? Надеешься, что я попаду в ловушку, как дурак?
Он подумал, посмотрел опять на пленника и заключил:
— Нет, навряд ли. Никто более нас не станет беспокоить.
Он не окончил еще последнего слова, когда в вестибюле раздался звонок. Незнакомец тут же, с силой зажал рукой рот господина Кессельбаха.
— Ах, ты, старая лиса! Ты кого-то ждал!
В глазах пленника затеплилась надежда. Из-под ладони, которая его душила, донесся злорадный смешок. Незнакомец задрожал от бешенства.
— Молчи… Не то — задушу… Марко, быстро, заткни ему рот кляпом. Скорее… Вот так!
Звонок раздался опять. И он крикнул, как будто сам был Рудольфом Кессельбахом и Эдвардс находился бы на посту:
— Откройте же, Эдвардс!
Затем тихо вышел в вестибюль и шепотом, указывая на секретаря и слугу, приказал:
— Марко, помоги-ка затолкать их во вторую комнату…
И поднял сам секретаря. Сообщник внес слугу.
— А сейчас — в гостиную, — скомандовал главарь.
Затем громко, удивленным тоном сказал:
— Я не вижу здесь вашего слуги, мсье Кессельбах… Нет, не тревожьтесь, кончайте писать письмо… Я открою сам…
И спокойно открыл входную дверь.
Перед ним стоял настоящий колосс с веселым выражением лица, живыми глазами, переминавшийся с ноги на ногу и перебиравший в руках поля своей шляпы.
— Господин Кессельбах? — спросил тот.
— Совершенно верно, он живет здесь. Кого ему объявить?
— Господин Кессельбах нам звонил… Он меня ждет…
— Ах, это вы! Сейчас предупрежу. Не хотите ли минутку подождать… Господин Кессельбах сейчас вас примет…
У него хватило смелости оставить посетителя одного на пороге прихожей, в месте, откуда сквозь приоткрытую дверь была видна часть гостиной. Не спеша, даже не оборачиваясь, он вошел в салон, приблизился к своему сообщнику, стоявшему рядом с Кессельбахом, и тихо сказал:
— Дело дрянь. Это Гурель из Сюрте.
Тот вынул нож. Он перехватил его руку.
— Не делай глупостей, дурень. Есть идея. Только, ради Бога, пойми правильно, Марко, говорить теперь будешь ты. Ты слышишь, Марко, — словно ты сам Кессельбах.
Он произнес это властно, с безмерным хладнокровием. Марко без дальнейших объяснений понял, что ему придется сыграть роль Рудольфа Кессельбаха. И он сказал, достаточно громко, чтобы быть услышанным из прихожей:
— Прошу меня извинить, дорогой друг. Передайте господину Гурелю: я весьма занят сейчас, срочной работы — выше головы… Я приму его завтра, в девять часов утра. Да, да, ровно в девять.
— Хорошо, — шепнул главарь. — И больше не шевелись.
Он вернулся в вестибюль. Гурель его ждал. Он сказал ему:
— Господин Кессельбах приносит искренние извинения. Он должен завершить важную работу. Не могли бы вы прийти завтра, в девять часов утра?
Мгновение пролетело в тишине. Гурель, казалось, был удивлен и смутно встревожен. В кармане куртки сжался огромный кулак. Одно неосторожное движение — и он смог бы ударить.
Наконец, Гурель сказал:
— Пусть так… Завтра, в девять… Однако, все-таки… Да ладно, завтра, в девять утра я буду у него.
И, нахлобучив шляпу, удалился по коридорам отеля.
В гостиной Марко не сдержал смеха:
— Здорово, патрон, вы его околпачили!
— Теперь дело за тобой, Марко. Ты за ним проследишь. Если он действительно уйдет из отеля, брось его, отправляйся к Жерому и действуй, как тебе сказано. А потом — звони…
Марко поспешил прочь.
Незнакомец взял с камина графин, налил себе полный стакан воды, который выпил единым духом, намочил платок, вытер им залитый потом лоб, затем уселся перед своим пленником и с подчеркнутой вежливостью произнес:
— Позвольте, наконец, иметь честь представиться вам, мсье Кессельбах.
И, вынув из кармана визитную карточку, объявил:
— Арсен Люпэн, взломщик-джентльмен.
II
Имя знаменитого авантюриста, по всей видимости, произвело на господина Кессельбаха наилучшее впечатление. Люпэн не замедлил это подметить и воскликнул:
— Ага, дорогой мсье, вы вздохнули с облегчением! Арсен Люпэн — деликатный взломщик; он не любит крови, его дела не идут далее присвоения чужого имущества. Мелкие грешки. И вы сказали себе, что он не станет брать на совесть ненужного убийства. Согласен, согласен. Но окажется ли бесполезной для него ваша ликвидация? Вот в чем вопрос, и могу поклясться, что не шучу. Приступим же к делу.
Он придвинул стул к креслу, освободил пленника от кляпа и продолжал:
— Господин Кессельбах, в первый же день по прибытии в Париж ты установил контакт с неким Барбаре, директором частного сыскного агентства. Поскольку же ты действовал без ведома секретаря Чемпэна, указанный Барбаре, общаясь с тобой письмами или по телефону, выступал под именем «Полковник». Спешу уведомить, что этот мсье Барбаре — честнейший человек на свете. Но мне повезло ввести в число его сотрудников одного из моих лучших друзей. Так мне стала известна причина твоего обращения к Барбаре и так для меня возникла необходимость заняться тобой и нанести тебе, с помощью поддельных ключей, несколько домашних визитов… при которых, увы, я не нашел того, чем желал завладеть.
Он понизил голос и, глядя прямо в глаза своему пленнику, пронизывая его взором, пытаясь проникнуть в самые затаенные мысли, отчетливо произнес:
— Господин Кессельбах, ты поручил Барбаре отыскать на самом парижском дне человека, носящего ныне или носившего раньше имя Пьера Ледюка, со следующими краткими приметами: рост — метр семьдесят пять, волосы — светлые, светлые же усы. Особая примета: вследствие давнего ранения — отсутствие части мизинца на левой руке. Кроме того, на правой щеке — почти уже невидимый шрам. Обнаружению этого человека, кажется, ты придаешь огромное значение, словно от этого зависят неисчислимые выгоды для тебя. Кто этот человек?
— Не знаю.
Ответ был категоричным, однозначным. Знал он это или нет — неважно. Главное — был полон решимости ничего не сказать.
— Хорошо, — кивнул его противник. — Но у тебя есть на его счет более подробные сведения, чем те, которые ты сообщил Барбаре?
— Никаких.
— Ты лжешь, мсье Кессельбах. Дважды, в присутствии Барбаре, ты заглядывал в бумаги, содержавшиеся в конверте из черной кожи.
— Действительно.
— Где же этот конверт?
— Сгорел.
Люпэн затрепетал от ярости. Мысль о пытке и ее возможностях, очевидно, опять пришла ему в голову.
— Сгорел? Но шкатулка… Признайся же… Признайся, она находится в банке?
— Да.
— И что в ней содержится?
— Двести самых ценных из бриллиантов моей личной коллекции.
Это, очевидно, не могло не понравиться грабителю.
— Ах, ах! Двести распрекраснейших бриллиантов! Что ты говоришь, целое состояние! Усмехаешься? Для тебя, конечно, это безделица. А секрет, который хочешь сохранить, стоит во много раз дороже. Для тебя — да. А для меня?
Он взял сигару, зажег спичку, которой машинально дал погаснуть, и застыл на некоторое время в неподвижности, размышляя.
Минуты шли за минутами.
Он засмеялся.
— Ты очень надеешься на то, что экспедиция Марко окажется неудачной и сейф не удастся вскрыть? Возможно, старина, возможно. Но тогда придется заплатить мне за беспокойство. Я вовсе не заявился к тебе, чтобы полюбоваться, как ты выглядишь в этом кресле… Бриллианты, поскольку они есть… Либо — марокиновый конверт… Одно из двух…
Он посмотрел на свои часы.
— Прошло целых полчаса… Черт возьми!.. Судьба продолжает с нами играть… Не радуйся, господин Кессельбах. Честное слово, с пустыми руками я все-таки не уйду… Ну вот, наконец!..
Зазвонил телефон. Люпэн торопливо схватил трубку и, изменив голос, подражая решительным интонациям своего пленника:
— Рудольф Кессельбах слушает… Спасибо, барышня, соедините… Это ты, Марко?.. Отлично… Все прошло, как надо?.. В добрый час… Без зацепок?.. Поздравляю, сынок… Что же нам досталось? Шкатулка из черного дерева… Ничего другого, ни одной бумажки?.. Ну, ну!.. И в шкатулке?.. Они хороши, эти бриллианты? Отлично… отлично… Минуточку, Марко, надо подумать… Все это, видишь ли… Складывается мнение… Постой, не клади трубку…
Он повернулся:
— Господин Кессельбах, ты дорожишь этими бриллиантами?
— Да.
— И ты их у меня готов выкупить?
— Возможно.
— Сколько дашь? Пятьсот тысяч?
— Пятьсот тысяч? Пожалуй…
— Только вот какая загвоздка… Каким образом состоится такой обмен? С помощью чека? Нет, ты можешь меня надуть… Либо я надую тебя… Послушай же, послезавтра утром ты зайдешь в Лионский кредитный банк, возьмешь пятьсот кредиток и пойдешь прогуляться в Булонский лес, близ Отейля… Я буду там с бриллиантами, в мешочке — это более удобно, шкатулка чересчур заметна…
— Нет, нет! Шкатулка тоже. Я должен получить все.
— Ах! — воскликнул Люпэн, расхохотавшись, — теперь ты попался! Бриллианты — тебе на них наплевать… Им найдется замена. Зато шкатулка — она тебе дороже жизни. Хорошо, ты получишь ее, свою шкатулку… Слово Люпэна… Ты получишь ее завтра же утром, по почте.
Он опять поднес к уху трубку.
— Марко, коробочка перед тобой?.. Что ты видишь в ней особенного?.. Черное дерево, инкрустированное слоновой костью. Да, это мне знакомо, японский стиль, сделано в фобуре Сент-Антуан… Марка есть?.. Ага! Небольшая круглая этикетка с синей каймой и номером… Коммерческий знак, безо всякого значения… А какое дно у шкатулки, толстое?.. Черт, двойного дна там нет?.. Давай тогда, Марко, проверь инкрустации, которые сверху… Нет, скорее — саму крышечку…
Он едва не подпрыгнул от радости.
— Крышечка! Вот оно, Марко! Кессельбах невольно моргнул!.. Мы попали в точку!.. Старина Кессельбах, разве ты не заметил, что я за тобой следил… Ах ты, недотепа!
И, обращаясь к Марко:
— Так что там у тебя? Под крышечкой есть зеркальце?.. И оно сдвигается в сторону?.. Нет? Там есть, может, пазы?.. Нет? Тогда разбей его… Ну да, говорю тебе, разбей… Это зеркальце там ни к чему, его туда вставили.
И воскликнул:
— Болван, не перечь мне… Делай, как сказано!
Он услышал, вероятно, шум, произведенный Марко, когда тот разбил зеркальце, так как не сдержал торжества.
— Что я тебе говорил, господин Кессельбах? Охота оказалась успешной!.. Алло!.. Сделал? Ну и что там? Письмо? Победа! Все бриллианты Южной Африки и тайны нашего чудака!
Он снял трубку второго, параллельного аппарата, приложил обе к ушам и продолжал:
— Читай, Марко, читай, не спеша… Вначале — что написано на конверте… Так… Теперь — повтори…
И повторил за ним сам:
— Копия письма, содержащегося в конверте из черной кожи. А затем? Загляни в конверт, Марко. Господин Кессельбах, вы позволите? Не очень красиво с нашей стороны, конечно, но все-таки… Давай, Марко, господин Кессельбах разрешает… Открыл? Теперь — читай!
Он выслушал и сказал, посмеиваясь:
— Не очень-то много, черт побери. Итак, подведем итог. Листок бумаги, сложенный вчетверо; видно, что его разворачивали… Хорошо… Вверху справа на нем слова: «один метр семьдесят, левый мизинец обрезан» и так далее. Приметы уже названного Пьера Ледюка. Почерк Кессельбаха, не так ли?.. Хорошо. А в середине листка одно слово, заглавными печатными буквами:
АПООН
— Марко, сынок, ты оставишь листок на месте, заберешь шкатулку и бриллианты. За десять минут я окончу дела с нашим чудаком. Двадцать минут спустя буду у тебя… Ты послал мне, кстати, машину? Отлично. До скорого.
Он положил обе трубки, вышел в вестибюль, оттуда — в соседнюю комнату, проверил, не ослабли ли узы секретаря и слуги, не душат ли их кляпы, и вернулся к своему пленнику.
На его лице отразилась беспощадная решимость.
— Забавы окончены, Кессельбах. Если не станешь говорить, тем хуже для тебя. Ты решился?
— На что?
— Брось глупости. Говори все, что знаешь.
— Ничего я не знаю.
— Ты лжешь. Что означает это слово «АПООН»?
— Если бы знал, я бы его не записывал.
— Хорошо, но к кому, к чему оно относится? Откуда ты его списал? Откуда все это у тебя вообще?
Господин Кессельбах не отвечал.
Люпэн продолжал, все более нервничая, отрывисто:
— Слушай внимательно, Кессельбах, хочу сделать тебе предложение. Какой ты ни есть богач, какой бы ты ни был большой человек, разница между тобою и мною не так уж велика. Сын котельщика из Аугсбурга и Арсен Люпэн, король взломщиков, могут найти общий язык без утраты достоинства для одного или другого. Я обчищаю квартиры; ты грабишь на бирже. И то, и другое — чистое воровство. Так вот, Кессельбах, соединим свои силы в этом деле. Ты нужен мне потому, что у меня нет нужных сведений. Я нужен тебе потому, что в одиночку ты с этим не справишься. Барбаре для такого дела слабак. А я — Люпэн. Идет?
Ответом было молчание. Люпэн продолжал настойчиво, с дрожью в голосе:
— Отвечай, Кессельбах, идет? Если да, за сорок восемь часов я найду его для тебя, твоего Пьера Ледюка. Ибо все дело в нем, не так ли? Отвечай же! Что за тип? Почему ты его разыскиваешь? Что тебе о нем известно? Я хочу знать!
Он внезапно успокоился, положил руку на плечо немца и сухо сказал:
— Одно только слово… Да или нет.
— Нет.
Он вынул из кармашка Кессельбаха великолепный золотой хронометр и положил его на колени пленника. Затем расстегнул ему жилет, сорочку, раскрыл грудь и, схватив стальной стилет с золотой рукояткой, лежавший возле них на столе, приставил острие к тому месту, где биения сердца в ритмичном трепете приподнимали обнаженную кожу.
— В последний раз?
— Нет.
— Господин Кессельбах, сейчас три часа без восьми минут. Если за эти восемь минут я не получу ответа, ты — мертвец.
III
На следующее утро, в тот самый час, который был ему назначен, бригадир Гурель явился в отель Палас. Не останавливаясь, отказавшись от лифта, он поднялся по лестнице. На пятом этаже повернул направо, проследовал по коридору и позвонил в номер 415.
Оттуда — ни звука. Бригадир позвонил опять. После полдюжины безуспешных попыток он направился к комнате дежурного по этажу, где сидел как раз метрдотель.
— Мне нужен господин Кессельбах. Я звонил к нему раз десять.
— Господин Кессельбах не ночевал у себя. Мы не видели его с середины вчерашнего дня.
— А его секретарь? Слуга?
— Их мы тоже не видели.
— Значит, они тоже не ночевали в отеле?
— Несомненно.
— Несомненно! Откуда такая уверенность?
— Очень просто. Господин Кессельбах не проживает в нашем отеле как прочие постояльцы; он занимает личные апартаменты. Обслуживаем его не мы, а его собственный слуга, и нам не может быть ничего известно о том, что происходит у него.
— Действительно… Действительно…
Гурель выглядел немало озадаченным. Он пришел с определенными указаниями, с четким заданием, в пределах которого только и могла проявиться его сообразительность. За этими границами он не очень-то знал, как следует поступать.
— Если бы тут был шеф… — пробормотал он. — Если бы тут был шеф…
Он показал свою карточку с указанием места службы и должности. Затем задал наугад вопрос:
— Значит, вы не видели, чтобы они возвращались?
— Нет.
— Но заметили, как уходили?
— Тоже нет.
— В таком случае, откуда вам известно, что они уходили вообще?
— Нам об этом сказал господин, приходивший вчера в номер 415.
— Господин с черными усами?
— Да. Я повстречался с ним, когда он уходил, ровно в три часа. Он мне сказал: «Господа из номера 415 ушли. Господин Кессельбах сегодня проведет ночь в Версале, куда и следует отправить его почту».
— Но с кем был тот господин? В каком качестве он с вами разговаривал?
— Этого я не знаю.
Гурель забеспокоился. Все это казалось ему довольно странным.
— У вас есть ключ?
— Нет, господин Кессельбах заказал особые ключи.
— Пойдемте-ка туда, посмотрим.
Он стал яростно звонить в дверь. Ответом была тишина. Он собрался уже повернуть обратно, как вдруг склонился и торопливо прижался ухом к замочной скважине.
— Послушайте… Кажется… Ну да, слышно явственно… Кто-то стонет…
Он с силой ударил в дверь кулаком.
— Однако, мсье, вы не имеете права…
— Это я не имею права?!
Он заколотил в дверь изо всех сил, но все было напрасно.
— Слесаря! Побыстрее!
Гостиничный слуга кинулся исполнять приказ. Гурель расхаживал из стороны в сторону, шумя, но ни на что не решаясь. Слуги с разных этажей собирались кучками. К ним спешили служащие администрации, конторы.
— Разве нельзя, — воскликнул наконец Гурель, — войти туда через соседние помещения? Они ведь сообщаются с апартаментом?
— Да, но двери между ними всегда заперты на засовы, с обеих сторон.
— Тогда мне надо позвонить в Сюрте, — заявил бригадир, для которого, несомненно, не было иного спасения, кроме как в лице начальства.
— И в комиссариат полиции, — заметил кто-то.
— Можно и туда, — ответил он тоном человека, которого такая формальность мало занимала.
Когда Гурель вернулся, слесарь пробовал открыть дверь ключами из большой связки. Последний из них и привел в действие замок. Гурель торопливо вошел.
Он бросился туда, откуда доносились стоны, и наткнулся на секретаря Чемпэна и слугу Эдвардса. Один из них, Чемпэн, терпеливыми усилиями сумел ослабить узлы кляпа и издавал приглушенные крики. Другой, казалось, спал.
Их освободили. Гурель был в растерянности.
— А господин Кессельбах?
Он двинулся дальше. Господин Кессельбах сидел в кресле, привязанный к его спинке, уронив голову на грудь.
— Он, вероятно, в обмороке, — сказал Гурель, подойдя. — Попытки порвать узы лишили его последних сил.
Он быстро разрезал веревки, стягивавшие плечи. Торс сразу упал вперед. Гурель охватил его обеими руками, но тут же отпрянул с криком:
— Да он же мертв! Смотрите… Руки — как лед… И глаза…
Кто-то несмело предположил:
— Может быть, кровоизлияние… Лопнул сосуд…
— Правда, на нем нет раны. Естественная кончина.
Тело положили на диван, одежду на нем расстегнули. И на белой сорочке стали видны красные пятна. Когда ткань раздвинули, все заметили на уровне сердца крохотную ранку, из которой еще текла кровь. К рубахе булавкой была приколота визитная карточка, тоже в крови.
Гурель наклонился над нею. Это была визитная карточка Арсена Люпэна.
Полицейский выпрямился с решительным, властным видом.
— Убийство!.. Арсен Люпэн!.. Всем выйти из помещения! Никому не оставаться в салоне или в комнате! Этих господ — отнести и оказать им помощь в другом месте. Выйти всем и не прикасаться ни к чему. Сейчас явится шеф!
IV
Арсен Люпэн!
Гурель повторял эти два роковых слова в полном оцепенении. Они звучали в его душе, как погребальный звон. Арсен Люпэн! Король бандитов! Верховный авторитет среди авантюристов! Можно ли было такое себе представить!
— Ну, нет, не может быть, — прошептал он. — Потому что этот человек мертв!
Только вот… Действительно ли он мертв?
Арсен Люпэн!
Стоя возле трупа, Гурель был ошеломлен, сбит с толку. Он вертел в руках визитную карточку с таким страхом, будто получил вызов от призрака. Арсен Люпэн! Что теперь делать? Действовать? Начинать борьбу собственными средствами? Нет, нет… Лучше подождать… При столкновении с таким противником ошибки неизбежны… И затем, разве сейчас не должен прибыть шеф?
Прибудет шеф! Вся психология Гуреля сводилась к этой короткой фразе. Умелый и предусмотрительный, наделенный мужеством, опытом и геркулесовой силой, он был из тех, кто устремляется вперед лишь тогда, когда им показывают направление, и хорошо делают только то, что им велят. И недостаток собственной инициативы у Гуреля безмерно возрос с тех пор, как господин Ленорман занял место господина Дюдуа во главе Сюрте. Господин Ленорман — вот это был шеф! С ним можно было быть всегда уверенным, что ты — на верном пути. До того уверенным, что Гурель неизменно надолго застревал на месте, не получив от шефа должного толчка.
Но шеф вот-вот должен был явиться! Глядя на часы, Гурель высчитывал время этого прибытия. Лишь бы раньше не появился полицейский комиссар, которого уже, конечно, предупредили; либо следователь прокуратуры и судебно-медицинский эксперт не принялись некстати возиться здесь до того, как сам шеф сможет составить себе представление об основных обстоятельствах дела.
— Ну что, Гурель, о чем замечтался?
— Шеф!
Господин Ленорман был человеком еще молодым, если судить по выражению его лица, по глазам, живо сверкавшим из-за стекол очков. Но это был почти старец, если принять во внимание сгорбленную спину, иссохшую желто-восковую кожу, седеющие бороду и волосы и весь его вид — болезненный, надломленный, неуверенный. Он прожил трудную жизнь в колониальных владениях Франции в качестве правительственного комиссара, на самых опасных постах. Приобрел там лихорадку, неукротимую энергию, столь противоречащую его физическому состоянию, привычку жить в одиночестве, говорить мало и действовать в тишине, плюс — некоторую нелюдимость. И к пятидесяти пяти годам — вследствие нашумевшего дела пяти испанцев из Бискры — заслуженную, широкую известность. Справедливость восторжествовала, и его назначили вначале на важную должность в Бордо, потом заместителем шефа в Париже и наконец, после кончины господина Дюдуа, шефом Сюрте. И на каждом из этих постов он проявил редкую изобретательность в работе, большие способности, оригинальные и невиданные дотоле качества; в частности, он добился таких ярких и недвусмысленных успехов в разрешении четырех или пяти последних скандальных историй, взволновавших общество, что его сравнивали с целым рядом наиболее прославленных блюстителей закона прошлого. Что касается Гуреля, у того сомнений не было. Любимец шефа, высоко ценившего его за чистоту души и исполнительность, он ставил господина Ленормана превыше всего на свете. Шеф был для него самим богом, идолом, который не ошибается никогда.
В тот день господин Ленорман выглядел особенно утомленным. Он устало опустился на стул, распахнул полы своего редингота — старомодного сюртука, получившего широкую известность благодаря несовременному покрою и оливковому цвету, развязал коричневый, не менее знаменитый шарф и тихо вымолвил: «Рассказывай».
Гурель поведал обо всем, что видел и что ему удалось узнать, построив свое донесение в краткой форме, к которой приучил его шеф. Но, когда он показал карточку Люпэна, господин Ленорман вздрогнул.
— Люпэн! — воскликнул он.
— Да, Люпэн, вот он опять всплыл, эта скотина.
— Тем лучше, тем лучше, — сказал господин Ленорман после недолгого раздумья.
— Конечно, тем оно лучше, — повторил Гурель, любивший сопровождать комментариями редкие слова начальника, в упрек которому ставил только чрезмерную немногословность, — тем лучше, так как вы наконец померяетесь силами с противником, достойным вас… И Люпэн поймет, кто может с ним совладать… Люпэн будет уничтожен… Люпэн…
— Ищи! — приказал господин Ленорман, обрывая затянувшуюся речь.
Звучало это, как приказание охотника, отданное собаке. И действительно, как лучший охотничий пес, умело обшаривающий кусты, живой и умный, Гурель занялся поиском на глазах своего начальника. Кончиком трости господин Ленорман указывал то на одно, то на другое кресло, на угол комнаты, точно так же, как хозяин показывает четвероногому другу заросли, купы деревьев, пучки трав.
— Ничего нет, — сказал бригадир.
— Это для тебя, — проворчал господин Ленорман.
— То есть я хотел сказать… Для вас всегда найдется много вещей, которые дают показания, словно это люди, как настоящие свидетели. Пока ясно одно: перед нами — убийство, без всякого сомнения попадающее в послужной список Арсена Люпэна.
— Первое за все время, — заметил Ленорман.
— Действительно, первое… Но оно было неизбежно. Нельзя вести такую жизнь без того, чтобы однажды, под давлением обстоятельств, не впасть в этот величайший грех. Господин Кессельбах, наверно, защищался…
— Нет, ибо был связан.
— Правда, — в некоторой растерянности признал Гурель, — это и представляется здесь странным… Зачем убивать противника, который выведен из борьбы?.. Черт возьми, если бы я взял его за воротник вчера, когда мы оказались лицом к лицу, на пороге вестибюля!..
Господин Ленорман тем временем вышел на балкон. Затем проследовал в комнату господина Кессельбаха, ту, что справа. Проверил запоры дверей и окон.
— Окна в этих двух комнатах, когда я в них заходил, были заперты, — сказал Гурель.
— Заперты или прикрыты?
— Никто к ним не прикасался, шеф. А они, правда, заперты.
Послышавшиеся голоса заставили их возвратиться в гостиную. Там они застали судебно-медицинского эксперта, осматривавшего труп, и господина Формери, следователя.
— Арсен Люпэн! — воскликнул при их появлении Формери. — Я просто счастлив, что благоприятная случайность позволит мне заняться наконец этим бандитом! Скоро он убедится, какая у меня закваска!.. К тому же, на этот раз перед нами — убийца… Ну что ж, сразимся, мэтр Люпэн!
Господин Формери все еще не мог забыть странного приключения с диадемой княгини Ламбаль и того, с каким блеском обвел его вокруг пальца Люпэн несколько лет тому назад. В криминальных анналах Парижа слава этой истории не потускнела до сих пор. Воспоминания о ней вызывали еще смех, и господин Формери в глубине души сохранил жгучую досаду и жажду взять блистательный реванш.
— Убийство налицо, — заявил он убежденно, — мотивы же мы раскроем легко. Все идет как надо. Мсье Ленорман, честь имею вас приветствовать… Я просто в восторге…
Формери вовсе не был в восторге. Присутствие Ленормана, напротив, мало радовало его, начальник Сюрте не очень-то скрывал презрение, которое тот у него вызывал. Тем не менее следователь выпрямился и торжественно осведомился:
— Итак, доктор, вы полагаете, что смерть наступила примерно двенадцать часов тому назад, может быть — больше?.. То же самое представляется и мне… Мы полностью друг с другом согласны… А орудие преступления?
— Нож с очень тонким лезвием, господин следователь, — отозвался врач. — Смотрите, лезвие вытерли от крови платком самого убитого.
— Действительно… Действительно… Следы видны весьма отчетливо… А теперь послушаем, что скажут секретарь и слуга господина Кессельбаха. Их допрос, не сомневаюсь, прольет на дело некоторый свет.
Чемпэн, которого перенесли в его комнату слева от гостиной, как и Эдвардса, пришел уже в себя от испытанного. Он подробно изложил вчерашнее происшествие, беспокойство господина Кессельбаха, объявленный заранее визит человека, назвавшегося Полковником, рассказал наконец о нападении, которому они подверглись.
— Ага, ага! — воскликнул господин Формери, — значит, был сообщник! И вы слышали его имя… Вы говорите — Марко… Это очень важно. Когда в наших руках окажется сообщник, поиск быстро продвинется вперед…
— Да, но его нет у нас в руках, — заметил господин Ленорман.
— Посмотрим… Каждому овощу — свой сезон… И тогда, господин Чемпэн, этот Марко ушел сразу же после звонка господина Гуреля?
— Да, мы услышали, как он ушел.
— А после его ухода вы ничего не слышали?
— Да… Время от времени, но очень смутно… Дверь была закрыта…
— И что это было?
— Голоса… Эта личность…
— Называйте его по имени Арсен Люпэн.
— Арсен Люпэн, по-видимому, куда-то звонил.
— Прекрасно. Мы допросим служащую отеля, обеспечивающую телефонную связь с городом. Позднее вы услышали, как он, в свою очередь, ушел?
— Он убедился, что мы по-прежнему крепко связаны, и четверть часа спустя ушел, захлопнув за собой входную дверь.
— Да, тотчас после того, как совершил свое злодеяние. Отлично, отлично… Все складывается в единую цепь. А после?
— После этого мы уже ничего больше не слышали… Настала ночь, усталость навела на меня дремоту… То же самое было с Эдвардсом… И только сегодня утром…
— Да, я уже знаю… Ну что ж, дело движется неплохо. Все складывается в цепь…
И, отмечая этапы расследования таким тоном, словно каждый был важной победой над неизвестным преступником, он задумчиво перечислил:
— Сообщник… Телефон… Время преступления… Услышанные звуки… Хорошо… Очень хорошо… Остается установить мотивы преступления. В сущности, поскольку речь идет о Люпэне, мотивы тоже ясны. Господин Ленорман, не заметили ли вы следов взлома?
— Ни единого.
— Следовательно, похищено что-то, находившееся при жертве. Бумажник его нашли?
— Я оставил его в кармане жилета, — сказал Гурель.
Они перешли в гостиную, где господин Формери убедился, что в бумажнике были только визитные карточки и документы, удостоверяющие личность.
— Очень странно. Господин Чемпэн, не могли бы вы сказать, имел ли вчера при себе господин Кессельбах какую-либо сумму денег?
— Да. Накануне, то есть позавчера, в понедельник, мы побывали в Лионском кредитном банке, где господин Кессельбах арендовал сейф…
— Сейф в Лионском кредитном банке? Хорошо… Надо поискать и в этом направлении.
— И, уходя, господин Кессельбах открыл на себя счет, сняв с него пять тысяч франков кредитными билетами.
— Отлично. Теперь все ясно.
Чемпэн, однако, продолжал:
— Есть еще одно обстоятельство, господин следователь. Господин Кессельбах, в течение нескольких дней пребывавший в большой тревоге, — я говорил вам о ее причине, о проекте, которому он придавал исключительное значение, — господин Кессельбах особенно заботился о сохранности двух предметов; во-первых — шкатулки из черного дерева, которую он для верности положил в банковский сейф, а затем — небольшого конверта из черной кожи, в котором держал некоторые бумаги.
— И этот конверт?
— Перед приходом Люпэна он в моем присутствии положил его в эту дорожную сумку.
Господин Формери взял сумку; конверта в ней не оказалось. Он потер руки.
— Итак, все складывается в цепь… Нам известен виновник, условия и мотив преступления; дело не будет сложным. Мы с вами во всем согласны, не так ли, мсье Ленорман?
— Ни в чем.
Несколько минут в гостиной царило полное недоумение. Комиссар полиции прибыл, и за его спиной, несмотря на полицейских, охранявших дверь, толпа журналистов и гостиничного персонала ворвалась в вестибюль и не желала его покидать. Как ни была известна резкость шефа Сюрте, его суровость, порой доходившая до грубости, что послужило поводом для нескольких головомоек в высоких инстанциях, — неожиданный ответ Ленормана сбил всех с толку. Господин Формери выглядел особенно озадаченным.
— Однако, — сказал он, — мне кажется, все очень просто: Люпэн ограбил Кессельбаха…
— Но зачем он его убил? — вставил господин Ленорман.
— Чтобы ограбить.
— Извините, показания свидетелей говорят о том, что ограбление состоялось еще до убийства. Вначале господина Кессельбаха связали, лишили возможности позвать на помощь, а затем уж обчистили. Почему же Люпэн, до сих пор не совершивший ни одного убийства, лишил жизни человека, не способного сопротивляться и уже ограбленного?
Следователь погладил свои длинные светлые бакенбарды жестом, обычным для него в тех случаях, когда перед ним вставал трудноразрешимый вопрос. И задумчиво возразил:
— Здесь может быть несколько ответов…
— Каких же?
— Зависит… Зависит от множества фактов, пока еще не известных… Сомнения, впрочем, могут оставаться только по поводу мотивов. По всему остальному мы согласны.
— Нет.
На сей раз ответ снова прозвучал еще более резко, отчетливо, почти невежливо, так что следователь, совершенно растерянный, не посмел даже протестовать и застыл в недоумении перед своим странным коллегой. Наконец, он произнес:
— У каждого — своя система. Хотелось бы познакомиться с вашей.
— У меня ее нет.
Шеф Сюрте поднялся и сделал несколько шагов вдоль гостиной, опираясь на трость. Вокруг все молчали и странно было видеть, как этот исхудалый, надломленный человек подавлял остальных силой властного нрава, которой уже подчинялись, хотя еще не смирились с нею до конца.
После долгого молчания он наконец произнес.
— Я хотел бы осмотреть помещения, примыкающие к этой квартире.
Директор показал ему план отеля. У комнаты справа, в которой жил сам господин Кессельбах, был единственный выход — через прихожую. Но комната секретаря, которая находилась слева, сообщалась с другим помещением.
— Пройдем туда тоже, — предложил шеф Сюрте.
Господин Формери, не сдержавшись, пожал плечами и пробурчал:
— Но ведь дверь между ними заперта, и окна — тоже.
— Пройдем туда все-таки, — повторил господин Ленорман.
Его провели в первую из пяти комнат, оставленных для госпожи Кессельбах. Потом, по его просьбе, показали ему следующие четыре. Все двери между апартаментами были с обеих сторон заперты на засовы.
Он спросил:
— Ни одна из этих комнат не занята?
— Нет.
— А ключи?
— Они постоянно находятся в конторе.
— Значит, никто не мог сюда пробраться?
— Никто, за исключением дежурного по этажу, обязанного проветривать их и вытирать пыль.
— Позовите его.
Слуга, некий Гюстав Бедо, сообщил, что накануне, согласно полученному им указанию, он запер окна во всех пяти комнатах.
— В котором часу?
— В шесть вечера.
— И вы ничего не заметили?
— Нет, ничего.
— А сегодня утром?
— Сегодня я открыл окна ровно в восемь часов.
— И ничего при этом не нашли?
— Нет… Ничего… Впрочем…
Он явно колебался. Засыпанный вопросами слуга наконец признал:
— Так вот, в комнате номер 420, возле камина, я нашел изящный футляр для сигарет… который собирался сегодня же вечером отнести в контору.
— Этот футляр при вас?
— Нет, он в моей комнате. Это сигаретница из вороненной стали. С одной стороны в нее кладут табак и папиросную бумагу, с другой — спички. На ней инициалы золотом: буквы «Л» и «М».
— Что вы говорите?
Это сказал Чемпэн, выступивший вперед и казавшийся крайне удивленным.
— Вы сказали — футляр из вороненной стали?
— Да.
— С тремя отделениями — для табака, бумаги и спичек… И в нем — русский табак, светлый и тонкий, не так ли? Принесите-ка его… Мне надо на него взглянуть… Хочу убедиться сам…
По знаку начальника Сюрте Гюстав Бедо удалился. Господин Ленорман сел и острым взором стал рассматривать ковры, мебель, занавески. Наконец спросил:
— Мы действительно в номере 420?
— Да.
Следователь усмехнулся:
— Хотелось бы узнать, какая связь видится вам между этим случаем и драмой. Пять запертых дверей отделяют нас от комнаты, где Рудольф Кессельбах был убит.
Господин Ленорман не снизошел до ответа.
Время шло. Гюстав не возвращался.
— Где этот служащий ночует, господин директор? — спросил шеф Сюрте.
— На шестом этаже, над улицей Иудеи, то есть как раз над нами. Странно, что его еще нет.
— Не будете ли вы добры послать кого-нибудь за ним?
Директор отправился сам, сопровождаемый Чемпэном. Несколько минут спустя он вернулся, на сей раз — один. Вернулся бегом, с перекошенным лицом.
— Ну что там?
— Он мертв…
— Убит?
— Да!
— Гром и молния! — воскликнул господин Ленорман. — Этих мерзавцев голыми руками не возьмешь! Вперед, Гурель, галопом: пусть перекроют все выходы из гостиницы… И хорошо охраняют… А вы, господин директор, ведите нас в комнату Гюстава Бедо.
Директор вышел. Но перед тем, как последовать за ним, господин Ленорман нагнулся и поднял крохотный бумажный кружок, к которому был давно прикован его взор.
Это была этикетка с синей каймой. На ней стояла цифра — 813. На всякий случай он положил ее в свой бумажник и догнал остальных.
V
Чуть заметная ранка в спине, между лопатками… Врач тут же объявил:
— Точно такая же, как у господина Кессельбаха.
— Да, — согласился господин Ленорман. — Удар нанесен той же рукой, и послужило ей то же самое оружие.
Судя по положению тела, слугу застигли в ту минуту, когда он, стоя на коленях перед своей постелью, искал под матрацем футляр, который там спрятал. Рука оставалась еще между матрацем и пружинами, но футляра не нашли.
— Не иначе, этот предмет мог выдать кого-то с головой, — предположил господин Формери, не осмеливаясь высказать более определенное мнение.
— Еще бы! — отозвался шеф Сюрте.
— Но нам известны инициалы «Л» и «М» и с тем, что, видимо, известно Чемпэну, мы сможем много узнать.
Господин Ленорман вздрогнул:
— Чемпэн! Где же он?
Заглянули в коридор, где толпились зеваки. Чемпэна там не было.
— Но господин Чемпэн пришел сюда со мной, сказал директор.
— Да, да, знаем, но с вами он не вернулся.
— Нет, я оставил его около трупа.
— Вы оставили его!.. Одного?
— Я сказал ему: оставайтесь и не отходите ни на шаг.
— И никого здесь больше не было? Вы никого не видели?
— В кулуарах — нет.
— Но в соседних каморках… Либо тут, за этим углом никто не мог спрятаться?
Господин Ленорман выглядел чрезвычайно взволнованным. Он отходил, возвращался, открывал двери комнат. И вдруг куда-то побежал со скоростью, на которую мало кто счел бы его способным. Он буквально скатился по лестнице с высоты шести этажей, намного опережая следователя и директора отеля. Внизу, у парадной двери, он нашел Гуреля.
— Никто отсюда не выходил?
— Никто.
— А из другой двери, на улицу Орвието?
— Я поставил там посторожить Дьези.
— Передав ему мой строгий приказ?
— Да, шеф.
В просторном холле гостиницы толпа постояльцев волновалась, с тревогой обсуждая поступавшие сюда более или менее верные сведения о странной цепи преступлений. Слуги, созванные по телефону, подходили один за другим. Господин Ленорман сразу же их допрашивал.
Никто не смог сообщить ни малейших полезных сведений. Одна только горничная что-то заметила. Десять минут тому назад она встретилась с двумя мужчинами, которые спускались по служебной лестнице вниз, между пятым и четвертым этажами.
— Они спускались очень быстро. Первый держал другого за руку. Я была удивлена, увидев двух таких господ на служебной лестнице.
— Вы могли бы их узнать?
— Первого — нет. Он отвернул голову. Молодой, стройный. На нем была мягкая черная шляпа… И черный костюм.
— А другой?
— Ах, другой был англичанин с бритым, полным лицом и в клетчатой одежде. Он был без шляпы.
Приметы полностью подходили к Чемпэну. Горничная продолжала: — И вид у него притом был довольно странный… Будто он сошел с ума…
Не удовлетворившись сообщением Гуреля, господин Ленорман по очереди допросил посыльных, стоявших возле двух других дверей.
— Вы знаете господина Чемпэна?
— Да, мсье, он всегда беседовал с нами.
— И не видели, чтобы он выходил?
— Нет, в то утро он не выходил.
Господин Ленорман повернулся к полицейскому комиссару:
— Сколько с вами ваших людей, господин комиссар?
— Четверо.
— Этого недостаточно. Позвоните вашему помощнику, пусть он пришлет всех, кого сумеет собрать. И будьте любезны лично обеспечить самую строгую охрану всех выходов. Осадное положение, господин комиссар!
— Но как быть, — запротестовал директор, — с моими клиентами?
— Ваши клиенты меня мало волнуют, господин директор. Прежде всего для меня существует мой долг, и долг велит мне, чего бы это ни стоило, задержать…
— Вы думаете, стало быть… — решился следователь.
— Я не думаю, сударь… Я уверен, что человек, совершивший двойное убийство, еще находится в отеле.
— Но тогда Чемпэн…
— В эти минуты я не могу уже утверждать, что Чемпэн жив. Во всяком случае, все решается теперь не минутами, а секундами… Гурель, возьми двух человек и обыщи как следует все комнаты четвертого этажа… Господин директор, ваш служащий будет их сопровождать. Остальные этажи осмотрим, когда получим подкрепление. Давай, Гурель, за дело и гляди в оба. Это крупная дичь.
Гурель и его люди поспешили прочь. Господин Ленорман остался в холле, около конторы гостиницы. На этот раз он и не думал садиться, как было в его привычке. Он шагал до парадного входа на улице Орвието и возвращался обратно.
Время от времени шеф Сюрте распоряжался:
— Господин директор, установите надзор над кухнями, можно улизнуть также через них… Господин директор, прикажите барышне на коммутаторе не соединять никого с городской сетью… И если кому-нибудь позвонят из города, пусть она запишет имя этого человека… Господин директор, пусть ваши служащие составят список всех постояльцев, имена которых начинаются буквами «Л» или «М».
Он говорил громко, как армейский генерал, отдающий своим офицерам приказания, от которых зависит исход сражения.
И это действительно было сражение — беспощадное и страшное, хотя и разыгрывалось в изысканных рамках первоклассной парижской гостиницы, между могущественным лицом, каким был шеф Сюрте, и таинственным субъектом, преследуемым, обложенным и почти уже пойманным, но еще крайне опасным своей жестокостью и изворотливостью.
Тревога царила среди присутствующих, собравшихся в середине большого холла, молчаливых и трепещущих, охватываемых паникой при малейшем шуме, преследуемых дьявольским образом убийцы. Где он теперь прятался? Появится или нет? Не было ли его среди них? Вот этот? Или, может быть, вот тот?..
Нервы у всех были так напряжены, что в порыве возмущения или паники люди могли прорваться к выходу и выбежать на улицу, не будь там хозяина, не будь его присутствия и чего-то, присущего только ему, что успокаивало и внушало уверенность. Люди чувствовали себя в безопасности, как на корабле, ведомом опытным капитаном.
И все взоры раз за разом обращались к пожилому, седовласому господину в очках, в оливковом рединготе и коричневом шарфе, который прогуливался среди них, сгорбившись, на заметно нетвердых ногах.
Время от времени прибегал один из тех ребят, которые помогали Гурелю.
— Есть новости? — спрашивал господин Ленорман.
— Нет, мсье, ничего еще не нашли.
Директор дважды пытался смягчить приказ. Положение становилось невыносимым. Многие постояльцы, понуждаемые неотложными делами или собравшиеся уезжать, бурно протестовали.
— Меня они не волнуют, — отвечал шеф Сюрте.
— Но я всех их знаю.
— Тем лучше для вас.
— Вы превышаете свою власть.
— Это мне известно.
— Ваше начальство вряд ли вас одобрит.
— Я в этом уверен.
— Сам господин следователь…
— Пусть господин Формери оставит меня в покое. Пускай получше допрашивает слуг, что он и делает сейчас. В остальном — идет не следствие. Идет розыск. А это уже мое дело.
В ту же самую минуту целый отряд полицейских ворвался в отель. Шеф Сюрте разбил их на несколько групп и послал на четвертый этаж. Затем обратился к комиссару:
— Дорогой комиссар, поручаю вам дальнейший надзор. Никаких послаблений, заклинаю вас. Беру на себя ответственность за все, что бы ни случилось.
После этого Ленорман лифтом поднялся на третий этаж.
Работа оказалась нелегкой. И долгой; пришлось открыть двери шестидесяти номеров, проверить все ванные комнаты, все альковы, все шкафы, каждый уголок. Час спустя, ровно в полдень, господин Ленорман завершил осмотр третьего этажа. Ничего найти не удалось. Остальные полицейские еще не окончили поиски на верхних этажах.
Господин Ленорман засомневался: может быть, убийца поднялся к мансардам?
Он все-таки решил спуститься вниз, когда ему сообщили, что госпожа Кессельбах только что прибыла с барышней, служившей у нее в качестве компаньонки. Эдвардс, доверенный старый слуга, взял на себя обязанность сообщить ей о смерти мужа.
Господин Ленорман нашел ее в одной из гостиных, сраженную известием, без слез, с искаженным страданием лицом; неутихающая дрожь била ее, словно в лихорадке.
Это была довольно высокая женщина, черноволосая, чьи большие черные, прекрасные глаза казались наполненными маленькими золотистыми точками, подобными блесткам, сияющим во мраке. Господин Кессельбах познакомился с нею в Голландии, где Долорес родилась в старинной испанской семье Амонти. Он в нее сразу же влюбился и вот уже четыре года их союз, скрепленный преданностью и любовью, оставался безоблачно счастливым.
Господин Ленорман представился. Она без слов посмотрела на него, и он умолк, не зная, дошли ли до нее его слова. Затем, совсем внезапно, она зарыдала и попросила, чтобы ее провели к мужу.
Вернувшись в холл, господин Ленорман встретил Гуреля, который его искал: в руке он держал шляпу, которую тут же протянул шефу.
— Вот что я нашел, патрон… Понятно откуда это, не так ли?
Находка оказалась шляпой из мягкого черного фетра. Внутри — ни подкладки, ни этикетки.
— Где ты ее подобрал?
— На площадке служебной лестницы, на третьем этаже.
— А на других этажах?
— Ничего. Мы искали везде. Остается только второй этаж. Место, где лежала шляпа, говорит о том, что он туда уже спускался. Горим, патрон.
— Охотно верю.
На лестнице, в самом низу, господин Ленорман остановился.
— Отправляйся к комиссару и передай ему распоряжение: поставить внизу каждой лестницы двух человек с револьверами наготове. Пойми, Гурель, если мы не спасем Чемпэна и преступник сбежит, я пропал. Вот уже два часа я занимаюсь совсем не тем, чем нужно.
Он поднялся по лестнице. На втором этаже ему встретились двое полицейских в сопровождении служащего, выходивших из номера. Коридор был пуст, гостиничный персонал не осмеливался в него входить. Многие же постояльцы заперлись на двойной оборот в своих комнатах, так что каждый раз приходилось подолгу стучать и вести переговоры, прежде чем двери открывались. Немного дальше господин Ленорман заметил другую группу полицейских, проверявших номера, а в конце коридора — еще одну, приближавшуюся со стороны угла, то есть тех комнат, которые находились над улицей Иудеи. И вдруг увидел, как они с криками куда-то побежали, сразу исчезнув из виду. Он поспешил следом.
Полицейские остановились посередине коридора. У их ног, загораживая проход, ничком на ковре лежало чье-то тело. Господин Ленорман наклонился и приподнял неподвижную голову.
— Чемпэн, — прошептал он. — Мертв.
Он осмотрел труп секретаря. Трикотажный шарф из белого шелка перетягивал горло. Ленорман его развязал. Показались красные пятна, и он увидел, что шарф удерживал на затылке толстый ватный тампон, пропитанный кровью.
Под ним была рана, во всем подобная прежним. Четкая, ясная, безжалостная.
Извещенные без промедления, прибежали господин Формери и полицейский комиссар.
— Никто не выходил? — спросил шеф. — Никто не поднимал тревоги?
— Никто, — доложил комиссар. — Двое наших сторожат внизу каждую лестницу. — Может быть, он поднялся наверх?
— Нет! Нет!
— Но кто-то его, наверно, встречал.
— Нет… Это случилось, по-видимому, давно. Руки уже остыли. Убийство, вероятно, было совершено сразу же после предыдущего. Сразу же после того, как убийца и жертва пробрались сюда по служебной лестнице.
— Но труп должны были увидеть! Подумайте только, за минувшие два часа здесь прошло не менее полусотни человек!..
— Значит, трупа здесь не было.
— Где же он находился?
— О! Откуда мне это знать! — резко отвечал шеф Сюрте. — Поступайте, как я, ищите… Разговоры ни к чему не приведут!
Жилистой рукой господин Ленорман яростно похлопывал по набалдашнику своей трости, пристально разглядывая труп, молчаливый и задумчивый. Наконец произнес:
— Господин комиссар, сделайте одолжение, прикажите отнести тело в незанятую комнату. И позвать туда врача. Господин директор, благоволите открыть мне двери всех помещений в этом коридоре.
Слева находились три комнаты и два салона, составлявшие незанятые апартаменты; господин Ленорман осмотрел их. Справа — четыре комнаты. Из них две были заняты неким господином Ревердатом и итальянцем бароном Джакомиччи; оба в это время отсутствовали. В третьей комнате обнаружили старую деву — англичанку, еще не встававшую с постели, а в четвертой — англичанина, который мирно курил и читал книгу и которого не смог от этого отвлечь доносившийся из коридора шум. Его звали майором Парбери. Обыски и допросы и здесь ничего не дали. Старая дама и до появления полицейских не слышала ничего — ни звуков борьбы, ни криков раненого, ни ссоры. Майор Парбери — и того меньше.
Кроме того, не было найдено ни единой явственной улики, пятен крови, ничего такого, что позволяло бы предположить, что несчастный Чемпэн побывал в одной из этих комнат.
— Странно, — бормотал следователь. — Действительно очень странно.
И наивно добавил:
— Я понимаю все меньше и меньше. Целый ряд обстоятельств от меня совершенно ускользает. Что вы об этом думаете, мсье Ленорман?
Господин Ленорман, вероятно, собирался уже ответить резкой отповедью, в каких обычно проявлялась его невоспитанность, когда появился запыхавшийся Гурель:
— Шеф, вот что мы нашли… Только что… Внизу… В конторе отеля… На стуле…
Это был не слишком большой пакет, завернутый в черную саржу.
— Вы его вскрывали? — спросил начальник Сюрте.
— Да, но, увидев содержимое, завернули обратно, точно так, как было… Очень плотно перевязан, можете убедиться сами.
— Развяжи!
Гурель снял обертку и извлек брюки и пиджак из черного мольтона. Дальше был запятнанный кровью портфель, еще мокрый; по-видимому, его недавно вымыли, чтобы уничтожить отпечатки пальцев. В портфеле лежал стальной стилет с украшенной золотом рукояткой. Он был красен от крови, от крови трех человек, убитых за несколько часов невидимой рукой, в гуще толпы из трех сотен человек, сновавших во все стороны в огромной гостинице. Эдвардс, слуга, сразу узнал стилет, принадлежавший его хозяину.
— Господин директор, — молвил шеф Сюрте, — запреты сняты.
Гурель распорядится, чтобы двери более не охраняли.
— Стало быть, вы полагаете, что Люпэн мог ускользнуть? — спросил господин Формери.
— Вовсе нет. Личность, совершившая тройное убийство, находится в отеле, в одной из комнат, возможно, — в толпе путешественников в салонах или в холле. По-моему, он и жил здесь, в отеле.
— Невозможно! И потом, где бы он мог переодеться? И как одет теперь?
— Не знаю, но уверен, что это так.
— И вы открываете ему свободный путь? Ведь он теперь уйдет спокойненько, держа руки в карманах.
— Тот постоялец, который таким образом отсюда уйдет без поклажи и более не вернется и будет виновным. Господин директор, извольте пройти со мной в контору. Я хотел бы поближе ознакомиться со списком ваших клиентов.
В конторе директор обнаружил несколько писем, адресованных господину Кессельбаху. Он отдал их следователю. Там была также посылка, которую как раз доставила почта. Поскольку бумага, в которую она была завернута, в одном месте порвалась, господин Ленорман смог увидеть шкатулку из черного дерева, на которой было вырезано имя Рудольфа Кессельбаха.
Он открыл ее. Помимо осколков зеркальца, место которого под крышкой коробочки было еще хорошо видно, внутри оказалась визитная карточка Арсена Люпэна.
Одна подробность, однако, поразила шефа Сюрте. Снаружи, под коробочкой, была небольшая этикетка с синей каймой, подобная той, которую нашли в комнате на четвертом этаже, где был спрятан футляр для сигарет. На этой этикетке тоже стояли цифры 831.
Глава 2
Шеф Сюрте приступает к операциям
I
— Огюст, пригласите господина Ленормана.
Швейцар вышел и несколько мгновений спустя ввел начальника Сюрте.
В просторном кабинете министерства на площади Бово восседали три важных лица: знаменитый Валенглей, тридцать лет возглавлявший партию радикалов, в то время — председатель Совета Министров и министр внутренних дел, господин Тестар — генеральный прокурор и префект полиции Делом.
Прокурор и префект не поднялись со стульев, которые занимали в течение своего долгого разговора с председателем Совета Министров; но сам хозяин кабинета встал и, пожав руку шефу Сюрте, сказал ему самым сердечным тоном:
— Без сомнения, дорогой Ленорман, вы знаете причину, по которой я попросил вас прийти?
— Дело Кессельбаха?
— Да.
Дело Кессельбаха! Мало кто не помнит не только эту трагическую историю, хитросплетения которой я тоже пытался распутать, но и подробные перипетии драмы, которая взволновала всех за два года до войны. Мало кто не помнит также необычайное волнение, которое она вызвала во Франции и за пределами Франции. Тем не менее, помимо тройного убийства, совершенного при таких таинственных обстоятельствах, помимо безмерной гнусности этой бойни, помимо всего, было обстоятельство, которое особенно потрясло общественное мнение — новое появление, можно сказать — воскресение Арсена Люпэна.
Арсен Люпэн! Никто ничего не слышал о нем вот уже четыре года, после его невероятного, неслыханного приключения, связанного с Полой Иглой, после того дня, когда он на глазах Шерлока Холмса и Исидора Ботреле скрылся во тьме, унося безжизненное тело той, которую любил, сопровождаемый своей старой кормилицей, Викторией. С этого дня большинство считало его погибшим. Такова была версия полиции, которая, не находя следов своего противника, решила его просто похоронить.
Многие, однако, полагали, что он спасся, ведет мирное существование доброго буржуа; другие считали, что он, сраженный горем, укрылся от мира в монастыре траппистов.
И вот он возник опять! И вот он возобновляет беспощадную войну против общества! Арсен Люпэн снова стал Арсеном Люпэном, фантазером, недосягаемым, дерзким, гениальным Арсеном Люпэном!
Но на этот раз раздался всеобщий крик ужаса. Арсен Люпэн совершил убийство! И дикость, жестокость, безграничный цинизм этого злодеяния были так велики, что в единый миг легенда о симпатичном герое, рыцарственном авантюристе, при случае — чувствительном, уступила место новому образу — бесчеловечного, свирепого и кровожадного чудовища. Толпа возненавидела и прониклась страхом перед своим прежним кумиром тем сильнее, чем больше она восхищалась им прежде за его легкое изящество и забавную веселость.
Возмущение испуганной толпы, естественно, обратилось против полиции. Раньше люди смеялись. Одураченному полицейскому комиссару прощали его промахи за то, каким комическим манером он дал себя одурачить. Теперь было не до шуток, и в порыве возмущения и ярости властям предъявили счет за чудовищные преступления, которые они не сумели предотвратить.
В газетах, на общественных собраниях, на улице, на самой парламентской трибуне поднялась такая волна гнева, что правительство встревожилось и попыталось любыми средствами умерить всеобщее возбуждение.
Валенглей, председатель Совета Министров, проявлял особенный интерес к делам полиции, и с охотой не раз внимательно следил за некоторыми делами шефа Сюрте, способности и независимый нрав которого особенно ценил. Он вызвал в свой кабинет генерального прокурора и префекта, с которыми побеседовал, а затем — и господина Ленормана.
— Да, дорогой Ленорман, речь идет о деле Кессельбаха. Но, прежде чем заговорить о нем, хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство… Обстоятельство, которое особенно досаждает господину префекту. Мсье Делом, не хотите ли объяснить мсье Ленорману…
— О! Мсье Ленорман прекрасно знает, что должен думать по этому поводу, — отозвался префект тоном, свидетельствовавшим о малой доброжелательности, которую он испытывал в отношении своего подчиненного. — Мы с ним об этом уже беседовали. Я высказал ему свое мнение о его поведении в отеле Палас. В общем, оно вызывает возмущение.
Господин Ленорман поднялся, вынул из кармана листок бумаги и положил его на стол.
— Что это такое? — спросил Валенглей.
— Прошение о моей отставке, господин премьер-министр.
Валенглей подскочил.
— О вашей отставке?! Из-за простого упрека, который господин префект позволил себе и которому, впрочем, не придал особенно важного значения? Не так ли, Делом, никакого особого значения? И вас из-за этого уже понесло! Признайтесь же, мой добрый Ленорман, с таким характером, как у вас… Давайте, забирайте свою бумажку и поговорим серьезно.
Шеф Сюрте снова сел, и Валенглей, не давая раскрыть рта префекту, не скрывавшему своего неудовольствия, произнес:
— Одним словом, Ленорман, вот в чем дело: возвращение Люпэна для нас — большая неприятность. Эта скотина слишком долго над нами издевалась. Часто было смешно, могу признать, я первый, скажу честно, над этим потешался. Но теперь речь идет о кровавых делах. Можно было терпеть Арсена Люпэна, пока он забавлял галерку; с минуты же, когда он стал убийцей, — нет.
— Чего же, господин премьер-министр, вы требуете от меня?
— Чего мы требуем? Не так уж много. Вначале — его ареста. Затем — его головы.
— Его ареста — это я могу вам обещать, рано или поздно. Его головы — никак.
— А как еще? Если его арестуют, будет суд присяжных, неизбежный приговор и затем… эшафот.
— Нет.
— Почему же нет?
— Потому что Люпэн не убивал.
— Что?! Вы с ума сошли, Ленорман! А трупы в отеле Палас? Может быть, это были призраки? Разве нет тройного убийства?
— Да, но его совершил не Люпэн.
Шеф Сюрте произнес эти слова твердо, с впечатляющей убежденностью и спокойствием.
Прокурор и префект было запротестовали. Но Валенглей продолжал:
— Как я полагаю, Ленорман, вы не выдвигаете такую гипотезу без серьезных оснований?
— Это вовсе не гипотеза.
— Где же доказательства?
— Их два, для начала, два доказательства морального порядка, которые я на месте предъявил господину следователю и которые были подчеркнуты прессой. Прежде всего, Люпэн не убивает. Затем, к чему ему было убивать, если цель его затеи, то есть ограбление, была достигнута, и ему нечего было опасаться со стороны связанного противника, лишенного возможности позвать на помощь?
— Допустим. Но факты?
— Факты не могут опровергнуть доводов рассудка и логики, к тому же не все факты еще понятны. Что означает присутствие Люпэна в комнате, в которой был найден курительный прибор? С другой стороны, обнаруженная в отеле черная одежда, со всей очевидностью принадлежавшая убийце, никак не соответствует росту Арсена Люпэна.
— Вы знаете его, следовательно, лично?
— Я — нет. Но Эдвардс видел убийцу, Гурель — тоже, и субъект, которого они видели, совсем не тот человек, которого горничная заметила на служебной лестнице, — человек, тащивший за руку Чемпэна.
— Какова же ваша система?
— Вы хотите сказать «истина», господин премьер-министр. Вот она, либо, по крайней мере, часть истины, которая мне известна. Во вторник, 16 апреля, некая личность… Скажем — Люпэн… ворвалась в комнату господина Кессельбаха. Это случилось к двум часам пополудни…
Громкий смех оборвал речь господина Ленормана. Это смеялся префект полиции.
— Позвольте вставить, мсье Ленорман, вы чересчур торопитесь с уточнениями. Доказано ведь, что в тот самый день, в три часа дня, господин Кессельбах посетил Лионский кредитный банк и спускался в его подвалы. Это подтверждается его росписью в книге.
Господин Ленорман почтительно ждал, когда его начальник окончит речь. Затем, не трудясь даже прямо ответить на этот выпад, продолжал:
— К двум часам пополудни Люпэн, с помощью сообщника, некоего Марко, связал господина Кессельбаха, отнял у него бывшие при нем наличные деньги и заставил его выдать шифр сейфа, арендованного в Лионском банке. Как только секрет был раскрыт, Марко ушел. Он встретился со вторым сообщником, который, воспользовавшись некоторым сходством с господином.
Кессельбахом и надев золотые очки, явился в банк, подделал подпись Кессельбаха, очистил сейф и ушел в сопровождении того же Марко. Последний тут же позвонил Люпэну. Люпэн, убедившись, что господин Кессельбах его не обманул, достигнув, к тому же, цели своей экспедиции, удалился.
Валенглей, казалось, заколебался.
— Да… Да… Допустим. Но вот что меня смущает. Неужто такой человек, как Люпэн, пошел на подобный риск ради столь жалкой добычи — нескольких банковских билетов и содержимого, весьма, впрочем, сомнительного, арендованного сейфа?
— Люпэн, вероятно, желал чего-то большего. Он хотел, надо полагать, заполучить либо кожаный конверт, находившийся в дорожной сумке, либо шкатулку из черного дерева, хранившуюся в сейфе. Эту шкатулку он и добыл, поскольку ее отослали обратно уже пустой. Следовательно, сегодня он знает либо должен вот-вот узнать секрет пресловутого проекта, который лелеял господин Кессельбах и о котором он говорил со своим секретарем за несколько минут до смерти.
— Но что за проект?
— Этого я не знаю. Директор агентства Барбаре, которому он доверился, сказал мне, что господин Кессельбах разыскивал какого-то человека, некую опустившуюся личность по имени, кажется, Пьер Ледюк. Для чего? Чем тот был связан с его проектом? Этого я не могу сказать.
— Пусть так, — заключил Валенглей. — Такова, допустим, была роль Арсена Люпэна. И дело свое он сделал: господин Кессельбах связан, ограблен… Но живой! Что же произошло после, до той минуты, когда его нашли мертвым?
— На протяжении нескольких часов — ничего. До самой ночи — ничего. Но ночью кто-то туда вошел.
— Каким путем?
— Через комнату номер 420, одну из тех, которые были заняты для госпожи Кессельбах. Эта личность, несомненно, располагала поддельным ключом.
— Но, — воскликнул префект, — но все комнаты между этой и апартаментом были заперты на засов, а их было пять!
— Оставался балкон.
— Вот как! Балкон!
— Да, он тянется на протяжении всего этажа, над улицей Иудеи.
— А перегородки, которые его разделяют?
— Ловкому человеку легко их преодолеть. Нашему это удалось.
Я нашел его следы.
— Но все окна апартамента были тоже заперты, и после преступления установили, что они такими и остались.
— Кроме одного — окна в комнату секретаря Чемпэна; оно оказалось только прикрытым. Я убедился в этом сам.
На сей раз уверенность премьер-министра казалась окончательно пошатнувшейся, такой логичной выглядела версия господина Ленормана, так она была лаконична, так ее подкрепляли убедительные факты. И он с растущим интересом спросил:
— Но этот человек — с какой целью он явился?
— Этого я не знаю.
— Ах! Вы этого не знаете!
— Нет, как не знаю и его имени.
— Для чего же он убил?
— И этого не знаю. Самое большее, что могу предположить, — он вовсе не собирался убивать, но тоже приходил, чтобы завладеть документами, находившимися в черном конверте и в шкатулке; и что, обнаружив беспомощного противника, он его убил.
Валенглей проговорил:
— Да, такое возможно… В крайнем случае… И, по-вашему, эти бумаги он нашел?
— Он не мог найти шкатулку, поскольку ее там не было, но на дне дорожной сумки он нашел конвертик из черной кожи. Таким образом, оба — Люпэн и тот… другой… в равной мере разобрались в проекте господина Кессельбаха.
— Другими словами, — вставил премьер-министр, — теперь они неизбежно вступят друг с другом в борьбу.
— Совершенно верно. И борьба уже началась. Найдя карточку Арсена Люпэна, убийца прикрепил ее к трупу. Чтобы сама очевидность была против его соперника, и Арсен Люпэн представлялся всем убийцей.
— Действительно… Действительно… — сказал Валенглей. — Подобные расчеты не лишены оснований.
— И этот ход удался бы вполне, — продолжал господин Ленорман, — если, вследствие другой случайности, на сей раз — неблагоприятной для него, убийца, то ли приходя, то ли уходя, не потерял бы в комнате № 420 свой курительный прибор, если гостиничный слуга, Гюстав Бедо, к тому же не поднял бы этот предмет. С тех пор, почувствовав себя разоблаченным, или почти…
— Но как он мог это знать?
— Как? С помощью самого следователя Формери. Следствие велось при открытых настежь дверях! И можно считать достоверным, что убийца скрывался среди присутствующих, служащих отеля или журналистов, когда следователь послал Огюста Бедо в его мансарду, чтобы тот принес курительный прибор. Бедо поднялся наверх. Преступник последовал за ним и нанес удар. Вот и вторая жертва.
Никто больше не возражал. Драма восстанавливалась во всех подробностях, поражая правдоподобностью и точностью деталей.
— А третья? — спросил Валенглей.
— Этот уже подставился сам. Видя, что Бедо не возвращается, Чемпэн, которому не терпелось поскорее самому осмотреть курительный прибор, пошел за ним вместе с директором отеля. Захваченный убийцей, когда директор оставил его в мансарде, он был похищен им, уведен в одну из комнат и убит.
— Но почему он позволил вот так утащить, повести себя за руку человеку, о котором знал, что тот — убийца господина Кессельбаха и Гюстава Бедо?
— Не знаю, так же как мне неизвестна комната, где было совершено это преступление, так же, как не могу предположить, каким действительно волшебным способом виновный смог улизнуть.
— Была речь, — спросил господин Валенглей, — о двух маленьких этикетках?
— Да, одну обнаружили в шкатулке, которую Люпэн отослал назад; вторая найдена мной и находилась, несомненно, в кожаном конверте, похищенном убийцей.
— Итак?
— Итак, в моих глазах они ничего не значат. Значение зато имеет число «813», начертанное господином Кессельбахом на каждой из них; его почерк в данном случае установлен.
— И значение этого числа?
— Остается тайной.
— И тогда?
— И тогда я опять вынужден сказать, что ничего об этом не знаю.
— У вас не было подозрений?
— Никаких. Двое из моих людей живут теперь в одной из комнат отеля Палас, на том этаже, на котором нашли тело Чемпэна. По моим указаниям они наблюдают за всеми, кто находится в гостинице. В числе оставивших ее лиц виновника не было.
— Никто не звонил по телефону во время резни?
— Звонили. Кто-то из города звонил майору Парбери, одному из четверых постояльцев со второго этажа.
— И этот майор?
— За ним теперь наблюдают мои люди; до сих пор ничто не свидетельствовало против него.
— В каком же направлении вы намерены вести розыск?
— О! В весьма определенном. По-моему, убийца — из числа друзей или знакомых супругов Кессельбах. Он шел по их следам, знал их привычки, ему была известна причина, по которой господин Кессельбах оказался в Париже. По меньшей мере, он подозревал, как важны его планы.
— Следовательно, это не профессиональный преступник?
— Нет! Тысячу раз нет. Преступление было совершено с неслыханной ловкостью и дерзостью, но привели к этому только обстоятельства. Именно в окружении четы Кессельбах, повторяю, и надо его искать. И доказательство — что убийца Кессельбаха покончил с гостиничным слугой только потому, что тот завладел курительным прибором; а Чемпэна убил потому, что секретарь знал о существовании этого футляра. Вспомните, как разволновался Чемпэн, услышав описание этого предмета. Чемпэн первым и разгадал секрет этой драмы. И если бы он увидел футляр, все стало бы сразу ясно. Неизвестный это сразу понял и устранил Чемпэна. Мы не знаем теперь ничего кроме его инициалов — «Л» и «М».
Он еще подумал и произнес:
— И еще одно доказательство, дающее ответ на один из ваших вопросов, господин премьер-министр. Полагаете ли вы, что Чемпэн последовал бы за этим человеком по кулуарам и лестницам гостиницы, если не был с ним знаком?
Факты нагромождались друг на друга. Истина, более или менее вероятная, проступала все больше. Немало обстоятельств, наиболее, видимо, интересных, оставалось под покровом тайны. Но сколько уже пролилось света! При неизвестности мотивов, которые их вызвали, как ясно уже была видна череда деяний, совершившихся в то трагическое утро!
Настала тишина; каждый размышлял, взвешивал в уме доводы, возражения. Наконец, Валенглей воскликнул:
— Дорогой Ленорман, все это идеально… Вы меня убедили… Но, в сущности, мы таким образом не продвинулись ни на шаг.
— Как так?
— Ну конечно. Цель этой нашей встречи вовсе не была в том, чтобы расшифровать часть загадки, которую, не сомневаюсь, рано или поздно вы разгадаете целиком. Наша цель — возможно более полно удовлетворить требования общественного мнения. Однако, будь Люпэн убийцей или нет, будь в этом деле двое виновных или трое, или даже один, это не дает нам ни его имени, ни его адреса. И у общества по-прежнему остается пагубное убеждение, что правосудие бессильно.
— Что я могу тут поделать?
— Вот именно, вы можете доставить публике то удовлетворение, которого она ждет.
— Разве этих объяснений еще недостаточно?
— Слова! А требуют от нас дел. Только одно удовлетворит всех, это — арест.
— Дьявол! Мы не можем ведь арестовать первого встречного!
— Лучше так, чем не арестовывать никого, — сказал Валенглей, смеясь… — Давайте, подумайте хорошенько… Вы уверены в невиновности, скажем, Эдвардса, слуги Кессельбаха?
— Совершенно уверен… И потом — нет, господин премьер-министр, было бы опасно, смешно… Я уверен, что сам господин генеральный прокурор… Существуют только два лица, которых мы вправе арестовать… Убийца, которого я не знаю… И Арсен Люпэн.
— И что же?
— Не так просто арестовать Арсена Люпэна… По крайней мере, на это нужно время, целая система мер… Которые я еще не успел скомбинировать, поскольку считал Люпэна окончательно вышедшим из игры… либо умершим.
Валенглей топнул ногой с нетерпением человека, привыкшего к тому, чтобы его желания исполнялись немедленно.
— И все-таки… И все-таки… Дорогой Ленорман, надо!
Надо — также ради вас. Не можете же вы не знать, что у вас есть могущественные враги, и… Не будь здесь меня… Недопустимо, наконец, чтобы вы, Ленорман, вы сами так упорно уходили в сторону… А сообщники — какие у вас намерения насчет них? В деле не только Люпэн. Есть еще и Марко. И есть еще тот негодяй, который сыграл роль господина Кессельбаха, спустившись в сейфовый зал Лионского кредитного банка.
— Последнего из них, скажем, будет достаточно, господин премьер-министр?
— Будет ли мне его достаточно! Черт побери! Еще бы!
— Хорошо, дайте мне восемь дней на его арест.
— Восемь дней! Но счет не идет на дни, дорогой Ленорман, а на часы.
— Сколько же вы мне на это даете, господин премьер-министр?
Валенглей вынул часы и сказал со смешком:
— Десять минут.
Шеф Сюрте тут же вынул свои и твердо отчеканил:
— Четыре будут лишними, господин премьер-министр.
II
Валенглей посмотрел на него с изумлением:
— Четыре минуты лишних? Что вы хотите сказать?
— Я говорю, господин премьер-министр, что десяти минут, которые вы мне предоставили, слишком много. Мне нужны только шесть, ни единой больше.
— Вот еще, Ленорман! Ваши шутки, боюсь, чересчур…
Шеф Сюрте подошел к окну и сделал знак двоим людям, мирно прогуливавшимся по парадному двору министерства. Затем вернулся.
— Господин генеральный прокурор, — заявил он, — будьте любезны подписать ордер на арест на имя Дайлерона, Огюста-Максима-Филиппа, в возрасте сорока семи лет. Место, где указывают профессию, пока не заполняйте.
Он открыл дверь.
— Гурель, можешь войти… И ты, Дьези…
Гурель повиновался, за ним последовал инспектор Дьези.
— Наручники при тебе, Гурель?
— Да, шеф.
Господин Ленорман подошел к Валенглею.
— Господин премьер-министр, все готово. Но я решительно настаиваю на том, чтобы вы отказались от этого ареста. Он спутает все мои планы; он может привести к их полной неудаче, и ради удовлетворения общества, в сущности — ничтожного, это действие рискует все испортить.
— Господин Ленорман, я обязан заметить вам, что остается не более восьмидесяти секунд.
Шеф Сюрте подавил жест досады, прошелся по комнате, опираясь на трость, уселся с негодующим видом, словно решившись молчать, затем, отметая вдруг сомнения:
— Господин премьер-министр, первый из тех, кто войдет в этот кабинет, будет тем, чьего ареста вы только что потребовали… Вопреки моему желанию, хочу это подчеркнуть.
— Не более пятнадцати секунд, Ленорман.
— Господин премьер-министр, не потрудитесь ли вы позвонить?
Валенглей позвонил.
На пороге в ожидании приказаний вырос швейцар.
Валенглей повернулся к шефу Сюрте.
— Ну что ж, Ленорман, какие будут приказания? Кого сюда следует ввести?
— Никого.
— Но как же с негодяем, чей арест вы нам посулили? Ваши шесть минут истекли.
— Вот именно, негодяй находится здесь.
— Как так? Не понимаю, никто сюда не входил.
— Напротив.
— Ну вот… Послушайте, Ленорман… Вы, кажется, надо мной смеетесь… Повторяю, никто сюда не входил.
— В этом кабинете нас было четверо, господин премьер-министр. Сейчас нас пятеро. Кто-то, следовательно, вошел.
Валенглей подскочил.
— Что?.. Но это безумие! Что вы хотите сказать?!
Оба полицейских между тем выдвинулись в пространство, отделявшее швейцара от двери.
Господин Ленорман подошел к нему, положил ладонь на его плечо и громко объявил:
— Именем закона, Дайлерон, Огюст-Максим-Филипп, главный швейцар резиденции Совета Министров, вы арестованы.
Валенглей расхохотался:
— Вот так номер!.. Вот так номер!.. Чертов Ленорман, чего он только не выкинет! Браво, Ленорман, я давно уже так не смеялся…
Ленорман повернулся к генеральному прокурору:
— Господин генеральный прокурор, не забудьте, прошу вас, проставить в ордере профессию присутствующего здесь Дайлерона. Главный швейцар министерства внутренних дел.
— Ну да… ну да… — лепетал тем временем Валенглей, держась за бока, — главный швейцар министерства… Наш добрый Ленорман, у него случаются гениальные находки! Общество ждало ареста… И — раз! — он бросает ему арест… И кого?.. Моего главного швейцара!.. Огюста, нашего образцового слугу… Все правда, Ленорман, я знал за вами известную склонность к фантазии, но до такой степени, милый мой! Какой номер!
С самого начала этой сцены Огюст ни разу не пошевелился и, казалось, не мог ничего понять в том, что происходило вокруг. Его добрая физиономия честного и преданного подчиненного выражала полнейшее изумление. Он глядел на присутствующих, одного за другим, с ясно выраженным старанием уразуметь смысл их речей.
Господин Ленорман сказал несколько слов Гурелю, который тут же вышел. Потом, вернувшись к Огюсту, отчетливо произнес:
— Ничего не поделаешь. Ты попался. Лучший выход — бросить карты, если в игре не везет. Что ты делал во вторник?
— Я-то? Ничего. Я был здесь!
— Ты лжешь. У тебя был выходной. И ты был в городе.
— Действительно… Припоминаю… Приезжал из провинции друг… Мы гуляли в Булонском лесу…
— Этот друг зовется Марко. И гуляли вы по подвалам Лионского кредитного банка.
— Я-то! Вот еще! Марко?.. Не знаю такого.
— А это что? — спросил шеф Сюрте, сунув ему под нос пару золотых очков. — С этим-то ты знаком?
— Да нет же, да нет… Я не ношу очков…
— Не носишь, но можешь надеть, если надо, скажем, пройти в банк и выдать себя за господина Кессельбаха. Мы нашли в комнате, которую ты занимаешь под именем господина Жерома, в доме номер 5 на улице Колизея.
— Я — занимаю комнату? Я ночую в министерстве.
— Но одежду меняешь там, чтобы играть отводимые тебе роли в банде Люпэна.
Дайлерон провел рукой по лбу, покрывшемуся каплями пота. Побледнел, как стена. Пролепетал:
— Не понимаю… Вы говорите такие вещи… Такие вещи…
— Добавить еще, чтобы ты лучше понял? Вот, гляди. Это мы нашли среди обрывков бумаги, которую ты выкидывал в корзину у своего стола в передней, вот тут, рядом.
И господин Ленорман развернул листок с министерским грифом, на котором в разных местах было написано, так сказать, пробующим почерком: «Рудольф Кессельбах».
— Ну что ты на это скажешь, бравый слуга? Упражнения в подделке подписи господина Кессельбаха — это ли не улика?
Сильный удар кулаком в грудь заставил шефа Сюрте покачнуться. Одним прыжком Огюст оказался у окна, открыл его, перелез через подоконник и выскочил на парадный двор.
— Тысяча чертей! — закричал Валенглей. — Ах, бандит!
Он стал звонить, кинулся к окну, чтобы кого-нибудь позвать. Но господин Ленорман с величайшим спокойствием сказал:
— Не надо волноваться, господин премьер-министр.
— Но эта каналья, Огюст…
— Минуточку, прошу вас. Я предвидел такую развязку. Рассчитывал даже на нее. Лучшего признания не может и быть.
Под действием его хладнокровия Валенглей снова занял свое место. Несколько мгновений спустя в кабинет вступил Гурель, державший за ворот Дайлерона, Огюста-Максима-Филиппа, называвшегося также Жеромом, главного швейцара министерства внутренних дел.
— Веди его сюда, Гурель, — сказал господин Ленорман, как сказал бы «апорт!» доброму охотничьему псу, возвращающемуся с дичью в пасти. — Он вел себя прилично?
— Малость кусался, но я взял его крепко, — отвечал бригадир, показывая свою огромную, могучую длань.
— Молодец, Гурель. А теперь отвези-ка этого чудака в камеру, на извозчике. Я с вами не прощаюсь, мсье Жером.
Валенглей забавлялся вовсю. Со смехом потирал руки. Мысль, что его главный швейцар оказался сообщником Люпэна, представлялась ему приключением с очаровательным, ироническим привкусом.
— Браво, дорогой Ленорман, все это более чем чудесно. Но как вы, черт возьми, к этому пришли?
— О! Проще простого. Я знал, что господин Кессельбах обратился в агентство Барбаре, что Люпэн явился к нему якобы от этого агентства. Ведя в этом направлении следствие, я обнаружил, что разглашение сведений, допущенное вопреки интересам Кессельбаха и Барбаре, могло пойти на пользу разве что некоему Жерому, приятелю одного из служащих агентства. И если бы вы не приказали мне поторопиться с арестом, я добрался бы через него до Марко, а затем и до Люпэна.
— Вы еще доберетесь до них, Ленорман. И мы станем свидетелями самого волнующего на свете зрелища — борьбы между вами и Люпэном. Ставлю на вас!
На следующее утро в газетах появилось следующее послание:
«Открытое письмо г-ну Ленорману, шефу Сюрте.
Примите мои поздравления, милостивый государь и дорогой друг, по поводу ареста швейцара Жерома. Дело было достойно Вас и исполнено отлично.
Примите также выражения моего восхищения по поводу выдающейся изобретательности, с которой Вы доказали господину председателю Совета Министров, что я не являлся убийцей господина Кессельбаха. Ваше разъяснение было четким, логичным, неопровержимым и, главное, правдивым. Как Вам известно, я не убиваю. Спасибо, что Вы установили это также для данного случая. Уважение — моих современников и Ваше — совершенно для меня необходимо, милостивый государь и дорогой друг.
За это позвольте мне оказать Вам содействие в преследовании бесчеловечного убийцы и помочь Вам, в меру моих сил, в деле Кессельбах. В очень интересном деле, можете мне поверить, настолько интересном и достойном моего внимания, что я оставлю прибежище, в котором живу вот уже четыре года, среди книг и в обществе моего доброго пса Шерлока, призываю опять к себе своих старых товарищей и снова бросаюсь в гущу схватки.
Как неожиданны повороты в нашей жизни! Вот и я теперь — Ваш сотрудник. Смею заверить, дорогой друг и милостивый государь, что я искренне поздравляю с этим себя и высоко ценю такую милость судьбы.
Подпись: Арсен Люпэн.
Постскриптум. Еще несколько слов, которые, несомненно, Вы воспримите с одобрением. Поскольку не считаю достойным, чтобы джентльмен, имевший великую честь сражаться под моими знаменами, отныне гнил на сырой соломе ваших тюрем, должен честно Вас предупредить, что пять недель спустя, в пятницу, 31 мая, я верну свободу названному Жерому, возведенному мною в достоинство главного швейцара министерства внутренних дел. Не забудьте же дату: в пятницу, 31 мая — А.Л.»
Глава 3
Князь Сернин за работой
I
Первый этаж дома на углу бульвара Османна и улицы Курсель… Здесь живет князь Сернин, один из наиболее блестящих членов русской колонии в Париже, чье имя постоянно появляется в газетах в разделе «Путешествия и досуг».
Одиннадцать часов утра. Князь вошел в свой рабочий кабинет. Это мужчина в возрасте от тридцати пяти до тридцати восьми лет, в чьих каштановых волосах проглядывает уже несколько серебряных нитей. У него здоровый цвет лица, коротко подстриженные густые усы, бакенбарды, едва очерченные на свежей коже щек. На нем корректный серый редингот, суженный в талии, и жилет с оборкой из белого тика.
— Ну что ж, — сказал он себе вполголоса, день, вероятно, будет нелегким.
Он открыл дверь, выходящую в большую комнату, где его ждало несколько человек, и сказал:
— Варнье явился? Заходи же, Варнье!
Человек с внешностью заурядного горожанина, коренастый и крепкий, твердо ступающий на коротких ногах, по его зову приблизился. Князь закрыл за ним дверь кабинета.
— Ну, что у тебя, Варнье?
— Все готово к этому вечеру, патрон.
— Хорошо. Расскажи в нескольких словах.
— Так вот. После убийства ее мужа госпожа Кессельбах, по советам, содержавшимся в том проспекте, который вы ей прислали, избрала для жительства дом уединения для дам, находящийся в Гарше. Она поселилась в глубине сада, в последнем из флигелей; директриса сдает его внаем тем дамам, которые хотят жить отдельно от прочих обитателей пансиона, во флигеле Императрицы.
— Кто ее слуги?
— Барышня-компаньонка Гертруда, с которой она и прибыла через несколько часов после преступления, и сестра Гертруды, Сюзанна, которую выписала из Монте-Карло; она служит горничной. Обе сестры ей всецело преданы.
— А Эдвардс, слуга покойного?
— Она его не оставила при себе. Он возвратился к себе на родину.
— Она с кем-нибудь видится?
— Ни с кем. Проводит время лежа на диване. Выглядит обессиленной, больной. Часто плачет. Следователь беседовал с нею вчера в течение двух часов.
— Хорошо. Теперь — о девице.
— Мадемуазель Женевьева Эрнемон живет на противоположной стороне улицы, в проулке, который ведет прямо в поле, в третьем доме справа. Содержит частную, бесплатную школу для умственно отсталых детей. Ее бабка, госпожа Эрнемон, проживает там же.
— И, как ты мне уже писал, Женевьева Эрнемон и госпожа Кессельбах свели между собой знакомство?
— Да. Девушка приходила, чтобы попросить госпожу Кессельбах о денежной помощи для своей школы. Они, по-видимому, понравились друг другу, так как вот уже четыре дня ходят вместе в Вильневский парк, к которому примыкают и сад, и дом уединения.
— В какое время они там гуляют?
— С пяти до шести. Ровно в шесть девушка возвращается в школу.
— Итак, ты все организовал?
— На сегодня, на шесть часов. Все готово.
— И никого там не окажется?
— В это время в парке всегда безлюдно.
— Хорошо. Я там буду. Можешь идти.
Он вывел его через дверь в прихожей и, вернувшись в свой зал ожидания, позвал:
— Братья Дудвиль.
Вошло двое молодых людей, одетых с чрезмерной, пожалуй, изысканностью, с симпатичными лицами и живыми глазами.
— Здравствуй, Жан, здравствуй, Жак. Что нового в префектуре?
— Не бог весть что, патрон.
— Господин Ленорман вам по-прежнему доверяет?
— По-прежнему. После Гуреля мы — его ближайшие сотрудники. О чем свидетельствует хотя бы то, что после убийства Чемпэна он устроил нас в отеле Палас, приказав наблюдать за постояльцами, живущими на первом этаже. Гурель приходит к нам каждое утро, и мы докладываем ему обо всем, как и вам.
— Отлично. Очень важно, чтобы я был всегда в курсе всего, что говорят и делают в префектуре. Пока Ленорман будет считать вас своими людьми, я буду оставаться хозяином положения. А в самом отеле? Вы не обнаружили никакого следа?
— Англичанка, — сказал Жан Дудвиль, — которая жила в одном из номеров, уехала.
— Эта меня не интересует. У меня о ней — свои сведения. А майор Парбери, ее сосед?
Оба, казалось, заколебались. Наконец, один из братьев ответил:
— Сегодня утром майор Парбери велел отвезти его багаж на Северный вокзал, к поезду, который уходит в без десяти час. Отправился туда сам автомобилем. Мы были там к отходу поезда. Майор не появлялся.
— А багаж?
— Он поручил забрать его с вокзала.
— Кому?
— Как нам сказали на вокзале, какому-то посыльному.
— Так что след его утерян?
— Да.
— Наконец! — радостно воскликнул князь.
Братья посмотрели на него с удивлением.
— Ну да, — пояснил он, — вот вам и улика.
— Вы так полагаете?
— Очевидно. Убийство Чемпэна могло быть совершено только в одной из комнат этого коридора. Туда, к сообщнику, убийца господина Кессельбаха и привел секретаря, там его убил, там и переоделся, сообщник же после ухода убийцы перенес тело в кулуар. Но кто был сообщник? По тому, как исчезает майор Парбери, мы видим, что к этому делу он все-таки причастен. Звоните быстрее господину Ленорману или Гурелю. В префектуре должны поскорее об этом узнать. Тамошние господа и я действуем ныне рука об руку.
Он отдал им еще несколько распоряжений, касающихся их двойной роли полицейских инспекторов на службе у князя Сернина, и отпустил.
В большой комнате теперь оставалось только двое посетителей. Он ввел одного из них.
— Тысяча извинений, доктор, — сказал он ему. — Я весь в твоем распоряжении. Как себя чувствует Пьер Ледюк?
— Скончался.
— Ох, ох! — воскликнул Сернин. — После твоего утреннего сообщения этого можно было ожидать. И все-таки, бедняга недолго протянул…
— Он был выжат как лимон. Закупорка вены — и все было кончено.
— Так и не заговорил?
— Нет.
— А уверен ли ты, что с того дня, когда мы оба подобрали его под столом кафе в Бельвиле, уверен ли ты в том, что никто в твоей клинике не стал подозревать, что это он, тот самый Пьер Ледюк, которого всюду разыскивает полиция, таинственный Пьер Ледюк, которого хотел любой ценой найти Кессельбах?
— Никто. Он занимал отдельную комнату. Кроме того, я забинтовал его левую руку, чтобы никто не рассмотрел его мизинца. Что касается шрама на щеке, он был невидим под бородой.
— И ты сам за ним наблюдал?
— Сам, лично. Согласно вашим инструкциям, пользовался каждым моментом, когда он казался в сознании, чтобы его расспросить. Но не добился ничего, кроме неясного бормотания.
Князь в раздумье проговорил:
— Итак, он умер… Пьер Ледюк умер… Все дело Кессельбаха, очевидно, опиралось на него, и вот… И вот он ушел… Ничего не прояснив, не рассказав о своем прошлом… Надо ли мне влезать в эту авантюру, в которой я еще ничего толком не понимаю? Опасно… Можно пойти ко дну…
Он еще поразмыслил и воскликнул:
— Ах! Черт с ним! Останавливаться нельзя! Если Пьер Ледюк умер, это еще не значит, что я должен оставить игру. Наоборот! Да и случай слишком соблазнительный. Пьер Ледюк умер — да здравствует Пьер Ледюк!.. Ступай, доктор, возвращайся к себе. Вечером я тебе позвоню.
Врач вышел.
— Заходите, Филипп, — сказал Сернин последнему посетителю, низкорослому седому человечку в платье слуги при гостинице, причем в гостинице десятого разряда, не выше.
— Патрон, — приступил к делу Филипп, — должен вам напомнить, что в прошлую неделю вы приказали мне поступить на службу в отель Двух Императоров в Версале, чтобы наблюдать за неким молодым человеком.
— Ну да, помню… Его зовут Жерар Бопре. И что с ним?
— Совсем уже без средств.
— У него по-прежнему черные мысли?
— По-прежнему. Хочет покончить с собой.
— Это — всерьез?
— Весьма. Я нашел среди его бумаг небольшую карандашную записку.
— Ах! Ах! — молвил Сернин, пробежав глазами скупые строчки, — он объявляет о своей смерти… И это — на сегодняшний вечер!
— Да, патрон, веревка куплена и крюк закреплен в потолке.
Согласно вашим указаниям, я свел с ним знакомство, он рассказал мне о своем бедственном положении, и я посоветовал ему обратиться к вам. «Князь Сернин богат, — сказал я, — он щедр и, может быть, окажет вам помощь».
— Прекрасно. Так что, он придет?
— Он уже здесь.
— Откуда ты знаешь?
— Я за ним проследил. Он сел в поезд, приехал в Париж и теперь прохаживается туда и обратно по бульвару. С минуты на минуту он решится войти.
В то же самое мгновение слуга принес визитную карточку. Князь прочитал и сказал:
— Пригласите господина Жерара Бопре.
И, обращаясь к Филиппу:
— Проходи в вот эту комнату, не шевелись и слушай.
Оставшись один, князь прошептал:
— К чему колебания? Мне его посылает сама судьба.
Несколько минут спустя в комнату вошел высокий, стройный, светловолосый молодой человек с исхудалым лицом и лихорадочно блестящим взором. Он застыл у порога в нерешительности, полон неловкости, в позе нищего, желающего протянуть руку, но не осмеливающегося это сделать.
Разговор был коротким.
— Вы мсье Жерар Бопре?
— Да… Да… Это я…
— Я не имею чести…
— Так вот, мсье, так вот… Мне сказали…
— Кто сказал?
— Слуга из отеля… Который говорит, что служил у вас…
— Так что же, короче?
— Так вот…
Молодой человек умолк, смешавшись, подавленный высокомерным тоном князя. Сернин воскликнул:
— Тем не менее, мсье, может быть, необходимо…
— Так вот, мсье, мне сказали, что вы богаты и щедры… И я подумал, что вы могли бы…
Он оборвал речь, не в силах вымолвить свою унизительную просьбу.
Сернин подошел ближе.
— Господин Жерар Бопре, не вы ли выпустили в свет книгу стихов под названием «Улыбка весны»?
— Да, да, — обрадованно воскликнул юноша, — вы читали?
— Да… Прекрасные стихи, прекрасные… Только как вы собираетесь жить на то, что они приносят?
— Конечно… Но в тот или иной день…
— В тот день — или скорее иной, не так ли? А пока вы решили попросить у меня на жизнь?
— На хлеб, мсье.
Сернин положил ему руку на плечо и холодно произнес:
— Поэты не едят, мсье. Они питаются мечтами и рифмами. Так и поступайте. Это лучше, чем протягивать руку.
Молодой человек вздрогнул от оскорбления. Не сказав более ни слова, он поспешно направился к двери.
Сернин его остановил.
— Еще одно слово, мсье. Вы остались совсем без средств?
— Совершенно.
— И вам более не на что рассчитывать?
— Осталась последняя надежда… Я написал письмо одному из своих родственников, умоляя хоть что-нибудь мне прислать. Ответ должен прийти сегодня. Это — последний шанс.
— И если ответа не будет, вы решили, вероятно, сегодня же вечером…
— Да, мсье.
Сказано было просто и решительно.
Сернин рассмеялся.
— Боже мой! Как вы смешны, мой милый юноша! Какая наивная убежденность! Заходите ко мне снова в гости в будущем году, если пожелаете… Мы снова об этом вспомним… Так все у вас любопытно, интересно… И особенно — смешно… Ха, ха, ха!
И, не переставая смеяться, насмешливо кланяясь, он выставил его за порог.
— Филипп, — сказал затем князь, открыв дверь в соседнюю комнату, — ты все слышал?
— Да, мсье.
— Жерар Бопре на сегодня ждет телеграмму, обещание помощи…
— Да, это его последний патрон.
— Эту телеграмму он не должен получить. Если она прибудет, перехвати ее и разорви.
— Слушаюсь, патрон.
— В отеле ты сегодня один?
— Да, один, вместе с кухаркой, которая там не ночует. Хозяин — в отъезде.
— Хорошо, хозяевами будем мы. Итак, вечером, в одиннадцать часов. А теперь — катись.
II
Князь Сернин проследовал в свою комнату и вызвал звонком слугу.
— Шляпу, перчатки, трость. Машина на месте?
— Да, мсье.
Он оделся, вышел и сел в просторный, комфортабельный лимузин, который отвез его к Булонскому лесу, к маркизу и маркизе де Гастинь, куда он был приглашен на обед. В половине третьего распрощался с ними, отправился на авеню Клебер, захватил двух своих друзей и врача и без четверти три прибыл в парк Принцев. В три часа он сразился на саблях с итальянским майором Спинелли и в первой же схватке отрубил своему противнику ухо. В три четверти четвертого он держал уже банк в клубе на улице Камбон, откуда отбыл в двадцать минут шестого с выигрышем в сорок семь тысяч франков.
Все это было проделано неспешно, с высокомерной небрежностью, словно дьявольская стремительность, увлекавшая, казалось, его жизнь в вихре событий и действий, была законом его самых мирных дней.
— Октав, — сказал он своему шоферу, — едем в Гарш.
И в без десяти шесть вышел из машины перед старинной стеной парка Вильнев.
Искромсанное, загубленное ныне поместье Вильнев до сих пор сохраняет что-то от того блеска, который отличал его в годы, когда сюда приезжала на отдых императрица Евгения. Со старинными деревьями и прудом, с зеленой стеной листвы, воздвигнутой древними лесами Сен-Клуда, здешний пейзаж и сегодня полон очарования и грусти. Значительная часть имения досталась Пастеровскому институту. Меньший участок, отделенный от первого пространством, отведенным для публики, образует еще довольно обширное владение, в котором, вокруг большого дома уединения, разместилось четыре отдельных флигеля.
«Там она и живет», — подумал князь, разглядывая издалека крыши дома и четырех обособленных построек.
Он пересек парк и направился к пруду.
Внезапно князь остановился за купой деревьев. Он заметил двух дам, прислонившихся к перилам моста, перекинутого через пруд.
«Варнье и его люди должны уже быть поблизости. Но, черт, они здорово прячутся. Ищу, ищу… И не вижу…»
Обе дамы теперь ступали по траве лужаек, под огромными деревьями-ветеранами. Синева неба проглядывала между ветвями, раскачиваемыми мягким бризом: в воздухе витали ароматы весны и молодой листвы. На покрытых газоном склонах, спускавшихся к неподвижной воде, маргаритки, фиалки, нарциссы и ландыши, все мелкие апрельские и майские цветы росли живописными букетиками, складываясь тут и там в крохотные многоцветные созвездия. Солнце клонилось уже к закату.
Внезапно трое мужчин вышли из небольшой рощи и двинулись навстречу гулявшим женщинам.
Подошли прямо к ним.
Произошел короткий разговор. Обе дамы выказывали очевидные признаки испуга. Один из мужчин подошел к той, которая была меньше ростом, и пытался схватить золотую сумочку, которую она держала. Дамы начали кричать. Трое нападающих набросились на них.
«Пора и мне», — подумал Сернин.
Он бросился вперед. В десять секунд князь оказался у самой воды. При его приближении трое мужчин обратились в бегство.
«Бегите, сукины дети, — подумал он с усмешкой, — бегите со всех ног. Настал черед спасителя!»
Он принялся было их преследовать. Но одна из женщин взмолилась:
— О, мсье, прошу вас! Моей спутнице плохо!
Меньшая ростом дама, действительно, в обмороке упала на траву.
Он вернулся к ним и с беспокойством осведомился:
— Мадам не ранена? Неужели кто-нибудь из негодяев…
— Нет, нет… Это только испуг… Волнение… И затем, вы меня поймете… Эта дама — госпожа Кессельбах…
— Вот как! — воскликнул князь.
Он подал ей флакончик с солью, и добавил:
— Снимите аметист, который служит пробочкой… Там коробочка, а в ней — таблетки… Пусть мадам примет одну — одну только, не больше, это сильное средство…
Он смотрел, как молодая женщина оказывает помощь своей спутнице. Она была блондинкой, скромного вида, с серьезными, мягкими чертами лица; легкая улыбка оживляла их даже тогда, когда она и не думала улыбаться.
«Так вот она какая, Женевьева», — подумал он.
И повторил про себя с волнением:
«Женевьева, Женевьева…»
Госпожа Кессельбах тем временем постепенно приходила в себя. Вначале поглядела вокруг с удивлением, не в силах понять, что случилось. Потом, вспомнив недавнее происшествие, кивком головы поблагодарила своего избавителя.
С глубоким поклоном тот сказал:
— Позвольте представиться… Князь Сернин.
— Не знаю, как выразить вам мою признательность, мсье, — отозвалась госпожа Кессельбах.
— Лучший способ — не выражать ее вовсе, мадам. Благодарить надо случай, тот случай, который привел меня в это место. Смею ли предложить вам руку?
Несколько минут спустя госпожа Кессельбах позвонила в двери дома уединения и сказала князю:
— Прошу вас об еще одной услуге, мсье. Никому не говорите об этом нападении.
— Но это — единственный способ узнать…
— Чтобы все узнать, потребуется расследование, а это поднимет опять вокруг меня шумиху. Допросы, утомительные разговоры… А у меня на это больше нет сил…
Князь не стал настаивать. Откланявшись, он спросил:
— Вы позволите справиться о вашем самочувствии?
— Разумеется!
Она поцеловала Женевьеву и вошла в дом.
Тем временем начало смеркаться. Сернин не хотел, чтобы Женевьева возвращалась одна. Не успели они, однако, пройти несколько шагов по тропинке к ее дому, как из темноты вынырнул силуэт; кто-то приближался к ним бегом.
— Бабушка! — воскликнула Женевьева.
Она бросилась в объятия пожилой женщины, которая покрыла ее лицо поцелуями.
— Милая, милая моя! Что случилось? Почему ты так запоздала сегодня, ты, всегда такая аккуратная!
Женевьева представила:
— Госпожа Эрнемон, моя бабушка. Князь Сернин…
Она рассказала о происшедшем. Госпожа Эрнемон неустанно повторяла:
— Дорогая моя, как ты, должно быть, испугалась!.. Никогда не забуду вашей помощи, мсье, клянусь… Как ты, наверно, испугалась, дорогое дитя!
— Не надо, бабушка, успокойся… Я ведь не пострадала…
— Да, но пережитый страх мог тебе повредить… Никогда не знаешь, какие могут быть последствия… Ох! Это ужасно!
Они прошли вдоль зеленой изгороди, из-за которой виднелись деревья небольшого сада, цветочные клумбы, лужок и белый дом. Позади дома, под сенью кустарников, образующих нечто вроде беседки, была видна другая ограда. Старшая дама пригласила князя войти и привела его в небольшой салон, который служил также местом, где родственники встречались с питомцами школы. Женевьева попросила у князя разрешения отлучиться на несколько минут, чтобы позаботиться о своих учениках; было уже время ужина.
Князь и госпожа Эрнемон остались одни.
Пожилая, седая женщина выглядела бледной и печальной. Она была чересчур, пожалуй, плотной, с несколько тяжеловесной походкой и, несмотря на манеры и платье настоящей дамы, в ней было заметно нечто простонародное. Зато в ее глазах светилась бесконечная доброта. Сернин подошел к ней, взял в руки ее голову и расцеловал в обе щеки.
— Ну как, старушка, живешь? — спросил он.
Она посмотрела на него в ошеломлении, раскрыв рот и вытаращив глаза.
Князь снова расцеловал ее, смеясь.
Она пролепетала:
— Ты! Это ты! Ах! Иисус-Мария!.. Не может быть! Иисус-Мария!
— Милая моя Виктуар!
— Не называй меня так, — проговорила она, вздрогнув. — Виктуар умерла… Твоей старой кормилицы больше нет на свете. Я всецело принадлежу Женевьеве.
И добавила еще тише:
— Ах, Иисус-Мария!.. Я не раз читала твое имя в газетах… Значит, это правда, ты опять взялся за старое?
— Как видишь.
— Но ты ведь поклялся мне, что с этим покончено, что ты уезжаешь навсегда, что хочешь стать честным человеком…
— Я пытался. Вот уже четыре года пытаюсь. Ты ведь не скажешь, что на протяжении этих четырех лет я давал повод обо мне заговорить?
— Так что же?
— Так вот, эта жизнь мне наскучила.
Она вздохнула:
— Ты все тот же… Ничуть не изменился… Все, действительно, кончено, ты никогда не переменишься… Значит, ты замешан в деле Кессельбах!
— Еще бы! Иначе для чего постарался бы устроить в шесть часов вечера нападение на госпожу Кессельбах, получив возможность в шесть часов пять минут вырвать ее из лап моих же людей? Спасенная мною, она будет обязана меня принять. Теперь у меня доступ в самое сердце цитадели; теперь, оберегая вдову, я могу наблюдать за окрестностью. Ах, что тут скажешь; жизнь, которую я веду, не позволяет бездельничать. Я должен устраивать блистательные сюрпризы, добиваться внезапных и громогласных побед.
Она наблюдала за ним в смятении. И наконец пробормотала:
— Понимаю… Понимаю… Все — обман… Но тогда… Женевьева…
— О! Одним камнем я попаду в две цели. Это чудесное спасение я подстроил не для себя одного. Подумай только, сколько времени мне понадобилось бы, сколько усилий, может быть — бесполезных, ушло бы на то, чтобы завоевать доверие этого ребенка! Кем я был для нее? Незнакомец… Чужой… Теперь я — спаситель! Еще час — и стану другом.
Ее проняла дрожь.
— Стало быть… Женевьеву ты вовсе не спас… Стало быть, ты хочешь, чтобы мы были втянуты в твои темные дела!
И, схватив его плечи, воскликнула во внезапном приступе возмущения:
— Так вот, этого не будет! Слышишь? Ты привел однажды ко мне эту девушку и сказал: «Вот она, доверяю ее тебе… Ее родители умерли… Она остается под твоей защитой… И я сумею постоять за нее!
Госпожа Эрнемон казалась готовой ко всему.
Спокойно, не торопясь, князь Сернин снял со своих плеч обе ее руки, взял старую даму за плечи, усадил в кресло, склонился над нею и твердо сказал:
— Тихо!
Она расплакалась, и сложила перед ним с мольбою руки:
— Прошу тебя, оставь нас в покое! Мы были так счастливы! Я думала уже, что ты о нас забыл, благословляла каждый день, который миновал. Ну да… Я, конечно, тебя люблю. Но Женевьева… Видишь ли, я просто не знаю, что могла бы сделать ради этой крошки. Она заняла твое место в моем сердце.
— Это я уже заметил, — отозвался он со смехом. — Ты с удовольствием послала бы меня ко всем чертям. Ну, ну, довольно глупостей. Я не могу терять времени. Мне надо поговорить с Женевьевой.
— Тебе — поговорить с нею?!
— А что? Это преступление?
— Что ты можешь ей сказать?
— Сообщить ей тайну… Очень важную… Волнующую тайну…
Старая дама забеспокоилась всерьез.
— Это, наверно, заставит ее страдать? Ох! Я всего боюсь… Боюсь за нее…
— Она идет, — сказал он.
— Нет, не сейчас!
— Да, да, все будет в порядке… Утри глаза и будь благоразумной…
— Послушай же, — сказала она с живостью, — послушай, я не знаю, что ты хочешь ей сказать, какие секреты открыть этой девчушке, которую совсем не знаешь… Зато я знаю ее хорошо и хочу тебя заверить: Женевьева обладает мужественным, твердым характером, но чрезвычайно чувствительна. Выбирай слова с осторожностью. Ты можешь оскорбить ее в лучших чувствах… О которых даже не подозреваешь.
— Но почему же, о Господи?!
— Потому что она из иной породы, чем ты, из иного мира… Я имею в виду — в моральном смысле. Есть вещи, которые тебе теперь не понять. Между вами обоими — непреодолимое препятствие. Совесть Женевьевы выше и чище… А ты…
— А я?
— Ты нечестный человек.
III
Женевьева вошла в комнату оживленная, очаровательная.
— Мои малышки все уже в спальне, на десять минут я свободна… Скажи-ка, бабушка, в чем дело? Почему у тебя такое странное лицо? Все еще из-за этой истории?
— Нет, мадемуазель, — сказал Сернин, — мне посчастливилось успокоить вашу бабушку. Но мы разговаривали о вас, о вашем детстве, и это предмет, которого, по-моему, ваша бабушка не может касаться без волнения.
— О моем детстве? — спросила девушка, краснея. — О, бабушка!
— Не надо ее за это ругать, мадемуазель, к такому разговору нас привела чистая случайность. Так уж получилось, что мне приходилось бывать в том маленьком селении, в котором вы росли…
— В Аспремоне?
— В Аспремоне, неподалеку от Ниццы. Вы жили там в новом, белом доме…
— Да, — сказала она, — совсем белом, с синей каймой вокруг окон. Я была еще совсем юной, так как оставила Аспремон в семилетнем возрасте; но помню все, что тогда было, во всех подробностях. Сияние солнца на белом фасаде дома, тень эвкалипта в углу сада…
— В конце сада, мадемуазель, лежал участок, засаженный масличными деревьями, а под этими деревьями — стол, за которым ваша мать работала в жаркие дни…
— Правда, правда, — сказала она, до глубины души взволнованная, — а я, я играла рядом…
— И там, — добавил он, — я не раз видел вашу мать. Встретив вас теперь, я снова увидел ее образ — более счастливый, веселый.
— Бедная мама действительно была очень несчастна. Отец скончался в самый день моего рождения, и ничто не могло после ее утешить. Она часто плакала. Я сохранила с тех пор маленький платок, которым утирала ее слезы.
— Маленький платок с розовой вышивкой.
— Вот как! — сказала она, охваченная удивлением, — вы знаете…
— Я был однажды там, когда вы ее утешали… И делали это так мило, что картина навсегда осталась в моей памяти.
Она устремила на него взгляд, шедший, казалось, из глубины души, и прошептала, более — для себя самой:
— Да… Да… Мне действительно кажется… Выражение ваших глаз… И еще — звучание вашего голоса…
На мгновение она опустила ресницы, сосредоточившись, будто стараясь удержать ускользающее воспоминание. Затем продолжала:
— Вы ее знали?
— У меня были друзья близ Аспремона, у которых я ее и встречал. В последний раз она показалась мне еще более печальной… Побледневшей… И, когда я вернулся…
— Все было кончено, не так ли? — сказала Женевьева. — Да, она очень быстро покинула нас. В несколько недель… И я осталась одна с соседями, которые за нею ухаживали… Однажды утром меня унесли… В тот вечер, когда я спала, пришел кто-то, взявший меня на руки и завернувший в одеяла…
— Мужчина? — уточнил князь.
— Да, это был мужчина. Он разговаривал со мной тихо, нежно… Его голос успокаивал меня… Вынося меня на дорогу, потом — увозя в экипаже в ночи, он убаюкивал меня, рассказывал мне сказки… Все тем же голосом…
Она умолкла, глядя на него еще более глубоким взглядом, с видимым усилием стараясь удержать мимолетное впечатление, касавшееся ее на мгновения и снова пропадавшее.
— А затем? — спросил он. — Куда он вас отвез?
— Дальше мои воспоминания чересчур туманны… Словно я проспала несколько дней… Вижу себя вновь только в том городке в Вандее, где провела вторую половину своего детства, в Монтегю, у папаши и мамаши Изеро, замечательных людей, которые меня вскормили, воспитали, чьи преданность и любовь я никогда не забуду.
— Они тоже умерли, эти люди?
— Да, — сказала она. — Во время эпидемии тифа, охватившей эту местность… Но об этом мне стало известно лишь позднее… С самого начала, когда они заболели, я была оттуда унесена, как и в первый раз, при таких же обстоятельствах, ночью, кем-то, кто таким же образом завернул меня в одеяла… Правда, тогда я была уже больше, я противилась, пыталась кричать… Он был вынужден закрыть мне рот шарфом.
— Сколько вам тогда было лет?
— Четырнадцать… Это случилось четыре года тому назад.
— Значит, вы могли бы узнать этого человека?
— Нет, он еще старательнее прятал свое лицо и не сказал мне ни слова… Но я все-таки думала, что это был тот же незнакомец. В памяти остались прежняя заботливость, те же внимательные, осторожные жесты.
— А потом?
— Потом, как и в первый раз — забытье, сон… На этот раз я, кажется, еще и болела, у меня был жар… И проснулась в светлой, веселой комнате. Седовласая дама с улыбкой склонилась надо мной. Это была бабушка… А комната — та самая, которую я занимаю наверху.
Она снова выглядела счастливой, словно озаренной светом, и завершила, улыбаясь:
— Вот как госпожа Эрнемон нашла меня однажды вечером на пороге этого дома спящей, как она меня взяла к себе, как стала моей бабушкой; и как получилось, что маленькая девочка из Аспремона наслаждается радостью безмятежного существования и учит грамматике и счету маленьких девочек, непослушных или ленивых… которые, однако, любят ее всей душой.
Она говорила это весело, уверенным и в то же время легким тоном, в котором слышалась душевная уравновешенность.
Сернин слушал ее с возрастающим удивлением, не пытаясь скрыть волнения.
— И с тех пор — спросил он, вы ничего не слышали более об этом человеке?
— Ничего.
— Но были бы рады его повидать?
— Да, очень.
— Так вот, мадемуазель…
Женевьева вздрогнула.
— Вы что-то знаете… Может быть — самую правду…
Он поднялся и начал прохаживаться по комнате. Время от времени его взгляд останавливался на Женевьеве и казалось, что он уже готов дать точный ответ на поставленный только что вопрос. Решится ли он заговорить? Госпожа Эрнемон с тревогой ждала раскрытия тайны, от которой мог зависеть покой в душе молодой девушки.
Он вернулся, сел рядом с Женевьевой, несколько еще, видимо, поколебался и наконец сказал:
— Нет… нет… Так, промелькнула мысль… Воспоминание…
— Воспоминание? Какое же?
— Я ошибся. В вашем рассказе были подробности, которые, очевидно, ввели меня в заблуждение.
— Ах! — разочарованно воскликнула она. — Значит, мне показалось… Что вы знали…
Преодолев, очевидно, еще кое-какие колебания, он заявил:
— Совершенно в этом уверен.
Она промолчала, все еще ожидая ответа на поставленный вопрос, не осмеливаясь договорить, о чем догадывалась уже. Молчал и он. Тогда, не настаивая более, она склонилась к госпоже Эрнемон:
— Доброй ночи, бабушка! Мои малышки должны быть уже в постельках, но ни одна не уснет, прежде чем я ее поцелую.
И протянула руку князю:
— Еще раз спасибо…
— Вы уходите? — с живостью спросил он.
— Простите меня… Бабушка проводит вас…
Он склонился перед нею и поцеловал ей руку. Открывая дверь, она обернулась и улыбнулась.
Затем исчезла.
— Итак, — сказала пожилая дама, — ты не решился заговорить?
— Нет…
— И эта тайна…
— Позднее… Сегодня… Как ни странно… Я не смог.
— Было так трудно? Разве она не почувствовала сама, что ты и был тем неизвестным, который два раза уносил ее на новое место?.. Достаточно было слова…
— В другой раз… позднее… — сказал он, обретая опять уверенность. — Ты должна понять. Это дитя едва со мной знакомо. Я должен сперва заслужить право на ее доброе отношение, на ее любовь… Когда мне удастся обеспечить ей существование, которого она заслуживает, поистине чудесное, как в сказке, — тогда я и заговорю…
Старая дама покачала головой.
— Боюсь, что ты ошибаешься. Женевьеве вовсе не нужна сказочная жизнь… У нее весьма скромные запросы.
— У нее запросы, свойственные всем женщинам; богатство, роскошь, широкие возможности доставляют им радости, от которых не отказывалась еще ни одна.
— Женевьева не из таких. И ты лучше бы поступил, если…
— Ну что ж, посмотрим. Покамест же не мешай мне. И будь спокойна. Я совсем не намерен, как ты выражаешься, втягивать Женевьеву в мои темные дела. Она едва будет видеть меня… Только вот, надо было установить контакт… И это сделано… Прощай.
Сернин оставил школу и направился к своему лимузину.
Он чувствовал себя счастливым.
«Она очаровательна, — думал он. — И такая добрая, такая серьезная! И — глаза ее матери, те глаза, которые трогали меня до слез… Боже мой, как все это теперь далеко! Какое чудесное воспоминание, печальное, но прекрасное!»
И сказал себе громко:
— Решено: займусь я ее счастьем. И сейчас же! Нынче же вечером. С сегодняшнего же вечера у нее будет жених. Разве это не самое первое условие для счастья девушки?
IV
На шоссе он увидел свой автомобиль.
— Домой, — сказал он Октаву.
Приехав, князь потребовал, чтобы его соединили с Нейли, отдал по телефону распоряжения тому из друзей, которого называл доктором, и переоделся.
Он поужинал в клубе на улице Камбон, провел час в опере и снова сел в машину.
— В Нейли, Октав. Заедем за доктором. Который час?
— Десять тридцать.
— Тьфу ты! Гони!
Десять минут спустя автомобиль остановился в конце бульвара Инкермана, перед одиноко стоявшей виллой. По гудку шофера доктор спустился к ним. Князь спросил:
— Наш субъект готов?
— Упакован, перевязан, запечатан.
— В хорошем состоянии, надеюсь?
— В отличном. Если все пройдет, как вы сказали мне по телефону, полиция не учует ничего.
— Это ее прямой долг. Давайте наш груз!
Они перенесли в автомобиль нечто вроде удлиненного мешка, отдаленно напоминавшего человека и довольно тяжелого… Князь приказал:
— В Версаль, Октав, на улицу Вилэн, к отелю Двух Императоров.
— Отель из самых подозрительных, — заметил доктор. — Он мне знаком.
— Кому говоришь? И дело не будет легким, по крайней мере для меня… Но, черт возьми, я не отдал бы своего места за целое состояние. Кто посмеет сказать, что жизнь — штука скучная?
Отель Двух Императоров… Грязная аллея… Две ступеньки вниз, по которым входишь в кулуар, освещенный скудным светом лампочки. Сернин постучал кулаком в дверь. Появился слуга; это был Филипп, тот самый, которому он еще утром отдавал распоряжения насчет Жерара Бопре.
— Парень по-прежнему у себя?
— Да.
— Веревка?
— На ней уже завязан узел.
— А телеграмма, на которую он надеялся?
— Вот она, я ее перехватил.
Сернин схватил голубой листок и прочитал его.
— Черт возьми, — заметил он с удовлетворением, — мы поспели вовремя. Его извещают, что завтра прибудет перевод на тысячу франков. Сама судьба способствует мне. Четверть часа спустя бедняга устремится в вечность. Проводи меня, Филипп; доктор, оставайся здесь.
Слуга взял свечу. Они поднялись на четвертый этаж и на цыпочках прошли по низкому, дурно пахнущему коридору, с мансардами по обеим сторонам, ведущему к деревянной лестнице, на ступенях которой догнивали остатки того, что было когда-то ковром.
— Никто меня здесь не услышит? — спросил князь.
— Никто. Обе комнаты изолированы. Только не ошибитесь: он находится в левой.
— Хорошо. А теперь возвращайся вниз. В полночь доктор, Октав и ты должны принести наш сегодняшний груз на это место и ждать.
Деревянная лестница состояла из десяти ступенек, которые Сернин преодолел с величайшей осторожностью. Наверху — стена, в ней — две двери… Ему потребовалось пять долгих минут, чтобы открыть ту, что справа, без того, чтобы тишина была нарушена малейшим скрипом.
Во мраке комнаты мерцал слабый свет; наощупь, стараясь не наткнуться на один из стульев, он направился к его источнику. Свет шел из соседней комнаты и просачивался через застекленную дверь, прикрытую обрывком гардины. Князь отодвинул эту тряпку. Стекла оказались непрозрачными, но в трещинах и местами потертыми, так что, приложив глаз, можно было без труда разглядеть все, что происходило в соседнем помещении. Лицом к нему у стола сидел человек. Это был поэт Жерар Бопре.
Он писал при свете свечи.
Над его головой свисала веревка, привязанная к крючку, вделанному в потолок. Внизу она оканчивалась петлей.
Со стороны башенных часов в городе послышался слабый звон.
Молодой человек продолжал писать. Несколько мгновений спустя он отложил ручку, привел в порядок десять или двенадцать листков бумаги, которые успел исписать, и начал их перечитывать. Чтение, очевидно, не доставило ему удовлетворения, ибо на его лице появилось выражение недовольства. Он разорвал написанное и сжег клочки на пламени свечи. Затем лихорадочными движениями начертал на белом листке несколько слов, резко расписался и встал. Однако, увидев в десяти вершках над головой веревку с узлом, он вдруг снова сел, сотрясаемый ужасом.
Сернину были ясно видны бледное лицо, впалые щеки, к которым он прижимал сжатые кулаки. Скатилась слеза, единственная, медленно текущая слеза отчаяния. Глаза были устремлены в пустоту и словно видели уже устрашающий провал небытия.
А это было еще такое молодое лицо! Такие еще свежие щеки, не тронутые хотя бы одной морщинкой! И глаза — такие голубые, словно в них отразилась вся синева неба Востока!
Полночь… Двенадцать трагических ударов полуночи, которым столько отчаявшихся человеческих существ приурочили последние мгновения своего существования!
На двенадцатом он опять поднялся и мужественно, на сей раз — бестрепетно посмотрел на роковую петлю. Пытался даже улыбнуться — получилась жалкая гримаса приговоренного. Тогда он торопливо влез на стул и взялся одной рукой за петлю. Мгновение оставался в неподвижности; не то чтобы колеблясь или утратив мужество, — это была последняя минута, та минута, которую дарят себе перед завершающим движением.
Он еще раз окинул взором отвратительную нору, в которую загнала его жестокая судьба, грязные обои, жалкое ложе. На столе — ни одной книги, — все были проданы. Ни единой фотографии, ни даже конверта от письма. Не было более ни отца, ни матери, не было семьи… Что привязывало его к жизни? Ничто и никто.
Резким движением он сунул голову в петлю и стал натягивать веревку, пока та не затянулась на шее. Затем, опрокинув обеими ногами стул, обрушился в пустоту.
V
Десять, двадцать секунд прошло, двадцать страшных секунд, нескончаемых, как сама вечность.
Тело дернулось дважды, трижды. Ноги инстинктивно пытались найти опору. Затем наступила неподвижность.
Еще несколько секунд… Застекленная дверь открылась.
Вошел Сернин.
Нисколько не торопясь, он взял со стола листок, на котором юноша поставил свою подпись, и прочитал:
«Устав от жизни, без денег, без надежды, кончаю с собой. В моей смерти никого не винить.
30 апреля. — Жерар Бопре».
Он положил листок обратно, на виду, придвинул стул и подставил его под ноги молодого человека. Влез сам на стол и, прижимая к себе тело, приподнял его, разжал петлю и снял ее с шеи. Тело обмякло в его руках. Он опустил его на стол и, спрыгнув на пол, положил на кровать.
Все так же неспешно приоткрыл дверь в коридор.
— Все на месте? — спросил он тихо.
С близкого расстояния от подножья лестницы кто-то отозвался:
— Мы здесь. Заносить тюк?
— Давайте!
Взяв подсвечник, он им посветил.
Трое мужчин с трудом поднялись по ступенькам, неся мешок, в который было заключено чье-то тело.
— Кладите сюда, — сказал он, кивнув в сторону стола.
Перочинным ножом он перерезал веревки, стягивавшие мешок. Показалась белая простыня, которую он откинул. Из-под белой ткани показался труп. Труп Пьера Ледюка.
— Бедный Пьер Ледюк, — сказал Сернин, — ты никогда не узнаешь, сколько потерял, умерев таким молодым. Я повел бы тебя далеко, дружище. Ну что ж, обойдемся без твоих услуг… Давай, Филипп, залезай на стол! А ты, Октав, на стул. Поднимайте голову и суйте ее в петлю!
Две минуты спустя тело Пьера Ледюка покачивалось уже на веревке.
— Отлично, дело не было трудным. Все свободны. Ты, доктор, зайдешь сюда завтра утром; тебе расскажут о самоубийстве Жерара Бопре, ты слышишь, Жерара Бопре, — вот его прощальная записка. Вызовешь судебно-медицинского эксперта и комиссара и устроишь все таким образом, чтобы ни тот, ни другой не заметили, что один палец у покойника обрезан, а на щеке — шрам…
— Это не будет трудно.
— И еще постараешься, чтобы протокол был составлен немедленно и под твою диктовку.
— Тоже легко.
— Наконец, надо будет предотвратить отправку в морг и добиться незамедлительного разрешения на погребение.
— Это будет уже потруднее.
— Постарайся. Этого ты осмотрел? — он указал на молодого человека, лежавшего на койке.
— Да, — сказал врач. — Дыхание восстанавливается. Но риск был все-таки велик… Если сонная артерия…
— Кто не рискует… Как скоро он придет в себя?
— Через несколько минут.
— Хорошо. Ага! Не уходи еще, доктор. Подожди внизу. Ты еще будешь нужен.
Оставшись один, князь достал сигарету и стал спокойно курить, пуская к потолку аккуратные кольца голубого дыма.
Из задумчивости его вывел тяжелый вздох. Он подошел к койке. Молодой человек начал шевелиться, его грудь резко поднималась и опадала, как у спящего, которого преследуют кошмары. Он поднес руки к горлу, словно там у него болело, и этот жест заставил его вдруг выпрямиться, дрожащего, охваченного ужасом.
И тогда, прямо над собой, он увидел Сернина.
— Вы! — прошептал он, ничего не понимая. — Это вы!..
Он уставился на князя, как слепой, словно увидел вдруг привидение.
Затем опять потрогал свою глотку, пощупал шею, затылок… И тут издал хриплый крик, безумный ужас расширил его зрачки, поднял дыбом волосы, потряс его с ног до головы, как подхваченный вихрем листок. Князь отодвинулся, и он увидел повисшего на веревке мертвеца!
Он вскочил, попятился, прижался спиной к стене. Человек, висевший перед ним, чуть еще раскачиваясь, — это был он сам! Он сам! Чудовищный сон, неизбежно следующий после кончины?.. Галлюцинация, посещающая тех, кого больше нет на свете, и в чьем потрясенном мозгу трепещет еще угасающая жизнь?.. Его руки заколотили по воздуху; казалось, он пытался защититься от непереносимого зрелища. Затем, обессиленный, раздавленный кошмаром, опять лишился сознания.
— Просто здорово, — довольно осклабился князь. — Чувствительная, легко внушаемая натура… Полностью подавленная воля… Ну что ж, настал подходящий момент… Если за двадцать минут я с ним не справлюсь, он может от меня ускользнуть…
Он притворил дверь, соединявшую обе мансарды, поднял молодого человека на руки и отнес на койку, стоявшую в другой комнате. Смочил ему холодной водой виски и дал понюхать соли.
Обморок на сей раз не оказался долгим.
Жерар робко приподнял веки и поднял глаза к потолку. Страшного видения более не было. Но размещение мебели, положение стола и камина, другие подробности в обстановке — все сбивало его еще с толку. Оставалось еще воспоминание о случившемся, еще болела шея…
— Я видел сон, не так ли? — спросил он князя.
— Нет.
— Что же это было?
И, внезапно вспомнив:
— Ах, это правда, я хотел умереть… И даже…
Он с тревогой подался вперед:
— Но все остальное? Это было видение?
— Какое видение?
— Человек… Веревка… Это я тоже видел во сне?
— Нет, — сказал Сернин, — это тоже была действительность.
— Что вы говорите?.. Что вы говорите?.. Ох! Нет, нет, прошу вас… Разбудите меня, если я сплю… Хотя мне лучше умереть… Но я ведь умер, разве не так? Меня терзают кошмары мертвеца… Ах, я чувствую, что теряю рассудок… Прошу вас, прошу…
Сернин осторожно положил руку на шевелюру молодого человека и, склонившись к нему, сказал:
— Послушай меня… Послушай меня и пойми… Ты жив. И твоя плоть и мысль все те же. Но Жерар Бопре мертв. Ты меня понимаешь, не так ли? Того существа, того члена общества, который назывался Жераром Бопре, более не существует. Ты его вычеркнул сам из жизни, того, прежнего человека. И завтра в регистрах гражданского состояния против имени, которое ты до сих пор носил, будет внесена запись: «Скончался». И проставлена дата твоей кончины.
— Это ложь! — пролепетал молодой человек, терзаемый ужасом. — Это ложь! Ибо вот я здесь, я, Жерар Бопре!
— Ты больше не Жерар Бопре, — заявил Сернин.
И, указывая на открытую дверь:
— Жерар Бопре там, в соседней комнате. Хочешь на него взглянуть? Он болтается на том крюке, на котором ты его повесил. А на столе лежит письмо, которым ты подписал ему приговор. Все это сделано по всем правилам, все это — окончательно. Нельзя отменить необратимого, жестокого факта: Жерара Бопре больше не существует!
Юноша слушал в полном смятении. Несколько успокоившись после того, как дело приняло менее трагический оборот, он начинал понимать.
— И теперь?
— И теперь — поговорим.
— Да, да… Поговорим…
— Хочешь сигарету? — спросил князь. — Не откажешься?.. О, я вижу, ты снова обретаешь вкус к жизни. Тем лучше, мы придем к согласию и, надеюсь, скоро.
Он дал ему прикурить, закурил сам и, не мешкая, хладнокровно, несколькими четкими фразами пояснил:
— Покойный Жерар Бопре, тебе надоела жизнь. Больной, без денег, без надежд… Не хочешь ли стать богатым, здоровым, могущественным?
— Не знаю и сам…
— Это, однако, просто. Случайность привела к нашей встрече. Ты молод, хорош собой, ты поэт, ты умен — и, как доказывает твой поступок в минуту отчаяния, — предельно честен. Это качества, редко встречающиеся вместе. Я высоко их ценю… и беру на свой счет.
— Они не продаются.
— Болван! Кто говорит о купле-продаже? Свою совесть оставь себе. Это слишком драгоценное украшение, чтобы я его у тебя отнял.
— Чего же вы требуете?
— Твоей жизни!
И, указывая на истерзанную шею молодого человека, повторил:
— Твоей жизни! Той жизни, которой ты не сумел распорядиться. Которую ты изломал, погубил, изничтожил, и которую я задался целью возродить.
Он взял в руки голову Жерара и продолжал с чуть насмешливым воодушевлением:
— Ты свободен! Никаких уз! Не должен более нести груз собственного имени. Ты вычеркиваешь тот инвентарный номер, которым общество отметило тебя, как тавром, каленым железом, отпечатанном на плече невольника. Свободен! В этом мире рабов, где каждый носит свой ярлык, ты можешь либо приходить и уходить неопознанным и невидимым, как владелец волшебной шапки, либо выбирать себе по вкусу ярлык — какой тебе больше понравится. Способен ли ты понять, какое редкое сокровище будешь представлять собой для натуры художника, для себя самого, если пожелаешь? Целая жизнь — девственная, совсем новая! Твоя жизнь станет воском, из которого ты сможешь лепить, что захочешь, по воле твоего воображения или по советам рассудка!
Юноша устало махнул рукой.
— Э! Что мне делать с таким сокровищем? Что сделал я с ним до сих пор? Ничего!
— Вручи его мне.
— А вы — что можете с ним сделать вы?
— Все. Если ты не такой художник, им стану я. Восторженный, неистощимый, неукротимый. Если нет в тебе священного огня, он пылает во мне! Где ты терпел неудачи — там успех ждет меня! Вручи ее мне, твою жизнь!
— Обещания, слова! — воскликнул молодой человек, на лице которого появились первые признаки оживления. — Пустые мечтания! Уж мне-то хорошо известно, чего я стою!.. Я знаю, какой я трус, как легко поддаюсь разочарованию, как бесплодны всегда любые мои усилия, как я ничтожен. Для новой жизни мне надобна воля, которой у меня нет.
— У меня есть моя…
— У меня нет друзей…
— Теперь будут!
— Никаких возможностей…
— Ты получишь их от меня. Да какие! Должен будешь только черпать из них. Черпать, как из волшебного сундука.
— Но кто вы такой, в конце концов?! — воскликнул юноша в полной растерянности.
— Для всех остальных — князь Сернин… Для тебя — какая разница? Я больше чем князь, больше, чем король, больше, чем император.
— Кто же вы?.. Кто же вы такой?.. — бормотал Бопре.
— Хозяин… Тот, кто желает и может… Кто действует… Моей воле нет пределов, моей власти — границ… Я богаче, чем самый богатый из людей, ибо его богатство принадлежит мне. Я могущественнее самых могучих, ибо их сила — в моем распоряжении…
Он снова взял в руки его голову и, проникая в душу взглядом, сказал:
— Стань богатым… Стань сильным… Ибо я предлагаю тебе само счастье… И сладость жизни… И покой для души поэта. И также славу… Согласен?
— Да… Да… — прошептал Жерар, покоренный, ослепленный. — Что я должен делать?
— Ничего.
— Но все-таки…
— Ничего, говорю тебе. Все здание моих планов покоится на тебе, но ты не участник игры. Тебе не отводится активной роли. На это время ты лишь статист… Даже меньше! Пешка, переставлять которую буду я.
— Но чем же мне заняться?
— Ничем… Пиши стихи. Живи, как захочется. У тебя будут деньги. Ты будешь радоваться жизни. Повторяю, в моей затее для тебя нет деятельной роли.
— И кем я буду?
Сернин вытянул руку в сторону соседней комнаты:
— Ты займешь место того. Ты и есть теперь тот, другой.
Жерар вздрогнул от возмущения.
— О нет! Ведь тот — мертвец!.. И затем… Затем… это преступление… Нет, я хочу, чтобы эта новая жизнь была создана для меня, задумана для меня… Никому не известное имя!..
— Нет, только тем!.. — властно, с неумолимой энергией воскликнул Сернин. — И никем другим! Именно им, ибо его судьба прекрасна, ибо имя его овеяно славой и он завещает тебе десятивековое наследие благородства и родовой гордости.
— Это преступление, — без сил простонал Жерар.
— Ты станешь им! — молвил Сернин с безмерной силой. — Только им! Иначе будешь вновь Жераром Бопре, а над Бопре мне принадлежит право жизни и смерти. Выбирай.
Он вынул револьвер и наставил его на юношу.
— Выбирай! — повторил он с неумолимым выражением на лице.
Жерар, охваченный страхом, с рыданиями повалился на кровать.
— Я хочу жить!
— И твое желание твердо? Безвозвратно?
— Да, тысячу раз да! После того, ужасного, что я сделал, смерть кажется мне слишком страшной… Все… Все на свете, лишь бы не смерть… Все!.. Страдание… Болезнь… Голод… Любые пытки, любые унижения!.. Даже преступление, если придется… Только не смерть!
Он дрожал как в лихорадке.
Князь удвоил свой напор, говоря с жаром, сжимая его в тисках своих уговоров, как добычу.
— Я не потребую от тебя ничего невозможного, ничего плохого… Буду в ответе за все, что бы ни случилось… Ни единого преступления… Самое большое — немного боли, несколько капель твоей крови придется пролить… Но чего это стоит перед ужасом смерти?!
— Страданий я не боюсь.
— Тогда пусть это случится сразу! — крикнул Сернин. — Сейчас же! Десять секунд страдания, и все! Десять секунд, и жизнь того, другого — твоя!
Он схватил его обеими руками, усадил на стул, пригвоздил его левую руку растопыренной ладонью к столу. Мгновенно выхватив из кармана нож, приставил лезвие к мизинцу, к середине второго сустава, и приказал:
— Ударь вот здесь! Сделай это сам! Стукни кулаком, и кончено!
Он завладел его правой рукой и пытался ударить ею по ножу, как молотком.
Жерар забился в конвульсиях от нового ужаса. Он начал понимать.
— Ни за что! — лепетал он. — Ни за что!
— Бей! Один удар, и все в порядке; ты станешь во всем подобным этому человеку, никто тебя не сможет узнать.
— Его имя…
— Сначала бей!
— Ни за что! О, какая мука!.. Умоляю… Потом…
— Сейчас… Я требую… Надо…
— Нет… Нет!.. Не хочу!..
— Нанеси же удар, дурак. Это — достаток, слава, любовь!
Жерар поднял кулак во внезапном порыве.
— Любовь!.. О да!.. — воскликнул он. — Ради нее…
— Ты полюбишь и будешь любим, — произнес Сернин. — Невеста тебя ждет. Это я ее для тебя выбрал. Самую чистую, прекраснее всех красавиц. Но ее еще нужно завоевать. Бей же!
Рука напряглась для рокового движения, но инстинкт взял свое. Нечеловеческая сила заставила молодого человека извернуться. Он вырвался вдруг из рук Сернина и, как безумный, ринулся ко второй комнате. Вопль ужаса вырвался, однако, из его глотки при виде того, что в ней оставалось. И он вернулся, упав перед Серниным на колени, у самого стола.
— Бей! — велел тот, распластав снова его пятерню и приложив лезвие ножа.
Все произошло механически. Движением автомата, с блуждающими глазами и мертвенно-бледным лицом, молодой человек поднял кулак и ударил.
— Ах! — вскрикнул он и застонал от боли.
Кусочек плоти отлетел прочь. Потекла кровь. Он лишился чувств в третий раз.
Сернин поглядел несколько мгновений и произнес:
— Бедный малыш! Не тужи, я возмещу это тебе, причем — стократно. Плачу я всегда по-королевски.
Он спустился вниз и застал там доктора.
— Кончено, — сказал ему князь. — Твоя очередь… И сделай ему на правой щеке надрез, такой же, какой был у Пьера Ледюка. Оба шрама должны соответствовать тем, которыми был отмечен покойник. Я вернусь за ним через час.
— Куда вы теперь?
— Надо проветриться. Сердце больше не выдерживает.
Оказавшись снаружи, он глубоко вздохнул и снова закурил.
— Удачный был день, — прошептал он. — Несколько перегруженный, правда, немного утомительный, зато успешный, действительно успешный. Я стал другом Долорес Кессельбах. Другом Женевьевы. Изготовил себе нового Пьера Ледюка, весьма презентабельного и всецело преданного. Наконец, нашел для Женевьевы мужа, какие на улице не валяются. Остается лишь пожинать плоды моих усилий. Господин Ленорман, теперь ваш черед. Я, со своей стороны, готов.
И добавил, думая о несчастном, которого искалечил и ослепил обещаниями:
— Но… Одно только «но»… Я совсем не знаю, кем был Пьер Ледюк, чье место я так благородно передал в наследство этому милому юноше. Досадно, досадно… Ибо ничто не доказывает пока, что Пьер Ледюк не был отпрыском колбасника!
Глава 4
Господин Ленорман за работой
I
31 мая все газеты напоминали, что в открытом письме, направленном господину Ленорману, Арсен Люпэн назначил на эту дату побег швейцара Жерома. Одна из них довольно красочно подвела итог положения на этот день.
«Ужасающая бойня в отеле Палас произошла еще 17 апреля. Что удалось раскрыть с тех пор? Ничего.
Существовали три вещественные улики: футляр курительного прибора, буквы «Л» и «М», сверток с одеждой, забытый в конторе гостиницы. Как ими воспользовались? Никак.
Под подозрение, по-видимому, попал один из путешественников, которые жили на первом этаже; его исчезновение позволяет предположить известную причастность к происшедшему. Нашли ли его снова? Установили ли его личность? Нет.
Тайна драмы, таким образом, остается такой же, как и в первый день. Потемки все так же непроницаемы.
Чтобы довершить картину, нам сообщают, что префект полиции и его подчиненный, господин Ленорман, не могут прийти к согласию, и что последний, не имея достаточной поддержки со стороны председателя Совета Министров, вручил им свою отставку вот уже несколько дней назад. Дело Кессельбаха далее поведет заместитель шефа Сюрте, господин Вебер, личный враг господина Ленормана.
Другими словами, наступила анархия. Полный хаос.
По другую же сторону — Арсен Люпэн. То есть четкий метод, энергия, последовательность.
Наши выводы? Короче короткого. Люпэн похитит своего сообщника сегодня, 31 мая, как он уже предупреждал».
Такое заключение, содержавшееся также во всех других газетах, соответствовало тому, к которому пришло общественное мнение в целом. И можно быть уверенным, что угроза была услышана наверху, так как префект полиции и господин Вебер приняли самые строгие меры как во Дворце правосудия, так и в тюрьме Санте, где содержался арестованный.
Стыдясь позора, в этот день не решились отменить ежедневных допросов господина Формери. Однако от тюрьмы до бульвара Дворца целая армия защитников закона охраняла улицы, по которым арестантов доставляли к следователю.
К великому, всеобщему удивлению, день 31 мая прошел, объявленный же побег не состоялся.
Правда, кое-что, показавшееся началом операции, все-таки произошло. Это — необъяснимая поломка колес у тюремной машины и скопление трамваев, омнибусов и грузовых машин на ее пути. Но попытка — если она и была — не получила должного продолжения.
Следовательно, Люпэн потерпел неудачу. Публика была этим почти разочарована. Зато полиция бурно торжествовала.
Но вот, на следующее утро, невероятный слух разлетелся по Дворцу правосудия и оттуда — по редакционным кабинетам: швейцар Жером испарился.
Как могло такое случиться?
Хотя специальные выпуски газет и подтвердили эту новость, многие отказывались ей верить. Но в шесть часов пополудни заметка, напечатанная в «Вечерней депеше», устранила все сомнения.
«Мы получили, — оповещала всех газета, — следующее послание от Арсена Люпэна. Специальная марка, наклеенная на конверт, в соответствии с последним заявлением Люпэна прессе, удостоверяет подлинность этого документа, дословно приводимого ниже.
«Господин Директор!
Соблаговолите передать публике мои извинения за то, что я не сдержал данного ей слова вчера. В последнюю минуту я вспомнил, что день 31 мая приходится на пятницу! Мог ли я вернуть свободу моему другу в пятницу? Я не был вправе взять на себя такую ответственность.
Прошу также прощения за то, что не привожу здесь, с моей обычной откровенностью, объяснения по поводу того, как произошло это небольшое событие. Мой способ был отмечен такой оригинальностью и простотой, что я опасался, открывая его тайну, вооружить им всех правонарушителей. Сколько удивления предвижу на тот день, когда я смогу заговорить! И это все? — скажут люди. Не более того; но ведь надо было подумать!
Прошу, господин Директор, принять…
Подпись: Арсен Люпэн».
Час спустя господину Ленорману позвонили по телефону: Валенглей, председатель Совета Министров, ожидал его в министерстве внутренних дел.
— Как отлично выглядите вы, дорогой Ленорман! А я считал, что вы больны, и не смел вас тревожить!
— Я вовсе не болен, господин премьер-министр.
— Значит, вы просто дулись на нас! Опять ваш несносный характер!
— Насчет плохого характера возражать не стану. Но чтобы я дулся — этого нет.
— Но вы отсиживаетесь дома! И Люпэн пользуется этим, вызволяя своих приятелей!
— Разве я мог ему помешать?
— Ну вот еще! Ведь хитрость, использованная Люпэном, была весьма неуклюжей. Как обычно, он объявил дату побега, все ему поверили, побег не состоялся, зато назавтра, когда никто о нем уже не думал, фьюить, птичка улетела!
— Господин премьер-министр, — серьезным тоном заявил шеф Сюрте, — Люпэн располагает такими средствами, что мы просто не в силах помешать тому, что он решил делать. Побег был совершен наверняка, можно сказать — с математическим расчетом. Я предпочел отойти в сторону… и доставить другим удовольствие попасть в смешное положение.
Валенглей злорадно усмехнулся:
— Разумеется, господин префект полиции, а с ним — господин Вебер в эти минуты не должны испытывать особой радости… Но, в конце концов, вы можете мне что-либо объяснить, Ленорман?
— Известно лишь то, господин премьер-министр, что побег состоялся во Дворце правосудия. Задержанного привезли в тюремной машине и провели в кабинет господина Формери, однако… из Дворца правосудия он не выходил. Тем не менее, никто не знает, что с ним стало.
— Ошеломляюще!
— Совершенно верно.
— И ничего обнаружить не удалось?
— Вовсе нет. Внутренний коридор, который тянется мимо кабинетов следователей, был загроможден необычно густой в этом месте толпой арестованных, стражников, адвокатов, швейцаров; впоследствии обнаружилось, что все эти люди получили поддельные вызовы для явки во Дворец на один и тот же час. С другой стороны, ни один из следователей, которые якобы их вызывали, не явился в тот день в свой кабинет, так как все они получили фальшивые приглашения в местные суды, по которым разъехались во все концы Парижа… и его окрестностей.
— И это все?
— Нет. Были замечены двое муниципальных полицейских и с ними — один задержанный, пересекавшие двор. На улице их ждал извозчик, в чью пролетку они и сели втроем.
— Каковы же ваши предположения, Ленорман? Ваше мнение?
— Моя версия, господин премьер-министр, такова, что оба муниципальных стражника были сообщниками, которые, воспользовавшись неразберихой, царившей в коридоре, подменили настоящих конвоиров. Этот побег, по-моему, мог окончиться успешно только благодаря таким особым обстоятельствам, такому странному сочетанию фактов, что следует признать несомненным наличие самого предосудительного сообщничества. Во Дворце правосудия, впрочем, у Люпэна есть связи, которые путают все наши карты. Они есть у него и в полиции, и в моем собственном окружении. Это могущественная организация, настоящая Сюрте, в тысячу раз более умелая, дерзкая и многогранная, чем та, которой руковожу я.
— И вы с этим миритесь, Ленорман!
— Нет!
— Как же объяснить вашу инертность с начала этого дела? Что вы сделали против Люпэна?
— Я подготовился к борьбе.
— Ах! Прекрасно. И пока вы готовились, он действовал.
— Я тоже.
— Вы что-нибудь узнали?
— Многое.
— Что именно? Говорите!
Господин Ленорман, опираясь на трость, в раздумье прошелся по просторному кабинету. Потом сел перед Валенглеем, кончиками пальцев потер полы своего оливкового редингота, закрепил на носу очки в серебряной оправе и отчетливо произнес:
— Господин премьер-министр, у меня на руках — три козыря. Я знаю, во-первых, под каким именем теперь скрывается Арсен Люпэн; под ним он жил на Бульваре Османна, каждый день принимая своих людей, восстанавливая свою банду и управляя ею.
— Но тогда, черт побери, почему вы его не арестуете?
— Эти сведения я получил с опозданием. С тех пор князь… назовем его князем Трех Звезд… улетучился. Он теперь за границей, куда поехал по другим делам.
— А если он не вернется?
— Положение, которое он теперь занимает, его участие в деле Кессельбаха требуют, чтобы он появился опять и под тем же именем.
— Тем не менее…
— Господин премьер-министр, теперь — о моем втором козыре. Я обнаружил в конце концов Пьера Ледюка.
— Вот это новость!
— То есть скорее — Арсен Люпэн его обнаружил, и сам Люпэн, прежде чем исчезнуть, устроил его в небольшой вилле в окрестностях Парижа.
— Тьфу ты! Как же вы об этом узнали?
— О, без особого труда. Люпэн приставил к Пьеру Ледюку в качестве надзирателей и защитников двоих из своих сообщников. А эти сообщники являются моими агентами, используемыми мною в великой тайне. При подходящем случае они его мне выдадут.
— Браво! Браво! Так что…
— Так что, поскольку Пьер Ледюк, можно сказать, является тем центральным пунктом, вокруг которого разворачиваются все усилия людей, пытающихся разгадать пресловутую тайну Кессельбаха… С помощью Пьера Ледюка рано или поздно я заполучу: во-первых, того, кто совершил тройное убийство, ибо этот негодяй решил заменить господина Кессельбаха в осуществлении грандиозного проекта, до сих пор не разгаданного; а господину Кессельбаху для выполнения этого проекта требовался Пьер Ледюк. Во-вторых, я смогу схватить Арсена Люпэна, поскольку Арсен Люпэн преследует ту же цель.
— А третий козырь, Ленорман?
— Господин премьер-министр, вчера на имя покойного Кессельбаха пришло письмо, которое я перехватил.
— Перехватили? Вы действуете правильно!..
— …Которое вскрыл и которое оставил у себя. Вот оно. Послано два месяца тому назад из Кейптауна. И в нем — следующие строки:
«Мой добрый Рудольф, 1 июня буду в Париже. Все в том же бедственном положении, как тогда, когда Вы мне помогли. Возлагаю, однако, большие надежды на дело Пьера Ледюка, о котором я Вам говорил. Какая удивительная история, не правда ли? Удалось ли Вам его разыскать? Как далеко мы продвинулись? Хотелось бы побыстрее узнать.
Подпись: Преданный Вам Штейнвег».
— А первое июня — сегодня. Я приказал одному из моих инспекторов найти этого Штейнвега. В успехе не сомневаюсь.
— Не сомневаюсь и я, — воскликнул Валенглей, вставая, — и приношу свои извинения Вам, дорогой Ленорман, а с ними — чистосердечное признание: я был готов уже от вас отступиться… Причем — окончательно… Назавтра я ожидал префекта полиции и господина Вебера.
— Мне и это известно, господин премьер-министр.
— Не может быть!
— Иначе зачем бы я себя потревожил? Сегодня вам был представлен мой план сражения. С одной стороны, я устраиваю ловушки, в которые должен попасться убийца; Пьер Ледюк или Штейнвег меня к нему приведут. С другой, я обкладываю со всех сторон Люпэна. Трое из его сообщников — на моем содержании, а он считает их самыми преданными из своих людей. Кроме всего, он работает на меня, так как, подобно мне, охотится за тем, кто совершил тройное убийство. Но если он думает, что обходит меня, на самом деле это я его обхожу. Следовательно, я добьюсь успеха. Но только при одном условии.
— Каком?
— При том, что локти у меня будут свободными и я смогу действовать согласно требованиям момента, не заботясь о мнении и настроениях общественности, которая проявляет нетерпение, и моих начальников, которые против меня интригуют.
— Договорились.
— В таком случае, господин премьер-министр, в ближайшие несколько дней я буду победителем… или мертвым.
II
Сэн-Клуд. Маленькая вилла, построенная на одной из самых высоких точек плато, близ редко используемой дороги. Одиннадцать часов вечера. Господин Ленорман оставляет машину в Сэн-Клуде и осторожно приближается к дому.
Навстречу ему выдвигается чья-то тень.
— Это ты, Гурель?
— Да, шеф.
— Ты предупредил братьев Дудвиль о моем прибытии?
— Да, ваша комната готова, можете лечь и поспать… Если только похитить Пьера Ледюка не попытаются этой ночью, что не удивило бы меня, учитывая поведение личности, которую заметили Дудвили.
Они пересекли сад, тихонько вошли в дом и поднялись на второй этаж. Оба брата, Жан и Жак Дудвиль, были уже там.
— Какие новости от князя Сернина? — спросил Ленорман.
— Никаких, шеф.
— А Пьер Ледюк?
— Он отлеживается целыми днями в своей комнате на первом этаже или гуляет в саду. Никогда не поднимается к нам.
— Ему лучше?
— Намного. Отдых преображает его на глазах.
— Он по-прежнему предан Люпэну?
— Точнее — князю Сернину, так как и не подозревает, что оба — одно лицо. Так я, по крайней мере, предполагаю, с ним никогда ничего нельзя знать наверняка. Он никогда не разговаривает. Очень странный юнец! Есть только одно существо, способное его оживить, вызвать на беседу и даже рассмешить. Это девушка из Гарша, которой князь Сернин его представил, Женевьева Эрнемон. Она приходила уже три раза… Была здесь даже сегодня…
И добавил в шутку:
— Видно, здесь не обойдется без флирта… Как между его сиятельством князем Серниным и госпожой Кессельбах… Кажется, ему строят глазки… Чертов Люпэн!
Господин Ленорман не ответил. Все, однако, понимали, что эти подробности, которым он, казалось, не придавал значения, запечатлелись в его памяти до того времени, когда пригодятся ему для того, чтобы делать выводы и принимать решения. Он закурил сигару, подержал ее в зубах, не дымя, дал ей погаснуть, зажег опять и уронил.
Задал еще два или три вопроса: затем, не раздеваясь, бросился на койку.
— Чуть что — разбудите меня… До тех пор — сплю. А пока — все по местам.
Остальные вышли. Прошел час, два часа…
Внезапно господин Ленорман почувствовал, что кто-то его трогает рукой. Это был Гурель, который прошептал:
— Вставайте, шеф. Открыли калитку.
— Сколько их?
— Я заметил одного… Как раз выходила луна… Он присел на корточки за кустарником…
— А братья Дудвиль?
— Я послал их в обход. Они отрежут ему отступление.
Гурель взял господина Ленормана за руку и повел его вниз, в неосвещенные помещения первого этажа.
— Не двигайтесь, шеф: мы в туалетной комнате Пьера Ледюка. Открываю дверь в альков, где он спит… Не бойтесь разбудить — он принял перед сном, как всегда, веронал… Идите сюда… Здесь удобно прятаться; перед нами — гардины его кровати… Отсюда видно окно и часть комнаты, от постели до окна.
Окно было открыто нараспашку, и сквозь него проникал смутный свет, усиливавшийся временами, когда луна проглядывала из-за вуалей облаков. Они не отрывали глаз от пустого прямоугольника оконного проема, уверенные, что именно оттуда надо ждать опасности.
Чуть слышный звук… Словно что-то скрипнуло…
— Он влезает по проволочной сетке… — прошептал Гурель.
— Там высоко?
— Два метра… Два с половиной…
Скрипящие звуки стали отчетливее.
— Ступай, Гурель, — тихо приказал господин Ленорман, — проберись к Дудвилям и приведи их к подножью стены. Задержите любого, кто отсюда спустится.
Гурель растворился в темноте.
Почти в ту же минуту над подоконником показалась чья-то голова, затем через него перелезла темная фигура. Господин Ленорман разглядел стройного человека ниже среднего роста, одетого во все темное, с непокрытой головой. Неизвестный повернулся назад и выглянул из окна, словно для того, чтобы убедиться, что оттуда не грозит никакая опасность. Затем нагнулся и растянулся на паркете. Несколько минут он казался неподвижным. Но вскоре господин Ленорман заметил, что темная масса на полу приближается. Наконец она добралась до кровати. Ленорману было слышно дыхание незнакомца; казалось, он даже угадывал во тьме его глаза.
Пьер Ледюк глубоко вздохнул и повернулся.
И снова — тишина.
Незнакомец скользил вдоль кровати неуловимыми движениями. Теперь Ленорман отчетливо слышал его дыхание, сливавшееся с ровным дыханием спящего; казалось даже — до него доносится биение его сердца.
И вдруг вспыхнул свет… Незнакомец нажал на кнопку электрического фонарика, направив его луч прямо в лицо Пьера Ледюка. Сам он оставался при этом в темноте, господин Ленорман не видел его лица. Увидел только предмет, блеснувший в пучке света, и вздрогнул.
Это было лезвие ножа, и этот нож, изящный и тонкий, показался ему таким же, каким был тот, который нашли возле трупа Чемпэна, секретаря господина Кессельбаха. Он изо всех сил сдержался, чтобы не броситься на ночного пришельца. Но раньше следовало узнать, для чего он пришел…
Рука поднялась. Ударит ли? Господин Ленорман прикинул расстояние, чтобы перехватить удар. Но нет, незнакомец не собирался убивать, движение было подсказано осторожностью. Если Пьер Ледюк зашевелился бы, если бы попытался позвать на помощь, эта рука неминуемо нанесла бы удар. Человек наклонился к спящему, словно что-то рассматривая.
«Правую щеку… — подумал господин Ленорман, — шрам на правой щеке… Хочет убедиться, действительно ли это Пьер Ледюк».
Человек немного повернулся, теперь были видны только его плечи. Но платье, плащ были так близко, что касались занавески, за которой прятался господин Ленорман.
«Любое движение с его стороны, любое выражение тревоги — и надо его брать», — подумал шеф Сюрте.
Но тот почти не двигался, поглощенный осмотром.
Наконец, переложив нож в ту руку, в которой был фонарь, он приподнял покрывало, вначале — чуть-чуть, затем — еще больше, таким образом, чтобы левая рука спящего оказалась раскрытой и стала видна ладонь. Луч света уперся в эту руку. Четыре пальца ничем не привлекали внимания. Пятый, мизинец, был обрезан на середине второго сустава.
Пьер Ледюк снова пошевелился во сне; свет фонарика тут же погас, и незнакомец на несколько мгновений застыл у ложа, выпрямившись, в полной неподвижности. Решится ли он ударить? Господин Ленорман сгорал от тревоги: он был способен легко предотвратить преступление, но вмешаться мог только в самую последнюю секунду. Долгое, невыносимо долгое безмолвие… Внезапно у него возникло впечатление, впрочем — неверное, будто рука опять поднялась. Он невольно пришел в движение, протянув руку над спящим, защищая его. И тут наткнулся на незнакомца.
Раздался глухой вскрик. Субъект нанес удар, попавший в пустоту, стал отбиваться наудачу, затем кинулся к окну. Но господин Ленорман набросился на него, обеими руками охватив его плечи. И тут же почувствовал, что тот, будучи слабее, уступает в борьбе, пытается избежать ее и выскользнуть из его объятий. Напрягая все силы, он пригвоздил его к себе, согнул вдвое и растянул на паркете.
— Ты попался! — прошептал он, торжествуя. — Попался!
Он испытывал странное опьянение, скрутив опасного преступника, чудовище, недостойное человеческого имени. Был исполнен трепета полнокровной жизни, чувствуя, как их существа сливаются, их дыхание смешивается в единоборстве.
— Кто ты? — спросил он. — Кто ты такой? Придется сказать…
Он сжимал тело противника с растущей силой, ощущая, как тот слабеет в его руках, обмякает. Сжал сильнее, еще сильнее…
И внезапно вздрогнул всем телом. Он почувствовал пока еще слабый укол в горло… Ленорман в бешенстве еще сильнее прижал противника; однако усилилась боль. Видимо, тот сумел извернуться, просунуть руку к груди и наставить кинжал. Рука незнакомца, конечно, была по-прежнему прижата к туловищу, но, по мере того как господин Ленорман усиливал свой нажим, острие кинжала все глубже проникало в его тело. Он отклонил немного голову, чтобы избежать клинка; острие повторило его движение, ранка стала больше.
Он замер, вспомнив вдруг о прежних трех убийствах, обо всем ужасном, пугающем, роковом, что воплотилось теперь в стальном узком жале, впивающемся в его кожу, пронизывающем ее все больше, неуклонно и беспощадно… И тут, отпустив внезапно своего врага, отскочил назад. Но снова, не давая передышки, бросился на него.
Однако было поздно. Человек вскочил уже на подоконник и соскользнул с него наружу.
— Внимание! Гурель! — крикнул он, зная, что инспектор был на месте, готовый перехватить беглеца.
Он выглянул из окна, нагнулся.
Шорох потревоженной гальки… Мелькание неясной тени среди деревьев… Стук калитки… И более — ни звука… Никакого вмешательства.
Не беспокоясь более о Пьере Ледюке, он громко позвал:
— Гурель!.. Дудвиль!..
Ответа не последовало. Только глубокая тишина ночных полей…
Он невольно опять подумал о тройном убийстве, о стальном стилете. Но нет, это было невозможно, преступник просто не успел бы нанести свои удары; это, впрочем, ему и не требовалось, дорога была свободна. В свою очередь, он выпрыгнул из окна и, включив свой фонарик, увидел Гуреля, лежавшего на земле.
— Тысяча чертей! — выругался он. — Если он мертв, они за это дорого заплатят!
Но Гурель был только оглушен. Несколько минут спустя, придя в чувство, он проворчал:
— Удар кулаком… Простой удар прямо в грудь… Но какой это был силач!
— Значит, их было двое?
— Да, тот низенький, который поднялся в комнату, и второй, который застиг меня врасплох, когда я следил за окном.
— А Дудвили?
— Я их не видел.
Одного из братьев, Жака, они нашли возле ограды, в крови, с разбитой челюстью. Другой, чуть подальше, тяжело дышал, получив сокрушительный удар в грудь.
— Что такое? Что с вами произошло? — спросил господин Ленорман.
Жак рассказал, что он с братом столкнулись с каким-то субъектом, который вывел их из строя прежде чем они приготовились к защите.
— Он был один?
— Нет, когда он снова пробежал мимо, с ним был сообщник, такой низенький.
— И ты узнал того, кто тебя ударил?
— Судя по сложению, мне подумалось — это был англичанин из отеля Палас, тот, который выехал из гостиницы и чьи следы мы потеряли.
— Майор?
— Да, майор Парбери.
III
После недолгого размышления господин Ленорман молвил:
— Сомневаться более нельзя. В деле Кессельбаха было двое — убийца и его сообщник, майор.
— Так думает и князь Сернин, — прошептал Жак Дудвиль.
— И в этот вечер, — продолжал шеф Сюрте, — были опять они… Все те же двое.
И добавил:
— Тем лучше. Задержать двоих преступников в сто раз легче, чем одного.
Господин Ленорман оказал своим людям помощь, уложил их в постель и стал искать, не потеряли ли нападающие какого-либо предмета, не оставили ли следов. Не найдя ничего, он тоже отправился на покой.
Утром, поскольку Гурель и Дудвили оправились уже от вчерашнего, он приказал братьям обыскать окрестности и вместе с Гурелем отправился в Париж, чтобы разобраться с текущими делами и отдать приказания.
Пообедал он в своем бюро. В два часа узнал приятную новость. Один из его лучших инспекторов, Дьези, при выходе из поезда, прибывшего из Марселя, нашел немца Штейнвега, автора письма к Рудольфу Кессельбаху.
— Дьези здесь? — спросил он.
— Да, шеф, — ответил Гурель, — он здесь, вместе с немцем.
— Пусть заходят.
В ту же минуту зазвонил телефон. Из Гарша его вызвал Жан Дудвиль. Их соединили немедленно.
— Есть новости, Жан?
— Да, шеф. Майор Парбери…
— Что с ним?
— Мы его обнаружили. Он сделался испанцем — сильно загорел. Мы видели, как он входил в частную школу в Гарше. Его приняла тамошняя барышня… Вы ее знаете, та девушка, которая знакома с князем Серниным, Женевьева Эрнемон.
— Гром и молния!
Господин Ленорман бросил трубку, схватил шляпу и выбежал в коридор; встретив там Дьези и немца, на бегу крикнул им:
— В шесть часов встречаемся здесь!
Он ринулся вниз по лестнице в сопровождении Гуреля и трех инспекторов, захваченных им по дороге, и сходу уселся в авто.
— В Гарш, да побыстрее! Десять франков чаевых!
Не доезжая Вильневского парка, на повороте дороги, которая вела к школе, он приказал остановиться. Ожидавший его в этом месте Жан Дудвиль воскликнул:
— Сукин сын удрал в ту сторону по проулку десять минут назад!
— Один?
— Нет, с девчонкой!
Господин Ленорман схватил его за ворот:
— Скотина! Ты позволил ему уехать! Надо же!..
— Брат едет по его следам.
— Большое дело! Он улизнет от него, от твоего брата! Разве вы на что-нибудь способны?
Он сел сам за руль и решительно помчался по проулку, не обращая никакого внимания на ухабы и колдобины. Вскоре они выехали на поперечную дорогу, которая привела их к скрещению пяти дорог. Господин Ленорман без колебаний выбрал левую, в сторону Сен-Кюкюфа. На вершине холма, спускавшегося к пруду, они обогнали второго из братьев Дудвиль, который успел крикнуть:
— Они в кабриолете… В километре отсюда…
Шеф Сюрте останавливаться не стал. Он погнал машину по спуску, срезал несколько поворотов, объехал пруд и издал вдруг возглас торжества.
На вершине небольшого подъема, выраставшего перед ними, он увидел экипаж. К несчастью, они ошиблись дорогой и пришлось дать задний ход.
Когда возвратились к перекрестку, экипаж был еще на месте, в неподвижности. И тут же, разворачивая автомобиль, он заметил, как из экипажа выпрыгнула женщина. На подножке появился мужчина. Женщина подняла руку; раздались два выстрела.
Она, по-видимому, плохо целилась, так как с другой стороны пролетки высунулась голова, и человек, заметив автомобиль, с размаху хлестнул кнутом лошадь, которая помчалась галопом. И поворот тут же скрыл от них экипаж.
В несколько секунд господин Ленорман завершил разворот, помчался прямо к подъему, обогнал, не останавливаясь, девушку и смело повернул.
Дорога, крутая и каменистая, спускалась между густыми лесами; следовать по ней можно было только медленно, с большой осторожностью. Но что ему было до того! В двадцати шагах впереди экипаж, нечто вроде двухколесного кабриолета, подскакивал на камнях, более сдерживаемый, чем увлекаемый лошадью, которая ступала осторожно, рассчитывая каждый шаг. Бояться было нечего, бегство стало невозможным.
И экипаж с автомобилем стали спускаться почти рядом, подскакивая и трясясь. В какую-то минуту они были так близко, что господин Ленорман подумал было спрыгнуть на землю со своими людьми и догнать противника бегом. Но вспомнил о том, как опасно тормозить на таком крутом спуске, и продолжал путь, не отставая от кабриолета, как от добычи, которую удерживают на виду, в пределах досягаемости.
— Хорошо, шеф, хорошо! — бормотали инспектора, захваченные азартом погони.
В конце спуска начиналась дорога, которая вела к Сене, к Бодживалю. На ровном месте лошадь пошла рысью, не спеша, держась середины колеи. Машину потряс сильный рывок. Теперь она, казалось, уже не катила, она летела вперед скачками, словно хищный зверь, настигающий добычу, проскальзывая впритирку к насыпям, готовая сокрушить любые преграды. Она нагнала экипаж, пошла рядом, обогнала…
Громкая брань шефа Сюрте… Крики ярости… Экипаж был пуст!
Лошадь мирно трусила по дороге, не чуя повисших вожжей, возвращаясь, вероятно, в конюшню одного из окрестных постоялых дворов, где кабриолет и был, наверно, нанят на этот день.
Задыхаясь от ярости, господин Ленорман сказал:
— Майор, видимо, выскочил в те несколько секунд, когда мы потеряли его из виду, в начале спуска.
— Надо провести облаву в лесу, шеф, и мы наверняка…
— Возвратимся ни с чем. Этот парень уже далеко, вот так; он не из тех, кого можно два раза настичь в один и тот же день. Ах, ты… тысячи тысяч чертей!
Они вернулись к девушке, которую нашли в компании Жака Дудвиля и которая, казалось, легко пережила свое приключение. Господин Ленорман, представившись, предложил отвезти ее домой и тут же задал несколько вопросов об английском майоре Парбери. Она посмотрела на него с удивлением:
— Он вовсе не англичанин и не майор, и имя его не Парбери.
— Как же его звать?
— Хуан Рибейра; он испанец, выполняющий поручение своего правительства — изучает работу французских школ.
— Допустим. Его имя и национальность не имеют значения; это именно тот, кого мы разыскиваем. Давно ли вы знакомы?
— Дней пятнадцать. Он узнал о школе, которую я основала в Гарше, и до того заинтересовался моей инициативой, что предложил мне ежегодную субсидию при единственном условии, чтобы он мог время от времени приезжать и следить за успехами моих учениц. Я не была вправе ему отказать…
— Нет, конечно, но навести о нем справки следовало. Разве у вас нет контактов с князем Серниным? Его советам можно доверять.
— О! Я ему полностью доверяю. Но он уехал путешествовать.
— И не оставил вам адреса?
— Нет. И потом, что бы я ему сказала? Поведение этого господина до сих пор было безупречным. И лишь сегодня… Не знаю, право…
— Прошу вас, мадемуазель, говорите со мной откровенно… Мне вы тоже можете доверять.
— Так вот, господин Рибейра недавно приехал к нам. Он сказал, что его послала некая французская дама, проездом находящаяся в Будживале, и что у этой дамы есть девочка, воспитание которой она хотела бы мне доверить, а потому просит меня приехать к ней без промедления. Это показалось мне вполне естественным. И поскольку сегодня я свободна, поскольку господин Рибейра нанял экипаж, который ждал его на дороге, я без колебаний в него села.
— Но какой, в конце концов, была его цель?
Она покраснела и молвила:
— Он просто хотел меня похитить. Полчаса спустя он мне в этом признался.
— И вы о нем больше ничего не знаете?
— Нет.
— А живет он в Париже?
— Предполагаю.
— Он вам ни разу не писал? У вас не осталось нескольких строк, написанных его рукой, забытого предмета, улики, которая могла бы нам послужить?
— Ничего такого… Ах, впрочем!.. Но это, конечно, не имеет какого-либо значения…
— Говорите! Говорите же! Прошу!
— Так вот, два дня тому назад этот господин попросил у меня разрешения воспользоваться моей пишущей машинкой и составил — не без труда, ибо у него нет навыка — письмо, адрес которого я случайно заметила и запомнила.
— И этот адрес?..
— Он написал в «Газету» и сунул в конверт два десятка марок.
— Наверно, то было объявление, — сказал Ленорман.
— У меня есть сегодняшний номер, шеф, — объявил Гурель.
Господин Ленорман развернул газету и просмотрел восьмую страницу. Минуту спустя он чуть не подскочил. На видном месте можно было прочитать следующую фразу, со всеми обычными аббревиатурами:
«Сообщаем любому лицу, которому известен господин Штейнвег, что желали бы узнать, находится ли он в Париже, и его адрес. Ответ — через редакцию».
— Штейнвег! — воскликнул Гурель. — Но это ведь та самая личность, которую приводил Дьези!
«Да, да, — подумал господин Ленорман, — тот, чье письмо господину Кессельбаху я перехватил, кто навел Кессельбаха на след Пьера Ледюка… Стало быть, им тоже требуются сведения о Ледюке, об его прошлом… Они еще тоже продвигаются наощупь…»
Он потер руки: Штейнвег был в его распоряжении. Не пройдет и часа, и он заговорит. Не пройдет и часа, как покров мрака, который ему мешал, который превращал историю с Кессельбахом в самое таинственное и тревожное дело из всех, которые он старался разрешить, — этот покров будет разорван.
Глава 5
Господин Ленорман терпит неудачу
I
В шесть часов вечера господин Ленорман возвратился в свой кабинет в префектуре полиции.
И тут же вызвал Дьези.
— Приезжий здесь?
— Да.
— Что же тебе удалось узнать?
— Не бог весть как много. Ни слова не говорит. Я ему сказал, что в силу нового распоряжения иностранцы должны сделать объявление о пребывании в префектуре, и привел сюда, в кабинет вашего секретаря.
— Сейчас я с ним побеседую.
Но тут явился один из дежурных.
— Какая-то дама, шеф, просит принять ее немедленно.
— Ее визитная карточка?
— Вот она.
— Госпожа Кессельбах! Просите.
Он вышел из-за стола навстречу молодой женщине и подал ей стул. На ее лице по-прежнему читалось отчаяние, у нее был болезненный, крайне утомленный вид.
Она протянула ему номер «Газеты», указывая место, где было напечатано объявление по поводу Штейнвега.
— Папаша Штейнвег был другом моего мужа, — сказала она. — Ему, несомненно, многое известно.
— Дьези, — приказал Ленорман, — приведи человека, который ждет… Ваш визит, мадам, может оказаться весьма полезным. Прошу только: в ту минуту, когда приезжий войдет, не говорите ни слова.
Дверь открылась. Появился мужчина, старик в воротнике из окладистой белой бороды, с лицом в глубоких морщинах, бедно одетый, с затравленным видом, свойственным тем несчастным, которые странствуют по свету в поисках средств, чтобы прокормиться. Он остановился на пороге, моргая глазами, посмотрел на господина Ленормана; молчание присутствующих его, видимо, смущало. Он неуверенно вертел в руках видавшую виды шляпу.
Но вдруг на его лице отразилось глубокое удивление; глаза расширились, и он пробормотал:
— Мадам… Мадам Кессельбах…
Он увидел наконец молодую женщину.
И успокоенный, улыбаясь без прежней робости, приблизился к ней, говоря со скверным акцентом:
— Ах, как хорошо!.. Наконец… Я думал уже, что никогда больше… Меня удивляло… Никаких новостей от вас… Ни телеграммы, ни письма… Как здоровье нашего доброго Рудольфа Кессельбаха?
Молодая женщина отшатнулась, словно ее ударили прямо в лицо, и вдруг, сгорбившись на стуле, неудержимо разрыдалась.
— Что такое?.. Боже мой, что такое?.. — промолвил Штейнвег.
Господин Ленорман поспешил вмешаться.
— Я вижу, мсье, что вам не известны некоторые события, случившиеся не так давно. Вы, наверно, давно уже в пути?
— Да, три месяца… Вначале я побывал в районе шахт. Потом возвратился в Кейптаун, откуда написал Рудольфу письмо. Но между делом нанялся на работу в Порт-Саид. Рудольф, наверно, получил мое письмо?
— Он отсутствует. Причины объясню потом. Вначале об обстоятельстве, по которому мы хотели бы получить имеющиеся у вас сведения. Речь идет о личности, с которой вы были знакомы и которого при контактах с господином Кессельбахом вы называли Пьером Ледюком.
— Пьер Ледюк! Ох! Кто вам сказал!
Старик выглядел потрясенным. Он снова пролепетал.
— Кто вам сказал? Кто открыл?..
— Господин Кессельбах.
— Ни за что! Это тайна, которую я ему доверил, а Рудольф умеет хранить тайны, особенно такие…
— И все-таки требуется ваш ответ. Мы ведем в настоящее время в отношении Пьера Ледюка расследование, которое необходимо без промедления завершить, и только вы можете просветить нас на этот счет, поскольку господина Кессельбаха нет.
— В конце концов, — воскликнул Штейнвег, казалось — решившись, — что вы хотите знать?
— Вы знаете Пьера Ледюка?
— Я никогда его не видел; тем не менее уже давно б моих руках находится тайна, касающаяся его. Вследствие ряда происшествий, которые нет смысла вспоминать, и благодаря некоторым случайностям пришел к уверенности, что тот, открытие которого меня заинтересовало, ведет беспорядочную жизнь в Париже, что он зовется Пьером Ледюком и что это имя на самом деле ему не принадлежит.
— Но знает ли свое настоящее имя он сам?
— Полагаю, что знает.
— А вы?
— Знаю наверняка.
— Скажите его нам.
Он несколько заколебался. Потом заявил:
— Не могу… Не могу…
— Но почему же?
— Не имею права. В этом весь секрет. А этому секрету, который я открыл Рудольфу, он придал такое значение, что вручил мне крупную сумму денег, дабы заручиться моим молчанием, и обещал еще целое состояние, настоящее состояние, если ему удастся разыскать Пьера Ледюка, а затем — воспользоваться тайной.
Он горько усмехнулся.
— Крупная сумма уже улетучилась. И я приехал, чтобы узнать, как обстоят дела с обещанным состоянием.
— Господин Кессельбах мертв, — сказал шеф Сюрте.
Штейнвег подскочил.
— Мертв! Может ли быть такое! Нет, нет, это обман, ловушка. Мадам Кессельбах, правда ли?..
Она опустила голову.
Он казался совершенно раздавленным неожиданным, печальным известием, причинившим ему, очевидно, подлинное страдание, так как он заплакал.
— Бедный мой Рудольф, я видел его совсем малышом… Он приходил ко мне в Аугсбурге играть… Я так его любил!
И, призывая в свидетели госпожу Кессельбах:
— Ведь и он, правда, мадам, меня любил? Он должен был вам рассказать… Его старый папаша Штейнвег…
Господин Ленорман приблизился к нему и четко произнес:
— Послушайте же меня. Господин Кессельбах был убит… Спокойно, спокойно… Жалобы бесполезны… Он был убит, и все обстоятельства этого преступления доказывают, что преступник был в курсе пресловутого проекта. Есть ли в существе этого проекта хоть что-нибудь, что позволило бы разгадать тайну этого преступления?
Штейнвег был озадачен. Он тихо сказал:
— Это моя вина… Если бы я не толкнул его на этот путь…
Госпожа Кессельбах потянулась к нему с мольбой:
— Вы думаете?.. У вас есть хотя бы догадка?.. Ох, прошу вас, Штейнвег!..
— Не знаю, не знаю… Я не успел подумать… — прошептал он. — Мне надо поразмыслить…
— Поищите в окружении господина Кессельбаха, — подсказал ему Ленорман. — Не участвовал ли кто-нибудь в ваших тогдашних беседах? Не мог ли он сам кому-нибудь довериться?
— Никому.
— Подумайте хорошенько.
Наклонившись к нему, Долорес и господин Ленорман с беспокойством ждали ответа.
— Нет, — молвил он, — не вижу, кто бы…
— Ищите в памяти как следует, — сказал шеф Сюрте. — Имя и фамилия убийцы могут начинаться буквами «Л» и «М».
— «Л», — вторил он, — «М»… Не вижу, право… «Л» и «М»…
— Да, буквы были золотыми и отмечали угол курительного футляра, принадлежавшего убийце.
— Курительного футляра? — спросил Штейнвег, пытаясь что-то вспомнить.
— Из вороненой стали… Внутри — два отделения, одно — для папиросной бумаги, другое — для табака…
— Два отделения… два отделения… — повторял Штейнвег, у которого эти подробности пробудили, казалось, какие-то неясные воспоминания. — Не могли бы вы показать мне этот предмет?
— Вот он, вернее — его точная копия, — сказал Ленорман, — протягивая ему футляр.
— О! Что такое! — сказал Штейнвег, беря его в руки.
Он в ошеломлении уставился на футляр, разглядывая его, поворачивая во все стороны, и внезапно вскрикнул, как бывает, если натолкнешься на ужасающую мысль. Он застыл на стуле, бледный, как смерть, с дрожащими руками, с блуждающим взором.
— Говорите! Говорите же! — приказал Ленорман.
— Ох! — воскликнул он, словно ослепленный внезапным светом, — все разъясняется!
— Говорите, говорите же…
Он отстранил обоих, спотыкаясь прошел к окну, вернулся обратно и, подбежав к шефу Сюрте:
— Мсье, мсье… Убийца Рудольфа, я вам скажу… так вот…
Он вдруг замолчал.
— Так вот? — сказали остальные.
Минута молчания. В полной тишине кабинета, между стенами, которые слышали столько признаний, столько обвинений, — прозвучит ли между ними наконец имя презренного убийцы? Ленорман, как ему теперь казалось, стоял на краю непроглядной бездны, откуда к нему поднимался, без конца поднимался долгожданный голос… Еще несколько мгновений, и он узнает…
— Нет, — прошептал Штейнвег, — не могу…
— Что вы лопочете? — в ярости воскликнул шеф Сюрте.
— Говорю, что не могу.
— Но вы не вправе молчать! Справедливость требует!
— Завтра, я скажу завтра… Я должен еще подумать… Завтра я сообщу вам все, что знаю о Пьере Ледюке… Все, что полагаю по поводу этого футляра… завтра, обещаю вам…
В его голосе слышалось упорство, о которое разбиваются самые энергичные усилия. Господин Ленорман уступил.
— Пусть так. Даю вам срок до завтра. Но должен предупредить, что если вы не заговорите, я буду обязан передать вас следователю.
Он позвонил и, отведя в сторону инспектора Дьези, сказал:
— Проводишь его до отеля… И останешься там с ним… Я пошлю тебе еще двоих из наших людей… Смотри в оба, не зевай… Могут попытаться его похитить…
Инспектор увел Штейнвега. Повернувшись к госпоже Кессельбах, которую эта сцена глубоко взволновала, Ленорман извинился:
— Глубоко сожалею, мадам, поверьте… Понимаю, как вам было тяжело…
Он задал пару вопросов о времени, когда господин Кессельбах общался со старым Штейнвегом, о продолжительности их общения. Но она была так утомлена, что он не стал настаивать.
— Приходить ли мне завтра? — спросила она.
— Не надо, не надо, — ответил он. Буду держать вас в курсе всего, что скажет Штейнвег. Позволите ли предложить вам руку до вашей машины? Спускаться с нашего четвертого этажа не так легко…
Он открыл дверь и пропустил ее вперед. Но в ту же минуту в коридоре послышались возгласы; начали сбегаться люди — дежурные инспектора, служащие из бюро…
— Шеф! Шеф!
— Что случилось?
— Дьези!
— Он только что от меня ушел…
— Его нашли на лестнице!
— Мертвым?!
— Нет, он оглушен, без чувств…
— А человек, который с ним? Старик Штейнвег?..
— Исчез…
— Гром и молния!
Он бросился в коридор, скатился по лестнице и в середине группы в несколько человек, оказывающих ему помощь, нашел Дьези, лежавшего на площадке второго этажа.
Затем увидел Гуреля, поднимавшегося по ступенькам.
— Ага, Гурель! Ты был внизу? Никого не встретил?
— Нет, шеф…
Но Дьези приходил уже в себя, и тут же, едва раскрыв глаза, тихо проговорил:
— На этой площадке… Маленькая дверь…
— Ах, черт возьми, дверь седьмой комнаты! — воскликнул начальник Сюрте. — Я ведь давно приказал запирать ее на ключ… Так и знал, что в тот или иной день…[1]
Он яростно схватился за ручку злополучной двери.
— Ах ты, черт! Засов с той стороны, конечно, задвинут!
Эта дверь, правда, была частично застеклена. Рукояткой револьвера он разбил одно из стекол, выдвинул засов и сказал Гурелю:
— Галопом туда, к выходу на площадь Дофине…
И, возвратившись, обратился к пострадавшему:
— Давай, Дьези, рассказывай. Как ты позволил привести себя в такое состояние?
— Меня ударили кулаком, шеф…
— Кулаком — этот древний старец? Но он едва держится на ногах!
— Не он, шеф, тот, другой. Который прохаживался по коридору, пока Штейнвег был у вас, и последовал за нами, словно тоже решил уйти… Догнав нас, он попросил у меня прикурить… Я стал искать спички… И он этим воспользовался, чтобы ударить меня под ложечку… Я упал и, падая, заметил, что он открыл эту дверь и потащил туда за собой старика…
— Ты бы его узнал?
— О да, шеф… Крепкий парень, очень смуглый… Откуда-то с юга, конечно…
— Рибейра, — скрипнул зубами господин Ленорман. — Опять он! Рибейра, он же — Парбери. Ах, сукин сын, какая дерзость! Он опасался старика Штейнвега… И пришел, чтобы забрать его прямо отсюда, у меня из-под носа!..
И, в бешенстве топнув ногой, добавил:
— Но, клянусь преисподней, как же он узнал, бандюга, что Штейнвег здесь! Не прошло ведь четырех часов с тех пор, как я гонялся за ним через леса близ Кюкюфа… И вот он уже тут как тут!.. Как он узнал?.. Он прирос, стало быть, ко мне?..
Господина Ленормана охватил один из тех приступов задумчивости, когда он, казалось, ничего не видел и не слышал вокруг себя. Госпожа Кессельбах, проходившая как раз мимо, поклонилась ему, не получив ответа.
Но звук шагов в коридоре вывел его из транса.
— Это ты, Гурель? Наконец!
— Все правильно, шеф, — доложил Гурель, тяжело дыша. Их было двое. Прошли по этому пути и вышли на площадь Дофине. Там ждал автомобиль. В нем было еще двое, один — в черном, в мягкой шляпе, надвинутой на глаза…
— Это он, — прошептал господин Ленорман, — убийца, сообщник Рибейры-Парбери. А другой?
— Это была женщина. Без шляпы. С виду — горничная… Кажется — хорошенькая… Рыжеволосая…
— Что? Ты говоришь — рыжая?
— Да.
В одно мгновение господин Ленорман повернулся, через четыре ступеньки сбежал вниз по лестнице, промчался через двор и выскочил на набережную Орфевр.
— Стойте! — крикнул он.
Экипаж «виктории», запряженный двумя лошадьми, удалялся. Экипаж госпожи Кессельбах… Но кучер услышал и придержал коней. Господин Ленорман живо вскочил на подножку.
— Тысячу раз простите, мадам, ваша помощь совершенно необходима. Позвольте, прошу, доехать с вами… Но надо спешить… Гурель, где моя машина… Отослал?.. Тогда давайте другую, любую…
Они разбежались, каждый в другую сторону. Прошло, однако, не менее четверти часа, пока привели арендованный автомобиль. Господин Ленорман кипел от нетерпения. Госпожа Кессельбах, стоя на краю тротуара, пошатывалась, держа флакон с нюхательной солью…
Наконец они сели в машину.
— Садись с шофером, Гурель; гоните прямо в Гарш.
— Ко мне? — с удивлением воскликнула госпожа Кессельбах.
Шеф Сюрте не отвечал. Он высовывался в окно, размахивал своим удостоверением, называл себя регулировавшим движение постовым. Только выехав к Кур-ла-Рену, он снова сел и промолвил:
— Умоляю, мадам, отвечайте на мои вопросы прямо. Видели ли вы мадемуазель Женевьеву Эрнемон сегодня, к четырем часам дня?
— Женевьеву? Да, я как раз одевалась, чтобы ехать в город…
— И о той заметке, объявлении в «Газете» насчет Штейнвега, вам сообщила она?
— Действительно.
— Тогда вы и приняли решение посетить Сюрте?
— Да.
— Во время разговора с мадемуазель Эрнемон вы были одни?
— Ей-богу… Не помню уже… а что?
— Постарайтесь вспомнить… не было ли в комнате одной из ваших горничных?
— Возможно… Поскольку я одевалась…
— Как их зовут?
— Сюзанна… И Гертруда…
— Одна из них — рыжая, не так ли?
— Да. Это Гертруда.
— Вы знаете ее давно?
— Ее сестра всегда мне служила… Да и Гертруда у меня уже несколько лет… Это сама честность, сама преданность…
— Короче говоря, вы за нее отвечаете?
— О! Абсолютно!
— Тем лучше… Тем лучше…
Было семь часов с половиной, яркость дневного света начала смягчаться, когда машина прибыла к подъезду дома уединения. Не заботясь более о своей спутнице, господин Ленорман бросился к консьержке.
— Горничная госпожи Кессельбах недавно вернулась, не так ли?
— Кто? Горничная?
— Да, Гертруда, одна из двух сестер.
— Но она, по-моему, и не выходила из дому, мсье, мы не видели, чтобы она выходила.
— Но кто-то ведь только что вернулся!
— О, нет, мсье, мы никому не открывали двери с… С шести часов вечера.
— И, кроме этой двери, других выходов нет?
— Никаких. Участок со всех сторон окружен стеной, и она очень высока.
— Мадам Кессельбах, — сказал господин Ленорман, — пройдемте в ваш флигель.
Они направились туда втроем. Госпожа Кессельбах позвонила в дверь. Появилась вторая из сестер, Сюзанна.
— А Гертруда дома? — спросила госпожа Кессельбах.
— Конечно, мадам. Она в своей комнате.
— Попросите ее прийти к нам, мадемуазель, — велел шеф Сюрте.
Минуту спустя Гертруда спустилась, приветливая и грациозная в своем белоснежном переднике, украшенном вышивкой. Ее личико, действительно — довольно красивое, было обрамлено рыжей шевелюрой.
Господин Ленорман долго и молча всматривался в нее, словно для того, чтобы проникнуть в глубину мыслей, минуя невинные глазки. Но спрашивать ни о чем не стал. Минуту спустя он сказал просто:
— Спасибо, мадемуазель, все в порядке. Пошли, Гурель.
Он вышел вместе с бригадиром. И уже проходя по темным аллеям сада, заявил:
— Это была она.
— Вы думаете, шеф? Она выглядела такой спокойной!
— Чересчур спокойной. Другая удивилась бы, спросила бы меня, для чего ее звали. Она — нет. Ничего кроме старательности, кроме улыбки ценой любых усилий. Только на виске я заметил капельки пота.
— И что же?
— Теперь все ясно. Гертруда — сообщница обоих бандитов, которые орудуют вокруг дела Кессельбаха либо для того, чтобы узнать и использовать тайну пресловутого проекта, либо чтобы завладеть миллионами вдовы. Вторая сестра, несомненно, тоже участвует в заговоре. К четырем часам Гертруда была предупреждена о том, что я знаю о существовании объявления, а также о том, что у меня назначена встреча с Штейнвегом. Пользуясь отъездом своей хозяйки, она спешит в Париж, встречается с Рибейрой и человеком в мягкой шляпе и приводит их ко Дворцу правосудия, где бандит конфискует в свое пользование нашего старика.
Он подумал еще и заключил:
— Все это доказывает нам: во-первых, значение, которое они придают Штейнвегу, и страх, который вызывают его предполагаемые сообщения; во-вторых, что вокруг госпожи Кессельбах плетется настоящий заговор; в-третьих, что мне нельзя терять времени, так как заговор уже созрел.
— Хорошо, — сказал Гурель, — но есть также одно необъяснимое обстоятельство. Как сумела госпожа Гертруда выйти из сада, в котором мы находимся, без ведома консьержки, и так же вернуться?
— Через тайный проход, который бандиты должны были недавно устроить.
— И который, вероятно, находится поблизости флигеля госпожи Кессельбах? — спросил Гурель.
— Возможно, — отвечал господин Ленорман, — возможно. Но у меня есть еще одна мысль…
Они проследовали вдоль стены. Ночь была светлой, и если заметить их силуэты было трудно, они, со своей стороны, видели достаточно для того, чтобы осмотреть каменную кладку и убедиться, что ни одно отверстие, как ловко оно ни спрятано, не было проделано в ограде.
— Наверно, используется лестница? — предположил Гурель.
— Нет, так как Гертруда прошла средь бела дня. И если есть потайная брешь, она не может выходить непосредственно наружу. Такое отверстие должно быть прикрыто каким-нибудь давно существующим сооружением.
— Есть только четыре флигеля, — возразил Гурель. — И во всех четырех живут.
— Извини, третий из них, флигель Гортензии, пустует.
— Кто вам сказал?
— Консьержка. Опасаясь шума, госпожа Кессельбах арендовала этот флигель, самый близкий к ее жилищу. И кто знает, может быть, она действовала под влиянием Гертруды?
Он обошел постройку. Ставни были закрыты. Он приподнял наугад щеколду в одной двери; она открылась.
— Ах, Гурель, кажется, мы попали в точку. Зайдем. Включи-ка свой фонарик… Ага, прихожая, гостиная, столовая… С ними все ясно… Здесь должен быть подвал — кухни на этом этаже нет.
— Сюда, шеф. Вот служебная лестница.
Они, действительно, спустились в кухню, довольно просторную, загроможденную садовыми стульями и другой плетеной мебелью. Прачечная, служившая также погребом, примыкала к ней, представляя взору такой же хаос наваленных друг на друга предметов.
— Там что-то блестит, шеф.
Гурель нагнулся и поднял медную шпильку с поддельной жемчужиной вместо головки.
— Вот именно, она еще блестит, — сказал Ленорман, — чего не было бы, если бы она долго пролежала в этом подвале. Гертруда не так давно побывала здесь, Гурель.
Бригадир начал разбирать нагромождение пустых бутылок, ящиков и старых, охромевших столов.
— Ты напрасно тратишь время, Гурель. Если проход находится там, можно ли было вначале удалить все эти предметы, а потом поставить их за собой на место? Погляди лучше сюда, вот вышедший из употребления ставень, который вовсе не к месту повесили на стенку с помощью гвоздя. Отодвинь-ка его в сторону.
Гурель повиновался.
Позади ставня стена была пробита. В свете электрического фонарика перед ними открылся подземный ход, углублявшийся во тьму.
II
— Как видишь, я не ошибался, — констатировал господин Ленорман. — Проход устроен недавно. Делали его наспех и ненадолго… Кладкой не укрепили. В отдельных местах — по паре стоек крест-накрест с поперечной балкой вместо потолка, это все. Сколько ни продержится — в любом случае будет достаточно для данной цели… То есть…
— То есть, шеф?
— То есть для контактов между Гертрудой и ее сообщниками… И потом, ради, вероятно, уже близкого дня похищения, точнее — дня намеченного ими волшебного, необъяснимого исчезновения госпожи Кессельбах.
Они продвигались осторожно, чтобы не наткнуться на опоры, надежность которых представлялась им сомнительной. На первый взгляд, протяженность туннеля намного превосходила те пять — десять метров, которые отделяли флигель от ограды вокруг сада. Он должен был окончиться довольно далеко от стены, по ту сторону дороги, которая проходила вдоль имения.
— Не приближаемся ли мы к Вильневу и к пруду? — спросил Гурель.
— Вовсе нет, мы идем в противоположную сторону, — сказал господин Ленорман.
Галерея постепенно шла под уклон. Им встретилась ступенька, за нею — еще одна, после чего следовал поворот направо. И в ту же минуту они наткнулись на дверь, вделанную в прямоугольник из тщательно зацементированных бутовых камней. Господин Ленорман толкнул ее, она открылась.
— Минутку, Гурель, — сказал он, остановившись, — подумаем. Не лучше ли повернуть назад?
— Но почему?
— Можно предположить, что Рибейра предвидел опасность и принял меры на тот случай, если туннель будет обнаружен. А он знает, что мы обыскиваем сад, видел также, вероятно, что мы вошли в этот флигель. Можно ли быть уверенным, что в это время он не устраивает нам ловушку?
— Но нас ведь двое, шеф!
— А если их — двадцать?
Он заглянул в дверь; подземный ход поднимался за нею вверх. Он прошел до следующей двери, на расстояние от пяти до шести метров.
— Пройдем до этого места, — сказал он, — там будет видно.
Он вошел, сопровождаемый Гурелем, которому посоветовал оставить заднюю дверь открытой, и проследовал до передней, твердо решив дальше не продвигаться. Но эта была закрыта и, хотя замок выглядел исправным, ему не удалось ее открыть.
— Заперта с той стороны, на засов, — заметил он. — Не будем шуметь и вернемся. Когда выберемся наверх, сумеем установить, по направлению галереи, ту линию, в конце которой следует искать выход из туннеля.
Они возвратились к первой двери, но тут Гурель, шедший первым, вскрикнул от неожиданности.
— Посмотрите! Она заперта!
— Как так! Я ведь тебе велел оставить ее открытой!
— Я так и сделал, шеф, но она, по-видимому, захлопнулась сама.
— Невозможно. Мы услышали бы стук.
— Что же теперь?
— Теперь… что теперь… Не знаю…
Он подошел.
— Поглядим… Здесь есть ключ… Он поворачивается… Но с другой стороны, видимо, тоже есть засов…
— Кто же его задвинул?
— Они, черт их возьми, за нашей спиной. У них, возможно, есть другая галерея, которая тянется вдоль этой. Либо они сидели в засаде в нежилом флигеле. Как ни крути, мы попались.
Он пытался открыть, просовывая лезвие ножа в щель, применил все мыслимые способы; затем, с выражением усталости, проронил:
— Ничего не поделаешь.
— Как же так, шеф? Стало быть, нам конец?
— По-моему, да… — отозвался господин Ленорман.
Они вернулись ко второй двери, отступили к первой. Обе были массивными, из крепкого дерева, обитые железными полосами, одним словом — непробиваемыми.
— Тут нужен топор, — сказал шеф Сюрте. — Или, по крайней мере, другой солидный инструмент… Хотя бы нож, с помощью которого можно было бы попробовать вырезать место, где у них засов… Наш для этого не годится.
Во внезапном приступе бешенства он всем весом бросился на преграду, словно надеялся ее взломать. Затем, обессиленный и побежденный, сказал Гурелю:
— Послушай-ка, мы еще поглядим, что будет… Через час, через два… Я совершенно изнурен… Мне надо поспать… А ты пока посторожи… И, если придут, чтобы напасть…
— Ах! Если придут, тогда мы спасены, шеф! — воскликнул Гурель с видом человека, которому схватка, какой бы она ни была неравной, могла доставить только облегчение.
Господин Ленорман улегся на пол. Минуту спустя он уже спал. Проснувшись, несколько секунд он пребывал в нерешительности, не понимая, где находится, и спрашивая себя, что за напасти на него навалились.
— Гурель! — позвал он. — Ну где же ты! Гурель!
Не получив ответа, он нажал на кнопку своего карманного фонарика и увидел Гуреля, глубоко спящего рядом с ним.
— Что же меня так терзает, — думал он. — Похоже, колики… Ах, вот оно что! Я голоден! Все очень просто — я умираю от голода! Который же час?
Его часы показывали семь двадцать, но тут он вспомнил, что давно их не заводил. Часы Гуреля тоже успели остановиться. Бригадир между тем проснулся под действием тех же ощущений в желудке. И они сделали вывод, что час ужина давно прошел и оба проспали уже часть следующего дня.
— Ноги у меня совсем затекли, — объявил Гурель, — мне кажется даже, что они у меня — во льду… Странное ощущение, ничего не скажешь! — Он попытался растереть себе ноги, но тут заявил: — Гляди-ка! Они вовсе не были во льду, мои ноги, они — в воде… Посмотрите, шеф! Со стороны первой двери — настоящая лужа!
— Вода откуда-то просачивается, — отвечал господин Ленорман. — Вернемся ко второй двери, и ты обсохнешь.
— Но что вы делаете, шеф?
— Ты думаешь, я позволю заживо похоронить себя в этом склепе? Ну нет, я еще не вышел возрастом… Поскольку обе двери заперты, попробуем выбраться через стены.
Один за другим он выламывал камни, образовывавшие выступ на уровне его руки, в надежде пробить новую галерею, которая наклонно следовала бы до поверхности почвы. Но это оказалось долгим и трудным делом, ибо камни в этой части туннеля были скреплены цементом.
— Шеф… шеф… — сдавленным голосом пролепетал вдруг Гурель.
— Что еще?
— Ваши ноги в воде…
— Не может быть! Смотри, действительно… Ей-богу, чего ты беспокоишься? На солнышке высохнем.
— Но разве вы не видите…
— Чего?
— Она поднимается, шеф, она поднимается!
— Кто поднимается?
— Вода!
Господин Ленорман содрогнулся. Он все понял. Это не было случайное просачивание грунтовых вод; это было умело устроенное затопление подземелья, происходившее методически, неудержимо, благодаря какой-то адской системе.
— Ах, проклятый! — скрипнул он зубами. — Если он мне когда-нибудь попадется!
— Да, да, шеф, но вначале надо отсюда выбраться, и по-моему…
Гурель казался совершенно подавленным, неспособным высказать ни какой-либо мысли, ни плана.
Господин Ленорман между тем встал на колени и пытался оценить скорость, с которой прибывала вода. Четверть первой двери была уже ею покрыта, вода подступала к середине расстояния до второй двери. «Уровень растет медленно, но неуклонно, — подумал он, — за несколько часов она покроет нас с головой».
— Но это же ужасно, шеф! — простонал Гурель. — Это ужасно!
— Ну вот! Ты не станешь досаждать мне своими еремиадами, надеюсь? Заплачь, если это тебя развлечет, но только так, чтобы я не слышал.
— Я ослаблен голодом, шеф, у меня заплетаются мозги…
— Пожуй свой кулак.
Гурель, впрочем, был прав, положение складывалось трагически, и, будь у господина Ленормана меньше энергии, он отказался бы от бесполезной борьбы. Что делать? Глупо было надеяться, что Рибейра сжалится и откроет им путь. Нельзя было также уповать на то, что им помогут братья Дудвиль, так как оба инспектора не знали о существовании этого подземного хода.
Никакой надежды, следовательно, не оставалось… Кроме как на невероятное чудо…
— Однако, — повторял господин Ленорман, — однако это уже чересчур нелепо, не можем же мы подохнуть в этой дыре! Какого дьявола! Должно же здесь что-нибудь быть… Посвети-ка мне, Гурель!
Прижавшись ко второй двери, он тщательно осмотрел ее снизу доверху по всем углам. С этой стороны, как, вероятно, и с обратной, у нее был огромный засов. Лезвием ножа он отвинтил прикреплявшие его винты, и засов отвалился.
— А теперь? — спросил Гурель.
— А теперь, — ответил шеф Сюрте, — у нас есть железный засов, достаточно длинный, почти острый… Ему, конечно, далеко до доброй кирки, но это все-таки лучше, чем ничего… И вот…
Не закончив фразы, он воткнул свой инструмент в стенку галереи, близ утолщения кладки, в которое была врезана дверь. Как он и надеялся, за первым слоем камня и цемента оказалась мягкая земля.
— За работу! — воскликнул шеф Сюрте.
— Я готов, шеф, но объясните мне…
— Все просто. Мы должны выкопать вокруг этой кладки проход метра в три или четыре, по которому можно будет обойти дверь и выбраться на волю по продолжению подземного хода.
— Но на это потребуется несколько часов, а вода все прибывает.
— Посвети мне, Гурель. Мысль господина Ленормана была верной; ценой известных усилий, выбирая землю из образовавшегося отверстия, он настолько его расширил, что смог в него втиснуться.
— Теперь моя очередь, шеф, — сказал Гурель.
— Ага, ты, вижу, ожил? Хорошо, потрудись тоже… Следуй только за контуром кладки.
К этому времени вода поднялась до их щиколоток. Успеют ли они завершить начатую работу? Чем дальше, тем она становилась труднее, так как разрыхленная земля все больше загромождала проход и, лежа в нем на животе, они должны были постоянно отгребать ее назад. Два часа спустя дело было сделано примерно на три четверти, однако вода доходила уже им почти до колен. Еще час, и она доберется до нового прохода, который они себе пробивали.
И это будет конец.
Обессиленный долгим постом, чересчур крупного телосложения, чтобы свободно передвигаться в узком новом кулуаре, Гурель вскоре был вынужден отказаться от работы. Он более не двигался, дрожа от страха при виде ледяной воды, которая все больше заливала подземелье. Зато господин Ленорман трудился с неослабевающим усердием. Это был страшный труд, работа термита в удушливом мраке недр. Его руки были в крови. Он шатался от голода. С трудом дышал спертым воздухом. И вздохи Гуреля время от времени напоминали ему о страшной опасности, которая угрожала им в этой жуткой норе. Ничто, однако, не могло заставить его отступить перед камнем, цементом и землей, с которыми он продолжал сражаться. Было все труднее, но цель близилась.
— Вода прибывает! — тем же сдавленным голосом напоминал ему Гурель. — Вода прибывает!
Господин Ленорман удвоил усилия. И стержень засова, которым он орудовал, внезапно провалился в пустоту. Проход открылся. Оставалось лишь расширить его, и сделать это теперь было гораздо легче, так как он мог отбрасывать землю вперед, перед собой.
Обезумевший от страха Гурель издавал вопли агонизирующего животного. Но на шефа Сюрте они уже не действовали. Спасение было близко.
Он испытал, правда, некоторое беспокойство, когда заметил, что земля, вывалившаяся в туннель по ту сторону двери, тоже падала в воду. Но это было естественно, дверь не была непроницаемой. Чего еще опасаться? Выход был свободен… Последнее усилие… И он прошел.
— Иди сюда, Гурель! — крикнул он, возвращаясь за своим товарищем. И потащил его вон, полумертвого, за руки. — Встряхнись же, рохля! Мы спасены!
— Вы так думаете, шеф?.. Вы так думаете?.. Но вода уже нам — по грудь…
— Давай, вылезай! Пока она еще не залила нам глотку… Где твой фонарик?
— Он больше не светит.
— Тем хуже.
И тут у него вырвался радостный возглас:
— Ступенька… Еще ступенька… Тут лестница!.. Наконец!
Они вышли из воды, из треклятой воды, которая их чуть не поглотила, и безмерное блаженство, радость избавления возвратила им силы.
— Стоп! — скомандовал господин Ленорман.
Он наткнулся на что-то головой. Подняв руки, он напрягся, чтобы устранить преграду, которая тут же подалась. Это была створка люка, открыв который можно было пройти в погреб, куда, через слуховое окошко, проникал слабый свет ясной ночи.
Он опрокинул створку и преодолел последние ступеньки.
Тут на него упала плотная ткань. Чьи-то руки его схватили. Он почувствовал, как его заворачивают в нечто вроде одеяла либо мешка, как его перетягивают веревками.
— Давайте второго, — сказал грубый голос.
Та же самая операция была проделана, по-видимому, с Гурелем, так как тот же голос вскоре произнес:
— Если станут кричать, убей их сразу. Кинжал при тебе?
— Да.
— Тогда — в путь. Вы двое возьмите этого, вы — того… Не светить и не шуметь… Иначе дело плохо, сад обыскивают со всех сторон с самого утра, их там десяток или полтора, они просто бесятся… Возвращайся во флигель, Гертруда, и по малейшему поводу звони мне в Париж.
Господин Ленорман почувствовал, как его уносят, а минуту спустя — что они уже на дворе.
— Подгони телегу поближе, — сказал прежний голос.
Господин Ленорман услышал шум колес и топот копыт.
Его уложили на доски. Гуреля устроили рядом. Лошадь побежала рысью.
Поездка продолжалась примерно полчаса.
— Стойте! — приказал уже знакомый голос. — Снимайте… Эй, возница, поверни телегу, чтобы задок встал к перилам моста… Вот так… На Сене не видно лодок? Нет? Тогда — не будем медлить. Вы привязали камни?
— Да, по паре булыжников на каждого.
— Тогда давайте. Поручи свою душу Господу, мсье Ленорман, и помолись перед Ним за меня, Парбери — Рибейру, более известного под именем барона Альтенгейма. Все в порядке? Готово? Доброго пути, мсье Ленорман!
Господина Ленормана положили на перила. Толкнули. Он почувствовал, как падает в бездну, и успел услышать тот же голос, злорадно повторивший:
— Приятного путешествия!
Десять секунд спустя настал черед бригадира Гуреля.
Глава 6
Парбери — Рибейра — Альтенгейм
I
В саду, под надзором мадемуазель Шарлотты, новой сотрудницы Женевьевы, играли маленькие девочки. Госпожа Эрнемон устроила для них раздачу пирожных, затем вернулась в комнату, которая служила одновременно гостиной и салоном для встреч между ученицами и их родственниками, и устроилась за письменным столом, на котором стала приводить в порядок бумаги и регистры.
Внезапно у нее появилось ощущение, будто в комнате она не одна. Охваченная тревогой, она обернулась.
— Ты! — воскликнула она. — Как ты появился? Каким образом вошел?
— Тихо, — сказал князь Сернин. — Слушай, и не будем терять ни минуты. Женевьева?
— В гостях у госпожи Кессельбах.
— Она должна вернуться сюда?
— Не раньше, чем через час.
— Тогда я впущу братьев Дудвиль. У меня с ними назначена встреча. Как чувствует себя Женевьева?
— Очень хорошо.
— Сколько раз она виделась с Пьером Ледюком после моего отъезда, за десять дней?
— Три раза, и должна с ним встретиться опять сегодня, у госпожи Кессельбах, которой его представит, как ты велел. Должна, однако, тебе сказать, что не вижу ничего особенного в твоем Пьере Ледюке. Женевьева должна была бы скорее встретить хорошего парня из своего круга. Лучше всего — учителя.
— Ты сошла с ума! Женевьеве — выйти за школьного учителя!
— Да, если для тебя главное — ее счастье…
— Брось, Виктуар. Твоя болтовня мне порядком надоела. Да и нет у меня времени на сантименты. Я разыгрываю шахматную партию и двигаю фигуры, не размышляя о том, что они себе думают. Когда выиграю партию, постараюсь узнать, есть ли сердце у рыцаря Ледюка и королевы Женевьевы.
Она прервала его речь:
— Ты слышал? Свист!
— Это братья Дудвиль. Приведи их и оставь нас.
Как только братья вошли, он, не мешкая, заявил:
— Я знаю все, что писали газеты об исчезновении Ленормана и Гуреля. Что известно вам кроме того?
— Ничего. Заместитель шефа Сюрте господин Вебер взял дело в свои руки. Вот уже восемь дней мы переворачиваем вверх дном сад дома уединения и не можем докопаться, как они могли исчезнуть. Вся наша служба на ногах… Такого еще не случалось никогда… Чтобы сам шеф Сюрте испарился, да не оставив никаких следов!
— А обе служанки?
— Гертруда уехала. Ее ищут.
— А ее сестра?
— Госпожа Вебер и Формери допросили Сюзанну. Против нее ничего нет. Ничто не говорит о ее вине.
— И это все, что вы можете мне сообщить?
— О нет, есть также другие обстоятельства, о которых мы не говорили журналистам.
И они рассказали о событиях, которыми были отмечены два последних дня господина Ленормана, о ночном визите двух бандитов в виллу Пьера Ледюка, о попытке похищения, совершенной на следующий день Рибейрой; затем — о погоне через леса вокруг Сен-Кюкюфа, о прибытии старика Штейнвега, его допросе в присутствии госпожи Кессельбах, наконец — об его исчезновении из Дворца правосудия.
— Никто не в курсе этих подробностей, кроме вас?
— Дьези знает о происшествии со Штейнвегом, он сам о нем рассказывал нам.
— И вам по-прежнему доверяют в префектуре?
— Настолько, что используют нас открыто. Господин Вебер клянется только нами.
— Так вот, — сказал князь, — не все еще потеряно. Если господин Ленорман допустил какую-то неосторожность, как я предполагаю — стоившую ему жизни, он все-таки выполнил перед тем хорошую работу, и нам остается только ее продолжить. Противник вырвался вперед, но мы его нагоним.
— Это будет нелегко, патрон.
— Почему? Надо просто разыскать старика Штейнвега. Ключ к тайне — у него.
— Да, но где Рибейра его прячет?
— У себя, черт его побери!
— Значит, надо узнать, где он квартирует.
— Черт возьми, конечно!
Отпустив братьев, князь направился к дому уединения. У ворот стояли автомобили, люди расхаживали всюду взад и вперед, словно кого-то сторожа. В саду, близ флигеля госпожи Кессельбах, он заметил Женевьеву, Пьера Ледюка и мужчину плотного сложения с моноклем. Они беседовали втроем. Ни один из них его не заметил.
Несколько человек вышло из флигеля. Это были господа Вебер и Формери, писарь и два инспектора. Женевьева вошла в дом, и господин с моноклем, заговорив со следователем и заместителем шефа Сюрте, стал медленно удаляться вместе с ними. Тогда князь Сернин приблизился к скамье, на которой еще сидел Пьер Ледюк.
— Оставайся на месте, — прошептал он. — Это я.
— Вы! Вы!..
Молодой человек только в третий раз видел Сернина после того ужасного вечера в Версале, и каждый раз был потрясен встречей.
— Отвечай… Кто эта личность с моноклем?
Пьер Ледюк все еще не был в силах заговорить, бледный, как полотно. Сернин ущипнул его пониже локтя.
— Отвечай, черт побери! Кто это?
— Барон Альтенгейм.
— Откуда он взялся?
— Это друг госпожи Кессельбах. Он приехал из Австрии шесть дней тому назад и предоставил себя в ее распоряжение.
В это время служители правосудия вышли за пределы сада вместе с Альтенгеймом.
— Барон тебя о чем-нибудь расспрашивал?
— Да, о многом. Мой случай его заинтересовал. Он хотел помочь мне отыскать семью. Просил вспомнить обстоятельства моего детства.
— И что ты отвечал?
— Ничего — я ведь ничего и не знаю. Разве у меня могут теперь быть воспоминания? Вы заставили меня занять место другого человека, и я не знаю даже, кем он был, тот другой.
— Я — тоже, — усмехнулся князь. — В этом как раз и состоит необычность твоего случая, Пьер.
— Ах! Вы смеетесь! Вы все смеетесь! Но я скоро буду этим сыт… Я замешан в множество не слишком чистых дел… Не говоря уже об опасности, которой подвергаюсь, играя роль личности, которой не являюсь.
— Как так — не являешься? Ты герцог — не менее, по крайней мере, чем я князь… Может быть, даже больше… И затем, если и не являешься, стань им, черт возьми! Женевьева может выйти замуж только за герцога. Смотри-ка на нее! Разве она не заслуживает того, чтобы ты продал душу ради ее прекрасных глаз?
Он, собственно, не очень и обращал внимание на юношу, безразличный к тому, что тот думал. Они вошли в дом, и у самой лестницы появилась Женевьева, грациозная, улыбающаяся.
— Вот вы и вернулись! — сказала она князю. — Тем лучше! Я так довольна! Хотите повидать Долорес?
Мгновение спустя она ввела его в комнату госпожи Кессельбах. Князь был поражен. Долорес выглядела еще более бледной, более исхудалой, чем в тот день, когда он видел ее в последний раз. Лежа на диване, укутанная в белые ткани, она казалась больной, отказавшейся от борьбы. Сама жизнь — вот против чего она устала бороться, сама судьба, наносившая ей удар за ударом — вот кому она была готова сдаться.
Сернин смотрел на нее с глубокой жалостью, с волнением, которое и не пытался скрыть. Она поблагодарила его за симпатию, которую он ей выказывал. Заговорила в дружеских выражениях о бароне Альтенгейме.
— Вы знали его раньше? — спросил он.
— Только слышала о нем — от мужа, с которым его связывала самая тесная дружба.
— Я знавал некоего Альтенгейма, проживавшего на улице Дарю. Не думаете ли вы, что это он?
— О, нет… Этот живет… В сущности, я мало что о нем знаю. Он давал мне свой адрес, но я не могла бы сказать…
Побеседовав с ней несколько минут, Сернин откланялся.
В вестибюле его ждала Женевьева.
— Мне надо с вами поговорить… — сказала она с живостью. — О важных вещах… Вы его видели?
— Кого это?
— Барона Альтенгейма… Но это не его имя… По крайней мере, у него есть еще одно… Я его узнала… Он об этом не подозревает.
Охваченная волнением, она повела его прочь от дома.
— Спокойствие, Женевьева.
— Это тот, который пытался меня похитить… Не будь тогда бедного господина Ленормана, я бы погибла… Ведь вы об этом, наверно, знаете, — вы, которому известно все.
— Как же его на самом деле зовут?
— Рибейра.
— Вы уверены?
— Он напрасно изменил внешность, акцент, манеры, я сразу его узнала — по тому отвращению, которое он мне внушает. Но я не стала ничего говорить — до вашего возвращения.
— Не сказали ни слова госпоже Кессельбах?
— Ни слова. Она казалась такой счастливой, что встретилась с другом своего покойного мужа. Но вы ей все скажете, не так ли? Вы ее защитите? Не знаю даже, что он задумал против нее, против меня. Теперь, когда господина Ленормана больше нет, он ничего уже не боится, ведет себя здесь как хозяин. Кто мог бы его разоблачить?
— Я. Я отвечаю за все. Только никому ни слова!
Они подошли как раз к ложе консьержей. Дверь открылась.
Князь добавил:
— Прощайте, Женевьева, и главное — будьте спокойны. Я с вами.
Он закрыл дверь, повернулся и чуть было не отшатнулся. Перед ним, подняв голову, широкоплечий, могучий статью, стоял человек с моноклем, барон Альтенгейм. Две или три секунды они смотрели друг на друга в молчании. Барон улыбался.
— Я ждал тебя, Люпэн, — проронил он.
Как ни владел собой, Сернин вздрогнул. Он пришел, чтобы разоблачить своего противника, а противник, наоборот, первым его разоблачил. И тот же противник вступал теперь в борьбу, смело и дерзко, словно был уверен в победе. Его поведение было откровенным и свидетельствовало о большой силе.
Оба меряли друг друга взорами, с неприкрытой враждебностью.
— Что же дальше? — спросил Сернин.
— Дальше? Не думаешь ли, что нам надо свидеться?
— Зачем?
— Хочу с тобой поговорить.
— Какой день тебе подойдет?
— Завтра. Пообедаем вместе в ресторане.
— Почему бы не у тебя?
— Ты не знаешь моего адреса.
— Знаю.
Быстрым движением князь выхватил газету, торчавшую из кармана Альтенгейма, газету, еще оклеенную бумажной лентой доставки, и прочитал:
— 29, вилла Дюпон.
— Отличный ход, — сказал барон. — Значит, завтра, у меня.
— Завтра, у тебя. В какое время?
— В час дня.
— Буду.
Они собирались расстаться. Но Альтенгейм задержался.
— Еще слово, князь. Бери с собой оружие.
— Зачем?
— У меня четверо слуг, а ты будешь один.
— Со мной — мои кулаки, — отозвался Сернин. — Игра будет на равных.
— Он повернулся спиной. Потом, оглянувшись, добавил:
— Ага! Еще слово, барон. Найми еще четверо слуг.
— Для чего?
— Я передумал, приду с хлыстом.
II
Ровно в час пополудни одинокий всадник въехал за решетку виллы Дюпон на тихой провинциальной улице, единственный выход которой приводил на улицу Перголез, в двух шагах от авеню Булонского леса. По обеим ее сторонам тянулись сады и красивые особняки. Замыкал ее большой парк. В его середине возвышался старинный, просторный дом, за которым проходила Кольцевая железная дорога.
Там, в номере 29, и проживал барон Альтенгейм.
Сернин бросил поводья лошади пешему слуге, которого заранее сюда прислал, сказав:
— Приведешь ее к половине третьего.
Он позвонил. Калитка внутреннего сада отворилась, и князь проследовал к крыльцу; ожидавшие там двое громил в ливреях проводили его в огромный каменный вестибюль, холодный, без единого украшения. Дверь за ним закрылась с глухим стуком, который, при всем его неукротимом мужестве, не мог не произвести на него тяжелого впечатления. Он был, действительно, один, окруженный врагами, как в отгороженной от всего света тюрьме.
— Доложите о прибытии князя Сернина.
Гостиная была рядом. Его сразу в нее пригласили.
— Ах! Вот и вы, дорогой князь, — сказал барон, встречая его. — Так вот, представьте… Доминик, через двадцать минут обед… После — не беспокоить нас… Представьте же себе, дорогой князь, я уже не думал, что вы придете.
— Почему же?
— Разве это не ясно? Ваше объявление войны сегодня утром было таким категоричным, что любые встречи выглядели уже бесполезными.
— Объявление войны?
Барон развернул номер «Большой газеты» и указал на заметку, озаглавленную «Сообщение». «Исчезновение господина Ленормана не могло не взволновать Арсена Люпэна, — гласила корреспонденция. — После краткого расследования, в продолжение своего намерения прояснить дело Кессельбаха, Арсен Люпэн принял решение найти господина Ленормана живым или мертвым и выдать правосудию виновного или виновных в этом злодеянии».
— Это сообщение, дорогой князь, исходит действительно от вас?
— Правда, от меня.
— Следовательно, я прав, между нами — война?
— Да.
Альтенгейм попросил Сернина сесть, сел сам и сказал ему самым миролюбивым тоном:
— Так вот, я не хочу этого допустить. Просто немыслимо, чтобы двое таких людей, как мы с вами, сражались между собой и причиняли друг другу вред. Надо только объясниться и поискать общий язык: мы созданы для согласия.
— А я, наоборот, полагаю, что такие люди, как мы, не созданы для согласия.
Барон сдержал жест нетерпения и продолжал:
— Послушай, Люпэн… кстати, ты не возражаешь, чтобы я называл тебя Люпэном?
— Как мне тогда называть тебя: Альтенгеймом, Рибейрой или Парбери?
— Ого! Ого! Вижу, ты гораздо лучше осведомлен, чем я предполагал. Дьявол! Палец в рот тебе не клади… Тем более мы должны поладить.
И продолжал, наклонившись к гостю:
— Послушай же, Люпэн, и подумай как следует над моими словами, среди них нет ни одного, которое я не взвесил бы самым зрелым образом. Мы оба сильны. Усмехаешься? Напрасно… У тебя, возможно, есть средства, которых у меня нет, но и я располагаю такими, о которых ты и не подозреваешь. К тому же, ты и это знаешь, я не щепетилен… Я искусен… И умею ловко перевоплощаться; такой мастер, как ты, должен был это оценить. Одним словом, противники друг друга стоят. Остается вопрос: почему мы должны быть противниками? Мы преследуем, скажешь ты, одну и ту же цель? А после? Знаешь ли ты, к чему приведет наше противостояние? Каждый из нас парализует усилия второго, и мы оба ее не достигнем, этой нашей цели. Кто же этим воспользуется? Какой-нибудь Ленорман, любой другой сукин сын… Это же просто глупо!
— Очень глупо, ты прав, — согласился Сернин. — Но от этого есть средство.
— Которое?
— Отступись.
— Не шути. Дело серьезное. Предложение, которое я тебе сделал, не из тех, которые отвергают просто так, не рассмотрев со всех сторон. Короче, вот оно: заключим союз!
— Ого!
— Каждый из нас при этом, разумеется, со своей стороны останется свободным, во всех своих собственных делах. Но в том деле, которое мы имеем в виду, наши усилия будут объединены. Идет? Рука об руку, и все — пополам.
— А в чем будет твой вклад?
— Мой-то?
— Да, твой. Тебе известно, что стою я: это мною не раз доказано. В том союзе, который ты мне предлагаешь, тебе известна, скажем так, величина моего вклада. Каким будет твой?
— Это Штейнвег.
— Очень мало.
— Наоборот много. Благодаря Штейнвегу мы узнаем правду о Пьере Ледюке. С его помощью мы будем знать, в чем состоял пресловутый проект Кессельбаха.
Сернин расхохотался.
— И для этого тебе нужен я?!
— Что ты хочешь сказать?
— Очень просто, милый мой, твое предложение — ребячество. Поскольку Штейнвег в твоих руках и ты нуждаешься еще в моей помощи, значит, тебе не удалось заставить его заговорить. Иначе ты обошелся бы без моих услуг.
— Так что же?
— Я отказываюсь!
Оба снова выпрямились, неукротимо, с вызовом.
— Я отказываюсь, — отчеканил Сернин. — Чтобы действовать, Арсен Люпэн не нуждается ни в ком. Люпэн добивается своего в одиночку. Будь ты равным мне, как это считаешь, тебе и в голову не пришла бы мысль о таком союзе. У кого стать вождя — тот приказывает. Объединяться — значит повиноваться. Я для этого не создан!
— Ты отказываешься? Ты отказываешься? — повторял Альтенгейм, все более бледнея от ярости.
— Все, что я могу сделать для тебя, милый мой, — кивнул князь, — это предоставить тебе место в моей шайке. Для начала — рядового солдата. Под моим руководством ты увидишь, как выигрывает битвы настоящий генерал… И как он присваивает добычу — целиком, ни с кем не делясь, для себя одного. Дошло, милок?
Альтенгейм в бешенстве скрипел зубами. Он процедил:
— Это ты зря, Люпэн, это ты зря… Мне тоже никто не нужен, и это дело меня затруднит не более, чем куча других, с которыми я успешно справился… Все, что сказано мною сегодня, — лишь для того, чтобы быстрее прийти к цели и друг другу притом не мешать.
— А ты и не мешаешь мне, — презрительно молвил Сернин.
— Вот еще! Если мы не вступим оба в долю, все достанется одному.
— И этого мне достаточно.
— Но он добьется своего только после того, как переступит через труп второго. Готов ли ты к такого рода дуэли, Люпэн? Не на жизнь, а на смерть, понимаешь? Удар ножа — этим способом ты пренебрегаешь; но если его получишь ты, да прямо в глотку?
— Ах, вот что! Это ты и хотел мне предложить!
— Нет, я не любитель мокрых дел… Погляди на мои кулаки. Я бью — и люди падают… И бью по-своему, тут я мастер… Но тот, другой — он убивает… Вспомни-ка… Те маленькие ранки в шею… О! Тот, третий, — берегись его, Люпэн! Он беспощаден и страшен. Ничто не может его остановить!
Он произнес это тихим голосом, и с таким волнением, что Сернин, вспоминая дела ужасного незнакомца, невольно тоже почувствовал дрожь.
— А ты, барон, — усмехнулся он, — похоже, боишься своего сообщника.
— Я боюсь за других, за тех, кто встает нам поперек дороги, за тебя Люпэн. Соглашайся, иначе ты погиб. А сам я, если потребуется, буду действовать и один. Цель слишком близка… Я почти ее достиг… Соглашайся — или отступись!
В нем было столько энергии и рвущейся наружу злой воли, столько грубой силы, что он казался готовым в любое мгновение ударить врага.
Сернин пожал плечами.
— Боже, как я проголодался! — сказал он, прикрывая рукой зевок. — Как поздно у тебя обедают!
Дверь открылась.
— Кушать подано, — объявил метрдотель.
— Ах! Золотые слова!
На пороге столовой Альтенгейм схватил его за локоть и, не обращая внимания на слугу, повторил:
— Это добрый совет… Соглашайся. Наступает решающий час. Так будет лучше, клянусь тебе, так будет лучше… Соглашайся!
— Черная икра! — воскликнул тут Сернин. — Ах! Вот это мило! Ты вспомнил, стало быть, что будешь угощать русского князя!
Они сели друг против друга, и гончая барона, крупный пес с золотистой мастью, занял место между ними.
— Позвольте представить вам Сириуса, своего лучшего друга.
— Мой соотечественник, — заметил Сернин. — Никогда не забуду того, которого мне подарил царь, когда я имел честь спасти ему жизнь.
— Ах, вы имели такую честь! Заговор террористов, вероятно?
— Да, заговор, который организовал я сам. И пес, представьте себе, звался Севастополь…
Обед продолжался в веселой обстановке. Доброе настроение вернулось к Альтенгейму, оба успешно состязались в остроумии и учтивости. Сернин рассказал несколько анекдотов, на которые Альтенгейм ответил другими, и разговор зашел об охоте, спорте и путешествиях, причем все время всплывали древнейшие имена Европы — испанских грандов, английских лордов, венгерских графов, австрийских эрцгерцогов.
Пес не отводил глаз от князя, хватая на лету все, что тот ему давал.
— Стаканчик чембертена, князь?
— Охотно, барон.
— Рекомендую его вам от души: оно — из подвалов короля Леопольда.
— Презент?
— Ну да, презент, который я сам себе и сделал.
— Восхитительное вино! Какой букет! С этим печеночным паштетом — истинное наслаждение. Поздравляю, барон, ваш шеф-повар — настоящий виртуоз.
— Не повар, а кухарка, князь. Я переманил ее за вес золота у Левро, депутата-социалиста. Попробуйте вот это какао-гласе и обратите благосклонное внимание на пирожные, которые к нему поданы. Гениальное изобретение, эти пирожные!
— С виду они просто объедение, — заметил князь, последовав приглашению. — И если внешность соответствует вкусу… Держи Сириус, это должно тебе понравиться… Сам римский лакомка Лукулл был бы от них в восторге.
Он быстро взял одно из пирожных и дал его собаке. Та проглотила его сразу, на две или три секунды застыла, словно в ошеломлении, закружилась на месте и упала, как пораженная молнией.
Вскочив с места, Сернин отступил на шаг, чтобы на него не напал внезапно один из слуг, и рассмеялся.
— Ну, ну, барон, — сказал он, — когда пытаешься отравить дорогого гостя, пусть твой голос хотя бы остается спокойным, а руки не вздрагивают… Так можно вызвать подозрения… Кто сказал мне, однако, что убийство ему претит?
— Если речь идет о ножах, — конечно, — безмятежно заявил барон, овладев собой. — Но мне почему-то всегда очень хочется кого-нибудь отравить… Хотелось опять почувствовать это острое наслаждение…
— Черт побери, дружок, ты хорошо выбираешь, кем бы тебе полакомиться! Русским князем!
Он подошел поближе и доверительно сообщил:
— А знаешь ли, что случилось бы, если бы это тебе удалось? То есть если мои друзья не увидели бы меня вновь самое позднее в три часа дня? Так вот, в три тридцать префект полиции узнал бы во всех подробностях, что следует думать о так называемом бароне Альтенгейме. Каковой барон был бы тут же подобран и посажен.
— Ба! — отозвался тот, — из тюрьмы можно и сбежать. А из царства, в которое я чуть было тебя не отправил…
— Да, оттуда не сбежишь. Но вначале надо меня туда послать. А это, как видишь, не легко.
— Кусочка такого пирожного для этого хватит вполне.
— Ты уверен?
— Попробуй сам.
— Определенно, милый мой, ты не создан для того, чтобы стать великим мастером Авантюры; и никогда им не станешь, раз подстраиваешь мне такие жалкие ловушки. Если чувствуешь себя достойным вести ту жизнь, которой мы имеем честь жить, надо быть также на это способным, а для этого — готовым к любым неожиданностям… Даже к тому, чтобы не умереть, если какой-нибудь низкий гнус попытается тебя отравить… Бесстрашный дух в неуязвимом теле — вот идеал, к которому должен стремиться такой человек… и которого он обязан достичь. Я как раз таков — бесстрашный дух в неуязвимом теле. Работай над собой, дружок. И помни историю царя Митридата[2].
И, сев на место, добавил:
— А теперь — за еду. Поскольку я стараюсь подтверждать наличие тех достоинств, которые себе присваиваю; поскольку, с другой стороны, мне не хотелось бы огорчать твою кухарку, дай-ка мне это блюдо с пирожными.
— Он взял одно, переломив его надвое, и протянул барону половину:
— Ешь!
Тот отшатнулся.
— Трус! — сказал Сернин.
И под взорами остолбеневших барона и его приспешников стал есть вначале первую, а затем и вторую половину пирожного, — спокойно и методично, как поедают лакомство, от которого боятся потерять малейшую крошку.
III
Они встретились снова.
В тот же вечер князь Сернин пригласил барона Альтенгейма в кабаре Вателя, где они ужинали в обществе поэтов, музыканта, финансиста и двух хорошеньких актрис из Французского театра. На следующий день они вместе обедали в Булонском лесу, а вечером встретились в Опере.
В течение недели они виделись ежедневно. Можно было подумать, что оба просто не в силах друг без друга обойтись, что их соединяет большая дружба, сотканная из доверия, уважения и симпатии. Они от души развлекались, пили добрые вина, курили отличные сигареты и заразительно смеялись.
На самом деле они наблюдали друг за другом, выслеживали друг друга свирепо, как звери. Смертельные враги, разделяемые ярой враждой, уверенные каждый в победе, стремясь к ней всей силой необузданной воли, они ожидали подходящей минуты. Альтенгейм — чтобы ликвидировать Сернина, Сернин — чтобы столкнуть Альтенгейма в пропасть, которую перед ним раскрывал. При этом оба знали, что развязка не заставит себя ждать. Один или другой на этом лишится головы, и вопрос был лишь в нескольких часах, самое большее — в днях.
Это была захватывающая драма, и такой человек, как Сернин, должен был сполна насладиться ее необычным, острым привкусом. Знать врага, почти не расставаться с ним, помнить, что при малейшем неверном шаге, при малейшем промахе тебя караулит смерть, — какой сладостный букет ощущений!
Однажды, в саду клуба на улице Камбон, членом которого являлся также Альтенгейм, они гуляли в одиночестве, в тот сумеречный час, когда в июне приступают к ужину и в который вечерние игроки еще не прибыли в свой клуб. Они прохаживались вокруг лужайки, вдоль которой, окаймленная кустарниками, тянулась стена с устроенной в ней калиткой. И внезапно, когда Альтенгейм о чем-то говорил, Сернину показалось, что его голос утратил уверенность, стал чуть ли не дрожащим. Рука Альтенгейма скользнула в карман пиджака, и Сернин увидел, словно пронизав взором ткань, как она сжалась на рукояти кинжала, то робеющая, то твердая, то опять бессильная.
Сладостные мгновения! Ударит ли он? Что в нем возьмет верх — боязливый ли инстинкт, способный остановить, либо сознательная воля, устремленная к убийству?
Выпрямившись, заложив руки за спину, Сернин ждал, вздрагивая от полноты ощущений. Барон умолк; теперь они шагали рядом в полной тишине.
— Ударь же, наконец! — воскликнул князь. Застыв на месте, он повернулся к спутнику. — Ударь, теперь или никогда! Никто не может тебя увидеть. Ты смотаешься потом через эту дверцу, ключ к которой, словно по чистой случайности, висит рядом на гвозде, и — привет, барон!.. Ни слуху, ни духу… Теперь мне ясно, это все подстроено. Ты специально меня сюда привел… И ты не решаешься? Ударь же!
Его взгляд проник в самую глубину глаз барона. Но тот оставался в неподвижности, побледневший, дрожа от бессильной ярости.
— Курица! — усмехнулся князь. — Мокрая курица! Просто нет смысла принимать тебя всерьез. Хочешь услышать правду? Так вот, я вызываю у тебя страх. Ну да, ты никогда не знаешь, что с тобой станет, когда ты передо мной, лицом к лицу. Тебе очень хочется действовать; но это я, мои действия, мои поступки определяют собой положение, развитие событий. Нет, определенно нет, ты вовсе не тот, кто хотя бы умерит сияние моей звезды!
Он не успел досказать последнего слова, когда почувствовал, что его охватили за шею и потянули назад. Кто-то, прятавшийся в кустарнике, рядом с калиткой, схватил его за голову. Он увидел поднятую руку, державшую блестящий клинок; рука резко опустилась, и острие ножа с размаху ударило его в шею.
В то же самое мгновение Альтенгейм на него набросился, чтобы его добить, и они покатились по клумбам. Все продолжалось не более тридцати секунд. Как бы он ни был силен, как ни тренирован в разных видах борьбы, Альтенгейм почти сразу, закричав от боли, уступил. Сернин вскочил на ноги и бросился к дверце, которая захлопнулась за чьим-то темным силуэтом. Слишком поздно! Он услышал, как в замке повернулся ключ. Калитка оказалась запертой.
— Ах, ты, бандит! — поклялся он. — День, когда я до тебя доберусь, станет днем моего первого убийства! Но, клянусь Богом…
Он вернулся, склонился и собрал обломки кинжала, который сломался в момент удара.
Альтенгейм между тем начал шевелиться.
— Ну что, барон, дела идут на поправку? — спросил Сернин. — Такого приема ты не знал? Я называю его прямым в солнечное сплетение, это отключает солнце вашей жизни, как задуваешь свечу. Чисто, быстро, без боли… и безошибочно. Не то, что удар ножом. Стоит надеть ворот из стальной кольчуги, какой сегодня на мне, и плевать тебе на всех, особенно — на твоего темнокожего приятеля, того низенького, который метит всегда в шею, твое идиотское чудовище. Погляди теперь на его любимую игрушку… Разбита вдребезги!
Он протянул ему руку.
— Давай, барон, поднимайся! Приглашаю тебя на ужин. И вспомни, кстати, тайну моего превосходства: бесстрашный дух в неуязвимом теле!
Он вернулся в салоны клуба, занял двухместный столик, устроился на диване и стал ждать часа вечерней трапезы, думая:
«Игра, конечно, интересна, но дело становится опасным. Надо кончать… Иначе эти скоты отправят меня в рай прежде, чем мне туда захочется самому… Самое досадное — что я против них бессилен, пока не сумею отыскать старика Штейнвега… Ибо, в сущности, только он чего-то и стоит, старый Штейнвег, и цепляюсь я еще за барона только потому, что надеюсь что-нибудь о нем узнать… Что они, черт их возьми, сделали со стариком? Можно не сомневаться в том, что Альтенгейм каждый день видится с ним, можно быть также уверенным, что он делает все возможное и невозможное, лишь бы вырвать у него сведения о проекте Кессельбаха. Но где он с ним встречается? Куда он его спрятал? К каким-нибудь друзьям? Либо держит у себя, на вилле Дюпон, в доме номер 29?»
Он надолго задумался, потом закурил сигарету, которую почти сразу же выбросил. Это было, по-видимому, условным знаком, так как к нему подошли и молча уселись рядом двое молодых людей, с которыми он, казалось, незнаком, но с которыми незаметно вступил в разговор.
Это были братья Дудвиль, на сей раз — в роли великосветских гуляк.
— Что нам делать, патрон?
— Возьмите десяток наших людей, отправляйтесь на виллу Дюпон и войдите в нее.
— Ух ты! Но как?
— Именем закона. Разве вы не инспектор Сюрте? Простой обыск…
— Но мы не имеем права…
— Присвойте его себе.
— А слуги? Если будет оказано сопротивление?
— Их всего четверо.
— Если они станут кричать?
— Они этого не сделают.
— А если вернется Альтенгейм?
— Раньше десяти часов он не вернется. Беру это на себя. Это больше, чем требуется для того, чтобы перевернуть дом вверх дном. Если обнаружите старика, сообщите мне немедленно.
Появился барон. Князь двинулся ему навстречу.
— Будем ужинать, не так ли? Это маленькое происшествие в саду прибавило мне аппетита. По этому поводу, дорогой барон, хочу кое-что вам посоветовать…
Они заняли места за столиком.
После ужина Сернин предложил партию в биллиард, которая была принята. Окончив ее, они перешли в зал, где шла игра в баккара. В ту минуту крупье как раз объявил:
— В банке — пятьдесят луидоров! Кто берет?
— Ставлю сто, — сказал Альтенгейм.
Сернин посмотрел на часы. Было ровно десять. Дудвили не возвращались; это означало, что поиски окончились неудачей.
— Банк, — молвил он.
Альтенгейм сел и раздал карты.
— Сдаю.
— Мне не надо.
— Семерка.
— Шестерка.
— Проиграл, — сказал Сернин. — Удвоим банк?
— Идет, — отозвался барон.
Он снова раздал карты.
— Восемь, — сказал Сернин.
— Девять, — открыл карты барон.
Сернин повернулся кругом, прошептав про себя:
— Это стоило мне трехсот луидоров… Зато могу быть спокойным: он пригвожден к месту.
Несколько минут спустя его машина остановилась перед виллой Дюпон. Дудвили и их люди были собраны в вестибюле.
— Вы не нашли старика?
— Нет.
— Гром и молния! Должен же он быть где-то здесь! Где слуги?
— В их комнате, связаны.
— Хорошо. Меня не должны видеть. Ступайте все. Жан, останешься здесь, на страже. Жак, покажи-ка мне дом.
Он быстро осмотрел погреб, чердак, почти при этом не останавливался, хорошо зная, что за несколько минут он не обнаружит того, что его люди не смогли найти за три часа. Но он тщательно запоминал последовательность и форму помещений. Окончив, возвратился к комнате, которую Дудвиль указал как принадлежащую Альтенгейму, и внимательно с ней ознакомился.
— Вот это мне подойдет, — сказал князь, приподняв занавес, прикрывавший темную каморку, заполненную одеждой. — Отсюда хорошо видна вся комната.
— Но если барон обыщет весь дом?
— Для чего?
— Но ведь слуги ему сообщат, что мы здесь побывали.
— Да, но ему и в голову не придет, что кто-нибудь из нас устроился у него. Он подумает, что наша попытка не удалась, вот и все. Следовательно, я остаюсь.
— А как вы выйдете?
— Ну, ты хочешь слишком много знать. Главное — войти. Ступай, Дудвиль, и закрывай за собой двери. Уходи вместе с братом… До завтра… Или, лучше, до скорой встречи…
— Либо, скорее…
— Обо мне не тревожьтесь. В нужное время я подам вам знак.
Он сел на небольшой сундук в глубине каморки. Вывешенное в четыре ряда платье прикрывало его. Если не будет предпринято специальных поисков, он был там в полной безопасности.
Прошло около десяти минут. Князь услышал глухой топот лошади, пробежавшей мимо виллы, звон колокольчика. Остановился экипаж. Внизу хлопнула дверь, и почти сразу до него донеслись голоса, возгласы, настоящий гвалт, усиливавшийся, по-видимому, по мере того, как очередной пленник освобождался от кляпа во рту. «Друзья объясняются, — думал князь. — Бешенство барона, должно быть, на вершине… Теперь он понимает смысл моего поведения этим вечером, в клубе, — что я его здорово околпачил… Околпачил, впрочем, весьма относительно, ибо до Штейнвега, в конце концов, так и не добрался… Вот первое, в чем он захочет убедиться: не отняли ли у него Штейнвега? А чтобы проверить, помчится к тайнику. Если поднимется вверх, значит — тайник над нами. Спустится вниз, значит — он в подвале».
Он прислушался. Голоса все еще слышались в комнатах первого этажа, но не было похоже, чтобы кто-нибудь куда-нибудь ходил. Альтенгейм, по-видимому, расспрашивал своих приспешников. Только полчаса спустя Сернин услышал, как кто-то поднимается по лестнице.
«Значит, старик спрятан наверху, — подумал князь. — Но почему барон не стал спешить?»
— Всем ложиться спать! — донеслась до него команда Альтенгейма.
Барон с одним из сообщников вошел в комнату и запер дверь.
— Я тоже ложусь, Доминик, — сказал он. — Можно об этом спорить хотя бы всю ночь — толку все равно не будет.
— Мое мнение, — отозвался второй, — что они искали Штейнвега.
— Мое — тоже, и именно поэтому я в душе смеюсь, так как Штейнвега здесь нет.
— Где же он, в конце концов? Что вы могли с ним сделать?
— Это — моя тайна, и мои тайны, как тебе известно, я оставляю при себе. Могу только сказать, что клетка достаточно надежна и он не выйдет из нее прежде чем заговорит.
— Так что князь останется с носом?
— Уверен. К тому же, чтобы прийти к такому результату, ему еще пришлось проиграть. Нет, есть над чем посмеяться вволю! Бедняга князь!
— Так или иначе, придется от него избавиться, — сказал второй собеседник.
— Будь спокоен, старина, за этим дело не станет, — заверил его Альтенгейм. — Не пройдет и восьми дней, и я подарю тебе памятный бумажник, выделанный из шкуры Арсена Люпэна. А теперь — дай мне поспать, я просто падаю от усталости.
Щелкнула закрывшаяся дверь. Затем послышалось, как барон задвигал засов, опорожнял свои карманы, заводил часы и стал раздеваться. Он был в отличном настроении, напевал и насвистывал, разговаривал даже громко с самим собой.
— Да, шкуру Люпэна… Не пройдет и восьми дней… Иначе не мы, а он обведет нас вокруг пальца, сукин сын… Ничего, нынче вечером он старался зря… Хотя расчет был точным: Штейнвег может быть только здесь… Только, вот…
Он лег в постель и сразу выключил электричество. Сернин подошел поближе к шторе, которую чуть приподнял; он увидел комнату, освещенную смутным светом ясной ночи, проникавшим в нее из окон, оставляя в глубоком мраке кровать. «Все ясно, — подумал он, — в дураках сегодня — я. Опростоволосился вконец. Как только он захрапит, я испаряюсь».
Но тут его озадачил глухой шум, какие-то звуки, доносившиеся со стороны постели, происхождение которых он не мог угадать. Что-то вроде едва слышного поскрипывания.
— Ну, как, Штейнвег, что будем делать?
Это говорил барон!
Не было, действительно, сомнения, что речь вел именно он. Но как мог он обращаться к Штейнвегу, если в комнате того не было? Тем не менее, Альтенгейм продолжал:
— Ну что, с тобой по-прежнему нельзя разговаривать?.. Так?.. Болван! Придется ведь все-таки рассказать, что тебе известно… Нет? Тогда — спокойной ночи. И — до завтра…
«Мне это приснилось, — подумал Сернин. — Либо сам барон разговаривает во сне. Расставим все по местам… Штейнвег не может быть рядом с ним, его нет и в соседней комнате… Нет в доме вообще… Альтенгейм сам это сказал. Что же кроется в этом ошеломительном эпизоде?»
Он заколебался. Схватить барона за глотку и вытянуть из него, угрозами и силой, все то, чего ему не удалось добиться хитростью? Пустое дело, Альтенгейм никогда не даст себя до такой степени запугать.
«Сматываю удочки, — сказал он себе. — Надо смириться с тем, что вечер пропал даром».
И все-таки он не ушел. Просто не смог уйти. Надо было ждать, случай мог оказать ему еще драгоценную услугу.
С величайшей осторожностью он снял с вешалок четыре или пять костюмов и пальто, расстелил их на полу, устроился на этом ложе и, прислонившись спиной к стене, преспокойно уснул.
Барон не стал просыпаться рано. Часы пробили где-то девять раз, когда он вскочил на ноги и вызвал слугу. Просмотрел почту, которую тот принес, в то время как камердинер заботливо вешал в каморке вчерашний костюм, а Сернин, держа кулаки наготове, рассуждал:
«Как быть? Не уложить ли мне на месте этого балбеса?»
В десять часов утра барон приказал:
— Ступай!
— Вот… еще этот жилет…
— Ступай, сказано тебе. Вернешься, когда позову. Не раньше.
Он сам притворил за слугой дверь, подождал немного, как делают недоверчивые люди, и, подойдя к столику с телефоном, снял трубку.
— Алло! Мадемуазель, прошу Гарш… Да, мадемуазель, жду вашего звонка…
Отходить от аппарата он не стал.
Сернин был охвачен дрожью нетерпения. Не станет ли барон разговаривать со своим таинственным сотоварищем по темным делам?
Звонок наконец прозвучал.
— Алло! — сказал Альтенгейм. — Это Гарш? Отлично!.. Мадемуазель, прошу номер 38… Да, тройка и восьмерка…
И, несколько секунд спустя, тихим голосом, как можно более тихим, но и более отчетливым, произнес:
— Номер 38?.. Это я… Не надо лишних слов… Вчера?.. Да, ты упустил его в саду… В следующий раз, конечно… Но дело становится срочным… Вчера вечером он устроил здесь обыск… Потом расскажу… Ничего, конечно, не нашел… Что-что? Алло!.. Нет, старик отказывается говорить… Угрозы, обещания, ничто не действует… Алло… Ну да, черт его побери, он знает, что мы бессильны… Проект Кессельбаха и история Пьера Ледюка известны нам лишь частично… Он один держит ключ к тайне… О! Он заговорит, и не далее, чем сегодня ночью, я ручаюсь… Иначе… Э, любые средства хороши, лишь бы он не смог удрать… Либо чтобы князь его у нас не свистнул… За три дня мы должны со всем покончить… Ты что-нибудь придумал?.. Да, неплохая мысль… Отличная даже, я этим с ходу займусь… Когда увидимся? Во вторник, согласен? Идет! Я приду во вторник, в два часа.
Он положил трубку и вышел. Сернин услышал, как он отдает распоряжения:
— Будьте сегодня начеку, вы все! Не дайте так глупо себя схватить, как вчера. Вернусь не раньше ночи.
Тяжелая дверь вестибюля закрылась, потом стукнула калитка в саду и послышался колокольчик на сбруе удаляющейся лошади.
Еще через двадцать минут явились двое слуг. Они раскрыли окна и убрали комнату.
Сернин подождал еще достаточно долго, до предполагаемого часа их обеда. Потом, полагая, что они уже в кухне, за столом, он выскользнул из каморки и начал проверять кровать и стену, к которой та была прислонена.
— Странно, — проговорил он, — очень странно. Ничего особенного не видно. У кровати нет двойного дна… Под нею — никакого люка… Поглядим в соседней комнате.
Он тихо прошел туда. Это была пустая комната без мебели.
— Нет, старика содержат не здесь… В толще вот этой стены? Невозможно, это скорее простенок, очень узкий. Ничего не понимаю, ей-богу!
Дюйм за дюймом он опять осмотрел пол, стену, кровать, тратя время на бесплодные эксперименты. В этом определенно был какой-то фокус, вероятно, даже весьма простой, но он пока не мог его разгадать.
— Если только, — сказал он себе, — Альтенгейм не бредил. Это — единственное возможное предположение… Но есть только один способ его проверить — остаться здесь. И я остаюсь. Будь что будет.
Чтобы не быть обнаруженным, он возвратился в свое убежище и больше не двигался, мечтая и подремывая, терзаемый, правда, сильным голодом.
И день склонился к закату; и настали сумерки.
Альтенгейм возвратился лишь после полуночи. Он поднялся в свою комнату, на этот раз — один, разделся, лег и, как накануне, выключил свет. Опять последовало тревожное ожидание. Тот же необъяснимый скрежет или скрип. И прежним насмешливым тоном Альтенгейм произнес:
— Ну как дела, дружите?.. Ругаешься?.. Ну нет, ну нет, милый мой, от тебя ждут совсем других слов. Ты не на правильном пути… Мне от тебя нужны честные признания, достаточно полные, подробные, касательно всего, что ты рассказывал Кессельбаху… История Пьера Ледюка и прочее, и прочее… Понятно?
Сернин слушал в ошеломлении. Ошибки на этот раз не было: барон действительно обращался к старику Штейнвегу! Потрясающая беседа! Казалось, ему слышится таинственный диалог живого и мертвого, разговор с безымянным существом, обитающим в ином мире, невидимым, неощутимым, несуществующим.
Барон продолжал с жестокой иронией:
— Ты, наверно, проголодался? Поешь, дружище. Но при этом помни, что я отдал тебе сразу всю пайку хлеба и, если ты будешь есть его по нескольку крошек в сутки, ты протянешь самое большее на неделю. Скажем, десять дней! Десять дней спустя — каюк, и все, папаши Штейнвега больше нет… Если, конечно, до тех пор ты не согласишься заговорить. Нет, ни за что? Ладно, завтра поглядим. Спи, милый мой, спи…
На следующий день, после ночи и утра без происшествий, князь Сернин покинул виллу Дюпон с безмятежным видом, правда — с легким головокружением и слабостью в ногах. Направляясь к ближайшему ресторану, он следующим образом подытожил положение:
«Итак, в следующий вторник Альтенгейм и убийцы из отеля Палас должны встретиться в Гарше, в доме, телефон которого носит номер 38. Следовательно, именно во вторник я выдам правосудию обоих преступников и освобожу господина Ленормана. В тот же вечер настанет черед старого Штейнвега, и я наконец узнаю, является ли Пьер Ледюк сыном колбасника и, следовательно, могу ли я достойным образом женить его на Женевьеве. Да будет так!»
Во вторник утром, к одиннадцати часам, Валенглей, председатель Совета Министров, пригласил к себе префекта полиции, заместителя шефа Сюрте господина Вебера и показал им письмо, полученное по пневматической почте и подписанное князем Серниным:
«Господин премьер-министр,
зная, как высоко цените Вы господина Ленормана, спешу поставить Вас в известность насчет некоторых фактов, открывшихся благодаря простой случайности. Господин Ленорман содержится в заключении в подвалах виллы Глициний, в Гарше, близ дома уединения. Бандиты из отеля Палас приняли решение убить его сегодня, в два часа пополудни. Если полиция будет нуждаться в моем содействии, я буду в половине второго в доме уединения, у госпожи Кессельбах, чьим другом имею честь являться.
Примите, господин премьер-министр, и т.д.
Подписано: Князь Сернин».
— Все это чрезвычайно серьезно, дорогой господин Вебер, — сказал Валенглей. — Могу добавить, что мы должны полностью доверять заявлениям князя Поля Сернина. Я не раз с ним ужинал. Это серьезный, умный человек…
— Не позволите ли, господин премьер-министр, — сказал заместитель шефа Сюрте, — ознакомить вас с другим письмом, полученным мною сегодня утром?
— По этому же делу?
— Да.
— Давайте посмотрим.
Он взял письмо и прочел:
«Милостивый государь,
настоящим предупреждаю Вас, что князь Поль Сернин, выдающий себя за друга госпожи Кессельбах, — не кто иной, как Арсен Люпэн. Доказательство — самое простое: имя Поля Сернина — не более, чем анаграмма Арсена Люпэна. В нем содержатся одни и те же буквы. Ни одной больше или меньше.
Подписано: Л.М.»
И господин Вебер добавил, в то время как Валенглей застыл в ошеломлении:
— На этот раз милейший Арсен Люпэн нашел себе достойного противника. Пока он его разоблачает, тот его выдает. И лиса — в капкане.
— И тогда?
— Тогда, господин премьер-министр, мы попробуем их примирить. А для этого я возьму с собой две сотни человек.
Глава 7
Оливковый редингот
I
Четверть первого. Ресторан близ площади Мадлен. Князь обедает. За соседний столик садятся двое молодых людей. Он здоровается с ними и вступает в разговор как с давними знакомыми.
— Вы тоже участвуете в экспедиции, не так ли?
— Да.
— Сколько вас всего?
— Кажется, шесть. Каждый подходит своей дорогой. Встреча с господином Вебером в без четверти два, около дома уединения.
— Хорошо, я буду.
— Как так?
— Разве не я веду это дело? Не я ли должен найти господина Ленормана, поскольку объявил об этом во всеуслышание?
— По-вашему, патрон, господин Ленорман жив?
— Уверен. Со вчерашнего же дня уверен также, что Альтенгейм и его банда доставили господина Ленормана и Гуреля на мост Буживаль и сбросили их в воду. Гурель утонул, а Ленорман выплыл. В должное время я все это докажу.
— Но почему он не показывается, если жив?
— Потому, что не находится на свободе.
— Значит, сказанное вами — правда? Его держат в подвалах виллы Глициний?
— Все об этом говорит.
— Но вы — как вы об этом узнали? По какому признаку?
— Это уже моя тайна. Все, что могу вам сообщить, это что развязка будет… как бы сказать… сенсационной. У вас все?
— Да.
— Моя машина — за площадью. Поедете со мной.
В Гарше Сернин отослал свой автомобиль, и они прошли к тропе, которая вела к школе Женевьевы. Там он остановился.
— Слушайте меня, ребята: вот самое важное. Вы позвоните в дом уединения. У вас есть на то право, ведь вы — инспектора. Пройдете к флигелю Гортензии, который не занят. Спуститесь там в подвал и увидите старый ставень; достаточно приподнять его, чтобы обнаружить вход в туннель, который я недавно нашел; он напрямую сообщается с виллой Глициний. Им пользовались для контактов служанка Гертруда и барон Альтенгейм. По нему господин Ленорман проследовал, чтобы, в итоге всего, попасть в руки своих врагов.
— Вы так думаете, патрон?
— Да, я так думаю. Дальше. Вы убедитесь в том, что туннель в том самом состоянии, в котором я оставил его нынешней ночью, что обе двери, которые его запирают, теперь открыты, и в углублении, около второй двери, лежит пакет, завернутый в черную саржу, который я туда положил.
— Развернуть его?
— Не нужно; в нем — смена одежды. Идите и старайтесь не быть на виду. Я вас жду.
Десять минут спустя они вернулись к нему.
— Обе двери открыты, — сказал один из Дудвилей.
— Пакет из саржи?
— На месте, около второй двери.
— Отлично. Теперь час двадцать пять. Вебер на подходе со своими героями. За виллой будут наблюдать. Как только Альтенгейм войдет, ее оцепят. Сам я, по уговору с Вебером, позвоню. Это будет началом моего плана. Вперед; уверен, скучать не придется.
И, отпустив братьев, Сернин удалился по дорожке, ведущей к школе, продолжая про себя:
«Все идет как можно лучше. Сражение будет дано на том поле, которое выбрал я сам. Я непременно должен выиграть, избавиться от обоих противников и остаться единственным в деле Кессельбаха… Единственным, с двумя прекрасными козырями: Пьер Ледюк и Штейнвег… И еще — король… То есть Биби… Остается еще, правда, загвоздка: что может сделать Альтенгейм? У него, конечно, тоже есть план наступления. С какой стороны поведет он атаку? И можно ли допустить, что она им еще не начата? Тревожный вопрос. Не выдал ли он меня полиции?
Он обходил лужайку перед школой, ученицы которой были еще на занятиях, и постучал в дверь.
— Вот и ты! — сказала госпожа Эрнемон, открывая. — А где Женевьева? Ты оставил ее в Париже?
— Для этого требовалось, чтобы Женевьева там побывала, — ответил он.
— Но она туда поехала по твоему вызову.
— Что ты говоришь?! — воскликнул он, схватив ее за обе руки.
— Как так? Тебе ведь это известно лучше, чем мне!
— Ничего я не знаю… Ничего не знаю… Говори же!
— Разве ты ей не написал, что она должна приехать к тебе на вокзал Сен-Лазар?
— И она отправилась?
— Ну да… Вы должны были пообедать вместе в отеле Риц…
— Письмо… Покажи мне письмо!..
Она поднялась наверх и принесла письмо.
— Но, несчастная, разве ты не заметила, что это подделка? Почерк подделан неплохо, но письмо фальшиво… Это бросается в глаза!
Он с яростью прижал кулаки к вискам:
— Вот он, тот удар, которого я ждал! Ах, проклятый! Он воспользовался ею, чтобы напасть… Но откуда ему известно?.. Э, нет, он ничего не знает… Вот уже два раза он пытается до нее добраться, но это — ради самой Женевьевы, он в нее, видимо, влюбился… О, нет, такое — никогда! Послушай, Виктуар, ты уверена, что она его не любит?.. Ну вот, я схожу с ума! Постой-ка… Постой… Я должен поразмыслить… И — такой неподходящий момент…
Он посмотрел на часы.
— Час тридцать пять… Время еще есть… дурак! Время — для чего? Разве я могу знать, где она теперь?
Он метался по вестибюлю, словно обезумев, и его старая кормилица не могла прийти в себя от удивления при виде того, как он волнуется, как мало владеет собой.
— В конце концов, — заметила госпожа Эрнемон, — Женевьева могла почуять в последний момент ловушку…
— Но где же она может быть?
— Возможно, у госпожи Кессельбах?
— Правда… Правда… Ты права! — воскликнул он с внезапной надеждой.
И бегом направился к дому уединения.
По пути, у ворот он встретил братьев Дудвиль, входивших к консьержам, от которых открывался вид на дорогу, что позволяло наблюдать за подходами к вилле Глициний. Не останавливаясь, он прошел прямо к флигелю Императрицы, вызвал Сюзанну и попросил провести его к госпоже Кессельбах.
— А где Женевьева? — спросил он вдову.
— Женевьева?
— Да, ее у вас не было?
— Нет, уже несколько дней.
— Но она должна прийти, не так ли?
— Вы так думаете?
— Уверен. Больше ведь ей некуда пойти. Может быть, вы забыли?
— Я напрасно пытаюсь вспомнить. Уверяю вас, мы не уславливались о встрече.
И добавила с внезапным испугом:
— Но вы чем-то обеспокоены? С Женевьевой что-нибудь случилось?
— Нет, ничего…
Он уже умчался. Внезапная мысль поразила его: а вдруг барона нет на вилле Глициний? А вдруг время встречи изменено?
— Я должен его повидать, — решил он. — Любой ценой.
И побежал, в растерянности, безразличный к окружающему. Но перед входом мгновенно обрел опять самообладание. Он увидел заместителя шефа Сюрте, разговаривавшего с братьями Дудвиль. В обычном состоянии, правда, от него бы не укрылось, что господин Вебер едва приметно вздрогнул, как только он появился. Но он не обратил на это внимания.
— Господин Вебер, не так ли? — спросил он.
— Да. С кем имею честь?
— Князь Сернин.
— Очень хорошо. Господин префект полиции сообщил мне, какую важную услугу вы оказали нам, мсье.
— Услуга будет полной только тогда, когда я вручу вам обоих бандитов.
— Это случится скоро. По-моему, один из них как раз вошел в дом… Весьма крепкий мужчина с моноклем.
— Вы правы, это барон Альтенгейм. Ваши люди на месте, господин Вебер?
— Да, в засаде на дороге, в двухстах метрах отсюда.
— Так вот, господин Вебер, мне кажется, что вы можете их собрать и привести сюда, к входу. Отсюда мы двинемся к вилле. Я позвоню. Поскольку барон знает меня, он мне, вероятно, откроет. И я войду… вместе с вами.
— Отличный план, — заметил Вебер. — Я сейчас вернусь.
Он вышел из сада и пошел по дороге, в сторону, противоположную вилле.
Сернин схватил за руку одного из братьев Дудвиль.
— Жак, беги за ним. Займи его чем-нибудь… Пока я проникну в виллу… А после — оттягивай штурм… как только сможешь, под разными предлогами… Мне нужно десять минут. Пусть окружают виллу, но не врываются. Ты, Жан, встанешь во флигеле Гортензии у входа в подземный туннель. Если барон попытается из него выбраться, разбей ему башку.
Дудвили ушли. Князь поспешил к высокой железной решетке ко входу в виллу Глициний.
Решится ли он позвонить?
Вокруг не было ни души. Одним прыжком он бросился на решетку, поставив ногу на край замка; цепляясь за перекладины, опираясь коленями, взбираясь силой рук все выше и выше, он сумел, рискуя застрять на острых пиках, перелезть через забор и спрыгнуть наземь. За оградой был мощеный двор, который он быстро пересек. Князь взбежал по ступенькам перистиля с колоннами, на который выходили окна, доверху закрытые ставнями.
Пока он гадал, как бы забраться внутрь, дверь с металлическим стержнем приоткрылась — он сразу вспомнил двери виллы Дюпон. И Альтенгейм появился перед ним.
— Объясните, прошу вас, князь, — сказал барон, — вы всегда врываетесь таким образом в частные владения? Я буду вынужден обратиться к жандармам, дорогой!
Сернин схватил его за глотку и повалил на диванчик, стоявший в прихожей.
— Женевьева!.. Где Женевьева?.. Если ты сейчас же не скажешь, что ты с нею сделал, мерзавец…
— Прошу тебя заметить, — пролепетал барон, — что ты мешаешь мне говорить.
Сернин отпустил его.
— К делу! Да побыстрее! Отвечай! Женевьева?
— Есть дело, — отозвался барон, — гораздо более срочное, особенно если разговор идет между такими молодцами, как мы с тобой. Для этого надо надежно уединиться.
Он старательно запер дверь, задвинув засовы. Затем, отведя Сернина в соседний салон, большую комнату без мебели и занавесок, сказал:
— Теперь я в твоем распоряжении. Чем могу служить, князь?
— Женевьева?
— Она чувствует себя прекрасно.
— Ах! Ты признаешься!
— Еще бы! Скажу даже, что твоя беспечность в этом смысле меня удивляет. Как ты мог не принять мер предосторожности? Было просто неизбежно…
— Довольно! Где она?
— Твой тон невежлив…
— Где она?
— В четырех стенах… Свободна…
— Свободна?
— Да, свободна разгуливать от стенки к стенке.
— В вилле Дюпон, конечно? В той тюрьме, которую ты устроил для Штейнвега?
— Ах! Знаешь ли… Нет, она не там.
— Тогда где? Говори, иначе…
— Ну что ты, милый князь! Считаешь меня дураком, способным выдать тебе тайну, с помощью которой держу тебя за горло? Ты влюблен в эту крошку…
— Молчать! Запрещаю тебе! — вскричал Сернин вне себя.
— А что? Разве это позор? Ведь я-то в нее влюблен и потому пошел на риск…
Он не закончил речь, испуганный вдруг страшным гневом Сернина, той сдержанной, безмерной яростью, которая исказила его черты.
Они долго всматривались друг в друга, пытаясь найти, каждый по-своему, слабое место у противника. Наконец Сернин сделал шаг к барону и произнес четко, более угрожая, чем предлагая союз:
— Послушай же. Помнишь, ты как-то предлагал мне объединиться? Дело Кессельбаха — на двоих… Действовать вместе… Разделить прибыли… Я отказался. Сегодня я согласен.
— Слишком поздно.
— Погоди. Я согласен на большее — отступиться от этого дела. Ни во что более не вмешиваюсь. Ты получишь все. При надобности даже готов тебе помочь.
— Условия?
— Женевьева. Скажи, где она?
Барон пожал плечами.
— Ты мелешь чепуху, Люпэн. Просто больно слушать… В твоем-то возрасте…
Между обоими противниками опять воцарилось грозное безмолвие. Наконец барон саркастически усмехнулся:
— До чего, однако, приятно видеть, как ты хнычешь, как просишь, как нищий, милостыню. Теперь можно сказать: простой солдат утер нос генералу…
— Болван, — прошептал Сернин.
— Князь, я пришлю тебе вечером своих секундантов… если ты будешь еще на этом свете.
— Болван! — с бесконечным презрением повторил Сернин.
— Хочешь, покончим со всем сразу? Как хочешь, князь, настал твой последний час. Можешь поручить свою душу Господу. Улыбаешься? Напрасно. У меня перед тобой — огромное преимущество: я убиваю… Если в том есть необходимость. А она теперь появилась.
— Болван! — еще раз сказал Сернин.
Он вынул часы.
— Два пополудни, барон. Тебе осталось не более нескольких минут. В пять минут, в десять минут третьего, не позднее, господин Вебер и полдюжины молодцов, не привыкших кого-нибудь стесняться, взломают двери твоего логова и схватят тебя за ворот. Теперь не следует усмехаться тебе. Тот выход, на который ты рассчитываешь, раскрыт. Я знаю его, и он — под охраной. Так что попался ты теперь по-настоящему. Это эшафот, старина.
Альтенгейм побледнел. Он пробормотал:
— Ты на это пошел?.. Ты имел низость?..
— Дом окружен. Штурм неминуем. Говори, и я тебя спасу.
— Но как?
— Люди, охраняющие выход из флигеля, — мои люди. Я дам тебе пароль для них, и ты спасен.
Альтенгейм немного подумал, казалось — заколебался, но вдруг, решившись, объявил:
— Пустая болтовня. Ты не так наивен, чтобы самому броситься в пасть льва.
— Ты забыл о Женевьеве. Не будь ее — меня не было бы здесь. Говори.
— Нет.
— Пусть так. Подождем. Сигарету?
— Охотно.
— Ты слышишь? — спросил Сернин несколько секунд спустя.
— Да… Да… — ответил Альтенгейм, поднимаясь.
Послышались удары, потрясавшие чугунный забор. Сернин сказал:
— Даже без положенных требований — открыть именем закона… Никаких предупреждений… Ты все стоишь на своем?
— Более чем когда-либо.
— Понимая, что с их средствами они скоро будут здесь?
— Будь они в этой комнате, я бы все равно тебе отказал.
Калитка открылась. До них донесся скрип петель.
— Дать себя поймать — это еще понятно, — сказал Сернин, — но протягивать самому руки, чтобы на них надели наручники, — для этого нужно быть идиотом. Давай, не упрямься. Говори и сматывайся.
— А ты?
— Я останусь. Чего мне бояться?
— Тогда погляди.
Барон указывал ему щель в ставнях. Сернин заглянул в нее и отшатнулся.
— Ах, ты, бандит, ты тоже меня выдал! Там уже не десяток, там полсотни, сотня, там две сотни полицейских, которых привел Вебер!
Барон откровенно потешался:
— И если их столько, значит, речь идет о Люпэне, не так ли? Для меня хватило бы и полдюжины.
— Ты заявил в полицию?
— Да.
— И что привел в доказательство?
— Твое имя. Поль Сернин, то есть Арсен Люпэн.
— И ты до этого докопался один, ты сам? До того, о чем никто ни разу не подумал? Вот еще! Это угадал тот, другой, признайся!
Он смотрел сквозь щель. Тучи полицейских рассыпались вокруг виллы. Удары сотрясали уже парадную дверь.
Пора было поразмыслить либо об отступлении, либо об исполнении плана, который он придумал. Но отлучиться хотя бы на мгновение — означало бы оставить Альтенгейма, и кто мог бы поручиться, что в распоряжении барона не оставалась еще одна лазейка, по которой он мог удрать? Эта мысль привела Сернина в смятение. Барон — на свободе! Барон, вольный возвратиться в то место, где держит взаперти Женевьеву, и подвергнуть ее пыткам, и навязать ей рабство своей омерзительной страсти!
Не в силах выполнить намеченное, вынужденный сымпровизировать новый план, причем — в ту же самую секунду, подчинив все необходимости предотвратить опасность, которая грозила Женевьеве, Сернин пережил мгновения жестоких колебаний. Пронизывая глаза барона пристальным взором, князь больше всего стремился вырвать у того тайну и уйти; он не пытался теперь даже его убедить, такими бесполезными казались ему слова. И, продолжая об этом думать, он спрашивал себя, какими могли быть теперь мысли барона, какое оружие оставалось еще в его руках, что давало ему надежду на спасение. Дверь вестибюля, хотя и надежно запертая на засов, хотя и обитая листами железа, зашаталась под ударами. Голоса, смысл слов все яснее доносились до них.
— Ты все еще уверен в себе, — заметил Сернин.
— Клянусь дьяволом! — воскликнул барон и, подставив ему подножку, бросил его наземь и пустился бежать.
Сернин тут же вскочил на ноги, вбежал в небольшую дверцу под парадной лестницей, за которой исчез барон, и, скатившись по каменным ступенькам, оказался в подвале… Узкий кулуар, просторный низкий зал, почти в полном мраке… И вот уже перед ним Альтенгейм, на коленях, пытающийся открыть створку люка.
— Идиот! — крикнул Сернин, бросаясь на него. — Ты же знаешь, что в конце подземного хода ждут мои люди с приказом убить тебя как собаку… Если только… Если только у тебя нет другого выхода, примыкающего к этому… Ага, вот оно что, черт возьми! Я угадал!.. И ты вообразил…
Борьба завязалась яростно. Альтенгейм, настоящий великан, наделенный редкостной мускулатурой, охватил противника руками и пытался его задушить.
— Ну да… Ну да… — с трудом говорил при этом князь, — у тебя все по плану… Пока я не могу действовать руками, преимущество — за тобой… Но сколько ты сможешь меня удерживать?..
И тут он вздрогнул. Створка люка, на которой топтались борющиеся и которая упала было на место, казалось, опять пришла в движение. Он чувствовал, какие усилия кто-то третий прилагал для того, чтобы ее приподнять. Это, видимо, почувствовал и барон, так как он теперь изо всех сил старался оттащить князя в сторону, чтобы люк мог открыться.
«Это тот, другой! — подумал Сернин с тем безотчетным ужасом, который вызывал у него таинственный незнакомец. — Тот, другой! Если он выберется наверх, я погиб!»
Незаметными движениями Альтенгейм сумел отодвинуться и пытался увлечь противника за собой. Но тот цеплялся ногами за его ноги, изворачиваясь, чтобы высвободить одну из рук.
Наверху, над ними, слышались тяжелые удары, словно кто-то пробивал себе дорогу тараном.
«У меня еще пять минут, — подумал Сернин. — Минуту спустя этот громила должен быть…»
И громко произнес:
— Внимание, милый мой! Теперь — держись!
С невероятным напряжением он сомкнул колени. Барон взвыл — его бедро оказалось вывернутым. И тогда князь, пользуясь моментом, еще одним отчаянным усилием выпростал правую руку и схватил его за глотку.
— Вот так! Теперь нам стало удобнее. Ну нет, не стоит доставать нож… Иначе задушу тебя, как цыпленка… Ты видишь, я еще соблюдаю приличия… Не слишком еще жму… Ровно столько, чтобы отбить у тебя охоту трепыхаться…
Продолжая говорить, он извлек из кармана тонкий, но крепкий шнурок и одной рукой, с невероятной ловкостью связал барону кисти рук. Едва дыша, тот не оказывал уже особого сопротивления. Несколькими четкими движениями Сернин крепко его связал.
— Ах, какие мы разумные! В добрый час! Тебя просто не узнать. Теперь, на случай, если тебе захочется смыться, — вот моточек проволоки, которым мой скромный труд будет завершен… Сначала — ручки… Теперь — ножки… Вот так. Боже, какой ты теперь пай-мальчик!
Между тем барон стал потихоньку приходить в себя. Он пролепетал:
— Если ты меня выдашь, Женевьева умрет.
— Ну да! Почему? Объясни.
— Она заперта. Никто не знает, где. Без меня она умрет с голоду. Как и Штейнвег…
— Да, но ты скажешь мне…
— Ни за что.
— Скажешь. Не теперь, сейчас уже поздно, но в эту ночь.
Он наклонился над ним и тихо, на ухо, сказал:
— Послушай, Альтенгейм, и пойми как следует. Скоро тебя сцапают. Спать сегодня будешь в камере. Это неотвратимо; сам я не могу тут ничего поделать. Завтра тебя повезут в тюрьму Санте, а после — знаешь куда… Так вот, даю тебе последний шанс спастись. В эту ночь — ты слышишь, в эту ночь — я пройду в твою камеру в Депо[3], и ты скажешь мне, где находится Женевьева. Два часа спустя, если только не соврешь, ты будешь свободен. Иначе… Иначе тебе просто не дорога жизнь.
Барон не отвечал. Сернин поднял голову и прислушался. Сверху доносился страшный грохот. Дверца начала поддаваться. По плиткам вестибюля и полу салона грохотали башмаки — господин Вебер и его люди искали свою добычу.
— Прощай, барон, подумай до вечера. Камера — отличная советчица.
Сернин столкнул своего пленника с люка и поднял створку. Как он и ожидал, внизу, на ступеньках лестницы уже никого не было. Он стал спускаться, оставив за собой открытый люк, как будто собирался вернуться. За двадцатью ступеньками начинался кулуар, который господин Ленорман и Гурель прошли в противоположном направлении. Он вступил в него и внезапно вскрикнул. Впереди, чувствовалось, кто-то был.
Сернин включил электрический фонарик. Подземный ход был пуст.
Тогда он взвел курок револьвера и громко сказал:
— Тем хуже для тебя! Буду стрелять!
Ответа не было. Ни малейшего шума.
«Мне это, вероятно, почудилось, — подумал он. — Это создание стало для меня наваждением. Давай! Если хочешь добраться до выхода, надо поторопиться… Ямка, в которой лежит сменное платье, уже близка… ты берешь пакет — и партия сыграна. Да какая партия! Одна из лучших в карьере Люпэна!»
Он наткнулся на открытую дверь и остановился. Справа находилась выемка, та самая, которую господин Ленорман выкопал, чтобы избежать прибывавшей воды. Он нагнулся и направил сноп света в эту выемку.
— Ох! — воскликнул он с дрожью. — Не может быть! Дудвиль, наверно, оставил пакет немного дальше.
Но не к чему было искать, всматриваться во тьму. Пакета на месте не было. Как не было уже у него сомнения в том, что его забрало то самое таинственное существо.
«Жаль, жаль… Все складывалось так удачно… Вся история пошла по естественному пути, я мог с уверенностью достигнуть цели. Сейчас задача в том, чтобы побыстрее испариться… Дудвиль во флигеле… Отступление обеспечено… Шутки в сторону — надо поспешить и продолжить, если можно, дело… А потом мы займемся им… Пускай он побережется моих когтей, этот чертов некто…»
Но новый возглас вырвался у него вскоре — возглас отчаяния. Он добрался до второй двери, и она, последняя перед флигелем, была заперта. Он попытался с размаху ее высадить. Дверь не поддавалась. Делать было нечего.
«На этот раз, — подумал он, — я действительно погорел».
Сернин устало опустился на землю. Он еще раз убедился в своей слабости перед лицом таинственного существа — сообщника барона. Альтенгейм был не в счет. Тот, другой, творение безмолвия и мрака, — тот, другой, его подавлял, путал все его комбинации, лишал его сил коварными, дьявольскими выпадами.
Он был побежден.
Вебер скоро найдет его здесь, в пещере, — загнанного, подобно дикому зверю.
II
«О нет, нет! — подумал он вдруг, встрепенувшись. — Если бы был только я — возможно. Но есть еще Женевьева, Женевьева, которую этой ночью надо спасти… В конце концов, ничто еще не потеряно… Если тот, другой сумел ускользнуть — значит где-то здесь есть еще один выход. Ничего, Вебер с его бандой меня еще не схватили!»
Он уже снова осматривал туннель, с фонариком в руке исследовал кирпичи, из которых местами состояла кладка, когда до него донесся крик — ужасный, устрашающий, заставивший его задрожать от мучительной тревоги.
Этот вопль донесся со стороны люка. И он вспомнил вдруг, что оставил люк открытым, когда еще был намерен возвратиться в виллу Глициний. Сернин поспешил обратно, вошел в первую дверь. Фонарик между тем погас, и он почувствовал что-то, скорее — кого-то, кто коснулся его колен, ползком пробираясь вдоль стены. Тут же у него возникло ощущение, что это существо мгновенно исчезло, провалилось неведомо куда. Почти в тот же миг он наткнулся ногой на ступеньку.
«Здесь и должен быть выход, — решил он, — тот второй выход, которым он пользуется».
Крик наверху повторился, слабеющий, со стонами и хрипом… Он бегом поднялся по лестнице, выскочил в низкий зал и подбежал к барону. Альтенгейм был в агонии, его шея — в крови. Веревки на нем были разрезаны, но проволока, перетянувшая лодыжки и кисти рук, осталась нетронутой. Не сумев его освободить, сообщник перерезал Альтенгейму глотку.
Сернин со страхом созерцал открывшуюся перед ним картину. С его висков стекал ледяной пот. Он думал о Женевьеве, заточенной, без надежды на помощь — один лишь барон знал, где она содержится.
Стало слышно, как полицейские открывают боковую дверцу из вестибюля. Отчетливо прозвучали их шаги по служебной лестнице. Между ними и им оставалась только одна дверь — в тот низкий зал, в котором он находился. Он запер ее на засов в то самое мгновение, когда они ухватились за дверную ручку. Рядом с ним зиял открытый люк… Это было единственным спасением — внизу оставался запасной выход.
«Нет, — сказал он себе. — Вначале — Женевьева. Потом, если сумею, позабочусь также о себе…»
И, встав на колени, положил руку на грудь барона. Сердце еще билось. Он наклонился еще ниже.
— Ты слышишь меня, не так ли?
Веки умирающего затрепетали. Жизнь не совсем еще в нем угасла. Но чего можно было добиться от этого подобия земного существа? Последняя преграда — дверь в зал — затрещала под ударами. Сернин прошептал:
— Я тебя спасу… У меня есть надежные лекарства… Одно только слово… Женевьева?..
Проснувшаяся надежда, казалось, придала барону силы. Он попытался что-то сказать.
— Отвечай, — требовательно продолжал Сернин, — отвечай, и я тебя спасу… Сегодня получишь жизнь… Завтра — свободу… Отвечай!
Дверь все сильнее шаталась под ударами.
Барон издавал нечленораздельные звуки. Склонившись над ним, в смятении, напрягая всю свою волю, всю свою энергию, Сернин тяжело дышал от безмерной тревоги. Полицейские, неизбежный арест, тюрьма — он об этом теперь не думал. Женевьева… Женевьева, умирающая без пищи, которую одно только слово этого негодяя могло теперь спасти…
— Отвечай! Ты должен!
Он приказывал, молил. Альтенгейм забормотал, словно завороженный, покоренный его властной волей:
— Ри… Риволи…
— Улица Риволи, так? Ты запер ее в доме на этой улице? Какой номер?
Громкий шум… Крики торжества… Дверь рухнула под напором нападающих.
— Хватайте! Хватайте их! — командовал господин Вебер. — Хватайте обоих!
— Номер… Говори же… Если ты ее полюбил… Какой теперь смысл молчать?..
— Двадцать… Двадцать семь… — прошептал барон из последних сил.
На Сернина легли чьи-то руки. Десяток револьверов грозил ему со всех сторон.
Он повернулся к полицейским, которые отступили в невольном страхе.
— Если ты пошевелишься, Люпэн, — закричал господин Вебер, наставив на него оружие, — застрелю!
— Не стреляй, — спокойно сказал Сернин, — нет нужды. Я сдаюсь.
— Фокусы! Еще одна уловка на твой манер!
— Нет, — отозвался Сернин, — я проиграл бой. Ты не имеешь права стрелять: я не защищаюсь.
Он вынул два револьвера, которые бросил на пол.
— Уловки! — повторил господин Вебер с яростью. — Цельтесь в сердце, ребята! При малейшем жесте — огонь! При малейшем слове — огонь!
Вокруг стояло десять его людей. Он добавил еще пятнадцать. Приказал всем наставить оружие. И, торжествуя, дрожа от радости и страха, цедил сквозь зубы:
— Прямо в сердце! В голову! Без пощады! Едва пошевелится! Едва заговорит! Огонь, в упор!
Держа руки в карманах, Сернин невозмутимо усмехался. В двух дюймах от каждого его виска его подстерегала смерть. Пальцы лежали на спусковых крючках.
— Ага! — осклабился Вебер, — какое милое зрелище! На этот раз уж мы попали в яблочко, да так, что тебе не выпутаться, мсье Люпэн!
Он приказал распахнуть ставни широкого слухового окна, по которому дневной свет ворвался в зал, и повернулся к Альтенгейму. Но, к его великому удивлению, барон, которого он считал мертвым, открыл глаза, помутневшие глаза, ужасающие, наполненные небытием. Он посмотрел на господина Вебера. Поискал, казалось, кого-то и, увидев Сернина, затрепетал от ярости. Барон сбрасывал, казалось, оцепенение, внезапно разбуженная ненависть вернула ему отчасти силы.
Он оперся на связанные руки и пытался заговорить.
— Вы узнаете его? — спросил господин Вебер.
— Да.
— Он — Люпэн, не так ли?
— Да… Люпэн…
Сернин слушал, продолжая улыбаться.
— Боже, как все это забавно! — заявил он.
— Хотите еще что-то сказать? — спросил господин Вебер при виде того, как отчаянно беззвучно шевелятся губы барона.
— Да.
— По поводу господина Ленормана, возможно?
— Да.
— Вы заперли его? Где же? Отвечайте…
Всем своим напрягшимся существом, всем безумным взором Альтенгейм указывал стенной шкаф в углу зала.
— Там… Там… — произнес он наконец.
— Ах, ах, мы горим! — усмехнулся Люпэн.
Господин Вебер самолично открыл шкаф. На одной из полок лежал пакет, обернутый черной саржей. Развернув его, он увидел шляпу, небольшую коробку, костюм… Он вздрогнул, узнав оливковый редингот господина Ленормана.
— Ах, проклятые! — воскликнул он. — Они его убили!
— Нет, — подал знак Альтенгейм.
— Тогда как же?..
— Это он… Он…
— Как то есть? Это Люпэн убил шефа?
— Нет.
С яростным ожесточением Альтенгейм продолжал цепляться за жизнь, охваченный жаждой свидетельствовать, обвинять… Тайна, которую ему так хотелось открыть, была уже на устах, но он не мог, не умел уже воплотить ее в слова.
— Давайте, — настаивал тем не менее заместитель шефа Сюрте, — господин Ленорман действительно мертв?
— Нет.
— Он жив?
— Нет.
— Не понимаю… Так что же, это платье? Этот редингот?..
Альтенгейм повернул глаза к Сернину.
— Ага, теперь ясно! — воскликнул Вебер. — Люпэн похитил одежду господина Ленормана и хотел ею воспользоваться, чтобы улизнуть!
— Да… Да…
— Недурно! — кивнул господин Вебер. — Это тоже в его манере. И мы нашли бы в этой комнате Люпэна, переодетого, словно он Ленорман, наверно, еще и связанного… Для него это могло стать спасением. Только он не успел… Именно это вы хотели сказать, не так ли?
— Да… Да…
По взорам умирающего, однако, господин Вебер чувствовал, что в этом деле было еще что-то, что ему открылся еще не весь секрет. В чем дело? В чем скрывалась странная, неисповедимая тайна, которую барон так хотел выдать перед смертью? Он продолжал допрос.
— Но где же сам господин Ленорман?
— Там…
— Как это — там?
— Да…
— Но в этой комнате никого нет, кроме нас!
— Есть… есть…
— Говорите же!
— Есть… Сер… Сернин…
— Сернин! Как! Что такое!
— Сернин… Ленорман…
Господин Вебер подскочил. Его внезапно осенило прозрение.
— Нет, нет, это невозможно, — пробормотал он. Это было бы безумием.
Он с подозрением взглянул на своего пленника. Сернин, казалось, от души забавляется, присутствуя при этой сцене, как посторонний, наслаждающийся перипетиями веселого происшествия и с нетерпением ожидающий развязки.
Утратив последние силы, Альтенгейм во всю длину растянулся на полу. Не испустит ли он дух прежде, чем выдаст ключ загадки, поставленной его туманными речами? Потрясенный нелепой, невероятной догадкой, которой он не мог допустить, господин Вебер опять на него насел:
— Объяснитесь же… Что за этим кроется? Какая тайна?
Тот, казалось, уже не слышал, неподвижный, с угасшим взором. Тогда господин Вебер растянулся рядом с ним на полу и произнес отчетливо, чеканя слова, стараясь, чтобы каждый слог глубоко проник в эту душу, утонувшую уже во мраке:
— Слушайте… Я вас верно понял? Люпэн и господин Ленорман…
Веберу потребовалось немалое усилие, чтобы это сказать, — такой чудовищной показалась ему напрашивавшаяся фраза. Угасающие глаза барона, однако, глядели на него с тревогой. И он завершил, дрожа от возбуждения, словно совершая величайшее кощунство:
— Это так, правда? Ты уверен? Эти оба — одно и то же лицо?
Глаза барона были уже неподвижны. Струйка крови сочилась из уголка его рта… Два или три хриплых вздоха… Последняя судорога… И все. В зале с низким потолком, наводненным народом, наступила долгая тишина. Почти все полицейские, сторожившие Сернина, отвернулись от него и, ошеломленные, не понимая либо отказываясь понимать, продолжали еще слушать невероятное обвинение, которое бандит не успел досказать.
Господин Вебер взял коробку, найденную в свертке из черной саржи, и открыл ее. В ней оказался парик из седых волос, очки в серебряной оправе, коричневый шарф, краски и мази для макияжа, а за двойным дном — пакетик с мелкими кудрями седого волоса, короче — все, что требовалось для того, чтобы придать себе доподлинную внешность господина Ленормана.
Вебер подошел к Сернину и, в безмолвии поглядев на него долгим, задумчивым взглядом, мысленно восстанавливая каждую фразу всей истории, тихо сказал: «Итак, это правда?»
Не утратив ни на мгновение спокойствия, Сернин отозвался с улыбкой:
— Гипотеза не лишена ни изящества, ни смелости. Но, прежде всего, прикажи своим людям оставить меня в покое с их игрушками.
— Хорошо, — согласился господин Вебер, сделав знак полицейским. — А теперь — отвечай.
— Что ты хочешь знать?
— Так ты и есть господин Ленорман?
— Да.
Послышались возгласы. Жан Дудвиль, присутствовавший при этом, тогда как его брат сторожил потайной выход, Жан Дудвиль, сам — сообщник Сернина, смотрел на него, не в силах прийти в себя. Утратив дар речи, господин Вебер, казалось, не знал, что и делать.
— Это тебя удивляет, да? — сказал Сернин. — Согласен, есть над чем посмеяться… Боже, сколько раз ты меня веселил, когда мы работали вместе, ты и я, шеф и заместитель!.. И самое смешное — что ты считал его умершим, нашего славного господина Ленормана… Погибшим, как бедняга Гурель. Но нет, черт возьми, нет! Он был жив.
Он кивнул в сторону тела Альтенгейма.
— Вот этот бандит, погляди на него, бросил меня в воду в мешке с булыжниками. Да только забыл отнять у меня нож. А таким ножом можно рассекать мешки, разрезать веревки… Вот в чем было дело, бедняга Альтенгейм… Если бы ты об этом подумал, не попал бы в такой переплет… Но довольно об этом. Мир праху твоему!
Господин Вебер по-прежнему слушал, не зная, что подумать. В конце концов он безнадежно махнул рукой, словно отказываясь что-либо понимать.
— Наручники! — воскликнул он с внезапной тревогой.
— И это все, что ты смог придумать? — сказал Сернин. — Маловато же у тебя воображения… В конце концов, если это тебя позабавит…
И, приметив Дудвиля в первом ряду стражей порядка, протянул ему руки:
— Держи, друг, тебе эта честь, и не надо так напрягаться… Играю честно… Поскольку иначе нельзя…
Своим тоном он давал ему понять, что борьба на время окончена, придется подчиниться судьбе. Дудвиль защелкнул наручники. Не шевеля губами, с совершенно неподвижным лицом Сернин прошептал:
— Улица Риволи, номер 27… Женевьева…
Господин Вебер не мог скрыть глубочайшего удовлетворения.
— Поехали! — возгласил он. — В Сюрте!
— Да, да, в Сюрте! — воскликнул Сернин. — Господин Ленорман посадит наконец Арсена Люпэна, который, в свою очередь, посадит князя Сернина!
— Ты сегодня чрезвычайно остроумен, Люпэн, — сказал Вебер.
— Ты прав, Вебер. Мы с тобой никак не можем прийти к согласию.
Во время поездки в автомобиле, который сопровождали три других, набитых полицейскими машины, он не произнес ни слова. В Сюрте они заехали лишь ненадолго. Помня о побегах, устроенных Люпэном, Вебер сразу же повел его наверх, в антропометрический кабинет, затем — в Депо, откуда тут же переправил в тюрьму Санте. Директор, предупрежденный по телефону, уже ждал. Формальности записи и прохождение через комнаты для обыска были недолгими.
В семь часов вечера князь Поль Сернин переступил порог камеры номер 14 во втором отделении тюрьмы.
— А квартирка у вас совсем недурна, — заявил он, — совсем недурна… Электрическое освещение… Центральное отопление… Теплый туалет… Весь современный комфорт! Все отлично, разногласий у нас не будет. Господин директор, я с удовольствием оставляю эти апартаменты за собой.
И он, не раздеваясь, бросился на койку.
— Ах, господин директор, у меня к вам небольшая просьба…
— Какая?
— Чтобы завтра мой шоколад не приносили до десяти утра… Мне нужно хорошенько выспаться…
И повернулся к стене.
Минуту спустя он погрузился в глубокий сон.