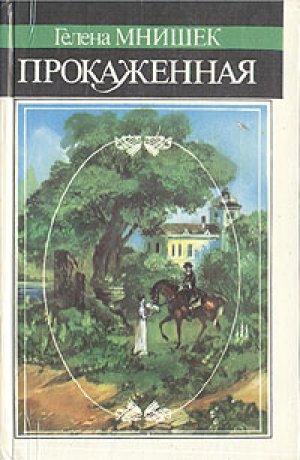
КНИГА ПЕРВАЯ
I
Рассветало. Мир просыпался.
Светлая полоска на восточной стороне небосклона все расширялась. Розовая вначале, она отливала теперь нежно-молочными оттенками, напоминая почти прозрачное кружево на золотистом фоне.
Воздух, насыщенный сыроватыми ночными ветерками, впитывал солнечные лучи, влажные полосы мглы опускались к земле, таяли, и повсюду разливалась свежесть.
Щебетали проснувшиеся птицы. Деревья, украшенные пушистой майской зеленью, шумели, встречая зарю — провозвестницу солнца.
Особняк в Слодковцах стоял тихий, поблескивая в розовой купели восхода белизной стен и яркой зеленью подстриженных лип, росших у фасада.
Но вот раздался звон колокольчика. Его пронзительный звук напоминал прислуге фольварка[1], что пора вставать и приниматься за работу. Колокольчик звенел вдали от особняка, и обитателей его потревожить не мог.
Однако вскоре в левом крыле распахнулось одно из венецианских окон первого этажа. Свежее дыхание весны коснулось изящных занавесок, лаская золотистые волосы Стефы Рудецкой, с радостным любопытством смотревшей на окружающий мир.
Она была в ночной рубашке, с полузаплетенной косой. Ее все же разбудил звонок и — кукованье кукушки в парке.
Девушка стояла у окна. Цветы, покрытые бисеринками росы, и птичий щебет очаровали ее, разнежив чуточку. Ее уста улыбались, но в больших фиалкового цвета глазах таилась печаль, казавшаяся несовместимой со всем ее обликом расцветшей юности.
— Мир прекрасен! Теперь уже не уснуть, пойду в лес! — произнесла она.
Проворно отскочив от окна, девушка принялась одеваться.
Заплела косу и свернула ее в тяжелый узел на затылке; пушистые волосы мягкими волнами обрамляли маленькие уши и прекрасно очерченный лоб. Она надела скромное платье из серого батиста, украсила его ожерельем из розовых кораллов, блестевших, словно большие черешни.
Одевшись, заглянула в соседнюю комнату — занавеси задернуты, темно, кажется, что и сама комната спит. Стефа шепнула:
— Люция сладко спит… Пойду одна. На цыпочках она миновала несколько комнат, богато и со вкусом обставленных. И растерянно остановилась в огромной прихожей, увидев запертую на ключ тяжелую застекленную дверь.
Ее выручил слуга, как раз спустившийся по лестнице со щетками в руках. Он широко раскрыл от удивления заспанные глаза, увидев девушку, но поспешил отпереть ей дверь.
Стефа выбежала в парк. Гуляя, она срывала белые изящные нарциссы. Бокальчики цветов, белые, прозрачные, пахучие, были полны холодной росы; казалось, желтые очи нарциссов, окруженные алыми ресничками, плачут.
Девушка приближала к губам эти белые кубки, проказливо улыбаясь.
Стефа подбегала к сиреневым кустам, стряхивала с благоухающих лиловых плюмажей мелкий дождик росы на свои блестящие волосы. В сиянии солнечных лучей ее головка заискрилась множеством бриллиантиков чистой воды.
С охапкой цветов девушка вышла из парка в фруктовый сад и вскрикнула от неожиданности — такими прекрасными выглядели цветущие деревья: казавшиеся юными яблони в розовой кипени, вишни, усыпанные белыми цветочками, словно девушки в белоснежных вуалях.
Солнце окрасило цветы нежным золотом, ветер приносил окрестные шумы, жужжание пчел. Временами с деревьев срывались белые мотыльки, опавшими цветками кружась в воздухе.
Стефа, очарованная запахами, отломила две цветущих веточки вишни, приколола их к волосам и пояску и пошла дальше по узкой тропке, обсаженной смородиновыми кустами. Тропинка эта вела в бор.
Стефа раздвигала густые ветки, покрытые редкими цветами. Посверкивающий туман росы оседал на серый батист платья.
Она добежала до невысокой калитки, распахнула ее, прошла краем луга по мокрой густой траве, отделявшей фруктовый сад от бора. Оказавшись среди высоких сосен и раскидистых тополей, девушка запела.
У ее ног прошмыгнула белка и проворно взлетела по стволу. Чирикали воробьи, монотонно стучал дятел. В кроне ольхи прекрасным сопрано заливался соловей, в глубине леса тенором отзывалась кукушка. Лесной мир жил, полный щебета, порханья, веселой переклички, шороха сухих сосновых игл, шума лещины. Далеко разносилось разбуженное эхо, шумливое, веселое. Девушка купалась в солнечных лучах, в запахе цветов и зелени леса.
Но вскоре восторженное настроение пропало. Словно облачко затмило юное личико, притушило блеск глаз под длинными темными ресницами. Девушка нахмурила густые брови и тут же недовольно прошептала:
— Ох, Стефа, нашла чем забавляться…
Она вспомнила, что с тех пор, как стала домашней учительницей в Слодковцах, прошел целый месяц.
Как медленно тянется время!
Она никогда не думала, что пойдет работать — не было нужды зарабатывать на жизнь. Однако судьба рассудила иначе.
Стефа стала домашней учительницей не из бедности — она была дочкой состоятельных родителей, жителей Царства[2], имевших, кроме нее, еще двух детей, помладше. Стефе же недавно исполнилось девятнадцать. Гуляя меж деревьев, Стефа вспомнила обстоятельства, изгнавшие ее из дома.
Виной всему был прекрасный Эдмунд Пронтницкий, ее детские чувства к нему. Красота Эдмунда очаровала Стефу, и она влюбилась впервые в жизни, слепо и безоглядно; в этом чувстве было одно обожание. Пронтницкий вскружил ее романтическую экзальтированную головку.
Окончив пансион в Варшаве, Стефа поступила на курсы и встретила там много старательно учившихся молодых людей. В большинстве своем это были благородные юноши, исполненные высоких идеалов. Стефа просто не представляла, что могут существовать люди и другого рода. Подметив ее легковерность и захваченный красотой девушки, Пронтницкий возмечтал добиться ее и приступил к осаде, с мастерством лицедея разыгрывая роль человека высокой души.
Однако отец Стефы, узнав, что молодые люди признались друг другу в своих чувствах, не позволил им все же объявить о помолвке.
В прекрасные душевные качества Эдмунда старый Рудецкий не верил. Он слишком хорошо знал Пронтницкого-папеньку, пользовавшегося не самой доброй славой. В своей же дочке Рудецкий видел столько душевного благородства, богатства чувств и высоких идеалов, что не мог не встревожиться, видя, кого она наметила себе в спутники жизни. Он не сомневался, что конец идиллии наступит очень быстро, и боялся за Стефу…
Предчувствие его не обмануло.
Пронтницкий-папенька, на словах одобряя намерения сына, с ловкостью судебного крючкотвора стал вынюхивать, каково будет приданое Стефы. Узнав, что оно выразится «всего лишь» пятизначной цифрой, «папенька» ужасно оскорбился. Он велел сыну немедленно порвать со Стефой, убеждая, что Эдмунд, с его красотой и громкой фамилией, обязан жениться самое малое на ста тысячах.
Нужно заметить, что и Стефа стала приглядываться — нет ли пятен на ослепительном солнечном диске ее идеала? Природный ум и чуткость не подвели девушку.
Закопченное стекло, сквозь которое так хорошо рассматривать пятна на солнце, вложил ей в руки сам Пронтницкий-папенька: впервые явившись с визитом к отцу Стефы, он начал с вопроса, какое Стефа получит приданое.
Это и решило все. Пан Рудецкий воспротивился помолвке, радуясь, что проник в истинные замыслы Пронтницких. Тогда же и Стефа открыла на своем солнце пятна эгоизма и никчемности. Возвышенные чувства оказались маской, за которой таился грубиян, все на свете стремившийся использовать в свое удовольствие.
Словом, Эдмунд внезапно предстал перед ней в облике хищного цветка, который прекрасным запахом и красотой приманивает легковерных насекомых, а когда они, обманувшись, поддаются магнетическому притяжению, смыкает над ними лепестки и являет свою подлинную сущность, убивая жертвы ядом.
Стефа оказалась в одном крохотном шажке от готовых хищно сомкнуться лепестков. Но ей удалось вовремя спастись.
Сейчас, вспомнив все, она уселась на пенек и, обхватив колени, грустно понурила голову.
Первое разочарование оставило горечь в ее душе. Безграничная вера в людей исчезла. Девушка искренне полагала, что горших переживаний ей на долю уже никогда не выпадет, забыв, что ей всего девятнадцать и темперамент у нее пылкий.
Порвав с Эдмундом, Стефа решила покинуть родительский дом. Охваченная стыдом и горем, жаждала бежать как можно дальше.
Живая натура девушки побуждала ее рисовать в мечтаниях исполненные фантазии и многоцветья романтические картины. Стены отчего дома вдруг стали душить ее. Все попытки удержать ее оказались тщетными, и родители сдались, решив, что это минутный каприз, вызванный первым настигшим в жизни разочарованием. После недолгих столкновений с родителями она выехала в сопровождении отца искать место домашней учительницы.
Подыскать соответствующее место оказалось нелегко. Иногда что-то не подходило Стефе, иногда — пану Рудецкому. После множества неудач удалось все же найти желаемое у баронессы Эльзоновской.
Однако баронесса поинтересовалась, не будет ли девушке скучно в Слодковцах, где живут лишь сама баронесса с дочкой, старый отец баронессы и такой же старый приживальщик, бывший учитель брата баронессы. Но Стефа жаждала как раз тишины.
Пан Рудецкий, поведав баронессе все обстоятельства, заставившие Стефу покинуть отчий дом, попросил опекать дочку, что баронесса ему обещала твердо и не без сердечности.
Пана Рудецкого беспокоило лишь аристократическое происхождение баронессы. Он помнил, что даже в домах попроще к домашним учительницам относятся по-разному, и мучился при мысли, что в этом магнатском поместье к его дочери будут относиться без должного уважения.
Правда, он знал, что родовая аристократия в большинстве своем исключительно благородна в обхождении и настоящий шляхтич несравненно вежливее, чем богатый выскочка, Баронесса же показалась пану Рудецкому дамой высшего света, державшейся самую чуточку холодно, но не лишенной симпатичных черт характера.
Вскоре Стефа познакомилась со своей ученицей. Люции минуло шестнадцать. Довольно хрупкая, рафинированная и красивая девочка с очень светлыми волосами и голубыми глазами, она не походила на мать ни обликом, ни манерой держаться. Со Стефой она подружилась быстро.
Стефа встала с пенька и направилась в глубь леса.
— Выдержу ли я тут до конца? — шепнула она. — Ой, сомневаюсь!
Ее любовь к Пронтницкому, молниеносная и недолговечная, словно бабочка-поденка, совершенно угасла. Беспокоило ее нечто иное. Все были к ней добры, особенно старый дедушка Люции, пан Мачей Михоровский — старосветский магнат, исключительно милый, ласково звавший ее Стеней, что, по его словам, напоминало ему что-то из его прекрасных юных лет. Какого рода были эти воспоминания, Стефа ведать не ведала, но была благодарна старику за его к ней симпатию и отеческую заботу. Зато Стефа терпеть не могла его внука, владельца Слодковиц майората[3] Вальдемара Михоровского. Он жил за две мили отсюда, в майоратском поместье Глембовичи и в Слодковцах бывал часто. И никогда не упускал случая, чтобы добродушно поддразнить Стефу, у которой совершенно портилось настроение, и она отвечала на шуточки гневом или молчанием.
— Он меня вынудит покинуть Слодковцы, — вздохнула грустно девушка.
Она удивлялась, слыша, как все наперебой хвалят молодого Михоровского. «Значит, он только со мной такой злоязычный? Напоминает Пронтницкого во времена, когда подлинная сущность того красавчика выплыла наружу!»
Этот не притворяется, не изображает идеального человека — грубость его натуры лежит на виду. Так что же лучше: мир мечтаний, мир заблуждений или мир действительности? Словно прекрасный, но зловонный цветок…
Прекрасные краски — это мечтания.
Зловоние — это заблуждения.
А действительность — это длинный стебель и земля, из которой стебель вырос.
Молодой Михоровский как раз и есть эта самая действительность без капельки румян и грима.
Поглощенная своими мыслями, Стефа задумчиво бродила по лесу. Каждая сосна, полянка, даже белки и кукушка напоминали ей родной Ручаев, и тоска по дому крепла.
В болотистом закоулке леса девушка обнаружила множество незабудок, лютиков и рвала их со слезами на глазах. Целовала незабудки, напоминавшие ей родные ручаевские леса.
С букетом влажных от росы цветков она вернулась в сад.
Возвращаясь из бора, Стефа заметила медленно ехавшего всадника.
И вздрогнула от гнева.
Это был Вальдемар Михоровский.
Он ехал на ухоженном черном жеребце. Верховой конь прекрасно смотрелся под замшевым седлом и желтым чепраком. Уздечка была тоже желтая.
Арабский конь выступал, словно плыл, изящно выбрасывая ноги, с лебединой грацией изогнув шею и грызя удила. Майорат сидел в седле, как влитой. На нем были элегантный костюм для верховой езды и высокие сапоги. Солнце играло на сверкающих шпорах.
Стефа порывисто шагнула за дерево, но этим резким движением всполошила сизоворонку. Испуганная птица взлетела, крича. Михоровский глянул в ту сторону.
Кровь бросилась Стефе в лицо:
— Заметил! Боже мой, что за судьба такая — вечно он на дороге!
Она нагнулась за рассыпавшимися цветами, притворяясь, будто не замечает молодого шляхтича.
Но он, подъехав ближе, обнажил голову и сказал шутливым тоном:
— Добрый день! Что вы здесь делаете так рано? Среди этих деревьев вы словно русалка…
— Встретившая лешего, — гневно, не раздумывая, ответила девушка.
Он поднял брови, злорадно усмехнулся:
— Что ж, готов стать лешим при условии, что вы будете русалкой…
Стефа покраснела и холодно поинтересовалась:
— Вы едете в Слодковцы?
— Да. И намереваюсь вас туда проводить.
— Я доберусь сама.
— Вот уж сомневаюсь! Одна вы столько цветов не унесете. Они же весят добрый пуд. Я просто обязан вам помочь.
Он спрыгнул с коня, преувеличенно галантно раскланялся и протянул руку. Поколебавшись, Стефа подала свою и тут же отдернула.
— Вы не коснулись даже моих пальцев… Ну да, я ведь зачумленный… — смешно развел он руками.
Михоровский глядел на нее, усмехаясь. Она дрожала от гнева под взглядом этих насмешливых серых глаз. Собрав цветы, она бросила через плечо:
— Прощайте!
— Гм, вы столь энергичны… Однако ж и мне нужно ехать в Слодковцы, а другой дороги туда нет…
Стефа, круто свернув в лес, указала на дорогу:
— Дорога к вашим услугам.
— А вы?
— А я пойду лесом.
— А я не могу вас бросить одну в этой чащобе. Вы так разнервничались, что наверняка заблудитесь.
И он пошел рядом с девушкой, ведя коня на поводу. Стефа сжала губы и молча зашагала вперед. А он продолжал:
— Знаете, что? Садитесь на моего коня, а я пойду рядом, словно паж. Или нет, сядем на коня оба. В самый раз для русалки и лешего.
Стефа не ответила, ускорив шаг.
— Вы от меня бежите, словно от лесного страшилища. А я ведь симпатичный хлопец, верно? Как думаете?
Никакого ответа.
— Ага! Молчание — знак согласия. И это меня ужасно радует! Вы меня, наконец, оценили, по достоинству.
Он поклонился — шутливо, преувеличенно низко.
— Вы прежде всего дурно воспитаны, — взорвалась Стефа.
— Правда? Впервые слышу! Я всегда считался джентльменом.
— Это вы-то? — рассмеялась девушка.
Гнев блеснул в его глазах. Нахмурившись, молодой шляхтич пронзил девушку взглядом. Однако с усмешкой продолжил:
— Ну то ж, в таком случае мы — два сапога пара. Вы тоже хорошим воспитанием не отягощены.
— Пан майорат, вы меня избавите наконец от вашего присутствия?
— В Слодковцах, не раньше.
— Боже, за что ты меня караешь! — прошептала девушка.
Майорат расхохотался.
— Что вас так рассмешило? Ваша неделикатность?
— О нет, пани Стефа! Просто… я впервые встречаю юную девушку, которая от меня отнюдь не в восторге. Бог свидетель, для меня это нечто новое.
— Потому что вы впервые столь невежливы с девушкой.
— Ба! Я себе позволял и больше, но ни в одной девушке не вызывал панического страха.
— Страха?! Я вас боюсь?! Чересчур много вы мните о себе! Я вас…
— Терпеть не можете, — закончил он.
— Вот именно!
— Благодарю! И совершенно искренне! И на исповеди никто никогда ничего лучшего не произносил! Кто бы мог подумать, что в столь нежном создании таится столько злости… Итак, форменный скандал. Вы меня терпеть не можете. Что поделаешь? Лучше уж я вас покину, иначе мы подеремся тут же, в лесу.
Он вскочил в седло и, приподняв шапочку, крикнул:
— Прощайте! Я исчезаю!
Он повернул коня, пришпорил его и галопом помчался прочь.
Стефа удовлетворенно вздохнула:
— Наконец-то! Уехал… омерзительный циник… А я его обидела. Что ж, к лучшему — перестанет мне докучать.
И она направилась в сторону особняка. Вальдемар несся, горяча коня и бранясь сквозь зубы:
— Ох, как мы романтичны… и встаем в позу принцессы! Ну подожди же! Всегда предпочитал дьяволиц монашкам, но терпеть не могу, когда дьяволица притворяется весталкой[4]! Ну, посмотрим!
II
В садовой беседке за столиком сидела Люция Эльзоновская со своей учительницей и увлеченно слушала лекцию по литературе. Стефа рассказывала о славнейших временах польской литературы, декламируя стихи знаменитых поэтов. Увлеченная сама, она покорила душу ученицы.
Видя живой интерес девочки, Стефа спросила:
— Люци, ты разве никогда не читала польских писателей?
— Читала, но очень мало, — призналась Люция. — Ваша предшественница, панна Клара, считала, что людям нашего круга следует знать как можно больше иностранных языков и читать иностранные романы, а польская литература не заслуживает внимания.
— Панна Клара — полька?
— Да, но она была аристократка, разделявшая наши взгляды.
— А каковы же «ваши» взгляды?
— Не знаю, смогу ли объяснить… Считается, что… Нет, не умею сказать.
— Я тебе помогу, — сказала Стефа. — Считается, что следует относиться с почтением ко всему французскому, немецкому… одним словом, иностранному, но, упаси Боже, не к польскому. Верно?
— Откуда вы все так хорошо знаете?
— Догадываюсь. Твоя мама так же считает?
— Конечно! Мама ничего не читает по-польски, со мной разговаривает исключительно по-французски и ценит только заграничное.
— А дедушка? — спросила Стефа.
— О, дедушка — наоборот! Из-за этого они с мамой вечно и ссорятся. Дедушка говорит, что стыдно забывать о своей национальности, что каждый обязан прежде всего любить и ценить дела своего народа. Но маму такие аргументы не убеждают…
— Твой дедушка — благородный человек.
— Вы его любите?
— Я его уважаю за богатый ум и образованность.
— И дедушка вас любит, я же вижу. Вот только… знаете, Вальди думает в точности, как дедушка. Почему же вы Вальди не выносите?
— Люци, да что мне до Вальдемара? Люция засмеялась;
— Знаете, мама вечно ссорится с Вальди. А теперь еще и вы… Бедный Вальди!
— Давай закончим с литературой, — прервала ее Стефа. — Тебе еще нужно написать изложение.
Люция обняла ее и ласково сказала:
— Завтра, дорогая панна Стефа! Сегодня не напишется, я чувствую. Вы так меня увлекли польской литературой, что ни о чем другом и думать не хочется. Вы мне должны дать почитать что-нибудь польское, а всех немцев и французов я запрячу в шкаф, пусть их там моль съест.
— Люци, не следует бросаться из одной крайности в другую. Иностранных писателей ты тоже должна знать.
— Но польских я должна знать лучше, правда? Я так сегодня и скажу дедушке с Вальди, а они посоветуют, что читать. Вальди меня всегда называл попугайчиком… Как приедет, спрашивает: «Ну, чему там новому научили нашего попугайчика?» Мама тогда дуется, а панна Клара сладенько улыбается и говорит: «Vous plaisantez monsieur le comte[5] «. Она всегда Вальди называла графом. А Вальди отвечал как бы вежливо, но сердито: „Никакой я не сomte, постарайтесь запомнить“.
— И что панна Клара?
— Обижалась. Говорила мне: «Votre cousin est dйtes — table il nest pas sage[6] «-и день-два не показывалась. А потом все начиналось сначала: „monsieur le comte“. И так — без конца.
— Должно быть, любимый вид спорта пана Михоровского — докучать домашним учительницам, — сказала Стефа с неудовольствием.
— Ну что вы! Просто Вальди терпеть не мог панну Клару, а она была в него влюблена по уши, уж я-то знаю! Панна Клара — законченная старая дева, но с претензиями. Как только Вальди появлялся, она завивалась, а пудрилась так, что все платье было в пудре! Вальди это ужасно смешило. Однажды, когда она вышла к обеду невыносимо напудренная и рассказала, что мы с ней ходили на мельницу, Вальди был зол, взял да и выпалил: «А это сразу видно, панна Клара. Вы вся в муке!» В тот раз она на него сердилась неделю.
Стефа стала помогать Люции собирать книги и тетрадки, размышляя о том, сколь печальна судьба домашней учительницы, если она к тому же старая дева. О панне Кларе она наслушалась вдоволь: над ней смеялись все, сколько хотели. А когда-нибудь будут смеяться и над Стефой, хоть она еще и не старая дева… А Люция продолжала, не спеша:
— Знаете, я хотела бы когда-нибудь влюбиться. Это, должно быть, приятно. Вот только в кого? В Слодковцах кандидатов нет. Разве что пан Ксаверий. Ха-ха-ха! У него огромная лысина, и он меня всегда называет «милой дамочкой», а я этого терпеть не могу. В Ожарове есть граф Трестка, но уж в него-то я никогда не влюблюсь — очень уж у него глуповатый вид. Да к тому же он увлечен панной Ритой. Ага! Я наверняка сходила бы с ума от Вальди, но он — мой двоюродный брат. Он такой симпатичный и элегантный, только ужасно серьезный, редко когда веселится.
— Люди, не думай о таких вещах, — сказала Стефа. — Ты еще девочка. Придет и твое время, но чем позже, тем лучше.
— Вы так говорите оттого, что сами пережили большое разочарование.
— Откуда ты знаешь?
— От мамы. Что плохого в любви? Ведь не всегда она кончается столь печально, обычно приходит счастье.
— Ах, так вы об этом уже знаете, мадемуазель? — развеселилась Стефа.
— Я прочитала много французских романов и знаю, что такое любовь, хотя сама и не испытывала. Как-то спрашивала у Вальди, что при этом чувствуют — уж он-то должен знать.
— И что он сказал? Люция махнула ручкой:
— Вальди вечно шутит. Он сказал: «Любовь — то же самое, что учить математику». Он знает, что математику я терпеть не могу. Вы бы могли рассказать, но вы ведь не расскажете. Придется ждать, пока появится собственный опыт.
— Только не забивай голову ожиданиями. Всему свое время.
Люция сделала движение, словно припомнила что-то, и весело шепнула:
— Ну вот, уже знаю! Вот и я влюблюсь, и совсем скоро, через неделю-другую! Вальди говорил, что должен приехать практикант. У Вальди их несколько в Глембовичах, знаете, таких, из хороших семей, что учатся даже без жалованья. Тот, что приедет, тоже из хорошей семьи. Жить он будет в павильоне, а столоваться у нас. Сюда хотел попасть и граф С., но он ужасный хлыщ, и Вальди ему отказал.
— А если практикант окажется не в твоем вкусе? — спросила Стефа, думая о чем-то совершенно другом.
— Наверняка! Но если он симпатичный, я все равно влюблюсь.
В этот момент в беседку вошел молодой лакей и произнес:
— Пани баронесса просят к столу.
В столовой с потолком, украшенным красным деревом, собирались уже все обитатели особняка. Пани Эльзоновская ожидала лишь дочь с учительницей.
Она комкала салфетку и выглядела раздраженной. Рядом с ней сидел пан Мачей Михоровский, восьмидесятилетний старец. Щуплый, слегка сутулый, с бледным лицом, которое украшали седые усы и одухотворенный взгляд серых глаз. Теплой улыбкой он покорял всех, словно бы говоря: «Любите меня и доверяйте».
Теперь он, ловя каждое слово, слушал внука. В Вальдемаре старик видел собственную юность. Вальдемар же, опершись на высокий поручень кресла, взволнованно говорил о чем-то, явно пришедшемся не по вкусу пани Эльзоновской.
Четвертой особой за столом был пан Ксаверий, приживальщик, старый и лысый, превеликий гурман. Видя, что молодой майорат не садится, пан Ксаверий тоже остался стоять с несчастным выражением лица. Разговор Вальдемара с пани Эльзоновской его совершенно не занимал: он пожирал глазами стоявшую на боковом столике супницу, распространявшую аромат супа a la reine[7], озабоченно косясь то на баронессу, то на лакея во фраке, ожидавшего сигнала разливать суп. Наконец появились Стефа и Люция. Пани Идалия бросила на Вальдемара быстрый взгляд, давая ему понять, что пора закончить разговор. Но он и сам уже замолчал. Быстро подошел к девушкам, поцеловал Люцию и исключительно элегантно поклонился Стефе. Тут же на лице его появилась ироническая усмешка.
— После столь высокой поэзии, как лес и цветы, мы встречаемся за столь прозаическим обедом, — сказал он. — Вас это не коробит, пани Стефа?
Стефа порозовела. Его слова в мгновение уничтожили ее хорошее настроение.
— Я не думала ни о чем подобном, — ответила она холодно.
— Жаль! А я уж стал сомневаться, увижу ли вас. В чащобе вас мог похитить какой-нибудь везучий леший и уволочь к себе в берлогу. Я очень рад, что вы уцелели.
— Вальди, ты тоже был утром в бору с панной Стефой? — спросила Люция.
Пани Эльзоновская глянула на Стефу и перевела взгляд на свою тарелку.
Заметив неудовольствие на лице Стефы, Вальдемар бросил на Люцию быстрый взгляд и непринужденно сказал:
— Я ехал через лес и видел, как пани Стефа прогуливается.
Стефа была благодарна ему за это.
Все ели молча. Обеды здесь редко проходили в тишине, но когда это случалось, тишина была тяжелой, словно грозовая туча.
Стефа поняла, что и сегодня собираются тучи.
От напряженной фигуры пани Идалии исходил холод. Пан Мачей пытался развеселить всех, время от времени отпуская шутку, но разговор упорно не клеился. Плохое настроение хозяйки дома угнетало всех. Даже пан Ксаверий, хоть и не потерял аппетит, косился на баронессу опасливо.
Один Вальдемар держался совершенно свободно, хоть и не раскрывал рта. Он выпил две рюмки старки. После супа лакей то и дело подливал ему мадеры. И удивление лакея возросло, когда подали спаржу. Майорат не любил ее, но сегодня велел подать себе добавочную порцию.
Пани Эльзоновская смотрела на него с удивлением. Она считала, что просить добавочную порцию — вещь неприличная в их кругу. В конце концов она не выдержала, и ее плохое настроение вырвалось наружу. Не поднимая глаз, она отчетливо произнесла по-французски, чуть шипящим голосом, растягивая слова:
— Совершенно не понимаю, как можно брать кушанье дважды. Берут ровно столько, чтобы хватило.
Пан Мачей глянул на дочь с укоризной. Он не понимал, как можно забыться настолько, чтобы проявить настроение так бестактно. Но Вальдемар ничуть не устыдился, наоборот, ему стало весело. Он злорадно глянул на тетку, проказливо — на Стефу, усмехнулся и подозвал лакея:
— Яцентий! Подай еще спаржи!
Пани Идалия поджала губы. Пан Мачей вновь посмотрел с укором, на сей раз на внука. Стефа и Люция сдерживали смех. Лишь уголки губ Стефы подрагивали, выдавая, как развеселила ее эта сцена.
Вальдемар это заметил. Он принялся шутить с паном Ксаверием и наконец предложил:
— Пан Ксаверий, приезжайте в гости ко мне в Глембовичи на все лето, согласны? У вас будет все, чего душа желает. Каждый день суп по-королевски, спаржа — потому что я вдруг полюбил спаржу, — шахматы, иллюстрированные журналы. Вы ведь ужасно любите фейерверк? Я его устрою в вашу честь. Как, согласны?
Пан Ксаверий вынул из бездонного кармана сюртука огромный платок, тщательно вытер лысину и лишь после этого ответил:
— Да уж зачем я вам, пан майорат? Я уж в Слодковцах доживать буду…
— В Слодковцах появится кое-кто другой, помоложе. Вы ведь не сумеете развлекать дам как должно, верно? Для этого надо иметь способности, какими мы с вами не располагаем. А здесь моя тетушка предпочитает видеть кого-нибудь позабавнее.
Пани Идалия пожала плечами и бросила с кислой миной:
— Не приписывайте мне собственные капризы. Вальдемар поклонился с чрезвычайно серьезным видом:
— Всегда к вашим услугам, милая тетушка… Потом повернулся к Стефе:
— Пани Пророчица, а как, по-вашему, — оставаться пану Ксаверию в Слодковцах или ехать ко мне в Глембовичи?
— Вряд ли от моего мнения многое зависит, — ответила Стефа чуточку раздраженно.
Вальдемар устремил на нее серые проницательные глаза, в которых играли бесенята. Встряхнул головой и сказал с притворным сожалением:
— О, горе! Вы безжалостны ко мне! Что ни скажу, в ответ — презрение… Люци, почему ты не расположила до сих пор панну Стефанию на мою сторону? Ты обязана это сделать!
Люция глянула на мать и опустила глаза. Она явно хотела что-то ответить, но суровое лицо матери заставило девочку замолчать. Зато заговорил пан Мачей, пытаясь сменить тему:
— Вальди, ты останешься на ночь?
— Господи спаси, а зачем? Дам поручения Клечу и уеду, — он глянул на Стефу и добавил: — Вот разве что панна Стефания захочет, чтобы я остался в качестве партнера для тенниса. В таком случае я забуду пока что о Глембовичах.
— Вальди, я ведь серьезно, — прервал его пан Мачей, весьма недовольный его словами.
— Но я не шучу! Панна Стефания может уговорить меня остаться. Итак, я готов выслушать приговор…
Склонив голову, он плутовски посмотрел на Стефу.
Стефе кровь бросилась в лицо. С каким удовольствием она швырнула бы в лицо молодому магнату тарелку или салфетку!
Подняв на него полные гнева глаза, она сказала:
— Я ведь уже говорила вам, что не играю в теннис. Повторяю еще раз.
— Ах! В таком случае я стану вашим учителем. Гарантирую прекрасные результаты.
— Вы слишком добры ко мне, — бросила Стефа гневно.
Вальдемар продолжил:
— Эти кораллы вам необычайно идут. Они выглядят аппетитно, словно спелые вишни. Будь я воробьем, не отпустил бы вас так просто, пока не склевал все до одного. А так мне остается лишь глотать слюни.
Стефа побледнела, закусила губу и, смерив Вальдемара ледяным взглядом, опустила глаза.
Обед закончился. Баронесса встала и, ни на кого не глядя, быстро покинула зал.
Стефа тоже встала из-за стола и, поклонившись пану Мачею, направилась к двери.
Вальдемар проворно заступил ей дорогу и сказал:
— Благодарю вас за приятное vis-a-vis[8].
Стефа отступила и прошла мимо, не глядя на него. Молодой магнат задумчиво посмотрел ей вслед. Когда она исчезла за дверями, он молча отправился в кабинет, сел в кресло, достал портсигар и принялся разжимать сигару с необычайным вниманием и тщанием.
Нахмурившись, он сидел без движения. В серых глазах играли зловещие огоньки. Уютно развалившись в кресле, сказал, не вынимая изо рта сигары:
— Да она мне попросту дала по морде…
И, развеселившись от собственных слов, прошептал:
— Лихая девчонка! И темперамент, как у черта!
III
Через два часа майорат распрощался с управителем.
— Ну вот и все. Если произойдет что-то непредвиденное, телефонируйте, я буду дома.
Управитель Клеч почтительно поклонился, едва коснувшись руки магната, и спросил удивленно:
— Пан майорат надолго покидает Слодковцы?
— Самое малое на неделю, а то и дольше.
— В таком случае нужно решить еще одно дело.
— Слушаю.
— Какую четверку пан прикажет запрягать в Слодковцах — каурых, гнедых, караковых?
— Почему вы спрашиваете?
— Потому что каурые — кони очень нежные. Пани баронесса часто ездит в Шаль, к графам Чвилецким. Это всего лишь четыре мили, и дорога хорошая. Но баронесса любит быструю езду. Не мне решать, но я предпочел бы, чтобы одна четверка была употребляема исключительно для разъездов баронессы, чтобы мне за эту упряжку уже не отвечать.
Вальдемар поднял голову и, удивленно глядя на Клеча, спокойно сказал:
— В любом случае за упряжку отвечаете не вы, а кучер.
Клеч смешался:
— Да, вот именно… Но я отвечаю за коней, которых даю…
Михоровский, потерев лоб, спросил:
— А что, не все равно моей тетке, на каких ехать конях?
Клеч смутился еще больше:
— Нет. Пани баронесса всегда сама решает и приказывает: когда каурых, когда караковых…
— Ну так пусть все и остается по-прежнему.
Клеч понял, что эта тема магнату неприятна и пора откланяться. Он глянул на хозяина: лоб нахмурился, губы плотно сжаты. Глаз не видно, но выражение их наверняка суровое.
Майорат всегда был вежлив с теми, кто ему служил. Но управитель хорошо знал: нахмуренные брови, покривившиеся губы и небрежность позы — признаки дурного настроения хозяина. Он поклонился.
— Простите, что я осмелился…
— Ну что вы! — примирительно сказал Михоровский, словно извиняясь и одновременно сердясь за то, что вынужден извиняться.
Он посмотрел на управителя. Тот понял, что пора уходить.
— Мое почтение, — поклонился он.
— До свидания, — бросил майорат коротко.
Управитель вышел. Михоровский облегченно вздохнул.
— Вечно — жалобы на тетку, — буркнул он. — И вечно жалуется Клеч. Ну, сегодня он, надеюсь, понял. Не люблю так выговаривать людям, но…
Появился камердинер Яцентий:
— Старый пан просит вас к себе.
— Хорошо. И прикажи оседлать коня.
Пан Мачей читал у себя в кабинете, сидя в старинном кресле. Увидев внука, он отложил книгу.
— Извини, что побеспокоил, Вальди, но нам нужно поговорить. Ты не занят?
Вальдемар усмехнулся:
— А если и занят, ну и что? Твои заботы, дедушка, прежде всего.
— Ты добрый мальчик, Вальди, очень добрый. Тем печальнее мне, что должен сделать тебе выговор. Сядь, несносный мальчишка.
Он указал на кресло напротив себя.
Но Вальдемар не сел. Встал у окна и смотрел в парк. Потом шутливо спросил:
— Я в чем-то провинился? Правда?
— Дорогой мой мальчик, тебе совершенно не следует дразнить Идальку.
— Ах, она вас уже перетянула на свою сторону? Мои вам поздравления!
— Вальди, ты несносен! Я терпеть не могу нервических выходок, а уж у Идалии нервы вечно расстроены. Когда ты ее дразнишь, получаются такие обиды, как сегодня. А мне это весьма не по вкусу.
— Ладно… Ну, а вы-то сами что думаете?
— Я полностью на твоей стороне. Этот граф С. совершенно невыносим. Но Идалька думает иначе. Она говорит, что люди нашего круга должны держаться вместе и помогать друг другу. Честно говоря, она совершенно права, однако в данном случае…
Вальдемар иронически рассмеялся:
— Прекрасная теория! Бескорыстие тетушки меня прямо-таки в умиление вгоняет! Но это — псевдобескорыстие. Тете до того нравится этот графчик. Граф С. будет практикантом в Слодковцах — ах, как это мило! Как приятно будет тетушке! Но я-то, я — законченный эгоист. Практикант — это фактически мой помощник, а этого выскочку я на такое дело ни за что не возьму. Мне нужен не «человек нашего круга», а энергия и расторопность, чем наш графчик никак не обладает. Если среди практикантов в Глембовичах уже есть один граф, это еще не значит, что нужно искать второго и хвататься за первого попавшегося. Тот граф в Глембовичах работает прекрасно, а граф С. ни на что не годен. Быть может, тетя считает, что практикант будет тут в роли «паныча на курорте», играть в теннис, на бильярде и читать вслух французские романы? Конечно, для таких дел граф С. годится, но мне нужен практикант, который занимался бы делом. И я найду именно такого. Да, впрочем, уже нашел, мы с ним обо всем договорились, и я не нарушу договора ради… ради тетушкиных капризов.
Он говорил громко, нервно прохаживаясь по кабинету.
— Дедушка, вы ведь знаете, как я работал практикантом, получив диплом, у князей Лозиньских? — спросил он внезапно. — Если граф С. сможет работать именно так, пусть приезжает.
Пан Мачей махнул рукой:
— Ну хватит, довольно болтовни. Знаю я прекрасно этого кукленочка. Едва за двадцать, а уже лысина. Занят только собственным туалетом. Тебе это будет не помощь, а обуза.
— А! Уж я бы с ним не церемонился! Не хочешь, паныч, вставать в пять утра — езжай в Монте-Карло играть в рулетку! Мне нужно, чтобы мои практиканты приобрели опыт. В Слодковцах и Глембовичах для этого все условия. Но приглашать такого вот китайского болванчика? Этот С. не закончил даже сельскохозяйственного училища. Что, я должен объяснять ему агрономию от «а» до «я», когда ему надоест играть в теннис? Я не филантроп. Пусть только тетушка откроет тут школу для таких хлыщей, болванчиков, бездельников, теннисистов, и я моментально пошлю за графом С. мягкую карету — чтобы он не разбился, как пустой флакончик из-под духов!
Пан Мачей рассмеялся:
— Не хватает еще, чтобы ты Идальке все это выложил!
— И выложу! Если тетя начнет вновь призывать меня проявить участие к полысевшему «нашему кругу», выложу! К счастью, я живу в Глембовичах и могу тут бывать пореже, если уж так раздражаю любимую тетушку…
— А знаешь что, дорогой мой? Этот твой новый практикант может попусту тоже жить в Глембовичах — и дело в шляпе! Как думаешь?
— Но в Глембовичах у меня уже три практиканта, а здесь — ни одного. Отсюда до Глембовичей больше двух миль[9], что ж, он будет работать здесь, а в такую даль ездить обедать и ночевать? Глупости! Это невозможно!
— Но он может столоваться у Клеча? Вальдемар взял пана Мачея за руку, наклонился к нему и сказал чрезвычайно серьезно:
— Дедушка, скажите прямо: вы все это говорите из-за тетки, или сами не хотите, чтобы новый практикант жил здесь? Если вам это не по вкусу, скажите откровенно. Я откажу ему, и все. Уж вам-то, дедушка, я ни за что в жизни не хочу причинять неудобства!
Пан Мачей обнял внука и сердечно его расцеловал:
— Вальди, как я тебя люблю, мальчик мой! Спасибо за заботу. Скажу тебе откровенно: этот пан ничуть мне не помешает, наоборот, я люблю компанию молодых людей. Да и человека невоспитанного ты ведь не пригласишь. Граф С. не почерпнет у нас ничего полезного, а твой молодой человек, побыв в кругу образованных людей, многому научится и будет нам благодарен.
Вальдемар знал, что его дедушка, несмотря на природный ум и здравомыслие, был сущим фанатиком «высшего общества», «нашего круга». Он воображал, что аристократия — дирижерская палочка в руке Господа, что она управляет всеми, стоящими ниже по происхождению, руководит оркестром человеческих чувств.
Пан Мачей увлеченно продолжал:
— У нас этот молодой человек почерпнет много полезного!
Вальдемар, улыбаясь, сказал:
— Почерпнет, использует, будет нам благодарен… Ах, дедушка, к чему высокие слова? Что ты называешь «полезным»? Расстроенные нервы моей тетушки, ее сановную осанку, кислые мины, театральные позы? Он научится коверкать родной язык, поклоняться всему заграничному, узнает, что мало-мальски порядочный человек обязан считать букву «р» варварским пережитком, случайно задержавшимся в алфавите, буквой, которую никогда не следует произносить; и, наконец, мы убедим его, что можно потерять честь и достоинство, не совершив никакой подлости, а всего лишь попросив вторую порцию кушанья… Прекрасные достижения цивилизации, in summo gradu[10].
Пан Мачей, поддавшись ироничному тону внука, смеялся с ним вместе.
— Мальчик мой, — сказал пан Мачей с улыбкой. — Ты злословил об Идальке, а чем я мог бы просветить кого-нибудь и каким образом?
— Дедушка, ты напрашиваешься на комплименты! Будь все в нашем сословии подобны вам и бабушке Подгорецкой, я судил бы о нем иначе. Быть может, стал бы даже жрецом, приносящим жертвы на алтарь нашего круга. Но поскольку я не вижу в остальных ничего, свойственного вам и бабушке Подгорецкой, то не пою вместе с теткой гимнов сословию…
Магнат нахмурился, понурил голову, тяжко вздохнул. Слова внука непокоем отозвались в его душе.
Заглядывая ему в лицо, молодой майорат спросил с улыбкой:
— Можно узнать, дедушка, о чем ты так задумался? И если бы не перспектива ужина в обществе тети, я остался бы на ночь — но одна мысль о таком ужине портит хорошее настроение и аппетит…
— Оставайся! Что нам Идалька? Как-нибудь помиритесь…
— Нет, лучше уж поеду. Все меня сегодня измучили, даже эта гусыня, эта принцесса, переодетая пастушкой.
— Что за гусыня? Какая еще пастушка?
— Ну, та — панна Стеня… Пан Мачей вздрогнул:
— Стеня? Что такое несешь, Вальдемар? Майорат удивленно воззрился на него:
— Я говорю о панне Стефании Рудецкой. Ты ведь ее называешь Стеней, верно?
— А, да, верно. Стеня — звучит красиво. Но она-то чем тебе докучает? Скорее ты ее вечно мучаешь, и сегодня мучил.
Вальдемар расхохотался:
— О нет, ее не замучаешь! Язычок у нее острый!
— И все же ты плохо поступаешь, Вальди, когда ее дразнишь. Это милый и очень добрый ребенок. К тому же она из хорошей семьи, и ты сам прекрасно знаешь, при каких обстоятельствах ей пришлось пойти в учительницы. Хоть это и не ее профессия, она работает хорошо. Такое следует ценить. Зачем ты ее дразнишь?
— Вот, дорогой дедушка, еще одна отличительная черта нашего круга: превращать в игрушки такие вот угодившие к нам существа, делать мишенью для шуток, оттачивать на них остроумие.
— Вальди, я не верю, что ты говоришь серьезно!
— Отчего же? Совершенно серьезно. Шутить над такими — еще одна драгоценность в сокровищнице наших привилегий.
— Вальди, да что с тобой сегодня?
— Я исключительно искренен.
— Ты сегодня исключительно зол и оттого несправедлив даже к себе самому. Ты не способен на забавы, о которых говоришь.
— Быть может. Да какая разница?
— Почему ты так ведешь себя с ней?
Вальдемар воздел руку:
— Традиций ради, любимый дедушка!
— Вечно ты смеешься.
— Ну ладно, открою правду. Я ее терпеть не могу!
— Кого, панну Стеню?
— Ее самую.
— Почему? Она такая красивая, добрая, умная! Вальдемар пожал плечами:
— За что я ее не люблю? Наверняка за то же самое, что и она меня. Откуда я знаю? Ну хватит об этом.
Мне пора, коня давно оседлали. К сумеркам доберусь до Глембовичей. А через неделю приеду с практикантом — к великому удовольствию тетушки…
— Как! А раньше не появишься?
— Не смогу. Ужасно много дел.
Пан Мачей сердечно прижал внука к груди:
— Как же ты поедешь один? Почему никогда не возьмешь конюха?
— Не люблю, чтобы за мной таскался слуга.
— Возьми хоть казачка!
— Дедушка! Я же не ребенок, чтобы бояться темноты! Пойду попрощаюсь с тетушкой. Не сбросит ли она меня с лестницы?
— Не стоит к ней ходить. Я за тебя попрощаюсь.
— Что ж, тем лучше. До свиданья, дедушка! Вальдемар вышел из кабинета. Пан Мачей видел в окно, как он садится в седло и отъезжает рысью, За ним вприпрыжку понесся огромный дог Пандур, любимец шляхтича.
В воротах Вальдемар заметил Люцию и Стефу, возвращавшихся с прогулки. Люция что-то говорила спутнице, а Стефа на его поклон ответила холодным кивком и прошла мимо, не удостоив взглядом.
Вальдемар задержал коня в воротах, глядя вслед Стефе, пока она не исчезла из виду. Ударил рысака стеком, свистнул псу и помчался.
Пан Мачей усмехнулся и пробормотал под нос:
— Терпеть ее не может… Ну-ну. Она его определенно интересует.
IV
Жизнь Стефы в Слодковцах протекала спокойно. Уроки, беседы с Люцией, музыка, прогулки и чтение — все это занимало весь день.
С пани Идалией Стефа встречалась в основном за столом. В другое время баронессу можно было встретить в кабинете. Уютно устроившись в шезлонге или мягком кресле, пани Идалия читала, все время читала. На столиках, полочкам, креслицах во множестве лежали романы Руссо, Золя, Дюма, даже Вольтера, Ларошфуко и Шатобриана. Больше всего было французских книг, изредка встречались Диккенс с Вальтером Скоттом или Шекспиром. Немецкие писатели интересовали редко, польские же — никогда. Пани Эльзоновская устроилась превосходно. С дочкой она никогда почти не разговаривала, поручив ее Стефе. Отца навещала лишь в минуты хорошего настроения, чтобы сыграть с ним в шахматы, — и тогда сносила даже присутствие пана Ксаверия, ежедневного партнера пана Мачея.
Бывали дни, когда под впечатлением прочитанного романа пани Идалия становилась вдруг неимоверно нежной с дочкой, с отцом, даже со Стефой. С милой улыбкой выспрашивала, как им живется, не терпят ли в чем нужды — и после таких бесед ощущала себя сущим ангелом во плоти. Часто ездила в Шаль, к сестре мужа, графине Чвилецкой, в Обронное — к княгине Подгорецкой, бабушке Вальдемара. Других домов, где пани Идалия могла бы бывать с визитами без ущерба для своего аристократического достоинства, поблизости не имелось. Несколько нетитулованных соседей сами навещали Слодковцы — главным образом ради общения с людьми, стоящими неизмеримо выше на общественной лестнице. Пан Мачей принимал их радушно, пани Идалия — вежливо, но отдавал им визиты один Вальдемар. Пана Мачея извинял возраст, пани Идалию — ее убеждения: pas pourmoi[11]; все это понимали надлежащим образом, сумев втолковать себе, что пани Идалия страдает от расстройства нервов, не позволяющих ей ездить с визитами. Впрочем, направляясь в Шаль или Обронное, она, случалось, и навещала людей попроще. Но никогда не забывала дать понять, что делала это исключительно paz politesse[12]. В самих же Слодковцах гостей, как уже говорилось, бывало много — одних привлекало общество пана Мачея, других влекла скука, третьи искали встречи с майоратом. Взгляды всей околицы были прикованы к молодому магнату-миллионеру. Он был одной из лучших партий в стране, чем и объяснялась у некоторых живая симпатия к пану Мачею и терпимость к мигреням-нервам пани баронессы…
Хотя и занятая работой, Стефа тосковала по дому. Письма от родителей не могли его заменить, и в душу девушке все чаще закрадывалась печаль.
Вместе с Люцией она часто навещала пана Мачея в его кабинете. Старик удивительным образом влиял на нее — при виде его ласковой улыбки прочь отлетали все печали. Даже обстановка в его кабинете отличалась от роскоши особняка. Все там было старомодным, но веселым, лишенным напыщенности покоев пани Идалии.
Пан Мачей часто сиживал в садовой беседке, слушая, как Стефа читает вслух. Он любил, когда Стефа музицировала, играла ему Шопена и его любимые арии из опер. С каждым днем Стефа привязывалась к старику. Но когда долго не приезжал Вальдемар, пан Мачей впадал в меланхолию.
Недельная разлука со своим любимцем печалила пана Мачея. Его не утешали ни шахматы, ни чтение вслух, даже музыка Стефы не радовала. Слушая ноктюрн Шопена, он беспокойно ворочался в кресле, посылая Люцию к окну посмотреть, не едет ли Вальдемар. Услышав, что всадника не видно, ворчал:
— Да что с ним такое? Что все это значит? Когда Стефа закончила играть, он поблагодарил и удалился к себе.
— Дедушка печалится, — сказала Люция. — Знаете, почему? Потому что Вальди не едет. Дедушка его ужасно любит.
— Пусть бы уж приезжал… — ответила Стефа. Люция ушла к матери, Стефа в свою комнату. У распахнутого окна она любовалась игрой солнечных лучей, превращавших в золотые нити струи фонтана. Вода с тихим шелестом ниспадала золотисто-розовым облачком в каменную чашу, рассыпая крохотные капельки на растущие вокруг цветы. Они, казалось, протягивали к струям жаждущие головки, яркие, благоухающие. Алый круг солнца склонялся к западу. В воздухе распространялась нега подступающего вечера. Ни дуновения ветерка. И вдруг в тиши, нарушаемой лишь птичьим пением и шепотом фонтана, раздались иные звуки.
Сначала послышался шум колес, стук копыт множества коней, наконец, раздались веселые голоса, и из-за кустов на усыпанную гравием площадку перед особняком выехало несколько экипажей. Первыми выехали экипажи, запряженные четверками. Следом коляска и линейка. Оттуда неслись болтовня и смех. Там светлые шляпки и платья дам затмевали темные сюртуки мужчин.
Стефа, отодвинувшись в глубь комнаты, смотрела с любопытством.
Экипажи остановились как раз напротив ее окна, веселая компания стала покидать их. Все смотрели в сторону ворот. Дамы, махая зонтиками, смеялись:
— Опоздал! Опоздал! Мы обогнали!
По белеющей среди газонов аллее ехала рысью запряженная цугом четверка каурых, отлично вычищенных коней, которой управлял майорат. Сидя на козлах крохотной, словно игрушечной коляски, он приветственно размахивал шляпой. На месте хозяина в экипаже сидел кучер в черной с красным ливрее.
Вальдемар ловко остановил упряжку.
— Что ж, меня обогнали, — сказал он, бросая вожжи кучеру.
— Но не забудьте, что мне пришлось проехать четыре мили, это кое-что да значит. К тому же Бруно плелся, как черепаха, пришлось поменяться с ним местами. Сознайтесь, я делал все, что мог.
— Ваши кони дышали нам в спину, — сказала молодая симпатичная панна с веселыми плутовскими глазами.
— Я их попробовала погладить, но лишь запачкала перчатку. Вот, поглядите!
Она протянула Вальдемару обтянутую светлой перчаткой ручку.
— Извините, это не грязь, а конский пот. Мои кони всегда отлично вычищены, — сказал Вальдемар.
— Вы своих коней любите, правда?
— Правда. Они — моя единственная любовь.
— Взаимная, надо полагать, — понимающе улыбнулась девушка.
Другая добавила:
— Voyons, monsier, vous avezde la chance[13]!
Вальдемар шутливо раскланялся.
— Я польщен, милые дамы. Но почему мы стоим здесь? Совет старейшин давно уже в объятиях моей тетушки. Пойдемте и мы.
Компания исчезла в высоких дверях главного входа. Вальдемар шел последним, умышленно приотстав. Проходя мимо окна Стефы, он бросил на него быстрый любопытный взгляд.
В это самое время Стефа выглянула из окна, думая, что все уже прошли. Их взгляды встретились. Вальдемар посерьезнел, снял шляпу и пошел дальше.
Стефа решила не выходить. Никого из гостей она не знает, к тому же не хотелось слышать Вальдемара, да и замечания пани Идалии — сегодня та как раз в плохом настроении.
Однако вскоре ей стало скучно. Снизу доносились приглушенные голоса, иногда оживало фортепьяно, словно кто-то, проходя мимо, брал пару аккордов. Не единожды раздавались взрывы смеха. Словом, внизу царило неподдельное веселье.
Через час в комнату Стефы вбежала, задыхаясь, разрумянившаяся Люция и заговорила с небывалым оживлением:
— Вы знаете?! Приехало столько гостей! И тетя Чвилецкая с дочкой Михалой, и княгиня Подгорецкая, бабушка Вальдемара, и молодые князья Подгорецкие, и Жижемские, и граф Трестка!
— А почему так внезапно?
— Да так уж вышло! Каждый ехал к нам сам по себе, и в пути все встретились! Больше всего гостей из Обронного: целых два экипажа! Вальди тоже ехал к нам, и они его встретили. Он даже хотел обогнать линейку, но проиграл. Теперь Рита над ним смеется.
— А кто такая панна Рита?
— Шелижанская. Она кузина… а может, дальняя родственница княгини Подгорецкой, сирота и потому живет в Обронном. Она раньше часто сюда приезжала, но потом долго жила в Вене, и потому вы ее не видели. Очень милая и веселая!
Стефа подумала, что это, должно быть, та самая панна, что показывала Вальдемару испачканную перчатку.
— Она красивая, правда?
— Да, а вот Вальди этого не замечает. Ему трудно угодить. Вы с ней сами сегодня познакомитесь.
— Я сегодня вообще не выйду. Глаза Люции широко раскрылись:
— Почему? Как так? Я уже всем вас расхвалила…
— Ах, Люди!
— Я ведь так вас люблю! Стефа поцеловала девочку:
— Я очень рада. Ты уж сегодня побудь с гостями. Меня ты и так каждый день видишь.
— Что вы такое говорите! Ни дедушка, ни Вальди не согласятся, чтобы вы просидели в комнате одна.
Стефа рассмеялась. Ее развеселило утверждение Люции, будто Вальдемар рад будет ее увидеть. Кто-кто, но он-то… А впрочем, быть может: если ее не будет, на ком он станет оттачивать свои шутки? Стефа развеселилась, подхватила Люцию и принялась танцевать с ней, напевая.
Люция танцевала самозабвенно. Обе были почти одного роста, они порхали, кружась в вихре вальса, распевая наперебой. Развевалась светлая коса Люции, трепетало батистовое платье Стефы. Лицо ее разрумянилось, фиалковые глаза рассыпали огоньки из-под золотистых бровей, полуоткрытые розовые губки жадно хватали воздух, и потому мелодия вальса то и дело обрывалась, но плясуньям это нисколечко не мешало.
Развеселившись, они не слышали, как в дверь постучали уже второй раз, не заметили, как кто-то вошел. Лишь некоторое время спустя, полуобернувшись, Стефа увидела его и окаменела от удивления.
В дверях стоял Вальдемар. Улыбаясь, он смотрел на танцующих девушек и счастливое, незнакомое ему лицо Стефы. Смотрел на ее румянец, блестящие глаза, рассыпавшиеся волосы, и эта перемена несказанно удивила его.
До сих пор он не видывал ее такой веселой. И нарочно стоял молча, чтобы она увидела его сама. Предвкушал, как она переполошится, и ожидание его забавляло.
Долго ждать не пришлось. Увидев его, Стефа онемела.
Вальдемар любовался ее лицом, метавшими молнии глазами.
Люция прервала немую сцену, разразилась смехом. Подбежала к Вальдемару и потащила его за рукав на середину комнаты:
— Вальди, ты нас застал врасплох. Мы тут так танцевали, словно нам играл оркестр! Ах, если б ты знал, как панна Стефа танцует! Словно балерина!
Вальдемар грациозно поклонился Стефе и сказал, прервав Люцию:
— Позвольте объяснить, что заставило меня вторгнуться в ваше святилище. До сих пор я не имел еще счастья видеть вас у себя. Быть может, я пришел не вовремя, но я счастлив: я увидел вас такой, какая вы есть. В моем присутствии вы всегда — воплощение злорадства, а сейчас я увидел прелестное создание… Вы со мной так и не поздороваетесь после нашей недельной разлуки? — спросил он с ноткой нетерпения. Стефа подала ему руку:
— Вы, наверное, искали Люцию?
— О нет, я пришел исключительно ради вас, точнее, за вами — тетя просит вас к чаю.
Люция захлопала в ладоши:
— Я же говорила, что вам не позволят остаться одной?! Я же говорила!
Она повернулась к Вальдемару:
— Знаешь, Вальди, панна Стефания хотела здесь остаться одна.
— Панна Стефа, вы вправду имели в отношении нас столь жестокие замыслы?
Стефа ответила почти весело:
— Странная у вас манера задавать вопросы. Да, я хотела остаться у себя.
— Протестую! От имени всего общества, которое жаждет с вами познакомиться.
Стефа вновь застыла. Она уже хотела решительно отказать, но Вальдемар заметил тень сомнения на ее лице и поспешил опередить:
— Приглашаю вас на чай от имени тети и дедушки. Если с вами хочет познакомиться графиня Чвилецкая, сиречь моя бабушка, можете за это благодарить исключительно вашу ученицу.
— Ну да, я о вас много говорила и тете, и крестной, — подтвердила Люция.
— В таком случае я к вашим услугам, ясновельможные панны!
— Нет, Вальди. Если хочешь сопровождать нас, тебе придется подождать в салоне. Нам нужно поправить волосы, а то мы выглядим, словно пугала.
— Уж ты-то — точно, но панне Стефании это только к лицу.
— Негодник! — закричала Люция, схватив его за рукав и выталкивая за дверь.
Стефа раздраженно посмотрела вслед молодому — он по-прежнему выводил ее из себя. Заметив ее взгляд, Вальдемар воздел руки с комичным выражением лица и, не сопротивляясь увлекавшей его к г двери Люции, произнес:
— Hannnibal ante portas![14]Это провозглашают ваши глаза. Ну что ж, я исчезаю!
И он вышел. Люция закрыла за ним дверь.
V
Гости собрались в гостиной. Лакеи обносили их чаем и пирожными. Пани Эльзоновская, в самом приятном расположении духа, занимала разговорами княгиню Подгорецкую и графиню Чвилецкую, свою свояченицу.
Эти две дамы разительно отличались друг от друга. Глядя на них, можно было даже подумать, что родом они с двух разных планет. Княгиня, высокая и худощавая, казалась воплощением аристократизма, сквозившего в каждом движении, в каждом жесте. Белые волосы зачесаны высоко над лбом и прикрыты дорогим черным кружевом. Никаких драгоценностей, кроме обручального кольца и перстня с огромным изумрудом, на котором был выгравирован герб Подгорецких. Часы эта знатная дама носила на черном шнурке. У нее было маленькое личико, бледное, с нежной, почти без морщинок кожей. Большие черные глаза строги и внимательны. В молодости она, несомненно, была очень хороша собой. Красивым звучным голосом она очаровывала всех, с кем ей приходилось встречаться.
Графиня Чвилецкая была ей полной противоположностью. Среднего роста, полноватая и грубоватая, она больше походила на купчиху. Безвкусно одетая, осыпанная бриллиантами, вся в золотых цепочках. Беседуя с княгиней, она бурно жестикулировала, громко и нервно сыпала словами и оттого походила на городскую мещанку. Чвилецкая не любила княгиню и постоянно пыталась подчеркнуть свое превосходство количеством своих драгоценностей. Но внешне, на людях, была с княгиней вежлива и предупредительна, даже порой угодлива.
Но княгиня прекрасно знала истинное к ней отношение. У нее был внук, а у графини две дочери, причем старшая, панна Михала, отпраздновала уже тридцатый день рождения. Это, по мнению княгини, во многом извиняло Чвилецкую.
Теперь обе они разговаривали с пани Идалией и паном Михалом, окруженные несколькими гостями.
Молодые развлекались, как умели. Панна Рита Шелижанская, в модном черном платье с голубым узором и большим воротником из кремового цвета кружев, первенствовала в разговорах и шутках. Ее темно-русые волосы, высоко зачесанные замысловатым образом, украшала приколотая кокарда из голубой ленты. Это выглядело немного чудаковато, но панне Рите было к лицу. Она всегда одевалась не так, как другие, а ее прически могли многих поразить. Движения ее были дерзки и грациозны. Все, казавшееся невозможным для других, в ней выглядело естественно. Откровенная, острая на язык, она заражала всех весельем.
Княгиня питала к ней слабость, хотя чудачества воспитанницы порой и претили старой даме. Панна Рита была заядлой спортсменкой. В Обронном, имении княгини, у нее была собственная конюшня, где она проводила много времени. О лошадях она могла говорить бесконечно. Вот и теперь, усевшись в свободное кресло с чашкой в руках, она разговаривала с молодым человеком, — явным завсегдатаем скачек. Панна Рита с жаром ему что-то доказывала:
— Ну, если вы сомневаетесь в чистоте крови моих коней, вы в лошадях нисколечко не понимаете. Моих коней привезли прямехонько из Англии. Это фолблюты. Спросите майората: он первоклассный знаток.
— Вечно вы меня к нему отсылаете! Неужели он — тонкий знаток английских лошадей?
— Во всем, что касается коней, — наверняка.
— Значит, мне вы в этих качествах отказываете?
— По чести — да. Вы ослеплены вашими першеронами и света за ними не видите. Все, что есть лучшего, — в вашей конюшне.
— Но, сознайтесь, моя конюшня того стоит. Панна Рита покривила губки:
— Не люблю першеронов.
— Дело вкуса. А я не люблю английской породы. Панна Рита смерила его ироническим взглядом:
— Говорите что вам угодно, но к чему твердить о несуществующих пороках?
— Для меня порок — их английское происхождение, которое вы, пани Рита, превозносите до небес.
— Что ж, фолблюты всегда были английского происхождения.
— Пан Михоровский пошел за Люцией и ее учительницей — бесстрастно вмешалась панна Михалина Чвилецкая. Все это время она сидела молча и пила чай; ничто не могло ее развеселить.
Граф Трестка поправил пенсне и злорадно усмехнулся:
— Не проста, должно быть, эта учительница, если Вальдемар уделяет ей столько времени.
— Ну что вы, il L'abhozze![15] — сказала панна Рита. — По крайней мере, так утверждает Люция. Кажется, дело обстоит в точности так, как с панной Кларой.
— А она похожа на панну Клару?
— Я ее не видела, но Люци ею довольна. А если она к тому же и красива, берегитесь, пан граф!
Трестка удивленно воззрился на нее:
— Voila une idйe! Я никогда не смотрю на особ такого рода.
— А я бы хотела, чтобы вы влюбились именно в нее.
— Единственное, что я могу — оценить ее, указав все ее пороки.
— Пан граф! О женщинах в таком тоне не говорят!
— Об учительницах можно.
— Нет, и о них нельзя. К тому же панна Рудецкая из хорошей семьи…
— Т-с-с! Они идут! — прервал ее граф и, поправив пенсне, обратил взор к двери.
Вошли Стефа с Люцией и Вальдемар. У Стефы потемнело в глазах — столько лиц обратилось к ней, столько испытующих глаз. Она стояла, словно у позорного столба.
Все разговоры смолкли. Критические взгляды всех без исключения скрестились на молодой учительнице. Пани Эльзоновская взглянула на нее глазами-щелочками и довольно небрежно повела рукой, коротко бросив:
— Панна Рудецкая.
Несколько голов слегка кивнули. Смущенная Стефа отдала общий поклон, не зная, как держаться. Впервые она так болезненно ощутила свое положение. И простить себе не могла, что согласилась прийти сюда. Владей она собой меньше, разразилась бы рыданиями.
Но к ней уже спешил Вальдемар. Явно взволнованный, он тем не менее казался совершенно спокойным, подал ей руку и изысканно поклонился:
— Разрешите, я представлю вас моей бабушке. Стефа машинально подошла к стоявшему поодаль канапе. Подняв глаза, она увидела благородное лицо пана Мачея и величественную, аристократическую фигуру княгини.
Вновь зазвучал низкий голос майората:
— Дорогая бабушка, разреши представить тебе Стефанию Рудецкую, о которой ты столько слышала от Люции.
Княгиня встала с канапе и, подавая Стефе руку, сказала с располагающей к себе улыбкой:
— Очень рада. В самом деле, Люция столько о вас рассказывала. Она вами очарована.
Стефа, охваченная благодарностью и удивительным приливом надежды, наклонилась и поцеловала руку старушки.
В глазах княгини появилось удивление. Улыбнувшись, она прикоснулась губами к волосам девушки, потом села и показала ей место рядом с собой.
Поведение майората и благожелательность к Стефе княгини произвели на присутствующих неожиданное впечатление. Гости удивленно переглядывались.
Княгиня Подгорецкая встала навстречу какой-то гувернантке и подала ей руку?! Мир рушится! Особенно недоумевали граф Трестка и графиня Чвилецкая. Глядя на княгиню, беседующую с учительницей, графиня пожимала плечами. Она сердилась, что Вальдемар не ей первой представил Стефу. До Стефы графине не было никакого дела — но как посмел майорат так пренебречь ею, графиней Чвилецкой? Как мог он забыться настолько, чтобы вести под руку эту гувернантку?!
Графиня, бросив на Стефу злой взгляд, принялась шептать что-то мужу, сидевшему, словно мумия. Пани Идалия расслышала только одно слово: «maоtresse»[16], но притворилась, что не слышит, лишь нервно повела бровью, заканчивая разговор с соседом.
Тем временем панна Рита, пересказывавшая за малым столиком Михоровскому разговор с графом, услышала от майората похвалу ее коням. Граф стал беседовать с ним, а Рита подошла к княгине, и, энергично подав руку Стефе, с веселой улыбкой сказала:
— Поскольку нас никто не познакомил, я сама свершу церемонию, Вы обо мне наверняка еще не слышала, я долго гонялась за приключениями в Вене.
Стефа, вставши, пожала руку молодой панны:
— Отчего же, Люция мне о вас рассказывала.
— Да? Вижу, Люция. — наш маленький местный репортер, всех информирует. Итак, я вас забираю в нашу компанию. Здесь чересчур высокое общество, у нас проще и веселее. Тетя и дедушка ничего не будут иметь против, верно?
Княгиня вежливо и величественно склонила голову, а пан Мачей сказал:
— Ну, конечно, пани Рита, вы умеете развеселить, и тем смелее поручаем вам панну Стефанию.
Вскоре Стефа сидела за малым столиком и понемногу привыкала к компании. Ее раздражало блестящее пенсне графа Трестки, направленное на нее, и она с любопытством поглядывала на высокомерно державшуюся графиню Чвилецкую. Панна Рита легко втянула Стефу в разговор. Лицо ее разрумянилось, глаза весело блестели под пышными ресницами.
Панна Рита посматривала на нее благожелательно, большинство же остальных — довольно настороженно. Один граф Трестка присматривался с любопытством, словно пытался оценить ее достоинства и недостатки.
— Pas mal, pas mal[17], — бормотал он под нос, считая это из ряда вон выходящей похвалой. Изучив покрой платья, он покрутил головой, удивляясь, что домашняя учительница может одеваться с таким вкусом. Поглощенный этими наблюдениями, он напрочь забыл, что проиграл спор о лошадях. Но панна Рита тут же ему напомнила:
— Пан Вальдемар, как себя чувствуют ваши девять муз во главе с Аполлоном?
— Прекрасно, — сказал майорат, усаживаясь рядом со Стефой. — Резвость у них подлинно олимпийская.
— Что это за музы? — спросила Стефа.
— Подруги Аполлона, — вмешался граф Трестка. — Неужели вы не знаете?
— Hу что вы, пан граф. Мифологию я знаю, — и Стефа повернулась к Вальдемару: — Это ваши кони носят имена муз?
— Да, и вы с этими конями уже знакомы.
— Те, на которых вы сегодня приехали? Я их никак не могу отличить друг от друга. Они все черные…
Вальдемар усмехнулся:
— Меня сегодня привезли Клио, Мельпомена, Урания и Терпсихора.
— Правда, красиво звучат? — сказала Рита. — Во второй четверке — Талия, Каллиопа, Эвтерпа и Полигимния, а Эрато — верховая лошадь пана Михоровского.
— Последнюю я хорошо знаю, — сказала Стефа. — На ней пан Михоровский сюда приезжает.
— Правда, красивая?
— Очень.
— Вы еще не видели Аполлона. Я в него попросту влюблена! — воскликнула панна Рита.
Все рассмеялись.
— Придется перевести его в конюшню в Слодковцах — быть может, тогда ваши визиты сюда станут более частыми, — пошутил майорат.
— Вы должны подарить панне Рите его портрет.
— Или отлить его бронзовую скульптуру.
— Ну что вы! Статуя потеряет цвет оригинала!
— Смейтесь, господа, смейтесь, все равно и вы все им очарованы!
— Кроме меня, — сказал граф Трестка, поправляя пенсне.
— Потому что чувство прекрасного у вас лишь в зародыше, вам достаточно першеронов и этих ужасных мекленбургов. Аполлон в вашей конюшне выглядел бы непрошенным захватчиком, — вставила панна Рита.
— Как и ваши англичане — в моей.
И они с панной Ритой схватились не на шутку.
Глядя в глаза Стефе, Вальдемар весело сказал:
— Теперь Слодковцы могут взлететь на воздух — эти двое и тогда не прекратят спора. Как только они встретятся, ни о чем другом не говорят и вечно ссорится — в точности как вы со мной.
— Я с вами не ссорюсь.
— Вы меня тираните. Я просидел дома неделю — боялся сюда ехать.
— Ах, как вы пугливы!
— Что делать? Вы так энергично прогнали меня из леса, потом линчевали за обеденным столом и даже не попрощались. Все это не могло не испугать… Но я затосковал по своему тирану, и вот я здесь.
Стефа закусила губу. Она решила не отвечать на его шуточки, чтобы не услышали остальные. Однако в зале было шумно, а сидящая рядом Рита так увлеклась словесным фехтованием с графом, что оба были глухи к окружающему.
Заметив беспокойство Стефы и перехватив ее взгляд, искавший Люцию, Вальдемар сказал:
— Вы хотите использовать в качестве оружия против меня невинность, как Твардовский[18] против Мефистофеля, но Люция, увы, уже слишком взрослая для роли, которую вы ей собираетесь отвести…
Губы Стефы задрожали от сдерживаемого смеха.
Вальдемар продолжал:
— Я тосковал по своему злому гению, но вы — вы наверняка молились, чтобы я не показывался подольше.
— Наоборот, я хотела, чтобы вы приехали поскорее. В глазах Вальдемара сверкнуло любопытство:
— Правда? О Боже, почему я не знал! Стефа посмотрела ему прямо в глаза:
— Я ждала вашего приезда, потому что ваш дедушка стал тосковать и начал уже впадать в меланхолию.
— Значит, вы жаждали моего приезда не ради себя, а ради дедушки?
— «Жаждала» — слишком сильно сказано. Попросту ожидала.
— О разочарование! Я думал, что попал в рай, но оказалось, передо мной — по-прежнему чистилище…
Стефа засмеялась. Он посмотрел на нее испытующе и, понизив голос, сказал:
— Вы сегодня выглядите чудесно. Я чувствую, как теряю голову.
— Пан майорат! — разгневалась девушка.
— К вашим услугам! — в его глазах и в его глазах играли шаловливые огоньки.
Стефа сжала губы. Какое-то время назад она ответила бы дерзостью, но теперь уже научилась относиться к его шуточкам спокойно.
— Я уже жалею, что молила Бога о вашем приезде. Из симпатии к старому пану Михоровскому я навредила себе…
— …навредила себе молодым Михоровским, словно горькой микстурой, — закончил он за Стефу.
— Угадали, — рассмеялась Стефа.
— Но я уверен, что вы ожидали меня не из-за дедушкиной тоски, а из-за своей собственной. Правда? — он дерзко заглянул ей в глаза.
— Вижу, в вашей компании безопаснее всего молчать, иначе вы делаетесь чересчур веселым.
— А вы моментально показываете коготки, — отпарировал он.
— О чем вы столь серьезно беседуете? — спросил граф Трестка, глядя на Стефу сквозь пенсне.
Вальдемар непринужденно сказал:
— Мы говорили о другом виде спорта. Я как раз просил панну Стефу сыграть нам.
— Панна Стефа играет на цимбалах? — спросил Трестка насмешливым тоном.
— Нет, на цимбалах я не играю, — ответила Стефа в точности тем же тоном.
— Жаль. Они так прекрасно звучат… Вальдемар нахмурился. Его стада охватывать злость.
Глянув на Трестку сверху вниз, он сказал, растягивая слова:
— Я надеялся, что у вас лучше вкус и нежнее уши… Трестка понял. И побледнел от злости.
Видя его замешательство, панна Рита с улыбкой сказала Стефе:
— Присоединяюсь к просьбе пана Вальдемара. Сыграйте нам что-нибудь. Я, увы, не играю, но музыку очень люблю.
— С удовольствием, но попозже.
— Да, сейчас шумно, а музыка любит тишину. Камердинер зажег лампы. Панна Рита стояла у окна, глядя на узкую светло-желтую полоску восходящего месяца.
Стефа и еще два-три человека подошли к ней. Вальдемар же отправился в столовую — Люция сообщила, что пани Эльзоновская хочет его видеть.
VI
Огромный стол, накрытый голландской скатертью с вытканным посередине гербом Михоровских, был накрыт к ужину. По краям его, словно солдаты в расшитых мундирах, стояли тарелки из толстого фарфора, расписанные изящными узорами. Рядом с ними, на подставках, ожидали гостей серебряные ножи, вилки и вычурные ложки. Напротив, будто шатры часовых, стояли Свернутые салфетки с ломтиками хлеба внутри. Картину дополняли хрустальные вазы с фруктами, стаканы, бокалы, несколько прекрасно подобранных букетов. У каждого прибора лежали цветы. Они были прихотливо разбросаны по столу, придавая ему вид майского поля.
Между главным столом и боковым, где стояли компоты, а также сервантом, сновали камердинер Яцентий и молодые лакеи в черных фраках с золотыми пуговицами и пунцовых рубашках; с ними вместе суетился лакей княгини Подгорецкой в желтой ливрее.
На стенах светились белые шары ламп, над столом висела бронзовая люстра, пламенеющая огоньками хрустальных подвесок; лучи света играли на серебре и хрустале.
В зал вошла пани Идалия, сопровождаемая Вальдемаром, которому она говорила по-французски:
— Это не званый обед, все должны чувствовать себя свободно. Но ты, Вальди, должен проводить к столу графиню Чвилецкую.
Вальдемар, будучи в веселом настроении, ответил:
— Как мило с вашей стороны, тетя, что вы отдаете мне под опеку эти алмазные копи. Но я охотно поменял бы их на одну-единственную жемчужину…
— Не шути. Я знаю, о ком ты… Странно, что эта девушка так тебя занимает.
Вальдемар нахмурился и, явно задетый, ответил:
— Панна Стефания не из тех, кто не заслуживает внимания.
— Но и не следует оказывать ей столько, как это сегодня делал ты.
— Я на такие вещи смотрю иначе.
— Что ж, сказано откровенно, — поджала губы пани Идалия. — Но предупреждаю — могут поползти сплетни. Я сама слышала крайне невежливое замечание Лоры…
— Ох! Пани графиня может говорить, что ей вздумается. Слушателей у нее найдется немного. И скажите ей, тетя, чтобы не делала при мне свои намеки, а то даже ее пресловутое «графское величие» не заставит меня молчать!
— Что значит «пресловутое»?
— Разве я должен вам объяснять, как в действительности обстоит дело с «графским» титулом Чвилецких?
Все это знают. Особенно ее кареты с довольно свежими гербами на дверцах и старый камердинер, весьма удивившийся, когда на его ливрейных пуговицах вдруг оказалась графская корона с девятью зубцами. Почему-то все без исключения хроники и гербовники и словом не упоминают о «графах» Чвилецких — что, конечно, весьма неделикатно с их стороны. Пани Идалия поморщилась:
— Пойдем к гостям.
К Стефе подошла графиня Чвилецкая, села рядом:
— Откуда вы родом? — тихонечко спросила она.
— Из Царства, пани графиня.
— И давно служите в учительницах?
— Это мое первое и последнее место.
— Вот как? Первое? И Идалия доверила вам Люцию? Молодая учительница покраснела.
— Должно быть, я сумела вызвать ее доверие, — сказала она, улыбнувшись.
— Сколько вам лет?
Удивленно глянув на графиню, Стефа, не раздумывая, ответила:
— Двадцать пять.
Графиня подняла к глазам лорнет на длинной золотой ручке.
— Да, весьма похоже, — сказала она убежденно, — Люция говорила мне, что вам девятнадцать, но я сразу поняла, что она ошиблась. Хорошо, что вы не скрываете своего возраста. Моей Михале столько же, хотя все считают, что ей меньше.
Губы Стефы задрожали от смеха, но в глазах мелькнуло сожаление. Она посмотрела на сидящую рядом графиню, всегда чопорную, похожую на старшую сестру пани Эльзоновской.
Графиня продолжала:
— Кажется, вы стали учительницей не из призвания?
— Да, но я начинаю любить свою работу, главным Образом оттого, что довольна своей ученицей.
Подошел Вальдемар, следом — граф Чвилецкий. Графиня крикливым тоном обратилась к мужу:
— Те voila![19]Ты знаешь, Auguste[20], панне Рудецкой двадцать пять лет, а не девятнадцать, как говорила Люция. Глаз у меня наметанный, — она посмотрела на Стефу:
— Мы с мужем так и решили, что вам никак не девятнадцать, помнишь, Август, ты сказал…
— Извините, я не понял, о чем идет разговор, — быстро вмешался Вальдемар.
— О моем возрасте. Я для солидности прибавила себе лет, — засмеялась Стефа.
— Обязательно запишите этот разговор в своем дневнике, панна Рудецкая, — сказал Вальдемар словно бы равнодушно, но на самом деле с видимой иронией.
Задетый, граф с укором покосился на жену и, как обычно растягивая слова, сказал:
— Лора, ты ошибаешься. Ничего подобного о возрасте панны Рудецкой я не говорил.
— Mais, mon cher![21]Ты просто забыл.
Граф не успел ответить. Вошел камердинер и объявил, что всех просят к столу. Майорат подал руку графине и сказал с видимым раздражением:
— Вопросы возраста откладываются на неопределенное время, а пока что я к вашим услугам.
Графиня что-то отвечала ему со смехом, но Стефа уже не разобрала ее слов.
Быстро оглянувшись вокруг, граф направился к пани Идалии. Стефа видела, как пары одна за другой удаляются в столовую, и для девушки это оказалось еще одной мучительной минутой. Она ругала себя за то, что не удалилась в свою комнату раньше — ведь теперь ей вновь придется одной следовать в столовую.
В это время подбежала Люция и, просунув руку под локоть Стефы, засмеялась:
— У всех свои рыцари, а мы пойдем с вами. Каюсь, я обманула пана Ксаверия. Мама поручила ему сопровождать вас, а я сказала ему, что вы уже идете с кем-то другим. Вы ведь не обидитесь на меня?
— Ну конечно! Ты правильно сделала. А впрочем, мы можем представить, что кавалер — это я.
— Ну разве вы — кавалер, пани Стефа? На кавалера уж больше похожа панна Рита, в ее амазонке и с этой кокардой!
Они вошли в столовую.
Снова несколько любопытных взглядов обратилось к Стефе. В конце стола сидел пан Ксаверий. По обе руки от него были свободные места — для Стефы и Люции.
Когда Стефа села, пани Эльзоновская глянула на нее и сказала с недвусмысленными интонациями в голосе: — А я уж думала, вы не придете…. Горячая волна румянца залила лицо Стефы. Она не нашлась, что ответить.
Вальдемар и на сей раз поспешил ей на помощь, спросив о чем-то пани Идалию. Девушка была спасена. Начатые в салоне разговоры продолжались и за столом. Повсюду смеялись, сыпались шутки. Но хорошее настроение Стефы уже улетучилось. Она сидела молча, моля в душе Бога, чтобы ужин побыстрее закончился. Молчали только она и пан Ксаверий, поглощенный содержимым своей тарелки и наблюдениями за блюдами в руках лакеев. Зато Стефа казалась себе захватчиком, вторгшимся в чужой ей мир. Перед глазами у нее вновь вставало пережитое: Ручаев, приезд в Слодковцы, пикировка с Вальдемаром, ее сегодняшний разговор с графиней.
Если бы не Эдмунд, она не оказалась бы в этом мире, не стала бы мишенью для светского злословия. Все вокруг смотрят на нее, как на существо, лишенное прав принадлежать к этому кругу. Смотрят, как смотрели бы экзотические растения на скромный полевой цветок, случайно выросший в их оранжерее.
Взгляд Стефы был прикован к букету цветов, лежавшему рядом с ее прибором. По странному стечению обстоятельств это оказались полевые цветы: травы и белые маргаритки с золотыми сердечками. Сияние озарило их, но они вскоре завянут, и мир для них померкнет. Она подняла голову и вздрогнула.
На нее смотрели несколько пар глаз — мертвые глаза портретов в резных рамах, украшавших этот зал.
Глаза предков Михоровских, серые, как у Вальдемара, проникновенные, грозные, казалось, впивались в нее, вопрошая: «Откуда ты взялась, плебейка, в родовом гнезде сенаторов и гетманов? Что ты здесь ищешь?» Стефу пронизала дрожь. Суровые взгляды.
«Что разделяет меня с этими людьми? — думала девушка. — Вот эти славные рыцари, предки? Меня отделяют от них короны с девятью зубчиками, княжеские шапки и гордое звание „аристократия“. Они привыкли презирать тех, кто стоит ступенькой ниже, пусть даже стоящие внизу не менее славны и заслуженны, а то и более…»
И все же аристократия обладает некой неуловимой прелестью, манящей к себе даже тонкие натуры. Быть может, причиной тому — величие векового владычества шляхты. Даже лишенные внешних регалий, аристократы тем не менее украшают собой общество. Иные из них, вроде старой княгини, неодолимо влекут окружающих. В княгине чувствуется высокая порода, с первого взгляда видно, что она — магнатка каждой каплей крови своей, наследница вельмож. Стефа слышала, что княгиня великодушна и много сил отдает благотворительности. Стефа взглянула на Вальдемара. А этот? Большой господин, родовитый шляхтич. Чести предков он не уронит, наоборот, предки гордились бы им. Умный, энергичный, настоящий пан, магнат и миллионер, понимающий свою роль и значение в обществе. Пан Мачей, любитель поболтать, признался как-то Стефе, что никак не думал, что Вальдемар сможет так измениться. Когда-то он жил иначе. Закончив университет в Бонне и сельскохозяйственную школу в Галле, он бросился в водоворот жизни и увлеченно поплыл по течению. Массу времени провел за границей, путешествовал. Объездил всю Европу, побывал в Египте и Алжире, охотился в Индии и в американских прериях, взбирался на горные вершины. Познакомился с лучшими клиниками, вел диспуты с учеными, бывал в химических лабораториях и метеорологических обсерваториях. Его интересовали заводы, в нью-йоркских доках он скрупулезно изучал работу портовиков. Связи и миллионы открывали перед ним все двери. Он был на заводах Крупна в Эссене. Участвовал в испытаниях знаменитого молота «Фриц» — с той поры у него остался револьвер, расплющенный в лепешку гигантом эссенских заводов, и золотой перстень с бриллиантом, на который «Фриц» лишь мягко опустился и почти не погнул его. Он побывал над кратером Везувия, посетил остров Святой Елены, часами просиживал в Лувре и Дрезденской галерее. Имел немало приключений и авантюр любовного характера, его принимали в самых аристократических клубах, при венском дворе, ибо через свою прабабушку состоял в родстве со знатнейшими и богатейшими мадьярскими родами. Он много тратил на женщин, игрывал в карты — впрочем, они никогда не были его страстью. Участвуя в нескольких дуэлях, он всегда выходил победителем благодаря своей отваге и умению прекрасно владеть пистолетом и шпагой. Женщины по нему с ума сходили: одних привлекали прекрасная партия и миллионы, другие любили его искренне. Но он так и не женился. Лет через пять разгульной жизни он пресытился пирушками, романчиками, победами, даже путешествиями — и вернулся на родину.
Пан Мачей рассказал Стефе, что у Вальдемара три страсти: кони, охота и женщины — впрочем, последние ему уже прискучили. Он устраивал прекрасные охоты, на которые в Глембовичи съезжались магнаты со всего света. И сам он часто выезжал охотиться в поместья своих друзей, где его всегда радушно принимали. Коней он любил, но на скачки их не выставлял, говоря, что слишком любит, чтобы отдавать в руки жокеев и смотреть, как лошади ломают ноги.
Все это Стефа узнала частью от пана Мачея, частью от пана Ксаверия.
Стефа вновь взглянула на Вальдемара. Он беседовал с дамами — со своей всегдашней непринужденностью, едва уловимой ноткой небрежности, временами с иронией. Движения его также были небрежны, но это лишь добавляло ему обаяния.
Глядя на него, Стефа встретилась с ним взглядом, но не опустила глаз. Он ослепительно улыбнулся.
На Стефу никто не обращал внимания. Сидя в конце стола, она могла, как ей и хотелось, оставаться незамеченной и предпочитала слушать чужие разговоры.
Она часто поглядывала на оживленное лицо пани Идалии. Взгляд Стефы скользнул по ее зеленой блузке и толстой золотой цепочке для часов; переместился на панну Риту, с аппетитом уплетавшую индюшку. Гордо вздернутая голова и блестящие стекла пенсне графа Трестки, монументальная фигура князя Францишка Подгорецкого, симпатичное лицо его жены, угрюмая физиономия графа Чвилецкого, ничем не примечательное лицо графини… Пару раз, по общему примеру, Стефа приподнимала бокал, когда провозглашался тост, но ничего не пила и ела мало.
Вальдемар, разливая вино подошел к ней. Она подняла на него глаза и отставила бокал. Во взгляде Вальдемара она явственно разглядела доброжелательность, услышала его тихий шепот: «Бедное дитя!»
Стефа удивилась несказанно: «Как это? Он не высмеивает ее, не критикует?»
«Должно быть, очень уж жалостно я выгляжу, если он сочувствует», — печально подумала она.
После мороженого пани Эльзоновская встала. Следом поднялись все остальные.
В первой паре от стола отошел пан Мачей, ведя под руку княгиню; следом — Вальдемар с графиней Чвилецкой, князь Подгорецкий с панной Жижемской, Чвилецкий с пани Идалией, Трестка с панной Ритой; Стефа подхватила под руку Люцию. Замыкал шествие пан Ксаверий.
И вновь в гостиной начались разговоры, прерываемые веселым смехом. Верховодили молодые. Предводительствовали Вальдемар и панна Рита, они сыпали шутками, плели глупости, веселя всех.
Граф Трестка не отходил от панны Риты, что ее явно раздражало. Зато Вальдемар, будучи в непривычно добродушном настроении, развлекал Стефу; потом они вновь принялись пикироваться на свой обычный манер. Однако, когда к ним приближался кто-то, Вальдемар менял тон и предмет разговора так искусно, что Стефа не могла сдержать улыбки, довольная его тактикой. Он вновь попросил ее сыграть.
— Ох, увольте, — шепнула она.
— Как прикажете, — поклонился он. — Но только в обмен на обещание сыграть как-нибудь для меня одного. Согласны?
— Конечно, — обещала она, довольная его уступчивостью.
— Я обожаю Бетховена, а вы, я знаю, мастерски исполняете его. Мне говорил дедушка.
— Но вашему дедушке я чаще всего играю Шопена. Больше всего он любит его ноктюрны.
— Что делать, дедушка — мечтатель, а я — реалист, — сказал Вальдемар.
В полночь гости начали разъезжаться.
После шумного прощанья экипажи тронулись, следом поехала линейка. Вскоре силуэты коней и экипажей растаяли в серебристом лунном свете, заливавшем поля и луга.
Стефа пожелала доброй ночи пани Идалии и Вальдемару. Вальдемар крепко пожал ее руку, задержав в своей горячей ладони. Стефа глянула на него удивленно, но, встретив его горящий взгляд, быстро убрала руку и направилась попрощаться с остававшимся в салоне паном Мачеем. Вальдемар, направляясь в свои покои, повторял:
— Я должен ее добиться, должен!
VII
На другое утро Стефа поднялась с беспокойством в душе.
Люция рассказала, что на станцию уже послали лошадей за практикантом, что ей очень любопытно: красив ли он и из хорошей ли семьи?
Обедали в Слодковцах в два часа дня. Вошел лакей и пригласил их к обеду.
— Пан Вальдемар вернулся? — спросила его Люция.
— Да, с вашего позволения, он приехал с паном, который у нас будет жить.
— Практикант! — выпалила Люция и, едва дождавшись ухода лакея, кинулась к зеркалу поправлять блузку и волосы. — Как хорошо, что он приехал наконец! Интересно, где его мама посадит за столом. Теперь в Слодковцах будет всегда весело, а не только, как приезжает Вальди! Ну пойдемте же!
У дверей столовой Стефа ощутила необъяснимый страх. Она быстро вошла и приблизилась к столу. Потом взглянула на приближающегося к ней Вальдемара… и застыла от изумления.
Рядом с Вальдемаром стоял Эдмунд Пронтницкий.
У Стефы зашумело в голове, перед глазами поплыли черные круги. Она смертельно побледнела, инстинктивно отступила на шаг, почти теряя сознание, протянула руку Вальдемару, увидела его широко раскрытые от удивления глаза и услышала голос:
— Позвольте представить вам пана Эдмунда Пронтницкого. Панна Стефания Рудецкая.
— Приветствую вас, — с совершеннейшей свободой протягивая ей руку, сказал Эдмунд. И весело добавил. — Какая приятная встреча!
— Вы знакомы? — спросила пани Идалия.
— Ну как же! Мы ведь соседи. Правда, панна Стефания?
— Да, — ответила та и почти упала в кресло.
В ее словах было что-то такое, отчего пани Идалия ничего больше не спросила, сразу отгадав, что между Стефой и молодым практикантом что-то когда-то произошло. И стала исподтишка наблюдать за ними. Пан Мачей, удивленный поведением молодой учительницы, молчал. Люция не могла усидеть на месте от любопытства. Только Вальдемар понял все. Изменившееся лицо Стефы, ее ошеломление, наконец, ее молчание утвердили его в мнении, что молодой практикант и есть несостоявшийся жених девушки. Его раздражала развязность, с которой держался вновь прибывший. Почти все молчали, один Эдмунд разговаривал громко и весело, держался довольно шумно. Казалось, он не понимал, что элементарная деликатность требует от него держаться в данных обстоятельствах скромнее.
Молодой Михоровский сразу составил весьма нелестное мнение о воспитании и характере своего практиканта. Вальдемару рекомендовал Эдмунда один весьма влиятельный человек. В его письмах молодой Пронтницкий характеризуется совершенно иным. Майората всерьез начинала беспокоить встреча Стефы с этим хлыщом, его развязность и язвительные улыбки, обращенные к Стефе.
«Как он смеет?» — думал Вальдемар, уязвленный. Его злили и пани Идалия, пытливо наблюдавшая за Стефой, и даже Люция, не отрывавшая восторженного взгляда от красивого лица прибывшего.
Вальдемар ругал себя за то, что не сказал Стефе фамилии будущего практиканта — ведь тогда, заметив ее волнение, он наверняка доискался бы причины и тут же отказал бы Пронтницкому. А теперь — поздно. Угнетенность девушки огорчала его.
А Стефа самым настоящим образом страдала.
«Знал он, что я живу в Слодковцах, или это всего лишь несчастливое стечение обстоятельств? Может, он узнал, где я живу, от наших соседей по Ручаеву и с умыслом поехал сюда? — точно в бреду размышляла она. — Но зачем?»
На смену охватившей ее растерянности пришла злость. Что, если он намеревается заставить ее покинуть Слодковцы? Может, ему удалось уговорить пана Рудецкого, и он приехал сюда предлагать ей руку и сердце?
А она? Она уже не может сказать, что любит его. Она разобралась в себе и своих чувствах, поняла, что сделала ошибку…
То, с какой свободой он приветствовал ее, озадачило Стефу. Знал ли он, что она живет в Слодковцах? Мысль эта возникала неотвязно.
Овладев собой наконец, девушка задумчиво слушала болтовню Эдмунда. Сейчас он казался ей совсем другим, неестественно веселым и чересчур шумным. О себе он говорил с бахвальством, но в то же время держался с пани Идалией, ее отцом и Вальдемаром едва ли не подобострастно. Стефу это несказанно удивляло. Она не могла понять, что в нем нашла когда-то. Сейчас разговор с ним стал для нее форменной пыткой. Стефу раздражал голос Эдмунда, она не могла понять, что этот человек здесь делает; к тому же ее злили пытливые взгляды пани Идалии и молчание Вальдемара.
«Вальдемар все разгадал, — думала Стефа, — и у него появятся новые поводы насмехаться надо мной. Я должна уехать. Расскажу все пани Идалии. Она поймет и простит. И я вернусь в отчий дом» — и тут, решившись уехать, Стефа вдруг ощутила легкую грусть, причин которой сама не понимала.
«Глупости, — подумала она гневно. — Теперь этот человек для нее — ничто!»
Сначала она почти не смотрела на Эдмунда. Но понемногу любопытство превозмогло. Слушая новые, незнакомые интонации в его голосе, она хотела убедиться, изменился ли он и внешне. Подняла глаза. Нет, он ничуть не изменился: по-прежнему красив. Однако раньше она видела в его лице иные чувства, в глазах — иные мысли. Теперь те же самые черты лица искривлены вульгарной усмешкой, глаза выдают пустоту натуры. Стефе показалось, что она в этот раз разглядела обычный булыжник, показавшийся ей ранее в солнечных лучах бесценным самоцветом.
Эдмунд смотрел на нее с циничной усмешкой. Стефа покраснела. И услышала его голос:
— Почему вы сегодня так молчаливы, панна Стефания? Я вас не узнаю и на правах доброго знакомого могу на вас обидеться — можно подумать, вы недовольны моим присутствием?
Эти слова вывели Стефу из себя. Уязвленная гордость уколола ее, словно острое шило.
Смерив Эдмунда холодным взглядом, она тем не менее сказала спокойно:
— Я не ожидала встретить вас здесь, и только.
— Но неужели наша встреча вас не обрадовала? Я, например, безумно рад!
Она ничего не ответила, прикусив губу. В его тоне явственно слышалась издевка.
Пронтницкий перегнулся к ней через стол и настойчиво повторил:
— Я страшно рад.
— Это видно, — ответила Стефа, задетая за живое.
— Правда? Ха-ха! Что ж, неплохо. Я люблю быть веселым!
— А вы всегда так… неимоверно веселы? — нервно пошевелившись в кресле, спросил Вальдемар.
Он говорил с нескрываемой иронией и слово «неимоверно» выделил особо.
Пронтницкий глянул на него и опешил: лицо молодого магната казалось высеченным изо льда, губы с неудовольствием кривятся, грозно нахмуренные брови словно бы предостерегают. Вся фигура Вальдемара гласила: «Не забывай, здесь еще и я!»
Молодой человек понял, что оказался в обществе, где его «неимоверная веселость» трактуется не так, как ему бы хотелось. Слова Вальдемара задели его и в то же время отрезвили. Он не знал, что ответить, но Вальдемар и не ждал ответа. Достав портсигар, он обернулся к пани Идалии и Стефе, вежливо спросил:
— Дамы позволят?
Пани Эльзоновская кивнула, недоуменно глядя на него — Вальдемар всегда курил в их присутствии после кофе, позволение ему было дано раз и навсегда. Однако сейчас Вальдемар обращался главным образом к Стефе:
— Вы позволите?
— О, разумеется, — кивнула она.
Пронтницкий прикусил губы. Столь деликатное обхождение магната с учительницей стало для него заметкой на будущее. Он почуял, что его внимание на это обратили умышленно. И подумал, что чужие люди берут сторону этой девушки, а он, когда-то с ума по ней сходивший, теперь говорит с ней столь пренебрежительно. Почему он так делает, Эдмунд и сам не мог бы ответить. Он попросту ощущал дикое удовольствие при виде краски, бросившейся ей в лицо, убежден был, что Стефа любит его по-прежнему, и это прибавляло ему отваги. О ее пребывании в Слодковцах он узнал от одного из соседей Рудецких по имению, но и подумать не мог, что Стефа не рада будет его видеть. Сам он был рад, и этого было ему достаточно.
Он решил заново влюбить ее в себя, если ее чувства к нему остыли. И вообразил, что Стефа терпеливо будет сносить его вульгарные шутки.
Но потерпел поражение с первых же минут.
Он видел, что произвел впечатление на панну Рудецкую, но совсем не то, какое ожидал. Ошеломление ее было столь огромным, что удивило Эдмунда. Холодное лицо Стефы не выражало ни тени радости, ни тени удовольствия.
В ответ на его шутки Стефа смерила его столь неприязненным взглядом, что Эдмунда пробрала дрожь.
«Да что с ней такое? — зло подумал он. — Откуда это пренебрежение?»
Одновременно внутренний голос напомнил ему, как он поступил со Стефой пару месяцев назад. Это раздразнило его, и он решил позлить девушку. Однако на пути сразу же оказался Вальдемар. Пронтницкий понял, что его взяли в удила, и у Стефы есть здесь защитники, с которыми следует считаться. После первого замешательства его охватила ярость. Он решил отомстить ей иначе.
Едва войдя в комнату, он заметил голубые глаза Люции, взиравшей на него с неподдельным восторгом, и это ему подсказало направление будущих действий.
Обед закончился. Пани Идалия встала из-за стола, и Вальдемар увел практиканта к себе в кабинет, чтобы очертить круг его будущих обязанностей.
VIII
Минуло несколько недель. Присутствие Эдмунда беспокоило Стефу и раздражало.
Стефа призналась пани Идалии, что связывало ее некогда с Эдмундом. Рассказала, что новая встреча с ним тяготит, и просила разрешения покинуть место. Пани Идалия посочувствовала ей со всей деликатностью великосветской дамы, но не согласилась на ее уход. Ей самой Пронтницкий пришелся по душе, и она не пересказала разговора со Стефой ни отцу, ни Вальдемару, зная, что пан Мачей наверняка пошел бы навстречу Стефе, а если бы все дошло до Вальдемара, Эдмунд принужден был бы немедленно покинуть Слодковцы.
А пани Идалия не хотела, чтобы он уезжал. Для нее молодой человек, симпатичный и веселый, стал милым компаньоном во время обедов и ужинов. Он умел тонко польстить ей, теша амбиции пани Идалии, мог развлечь шутками. Он к тому же частенько хвалил Люцию. Одним словом, во всем доме он лишь в пани Идалии отыскал друга и сторонника.
Вальдемар, как и пан Мачей, не скрывали, что практикант им не нравится, Стефа относилась к него присутствию равнодушно. С Люцией он обращался крайне галантно, зная, что ее матери это нравится. Чувства самой Люции его ничуть не трогали. Он и предвидеть не мог, что его постоянное внимание будет воспринято юной девушкой совершенно иначе, чем он рассчитывал.
Люция с первой встречи была от него без ума. Он был красив, а остальное сделали его комплименты, к которым Люция совершенно не привыкла, живя в уединении. Изменилось ее отношение к Стефе. Прежняя свобода в обращении с ней исчезла. Люция была уверена, что Стефа любит Эдмунда, и боялась, как бы учительница не обнаружила ее собственных чувств.
Она была права — Стефа обо всем догадалась очень быстро. Она жалела Люцию, но поговорить с ней об этом не решалась, а открыть все пани Идалии побоялась. Оставался пан Мачей, но и его Стефе не хотелось тревожить.
Тактика Эдмунда, лишенная всякого благородства, неприятно поразила Стефу и встревожила. Лишь визиты Вальдемара приносили ей утешение. Она приветствовала его с радостью. Некогда он дразнил ее, теперь выступал защитником перед Эдмундом.
Вальдемар умел развеселить всех, кроме Эдмунда, который в его присутствии терял всякую уверенность в себе, не смея дразнить Стефу и ухаживать за Люцией. Эдмунд знал, что майорату это не по нраву.
Когда Вальдемар уезжал, Пронтницкий вздыхал с облегчением. А Стефа вздыхала с облегчением, когда Вальдемар приезжал. При нем она чувствовала себя свободнее. Их словесные стычки продолжались, но теперь они приобрели характер шутки, которую поддерживают оба, без тени прежнего злорадства. При Эдмунде они никогда не пикировались, за что Стефа была благодарна Вальдемару. Они долго беседовали, и разговор увлекал их.
Ум и образованность Вальдемара привлекали девушку. Когда он уезжал, Стефа страдала вдвойне. За долгие беседы с Вальдемаром и за то, что Пронтницкий не мог принимать в них участие (сплошь и рядом разговоры касались тем, в которых он ничего не понимал), Эдмунд мстил девушке плоскими шутками.
В присутствии же Вальдемара практикант терял свой буршевский[22] юмор.
Однажды в послеобеденную пору Стефа музицировала в салоне. Люция читала иллюстрированный журнал. Внезапно вошел Вальдемар с большим свертком в руках. Люция, вскрикнув, вскочила первой:
— Вальди, как хорошо, что ты приехал! Что ты привез?
Майорат поздоровался со Стефой и сказал:
— Я вам привез обещанные книги — «Коринну» и «Дельфину» мадам де Сталь[23], несколько томиков Байрона в оригинале. Вы достаточно сильны в английском, чтобы прочитать? Говорите вы по-английски хорошо…
— Я еще не пробовала читать по-английски, но уверена, что смогу.
— Горация я привезу в другой раз. Может быть, хотите что-нибудь из польской литературы?
— Пожалуй. Я прочитала бы Лама и Мохнацкого[24], если у вас есть.
— Ну, разумеется! Могу вам предложить и Скаргу[25], и Рея[26], и Коллонтая[27], кого пожелаете. Моя библиотека в полном вашем распоряжении.
— Должно быть, она бездонна…
— С гордостью могу сказать, одна из лучших в стране. Однако я помешал вам играть…
Он встал перед фортепиано, перевернул несколько страниц в папке с нотами и задержался на Двенадцатой сонате Бетховена.
— Я попросил бы сыграть вот это. У вас великолепно получается скерцо и траурный марш.
— Откуда вы знаете?
— Я слышал однажды, но вы меня не видели.
— О, придется остерегаться! — засмеялась Стефа, садясь за фортепиано. Вальдемар встал рядом. Глянув в сторону, он увидел увлеченную чтением Люцию и хлопнул в ладоши:
— Эгей, паненка, уроки еще не начались, можете отвлечься!
Люция захлопнула журнал:
— Ох, какие вы нудные — и ты, и пани Стефания! Раньше я даже Золя читала, а теперь и журналов нельзя…
Вальдемар рассмеялся, обернувшись к Стефе:
— Эмансипированный ребенок, верно? Конечно, после Золя Мицкевич смотрится бледно, словно назидательная пьеса после пикантной оперетки…
— Несносный, — обиделась Люция.
— Тихо, Люци! Пан Вальдемар шутит, — и Вальдемар поцеловал девочку. Она вырвалась из его рук и убежала из комнаты.
Стефа заиграла по памяти. Майорат сел в кресло. Сначала он смотрел на девушку, но вскоре подпер лоб рукою и погрузился в раздумье.
Вступительное анданте Стефа играла не без волнения. Присутствие Вальдемара нервировало ее. Первые вариации прозвучали едва слышно.
Вальдемар убрал руку со лба и испытующе глянул на девушку.
Стефа заметила его движение, почувствовала его взгляд и поняла, что и он понял охватившее ее волнение. Следующую вариацию она сыграла хорошо, третью и четвертую — бравурно, мастерски, пятую — артистично, с подлинным чувством, словно не просто играла, а еще и говорила что-то… Вальдемар слушал с величайшим вниманием.
Звучные, легкие ноты, исполненные печали и ласки, носились в воздухе и таяли. Последние аккорды отзвучали невысказанной жалобой, и вдруг звонкими золотыми капельками рассыпалось скерцо.
Зазвучали все до единой струны, музыка плыла звонко, вольно, пронзительная нотка ожила и погасла, миг тишины — и раздался трагически величественный траурный марш, написанный некогда на смерть Наполеона.
Мощь и угроза ощущались в голосе струн. Стефа, раскрасневшись, с блестящими глазами, вкладывала в музыку весь драматизм своей души. Печальный марш покорял, волновал.
Вальдемар встал, сделал шаг вперед и, опершись на угол камина, с необъяснимым волнением смотрел на Стефу.
«Что за темперамент», — думал он, видя ловкие, быстрые движения ее пальцев и пылающие щеки.
Страсть, какой он давно уже не испытывал, влекла его к девушке. Вальдемар шептал сквозь стиснутые губы: «Боже, я в огне…» Безумное волнение заставило трепетать его:
— Она должна быть моей. Женщина, способная так увлечь мужчину, должна уступить. Огонь… вулкан… Два огня друг друга не обожгут…
Неведомая сила влекла его к девушке.
Под пальцами Стефы отзвучали последние аккорды. Стоявший за ее спиной магнат склонился к девушке. Огромным усилием воли он сдержался, чтобы не заключить ее в объятия. Вальдемар страстно жаждал этого, но чуял в то же время, что не решится. Страсть пожирала его, но некий дух чистоты окутал Стефу.
Вальдемар боролся с собой. Лицо его пылало, глаза горели. Не в силах сопротивляться, он ниже склонил голову, согретое внутренним огнем дыхание обожгло шею Стефы. Девушка вздрогнула, обернулась, ее огромные тоскующие глаза удивленно смотрели на Вальдемара. Их взгляды встретились. Испуганная, побледневшая, Стефа вскочила.
Но он удержал ее:
— Играйте, умоляю!
Она уступила, побежденная силой его голоса. Вальдемар провел рукою по лбу и отступил.
Стефа играла пятую вариацию. Ее пальцы шевелились беззвучно — большего шума не произвел бы и мотылек, задевая крылышками цветы. Словно в забытьи она доиграла вариацию до половины, вскочила и, рассерженная, опустив крышку фортепиано, бросилась к двери.
Вальдемар, неподвижно стоявший у окна, поклонился ей:
— Завершение прекрасно. А вся ваша игра — выше любой похвалы. Благодарю вас.
Девушка выбежала.
Глядя ей вслед, Вальдемар громко сказал:
— Огонь, заключенный в чашечке белой лилии…
Ужин был сервирован на террасе. Успокоившись, веселый, Вальдемар хвалил игру Стефы, шутил с Люцией, даже с Пронтницким разговаривал дружелюбнее обычного. В конце концов он предложил прокатиться на лодке по озеру.
Стефа, не сердившаяся на него более, согласилась. В лодку они уселись вчетвером. Вальдемар греб. Пронтницкий управлял рулем. Стефа и Люция уселись на скамью посередине, лицом к Вальдемару. Однако Люция, проделав хитрый маневр, оказалась лицом к лицу с Эдмундом.
Июньский закат рассыпал искры на голубой воде, лебеди плыли за лодкой. Стефа брызгала на них водой, смеясь, когда птицы сердились. Вальдемар смотрел, как ее пальцы, погружаясь в воду, приобретают цвет жемчуга, слушал ее смех и думал:
«Как легко это уничтожить… Достаточно сжать что есть силы ее руку в своей, впиться в уста — и пропадут и свобода и грация, угаснет ее смех, завянет, словно букетик ландышей на лютом морозе… Боже, кто эта девушка? Она не ангел, но обладает ангельской чистотой, она не демон, но в ней — темперамент демона… Феноменально, просто феноменально! Должен ли я перевоплотиться в ангела, чтобы завоевать ее? Нет, не получится у меня. Да и не нужна она мне в качестве ангела. Наоборот, я жажду, чтобы она отдала мне все демонское, скрывающееся в ней, все ангельское пусть бережет для будущего мужа…»
Невольно он глянул на Пронтницкого:
— А если будущим мужем станет вот этот? Нет, они никак не пара, это было бы ужасно…
И вновь задумчиво посмотрел на Стефу: «Для кого она создана? Кто завоюет ее? Но довольно ли будет для нее моих объятий? Для этого она слишком чиста! Я обрывал лепестки прекраснейших орхидей, но мимозы всегда чтил. Она и есть мимоза, немного терпения, и она будет моей!»
Стефа чуяла на себе его взгляд, но преспокойно забавлялась, плеская водою на лебедей. Наконец, чтобы прервать молчание, сказала:
— Вы путешествовали по морю… Расскажите, что при этом чувствовали. Должно быть, прекрасно?
— А вам не доводилось плавать по морю?
— Я была раза два на Балтике, но это совсем другое…
— Больше всего я люблю Адриатику и Тихий океан — два контраста, словно балерина в голубом тюле рядом с цирковым борцом. На Адриатике я любил плавать на паруснике, один или с рулевым. Но в океан нужно выходить на могучем корабле, неподвластном волнам. Не из одной только осторожности, но еще и затем, чтобы противопоставить колоссу вод силу человеческого разума. Я пережил в океане два шторма и ужасный тайфун, однажды уже готовились спускать спасательные шлюпки.
— Должно быть, это незабываемые впечатления?
— Колоссальные! Единственные в своем роде. Человек словно сходится в поединке с океаном. На смену страху смерти приходит не бессилие, а азарт. Борясь с титаном, человек сам становится титаном, глядя на необозримое скопище бушующих волн, слыша рык и грохот, о каких на суше и представления не имеют, человек проникается уважением к себе — за то, что выжил посреди этого ада. Чудное ощущение, поглощающее тебя всецело…
— Не каждый способен проникнуться такими чувствами, должно быть, — сказала Стефа. — Мне кажется, нужно иметь недюжинную силу духа и пренебрежение к спокойной жизни вдали от опасностей…
Вальдемар усмехнулся:
— Ну, силы духа у меня достаточно, а что до спокойной жизни… Видите ли, в таких случаях преобладает простая философия: «Единожды жить, единожды умереть», а одновременно энергия и ярость шепчут тебе на ухо: «Умрешь, если дашь себя победить». Иногда океан побеждает, погребая тысячу жертв… но всегда кто-то остается в живых, словно бы для того, чтобы принизить победу океана, умалить его мощь. Ничего нет сильнее триумфа защитников корабля, который не удалось потопить тайфуну. А я, чтобы не остаться во время бури праздным зрителем, работал с матросами на такелаже, или у буссоли, или вместе с капитаном руководил починкой повреждений.
— И это не было вам в тягость?
— Это мне доставляло удовольствие. Я был одним среди равных в борьбе против чудовища. На трансатлантических линиях знали мою слабость — я любил оставаться на палубе, когда буря утихала, когда вспененный океан тяжело, яростно вздыхал, словно в великанских легких не хватало кислорода. А корабль распускал тогда паруса, триумфально выдыхал дым, винт рассекал вспененные воды, гордо увлекая корабль вперед. Бурю на море считаю одним из прекраснейших явлений.
— Вы любите опасность?
— Она меня воодушевляет. Самое несносное на свете — дамы на корабле: едва ветерок подует чуть сильнее — паника, истерика, рыдания! Любопытно, как вы держались бы?
— Ну, я наверняка не билась бы в истерике, но боялась бы ужасно.
Вальдемар усмехнулся:
— Кто бы мне объяснил, почему женщины проливают порой столько слез, хотя в иных случаях превосходят нас отвагой…
— В чем, например?
— В чем? Хотя бы в борьбе с нами. Вы, женщины, — захватчицы, вечно грозящие роду мужскому, опасность крайне серьезная, хоть и скрытая… этакие острейшие коготки в бархатной перчатке.
— Неужели и вы боитесь этих коготков?
— А вы в этом сомневаетесь?
— Чуточку.
— И совершенно справедливо, — засмеялся Вальдемар, вынул весла из уключин и положил их себе на колени.
Лодка тихо, бесшумно, словно лист, плыла по спокойной воде, поднимая невысокие волны.
Эдмунд говорил с Люцией о танцах, громко и весьма развязно.
Склонившись к Стефе, Вальдемар спросил:
— Значит, вы чувствуете, что я не труслив… даже в борьбе с женщинами?! Прекрасно! Не буду перечить! Пусть даже сражаться с женщиной порой опаснее, чем таскать льва за хвост — потому что с женщиной никогда не знаешь, чем все кончится. У Ницше Заратустра говорил: «Двух вещей жаждет настоящий мужчина: опасности и игрушек, а потому и тянется к женщине, как к опаснейшей игрушке».
— Хорошенькая теория! Неужели вы считаете женщин всего лишь игрушками или прирученными зверюшками, которые могут укусить?
— Ну, порой этих зверюшек еще только предстоит приручить. В этом и заключена главная опасность… Прирученную зверюшку легче заставить подавать лапку…
— Вы отъявленный циник!
— Клевета! Простите, если я вас задел, но я лишь дополнил приведенное вами же сравнение. То же самое можно изложить гораздо эффектнее. Итак: женщина — это существо, за обладание которым мужчина сражается, и чем длиннее у нее коготки, тем яростнее он борется. Не каждая схватка приводит к ожидаемым результатам, но каждая завершается победой… почти каждая, ибо мужчина всегда уносит в клыках столько добычи, сколько сумел захватить, а это уж зависит от его умения. Тот же Ницше поведал: «Идешь к женщине — не забудь плетку». Это аллегория, конечно. А если сам покоришься ей — станешь мостом, по которому она пройдет не раздумывая и не колеблясь.
— О каком же сорте женщин вы говорите?
— В вашем присутствии я могу говорить только о наивысшем их сорте.
— Вы говорите загадками.
— Нет. Я всего лишь знакомлю вас со своими взглядами. Я могу приблизиться к женщине, стоящей на вершине морали, и галантно вести ее за руку, но я буду смотреть ей в глаза… или даже сверху вниз и ни за что на свете — снизу вверх. Не стану ни молиться на нее, ни падать на колени. А вы бы что предпочли — чтобы ваш избранник приблизился к вам с плетью Ницше в руке или молил о любви на коленях, закатив романтически глазки?
— Я, пожалуй, предпочла бы первое — но при условии, что этот человек не пользовался бы своей силой, словно обухом, а держался бы со мной, как с равной. И вовсе не обязательно смотреть на меня снизу вверх.
— Вы чрезвычайно самоуверенны!
— Что вы имеете в виду?
— У вас маловато жизненного опыта, чтобы ручаться за себя так смело.
— И все же я убеждена, что жизнь не заставит меня изменить свои взгляды.
— О, не зарекайтесь!
— Вы сомневаетесь в моих моральных качествах? Вальдемар сказал чуть раздраженно:
— Я сомневаюсь, устоят ли ваши моральные качества на пьедестале, сложенном из ваших амбиций.
— Что же их может поколебать? — спросила Стефа дерзко.
Вальдемар долго смотрел ей в глаза и сказал, четко выговаривая слова:
— Ваш темперамент, впечатлительность, молодость… и сила духа какого-нибудь мужчины. Эти козыри способны не просто поколебать — свергнуть вас с пьедестала, отыскав слабое место в вашей обороне.
В глазах шляхтича Стефа увидела дикую силу и цинизм, которые ей тем не менее нравились. Она погрузила пальцы в воду и, разбрызгивая блестящие капельки, протянула, словно обращаясь к себе самой:
— Вы чересчур уверены в мужской силе и пренебрегаете нашей.
— Самый надежный панцирь не устоит перед тем, кто охвачен жаждой битвы и сумеет найти ахиллесову пяту. Я это знаю из жизненного опыта.
— А если ахиллесовой пяты не существует?
— Она всегда существует для обладающего волей и энергией: правда, уязвимость ее меняется в зависимости от ума женщины. И отыскать ее порой бывает очень трудно, согласен, но все зависит от мужчины.
Стефа задумалась.
— Я вас убедил? — усмехнулся он.
— Я только слушаю вас и не перечу, но…
— Продолжайте, прошу вас.
— Вы строите свой опыт на собственном триумфе, о котором я наслышана. В ваших словах звучит уверенность в себе. Но неужели вы никогда не сможете потерпеть поражение, хоть однажды? Неужели ваши теории справедливы для всех и каждой?
— Быть может. Я имел дело с очень разными женщинами, а таких, как я, мужчин много. Есть, конечно, женщины, защищенные некой дивной аурой, которая хранит их от нападающего, в то же время зачаровывая его. Их тоже можно победить… но с ними уже нельзя обращаться грубо. В этом их сила.
— Значит, есть исключения! — воскликнула Стефа.
— Они весьма редки. Я повторяю: таких женщин тоже можно победить, хотя и иным способом.
Стефа молчала, глядя на воду и на белые бокалы кувшинок, плавающих на толстых зеленых тарелках листьев. Она потянулась за приглянувшимся цветком, но он оказался слишком далеко. Вальдемар молча подцепил его веслом и подогнал по воде к лодке.
Стефа сорвала кувшинку, улыбкой поблагодарила Вальдемара.
Он смотрел на нее, на ее румянец, на синеватые тени, которые ресницы бросали на щеки девушки, и думал: «Неужели этот цветок окружен аурой? Моя грубость пропадает под взглядом этих глаз… Но я стану сражаться с этим панцирем и пробью его».
Завидев несколько кувшинок, он направил туда лодку. Стефа рвала цветы, бросая Люции. Но девочка была поглощена разговором с Эдмундом — он рассказывал ей о только что прочитанном романе. Расслышав несколько его фраз, Стефа со значением взглянула на Вальдемара и тихо сказала:
— Поплывемте домой.
— Зачем, самая очаровательная пора дня…
— Солнце уже село, почти темно.
— Еще немного…
В этот миг Эдмунд повысил голос, и Вальдемар тоже расслышал его. Глянул на Люцию, потом на Стефу. Она шепнула:
— Вернемся…
Он кивнул и стал разворачивать лодку, но Пронтницкий удерживал руль:
— Пан майорат, мы возвращаемся?
— Возвращаемся!
— Уже?
— Уже!
Стефа усмехнулась, слыша, с какими интонациями звучат голоса обоих.
— Такой прекрасный вечер! — запротестовала Люция.
— Уже поздно, — сказала Стефа. — Мама будет о тебе беспокоиться.
— Да ничего подобного! Это вы, пани Стефа, не хотите больше кататься. Мы могли бы еще поплавать…
— Как скажет панна Стефания, так и должно быть, — сухо бросил Вальдемар.
Люция умолкла, зато Пронтницкий иронически заметил:
— Пани Стефании наверняка стало холодно. Какая жалость, что она не взяла шаль!
Вальдемар грозно уставился на него, но Стефа остановила магната умоляющим взглядом. Он сказал лишь:
— Оставьте ваши замечания про себя и беритесь за руль. Лодка крутится на месте.
Пронтницкий покраснел.
В совершеннейшем молчании они пристали к берегу, где их ждали пани Идалия с паном Ксаверием. Луна освещала парк, блестела на воде серебряной сеткой, подвижной и изменчивой. Благоухали розы, низко над землей горели в кустах огоньки светлячков. Теплый вечер располагал к мечтаниям.
Залитый светом особняк сиял окнами, на каменном полу террасы протянулась полоса света. Светлое платье Стефы покрыли блестящие пятнышки, на волосах играли золотистые нити. Вальдемар шел последним, смотрел на светлую фигуру девушки, упорно размышляя над мучившей его загадкой:
— Чем она меня привлекает? Огонь в чашечке белой лилии…
После ужина, когда все разошлись, Вальдемар прогуливался в парке, окруженный собаками, весело скакавшими вокруг него. Он прошелся по аллеям, побродил над озером и пошел к особняку, глядя на огонек в окне Стефы, задернутом занавеской.
«Что она делает? — думал он. — Молит Бога уберечь ее добродетель или размышляет о нашем разговоре? Да полноте, предчувствует ли она вообще грозящую ей опасность? Догадывается ли о моих желаниях?»
Шляхтич пожал плечами и отравился дальше. Скрипел гравий под его ногами, временами майорат посвистывал псам или гладил которого-нибудь из них. У павильона он задержался, увидев открытое окно, откуда струился свет и слышался негромкий разговор. Вальдемар посмотрел в окно. За маленьким столиком Пронтницкий играл в карты с управляющим Клечем. Пронтницкий, без сюртука, в расстегнутой рубашке, развалившись в кресле, что-то толковал с необычайным пылом. Сейчас он больше, чем когда-либо, напоминал бурша. Вальдемар пошел дальше, бурча под нос:
— Бестия, он мне на нервы действует. И эти карты — новое дело!
Обычно в присутствии майората Пронтницкий терял доброе расположение духа. Он чуял, что оба Михоровских недолюбливают его. Зато Клечу он пришелся по душе и подружился с ним.
Однажды, в конце июня, Пронтницкий с Клечем отправились на луга, где батраки косили траву. Сидя в бричке у кромки леса, оба пана беседовали, часто разражаясь смехом. Засунув руки в карманы, попыхивая папироской, Пронтницкий болтал, тщась поразить жадно слушавшего Клеча своей лихостью и бравадой. Он не минул и Стефы:
— Конечно, женщин на свете куча, да только уметь надо выбирать таких, чтобы у них, кроме мордашки, еще и денежки водились. Вот что главное! Стефа — создание аппетитное, не спорю, сейчас она чуточку завяла, но все равно в голову бьет, не хуже твоего клико. Ну и что с того? За ней папаша дает двадцать тысяч. И все! Да мне бы этого хватило в аккурат на две заграничные поездки, и точка!
— А будь у нее тысяч сто, уж вы бы ее не бросили? — фамильярно поинтересовался Клеч.
— Уж это точно! Хоть скажу вам по правде — чересчур она холодная, чересчур добродетельная. Я пару месяцев был ей почти что женихом, так не поверите — ни поцелуйчика сорвать не удалось, а я ведь настойчивый. Нет и нет! Ни капли темперамента.
— Вот тут уж нет, пан Пронтницкий, — запротестовал Клеч. — Я по-другому думаю. Панна Стефания — девушка с огоньком, достаточно на нее взглянуть. Может, вы ею толком и не занимались? С женщинами ведь, как с конями, — нужно уметь укротить.
Они расхохотались.
— А ведь она по мне с ума сходила! — продолжал практикант. — Что-что, а головы я кружить умею, специальность у меня такая. Вот попомните мое слово, не скоро она замуж выйдет, если вообще выйдет. И женится на ней разве что какой святоша или типчик, для которого двадцать тысяч — состояние. Хоть она и красивая, а увлечь мужчину не сможет. Я же вам говорю — до омерзения добродетельная. А для женщины это жуткий недостаток. Никто от нее ничего не добьется.
Клеч хитро ухмыльнулся:
— Не скажите! Вам не удалось, а нашему майорату наверняка повезет…
Пронтницкий так и вытаращился на него:
— Ну? Вы серьезно! Майорат на ней женится? Скажете тоже!
Клеч фыркнул:
— Женится? Придумали тоже! Майорат — на учительнице? Он, за которым княгини бегают… Жениться он не женится, а голову ей задурить сумеет. Хоть вы и утверждаете, будто она холодная, а перед ним не устоит.
Практикант задумался, потом сказал:
— Знаете что? Мне самому в голову что-то такое приходило. Очень уж он с ней внимателен…
— Внимателен?
— Ну да. Случается мне с ней пошутить — так он за нее вечно заступается, и очень даже недвусмысленно, невежливо…
Клеч буркнул себе под нос:
— Наверняка он тебя хорошо проучил.
— Что?
— Да ничего. Я говорю — он это умеет. Пронтницкий покрутил головой:
— Ну-ну! Если б та добродетельная, скромная Стефа стала любовницей майората, уж я бы посмеялся…
— Вас бы это потешило?
— Еще как! Я бы даже не жалел, что не мне повезло.
— Подлец! — буркнул управитель.
То же самое слово сорвалось с уст Вальдемара. Он ехал верхом по песчаной тропке среди развесистых кустов лещины и молодых сосенок, когда услышал громкий смех. Разглядел сквозь ветки бричку и голову коня, щипавшего траву. Внезапно он разобрал имя Стефы, произнесенное Пронтницким со смехом и каким-то циничным эпитетом. Вальдемар остановил коня. Стояла тишина, голоса косарей не долетали сюда с отдаленных лугов, и каждое слово практиканта отчетливо доносилось до ушей магната. Он сжал зубы, вертя стек так, словно хотел сломать его о спину Пронтницкого. Когда Эдмунд завел речь о своих неудавшихся попытках добиться расположения Стефы, Вальдемар тронул коня, но, расслышав свое имя, остановился.
Лицо его стало зловещим, он нахмурился, глаза похолодели. Последние слова Эдмунда задели его. Он тронул было шпорами конские бока, чтобы выехать из леса и указать Пронтницкому с Клечем их место, но внезапно опомнился. Внутренний голос шепнул ему: «А ведь этот подонок прав; Ты уже жаждешь добиться девушки, верно?»
Майорат так натянул поводья, что конь осел на задние ноги, взмахнул передними в воздухе. Повернув его на месте, Вальдемар поехал в глубь леса, взволнованный, шепча сквозь зубы проклятья. Сознание, что Клеч разгадал его намерения, привело его в ярость. Управитель хорошо его знает, наверняка уверяет сейчас практиканта, что от его пана не ускользнет и эта девушка.
— Угадал. Я и вправду жажду ее заполучить. Пронтницкий врет, будто она лишена темперамента. Она горда и самолюбива, но это не умаляет ее прелестей, наоборот, совсем наоборот…
Помимо охватившего его гнева, Вальдемар рад был, что Эдмунд назвал Стефу добродетельной «до омерзения». Будь все иначе, этот щенок не преминул бы похвалиться своей победой!
«Она никогда не любила его по-настоящему, — думал Вальдемар. — В противном случае… Что, если мои шансы гораздо больше, чем были когда-то у этого красавчика?»
Он вздрогнул — в точности то же самое говорил Клеч.
— Какой же я подлец! — произнес Вальдемар и помчался галопом.
Лес кончился, меж стройными соснами показался луг. Кое-где на нем стояли одинокие деревья, окруженные можжевеловыми кустами, но потом и они пропали. Перед магнатом раскинулся луг, заросший высокой влажной травой. Вдалеке растянулись цепочкой косари в белых рубашках. Конь замедлил шаг, попытался ухватить сочную траву, но мундштук мешал. Вальдемар ехал, погруженный в раздумья. Вдруг он ударил стеком по голенищу и рассмеялся:
— Я могу питать насчет нее намерения, какие мне только придут на ум. Что может мне помешать? Я встретил еще одно существо, которое стоит завоевать, — и все. Остальное зависит от ее темперамента. Конечно, я прохвост… но Пронтницкий — вовсе уж законченный скотина. Радуется, что кто-то вскружит голову девушке, которая его любила… С его стороны это подлость, достойная лишь такого мерзавца, как Пронтницкий. Однако с ним придется расстаться. Он мне действует на нервы. И эта его дружба с Клечем…
«А если Стефа до сих пор его любит?» — шепнул внутренний голос.
Вальдемар пожал плечами: «Пусть даже она от него без ума. Ну и что? Какое мне до того дело?»
Он ударил коня шпорами и помчался по лугу, как орел, настигающий добычу. Он специально сделал круг, чтобы показаться Клечу и Эдмунду.
Ему вдруг стало весело. Он был уверен, что затмит Эдмунда в глазах Стефы, потому что обладает тысячью достоинств, которых тот лишен.
В ста шагах впереди он увидел бричку. Отвернулся, притворяясь, будто никого там не видит и, пересекая луг, поехал прямиком к батракам.
— Хотел бы я знать, о чем они сейчас болтают, — шептал он раздраженно. — Может, этот осел передумал и решил, что Стефу стоит приберечь для себя? Ну, уж я-то ему в том помогать не буду…
Приближаясь к косарям, он придержал коня и с ребячливой радостью отметил, что бричка галопом несется к нему из леса.
— Они наверняка будут уверять, что стояли по ту сторону деревьев. Какие же у них будут физиономии, когда я скажу, что как раз оттуда и еду…
IX
Августовский вечер был тихим и сонным. Облака утратили последние алые краски заката, окутав окружающую природу серым тюлем сумерек; деревья в парке тонули во мраке, лишь верхушки их еще озарены были золотистым сиянием спускающегося за горизонт солнца, словно прощавшегося с землей.
Померкли ковры цветов, лишь черные контуры елей и белоснежные статуи явственно различались в подступающей ночи. Но унылый полумрак царствовал недолго: на листьях деревьев заиграли вдруг матовые отблески, точно ожили статуи, туи и пирамидальные ели вытянулись ввысь.
Торжествовавшие только что тени, гонимые лунным светом, дрогнули и отступили, кое-где создавая черные провалы и пятна мрака, кое-где образуя прихотливый рисунок, словно сотканный из черного кружева.
Взошла луна, извечная союзница влюбленных, поверенная скрытнейших мечтаний, вдохновительница поэтов.
Стефа сидела у окна и смотрела на звездное небо, погруженная в раздумья и печаль. Сегодняшний день прошел для нее невесело. Она видела, что происходит с Люцией, и это мучило ее.
В поведении Пронтницкого Стефа подметила множество черт, говоривших о нем крайне дурно, а для Люции просто губительных.
Девочка оказалась под влиянием его красоты; каждый его взгляд, каждое слово лишь усиливали его зависимость. Стефа не верила Эдмунду, чуя, что он не любит Люцию, просто-напросто охотится за богатым приданым. Стефа не видела и половины того запала, с каким Эдмунд когда-то домогался ее любви. И ее охватило беспокойство, но в то же время она понимала, что это плохо для нее кончится. Гордая пани Идалия ни за что не согласится на этот брак.
Девочку ждало двойное разочарование — сопротивление матери и другое, гораздо более болезненное, — обман Эдмунда.
«Боже, сделай так, чтобы это оказалось лишь наваждением, которое у Люции пройдет, оставив лишь капельку горечи, и не более того, — думала Стефа. — О, если бы я могла знать наверняка, что так и будет…»
Очнувшись, Стефа внезапно вздрогнула и обернулась. Дверь скрипнула, на пороге стояла Люция в ночном халате, с распущенными волосами. Глаза ее были широко открыты, на лице читалось беспокойство.
Прежде чем Стефа успела спросить, почему она не спит, девочка подбежала к ней, обняла за шею, прижала разгоряченную щеку к ее щеке и зашептала:
— Я знала, что вы не спите, и пришла… потому что тоже не могу заснуть… мне так грустно…
Отнявши руку, она что-то показала на высоте своего лица, пояснив с тревогой:
— Вот так что-то перед глазами и стоит!
Потом, вновь прильнув к учительнице, тихонько спросила:
— Пани Стефа, а ты почему не спишь? Зачем сидишь при луне? Неужели и ты… все еще…
Стефа вздрогнула, сочувствие появилось в ее глазах:
— Что ты хочешь этим сказать, Люци? Девочка на одном дыхании выпалила:
— Вы еще любите пана Пронтницкого?
— А почему ты спрашиваешь о Пронтницком?
— Вы так сердито произнесли его имя…
— Люция, ты мне не ответила.
— Я хочу сначала знать, любите ли вы его по-прежнему. Панна Стефа, ну, пожалуйста, скажите!
Она умоляюще смотрела Стефе в глаза. Сердце Стефы болезненно сжалось, и она поторопилась ответить:
— Я его больше не люблю.
В глазах девочки вспыхнуло недоверие, она спросила еще настойчивее:
— Не любишь? Правда? Но ты ведь его любила?
— Я в нем ошиблась, — откровенно призналась Стефа.
Люция положила ей голову на плечо:
— Зато я не ошибусь…
— Ты, Люди?
— Да, я люблю пана Эдмунда.
Воцарилось молчание. Люция спрятала лицо на груди Стефы и перестала дышать — словно по дыханию можно было отгадать ее мысли. Девичьей головке этот миг казался неимоверно трагическим. Все познания, почерпнутые из прочитанных французских романов, пришли ей на ум именно сейчас.
Дрожа, она ждала, что скажет Стефа. Быть может, именно теперь она признается, что любит Эдмунда по-прежнему, и он принадлежит ей?!
«Я бы тогда умерла», — думала девочка, сжимаясь от страха.
Стефа старалась успокоить Люцию, но ее саму охватила печаль — тот самый человек, каких-то пару месяцев назад прямо-таки загипнотизировавший ее, отыскал новую жертву.
Быть может, и на этот раз все повторится, и другая жертва быстро поймет, что все достоинства Эдмунда — в его красивом лице…
Х
Было воскресенье. После обеда пани Эльзоновская ушла к себе, а Люцию забрал пан Мачей, который любил порой поговорить с внучкой, прочитать ей что-нибудь из старых книг.
Стефа села за фортепиано. Оставшись одна в столовой, она играла с вдохновением. Вся тревога владевших ею чувств нашла выход в музыке.
Внезапно дверь распахнулась. В гостиную влетел Пронтницкий. С удивлением оглядевшись, он спросил:
— А где же панна Люцина?
Видя, что Стефа не отвечает, он прямо спросил ее:
— Так где же панна Люцина?
— У дедушки, — холодно ответила девушка. Пронтницкий зло щелкнул пальцами?
— Ну надо же! Именно сейчас!
Стефа удивленно глянула на него. Он сунул руки в карманы и признался, словно бы неохотно:
— Мы должны были сегодня здесь встретиться с панной Люцией… гм… с панной Лючиной. И на тебе — дедушка! Рок какой-то!
Панна Рудецкая встала и сурово произнесла:
— Очень вас прошу не вмешивать Люцию в ваши… помыслы и не употреблять более выражения «мы». Убедительно вас прошу.
— Что за казенный тон? — язвительно спросил Пронтницкий. — Хотите сыграть роль матери?
— Повторяю, я не позволю, чтобы вы говорили о Люции в таких выражениях, — хотя бы по праву ее учительницы.
— А что я такого сказал? Что мы здесь должны встретиться, и все. Каких-нибудь полгода назад вы были не столь суровы, когда речь шла о вас.
Ноги у Стефы подкосились. Она едва не упала. Справившись с собой, гордо подняла голову и четко произнесла:
— И это смеете говорить мне вы? Вы?
В ее словах прозвучало столько достоинства и уверенности в своей правоте, что Пронтницкий смешался. Использовав его замешательство, Стефа продолжала:
— Что ж, от вас этого можно было ожидать… Тем больше доводов, что я имею право запретить вам говорить о Люции в таком тоне.
— Вы не имеете права ничего мне запрещать! — сказал он.
— Даже по праву собственного опыта? — сказала она внешне холодно, хотя кипела от возмущения.
— Что тут сравнивать? Тогда было одно, сейчас совсем другое.
— Пан Пронтницкий, поговорим откровенно, — сказала серьезно Стефа. — Вы представляете себе последствия?
— Ну, а вы-то тут при чем?
— Люция находится под моей опекой, и я за нее отвечаю. И вижу в этом не только свою обязанность — я к ней по-настоящему привязана.
— Я ж ее не съем, — буркнул Пронтницкий.
— Вы выражаетесь довольно вульгарно. Но разговор не о том. Я не хочу, чтобы вы докучали Люции и кружили ей голову.
— Ох уж, зато вы цветисто выражаетесь! — расхохотался Пронтницкий.
Она прикусила губы и зарумянилась:
— Скажите мне вот что… Вы рассказали Люции?
— О чем?
— О своих чувствах к ней.
Эдмунд издал короткий смешок. Стефа побледнела. В его смехе прозвучали такая ирония и бесстыдство, что ошибиться было нельзя. «Боже, что за подлец!» — подумала она.
Пронтницкий подошел к ней так близко, что ей пришлось отступить на шаг, и сдавленно выговорил:
— Я не обязан перед вами отчитываться. Не надоедайте мне вопросами.
— Я и не собираюсь надоедать вам более. Прошу вас, пропустите меня!
Но разгоряченный Пронтницкий заступил ей дорогу:
— Если вы будете встревать между мной и Люцией, я уж найду на вас управу!
— Да неужели?! Вот не знала…
— Ну так узнаете! — взорвался он.
Кровь бросилась ей в лицо. Смерив его взглядом, девушка холодно отрезала:
— Попрошу вас не забываться!
— Предупреждаю вас: люблю я панну Люцию или нет, никому до этого нет дела!
— Вы лично меня нисколечко не интересуете. Меня заботит Люция.
— Боитесь, что она в меня влюбится? А что вы имеете против?
— И вы еще спрашиваете?
Пронтницкий внимательно посмотрел на Стефу. Охваченная гневом, она показалась ему прекрасной. Он придвинулся поближе и попытался взять ее за руку.
— Твоими устами говорит ревность, — шепнул он. — Ты все еще меня любишь…
Панна Рудецкая отшатнулась, выдохнула с отвращением:
— Глупец! Подлый глупец!
— Как вы смеете? Как смеете? — закричал он, побагровев от гнева.
— Убирайтесь! — указала на дверь Стефа.
За окном раздалось сухое тарахтенье мотора. Пронтницкий выглянул.
Перед входом стоял пунцовый глембовический автомобиль. Из него высаживался Вальдемар.
— Убирайтесь немедленно! — повторила Стефа, ничего не видя и не слыша вокруг.
Но Эдмунд и сам проворно направился к двери. На пороге он обернулся, издевательски расхохотался и прошипел:
— Да ухожу, ухожу! Защитник пожаловал. Уж его-то поласковей примут. Желаю удачи!
И он вышел, хлопнув дверями.
Обессилевшая Стефа, тяжко дыша, упала в кресло, закрыла лицо ладонями и разразилась слезами, неудержимо хлынувшими из глаз. Потом вскочила и опрометью кинулась к себе.
Пробегая по коридору, она слышала голос майората.
XI
Обед прошел мрачно.
Темные круги под глазами Стефы выдавали недавние слезы. Люция, упорно молчавшая, то и дело косилась на мать. Пан Мачей выглядел неспокойным, Вальдемар — грозным. Одна только пани Идалия, менее чопорная, чем обычно, беседовала с Пронтницким о чем-то забавном, веселившем лишь самого Эдмунда.
Эдмунд притворялся ужасно веселым, пытался смеяться над собственными шутками, но, видя общее настроение, в конце концов смолк. Даже слуги чувствовали дурное настроение хозяев — камердинер стал передвигаться почти беззвучно, ступая на цыпочках, молодой лакей, вместо того чтобы распахивать дверь настежь, лишь приоткрывал ее, появляясь с блюдами.
Все ощутили облегчение, когда обед закончился. Пани Эльзоновская с Люцией уехали в Шаль. Стефа их не сопровождала — она никогда туда не ездила, чувствуя, что графиня Чвилецкая ее недолюбливает.
Вальдемар верхом сопровождал дам — он решил осмотреть свои фольварки, лежавшие в той стороне. Особняк погрузился в тишину. На крыше ворковали голуби, от клумб доносилась крикливая перебранка горлиц.
Стефа, уединившаяся в своей комнате, услышала деликатный стук в дверь.
— Войдите!
Вошел камердинер Яцентий:
— Если паненка ничего не имеет против, старый пан приглашает паненку в ту беседку, что в розовой аллее.
В беседке сидел на лавочке пан Мачей. Его ноги были укутаны тигровой шкурой. Он выглядел угрюмым и погруженным в раздумье. Жестом приглашая Стефу присесть, он сказал с улыбкой:
— Садись же, детка. Извини, что я тебя вызвал. Хотелось поговорить. Может, тебе неинтересно беседовать со старым брюзгой?
— Ну что вы, — сказала Стефа, усаживаясь. — С превеликим удовольствием.
Старик поднял голову и всматривался в зеленое переплетение листиков роз на фоне голубого неба.
Воспоминания о давних временах завладели им, придавая его старым глазам трогательность и печаль. Какое-то время он сидел молча, перенесшись в иные времена. Наконец заговорил тихим, спокойным голосом, часто делая паузы:
— Мир ничуть не изменился, ни капельки. Он всегда молод и полон жизни… Только люди, населяющие его, увядают и рассыпаются в прах, а на их месте вырастают новые, молодые, чтобы пойти со временем тем же путем. Странная вещь, девочка моя: мы, старики, изнуренные жизнью, жаждущие покоя, не жалуемся на мир. Жизнь причинила нам много горя, но осталась прекрасной. А вот молодые начинают жаловаться. Плохой признак! Что это — влияние общего невроза, охватившего людей нынче, или, напротив, — деградация? Молодые с отвращением смотрят на все, что их окружает, жаждая чего-то, лежащего за пределами бытия. Должно быть, всему виной привычка анализировать все на свете. «Прогресс» — так это называют. Мы не были прогрессивными до такой степени, чтобы нам опостылела жизнь. Мы были католиками не по названию. Сегодня и это уходит — все меньше философов, анализирующих сущность Господа, все больше атеистов. А это плохо! Отсутствие веры и есть фундамент, на котором вырастает столько несчастий.
Пан Мачей замолк и задумчиво смотрел перед собой, вспоминая молодые годы, исполненные рвения и веры, столь отличавшихся от нынешней апатии. Стефа, глядя на старика, угадывала его мысли и с любопытством спрашивала себя: что же таит в себе прошлое этого почтенного старца?
Он вновь заговорил:
— Мир изменился. Мы — не пещерные люди. Мы обладаем сказочным, по сравнению с древними, могуществом. Но люди стали гораздо внимательнее оглядывать мир — и буквально все будит в них сомнения, старой сущности мира им недостаточно, они копают глубже, вплоть до атомов, но, отыскав эти атомы, чувствуют себя разочарованными. Они хотят обрести вечность здесь, в этой жизни, но мир держится на преходящем, на рождениях и смертях. Что поделать, каждый цветок когда-нибудь завянет — но пока он цветет, доставит нам немало приятных минут. Нынешним людям всего мало, они готовы «подвергнуть анализу» даже счастье. А ведь тот же цветок, разъятый на части, станет не более чем мусором. Убедившись в этом, разочарованные люди хотят сложить его вновь, но это невозможно, и останки цветка приходится выбрасывать… И так во всем.
Старик жалобно вздохнул и покрутил головой:
— Так обстоит дело и с нынешней религией. Nach Canossa gehen wir nicht![28]Нынешний мир перенасыщен энергией, но на что она уходит!
Пан Мачей замолчал, склонив голову на грудь. Девушка сидела, задумавшись. Подняла взгляд на старика и с сочувствием спросила:
— Почему вы всегда говорите так печально и нынешнюю молодежь рисуете такими мрачными красками?
— Не мрачными, девочка, а — новыми.
— Значит, вы нам не оставляете никаких надежд?
— Боюсь, что нет…
— Но почему? Чем мы заслужили? Неужели мы все до одного… — взволнованно приподнялась Стефа.
Пан Мачей посмотрел на нее с доброй улыбкой:
— Немного отыщется столь чистых душ, как ты, девочка. Я знал одну такую, но это было так давно… Быть может, мои слова задевают тебя. Но и ты не свободна от горечи жизни, и на тебя пала тень всеобщей эпидемии — решительно все подвергать холодному анализу. Нечто целое ты исследовала, разорвав его на лепестки, и теперь ты страдаешь. Но ведь это — не цветок, верно? Сорняк, обычный сорняк… и немного мусора. Право же, проделанный тобой анализ был необходим. Горше было бы, если бы он запоздал. Боже, на земле было бы не в пример меньше невзгод, если бы судьба была ко всем так милостива…
— О чем вы говорите? — спросила Стефа с тревогой.
— Да, ты не понимаешь…
— Ну что вы, я понимаю, вот только…
— Что?
— Не знаю, понимаете ли вы меня?
На губах старика заиграла улыбка.
— Простите, — тихо сказала девушка, не хотевшая обижать старика.
— Не за что, детка. Но вот что ты мне объясни… Понимаешь ли, я старик, но глаза у меня зоркие и ум пока что не ослаб. А уж если кто мне в особенности симпатичен, я чувствую все плохое или хорошее, что ему сделали. Вот и в тебе я заметил некие перемены… серьезные перемены. Вижу, тебя они мучают, даже вредят. Некогда, подвергнув анализу некое человеческое существо, ты убедилась, что этот человек не стоит того, чтобы о нем думать, что это не бриллиант, а простое цветное стекло. Правда?
— Да, — сказала девушка. — Но ведь когда-то я верила, что он и есть бриллиант…
— Когда? — настойчиво спросил старик.
— Когда любила его без памяти. Так по-детски все было…
— А теперь?
— Теперь он для меня — совершенно чужой.
В голосе пана Мачея прозвучали явственно нотки недоверия.
— Ты откровенна со мной, дитя мое?
— Я не смогла бы быть откровеннее с родным отцом. Старик взял ее руку и прижал к груди, а когда девушка почтительно склонилась к нему, поцеловал ее в голову. Благодарная за столь теплое проявление чувств, Стефа прижалась губами к руке старика. А он сказал весело:
— Вы только посмотрите! Эта паненка ухитрилась обвести меня, старика, вокруг пальца! Я-то полагал, что ты, узнав его лучше, грустишь оттого, что идеал тускнеет… А он, оказывается, совершенно тебе безразличен. Но отчего же ты так неспокойна? Я бы сказал даже, что ты боишься чего-то.
Стефа колебалась, рассказать ли о Пронтницком и Люции. Однако старик помог ей:
— Сегодня ты даже плакала. И Люция какая-то странная… Очень это меня тревожит. Ты не знаешь, часом, причин? Скажи честно.
И Стефа решилась:
— Ну, конечно, я знаю, что гнетет Люцию, и меня это удручает. Она сама мне доверилась. Я не должна была ее выдавать…
— Мне — можешь и обязана. Люция еще ребенок, нужно знать все, о чем она думает, и особенно — все, что ее мучает. Итак?
— Люция попала под влияние Пронтницкого.
— Попросту влюбилась в него, — поправил девушку пан Мачей. — Я догадывался. Скверно… чересчур юный возраст… да и предмет любви того не стоит. Я тебя не обидел последним замечанием? — добавил он, видя, что Стефа чуть побледнела.
— Мне обидно за Люцию. Ее ждет нечто похожее на то, что пришлось пережить мне.
— Бедная девочка! Вот нынешнее поколение — его портят сызмальства, и к шестнадцати годам дети успевают исполниться печали… Сдается мне, кое-что Люция начинает понимать, такой у нее вид. А о нем что ты скажешь?
Стефа опустила глаза. На ее лице изобразилось крайнее неудовольствие, и это не укрылось от взгляда пана Мачея.
— Так что ты скажешь о нем? — повторил старик настойчиво. — Значит, его намерения по отношению к Люции…
— Вряд ли чем-нибудь отличаются от тех, которые он питал на мой счет.
— Ну, конечно же! — махнул рукой старик. — Приданое…
Склонив голову на грудь, он закрыл глаза, ища способ уберечь внучку от разочарований, какие неминуемо влекли пробудившиеся в ней первые весенние чувства.
— Я вам расскажу о моем разговоре с Пронтницким, — взволнованно сказала Стефа. Вы сами рассудите. Быть может, я неправильно его поняла…
И она пересказала весь разговор с Пронтницким вплоть до появления майората. В продолжение своего рассказа она часто менялась в лице, глаза то заволакивались слезами, то метали молнии.
Пан Мачей слушал внимательно, подумав пару раз: «Как она похожа на ту…» Когда Стефа закончила, он сказал:
— Нет, ты прекрасно его поняла, дитя мое. Сам не желая, он проговорился. Но ведь ваш разговор должен был чем-то закончиться? Он сказал тебе что-то еще, правда?
— Деликатностью он не отличается, — сказала Стефа уклончиво.
— Догадываюсь. Когда он увидел под окнами Вальдемара и собрался уходить, он сказал тебе что-то неприятное, правда?
Многозначительное молчание девушки подтвердило родившуюся у старика догадку. Он шепнул:
— Мерзавец…
На дорожке заскрипел гравий — кто-то приближался быстрыми шагами. В беседку вошел Вальдемар в костюме для верховой езды. Слегка удивленный, обнаружив Стефу в компании пана Мачея, он снял шляпу и раскланялся.
Перебросившись несколькими словами с Вальдемаром, Стефа распрощалась с мужчинами и пошла к себе, чтобы успокоиться. Пан Мачей и Вальдемар остались в беседке.
XII
Солнце спускалось к закату, когда пан Мачей в сопровождении Вальдемара возвращался в особняк. В этих двух мужчинах за версту чувствовалась порода, но они разительно отличались друг от друга.
Дедушка напоминал старого орла, патриарха рода, утомленного полетом по небу жизни, с уставшими, быть может, сломанными даже крыльями.
После разговора с дедушкой Вальдемар едва сдерживал гнев. Первым побуждением его было дать выход ярости, позвать Пронтницкого… Но он овладел собой. Шагал порывисто, то и дело осаживая себя, чтобы приноровиться к медленной поступи пана Мачея.
Пан Мачей встревожился и посмотрел ему в глаза:
— Вальди, помни, что ты мне обещал. Излишней поспешностью ты навредишь Стефе. Скандала ей Пронтницкий не устроит, но на репутацию ее сможет бросить тень. Решит, что она тебе пожаловалась, и будет думать Бог знает что.
— Ну что вы! — обиженно ответил Вальдемар. — Неужели я не сумею вести себя? А лучше всего будет, если я немедленно уеду.
— Не уверен…
— Я должен уехать. Такое зло охватывает, что любая мелочь выбьет из колеи. Если этот… осел за ужином пристанет к ней с какой-нибудь глупостью или начнет распускать перья перед Люцией — я за себя не ручаюсь. Лучше мне вообще его не видеть.
— Идалька сегодня наверняка не вернется.
— Какая разница? — зло бросил Вальдемар, с такой силой ударив хлыстом по ветке, что град листьев посыпался им под ноги.
— Что ты собираешься делать? — спросил пан Мачей.
— Ждать первого же удобного случая, чтобы вышвырнуть этого паршивца.
— Деликатное дело. Будь он на жалованье, заплатил бы ему вперед и отправил, а так…
— Я ему предложу перебраться в Глембовичи. Чтобы он сразу понял, чего я не хочу — видеть его здесь.
— А если он не согласится?
— Уж будь спокоен, дедушка! К тому же нет другого способа, иначе мы повредим ей… Стефе…
При этих словах пан Мачей украдкой глянул на внука, подумав о чем-то своем.
Они вошли в особняк. Вальдемар велел подавать автомобиль, а сам спустился вниз, в гостиную, находившуюся неподалеку от комнаты Стефы. Быстро темнело, гостиная тонула в серых вечерних сумерках, лишь кое-где поблескивали позолота рам и хрустальные вазы.
Глянув на часы, магнат позвонил. Вбежал молодой лакей.
Вальдемар отрывисто приказал:
— Зажгите свет, опустите шторы. И позовите Яцентия.
Когда явился камердинер, Вальдемар велел:
— Иди к панне Стефании и скажи, что я хочу с ней попрощаться.
Яцентий удалился. Шляхтич принялся расхаживать по гостиной. Вскоре вошла Стефа. На ее щеках играл яркий румянец.
Вальдемар поспешил к ней:
— Я хотел попрощаться с вами. Я уезжаю.
— Как, вы не останетесь на ужин?
— Нет. Я спешу домой.
— Плохие вести?
— Почему вы так решили?
— Вы чем-то расстроены.
— А, вы заметили?! Расстроен, даже зол, но никакие известия из Глембовичей здесь ни при чем. Я говорил с дедушкой. Он мне все рассказал.
Воцарилось неловкое молчание. На лице девушки мелькнули на миг усталость и грусть.
— Значит, вы не останетесь? Что ж, до свидания, — протянула ему руку Стефа.
Крепко сжав ее ладонь, не отпуская, Вальдемар сказал удивительно мягко:
— Ни о чем не беспокойтесь. Я о многом догадывался, а теперь все знаю и приложу старания, чтобы вам ничто больше не докучало…
— Спасибо. Дело даже не во мне, а в Люции.
— Нет, дело в вас. Девчонка все забудет очень быстро, и не стоит относиться к этому так трагически. Ну, а уж я постараюсь, чтобы в Слодковцах воцарился прежний покой…
Стефу испугали эти слова.
— Но я не хочу, чтобы из-за меня возникли какие-нибудь недоразумения… Я не хочу ему… я не хочу никому повредить.
Она не находила места от смущения — Вальдемар все еще не отпускал ее руку. Она попыталась высвободить пальцы, но молодой человек стиснул их еще крепче и убедительно сказал:
— Верьте мне и доверьтесь. Я проделаю все наитактичнейшим образом. Отъезд этого пана всем поправит настроение, не исключая заплаканной Люци, ну а уж обо мне и говорить не стоит… — весело глядя ей в глаза, он поклонился:
— Мне пора. До свидания. Очень вас прошу, ни о чем не печальтесь.
«Как благородна и как красива!» — подумал он.
Стефа вернулась к себе. Взяла книжку, открыла, хотела читать, но не разбирала ни слова — путались мысли. В ушах еще звучал голос Вальдемара, рука еще ощущала его пожатие. Стефа сидела неподвижно, боясь нарушить охватившее ее чувство покоя.
За окном раздался стук автомобильного мотора, потом наступила тишина.
— Уехал! — шепнула Стефа. — Какие же разные люди, он и тот!
XIII
В конюшню Пронтницкий вошел с физиономией победителя. Только что он встретил возвращавшуюся из теплицы Люцию, увидел ее зарумянившиеся щеки и по первым же ее словам понял, что ее чувство к нему не ослабло. Он воспользовался этим, чтобы пожать ручку девочки и шепнул ей пару нежных словечек.
— Я на верном пути, — твердил он себе. — Эта малютка все больше в меня влюбляется.
И он, довольный, подкрутил усики уверенного в себе кавалера.
— Бенедикт, коней для меня! — распорядился он.
— Каурых или гнедых? — спросил старый слуга.
— Запрягай четверку каурых арабов в желтую «американку».
Старик вытаращил на него глаза:
— Каурых арабов?!
— Ты что, оглох? Делай, что велят!
В конюшню вошел Клеч и спросил по-немецки:
— Куда вы собираетесь ехать?
— В город. В мастерскую. Нужно узнать о косилке.
— Косилку уже починили, так что ехать вам незачем.
— Пан майорат мне поручил.
— Может быть. Но теперь в этом нет необходимости. Отправим за косилкой повозку, и все.
— Но я должен ехать! — уперся Пронтницкий.
— Ха! Езжайте, но не советую вам брать каурых.
— Почему?
— Да так, не советую, и все. Дорога дальняя.
— До Шаля будет подальше, а баронесса всегда ездит туда каурыми.
Клеч значительно глянул на него и лаконично бросил:
— Разница!
— Никакой разницы не вижу! — Пронтницкий понял, что хотел сказать Клеч, но решил не уступать. Крикнул Бенедикту: — Что же ты не запрягаешь?
— Пане мой, по-дружески вам советую не брать эту четверку, — изрек Клеч. — Это любимая упряжка майората. Случись что с конями, не миновать беды. Не будите лиха! Возьмите караковых, кони, что куколка. Или гнедых. И баронесса сегодня собиралась выезжать в Обронное. Прикажет заложить каурых, и что тогда?
— Тогда для нее заложат гнедых, — сказал Пронтницкий, разозлившись уже по-настоящему, и вновь повернулся к Бенедикту: — Живо запрягай! Не понял? Старик пожал плечами и отправился выполнять поручение, бурча под нос что-то весьма нелестное для практиканта. Клеч махнул рукой и проворчал:
— Упрямый тип… ну и черт с ним! Через несколько минут Пронтницкий сидел в «американке», расправляя вожжи каурой четверки. Он иронически усмехнулся, щелкнул кнутом, попрощался с Клечем, пустил коней быстрой рысью и исчез за поворотом.
Управитель и конюх переглянулись.
— Хоть бы обошлось, — буркнул Клеч.
А Бенедикт развел руками:
— Если пан практикант угробит коней, я перед майоратом отвечать не собираюсь. Вы ведь сами позволили, пан управитель, так при чем тут я?
— Да что вы такое говорите, Бенедикт? Пан практикант прекрасно правит, — сказал Клеч, но видно было, что он обеспокоен.
Отсутствие Пронтницкого за обедом удивило пани Идалию и опечалило Люцию. Девочка не понимала, почему ему понадобилось уехать именно сегодня, после столь приятного случайного свидания. Грусть ее еще возросла, когда пани Идалия объявила, что после обеда поедет в Обронное навестить княгиню Подгорецкую. Оставшись наедине со Стефой, девочка бросилась ей на шею, капризно шепча:
— Как бы я хотела остаться дома! Как мне не хочется ехать с мамой!
— А когда-то ты так любила бывать в Обронном, — улыбнулась Стефа.
— Ах, когда это было!
В ее глазах была мечтательность и грусть. Закончив свой туалет, пани Идалия приказала запрягать коней в ландо. Вскоре к ней в дверь постучался Яцентий:
— Пани баронесса, конюх говорит, что можно ехать только гнедыми или караковыми.
— Но я приказала запрячь каурых, — подчеркнула пани Идалия.
— Конюх говорит, что каурых нет.
— Куда же они подевались?!
— Пан практикант на них поехал в город.
Пани Идалия повернулась к Яцентию и воззрилась на него прищуренными глазами:
— Пан Пронтницкий? Каурой четверкой, в город?
— Конюх так говорит.
— Управитель знал, что я сегодня еду. Как он мог дать каурых?
— Пан практикант сказал, что ваша милость поедет гнедыми.
— Быть такого не может! Пришлите сюда Бенедикта. Яцентий вышел. Пани Идалия вскочила, нервно теребя перчатки.
— Неслыханно! Я прошу коней, а мне отвечают, что коней нет! Слишком много он себе позволяет, Вальди его распустил. Неслыханно!
Тем временем у конюшни собрался «военный совет». Яцентий, Бенедикт и несколько молодых конюхов стояли с озабоченными физиономиями. Искали управителя, но Клеч уехал в поля.
Ничего не поделаешь, пришлось идти в особняк без него.
Когда Бенедикт и Яцентий вошли в ворота, конюх окаменел от страха: лакей прогуливал вокруг газона каурого верхового из Глембовичей. Приехал майорат…
— Ну то-то и оно! — вздохнул Бенедикт. — Пан Вальдемар и так вечно нежданно приезжает, но уж сегодня он подгадал, так подгадал!
Тетку Вальдемар застал крайне разгневанной и удивленно спросил:
— Что случилось?
— Я вижу, твой протеже тут значит больше, чем я! Кто бы знал!
Вальдемар спокойно слушал ее, прохаживаясь по комнате. Когда она закончила, майорат фыркнул:
— Мой протеже! Тетя, кто ему не протежировал здесь, так это я.
— И ты еще смеешься! Бесчувственный!
— Наоборот, я весьма удручен.
— Ах, как ты мил… — язвительно бросала баронесса.
— Тетя, вы оба сделали мне сегодня огромное одолжение: вы — тем, что собирались ехать, а он — тем, что уехал.
— Не понимаю…
— Тетушка, вне всякого сомнения, он много на себя берет, но это ваша вина, не моя.
— Ничего не понимаю!
— Тетя, вы замечаете, как он крутится вокруг Люции?
— Ты уходишь в сторону.
— Совсем наоборот, я приближаюсь к главному. Итак, вы замечаете?
— Дорогой мой, они слегка флиртуют. Что в том страшного?
— Думаю, Люци такой флирт вовсе не нужен, — сказал Вальдемар холодно.
— Наоборот. Ей уже шестнадцать, девушке в этом возрасте пора приобрести некоторый опыт.
— Пусть так. Ну, а если она влюбится?
— Ну и что? В конце концов, в Пронтницкого можно даже влюбиться.
Вальдемар смотрел на нее, не веря собственным ушам:
— Позвольте, тетя! Что значит «можно даже»?
— Думаю, ты понимаешь.
— Увы, нет.
— Господи! — взорвалась пани Идалия. — Это так просто! Будь Пронтницкий человеком нашего круга, но неподходящей партией, я совершенно иначе смотрела бы на все, но что плохого в том, что Люци немного пофлиртует с человеком, стоящим ниже ее на общественной лестнице? Пусть даже влюбится…
— Ах, значит, им можно даже влюбиться… — иронически усмехнулся майорат. — Может, им можно и обвенчаться?
— Вальди, что ты говоришь?
— Я только спрашиваю. Итак, ему можно с ней флиртовать, а ей можно в него влюбиться. Вы, тетя, ничуть не против, и он это видит. Тогда чего же вы злитесь? Преисполненный самых лучших чувств, он взял каурых, а вам оставил гнедых — наверняка решил, что будущая теща простит ему такую мелочь.
— Что ты говоришь?!
— Правду.
— Неужели?..
— Вот именно, — сказал Вальдемар, глядя, как бледнеет пани Идалия.
— Он посмел мечтать о Люции?!
— А почему бы и нет? — усмехнулся Вальдемар. — Он человек весьма отважный.
— Это невозможно! Да нет, что ты! Это верх нахальства!
— Тетя! Он видел, что вы не против, так чего же от него требовать? Смело можно сказать: «Veni, vidi, vici!»[29]
— Вальди, откуда ты все знаешь? — недоверчиво спросила баронесса.
— От дедушки. Он больший знаток природы человеческой, нежели вы, тетя. Впрочем, я и сам видел достаточно.
Вальдемар расхаживал по комнате. Одна мысль не давала ему покоя: будь Пронтницкий другим человеком, порядочным, он и тогда, даже люби он Люцию по-настоящему, не смог бы получить ее руки, потому что принадлежал к «низшему» классу…
— Что за варварские предрассудки! — говорил он себе. — Выходит, Эльзоновская уже в силу того, что она Эльзоновская, не может стать какой-то там Пронтницкой. Дикость… Но будь Пронтницкий другим человеком, здесь никогда не появилась бы Стефа… И она тоже — «не того круга»… Проклятье!
Баронесса наконец справилась с собой:
— Вальди, почему ты только что говорил, что мы, я и Пронтницкий, оказали тебе некую услугу?
— Потому что я искал случая от него отделаться.
— Ага, и этот случай тебе подвернулся… Значит, ты еще раньше…
— Ну, конечно. Не думаете же вы, тетя, что я зол на него лишь из-за сегодняшней его выходки? Или вы хотите, чтобы он оставался и далее?
— После всего, что я узнала, — спаси Господи! Но ведь ты не можешь просто взять да и указать ему на дверь?
— Я найду способ совершенно недвусмысленно дать ему понять, что он здесь не ко двору.
Вошел Яцентий и сказал, что Бенедикт явился. Пани Идалия сказала Вальдемару по-французски:
— Я хотела, чтобы он объяснил, почему отдал коней. Но теперь оставляю его тебе.
Вальдемар пожал плечами:
— Виноват не Бенедикт, а управитель. Я бы вам, тетя, посоветовал преспокойно ехать в Обронное и выкинуть все из головы. — Не дожидаясь ее ответа, он повернулся к камердинеру: — Прикажи Бенедикту запрягать караковых, — когда Яцентий вышел, Вальдемар спросил: — С вами едет только Люция?
— Нет, еще и Рудецкая.
Губы Вальдемара гневно покривились:
— Тетя, вы могли бы называть ее не столь официально…
Баронесса осуждающе взглянула на него и хотела что-то ответить, но Вальдемар быстро поклонился:
— Я пойду распоряжусь, чтобы подавали…
XIV
Прогуливаясь по парку, Вальдемар Михоровский остановился над водой. Внезапно горячий солнечный лучик сверкнул сквозь зеленое переплетение ветвей.
— Странный лучик! Кольнул, как иглой. Будь я суевернее… Боже, что за ерунда!
И пошел дальше, удивляясь, что не может собраться с мыслями — случайный солнечный промельк взволновал его:
— Что означает это знамение и почему я так стараюсь его истолковать? Солнечный лучик…
Перед мысленным взором его мелькнули Стефа и рядом с ней Пронтницкий. Пожав плечами, он проговорил, смеясь:
— Ну и дурак же я! Солнечный лучик? Значит, нужно взять да согреться.
Потом он глянул в сторону озера:
— Вот хотя бы эти ласточки — порхают и стараются захватить на крылья столько радуги, сколько смогут. А ведь совершенно неразумны! Вот так и следует пользоваться жизнью — не упустить ни одного солнечного лучика, без колебания завладеть каждой радугой.
За озером, на дороге, обрамленной высокими стенами спелой пшеницы, он разглядел головы и спины коней, верхнюю часть желтой «американки». В ней сидели двое, темными силуэтами рисовавшиеся на фоне золотой нивы.
Вальдемар весело рассмеялся:
— Еще один, освещенный солнцем!
Ужин проходил в молчании, пан Мачей был апатичен, Вальдемар холоден, Пронтницкий — неспокоен.
Эдмунд никак не рассчитывал застать здесь майората. Еще больше он смешался, увидев, что дамы уехали. При пани Эльзоновской и Люции он чувствовал себя не в пример свободнее. Еще только войдя в столовую, он заметил, как скованно держатся оба Михоровских, и решил притвориться, будто ничего не замечает. Он начал было с деланной веселостью вспоминать о своей учебе в сельскохозяйственной школе, представляя в лицах соучеников. Заметив, что это производит мало впечатления на обоих Михоровских, стал обращаться главным образом к пану Ксаверию. Понизив голос, он спросил:
— Дамы сегодня не вернутся?
— Наверно, нет, — ответил пан Ксаверий. — Они поехали в Обронное, и там обычно остаются ночевать.
— Жаль.
— О чем вы так жалеете? У вас ведь нет к ним срочных дел?
— Отчего же? Есть, и весьма срочное дело.
— Любопытно узнать, какое? — шутливым тоном поинтересовался пан Ксаверий.
В его голосе Эдмунд ощутил, однако, еще и нотку иронии и подумал: «А с этим сегодня что стряслось?»
— Что же у вас за дела такие? — переспросил пан Ксаверий. Поужинав исключительно плотно, он был в самом добром расположении духа.
Пронтницкий покрутил головой:
— О, этого я никому не могу сказать.
— Вот даже как? Хо-хо! А которой из дам это касается, могу я узнать?
— У меня конфиденциальное дело к моему идеалу, — с загадочной улыбкой сказал Эдмунд.
— А какого же характера дело, могу я спросить, не боясь показаться нескромным?
— Вы чересчур любопытны. Ну, допустимая жажду поведать ей, как скучал без нее, и узреть румянец на ее личике.
Вальдемар, слышавший все, едва превозмог желание вышвырнуть Пронтницкого за дверь. Быть может, его удержал умоляющий взгляд пана Мачея.
— Ах, как вы уверены, что румянец зальет ее щечки! — заметил пан Ксаверий. — А вдруг вам не удастся вызвать румянец на ее нежном личике?
— Вы сомневаетесь? Паненки всегда, словно мухи на мед, летят на нежные словечки, а уж краснеть умеют, когда им вздумается. Особенно к этому Стефа склонна.
Уж я-то знаю…
Тут Эдмунд заметил, что зашел слишком далеко, и умолк.
Но Вальдемар больше не в силах был сдерживаться. Он сломал в пальцах сигару, засыпав табаком скатерть, резко встал, извинился перед паном Мачеем и вышел.
Старый Михоровский, пожелав доброй ночи двум оставшимся, тоже покинул зал. Задетый их поспешным уходом, Пронтницкий враз потерял доброе расположение духа, а старый приживальщик, подавая ему на прощанье руку, подумал: « А не перегнул ли ты палку, хлопчик?»
Вальдемар быстро расхаживал, едва ли не бегал по своему кабинету, пытаясь успокоиться. Через час он велел Яцентию просить к нему Эдмунда.
Майорат сидел за столом со спокойной и равнодушной миной, так что практикант почувствовал себя свободнее. Подойдя к столу, он поинтересовался:
— Чем могу служить? Вальдемар указал ему на кресло:
— Садитесь. Я хочу с вами поговорить. Молодой человек смешался и молча сел.
— Собственно говоря… — начал Вальдемар. — Собственно говоря, я хочу сообщить вам о решении, которое принял некоторое время назад, и касается оно вас.
— Меня?
— Да. Хочу предложить вам переселиться в Глембовичи. Особой разницы для вас нет, к тому же там у вас будет гораздо больше места для приложения сил…
Голос шляхтича звучал доброжелательно и естественно, но от него веяло ледяным холодом.
Пронтницкого словно громом вдруг поразило. Он ожидал чего угодно, только не предложения уехать в Глембовичи. Не зная, что обо всем этом думать, он пробормотал:
— Почему, пан майорат… так вот вдруг? Я совершенно не готов…
— Какие пустяки… До Глембовичей всего пара миль. Пытаясь защититься, Эдмунд спросил с подобострастием:
— Быть может, вы недовольны моей работой в Слодковцах?
— Ну что вы, ничего подобного. Просто в Глембовичах вы будете больше на месте.
— Но почему? По какой причине?
Теряя терпение, Михоровский сказал:
— Разные бывают причины.
Пронтницкий понял — его попросту не хотели здесь больше видеть. Но почему вдруг? Помолчав, он сказал:
— Пан майорат, если своим сегодняшним выездом я вызвал ваше неудовольствие, — прошу прощения.
Вальдемар поднял голову:
— Почему вы просите прощения, если я не делал вам выговора? Конечно, вы поступили неучтиво, но не в том дело…
— Я же не знал, что пани баронесса сегодня должна выехать, — защищался Пронтницкий.
Майорат недовольно покривил губы. Он терпеть не мог, когда так вот пытались выкрутиться.
— Напротив, вы знали… Я же сказал — дело не в этом. Главное, вы, если можно так выразиться, не гармонируете со Слодковцами, понимаете? Вы не в силах удержаться на должном уровне, пренебрежительно относитесь к устоям и традициям, какие пока что существуют в нашем кругу…
Теперь у Пронтницкого не осталось никаких сомнений — его попросту выпроваживают, не хотят вообще больше иметь с ним дела. Все его далеко идущие планы были решительно пресечены Михоровским. Пронтницкий взглянул на Вальдемара. Тот курил, глядя на мраморную пепельницу с таким видом, словно хотел сказать: «Ну что, ты еще не ушел? Я все сказал».
Эдмунд понимал, что должен уйти, но все еще колебался, не в силах сообразить — ехать ему в Глембовичи или сразу покинуть эти места. В конце концов, его колебания вывели Вальдемара из себя. Он поднялся и протянул практиканту руку:
— Итак, у меня все. Доброй ночи.
Эдмунд вскочил и ответил наигранно развязно:
— Я постараюсь, чтобы вы были мной довольны.
— Спасибо. Нам обоим это пойдет на пользу. Они раскланялись, и Пронтницкий вышел с гордо поднятой головой, но, едва закрыл за собой дверь, понурился и зло пробормотал:
— Чтоб тебе! Похоже, меня выперли — но неофициально, частным образом. Как он все ловко обставил, по-пански… Аристократия!
В прихожей лакей хотел было подать ему пальто, но Эдмунд рявкнул:
— Иди ты к черту!
— Ого! — только и покрутил головой лакей, закрывая за ним дверь.
Вальдемар вошел в спальню пана Мачея. Лежа в постели, старик читал газеты.
— Где ты так долго был, Вальди?
— Говорил с Пронтницким. Все кончено, — сказал Вальдемар, присаживаясь у постели.
— Ты ему отказал от места?
— Ну, в общем, да. Я ему предложил перебраться в Глембовичи…
— И он согласился?
— Он понял, чего от него ждут.
— Скажи по правде, всему причиной сегодняшние его разговоры за ужином?
— Нет. Они только ускорили развязку.
— Так в чем же главная причина?
— Я терпеть не мог его шуточек, особенно тех, что…
Он встал и принялся расхаживать по комнате. Пан Мачей молчал. Свет лампы, косо падая вбок, освещал его седые волосы и морщинистое лицо. Лоб его был нахмурен и глаза полузакрыты. Он долго сидел, погруженный в глубокую задумчивость, ссутулившись, словно держал на плечах неимоверную тяжесть. Под грузом гнетущих воспоминаний из прошлого он все ниже склонял голову. Внезапно он посмотрел на внука и настойчиво спросил:
— Вальдемар, будь откровенен: все из-за нее?
В ответ из темной глубины комнаты прозвучал приглушенный, низкий, приятный голос:
— Да.
— Боже, смилуйся над нами! — прошептали дрожащие губы старика. Заслонив глаза рукой, он молился, повторяя: — Не карай его за мои прегрешения, Господи! Господи, отпусти мне грехи мои и не мсти за них…
XV
Прощание с дамами прошло согласно всем правилам хорошего тона. Пронтницкий явно храбрился, а Люция не могла найти себе места. Пани Идалия с вельможным радушием произнесла несколько теплых слов, претендовавших на искреннюю сердечность, но прозвучали они довольно фальшиво. Пан Мачей с добродушной улыбкой пожелал уезжавшему счастья. Вальдемар распрощался с ним доброжелательно, пан Ксаверий — равнодушно. В общем, никто об его отъезде не сожалел.
Пани Эльзоновская объяснила Люции и Стефе, что планы пана Эдмунда изменились, и потому он уезжает.
Всю ночь и весь день Люция проплакала, и теперь глаза у нее были красные. Эдмунд поглядывал на нее с усмешечкой, как на свою жертву. Заплаканные глаза девочки его ничуть не тронули, в душе он злился, что упустил прекрасную партию.
Люция уверена была, что он захочет остаться с ней наедине и что-нибудь скажет на прощанье. Она вспомнила прочитанные украдкой романы — сцены любовных свиданий, записочки, клятвы… Быть может, они станут писать друг другу? Нелегко будет передавать и получать письма, но так даже лучше.
Чтобы встретиться с ним, девочка несколько раз выходила в парк, убежденная, что он ждет ее там. Это не укрылось от внимания Стефы; в конце концов она отыскала Люцию на лавочке в тени, громко плачущую. Присев рядом, Стефа обняла ее и прижала к себе. Тогда девочка призналась, что вышла, чтобы встретить Эдмунда, и теперь плачет по нему, как по мертвому.
— Почему «как по мертвому»? — спросила учительница. — Ты говорила с ним?
Люция еле выговорила сквозь рыдания:
— Я хотела с ним поговорить, думала, он тоже хочет… Он проходил по аллее, увидел меня, мы были так близко… Я сказала: «Пан Эдмунд», а он остановился и спрашивает: «Чем могу служить?» — так холодно, с такой странной, деланной усмешкой… Потом поклонился и ушел. Он меня не любит, он для меня умер!
Стефе едва удалось ее успокоить.
Со Стефой и Люцией Эдмунд прощался последними. Вальдемар, предчувствуя, что Пронтницкий может оскорбить Стефу, остался рядом с ней. Действительно, Эдмунд настраивался на ироничный тон, хотел пожелать Стефе успехов, зная, что заденет ее этим, но в присутствии майората не решился. Он лишь равнодушно подал руку и Стефе, и Люции. Ни он, ни они не произнесли ни слова. Только рука девочки дрогнула в его руке.
Он вышел на крыльцо походкой победителя, уселся в экипаж. К коляске его проводили Яцентий и лакеи, довольные, что уезжает навсегда нелюбимый всеми практикант. Когда коляска тронулась, стоявшая у окна Люция разразилась громким плачем, что несказанно удивило баронессу — она и представить не могла, что ее дочь может питать искренние чувства к человеку не их круга.
После отъезда Пронтницкого в особняк словно вернулась жизнь. Стефа облегченно вздохнула. Только баронесса поначалу скучала без приятного собеседника, но печаль и слезы Люции убедили пани Идалию, что Эдмунд должен был покинуть имение.
…В один прекрасный день, когда майорат был в Слодковцах, приехала верхом панна Рита Шелижанская, а недолго спустя появился граф Трестка. Когда он показался в воротах, все как раз сидели на веранде. Увидев своего преследователя, Рита с неудовольствием скривилась и сердито бросила Вальдемару:
— Невероятно! Как будто он — мой опекун…
Майорат рассеянно кивнул, думая о чем-то своем.
Заметив наконец панну Риту, Трестка весьма артистично изобразил удивление, так что у него даже свалилось с носа пенсне:
— Что за счастливый случай! Вы здесь?
— Вы же знали, что я буду здесь. К чему притворяться?
— Я вовсе не знал, клянусь Господом! Неужели вы считаете, что я приехал ради вас?
— Мне так кажется.
— Пассаж! — вздохнул Трестка, нервно поправил пенсне и, бросив на Стефу веселый взгляд, сказал шутливо: — Вы ошибаетесь, панна Рита. В Слодковцы я езжу не только из-за вас, mais encore…[30]
— Ну что вы, мы же все понимаем. Где панна Рита, там и вы, — сказал Вальдемар.
— Клянусь вам, я… Ничего подобного…
— А мы поняли вас именно так.
Трестка закусил губу и замолчал. Панна Рита глянула на Стефу, потом подошла к Вальдемару и, улыбнувшись, шепнула:
— Спасибо.
— Господи, за что?
— За то, что вы — джентльмен.
— Увы, приходится им быть за кого-то…
— Вот за это и спасибо.
Перед ужином решили прогуляться по парку. Панна Рита взяла Стефу под руку и увлекла ее вперед, так что мужчины и задумчиво шагавшая Люция остались позади.
— Как вам нравится молодой Михоровский? — спросила Рита.
— Ну… он очень симпатичный.
Панна Рита едва не подпрыгнула:
— И это все, что вы можете сказать?! Я думала, вы оцените его по достоинству. Я его очень уважаю. В сравнении… ну, хотя бы с Тресткой, он…
— Да как можно сравнивать?
— Вы правы. Никакого сравнения. Единственное, что у них общего, — возраст. Майорат очень известен в свете. Женщины по нему с ума сходят. Но он, увы, так привередлив… Открою вам секрет: я тоже принадлежу к его поклонницам и тоже без взаимности.
Стефа, улыбнувшись, взглянула на нее. Она вспомнила первый приезд панны Риты и ее разговор с Вальдемаром.
Панна Рита продолжала:
— Что скрывать, все знают, что я люблю майората, все, начиная от моей опекунши, княгини, и кончая им самим. Но иллюзий я не питаю, я давно их лишилась… или не питала вообще. Та, которую он выберет, ни в чем не будет похожа на меня. У него весьма утонченный вкус, а я могу воодушевить самое большее графа Трестку. Это и называется «не везет». Меня занимает пан Вальдемар, а я интересую этого «графчика». А если я нравлюсь Трестке, то, должно быть, не дороже него и стою. В таком случае он обязан получить взаимность. Я права?
— Ну что вы! — сказала Стефа. — Пан Трестка недостоин на вас и глаз поднять.
— У вас хороший вкус! Я и сама знаю, что стою дороже его… пусть и не столь уж сказочно много, как вы считаете. Хочу вам сказать, что вы еще в одном случае проявили хороший вкус — отвергнув Пронтницкого. Нестоящий человек, и вас явно недостоин. Стефа ответила искренне:
— Нет, я его не отвергала. Просто… так уж счастливо сложились обстоятельства.
— Но вы ведь первая порвали с ним?
— Это сделал за меня мой отец.
— Который наверняка знал его лучше, чем вы?
— Несомненно.
— Как бы там ни было, стоит поблагодарить майората за то, что он прогнал этого типа из Слодковиц. А знаете, что было главной причиной изгнания Пронтницкого?
Догадываетесь?
— Его ухаживания за Люцией.
На губах Риты промелькнула улыбка:
— Ну да, так все считают. Выходит, вы ничего не знаете? Пронтницкого услали исключительно из-за вас.
— Из-за меня?!
— Вот именно. Он докучал вам, а это рассердило майората и пана Мачея. Одной Идальке было все едино. У нее есть тело и кости, но сомневаюсь, есть ли кровь… разве что до того голубая, что это уже и не кровь, а водица. В самый последний момент намерения Пронтницкого ее рассердили, однако до того она благосклонно позволяла ему себя развлекать. Словом, это Вальдемар его убрал отсюда. Могу смело вас заверить, что оба Михоровских — ваши большие друзья, и только они.
Произнесенное с нажимом «только» пришлось Стефе не по вкусу, и она сказала:
— Я им очень благодарна, но ведь и пани Эльзоновская хорошо ко мне относится?
— Ну, в общем, да. А Люция в вас просто влюблена.
— Она — добрая девочка. Бедняжка, столько натерпелась из-за отъезда Пронтницкого… Боюсь, догадывается, о чем я говорила с паном Мачеем.
— Глупости! — сказала панна Рита. — Все быстро началось и быстро кончится.
— Дай-то Бог!
Они подошли к теплице. Старый садовник вместе со своими молодыми помощниками поливал цветы. Солнце уже спустилось за деревья, и розовая луна взошла на небо, отражаясь в стеклах теплицы.
Стефа показывала Рите свои любимые цветы, объясняя, как они называются. Оживленная, улыбающаяся, она поднимала тяжелые горшки. Панна Рита, в длинной амазонке, прислонившись к стеклянной стене теплицы, внимательно присматривалась к ней. Ее удивлял садовник, смотревший на Стефу прямо-таки с благоговением. Этот старик, с незапамятных времен служивший в Слодковцах, вечно ходил хмурый, не говорил, а бурчал. Только Вальдемар удостаивался его расположения, а теперь его добилась, сама о том не зная, и Стефа. И панна Рита думала о Стефе: «Можно ли ее сравнить с этими тепличными цветами? Наверняка нет. Она — полевой цветок, полный жизни, согретый солнцем, а не искусственным теплом. Прелестный цветок, с нежным и стойким запахом, непохожий на эти вот, в вазочках, привязанные к колышкам. Тепличные цветы — это мы, мы заключены в рамки „нашего круга“, как они заключены в горшочки, привязаны к нашим предрассудкам, как они — к колышкам».
— О чем вы задумались? — спросила Стефа.
— О том, что вы несравнимы с этими тепличными цветками. Вы скорее напоминаете цветущую степь, многоцветную, задорную, исполненную поэзии и музыки.
Стефа засмеялась:
— Чересчур лестно для меня, но все равно красиво.
— Автор этих слов — не я, а майорат. Я вас еще не знала, когда он в этих именно выражениях говорил мне о вас. Ага, вот и они!
Показались мужчины. Трестка гордо вздернул голову. Вальдемар шагал, задумавшись. Рита спросила его:
— Помните, вы сравнивали панну Стефанию с цветущей степью? Сегодня я убедилась, что вы были совершенно правы.
Михоровский посмотрел на панну Риту, потом на Стефу и спросил:
— А почему вам это пришло в голову именно сегодня?
— Потому что я увидела панну Стефанию посреди этих цветов и поняла, что она в самом деле похожа на цветущий луг.
— Не луг, а степь, — сказал Вальдемар. — На цветущую, широкую украинскую степь. Луг — это что-то небольшое и тесное. А панна Стефания таит в себе нечто более… более…
Он сделал широкий жест рукой.
Стефа рассмеялась:
— Господа, слишком много комплиментов на мою долю!
— Вы так говорите, чтобы получить их еще больше, — сказал Вальдемар и прошел в оранжерею. Когда он отошел достаточно далеко, Трестка поправил двумя пальцами пенсне и с видом знатока заявил:
— Мне пришло на ум иное сравнение относительно панны Риты. Она напоминает статую Афины Паллады. Только нет щита, шлема и копья. Я имею в виду — осязаемых. Они у нее тем не менее есть… — и он загадочно усмехнулся.
— Весьма вам благодарна. Выходит, копьем я наношу вам раны, щитом защищаюсь от вас… что там у меня еще есть? Ну, довольно! Сравните теперь панну Стефанию с какой-нибудь богиней.
— Панна Стефания — словно Венера, только что вышедшая из пены морской.
— А вы — словно ехидный сатир, — отпарировала Стефа.
— Прекрасно! Добавьте ему еще рога, — рассмеялась панна Рита. — Вы невыносимы, пан Трестка. Вижу, мне так никогда и не привить вам хорошего вкуса. Как можно сравнивать меня со старой, обрюзгшей Афиной Палладой? Я-то думала, что стану Дианой. Панне Стефе надлежала бы Геба, богиня юности, или Психея. Тогда и вы могли бы стать хотя бы Гермесом.
— Вот спасибо!
— Вам не нравится? Что поделать! На Юпитера вам не хватит твердости. Но куда подевался майорат?
— Разговаривает с садовником.
— Я здесь, — сказал Михоровский, появляясь в дверях.
Вскоре они возвратились в усадьбу. На этот раз Рита пошла впереди с паном Тресткой, Стефа — рядом с Вальдемаром. Они шагали по узкой аллейке, с обеих сторон обсаженной мальвами. Высокие, усыпанные цветами кусты составили разноцветную стену; они источали нежный медовый аромат, смешивавшийся с запахом цветущих лип и теплым ветерком, дувшим с озера.
Вальдемар молчал, как и его спутница; он о чем-то задумался, она была весела. Наконец Стефа сказала:
— Почему вы сегодня не в настроении?
Он задержал на ней проницательный взгляд:
— Просто расстроен. В последнее время это со мной часто случается. Да вдобавок граф Трестка меня раздражает.
Стефа подумала: «Не потому ли его раздражает Трестка, что граф неотступно сопутствует панне Рите? Кто знает, так ли уж безответна любовь Риты к Вальдемару…»
Она ощутила легкий солнечный укол и, поколебавшись, решилась:
— От вас самого зависит, чтобы Трестка перестал вас раздражать.
— От меня? Ну да. Я, конечно, стараюсь умерять его кухонные шуточки, но не всегда это можно сделать, не рискуя вызвать скандал. Трестка плохо воспитан… или просто притворяется таким, считая, что так ему больше к лицу. К тому же это пошляк и циник.
Стефа не поняла, что хотел сказать этим Вальдемар, но ответила, следуя собственным мыслям:
— Панна Рита относится к нему довольно прохладно. Удивляюсь, как он, человек все же неглупый, этого не видит.
— Панна Рита должна с кем-то постоянно болтать о лошадях, это ее развлекает, — рассеянно бросил Вальдемар.
— А мне показалось, что скорее заставляет скучать.
Вальдемар остановился:
— Пани Стефания, а не поискать ли нам тему поинтереснее? Трестка, панна Рита и их чувства — это так нудно…
— Прошу прощения, — сказала Стефа холодно. — Извините, я и не предполагала, что нагоняю на вас скуку своей болтовней. Но вы первый начали об этом.
— Я говорил не о панне Рите, а о Трестке.
— Но то, что вы говорили, относилось и к ней.
— Ничуть!
Глаза Стефы вспыхнули гневными искорками. Встретившись с ней взглядом, Вальдемар усмехнулся:
— Вижу, мы не поняли друг друга.
— Быть может. Так у нас бывает часто.
— Я не вполне понял, что вы имели в виду, говоря о панне Рите? Что только от меня зависит… Что это должно означать?
— Простите, но я так жалею о своих словах, что повторять их никак не хочу. Я не должна была этого говорить.
Он серьезно взглянул на нее:
— А, понимаю… Великолепно! Можно позавидовать вашему острому глазу. Вы решили, что Трестка раздражает меня оттого, что ухаживает за панной Ритой? Вы в самом деле могли так подумать?
Стефа быстро пошла вперед, злая на себя и на него. Ничего не отвечая, оно обрывала лепестки мальвы, которую держала в руках. Так и не дождавшись ответа, Вальдемар пожал плечами.
— Вы меня порой так раздражаете, что я не могу говорить спокойно! Почему вы ничего не ответили, пани Стефания?
— Не хочу раздражать вас еще больше. Да и сказать мне нечего.
— Ну вот! С вами говорить невозможно!
— Я вам и не навязываюсь.
Он нахмурился, губы задрожали от гнева!
— Вы несравненны! — бросил он, не скрывая иронии.
— Должна же я с вами в этом сравняться.
— Ну, я — другое дело…
— Конечно. Вы — весь в острых углах.
— Нет. Дело не в острых углах, а в угле зрения. Они остановились у веранды.
— Что это, вы опять ссоритесь? — спросила панна Рита, видя румянец на щеках Стефы и волнение Вальдемара.
— О нет! — возразил он. — Я просто объясняю пани Стефании, что женщина должна обладать быстротой ума, схватывать все вокруг нее происходящее, словно мотыльков в сачок.
— Прежде всего женщина должна быть пикантной, — вынес приговор Трестка.
Такой, как я, правда? — чуточку нервно рассмеялась панна Рита.
Трестка стал распространяться о женщинах, а Вальдемар, искоса глянув на Стефу, прошептал:
— Пикантной? Что ж, она этого не лишена… Но тут вмешалась панна Рита:
— Когда же вы нас свозите в Глембовичи? Вы так давно обещали…
— Я не назначал дня. Все зависит от вас. Глембовические ворота для вас всегда открыты.
— Ну что же, тогда созовем военный совет с участием вашего дедушки и пани Идалии и обсудим все серьезно и обстоятельно. Пойдемте.
Панна Рита и Трестка пошли впереди. Когда Стефа входила в дверь, идущий позади Вальдемар сказал, понизив голос:
— Я несказанно рад, что вы навестите Глембовичи. Приглашаю вас особо. Все, кроме вас, знают мою обитель.
— Благодарю, — ответила она отстраненно.
— Вы сердитесь на меня? — заступил он ей дорогу. Стефа подняла на него глаза:
— Пан майорат, разрешите пройти.
— Не разрешу, пока не ответите: сердитесь вы на меня или нет?
— Нет.
— Позволю себе усомниться в искренности вашего ответа. Каюсь, я чем-то задел вас, но я был зол. Прошу меня простить. Вы не дадите мне руку в знак примирения?
Панна Рудецкая протянула ему руку, и Вальдемар, низко склонившись, поцеловал ее ладонь.
Они не заметили стоявшей на лестнице панны Риты, но она видела их.
Сдержанным тоном она сказала:
— Коли уж мир заключен, пойдемте ужинать. Идалька ждет. Нынешние вечера чересчур уж дурманящие, особенно там, в мальвовой аллее…
— Что, граф Трестка объяснился в любви? — резко спросил Вальдемар.
Рита побледнела.
— Нет, но, может… я с ним объяснюсь, — быстро ответила она и, шелестя шелковым платьем, почти побежала в столовую.
Кровь, пульсируя, ударяла Стефе в виски.
XVI
После полудня, когда солнце начало клониться к закату, небольшая группа всадников показалась на узкой тропинке меж пшеничными полями, где работали жатки. Панна Рита сидела на рослом фольблюте, в черной амазонке и шляпке для верховой езды с видом триумфаторши. Следом, в английской шапочке, — Трестка. Второй парой были Вальдемар и Стефа. Он в элегантном костюме и черных высоких сапогах со шпорами, какие носили еще наполеоновские офицеры, сидел на чистокровном арабском кауром жеребце. Стефа, в темно-синем платье английского покроя и маленькой шляпке, уверенно держалась в седле. Под ней была принадлежавшая Вальдемару каурая арабская лошадка Эрато.
— Вы уже ездили верхом? — спросил он. — На дебют это не похоже.
— Ездила, но в мужском седле и на пони. На такую великолепную лошадь села впервые.
— Вы сущая амазонка, можете мне поверить, — резюмировал граф Трестка. — Уж я-то разбираюсь.
Стефа взглянула на Вальдемара, словно говоря: «Ну что с ним прикажешь делать?»
Поняв заключенный в глазах девушки немой вопрос, Вальдемар усмехнулся и кивнул. Однако Стефа все же повторила вопрос вслух:
— Я хорошо сижу?
— Отлично! — усмехнулся Вальдемар.
На лице Стефы вспыхнул румянец. Казалось, оно расцвело. Она сильно ударила лошадь хлыстом, и Эрато рванулась вперед. Взвихрилась пыль, панна Рита вскрикнула, Трестка закричал вслед Стефе:
— Натяните поводья, крепче, крепче!
Но Вальдемар уже пустил жеребца галопом. Казалось, Аполлон не касается земли. Следом поскакали два конюха, державшиеся до того позади, но Рита задержала их жестом:
— Если майорат не догонит сам, то и вы ничего не сделаете, только еще больше испугаете лошадь.
И тем не менее все быстро двинулись следом. Но Стефа и Вальдемар уже скрылись в облаке пыли. Эрато, прижав уши, неслась по дороге, Аполлон ненамного отставал от нее. Вальдемар не сводил глаз со Стефы, но, видя, что она крепко держится в седле, скакал молча, чтобы еще больше не испугать лошадь. Наддав, он поравнялся с Эрато, ухватил ее удила. Почуяв сильную руку, лошадь замедлила бег. Тогда только Вальдемар не выдержал:
— Хорошенькое дельце! Нужно же мне было похвалить вашу езду!
Чуть побледневшая и испуганная, Стефа весело улыбнулась ему:
— И все же вам придется меня похвалить — я же удержалась в седле, даже вынув ноги из стремян.
— Нарочно?
— Да, на всякий случай.
— Ну, знаете! Неплохо для новичка… Браво-браво! А я-то гнал, как сумасшедший. Волосы встали дыбом, когда подумал, что с вами может случиться.
Стефа заметила, что он и в самом деле был бледен и взволнован. Она хотела подать ему руку, но, видя, что его руки заняты поводами обеих лошадей, горячо шепнула:
— Очень вас благодарю, очень… и простите.
— За что?
— За… хлопоты.
— Скорее уж просите прощения за то, что я дрожал, как заячий хвост, а это со мной редко случается.
— А если б я даже и упала? Было бы своего рода крещение.
— Господи, какой вы еще ребенок… Подъехали остальные.
— Ух! У меня руки дрожат! — сказал молодой граф. — Гнали так, что я едва жив. Если я получу сердечный приступ, вы будете виноваты, пани Стефания. Мы так скакали…
Они свернули на поле, к жнецам.
Когда всадники приблизились к сноповязалкам, навстречу им выехал верхом управитель, молодой и энергичный человек. Он непринужденно раскланялся. Майорат представил его дамам:
— Пан Остронжецкий, мой помощник, скорее даже правая рука.
— Всего лишь левая, пан майорат, — весело сказал управитель.
Дамы поклонились ему, тоже улыбаясь.
— А где господа практиканты? — спросил Вальдемар.
— Я их оставил поближе к имению. Со мной два эконома из Бжозова и Ромнов.
— Сноповязалки работают нормально? Механик дело знает?
— Не хуже англичанина!
Трестка подъехал ближе и спросил Вальдемара:
— Откуда вы привезли сноповязалки? Система американская, но фирменный знак варшавский…
— Они сделаны у нас, — сказал Вальдемар. — Все наше — и железо, и работа. Я выписал инженера с фабрики Мак-Кормика и под его руководством одна варшавская фирма и произвела эти машины.
— Но механик, я смотрю, на американца не похож?
— Да, он ученик того инженера, а сам урожденный варшавянин.
Трестка покрутил головой:
— И что, хорошо работают?
— Ломаются они очень редко. Поломки ведь случаются и у заграничных. Люди обучены, механик хороший, так что все идет гладко.
— Надо же! — буркнул удивленный граф Трестка.
— Вот если бы все следовали вашему примеру… — сказала Вальдемару Стефа.
Граф не выдержал:
— Но тогда бы все заграничные фирмы обанкротились!
— Успокойтесь, — утешил его Вальдемар. — Не настолько мы еще хваткие, чтобы из-за нас разорялись иностранные фирмы.
— Я бы не доверял машинам, сделанным у нас.
— То-то вы от них подальше держитесь… — съязвила панна Рита.
— А я — доверяю, — сказал Вальдемар. — Работают они хорошо, не отличаются от заграничных, потому что система та же самая.
Попрощавшись с управителем, всадники поехали назад в Слодковцы. Вальдемар сказал Стефе:
— Для первой прогулки было далековато. Быть может, вы устали?
— Ну что вы! Я могла бы ехать до самых Глембовичей.
— Нет, туда мы отправимся в экипажах.
XVII
Красная бричка свернула с шоссе на боковую дорогу, обсаженную тополями. Каурая четверка шла рысью, сверкала на солнце начищенная до блеска бронзовая упряжь, звенели колокольчики, кони гордо задирали головы. После ночного дождя утро казалось особенно свежим. Пронзительно, весело заливались кузнечики.
Просторы, просторы, просторы!
Эта лазурь действовала и на людские души. Улыбки их были веселы, люди смеялись, болтали.
Каурая четверка летела, словно у коней выросли крылья.
— Пан Вальдемар, вы нас сегодня перевернете, мы не доедем до Глембовичей, — пожаловалась графина Паула Чвилецкая, сидевшая между графом Тресткой и братом панны Риты Вильгельмом Шелигой. Из-под огромных полей шляпы она бросала кокетливые взгляды на своих соседей и сидящего напротив барона Вейнера.
— Господа, возьмите кто-нибудь вожжи у майората. Кто решится, поднимите руку, — щебетала она.
— Не утруждайте себя. Вожжи я никому не отдам, — отозвался с козел Вальдемар.
— Мы вас вынудим.
— Интересно, как?
— Да попросту уговорим.
— Нет, я не настолько галантен…
— Это все из-за панны Риты. Пан Вальдемар отлично правит, но дама рядом ему совсем ни к чему, — сказал Трестка. Он оперся на поручни козел и попытался заглянуть в лицо сидевшей рядом с Вальдемаром Рите. Она испепелила его взглядом:
— Сидите-ка тихо! Вам там удобно? А то — пересядьте!
— Куда? Не на колени же к пану Вильгельму…
— Поменяйтесь с ним местами. Ну-ка, Вилюсь! — повернулась она к брату.
— Протестую! Мне и здесь удобно, — сказал студент, поднимая глаза на сидящую напротив Стефу.
— Видите, панна Рита? Вильгельму хорошо там, а мне — где я сижу. Мне только не хватает визави дамы!
— Хорошенькое дельце! — обиделась Люция. — Ведь я ваша — визави!
— Ну конечно, конечно! Только вот панне Рите не к лицу сидеть на козлах.
— А быть вашей визави мне еще больше не к лицу! — отпарировала девушка.
— Я вас помирю, — вмешалась Паула. — Граф, возьмите вожжи у майората, и сядьте рядом с панной Ритой…
— И наверняка вскорости окажемся рядышком в канаве, — засмеялась Рита.
— Vola! c'est mot![31]В канаве! — вмешался барон Вейнер, растянув в улыбке тонкие губы.
Трестка окинул его злым взглядом и спросил:
— А почему бы вам с графиней не сесть на козлы?
— Я не хочу! Там грязно, к тому же я не люблю, чтобы кони были близко, — отказалась графиня.
— Я тоже отказываюсь. Этим спортом не занимаюсь, — сказал барон. — Быть может, моя соседка и пан Вильгельм?…
Стефа отрицательно мотнула головой:
— Не стоит это и обсуждать. Пан майорат ведь ясно сказал, что никому не собирается уступать вожжи.
— Благодарю за поддержку, — отозвался Вальдемар.
— Тогда давайте петь, — предложил Вильгельм.
— Прекрасно, — согласился Трестка. — Что предпочитают дамы — Ich lebe dich?[32]Du liebst mich?[33]
— Лучше всего Wir lieben uns, [34] — со смехом добавила Паула.
— Мы споем по-польски, — сказала Стефа.
— Что-нибудь, что напоминает Гейдельберг или Сакре-Кер? — процедил барон.
— А почему именно Сакре-Кер?
— Ну, или какой-нибудь другой монастырь.
— Но почему у вас на уме монастырь? Молодой Шелига повернулся к барону:
— Неужели вам показалось, что панна Стефания воспитывалась в монастыре?
— Да. Она какая-то другая. Не могу определить точно. Быть может не… необычная? Нет, не могу выразить.
— Я вам помогу. Она не похожа на других. Но такой ее создал не монастырь, а природа. — Студент сделал рукой широкий жест и с заблестевшими глазами продолжал: — Вот эта природа, лазурная и голубая, окружала ее с колыбели и сотворила по своему подобию.
— Помните цветущие степи? — шепнула Рита Вальдемару.
— Что? — спросил он задумчиво. — А, конечно!
— То, что сказал Вилюсь, похоже на ваши «цветущие степи», не правда ли? Вы слышали, что говорил Вилюсь?
— Слышал.
Вальдемар смотрел на необозримые пшеничные поля и думал: «Это она!»
Смотрел на лазурное безоблачное небо и думал: «Это она!»
Майорат что есть силы щелкнул бичом. В бричке поднялся крик:
— Кони понесут! — кричала графиня.
— Вальди, что ты делаешь? — вторила ей Люция.
Панна Рита взглянула на Вальдемара из-под длинных ресниц.
— Остановите, — шепнула она печально. — Я пересяду.
— Не смогу! Кони взяли хороший аллюр. Сидите спокойно!
Приказной тон его голоса как-то подействовал на нее. Она и сама не понимала что же чувствует. Губы ее задрожали, на бледном лице выступили розовые пятнышки. Казалось, она колеблется. Наконец, она спросила непринужденным голосом:
— А если бы кони шли тише, я могла бы пересесть?
— Я не посмел бы противиться вашему желанию.
— Я поняла…
Она сжала губы и, вырвав бич из рук Вальдемара, взмахнула им.
— Что вы делаете? — удивился майорат.
— Хочу, чтобы кони понесли.
— Это случится, только если я захочу.
— Вы уверены?
— Абсолютно!
— Боже, если б я могла…
— Отхлестать меня этим бичом, верно?
— Что-то вроде того.
— Ну что ж, каждый должен заботиться о своей безопасности, а посему… можете пересесть.
Он натянул вожжи. Кони остановились, чуть присев на задние ноги.
— Можете пересесть, — повторил майорат с улыбкой.
Панна Рита посмотрела ему прямо в глаза:
— Вы знаете, что вы…
— Несносен? Я знаю.
— Грубиян!
— Я всего лишь исполнил ваше желание.
— Ох…
Трестка вскочил:
— Почему мы остановились? Ага! Наконец-то вы решились, пани Рита! Кто же займет ваше место?
— Будем тянуть жребий, — сказала Рита.
— Отлично!
Вальдемар покривил губы. Панна Рита бросила ему шепотом:
— Вам достанется Люция, уж я постараюсь…
Она завязала на платочке узелок и зажала в ладони так, чтобы остальные не видели, который из трех торчавших наружу концов был завязан. Повернулась к спутникам:
— Прошу.
Уголок со скрытым узелком она постаралась подсунуть Люции, рассчитывая, что та вытянет самый ближайший.
Графиня взяла тот кончик, что был в середине, Люция — левый, Стефа — правый. Прикусив губу, Рита разжала ладонь.
— Панна Стефания! — воскликнули все. Вильгельм Шелига явно был разозлен. Стефа порозовела.
Бросив торжествующий взгляд на кусавшую губы Риту, Вальдемар принялся с необычайной галантностью помогать ей пересаживаться.
Наступило всеобщее оживление. Рита спорила с Тресткой, а Стефа, стоя на подножке, подшучивала над Вальдемаром, уверявшим ее, что тянуть жребий — варварский пережиток.
— Прошу вас! — позвал ее Вальдемар.
Стефа ловко проскользнула меж сидящими; в своем белом муслиновом платье она была словно изящный нарцисс. Волна темно-золотых волос была свернута в тяжелый узел на затылке, голову покрывала большая легкая шляпка, украшенная муслиновой вышивкой и пучком нежной бледно-зеленой травы. Разрумянившаяся, с блестящими глазами, она была прекрасна.
Вальдемар подал ей с козел руку, другой крепко сжал ее локоть:
— Гоп!
Смеясь, Стефа уселась рядом с ним. Он прикрикнул на коней, и бричка тронулась.
— Порода! — тихонько сказал, глядя на нее, барон Вейнер.
— Что вы сказали? — переспросил студент.
— Порода! Но вы наверняка скажете «природа»?
— Вот именно!
Стефа ощутила словно бы укол в сердце, так влияла на нее близость Вальдемара. Он явно был взволнован.
Оба молчали. Он думал: «Что со мной происходит? Когда я охотился в джунглях, волновался меньше. Что таит в себе эта девушка?»
Паула неприязненно косилась на Стефу. Она не была влюблена в Михоровского, но ее раздражало, что блестящий шляхтич оказывает столько внимания этой девушке. «Чересчур много шума и суеты вокруг какой-то учительницы! А как свободно она с нами держится, словно мы ей ровня! Нахалка! Люция относится к ней, как к сестре, а Рита — как к подруге. Пан Мачей ласково называет ее Стеней, майорат стоит перед ней навытяжку. Так она и нос задерет!»
Сердитые мысли графини прервала Люция:
— Нас догоняют!
Все обернулись. Действительно, их догоняли два запряженных четверками экипажа; над головами виднелись чопорно выпрямившиеся кучера и яркие зонтики.
— Не понимаю, как они ухитрились нас догнать, — сказал Трестка — Мы же выехали гораздо раньше.
— Должно быть, карюхи пана майората начинают сдавать, — иронически бросила панна Рита.
Вальдемар весело оглянулся на нее через плечо:
— Если помните, мы добрых четверть часа стояли на дороге, ожидая, когда вы соизволите пересесть.
— Вы не в духе?
— Отнюдь!
— Нет, правда, вы не в настроении?
— В превосходнейшем! Только не обижайте моих каурых.
Экипажи приближались. В первом сидели княгиня Подгорецкая, пан Мачей и князь Францишек с супругой. Во втором ехали пани Эльзоновская и Чвилецкие со старшей дочерью Михалиной.
Вальдемар остановил коней. Догонявшие их тоже остановились. Князь Подгорецкий спросил:
— Отчего вы так медленно едете?
— Мы не рассчитывали вас догнать, — добавил пан Мачей.
Вальдемар, держа вожжи в одной руке, зажав в другой бич, оперся ею на козлы и сказал весело:
— У нас была катастрофа.
— Что случилось?!
— Панна Рита взбунтовалась.
Он развеселился, серые глаза смеялись, зубы блестели из-под усов. Элегантный, изящный, он казался совсем юным.
Рядом со Стефой они казались прекрасной парой. Обе княгини внимательно приглядывались к ним, причем то, что Стефа сидела рядом с магнатом, неприятно задело графиню.
Панна Рита встала в бричке и махнула перчаткой:
— Не верьте тому, что он говорит.
— Позвольте! Разве вы не устроили мне сцену! — запротестовал Михоровский шутливо.
Рита пыталась что-то сказать, но графиня Чвилецкая процедила сквозь зубы:
— Послушайте, мы сегодня доберемся наконец до Глембовичей или нет? Нам еще предстоит неблизкий путь.
— Каких-нибудь пять верст, не больше, — сказал Вальдемар.
— Всего пять? Это уже лучше.
— Ну что ж, не будем терять времени. До свиданья! Встретимся через полчаса, если… — майорат усмехнулся, — если только панна Рита опять не забастует.
— Ох, я вам и отомщу! — рассердилась она.
— Лишь бы не сейчас!
Бричка помчалась вперед. Экипажи остались позади. Молодая княгиня тихонько сказала мужу:
— Тебе не кажется, что Вальди и панна Стефания — красивая пара?
— Я видел, что они оба прямо-таки сияли.
— О ком вы говорите? — спросила старшая княгиня.
— О молодой паре на козлах.
— О да! Вальди словно родился заново.
— А она словно расцвела, — добавил пан Мачей.
— Красивая пара.
В другом экипаже разговор принял иной оборот. Графиня с гневом сказала пани Идалии:
— Знаешь, со стороны этой девчонки было форменным нахальством рассесться рядом с майоратом.
Ты слышала, что говорила Рита? Они тянули жребий.
Хоть ты-то ее не защищай, нахалку этакую! Как ты ей только позволяешь так держаться? Все эти ее выходки…
— Какие выходки? C'est une noble fille, [35]Люция ее очень любит.
Пани Идалия была сегодня в исключительно добром расположении чувств. Графиня, заметив это, ничего больше не сказала, только сопела от злости.
А в бричке было весело. Все громко болтали: графиня Паула с бароном, панна Рита с Тресткой, Люция и Вилюсь, заходясь от смеха, распевали веселые песенки. Вальдемар говорил Стефе:
— Видите два белых столба по сторонам дороги? Это межевые знаки. Отсюда начинаются глембовические земли. Никогда я не был так рад, что обладаю этими землями, как сегодня. И виной тому вы.
— Я? Как это понимать? — удивленно спросила Стефа.
Вальдемар усмехнулся:
— Да хотя бы потому, что я везу вас сюда, могу вам показать эти цветущие луга. Разве это не достаточный повод для радости?
Она посмотрела ему прямо в глаза и серьезно сказала:
— То, что вы сейчас сказали, так непохоже на вас…
— А на кого же похоже?
— Ну, на пана Шелигу… а впрочем, не знаю.
— Вы не можете объяснить понятнее?
— Думаю, вы меня и так поняли.
— Клянусь вам, не совсем.
— Это непохоже на вас, потому что звучит слишком тривиально.
— О!
— Вы говорили неискренне…
— Помилуй Бог! Почему я не могу простыми словами выразить то, что думаю, без опасений прослыть неискренним?! Почему Вилюсю можно?
— Потому что Вилюсь есть Вилюсь, — засмеялась Стефа.
— Он — Вилюсь, а я — Вальди.
— Вы — майорат Вальдемар Михоровский.
— Он раздраженно передразнил:
— Майорат глембовический, владелец Слодковиц, Грабонова, Белочеркасс и чего-то там еще, с прилегающими и надлежащими, добавьте сами, что вам больше нравится…
— Вот именно, майорат, магнат, аристократ, — весело сказала Стефа.
Вальдемар пожал плечами и стал говорить медленно, не глядя на Стефу:
— Вот что я вам скажу. Поверите — хорошо, не поверите — что поделать. Да, всеми этими титулами и именами, что вы перечислили, я обладаю. Но поскольку обладатель всех этих титулов вращается в довольно душной атмосфере, ему часто не хватает воздуха. Я всегда предпочитал широкие просторы и рвался к ним. Мы все влюбляемся в нежные камелии и туберозы и знать не знаем, что на полях растут еще более прекрасные васильки. Знаем, что полевые цветы существуют, но они отделены от нас стеной предрассудков. Иногда случается по воле судьбы, что такой василек попадает в наши теплицы, и нас тогда охватывают самые разнообразные чувства: удивление, любопытство… на нас повеет чем-то родным. Мы почувствуем себя наконец детьми своей страны, и тому, кто всегда ощущал тягу к широким полям, они станут особенно дорогими…
Он помолчал, потом продолжал:
— Вы для меня и есть такой василек. Вы символ золотых нив отчизны. Вилюсь был прав, сравнив вас с самой природой, он заметил это так же быстро, как и я. Мне вы с первой минуты показались цветком вольных полей. Скажу откровенно, что я о вас думаю. Повторяю, я счастлив от того, что владею в нашей отчизне землями, и не потому, что земли эти делают меня богатым, а потому, что чувствую себя сыном этой дорогой мне земли. Я любил ее с детства и заботился о ней, но лишь теперь эти чувства приобрели подлинную силу. И за это я вам бесконечно благодарен.
Вальдемар сердечно подал ей руку. В какой-то миг он совсем было намеревался поднести руку девушки к губам, но удержался. Стефа была взволнована, губы ее дрожали, она подняла голову и встретила взгляд горящих серых глаз, благородных, гордых и в то же время удивительно нежно смотревших на нее.
— Вы и теперь скажете, что я неискренен? — спросил он тихо.
— О нет! Теперь вы говорите совсем иначе. Ваша земля может гордиться таким сыном. Вы — настоящий Михоровский.
Он рассмеялся чуточку иронично:
— Не хвалите меня, быть может, я этого и не заслужил. Мало кто верит в мою искреннюю любовь к родному краю. Мы слишком долго были «де Михоровски», чтобы я вот так сразу стал просто Михоровским. Кто поверит, что то, о чем я только что говорил…
— Не подвергайте все сомнению, — прервала его Стефа. — Довольно, что вы сами знаете все о своих чувствах к этой земле. Для пана «де Михоровски» этого хватит с лихвой.
Они засмеялись.
Склонившись к ней, Вальдемар спросил с улыбкой:
— А вам хорошо?
— Хорошо, — весело сверкнула глазами Стефа.
— И вам приятно здесь, на козлах?
— Здесь великолепно!
— А может, после Вилюся я вам кажусь старым брюзгой?
— О, что вы!
— Магнатом, большим вельможей, аристократом…
— Ну, им вы всегда останетесь.
— Ладно, ладно! Но сейчас я им быть не хочу. Сейчас я — просто Михоровский, люблю васильки, и один из них, самый прекрасный, везу в свою обитель. И потому счастлив. Почему вы вдруг так напряглись? — спросил он, внимательно глядя на девушку.
— Я? С чего вы взяли?
— Вы — из тех необычайно чутких растений, что сжимают лепестки при первом же прикосновении. Знаю, что вы подумали: вот магнат, который из прихоти сбросил с себя вельможный пурпур и вознамерился украситься простым васильком. И вам не понравилось, что я назвал вас васильком. Верно?
— Если даже я и василек, то уж никак не тот, которым можно украсить себя…
— …особенно магнату-аристократу. Да?
— Никому!
— Ужас! Мы начинаем сходить с рельсов, пани Стефания. Вот-вот приблизится небезопасный поворот… а впереди уже Глембовичи. Отложим пикировку до другого раза, хорошо?
— Если вы снова не сойдете с рельсов…
— Обещаю, что нет. Я хочу, чтобы в Глембовичах мы остались добрыми друзьями, хочу видеть вас веселой, такой, какая вы всегда. Лично я чертовски весел и счастлив.
— Оттого, что мы наконец прибыли в Глембовичи? — спросила она кокетливо.
— Да. И еще потому, что вскоре мы будем обедать, — ответил Вальдемар живо.
Стефа засмеялась. Вальдемар тоже рассмеялся, хлопнул бичом и, пуская коней вскачь, сказал:
— Ах, как я на вас зол!
Бричка помчалась с удвоенной скоростью.
— Что опять за шутки? Вы нас растрясете! — воскликнула панна Рита.
— Au nom de Dieu![36]Мы выпадем! — закричала графиня, хватая за руки Трестку и Вильгельма.
Вальдемар встал на козлах во весь рост, подбоченился рукой, в которой держал бич, и, потрясая вожжами, кричал:
— Вперед, вперед!
Кони неслись так, что щебень градом взлетал из-под копыт.
— Пан Вальдемар, вы с ума сошли? — крикнула, хватая его за рукав панна Шелижанская.
— Быть может!
Стефа, Люция и Вильгельм хохотали, глядя на испуганные лица графини, барона и невезучего Трестки, у которого вдобавок свалилось с носа пенсне, и он искал его под ногами, ругаясь на разных языках. Наконец, нашел и с невиданным воодушевлением воззвал:
— Черт раздери, вот оно!
— Ну, наконец-то по-польски заговорил! — засмеялся Вальдемар.
Все вновь разразились смехом.
Они достигли каменного моста над быстрой рекой. За ним, на том берегу, росло множество деревьев, на горе виднелись мощные стены замка, башни и башенки. На главной башне развевалось знамя с родовым гербом Михоровских. Огромные деревья парка, тесно окружая замок, тянулись вдоль реки. Колеса прогрохотали по мосту, словно по барабану, глухо простучали копыта, и кони свернули в угрюмую аллею, обсаженную вековыми елями. В конце ее возносились распахнутые высокие ворота, выложенные каменными плитами, с гербом наверху. Перед ними другой каменный мост был перекинут через ров, бегущий вдоль вала и окружавший парк стены. Глубокий ров соединялся с рекой и был наполнен водой. Это придавало замку вид крепости. На мосту стояли столбики с матовыми шарами электрических ламп. Такие же столбы сторожами взметнулись по обе стороны ворот и у домика привратника, напоминавшего прекрасный грот из каменных плит, тонувших в зарослях плюща.
Когда бричка свернула на еловую аллею, Вальдемар сел и придержал коней. Они пошли шагом. Все замолчали. Мощью и великолепием повеяло от темных стрельчатых елей, стоявших словно стражи векового родового гнезда. Повсюду витал дух величия и силы. Все это ощутили, один Вальдемар сидел, высоко подняв голову, — он приветствовал ели-стражи, как своих подданных. А они шумели вершинами, клонясь словно в поклоне, приветствуя хозяина и наследника родового поместья.
Барон Вейнер с любопытством оглядывался. Он еще не бывал в замке, и ему очень понравилась аллея.
Граф Трестка, придерживал рукой шляпу, смотрел на верхушки елей и повторял шепотом:
— Титаны… Никогда не могу на них насмотреться…
Панна Рита и графиня сидели, задумавшись, быть может, пытались отгадать, когда наконец майорат въедет сюда в свадебной карете шестерней и кто будет его избранницей. Как знать, не себя ли видела каждая из них в этой роли, скрывая эти грезы в потаенном уголке души…
Вальдемар выглядел серьезным, знал, что его поместье всем очень нравится. В нем мешались гордость и некая меланхолия.
Он произнес мысленно: «Да, я владелец красивейшего, великолепного поместья, и что с того?…» И его охватила грусть. Наверное, впервые в жизни он отчетливо осознал, что живет один-одинешенек в этом великолепии, в этой пышности. И усмехнулся: — Ну, сейчас-то я не одинок…
Думая это, он краешком глаза смотрел на Стефу.
Она сидела, притихшая, словно угнетенная величием гигантских елей, отбрасывавших на нее густую тень, чуть побледневшая. Холод охватил ее, рождая смутное беспокойство.
«Что я тут делаю? Я — рядом с этим магнатом… Заблудилась… случайно угодила сюда, словно василек в теплицу…»
В точности, как Вальдемар только что, она подумала что одна-одинешенька здесь, посреди роскоши и магнатского великолепия.
И вздрогнула.
Заметивший это Вальдемар наклонился к ней и смотрел на нее долго, проникновенно, потом шепнул серьезно:
— Какая вы впечатлительная…
Стефа улыбнулась, ей стало приятно. Вальдемар понял обуревавшие ее чувства. Он шепнул:
— Василек!
Стефа удивленно подняла на него глаза.
— Отгадал я?
— Да…
Они въехали на мост. Панна Рита и графиня воскликнули хором:
— Как здесь красиво!
— Этот ров и мост несравненны!
— А ворота и домик привратника! Старые, но прекрасные!
— Этак вы вскоре назовете несравненным и цилиндр майората, — фыркнул Трестка.
Графиня прыснула. Панна Рита пожала плечами.
Бричка проехала мимо высокого распятия, окруженного обломками скалы, въехала в ворота. Копыта застучали по каменным плитам. Привратник отдал честь проезжающим.
Бричка въехала на огромный двор, усыпанный гравием, гладкий, словно плац-парад. Посередине двора стояла изящная каменная колонна, украшенная барельефом, изображавшая предка Михоровских, заложившего этот замок в XV веке. Рядом — столбы с электрическими лампами. Справа взметнулась высоченная округлая башня, опоясанная галереей, с бойницами, за ней — часовня. По обе стороны внутренних ворот стояли две старинные медные пушки. Все это напоминало изготовившуюся к обороне крепость, каковой замок и был много столетий.
— Что за громада! — промолвил барон Вейнер. — Здесь вы могли бы не опасаться татарских набегов.
— Во времена войн с язычниками замок не один такой набег выдержал, — задумчиво сказал майорат. — Но тогда он выглядел иначе. Мосты были подъемными, на дворе размещались цейхгаузы, здесь проводились учения, устраивали турниры, а при отражении осады тут располагались лагерем солдаты.
Рядом с высоченными стенами Стефа показалась себе удивительно маленькой. Благодаря ее живому воображению прошлое въяве предстало перед ней. Она видела рыцарей, сражавшихся на турнирах за драгоценный перстень прекрасной дамы, дочек воеводы Михоровского в кунтушиках и венцах, с длинными косами, вручавших награды победителям. Видела гетманов, предводительствовавших крылатыми[37] полками, войска, выступавшие на защиту отчизны. Слышала звяканье гусарских стремян, тихую песнь солдат:
Богородица-девица,
Благословенная Мария!
Матерь сына Божьего,
Благословенная Мария!
Спаси нам души, отпусти грехи…
Стефа зажмурилась, вся во власти видений прошлого. Колеса грохотали по каменным плитам. Бричка проезжала под сводами внутренних ворот, кони, склоняя головы и вытянув шеи, ударяли копытами, словно забавляясь удесятеренным эхом.
Увидев внутренний дворик, Стефа удивленно вскрикнула.
Вальдемар, понизив голос и сделав широкий жест рукой, указал ей на центральную часть замка с террасой, пышным ковром цветов и серебристым плюмажем фонтана:
— Я счастлив, что привез вас в это гнездо — не в обитель великосветских предков, не в экзотическое обиталище магната, а к родному очагу Михоровских, где василек будет свободным и веселым.
Столько сердечности и почтения звучало в его голосе, что Стефа поневоле благородно глянула ему в глаза. Потом шепнула:
— Вы очень добры.
— Хотел бы я быть добрым, — тоже шепотом ответил он.
Они ехали мимо клумб и пирамидально подстриженных кустов.
Мощные стены замка, изумительная игра красок, отблески солнечного света составляли гармоничную картину.
Всем стало весело. Под шум веселой болтовни бричка подъехала к мраморному крыльцу. Несколько слуг в черных с пунцовым ливреях проворно сбежали по ступеням. Высокий, осанистый камердинер с седыми бакенбардами на чисто выбритом лице и в ливрее спускался медленно, степенно, сохраняя достоинство старого слуги.
XVIII
Глембовичи, родовое гнездо Михоровских, по праву славились среди прекраснейших имений страны. Чуточку тяжеловатый стиль, оставшийся в наследство от минувших веков, смягчали детали современного комфорта, с большим искусством соединенные в одно целое с наследием феодальных эпох.
От главного здания, светившегося рядами бесчисленных окон и взметнувшегося на несколько этажей, тянулись в стороны два боковых крыла с башенками. К зданию примыкала и высокая башня, увенчанная знаменем Михоровских, На башне Вальдемар оборудовал метеорологическую лабораторию. Еще два ответвления, не очень длинные, замыкались двухэтажной перемычкой, именовавшейся «над арками». В первом этаже в старинном зале некогда собиралась на сеймики шляхта. На втором этаже помещалась оружейная. Внутренний дворик был окружен галереями с каменными арками и балюстрадами. Внутри низко подстриженной живой изгороди благоухала огромная клумба. Посередине разместился фонтан из зеленого мрамора.
С террас открывался прелестный вид на парк и английские садики.
Множество цветов, статуй, беседок, зеленых живых арок, фонтанов, мраморных лавочек и мостиков… В прудах плавали белые лебеди. На вершине искусственной горки стояла беломраморная статуя Богоматери. От замка к реке спускалась беломраморная лестница, заканчивавшаяся узкой пристанью, украшенной двумя мраморными же сиренами. Лестница и разноцветные лодки у пристани являли собой один из красивейших видов парка.
Вальдемар любил Глембовичи. Замок, парк и хозяйственные постройки держались в образцовом состоянии. Конюшни Вальдемар прямо-таки холил. Но не могли пожаловаться на отсутствие его внимания и зверинец, и оружейная.
Обычно пан Мачей, гуляя по поместью, с улыбкой вспоминал, как окружающие смотрели с недоверием на вводимые Вальдемаром новшества, как критиковали, как не верили, что беспечному повесе удастся создать что-либо путное. Они знали, что майорат закончил пользовавшееся хорошей репутацией учебное заведение в Галле, но кое-кто в это плохо верил. Лишь по прошествии долгого времени, видя его энергию и результаты, все поняли, что этот праздный гуляка может, оказывается, быть дельным хозяином и серьезным человеком…
На глембовическое великолепие все смотрели с удивлением, но каждый по-своему: пан Мачей и княжна Подгорецкая с гордостью, Трестка завистливо, князь и княгиня Подгорецкие с грустью.
«И я когда-то многое имел, но остались одни долги…» — думал старый князь.
Барон Вейнер, как и Стефа, впервые попавший в Глембовичи, ходил слегка потрясенный, бормоча в усы:
— Второй Версаль! Второй Версаль!
Графиня Чвилецкая и панна Паула, в компании пани Идалии осматривавшие теплицу, громко восторгались каждым цветком. Панну Риту невозможно было вытащить из конюшни. Только граф Чвилецкий с панной Михалиной сонно прогуливались по парку. Стефу сопровождал Вильгельм Шелига.
Вальдемар предоставил гостям полную свободу, принимая их по-королевски, находя время для каждого.
Никто не чувствовал себя стесненно — шел, куда хотел, беседовал, с кем хотел. Но Люция доставляла Стефе хлопоты — девочку ни за что нельзя было удержать при себе, она явно была чем-то взбудоражена.
Пышность Глембовичей странно действовала на Люцию, хотя она часто бывала здесь, а к роскоши привыкла с детства.
Разгоряченная Люция подбежала к Стефе и, беря ее за руку, настойчиво сказала:
— Мне нужно вам что-то сказать, но только вам одной.
Вильгельм Шелига, чуточку расстроенный, отошел в сторону. Люция отвела Стефу в конец аллеи, к высокому водопаду, откуда открывался вид на замок и террасы. Девочка остановилась, очертила рукой в воздухе широкий круг и спросила:
— Прекрасно, правда?
Чуточку удивившись, Стефа взглянула на нее.
— Прекрасно? — повторила девочка.
— Очень! — ответила Стефа, сама очарованная здешним великолепием.
Разрумянившаяся Люция крепко сжала руку Стефы и начала приглушенным голосом:
— Знаете, может, и у меня будет когда-нибудь такой замок, такие салоны, парк, террасы. У меня будут прекрасное поместье, богатство и титулы. Именно такая жизнь мне предначертана, именно такая!
— Почему ты это говоришь, Люция? — спросила Стефа, на которую порыв девочки произвел неприятное впечатление.
— Мне пришло в голову, что только в нашем кругу я могу иметь все это, такое вот великолепие! А я его так люблю! А если бы я вышла замуж за Эдмунда, у меня не было бы и сотой доли всего этого, правда? Какой-нибудь скромный домик в несколько комнат, обсаженный жасмином, с настурцией на клумбах. Ни салонов, ни портретной галереи… Кто такие Пронтницкие? Какие у них могли быть предки?
— О да! — горько усмехнулась Стефа. — Провидение опекало его и тебя.
— Его? А может, только меня? Для него жениться на мне было бы милостью Провидения.
— Люци, не суди обо всем с точки зрения своего круга и денег…
— Как так? Разве я не была бы для него прекрасной партией?
— Несомненно. Но именно эта прекрасная партия стала бы его несчастьем, угнетала бы его, душила. Ты, воспитанная в роскоши, не удовлетворилась бы средним достатком, а он не смог бы окружить тебя роскошью и использовал бы для этого твои же деньги… а впрочем, и их бы не хватило, чтобы удовлетворить твои желания.
— Но мои родственные связи — разве это ничего не значит, разве этого недостаточно?
— Мне было бы недостаточно. Но все зависит от точки зрения. Быть может, Пронтницкий и был бы доволен…
— Наверняка больше, чем я!
— А если бы ты любила его по-настоящему?
— Это ничего бы не значило. У меня была бы только любовь, а у него — еще и все остальное. Он выигрывал, я проигрывала.
Стефа грустно сказала:
— Ах, Люци! Вспомни, что ты говорила всего месяц назад: что единственное твое желание — стать женой Пронтницкого. Понимаю, все это было детство, он недостоин подлинных чувств, потому что сам на них не способен, но как же изменились твои взгляды за какой-то месяц… А будь он достойным человеком, заслуживающим уважения и твоей любви, ты и тогда считала бы, что он «выигрывает»?
— Вы меня не поняли. Я говорю о нашем круге и о подходящей партии.
— Значит, сам по себе человек ничего не значит? Важны только деньги и высший свет? Люци, ты так молода, но взгляды у тебя уже извращенные…
— Никакие не извращенные. Просто наши, — надулась Люция.
— Поздравляю! Если ты сейчас уже так думаешь, что будет потом?
— Ну, больше я никогда уже не совершу такой глупости — влюбиться в человека не нашего круга.
— О да, такие глупости ты должна себе запретить раз и навсегда, они иногда плохо кончаются…
Столько печали и горечи звучало в голосе Стефы, что Люция, пытливо глянув на нее, внезапно обняла ее за шею и умильно шепнула:
— Моя добрая пани Стефа, вы только не сердитесь на меня!
— Я не сержусь, Люци, но мне жаль…
— Пана Эдмунда?
— Нет. Мне жаль, что у тебя подобные взгляды.
— Это Глембовичи так на меня действуют. Счастливец Вальди!
В глубине аллеи послышался голос.
— Мама меня зовет. Бегу! — крикнула девочка и помчалась туда.
Стефа пошла в сторону замка. Все гости были в парке, но она хотела остаться одна. Огромные стены и башня с развевавшимся знаменем словно пригибали ее к земле. Она едва ли не физически ощутила, как не хочется ей смотреть на эти стены. И решила вернуться в замок, уверенная, что никого там не встретит.
Она побежала по террасе, по веранде и в первом же зале столкнулась со старым камердинером. Он поклонился девушке. Стефа спросила его, как пройти в комнату для гостей. Старый слуга показал рукой в нужную сторону и сказал учтиво:
— Третий этаж, в левом крыле. Быть может, панна молодая графиня прикажет ее проводить?
Стефа взглянула на него, широко раскрыв глаза. Камердинер застыл в позе ожидания.
— Вы ошибаетесь, Анджей, никакая я не графиня, — сказала она с веселой улыбкой.
Теперь старый слуга широко раскрыл глаза, но тут же превозмог удивление и вновь поклонился:
— Прошу простить, милостивая панна.
Стефа слегка пожала плечами и пошла в глубь замка, подумав:
«Должно быть, тут и представить не могут, что гость окажется без титула…»
Она прошла бильярдным залом, миновала бальный зал и оказалась в огромном вестибюле. Отсюда в разные стороны вело несколько коридоров, а широкая лестница из белого мрамора заканчивалась на высоте второго этажа галереей.
Стефа долго стояла посреди огромного вестибюля.
На втором этаже протянулась очередная анфилада залов. Посреди всего этого великолепия Стефа поняла, что заблудилась. По пути разглядывала ковры и гобелены. Перед глазами у нее мелькали драгоценные рамы картин. Фигура ее отражалась в огромных зеркалах.
Она часто останавливалась перед какой-нибудь картиной или чудесной пальмой. Постепенно ее стал охватывать страх. Она уже не знала, как выбраться. Ряды окон, погруженных в глубокие ниши, давали мало света, так что зал был погружен в полумрак и выглядел удивительно сурово. Под стенами и в центре зала стояли диваны, обитые золотистой парчой. Стефа глянула вверх, и озноб пронизал ее. Отовсюду смотрели на нее выразительные глаза — зал был увешан портретами. Предки Михоровского, изображенные в натуральную величину, стояли, оправленные в обитые бронзой рамы. К Стефе были обращены лица былых воевод, гетманов и сенаторов. Серебряные латы, позолоченные нагрудники, бархатные платья, соболя, горностаи, парча, фраки, кружевные жабо, военные мундиры… Полумрак, казалось, наполнял жизнью мертвые образы. Скупой свет, проникший снаружи, ложился на бархат, меха, на восковые руки и лица. Стефе показалось, что фигуры шевелятся, что мертвые серые глаза удивленно смотрят на нее, а губы шепчут:
— Что тебе нужно? Откуда ты взялась? Она вздрогнула, хотела уйти, обернулась к выходу — и взгляд ее упал на огромный портрет, довольно ярко освещенный. Опустив голову на грудь, с печалью в глазах стояла еще молодая женщина в тяжелом бархатном платье, украшенном брабантскими кружевами. Пышные черные волосы обрамляли безукоризненный овал лица, узкие сжатые губы были исполнены боли, нескрываемой даже на портрете. Судя по одежде и прическе, портрет был написан не так уж давно. Стефу он заинтересовал. Девушка подошла поближе, чтобы выяснить точно, кого изображает портрет.
Сбоку на темном фоне виднелся герцогский герб, под ним надпись: «Габриэла, урожденная герцогиня де Бурбон, властительница глембовическая, супруга Мачея Михоровского.» Ниже — даты рождения и смерти.
Значит, это и есть жена пана Мачея, бабушка Вальдемара? Герцогиня де Бурбон? Но отчего она так печальна? Стефа подошла поближе, всматриваясь. Две женщины — одна на портрете, в бархате, другая живая, в белом муслине — смотрели друг другу в глаза, словно понимая одна другую.
Глубокие черные зрачки Михоровской жалобно смотрели на девушку, от глаз ее веяло безнадежностью и меланхолией. Казалось, они говорили: «Жизнь измучила меня, не дала ни капельки счастья, одна боль и печаль… Не помогли ни богатство, ни титулы, ни гербы… я была несчастна».
Стефа слышала эти жалобы. Отчего эта женщина была несчастна? Чего ей не хватало в жизни? Что за черная туча заволокла ее лицо?
Стефа оглянулась вокруг. Растущий непонятный страх выползал из темных углов. Глаза портретов словно бы гневались, что она вторглась в их святилище, казалось, они шепчут:
— Уходи отсюда девушка. Ты чужая здесь, это не твой мир.
Стефа задрожала. Подобных чувств она прежде не знала. Чуяла, что бродит в некоей мгле, вызвавшей необъяснимый страх. Она вновь взглянула на мертвые лица и, подняв голову кверху, шепнула:
— Ухожу… я никогда больше сюда не вернусь!
Не отводя взгляда от печального лица бабушки Вальдемара, она прошептала:
— Пани, ухожу, ухожу…
Но глаза Михоровской смотрели на нее с приязнью. Полные печали и горя, они, казалось, отвечали:
— Бедное дитя… поспеши удалиться… жаль мне тебя, полевой цветок… скорее возвращайся к таким же, как ты…
— Боже! — охнула Стефа.
Каждый нерв ее дрожал, всматриваясь в портрет, она не услышала шагов в соседней комнате.
Внезапно перед ней вырос Вальдемар, державший букет желтых чайных роз.
— Ах! — вскликнула Стефа, отступая на шаг.
— Что с вами? — спросил вошедший, взяв ее руку в свои. — Я испугал вас? Пани Стефания, что случилось?
Девушка опомнилась. С ним она не боялась. Высвободив руку из его пальцев, она сказала:
— Вы будете надо мной смеяться, но ваше внезапное появление меня в самом деле испугало.
— Вы меня приняли за какого-нибудь прадедушку, соскочившего со стены?
— О нет!
— А я вас искал по всему замку. Анджей навел меня на след.
— Я заблудилась, совершенно случайно попала сюда…
— И говорили с моими предками? Она удивленно взглянула на него:
— Да вы просто ясновидец!
— Значит, я угадал?
— Отчасти. Это они говорили со мной, а я только отвечала.
— И что же они говорили?
— Велели мне уходить, — ответила она с вымученной улыбкой.
— Пани Стефания!
Этот возглас удивил Стефу — в нем звучали вопрос и печаль. Она быстро повторила:
— Они сердились, что я вторглась в их святилище. Одна только эта дама была ко мне благосклонна.
И она показала на портрет.
Вальдемар присмотрелся, серьезно сказал:
— Это моя бабушка, очень добрая и очень несчастная женщина… может, оттого и несчастная, что добрая.
— Почему? — спросила Стефа.
— Ох! Это грустная история. Я не хотел бы вас печалить.
— Расскажите, — шепнула она умоляюще. Вальдемар взял с дивана букет роз и сказал:
— Я рвал их, думая о вас, и вот, принес… Мой любимый цвет. Прошу вас.
Он подал девушке пышный благоухающий букет, глядя на нее горящими глазами.
— Неужели вы любите печальные истории? — добавил он быстро, чтобы девушка вновь почувствовала себя непринужденно. Вальдемар заметил, что преподнесенный букет смутил ее.
— О да… Спасибо вам за розы, они прекрасны.
— Хорошо. Я вам расскажу историю бабушки, но предупреждаю, это очень грустная история — бабушка много претерпела.
— Уйдемте отсюда, — сказала Стефа. — Нас будут искать.
— Все внизу, играют в теннис, и им весело. Нет смысла им мешать:
— Но Люция там одна, без меня.
— Могу вас заверить, что Вилюсь Шелига ее успешно развлекает. Останемся здесь.
— Нет-нет! Нужно идти.
Она подбежала к двери. Вальдемар энергично преградил ей дорогу:
— В этом зале господствуют феодальные права! Я вас не отпущу — бабушкину историю нужно выслушать перед ее портретом. Сейчас вы — мой вассал.
Стефа комичным жестом заломила руки и весело взмолилась:
— О сюзерен мой, смилуйся, дай мне волю!
— О нет, пощады не будет! Вы в моей власти, и никто вас не вызволит, пока я сам не захочу. За спиной у меня — ряды приверженцев.
И он указал на портреты.
— Но они изгоняют меня, не хотят здесь видеть! Вальдемар склонился к ней и властно сказал:
— Они обязаны хотеть того, чего хочу я!
В этот миг случилось нечто странное. В парке раздался чей-то крик, и стены зала многократно повторили его. Казалось, подали голос портреты. Стефа, находившаяся в крайнем напряжении нервов, с криком испуга рванулась прочь.
Вальдемар схватил ее за руку повыше локтя и, привлекая к себе, шепнул:
— Не бойся… Со мной тебе ничего не грозит…
Он крепко держал девушку. Она разрумянилась, сердце учащенно билось.
— Не бойся, я с тобой, — повторил он сдавленным голосом.
Глаза его горели, губы трепетали, кровь стучала ему в виски.
Миг тишины… и первого упоения!
Неведомая сила связала их в одно…
Вальдемар ни словом, ни движением не прервал очарования этого мига, желая насладиться им как можно более. Близость Стефы волновала его, ее слабость наполнила нежностью. Он чувствовал, что ей не по себе, но в то же время она боится пошевелиться.
Стефе казалось, что она теряет сознание. Впервые в жизни с ней происходило такое — она боялась того, кому полностью доверялась. Она пошевелилась и прерывающимся голосом попросила:
— Уйдем отсюда… ну, пожалуйста!
— А история бабушки? — спросил он.
— Расскажете в другой раз.
— О нет! Другая подобная минута может наступить не скоро!
Он подвел Стефу к маленькому канапе напротив портрета и сказал, уже спокойный и уверенный в себе:
— Присядьте. Вот так. А теперь слушайте.
Девушка не нашла сил противиться ему. Его рассудительность и спокойствие подействовали на нее. Она села. В белом платье, с букетом желтых роз в руке, она сама казалась на фоне темной материи экзотическим цветком. Вальдемар начал повествование:
— Бабушка моя любила человека, с которым ей не позволили связать судьбу.
Стефа подняла глаза на портрет, глядя с глубоким сочувствием.
Вальдемар продолжал:
— Она была герцогиней из знатного рода, носившего в гербе королевскую корону. Многие юноши из знатных семей ухаживали за ней. Она отвергла всех, полюбив бедного молодого человека. Их обоих эта первая в их жизни любовь наделила силой, способной уничтожить любые преграды. Однако он молчал о своих чувствах, зная, что слишком глубокая пропасть разделяет их. Но она, юная, избалованная, привыкшая, что исполняются любые ее желания и прихоти, молчать не захотела. И призналась родителям в любви к юному Гвидо, прося их о благословении. Но ее отец, герцог де Бурбон, человек монархических взглядов, гордый аристократ, категорически ей отказал. Молоденькую Габриэлу увезли в Париж, а Гвидо отказали от места. Бедный юноша, горячо влюбленный и не менее гордый, не вынес такого удара: вскоре он, написав прощальное письмо Габриэле, покончил с собой. Герцогиня хотела уйти в монастырь, но отец ей не позволил. Она обязана была вести светский образ жизни, выслушивать многочисленные предложения претендентов на ее руку, но категорически отказывалась выйти замуж, к чему ее усиленно склонял отец. Так прошло несколько лет. В то время мой дедушка Мачей пережил примерно то же самое. Служа в уланах, он познакомился на балу с некой молодой особой и полюбил ее. Она была дочкой простого гражданина и звали ее Стефанией.
Вальдемар посмотрел Стефе в глаза с улыбкой, не лишенной участия. Она вздрогнула и побледнела. Заметив это, Вальдемар деликатно взял ее за руку:
— Что с вами, пани Стефания?
Она высвободила руку и, погрузив лицо в желтые розы ответила:
— Нет, ничего… продолжайте…
— Теперь мы достигли самого грустного места этой истории. И, боюсь, есть в чем обвинить дедушку. Хоть он очень и любил свою Стеню…
— Стеню?!
— Так он сокращал ее имя, и в память об этом именно так вас и называет. Для нее это тоже было первой любовью. Она всей душой полюбила дедушку. Они обручились, но на дороге встала беда, стоглавый рок. Вот здесь как раз и есть вина дедушки. У него не хватило решимости побороть предрассудки, владевшие его семьей. Ему не позволили взять в жены ту, которая наиболее того заслуживала. Дедушка, правда, пытался преодолеть сопротивление родни, но быстро отступил. Ему пригрозили лишить его наследства и родительского благословения, и он не нашел смелости бороться до конца. Дедушка, крайне благородный и достойный уважения человек, всегда был слабоволен, легко поддавался чужому влиянию. Никогда он не мог сказать решительно: «Я этого хочу!». Вскоре дедушку отправили за границу, чтобы дать ему все забыть… Что за издевка судьбы! В Париже он познакомился с Габриэлой де Бурбон, и моя прабабушка, близко знакомая с герцогами, договорилась с отцом Габриэлы о браке их детей. Измученная жизнью, герцогиня поддалась воле отца. Свадьба состоялась в Риме… и молодая пара всю свою оставшуюся жизнь жалела о своем поступке. Они жили очень несчастливо. Оба жили лишь собственной тоской. До самой смерти бабушка любила только память о человеке, который погиб из-за нее, а дедушка сохранил любовь к той девушке и жалел, что не смог дать ей счастья. В семейной жизни их не было ни покоя, ни гармонии. Злой рок окутал их черной тучей, и в тени этой тучи они прожили всю оставшуюся жизнь. Впрочем, бабушка прожила недолго. Печаль, неотвязные тягостные воспоминания подточили ее и без того хрупкое здоровье. Вскоре она захворала чахоткой, и совсем молодой умерла на берегу Средиземного моря. Тогда дедушка передал глембовический майорат моему отцу, а сам поселился в Слодковцах, куда несколькими годами позднее привез овдовевшую тетю Идалию с малюткой Люцией.
Вальдемар замолк. Внезапно выпрямился, провел ладонью по лбу и вздохнул:
— Быть может, теперь она где-то на другой планете обрела покой, которого была здесь лишена…
— Вы ее помните? — тихо спросила Стефа.
— Помню немножко. Она была моей крестной матерью. Мне о ней много рассказывала бабушка Подгорецкая, которая ее очень любила.
Он внимательно посмотрел на Стефу, на ее влажные глаза, и сказал удивительно мягко:
— Я вас расстроил, правда? Вы грустны…
Стефа подняла на него глаза:
— Мне жаль людей, которые так страшно мучились, столько пережили…
— О да! Стоит сожалеть о несбывшихся надеждах и величайшем богатстве на свете — чувствах…
— Значит вы понимаете? — спросила Стефа.
Он нахмурился:
— А вы в этом сомневаетесь?
— Я думала, что… что в вашем кругу любовь не ценят и не считают ее богатством…
— Однако дедушка Мачей и бабушка ценили и понимали любовь.
— И оба своими руками убили ее, — сказала Стефа.
— Ну, это совсем другое. Им не хватило сил бороться за свою любовь.
Стефа всматривалась в его мужественное лицо.
Словно очнувшись, он посмотрел на девушку и усмехнулся:
— Вы меня боитесь? Неужели я такой страшный? Конечно, я могу быть страшен, но только не для вас. Вы меня слегка задели, спросив, способен ли я понять глубину чувств; отвечу вам откровенно: нет, я не способен был… но начинаю понимать.
Стефа встала и быстро сказала:
— Спасибо вам, но мы слишком долго просидели в этом… таинственном зале.
— Тогда, быть может, рукопожатие в знак благодарности? — протянул он руку.
Стефа подала ему свою. Он крепко сжал ее ладонь, склонился и прижался к ней горячими губами. Стефа окаменела, кровь бросилась ей в лицо, в голове зашумело. Поцелуй обжег ее.
Вырвав руку, она пошла к двери, убегая из этого зала.
Вальдемар медленно шел следом.
XIX
Гости собрались на террасе. Игра в теннис не удалась, и все рассуждали, чем бы еще заняться. Стефа и Вальдемар появились в самую пору: их отсутствие уже привлекло внимание. На желтые розы в руках Стефы все взглянули чуточку подозрительно.
— Где вы были? — спросил Трестка. — Панна Стефания выглядит как цветущая лужайка.
Она засмеялась:
— Красивые розы, правда? Вальдемар сказал:
— Мне припомнилась сказка о зачарованном королевском дворе: вы все выглядите, словно уснувшие в сонном царстве.
— А вы вторгаетесь словно триумфатор на колеснице, — прищурилась панна Рита.
— И даже пленница есть, — подхватил Трестка.
— Ага! Значит, ваше молчание при виде нас — символ почестей для триумфатора?
— О нет! Так далеко мы не зашли… по крайней мере я не зашла, — нервно засмеялась Рита.
— Вальдемар иронически усмехнулся:
— Я вижу, теннис вас не развеселил…
— Вы все уже играли? — спросила Стефа.
— Я не играл. Можно начать снова, — сказал Вилюсь Шелига.
— И я хочу с вами сыграть, — подбежала к Стефе Люция.
Вальдемар сказал Стефе:
— Вы, помнится, говорили, что не играете в теннис.
— Да что вы?! Панна Стефания играет мастерски!
— Прекрасно, пани Стефания, я поймал вас на лжи!
— Быть может, панна Стефания не хотела играть с вами одним? — вмешался Шелига.
— Ни то, ни другое, — сказала Стефа. — Играть в теннис я научилась лишь в Слодковцах, и тогда, когда вы предлагали сыграть, я и ракетку держать не умела.
— Ну, значит, вы еще новичок в игре! — воскликнул Трестка.
— Возможно. Это Люция мне льстит.
Все согласились сыграть еще одну партию.
— Вы позволите сыграть с вами? — спросил Вальдемар.
Стефа склонила голову.
Вилюсь Шелига поморщился. Рита прикусила губы.
Игроки заняли места — Стефа в паре с Вальдемаром, и панна Рита с Вилюсем. Майорат и Рита были отличными игроками, Вилюсь — тоже не новичок, одна Стефа чувствовала себя не вполне уверенно. Трестка поддразнивал ее, говоря, что ее сейчас будут учить мастера, и громко принимал пари на победителя. Вскоре пари были заключены.
Но Стефа сама шутила над Тресткой, к тому же ее смешил Вилюсь в роли отвергнутого обожателя. Вальдемар и в самом деле объяснял ей нужные правила, ободряя ее, что сегодня она непременно выиграет. Платье мешало Стефе, и она, чуточку подоткнув его, подняла ракетку:
— Начинаем?
— Voque la galиre![38] — сказала пани Рита. И, бросив быстрый взгляд на стоявшего напротив нее майората, добавила: — Я должна выиграть!
Вальдемар молча поклонился. Выглядело это так, словно он принимал вызов.
Партия началась. Панна Рита играла разгоряченно и зло. Ее сердило спокойствие Вальдемара, ловко, холодно, почти механически отражавшего ее мячи. Казалось, он попросту пренебрегает ее ударами, но отражает все до единого и успевает при этом опекать Стефу, каждое ее движение. Вилюсь, не скрывавший злости, играл вспыльчиво. Но все главным образом следили за Стефой. Разгоряченная, веселая, она играла увлеченно. Движения ее были грациозными от природы.
Замечания Вальдемара в конце концов ей надоели:
— Не поправляйте меня! Я и сама умею играть.
— Вот благодарность за мои труды, — засмеялся майорат.
— Вот именно. Иначе, если я выиграю, все заслуги вы припишете себе.
— Вы уже выиграли. Теперь моя очередь.
— Господи, что за счеты? — сказала панна Рита. — Вот вам!
Она необычайно сильно послала мяч. Стефа вскрикнула, метнулась в ту сторону и в последний миг успела отбить мяч под ноги Вилюсю.
— Я спасла вас! — засмеялась она, чуть запыхавшись.
— Спасибо, — сказал Вальдемар. — С вами мы победим.
Панна Рита прикусила губу и окинула Стефу недружелюбным взглядом:
— Я уверена, что вы проиграете, еще не конец!
— Ждем новой атаки, — ответил майорат.
— Вы многим рискуете, Рита, — вмешался Трестка. — Против вас стоят могучие силы.
— Не мешайте! Qui ne risque rien, n'a rien![39]
— Mais qui risque trop, a ussi n'a rien![40] — ответил Трестка зло.
— О чем вы, господа? — спросил майорат.
— Ах вы, невинный младенец!
— Пан майорат, мяч, мяч! — вскрикнула Стефа. Вальдемар встрепенулся и отбил летевший в него мяч. Теперь Рита крикнула:
— Вилюсь, мяч!
Но было поздно: Стефа и Вальдемар выиграли. Майорат сказал:
— Браво, пани Стефания! Нас можно поздравить, мы торжествуем!
Трестка посмотрел на Риту:
— Говорил я вам? Любопытно идет игра!
— Вы мне надоели! Я обязательно выиграла бы. Это все из-за Вильгельма.
— Дорогая, ты зевала, а мне пришлось играть за двоих, — сказал задетый за живое студент.
— Ну да! — обиделась на него сестра. — Как будто ты не зевал!
Все направились в сторону долины роз, откуда открывался прекрасный вид на окрестности. Вход в долину замыкали железные ворота в готическом стиле в виде решетки, оплетенной розами.
— Великолепно! Сказка! — твердил изумленный барон Вейнер, не веря собственным глазам.
— А что это там за детские голоса? — спросила Стефа, когда они оказались возле ограждавшей долину решетки.
— Это приютские, — ответил Вальдемар.
Он отворил железную калитку, и Стефа застыла, пораженная. По всей долине, на зеленой мураве, среди цветущих клумб играло множество детей, от младенцев до двенадцати-четырнадцатилетних — девочки в розовых кретоновых платьицах, мальчики в темно-синих блузах. В отдалении стояло большое двухэтажное здание, белое с красной крышей, окруженное клумбами, с вывеской на фасаде. Красные буквы гласили: «Приют Святой Эльжбеты».
На газонах стояли столбы с гимнастическими лестницами и иные спортивные приспособления. У старших детей имелись тележки и даже маленькие живые ослики; малыши играли в песочницах. Стефа и остальные залюбовались этим зрелищем; внезапно дети встрепенулись, вскричали и со всех сторон бросились к решетке, протягивая ручонки:
— Пан майорат! Пан майорат!
Дети обступили майората со всех сторон. Старшие, учтиво поздоровавшись, удерживали малышей от чересчур бурных проявлений чувств.
— Пан добрый! Пан майорат!
— Тихо, детишки, тихо! — смеялся Вальдемар. — Не нужно так шуметь, поздоровайтесь лучше с дамами! Что у вас слышно?
— А у Антося ослик лазблыкался и телезку пелевелнул! — засмеялась маленькая девочка.
— А Марыся разорвала платьице Зоське…
— А Мишка Зеляк нос себе разбил…
— Как они вас любят! — сказал барон Вейнер.
— Это дети слуг? — спросила Чвилецкая.
— Дети слуг, несколько деревенских бедняков и очень много сирот, даже подкидышей. Они здесь живут, пока не придет пора идти в школу.
Вальдемар спросил детей:
— А где пани воспитательница?
— В доме. Учит старших.
— А Стефа Голомбкувна? Что-то я ее не вижу.
— Вот Стефка бежит! — ответило несколько голосов. Маленькая фигурка неслась, как пуля. Девочка с золотыми косичками с разбегу обхватила ноги майората и стала карабкаться, взывая:
— Пан добрый!
— Все засмеялись, кроме графини Чвилецкой и пани Идалии, лишь недоуменно пожавших плечами.
Вальдемар подхватил девочку на руки, подкинул вверх, потом поцеловал в лоб и передал Стефе:
— Вот ваша тезка и моя любимица. Лишь три весны у нее за плечами. У нас она всего пару месяцев, и мы очень любим друг дружку. Ну, иди к пани!
Девочка хмуро глянула на Стефу, не отпуская шеи майората, но тут же вытянула ручки:
— Пани красивая, пани добрая!
Стефа подхватила девочку на руки и расцеловала.
Подошли воспитательницы.
Вальдемар показал гостям приют и представил старшую воспитательницу, пожилую, интеллигентную женщину, которой все, по примеру княгини, тепло пожали руку.
Гости навестили школу и часовенку, а потом вернулись в парк. Вальдемар предложил прокатиться на лодке. Все охотно согласились. До обеда оставалось еще часа два, а погода была прекрасной. Все направились в сторону пристани.
Парк казался морем зелени, весь залитый солнечными лучами, полный таинственных теней. И люди, и природа были исполнены веселья и жизни. Все остановились на мраморных плитах пристани.
Пан Мачей, искавший что-то взглядом, вдруг быстро зашагал на другой конец пристани и остановился там перед пурпурной лодкой в форме венецианской гондолы с накладными серебряными буквами на борту: «Стефания».
Лицо у него вдруг дрогнуло, он шевельнул губами и тяжко вздохнул, глядя на сверкающие под солнцем серебряные буквы.
Тут и остальные увидели прекрасную лодку. Панна Рита спросила Трестку:
— Вы уже когда-нибудь видели эту гондолу? Графиня Паула прощебетала:
— Это и есть имя… comment donc[41], в которую влюблялся пан Мачей?
— Да, лодка была сделана для нее, но это было давно…
— А майорат велел ее подновить. Хорошая мысль! — сказал Трестка.
— Должно быть, он уважает Les vielles histoires[42] своего деда, — ответила графиня с иронической усмешкой.
— Или собственные…
Графиня пытливо взглянула на Трестку. Казалось, ему пришла на ум некая неожиданная догадка. Встретившись взглядом с панной Ритой, графиня недоуменно подняла брови:
— Неужели это возможно? Никто ей не ответил.
Вальдемар подошел к дедушке. Пан Мачей вопросительно глянул ему в глаза:
— Я мог бы тебя поблагодарить, Вальди, знай я…
— Что, дедушка?
— Что ты это сделал исключительно из уважения к прошлому, — быстро проговорил старик и отошел.
Лукавые огоньки зажглись в глазах Вальдемара, провожавшего дедушку взглядом.
— На какой лодке мы поплывем? — спросил князь Подгорецкий.
— Пан Михоровский, вам решать, сказала панна Рита.
— Все зависит от решения дам.
— Тогда — вон та, голубая.
Вальдемар кивнул гребцам в полосатых рубахах, и они, ударив веслами по спокойной воде, подвели лодку к каменным ступеням. Белая мачта чуть колыхнулась под ветерком, волны тихо плескались, колыша лодку; казалось, ее выгнутый нос кивает гостям.
Однако всем в лодке места не хватало; и майорат кивнул, чтобы подали пунцовую гондолу. Он сам усадил туда бабушку-княгиню и пана Мачея, спросил:
— Кто еще хочет сюда сесть?
— Я первая — сказала графиня Чвилецкая, гордо подняв голову. — Паула, vous aussi.[43]
— О, non, maman![44]Я предпочитаю голубой цвет! — засмеялась ее дочь.
— Ну, тогда я сяду, — сказала панна Михалина и боязливо опустилась в лодку.
— Вы ведь умеете грести, пан Трестка? — спросил Вальдемар.
— Не особенно, но могу рискнуть.
— Тогда вы тоже садитесь в голубую.
— А вы?
— Я поведу пурпурную.
— Гребец нам не нужен, я вам помогу, — сказала Стефа. — И быстро вскочила в голубую лодку, сев за весла. — Вы сядете за руль, а я буду грести — дороги я не знаю, а тут, кажется, есть какие-то повороты.
— Ну, нас можно поздравить, — сказала пани Рита. — Они нас потопят. Хорошенькая перспектива! Вилюсь, забери весла у этого пана, иначе мы попадем в катастрофу.
— Ничего подобного. Пани Стефания, тронулись! Стефа шевельнула веслами, лодка вздрогнула, и берег стал медленно отдаляться.
— Мы словно плывем по Большому каналу в Венеции. Посмотрите, разве майорат не похож на гондольера? — спросила графиня Паула.
Треска пожал плечами:
— Разве что потому, что стоит на корме?
— А уверенность движений, а изящество позы?
— А исполненные мечтательности глаза? — добавила панна Рита.
— Как вы можете это видеть, если сидите спиной? — возразил Трестка.
— Чувствую!
— Что это? — спросил Стефа. — Музыка? Все подняли головы и прислушались.
От берега долетали тихие звуки струн… и внезапно раздался гром оркестра, в котором гон задавала фанфара. Музыка плыла над лазурной гладью воды, эхом отражаясь от бортов голубой и пурпурной лодок.
Все улыбались, глаза весело блестели. Миг длилась тишина, потом одновременно раздались вопросы и восклицания.
— Новый сюрприз майората!
— Это глембовический оркестр?
— Да!
Разрумянившаяся Стефа налегла на весла. В глазах у нее зажглись веселые искорки.
— Я люблю музыку, но тонуть из-за нее? — кричал Трестка. — Пани Стефания что вы делаете? Мы перевернемся!
— Ничего, пан граф, я гребу в такт музыке.
— Лишь бы мы не перевернулись в такт! Это будет совсем не смешно.
Барон Вейнер удовлетворенно пригладил свои бачки соломенного цвета и учтиво сказал:
— Вы совершенно правильно изволили выразиться, графиня, что мы плывем, словно по Гранде Канале. Это прекрасно!
— Что они играют? — спросил Вилюсь.
— Да просто фанфары приветствуют нас.
— Раньше звучало приветствие. А теперь — что-то, напоминающее народные мотивы. Неплохо они играют, надо признать.
— О да! Глембовичи теперь трудно узнать, — сказала панна Рита. — Я говорю не только о замке — все поместье изменилось до неузнаваемости.
Стефа налегла на весла. Склоняясь над ними, она глубоко задумалась. Впечатления сегодняшнего дня, начиная с разговора в бричке, переполняли ее, вызывая смутное беспокойство. Она пыталась стереть из памяти сцену в портретной галерее, но не могла. Чувствовала, что это было чем-то большим, нежели обычный разговор, и что прежней свободы в отношениях с Вальдемаром не будет. Это пугало ее, она ощущала приближение чего-то совершенно нового. И потом, эта гондола…
Из обрывков разговоров и поведения майората она сделала вывод, что гондола была обновлена в ее честь. Стефа была благодарна за это Вальдемару, но радость ее портила боязнь, что подумают обо всем этом остальные? Оказываемое ей со стороны Вальдемара внимание не бросалось в глаза окружающим, но она это чувствовала. Вальдемар интересовал Стефу. Всесильный магнат в округе и веселый товарищ по развлечениям сейчас, он нравился ей, хоть и пугал чуточку своей неукротимой энергией и трагическими чертами своих предков. И все же он странным образом притягивал Стефу, она готова была довериться ему безгранично. В его обществе Стефа чувствовала себя гораздо свободнее, он был ее защитником, даже сообщником в противостоянии «высшим кругам».
Погруженная в свои мысли, она и не заметила, что все остальные тоже молчат. Слушая игру оркестра, они смотрели на серебристо-золотые воды реки, на пурпурную гондолу, тоже притихшую.
Музыка была веселой, но почему-то вызывала грусть, пробуждала непонятные желания, печаль…
Если бы правила хорошего тона не управляли столь непреклонно поведением этих людей, не один тихий вздох раздался бы над лазурными водами. Никто не явил на свет Божий своих мечтаний, даже панна Рита, считавшаяся весьма прямодушной.
Стефа старалась приноровиться к окружающим, хотя, быть может, именно она лучше других чувствовала красоту реки, музыки.
Они подплыли к берегу. Здешняя пристань, тоже выложенная каменными плитами, была украшена с обеих сторон лестницы двумя фигурами каменных кабанов с огромными клыками.
Прислуга высыпала им навстречу — молодые парни, как на подбор, одетые в темно-зеленые куртки. На перевязях из желтой кожи у них висели короткие шпаги, на поясах — револьверы в кобурах и охотничьи ножи в роговой оправе; воротники их курток были обшиты золотом — эмблемы изображали еловые ветви, а над кожаными козырьками их темно-зеленых шапок были вышиты кабаньи головы и оленьи рога. Справа на груди у каждого поблескивала отполированная бляха с гербом Михоровских.
Гости рассыпались по широким аллеям. По зеленым полянкам, подпрыгивая словно на пружинах, проносились белые серны; медленно, никого не боясь, проходили олени с раскидистыми рогами; пятнистые лани, укрывшись в тени, щипали траву. Временами поодаль раздавался тяжелый топот лося, треск веток и глухое фырканье выдавало присутствие где-то поблизости диких кабанов. Из высокой травы и кустов выскакивали зайцы; испуганные шумом человеческих голосов, серые куропатки взлетали вверх.
На одной полянке стояло несколько раскрашенных красными и голубыми кругами мишеней. Трестка и барон Вейнер тут же приступили к делу — один азартно, другой флегматично. Лесничий принес им ружья, и началась пальба. Барон уверял, что это ему напоминает стрельбу по голубям в Монте-Карло, только не такую забавную. Примеру их последовали и дамы. Первой трижды промазала графиня Паула. Потом стрелял Вилюсь Шелига — тоже не попал. Трестка и барон Вейнер тоже пробовали попасть в маленький красный кружочек, но безрезультатно. Трестка по своему обычаю повсюду выискивать изъяны кричал, будто цель слишком маленькая, а ружья плохие. Неудачи разгорячили всех. Подошел князь Подгорецкий с Чвилецким и тоже принялись палить в несчастную мишень так, что от нее щепки летели. Но красный кружочек оставался цел и невредим.
Наконец, панна Рита схватила ружьецо и принялась целиться, но Трестка злорадно шепнул:
— Вы метите в недосягаемую цель. Все напрасно. Не стоит и пробовать.
Она обернулась, удивленная:
— Что вы имеете в виду? Трестка откровенно сказал:
— Эту мишень столь же трудно добыть, как ее хозяина.
— Пан граф, довольно с меня ваших аллегорий!
— При чем здесь аллегории? По-моему, я ясно выразился.
— Даже слишком!
Окинув окружающих быстрым взглядом, Рита отдала ружье Стефе, улыбнулась насмешливо:
— Попробуйте разве что вы поразить эту недосягаемую цель.
В этот миг появился Вальдемар.
— Вы умеете стрелять? — удивился он.
— Умею, — сказала Стефа.
— Интересно!
Стефа, слышавшая разговор панны Риты и Трестки, спокойно взяла ружье и, отступив на несколько шагов, прицелилась в центр синего круга.
— Не так! — крикнул Трестка. — Вы совсем не туда целитесь!
— Я целюсь туда, куда мне хочется.
Раздался выстрел. Пытаясь что-нибудь разглядеть сквозь клубы дыма, Стефа спросила:
— Пан Трестка, я попала?
— Великолепно! Прямо в середину. Правда, большое голубое кольцо — это вам не тот вон маленький красный кружочек. Почему вы в него не стреляли? Мы все в него и целились.
— Не хотела, — кратко ответила она.
— Боялись оплошать? — многозначительно спросила Рита.
Стефа чуть покраснела:
— Ни о чем подобном я и не думала.
Украдкой наблюдавший за ними Вальдемар понял все.
— Ну, иду ва-банк! — заявила Рита.
Раздался второй выстрел.
— Наверняка попала! — сказала она.
Трестка осмотрел мишень:
— Ни следа! Я же говорил, не для вас эта мишень. Нужно было меня слушать.
Молодая панна сжала губы.
— Панна Стефания, вы обязаны рискнуть еще раз!
— Я вас заменю! — сказал Вальдемар. Прежде чем кто-нибудь успел возразить, он схватил ружье, приложился и выстрелил. Мишень разлетелась надвое и упала на землю. Маленький красный кружочек был пробит навылет.
Вальдемар обернулся к Стефе, сохраняя на лице полнейшее равнодушие, будто он и не понял потаенного смысла происходившего, и, слегка поклонившись, сказал:
— Я стрелял от вашего имени.
Стефа покрутила головой:
— Не хотела бы я стреляться с вами на дуэли.
— А я бы поступил наоборот! — сказал Трестка. — Когда мне надоест жизнь, вызову пана Вальдемара на дуэль. По крайней мере все будет быстро — бац! И — на ту сторону…
— Лучше держитесь этой стороны, так надежнее! — засмеялся Вальдемар.
Панна Рита молча удалилась в глубь леса.
Никому не хотелось возвращаться в замок, когда подошел час обеда. И майорат устроил очередной сюрприз. Когда гости, поддавшись уговорам Трестки отправиться ловить рыбу, пошли к реке, внезапно громко и мелодично запели трубы.
Все остановились в удивлении:
— Что это значит? Что за сигнал?
— Приглашение к обеду, — ответил Вальдемар, И подал руку княгине Подгорецкой.
В тени развесистых дубов, на поляне, все увидели накрытый к обеду длинный стол. Вокруг стояли высокие шесты с венками из дубовых листьев и знаменами с гербами Михоровских; такие же венки и вымпелы, подвешенные над поляной, образовали над столом подобие шатра; скатерть была расшита гербами и охотничьими сценами. Серебро, хрусталь, фарфор тоже были украшены охотничьей символикой. Кресла — из лосиных рогов. Корзины с фруктами стояли на подпорках из оленьих рогов. Вместо лакеев вокруг стола стояли ловчие, вооруженные револьверами и ножами. Ими распоряжался главный камердинер замка. Меж деревьев виднелся полотняный шатер, предназначенный для слуг и поваров.
— Вы сегодня увидите нечто похожее на знаменитые глембовические охоты, — сказал князь Подгорецкий барону. — У майората отменные угодья, счет зверям идет на тысячи. А какие чащобы!
Обед затянулся надолго. Идея Вальдемара оказалась всем по вкусу. Не только молодежь, но даже пани Идалия и графиня Чвилецкая выглядели веселее и естественнее, чем обычно. Вальдемар главенствовал в шутливом разговоре. Трестка кричал громче всех. При каждом тосте ловчие громко играли в фанфары. В перерывах меж тостами играл оркестр, и эхо веселых разговоров доносилось до реки.
Сначала Стефа держалась чуть напряженно: практиканты Вальдемара напомнили ей Пронтницкого. Но занимавший ее разговором Вилюсь Шелига быстро развеял ее грусть. Стефа удовлетворенно отметила, что Вальдемар держится с ними совершенно свободно и весело, не делая разницы меж ними и Вилюсем с Тресткой, а они, в свою очередь, обращались к нему почтительно, но без тени подобострастия. Однако Стефа подметила и кое-что другое, удивившее и разгневавшее ее. Она видела, что стала центром внимания всех без исключения слуг. Все, начиная от камердинера и главного ловчего, украдкой приглядывались к ней, выражая свое уважение, а когда Вальдемар провозгласил тост за ее здоровье, фанфары прозвучали особенно громко. Практиканты поглядывали на нее без назойливости, как хорошо воспитанные люди, но изредка переводя взгляды с нее на майората. Стефу это беспокоило, она чувствовала себя уже не так свободно.
Вскоре все объяснилось.
Вальдемар, разливая вино, приблизился к ней. Она отодвинула бокал:
— Спасибо, мне достаточно.
Склонившись над ней, он улыбнулся:
— Я как раз собирался провозгласить тост в честь молодости и счастья, воплощением которых являетесь вы. Такого тоста пропускать никак нельзя.
— Это хорошо, но я не хочу быть воплощением пьянства, — ответила она сухо.
— Ну, от этого вы надежно защищены, — сказал он порывисто и отошел, слегка нахмурившись.
Сидевший рядом Вилюсь Шелига спросил с любопытством:
— А вы знаете, за кого вас здесь некоторые принимают?
— За кого? — удивилась Стефа.
— За графиню Барскую, предполагаемую невесту майората.
— Да-а?
Стефа застыла. Ей вспомнилось, как назвал ее молодой графиней камердинер в замке. Теперь ей стало понятно странное поведение слуг…
Жар ударил в голову. Она повторяла про себя: «Графиня Барская… невеста майората. Никогда о ней не слышала. Какая она? Как выглядит?»
— Почему вы сказали «предполагаемая»? — спросила она громко.
— Потому что это так и есть, — пожал плечами студент. — Майората хотят женить на ней, но он не спешит, хоть эта одна из лучших в стране партий. Предполагаемая невеста жаждет стать ею, но сомневаюсь, что дождется — майорат капризничает…
— А почему меня принимают за нее? Разве я на нее похожа?
— Никто в Глембовичах ее не видел — я, кстати, тоже, но слуги наверняка что-то прослышали об этих матримониальных проектах и решили, что вы и есть избранница майората. Они вас никогда не видели, и вот…
Он поколебался.
— И что? — смело подхватила Стефа. Вилюсь искоса взглянул на нее:
— Да ничего. Попросту видят в вас свою будущую хозяйку.
Стефа нахмурилась, чувствуя, что Вилюсь не сказал ей всего, и сухо сказала:
— Что ж, придется их разочаровать.
Она пыталась казаться веселой, но все ее хорошее настроение моментально улетучилось. Она болтала, шутила, но внутренне была вся напряжена. Будь Вилюсь внимательнее, он заметил бы, какую перемену вызвали в ней его слова. Но он не заметил. Развлекал Стефу за обедом и занимал потом, когда на закате гости плыли на лодках назад в замок.
За прекрасным ужином вновь поднимались тосты и звучали фанфары.
Часы на башне отзвонили полночь, когда экипажи вновь выехали в еловую аллею. Ехали в том же порядке, что и утром, — майорат сопровождал гостей в Слодковцы, где они должны были ночевать. Только Люцию пани Эльзоновская забрала к себе. Ее место в бричке заняла панна Михалина.
Графиня Паула тихо разговаривала с бароном. Панна Рита дразнила Трестку. Стефа вновь сидела рядом с Вальдемаром — он так решительно подал ей руку и усадил на козлы, что она не стала протестовать, опасаясь привлечь всеобщее внимание.
Когда бричка въехала в аллею, ряды черных сосен зашевелились и глухо зашумели, ночной ветер посвистывал в кронах, словно пугливо жалуясь кому-то. Вальдемар склонился к Стефе.
— Мои ели прощаются с вами, — сказал он мягко, но с неким натиском.
— Они так грозно шумят, — шепнула Стефа.
— Это мои друзья, значит, и ваши тоже. Они говорят с нами, и я их понимаю. Вам понравились Глембовичи?
— Здесь великолепно!
— Они твои! — тихонечко прошептал Вальдемар, не владея собой.
Грохот копыт по каменным плитам заглушил его слова и вывел из задумчивости Стефу, чье сердце замерло на миг.
Бричка с оживленно болтавшими гостями ехала меж посеребренных лунным светом полей.
XX
После приема в Глембовичах Вальдемар отвез своих гостей в Слодковцы и сам остался там ночевать. Утром в нем ожили тысячи вопросов и сомнений; не в силах отыскать на них ответа, он распрощался и отбыл. Он был зол на себя, на свое поведение со Стефой. Сцена в портретной галерее и его слова в бричке вставали перед ним живым укором. Он чуточку боялся новой встречи со Стефой, думая, что после всего услышанного от него она встретит его либо насупившись, либо с триумфальной усмешкой, обычной у женщин в таких ситуациях. Не хотел сердить ее, но еще больше боялся этой усмешки, быть может, предчувствуя, что образ Стефы тогда померк бы в его душе. А этого он инстинктивно пытался не допустить. В бричке после им произнесенных значительным тоном слов она сидела тихая, угнетенная, говорила мало и с усилием, да и то обращаясь не к нему, потому что сам он сидел после этого молча.
К счастью, панна Рита разговорилась и, вовлекая всех в беседу, отвлекла общее внимание от него и Стефы.
Вальдемар, проведя ночь без сна, пришел к такому выводу:
— Вчера она все взвесила, сегодня прочувствовала до конца и даст мне это понять.
При этой мысли он зло стиснул зубы:
— Что ж, пусть попробует.
Он почувствовал, что этим подозрением унижает Стефу, он продолжал нападать на нее в воображаемом разговоре с ней.
Он холодно попрощался со Стефой, без тени дружеского расположения, и, видя ее удивленный взгляд, тем не менее оставался затуманенным до самого отъезда. Он спешил уехать, хотя чувствовал, что ошибался, плохо думая о ней, и виноват перед девушкой.
Стефа ничего ему не сказала, он не заметил у нее ни триумфа, ни гнева, лишь удивление его холодности. Это подействовало на него сильнее, чем он мог ожидать:
— В чем она виновата, что я поступаю с ней как с первой встречной? — повторял он себе, возвращаясь в Глембовичи.
И вновь резко осуждал себя, свое поведение.
Вспоминал вчерашнее утро, как ехал с ней рядом на козлах, вспоминал ее слова, ее смех. Вновь видел ее перед собой, сравнивая сегодняшнюю со вчерашней, и огорчался все больше.
Погода удивительно гармонировала с его черными мыслями. Ни следа вчерашнего ясного утра. Небо было серым, облака набухали дождем, сеявшимся на землю влажной пылью. Весь мир окутан был некой меланхоличной, понурой тишиной. Деревья, шумевшие вчера, сегодня умолкли, замкнувшись в себе; поля, вчера веселые и светлые, стояли безмолвно под серой влажностью дня. Временами на придорожных тополях кричали птицы, но они умолкали, заслышав стук копыт. Резиновые шины катились почти беззвучно, но Вальдемара сердил даже топот копыт. Забившись в угол экипажа, он размышлял:
— Что она могла обо мне подумать, кроме того, что я был пьян? Я ведь изрядно выпил шампанского. Ба! А сцена перед портретом? Розы можно объяснить вниманием, проявленным хозяином к гостье, хотя это уже попытка оправдаться… а кое-какие вырвавшиеся у меня слова и то, что я поцеловал ей руку? Хуже всего — ночью, в бричке… С такой девушкой нужно считаться, слишком легко уронить себя в ее глазах. Она меня готова подозревать в намерениях, достойных Пронтницкого… Черт побери, что я наделал!
Душевный разлад с самим собой не утихал.
В Глембовичах пришло некоторое успокоение.
Он прохаживался по парку, у пристани, где уже исчезли все следы вчерашнего пира.
И ни на минуту не мог забыть о Стефе.
Вот здесь он играл в паре с ней в теннис. «Как грациозно она подоткнула платье!» Вот здесь разговаривал, на этой аллее рвал для нее розы, здесь видел издалека, как погружала она лицо в бархатистые лепестки цветов. Потом — прогулка по реке. Стефа рассердила его, прыгнув в другую лодку, к Трестке. А стрельба по мишени? Этот простреленный им красный кружочек… Он пошел в ту сторону и пожалел, что разломанную мишень уже убрали, оставив только мокрый от дождя столик. Дольше всего он пробыл в портретной галерее. Сидел на канапе и, всматриваясь в бабушкин портрет, размышлял:
— Зачем я рассказал ей эту историю? Забиваю себе голову романтизмом — к чему? Идиллии, мечты — что за ерунда! Существует лишь жажда обладания, единственная истина из всех глупостей, какие нагромоздили и окрестили «любовью»! Вот в жажду обладания я верю, лишь она влечет меня к ней, ничего больше.
Он заметил на полу несколько желтых лепестков, оставшихся от вчерашнего букета Стефы. Благоговейно поднял их и припомнил вдруг, как Стефа испугалась его голоса и хотела убежать, а он ее не отпустил. Взял тогда ее руку, держал в своих ладонях, привлек девушку к себе. Она испуганно смотрела на него, смирясь помимо воли, глаза ее были полузакрыты, и это выглядело так пленительно… Это длилось короткий миг, но оно было!
Вальдемар смял лепестки в ладони.
Несколько дней потом не мог успокоиться, но единственным заключением, к которому он пришел, было: если для него жажда обладания и есть то, что именуется любовью, то Стефа все понимает иначе. Значит, он пробуждает в ней другие чувства? Более духовные? Быть может, она оживает, Пронтницкий разбудил ее…
Вспомнив это имя, Вальдемар стиснул зубы. Он знал, что Стефа не любила Пронтницкого, и, даже мысленно соединив их имена, почувствовал омерзение; знал, что сам он будит в Стефе чувства, которые гораздо сильнее просто симпатии, но не понимал, отчего гордится этим.
Множество раз в подобных ситуациях он не чувствовал ничего, кроме триумфа, но теперь впервые ощущал и некую внутреннюю удовлетворенность — и удивлялся тому.
Отчего эта девушка совершенно не похожа на тех, каких он знал прежде? Почему становится дорога ему? Желанна? Что за сила влечет его к ней? К той, которую он лишь пару месяцев назад преследовал циничными шутками, дразнил?
Она произвела на него впечатление при первой же встрече, когда ехала со станции в ландо, рядом с теткой. Он пересел к ним в экипаж и стал изучать девушку. Но тут же заметил, что она все поняла и рассердилась.
И удивился.
Молодая красивая панна гневается, ловя на себе настойчивый взгляд молодого мужчины?! Это что-то новенькое!
Жизнь приучила его к другому. Женщины чересчур баловали его своим вниманием, и какие женщины! А эта дочка обыкновенного шляхтича принимала его комплименты с неохотой и даже оскорблялась. Правда, взгляд его, устремленный на девушку, был исполнен иронии и недоброжелательства.
Стефа с первой минуты увлекла его, интересовала все больше. И, ведомый некой непонятной злостью, он мстил ей за это, идя наперекор своим же побуждениям. Но потом что-то стало меняться. На том запомнившемся обеде, когда Стефа убрала руку, Вальдемар задумался:
— Зачем я ее мучаю?
Он нарочно долго не приезжал в Слодковцы, чтобы выкинуть ее из памяти. Хотел забыть ее лицо, охваченное грустью, виновником которой был он сам. Это он сделал ее лицо таким, он не давал покоя столь нежной и впечатлительной девушке, он издевался над ней, словно бы злясь за то, что она нравится ему. Потом он приехал в Слодковцы с большой компанией гостей — и прежние чувства ожили в нем. Проходя мимо ее окна, он бросил на нее игривый взгляд, увидел ее. При виде его она отшатнулась вдруг и побледнела. Смутное сожаление пробудилось в нем:
— Да она меня попросту боится…
А потом он увидел ее веселой. Она так весело и непринужденно кружилась в танце с Люцией, ее улыбка была так прелестна! Значит, лишь при нем она становится печальной? Значит, он нагоняет на нее тоску?
С тех пор не упускал случая сделать ей приятное. И вскоре с радостью заметил, что и Стефа начинает меняться. Она повеселела, с удовольствием беседовала с. ним, не избегала, чувствовала себя в его обществе совершенно свободно. Видя такие перемены, Вальдемар поначалу радовался, но вскоре его стало охватывать беспокойство:
— Слишком много я о ней думаю!
После ее приезда в Глембовичи Вальдемар понял, что зашел слишком далеко. Отступать он уже не мог, собственная гордость не давала, но и идти дальше не хотел. Тактичность Стефы и радовала, и удручала его:
— Она уверена, что я был пьян и потому из деликатности ведет себя так, словно ничего и не случилось!
И это его несказанно злило.
Так прошло несколько дней. В Слодковцы он не ездил, но мысли его упорно возвращались к Стефе. И вот однажды в Глембовичи на ежемесячный мужской журфикс[45] съехались знакомые Вальдемара. Они с удовольствием навещали его, всех привлекала веселая свобода, царившая в замке магната, атмосфера княжеской роскоши, прекрасная кухня — все это было к услугам гостей.
На сей раз всех привлекла сюда свежая новость, огромный интерес в великосветских кругах: графиня Барская отказала просившему ее руки князю Лигницкому.
Это произвело фурор. Многие графини и княгини увидели, что для них открывается великолепная перспектива — князь остается свободным. Множество отвергнутых ранее воздыхателей графини Барской вновь собирались начинать осаду. Но прежде всего хотелось узнать, что обо всем этом думает Михоровский.
Все знали, что он и есть косвенный виновник отказа графини.
Барские очень рассчитывали на майората как на жениха, видя в нем лучшую партию. Молодая графиня, деликатно обходя вниманием столь неделикатные материи, была в него влюблена. И никто не смел начать кампанию за ее руку, не узнав прежде мнения майората на сей счет, разумеется, не напрямую. Каждый из возможных претендентов на руку графини, едучи в Глембовичи, сохранял деланное равнодушие.
Майорат принял известие равнодушно: он и сам уже все знал. О случившемся он говорил как о чем-то, не имевшем для него ровным счетом никакого значения. И постарался побыстрее перевести разговор на другие предметы. Это вызвало всеобщее недоумение и беспокойство. Трестка, которого все это несказанно забавляло, сказал одному из гостей:
— Майорат наверняка заранее знал, что сватовство князя окажется неудачным…
Он врал напропалую, и это доставляло ему большое удовольствие.
Всех удивило странное поведение майората, явно нервничавшего, никто не знал, как это понимать.
Один лишь Трестка, вспоминая Стефу, догадался об истинной причине странного поведения Вальдемара…
Услышав, что Вальдемар приглашает всех на осеннюю охоту, граф сорвался с шезлонга:
— А в Слодковцах тоже будут охотиться? — спросил он, поправляя пенсне.
— Конечно. А вас интересует именно Слодковцы? — спросил Вальдемар.
Некоторые гости фыркнули:
— Ну еще бы! Граф мечтает гоняться за дикими кабанами непременно на глазах у Шелижанской!
Вальдемар пожал плечами:
— Вы ее встретите и в Глембовичах. А до того, быть может, произойдут и перемены, и вы приобретете на нее больше прав.
— Каким это образом?
— Ставши ее женихом.
Трестка посмотрел удивленно и не сразу ответил:
— Сомневаюсь, что так будет…
Молодой граф Брохвич, коллега Вальдемара по Галле и его близкий друг, усмехнулся и шутливо сказал:
— Скоро состоится конская выставка. Насколько я знаю, панна Рита выведет фольблютов… Смотри, чтобы твои першероны не победили их, иначе…
— Иначе он ее и на ста лошадях не догонит, — добавил Вальдемар.
Все расхохотались. Брохвич продолжал:
— Вот именно. Тогда смело можешь сказать: все кончено! А посему и не старайся добиться золотой медали, достаточно будет и похвальной грамоты.
— Я своих першеронов вообще выставлять не буду.
— Весьма разумно!
Барон Вейнер пригладил свои бачки:
— Кстати о выставке. Пан майорат, а вы будете выставлять своих лошадей?
— Дня через два я как раз поеду по этому делу. Выставлю десять породистых кобыл.
— «Муз»?
— О нет! Но они будут той же масти и породы. Четверок я разъединять не стану. Будет и Аполлон.
— Как украшение?
— Или декорация, которая заставит панну Риту расхвораться, — подхватил Брохвич.
Молодой Жнин сказал:
— Я слышал, что и баронесса Эльзоновская выберется на выставку с вашим дедушкой и панной Люцией.
— Да, они все поедут.
— Ага! Значит, и панна Рудецкая будет! — сказал Брохвич. — Вилюсь Шелига мне о ней так восторженно рассказывал. Она меня ужасно заинтересовала. Она правда такая красивая?
Трестка искоса глянул на майората, ответил серьезно:
— Очень красивая и весьма неприступная.
— Ну, последнее — это большое достоинство.
— А по-моему, изъян, — отозвался Жнин.
— Неприступность — изъян у замужних, а не у девиц.
— Брохвич, ты не пьян?
— Ничуть!
— Да ты же говоришь неслыханные вещи! Трестка встряхнул головой:
— Вот именно. Сегодня она не к лицу как замужним, так и девицам.
— Ты так говоришь после всех своих поражений. Брохвич прервал их:
— Господа, оставим Трестке судить о Рите. Поговорим лучше о панне Рудецкой, кстати, как ее зовут? Кажется, Стефания?
— Да, очаровательная Стефа!
— Больше всего нам о ней сможет рассказать майорат, как частый гость в Слодковцах… Вальди, какого рода добродетелью обладает панна Стефа? Очень бы хотелось знать. Да что с тобой?
Вальдемар был бледен. Обратив на Брохвича стальной холодный взгляд, он кратко ответил:
— О панне Стефании Рудецкой не следует говорить в таком тоне.
Это прозвучало как откровенное предостережение. Наступило молчание, чуточку неловкое.
Брохвич покраснел и потупился. Трестка порывисто сорвал с носа пенсне, потом очень старательно стал надевать его назад. Выражение его лица гласило: «Я шел по следу… и вот я настиг!».
Вейнер, поглаживая бакенбарды, смотрел на Вальдемара понимающе и уважительно, потом тихо шепнул:
— Джентльмен!
Остальные удивленно переглядывались.
Вальдемар молчал, дымя сигаретой, чтобы дать им время все обдумать.
Первым отозвался Брохвич:
— Прости, Вальди. Признаюсь, мы совершили бестактность, но нас можно понять — никто из нас, кроме Трестки и барона, не знаком с панной Рудецкой.
Его искреннее раскаяние тронуло Вальдемара, и он сказал с улыбкой:
— Я всего лишь хотел дать понять, что следует выбирать слова, говоря о незнакомых людях, в особенности о молодых девушках.
Однако тут же в голове Вальдемара промелькнула горькая мысль: «И я еще морализирую! Как будто я сам так уж почтительно выражался о незнакомых мне паннах!»
И он поторопился поддержать разговор.
Вновь воцарилось прежнее веселье.
К концу вечера князь Занецкий вновь коснулся несостоявшегося замужества графини Барской. Он был здесь самым заинтересованным лицом, а поведение Вальдемара внушало ему некоторые надежды. Решив убедиться окончательно, он с деланным безразличием спросил:
— Господа, вы не знаете, Барские будут на выставке или поедут за границу?
— Будут, — ответил кто-то.
А Вальдемар сказал:
— Один только Лигницкий отправился в Рим — якобы отслужить заупокойную по несбывшимся надеждам, а на самом деле — поискать новую партию. А Барская на выставке обязательно будет. Так что готовьте копья, господа, дабы преломить их на турнире в борьбе за ее перстень, — добавил он, не скрывая иронии.
Все посмотрели на него. На миг стало тихо. Вальдемар удивленно глянул на них:
— Что вы на меня так уставились?
Трестка бухнул:
— Они уверены, что на этом турнире их ожидает нешуточное препятствие.
— Это какое же?
— Препятствие в вашем лице. Считается, что победу добудет исключительно ваше копье.
Вальдемар пожал плечами, пустил клуб дыма к потолку и равнодушно сказал:
— В таком случае, господа мои, вы plus royaliste que le roi.[46]Подозреваете меня в намерениях, каких у меня нет.
Слова эти произвели большое впечатление. Князю Занецкому ужасно хотелось поблагодарить Вальдемара, но он справился со своими чувствами.
— Но ты, Вальдемар обязан научить меня, как добывают лавры у прекрасных дам, потому что я, сказать по правде, понятия о том не имею, — сказал Брохвич.
— Спроси Трестку. Он вот уже три года ведет кампанию. Я сам в таких делах разбираюсь плохо.
Брохвич комичным жестом заломил руки:
— Вы слышали? Он не разбирается! Трестка сказал:
— Ну, вы отправляете Брохвича не по адресу. Я веду кампанию три года, все верно, но без всяких результатов…
— Слушай, Юрек, к чему тебе советы? — спросил Вальдемар. — Положись на себя, и дойдешь до финала… а то и до эпилога.
— Ох, где мне найти отваги… Вальдемар поднял брови:
— Ну, если ты в таком настроении собрался в бой, то лучше уж сразу закажи место в спальном вагоне и отправляйся в Рим следом за Лигницким…
Брохвич поклонился:
— Если я и поеду в Рим, то исключительно в свадебное путешествие!
— Ты великолепен! — усмехнулся Вальдемар. — Шампанского!
Вино полилось рекой, тосты следовали один за другим, звенели бокалы, и вскоре зазвучал полный жизни, молодости и веселья «Гаудеамус».
XXI
Наступило первое сентября. Солнце заливало поля, небесная лазурь была чистейшей, но краски ее уже чуточку поблекли в предчувствии осени.
Гнедая четверка из Слодковиц ехала посреди полей, запряженная в изящное ландо. Пани Эльзоновская, Стефа и Люция ехали в костел.
По обеим сторонам дороги шагали на воскресную мессу толпы крестьян в красочных нарядах, радовавшихся успешному завершению жатвы. Пани Идалия была в самом хорошем расположении духа, под стать погоде. Она весело разговаривала с сидящей рядом Стефой, поглядывая на нее с истинным расположением. Стефа же выглядела великолепно. Серо-голубая шелковая мантилья окутывала ее мягкими складками, оттеняя белизну ее кожи. Она живо беседовала со спутницами, однако в ее блестящих глазах внимательный наблюдатель мог бы заметить печаль; на лице ее появилось прежде не свойственное ей выражение. Порой ее густые темные брови нетерпеливо хмурились, словно некая мысль неотвязно сопровождала ее. Но этот душевный непокой лишь прибавлял ей прелести.
В костеле собралось много окрестной интеллигенции, с людьми этого круга в Слодковцах не поддерживали близких отношений. Вежливо кланяясь пани Идалии и Люции, все смотрели на них с тем невольным почтением, какое внушают древность рода и высокое общественное положение. Иным достаточно было и того, что на упряжи прекрасных лошадей сияли княжеские шапки, что эти дамы обитают не где-нибудь, а в замке.
Молодежь смотрела главным образом на Стефу, обмениваясь разнообразными замечаниями. Мужчин волновала ее красота, все они признавали, что Стефа держится с большим благородством. Дамы, однако, тихонько злословили на ее счет; все знали, что она — дочка зажиточного жителя Царства. Об этом рассказывал Вилюсь Шелига, со многими здесь знакомый и бывавший у них частенько. По его недомолвкам многие поняли, что студент был влюблен в панну Рудецкую, что вызывало к ней еще больший интерес. Перед началом мессы произошло движение перед ризницей, и вошел Вальдемар.
Все взгляды обратились от Стефы к нему. В этом костеле он был редким гостем. Пани Идалия, завидев его, удивленно подняла брови. Стефа залилась румянцем. С того утра, когда он обошелся с ней так холодно, девушка не видела его. Прошел месяц с тех пор, как он появлялся последний раз. Теперь он внезапно объявился в костеле, где прежде почти не бывал. Быть может, знал, что встретит здесь, ее?
Вальдемар прошел к почетным скамьям, поздоровался с дамами и занял место рядом со Стефой.
Пани Идалия, полуобернувшись, спросила шепотом:
— Вальди, ты едешь прямо из Глембовичей?
— Нет, я заезжал в Слодковцы.
— Значит, ты знал, что мы здесь?
— Конечно.
— Ты хорошо сделал, Вальди, что приехал! — шепотом сказала Люция.
Вальдемар выпрямился и склонял голову в ответ на многочисленные поклоны окружающих, Стефе он не сказал ни слова; лишь временами украдкой бросал взгляд на ее склоненный над молитвенником чистый профиль. При мысли, что он сидит с ней рядом, Вальдемара охватила необычайная радость. Он следил за каждым ее движением, не гладя на нее, он знал, как она одета.
Все в ней было исполнено для него неизъяснимой прелести. После долгой разлуки она показалась ему еще прекраснее и желаннее.
А Стефа лишь теперь поняла, что не смогла о нем забыть, как ни пыталась, что эта смутная, непонятная ей тоска была тоской по Вальдемару.
Осознание это причиняло ей боль и странное блаженство.
Слова молитвы мешались в ее сознании с ее собственными, она могла думать лишь о том, что он сидит рядом, что после месяца разлуки они вновь оказались так близко друг от друга. Украдкой она взглянула на его руку, увидела рукав легкого пальто и белоснежную полоску манжеты. Когда он клал деньги на блюдо для пожертвований, на его пальце сверкнул огромный бриллиант. Стефа решила сначала, что это обручальное кольцо, и ей пришлось напрячь память, чтобы вспомнить, что этот перстень она видела у него и раньше. Она слышала, что графиня Барская отказала Лигницкому, и вскоре после этого Вальдемар куда-то уехал из Глембовичей. В Слодковцах много говорили о его отъезде, связывая это с графиней. Пани Идалия твердила, что обручение неминуемо. Пан Мачей сомневался, но не перечил. Только панна Рита смеялась над этими слухами, а Трестка в голос твердил, что графине Барской ничуть не грозит «майоратская опасность». Оба они имели информацию из первых рук…
Люция тихонько потянула Стефу за рукав:
Что они все так на нас таращатся? Мы что, туземцы какие-нибудь?
Стефа подняла глаза. Все смотрели то на Вальдемара, то на нее.
«Что за бесцеремонность!» — с неудовольствием подумала она.
Люция взялась теперь за Вальдемара:
— Вальди, ты мешаешь молиться!
— Кому? Тебе?
— Нет, вон тем господам. Вальдемар ничего не ответил.
Он заметил, что привлекает всеобщее внимание, но давно уже к этому привык; другое занимало его мысли. Глядя на молящуюся Стефу, он думал: «Молится она или думает о чем-то другом?».
Он был уверен, что девушка радуется про себя его появлению и тешился этой мыслью, не желая себя разочаровать.
Однако Стефа, очнувшись от первого потрясения, полностью отдалась молитве. Никогда еще она не молилась с таким жаром. В душе ее звучали радостные сонеты, покой охватил ее, новые, неизвестные доселе чувства рождались в душе. Вознеся Богу благодарность за эти минуты, она жаждала испытывать их вечно. Вальдемар сидел рядом, временами касался ее руки, она чувствовала на себе его взгляд и была счастлива. Ее внутренний покой отражался на лице. Вальдемар смотрел на нее с неизвестной ему доселе нежностью. Угадывал, что она счастлива, что молитвы ее идут от души и побуждаемы к тому счастьем.
«Когда она молится, она словно ангел», — думал Вальдемар.
Тоска его прошла, циник и философ уступил место идеалисту. Эта девушка медленно, но верно завоевывала его душу, пробуждала желание.
Оба сидели молча, но проникали в мысли и чувства друг друга безошибочно.
Когда ксендз отошел от алтаря, пани Идалия встала первой.
У выхода из костела вокруг них образовалась толпа. Пани Идалия благожелательно раскланивалась с подошедшими ее поприветствовать. Вальдемар здоровался с дамами. Его окружали пожилые и молодые мужчины. Каждый стремился перекинуться с ним хотя бы парой слов.
Пани Эльзоновская поинтересовалась у нескольких дам, отчего они так редко бывают в Слодковцах.
Стефа удивленно поглядывала на нее: давно уже она не видела баронессу в столь прекрасном расположении. Несколько молодых дам, смущенных появлением Вальдемара, приблизились к Стефе и Люции. Посыпались многочисленные вопросы. Ответы на них были лаконичными. По знаку Вальдемара подъехало ландо из Слодковиц и глембовическая «американка», запряженная четырьмя «музами».
Вальдемар уселся на переднем сиденье рядом с Люцией. Еще несколько поклонов — и экипажи тронулись.
Люция, воспользовавшись тем, что мать занята разговорами с Вальдемаром, сказала Стефе по-французски:
— Ну, наконец, уехали! Я всех этих людей как-то инстинктивно боюсь…
— Теперь я спрошу то, о чем ты спрашивала в костеле: разве они какие-нибудь туземцы? — с бледной улыбкой сказала Стефа.
— Конечно, нет, но они какие-то другие, это люди не нашего круга…
— Люция, тебе рано выносить такие суждения! — резко сказал Вальдемар.
Люция смешалась, испуганно взглянула на мать, понурила голову и прошептала:
— Прости…
Пани Идалия нетерпеливо вмешалась:
— Вальди, ты долго гостил у Барских в Ожельске?
— Я там вообще не был.
Пани Идалия сделала большие глаза, на лице ее изобразилось несказанное удивление:
— Не был у Барских? Где же ты так долго ездил?
— Господи, ну с чего вы решили, что я уехал в Ожельск? Я состою в организационном комитете выставки, и по этим делам мне и пришлось поехать в В.
— Значит, ты не знаешь, что произошло у Барских? Вальдемар довольно усмехнулся:
— Ну отчего же. Все знаю, от начала и до конца.
— До какого конца?
— Ну, разумеется, до корзины, которую князю вынесли.[47]
— И что ты на это скажешь?
— А что я могу сказать? Разве что пожелать графине Мелании новой победы и нового нареченного.
— И кто же им будет?
— О, я не настолько информирован! На старте встали легионы обожателей, но пальма первенства… наверняка графиня и сама не знает, кому ее вручит, что уж спрашивать меня, — откровенно веселился Вальдемар.
Пани Идалия взорвалась:
— И она, и мы все, и ты, в первую очередь, прекрасно знаем, у кого наибольшие шансы победить.
— Увы, я так недогадлив…
— Вальди, ты меня выводишь из себя! Все зависит только от тебя!
— Но я не собираюсь бороться за ее руку, — ответил он, подчеркивая каждое слово, явно начиная выходить из себя.
— Почему?
— Извините, тетушка, но это исключительно мое дело.
Пани Идалия нахмурилась, как туча. Тут вмешалась Люция:
— А я очень рада. Я Меланию Барскую терпеть не могу!
— Люция, soyez tranquille![48]-вознегодовала пани Идалия.
Бедной Люции сегодня положительно не везло, упреки на нее так и сыпались.
Вальдемар перевел разговор на другую тему — заговорил о будущей выставке, сравнил ее с заграничными, высказывая удивительно меткие и оригинальные суждения. Постепенно он весьма искусно втянул в разговор и Стефу, так что в конце концов беседовали только они двое. Люция сидела, насупившись, пани Идалия угрюмо безмолвствовала. Так они доехали до Слодковиц.
Пани Идалия в крайнем расстройстве чувств появилась в кабинете пана Мачея:
— Папа, вы говорили с Вальдемаром? Вы знаете? Старик удивленно посмотрел на нее:
— Он сюда заезжал буквально на минуту, узнал, что вы поехали в костел, и помчался следом, даже лошадей не сменил…
— Значит, вы ничего не знаете?
— Да что случилось, во имя Божье?
— Ох! Ничего страшного, не пугайтесь. Ничего с нашим баловнем не стряслось. Вы себе только представьте: он вообще не ездил в Ожельск! И преспокойно заявляет мне, что он, изволите ли видеть, вовсе не думает о графине! N'est-il pas fou?[49]
Пан Мачей усмехнулся:
— Идалька, к чему так нервничать? Я тебе давно говорил, что ничего у них с Барской не выйдет.
— Но почему? Где он еще найдет такую партию? Имя? Приданое?
— Нет уж, извини! Уж кто-то, а Вальдемар может позволить себе выбрать жену, не оглядываясь на приданое и партию! А что до имен — их у нас у самих хватает!
— Но что он имеет против Мелании? Красавица, образование получила за границей, une fil le trиs gentille![50]
— Должно быть, он смотрит куда-нибудь в другую сторону. Я не сомневаюсь, что она обладает множеством достоинств… но она не в его вкусе.
— Папа, вы должны на него повлиять!
— О нет, от меня этого не жди! Благодаря таким вот идеям мы с твоей матерью были несчастны всю жизнь. Нет уж, пусть никто не повторяет наших ошибок!
— Вздор! — фыркнула пани Идалия. — На что это только похоже! Мелания ради него отвергла великолепную партию, а он изволит капризничать. Будет жалеть потом, когда ее уговорит кто-нибудь другой, а она девушка гордая, так и произойдет!
И баронесса покинула кабинет.
— Пан Мачей, глядя ей вслед, прошептал:
— Значит, то, что мы с Габриэлой были несчастливы — вздор! Вздор, что убить или покарать любовь — преступление! Взор, что дорогу к счастью нужно выбирать самому. Все вздор! А где же тогда истина?
И он склонил голову на грудь.
XXII
На другой день пан Мачей предался необычайно серьезным размышлениям. Он давно уже замечал в поведении Вальдемара перемены. Пани Идалия, правда, считала, что виной всему графиня Мелания, и Вальдемар просто шутит, как у него в обычае, не желая признаться, что влюблен в Барскую…
Однако пан Мачей подобному не верил. Он один заметил происходившую в Вальдемаре внутреннюю борьбу. Зная натуру внука и его порывистость, пан Мачей серьезно опасался за его будущее. С проницательностью старого человека он предвидел нечто, пугающее его. За время долгого отсутствия Вальдемара страхи приугасли, но теперь возродились вновь.
После крайне деликатной беседы с внуком пан Мачей испугался своих подозрений. Он пытался инстинктивно защититься от них; любимый внук удручал его, невысказанные слова были у обоих на устах, но они оба пока что не могли и не хотели объясниться начистоту. Пана Мачея это крайне мучило, но он не упрекал внука ни словом; не вспомнил даже, что завтра именины Стефы, о чем месяц назад не преминул бы сказать.
Впервые в жизни отъезд внука обрадовал старика; пан Мачей провел бессонную ночь, а утром встал с головной болью, в полном расстройстве чувств. В десять утра он попросил лакея пригласить к нему Стефу.
Она вошла, печальная, глаза ее были заплаканы. Белое простое платьице делало ее бледнее обычного, только глаза из-за переполнявших их слез неестественно блестели. Она сердечно поцеловала руку пана Мачея. Обняв ее, старик усадил девушку напротив.
— Почему ты плакала, дитя мое? — спросил он, не выпуская ее руки.
Стефа прикусила губы и быстро-быстро заморгала — слезы вновь навернулись ей на глаза.
— Почему ты плакала?
— Потому что мне грустно… — тихо ответила она. — Раньше этот день я всегда проводили дома…
— И больше никаких поводов для слез?
Стефа бросила на него быстрый взгляд:
— Никаких!
Пан Мачей выпустил ее руку и бессильно опустился в кресло. Ее восклицание выдало Стефу с головой. Проницательный старик понял, что, кроме тоски по дому, есть еще что-то, о чем она не хочет упоминать. Глядя на нее, он шептал:
— Стеня… вторая Стеня…
— Кто? — порывисто спросила девушка.
Пан Мачей сказал:
— Ты ее не знала, дитя мое. Была когда-то Стеня, похожая на тебя… но это было так давно…
Стефа вспомнила рассказанную Вальдемаром историю и, охваченная сочувствием, опустила глаза.
Пан Мачей взял со столика оправленную в замшу коробочку, открыл ее и приподнял с белой бархатистой обивки миниатюру в форме большого медальона, с необычайным изяществом выполненную эмалью на золоте.
Миниатюра изображала молодого человека в мундире польских улан, с орденской звездой и крестом Виртути Милитари на груди. Показав ее Стефе, пан Мачей взволнованно сказал.
— Вот мое изображение в те времена, когда я был гораздо счастливее… любил такую, как ты, Стеню, думал, что мне принадлежат и она, и весь мир… Но молодость пролетела. Что с тобой, дитя мое?
Стефа, едва бросив взгляд на портрет, вздрогнула:
— Я это где-то уже видела!
Старик внимательно посмотрел на нее:
— Эту вот миниатюру? Где ты могла ее видеть? Ты ошиблась, деточка! А может… Идалька тебе показала?
— Нет… Но я, несомненно, видела этот портрет!
— Может, в каком-нибудь старом-престаром журнале? Вполне возможно. Когда-то я вызывал некоторый интерес у господ редакторов.
— Быть может, — сказала Стефа без особого убеждения.
Пан Мачей подал ей миниатюру:
— Это тебе мой подарок на именины. Мне показалось, ты не откажешься от портрета, изображающего в молодые годы человека, который так к тебе расположен.
— Большое вам спасибо, — сказала Стефа. — Это для меня лучший подарок. Но заслужила ли я? Это ведь ценная семейная реликвия.
— У меня их было несколько. Я роздал их членам семьи, и оставил одну для тебя, последнюю… Ты так похожа на мою Стеню… Когда-нибудь я тебе покажу и ее портрет… он у меня один-единственный, реликвия моя…
Явно взволнованный, старик погладил Стефу по голове и сказал удивительно мягко:
— Не грусти, детка. Сегодня твой праздник, не плачь и будь счастлива. Ты такая еще молодая…
Вернувшись к себе, Стефа разглядывала миниатюру, охваченная непонятными ей самой чувствами. Смутные воспоминания связывали этот портрет с ее ранним детством. Лицо молодого улана напоминало Вальдемара, только одежда и прическа были другими.
Стараясь вспомнить, где она могла видеть медальной, Стефа не сводила с него глаз. Сходство юного офицера с Вальдемаром было поразительным, и Стефа шепнула:
— Что же он не едет? Почему он вчера уехал так быстро, почему он так изменился?
Она пыталась быть веселой — и не могла, боясь признаться самой себе, что отъезд Вальдемара перед самыми ее именинами крайне ее обидел. Но перестать думать о нем она не в состоянии.
Перед обедом Люция уговорила ее пройтись. Они отправились в лес. Стефа вспомнила майскую встречу с Вальдемаром, его язвительные шуточки. Вспомнила свой гнев, резкие ответы и неприязнь, которую она тогда питала к злоязычному магнату. В то время она боялась его, он вызывал в ней панический страх, но и привлекал. И теперь она сердилась на себя за то, что думает о нем постоянно, неважно, хорошо или плохо, но думает всегда и везде…
Теперь чувства ее изменились: страх перед ним не исчез, даже усилился, но уже по другим причинам. Она боялась признаться в своих новых чувствах к Вальдемару.
Видя ее задумчивость, Люция отбежала в сторону. Ее юная головка трещала от домыслов, которыми ей было не с кем поделиться — матери она побаивалась, а с дедушкой говорить не хотела.
Свои подозрения она держала втайне, боясь ошибиться. От ее внимания не ускользнуло, что отношение Вальдемара к Стефе вдруг резко переменилось. Впрочем, они сами изменились, и Вальдемар, и Стефа. Стефа не была так безоглядно весела, как раньше. Люцию это озадачивало…
Так, погруженные в свои мысли, они оказались на лесной дороге. Люция шла быстро и вскоре обогнала Стефу. Внезапно, выйдя на поворот, она остановилась в удивлении. Увидела четверку гнедых, узнала в них глембовическую упряжку и моментально спряталась за деревья. Она догадалась, что Вальдемар помнил об именинах Стефы и ехал сюда главным образом из-за нее; теперь Люция хотела подсмотреть их встречу.
Стефа не заметила маневров девочки, но, не видя ее рядом, громко позвала. Люция не ответила. Тем временем совсем близко раздался стук копыт, и из-за поворота показались прекрасно знакомые Стефе каурые арабские кони. «Американкой» правил сам Вальдемар, кучер сидел сзади.
Стефа вспыхнула, остановилась, как вкопанная, собрав всю силу воли, чтобы заставить себя быть спокойной. Вальдемар уже заметил ее. Он резко остановил коней и приподнял шляпу. Спрыгнув на землю, он сказал кучеру:
— Езжай на опушку и оставайся там.
Видя перед собой майората, Стефа наконец опомнилась.
Он крепко пожал ей руку. Какой-то миг стояла тишина. Потом он сказал низким голосом:
— Как хорошо, что я вновь встретил вас именно здесь.
— Это было в мае, но теперь осень!
— Если захотеть, можно и зимой сотворить себе май. Стефа молчала.
— Я приехал, чтобы поздравить вас с праздником. Я не стану говорить вам пышные пожелания, не умею…
Стефа живо прервала его:
— Достаточно и того, что вы приехали… Спасибо! Он поднял к губам ее руку, изящно склонив голову.
Горячее прикосновение его губ током прошло по всему ее телу. Она не вынесла его взгляда и опустила глаза.
Они молча шли бок о бок, наконец майорат заговорил:
— Именины для меня лично — несноснейший день в году. Терпеть не могу получать приглашения на именины, и сам редко их рассылаю. Предпочитаю сам приезжать к людям. Именины словно отпущение грехов: все навещают виновника торжества, словно исповедника.
Стефа улыбнулась:
— Однако и вы приняли участие в столь нелюбимом вами обычае…
Вальдемар нахмурился:
— О нет! Я же сказал: сам этот обычай я терпеть не могу, но к своим добрым знакомым приезжаю охотно.
Стефа смутилась и громко позвала:
— Люция! Люция! Вальдемар удивился:
— Разве вы не одна здесь?
— Я шла с Люцией, но она куда-то подевалась. Тут затрещали ветки, и Люция выбежала из кустов.
Лицо ее разрумянилось, глаза блестели.
— Где ты бегала так долго? — спросила Стефа.
— Собирала орехи. Там их так много!
— Ну, и что же ты их не набрала, если их так много? — пытливо глянул на нее Вальдемар.
Люция потупилась:
— Я их не собирала, я их только ела. Я так далеко в кусты забралась…
— Странно, но по твоему платью этого не видно.
Стефа засмеялась:
— Ты ведь пропала у меня с глаз как раз перед тем, как подъехал пан Вальдемар. Но почему ты с ним не здороваешься?
— Увлечена орехами, — со странной улыбкой бросил Вальдемар.
Покрасневшая Люция поздоровалась с Вальдемаром чуточку робко. Поняла, что он догадался об истинной причине ее отсутствия.
Теперь она не сомневалась, что Вальдемар всецело поглощен Стефой. Из своего укрытия она увидела их, хотя слов почти не расслышала.
— Вальди, ты приехал верхом или в экипаже? — спросила она с деланной наивностью.
— В экипаже. А не пора ли нам возвращаться?
— При Люции разговаривать со Стефой ему не хотелось.
Он взглянул на часы: скоро два.
Они повернули назад. Когда поравнялись с экипажем, Вальдемар пригласил прокатиться. Усадил Стефу и Люцию на переднем сиденье, а кучера пешком отправил в Слодковцы.
— Правьте вы, — сказал он, подавая вожжи Стефе.
Девушка развеселилась, все ее утренние печали улетучились. Смеясь, она встряхнула вожжами, и четверка понеслась размашистой рысью. Вальдемар стоял у нее за спиной и, пощелкивая бичом, подавал советы, радуясь близости с нею. Словно помогая ей поправить вожжи, он направил коней на другую дорогу, мимо Слодковиц. Стефа заметила это:
— Мы не туда едем!
— И прекрасно. Куда нам спешить?
— Но я проголодалась! — жаловалась Люция. — Нас ждут к обеду!
Стефа молча встряхнула вожжи. Лошади резко повернули и, не понимая, куда же теперь бежать, затоптались, сбиваясь с шага.
— Что вы делаете! — крикнул Вальдемар, перехватывая у нее вожжи.
Но в этот миг коренная лошадь рванулась вперед, и четверка понесла.
Вальдемар так сильно натянул вожжи, что кони встали на дыбы, но сдержать их с маху было невозможно. «Американка» кренилась на обе стороны, гравий со свистом летел из-под колес.
Стефа ухватилась за вожжи, натянутые, как струны.
— Отпустите! — крикнул Вальдемар. — Успокойтесь, ничего страшного!
Его уверенность передалась Стефе. Кони и в самом деле умерили бег, хлопья белой пены летели от них во все стороны. Подняв глаза, Стефа удивленно смотрела на мужественную фигуру Вальдемара. Удерживая мчащихся коней, он стоял, выпрямившись, словно ему не приходилось прилагать ни малейшего усилия. Только вожжи так впились ему в ладони, что лопнули лайковые перчатки, да на висках выступило несколько капелек пота.
Внезапно его взгляд упал на Стефу.
Они смотрели друг на друга. Он слегка усмехнулся, внезапно больше глазами, чем губами, и с неподдельной сердечностью шепнул:
— Вам страшно?
Голос его звучал заботливо.
— Ничуть, — ответила она тихо.
Будь она совершенно откровенной, могла бы сказать что ей хорошо, как никогда. Боясь, чтобы он не прочитал этого в ее глазах, она опустила их, разрумянившаяся, счастливая.
Еще немного усилий — и взмыленные кони пошли медленнее. Влажные черные спины казались бархатными. Разгоряченные скачкой, кони фыркали и мотали головами, грызя удила. Достаточно было на миг вернуть им свободу, чтобы они вновь понеслись, рассекая воздух.
Видя это, Вальдемар не ослаблял внимания, крепко сжав вожжи в руках. Когда Стефа попросила их у него, он мотнул головой.
— Вы устали, отдохните, я поеду медленно, — просила она.
— Еще не время, им нужно успокоиться, и тогда они станут, как ягнята. Сейчас не вы им, а они вам будут диктовать условия.
— Я буду держать крепко, вот увидите.
Он с усмешкой склонился над ней:
— Детка, не спорьте!
Стефа онемела.
— Вальди, как ты назвал панну Стефанию?! — поразилась Люция.
— Это такое австрийское слово… или гавайское, — иронически заметила Стефа. — Он ведь столько путешествовал, столько заграничных слов знает…
— Ну, в любом случае это слово — не насмешливое, сказал Вальдемар.
Стефа прикусила губы.
— Послушайте, почему бы вам не поссориться? — сказала Люция. — Я так давно не слышала, как вы ссоритесь!
— А ты, малышка, сиди и помалкивай! И смотри, не выпади, я сейчас подхлестну коней!
Стефа умоляюще шепнула:
— Не нужно, они разгорячились, снова понесут! Вальдемар посмотрел на нее, чуть прищурившись, и протяжно сказал:
— А детка будет себя хорошо вести? Она засмеялась:
— Если отдадите мне вожжи.
Вальдемар передал ей вожжи и стал растирать ладони.
Лошади влетели в ворота, когда пани Идалия и ее отец сидели у распахнутого окна его кабинета. Баронесса была близорукой и сначала не признала упряжку:
— Папа, посмотрите, к нам какие-то гости…
— Это Вальдемар, — удивился пан Мачей.
— Но там еще и дамы!
— Стефа и Люция. Стефа правит… Должно быть, он встретил их по дороге.
Кони остановились. Кучер появился, словно из-под земли. Все трое со смехом спрыгнули наземь. Девушки побежали к себе, Вальдемар вошел в кабинет. После первых приветствий пан Мачей спросил:
— Где вы ухитрились так измотать коней? Они словно из-под воды выскочили!
— «Музы» немного понесли…
— Понесли?! — перепугалась пани Идалия.
— Не пугайтесь, тетя, все обошлось. Наилучшее тому доказательство — мы трое, целые и невредимые.
— Люция, должно быть, страшно перепугалась!
— Ну да, кричала, как нанятая.
— А знаешь ли ты, что среди нас есть именинница? — спросил пан Мачей, созерцая носки своих туфель.
— Потому я и приехал, — чуточку грубовато ответил Вальдемар.
— И в поздравление перепугал ее, — засмеялась баронесса.
Пан Мачей склонил голову. Неожиданный приезд внука и его тон разволновали старика. Пани Идалия продолжала:
— Я хотела бы сегодня сделать Стефе что-нибудь приятное. Что ты так на меня смотришь, Вальди?
Прохаживаясь по комнате, он остановился вдруг и удивленно уставился на тетку.
— Вальди, что тебя так удивило? — повторила она.
— Забота тети о панне Стефании. Это нечто неслыханное!
— Я ее очень люблю, — сказала баронесса. — Сегодня я задумалась, что бы такое ей подарить, ну, и выбрала шесть томов Гейне.
— А там все страницы целы?
— Что ты несешь, Вальди?!
Пан Мачей принялся смеяться, но баронесса обиделась.
— Как ты несносен!
Она встала. Вальдемар подскочил и задержал ее, смеясь:
— Шесть томов Гейне en luxe[51] и вы, тетя, вы сегодня чудесны!
Пани Идалия смеялась.
Все уже сели за стол, когда лакей доложил о панне Рите. Она вбежала чуть растрепанная, веселая, и, не обращая ни на кого внимания, бросилась к Стефе с поздравлениями, без церемоний расцеловав ее.
— Мои вам самые лучшие поздравления, — говорила она.
— Что там поздравления! — сказал майорат. — Я-то думал, вы заведете сюда одного из ваших англичан в подарок!
— А почему бы вам не пожертвовать для подарка Аполлоном? Как, вы его не рискнули подарить? Стыдно!
— Аполлон Аполлоном, но четыре музы у меня сегодня были в руках, — смеялась именинница.
— И они так были этим воодушевлены, что понесли.
— Не шутите!
Ей рассказали о сегодняшнем приключении.
— А где же ваш неотлучный спутник? — поинтересовался Вальдемар.
— Трестка? — панна Рита огляделась. — Неужели он еще здесь не появлялся?
Все рассмеялись.
Усевшись за стол, панна Рита сказала Стефе:
— Моя тетя тоже шлет вам поздравления. Даже Добрыся вам кланяется, хоть вы почти и не знакомы.
— А кто это?
— Компаньонка тети.
— Ах да, я и забыла!
— Сказочная Добрыся со сказочной физиономией — с бородой и с усами, — смеялся Вальдемар.
— Не смейтесь, это ваша большая поклонница, она вас вечно сватает.
— За кого, за такую же усатую, как сама?
— Нет, за Барскую…
Вальдемар нахмурился, однако ответил весело:
— Я ей представлю другого кандидата. Панна Рита фыркнула и болтала дальше:
— Для вас, пан Михоровский, я поклонов не привезла, у нас не знали, что вы здесь.
— Сегодня я просто обязан был приехать.
Обед прошел весело. К концу его и в самом деле явился неизменный Трестка, встреченный шутками и общим смехом.
— Потом играли в теннис. Стефа с Тресткой проиграли Вальдемару и панне Рите. Потом пары поменялись — Вальдемар, встав рядом со Стефой, что-то горячо ей говорил. Трестка, глядя на них, шепнул своей соседке:
— Жаль, нет фотоаппарата. Я бы их заснял — именно в эту минуту.
— Последующие могут быть любопытнее, — глухо ответила ему Рита.
— Не думаю.
— Почему?
— Зa n'ira pas plus haut.[52]
Панна Рита громко рассмеялась:
— Это доказывает, что вы плохо знаете майората. Я-то его знаю лучше… и многое предвижу.
Но тут майорат позвал:
— Начнем! Что вы там шепчетесь, словно заговорщики?
— Берем пример с вас, — отозвался Трестка.
— Во всем, — добавила Рита.
Но Вальдемар и Стефа как раз рассматривали сломавшуюся ракетку и не расслышали их слов. Подойдя к панне Рите совсем близко, Трестка очень серьезно сказал:
— Вы только что сказали что мы берем с них пример во всем. Взгляните, там у них царит полная гармония. Означает ли это, что я могу надеяться?
Она иронически рассмеялась:
— Вы ведь сами не верите в прочность этой гармонии.
— Ради вас я готов проверить… и даже способствовать укреплению гармонии.
— Спасибо, обойдусь!
— Значит, никакой надежды?
— Держите-ка ракетку покрепче! Теннисный корт — не место для нежностей.
Трестка отступил, окрыленный новыми надеждами, но грустный. И бросил на майората злой взгляд, словно говорил: «Это все из-за тебя!».
Вечером все собрались в маленьком салоне пани Идалии, Пан Мачей рассказал несколько историй из времен своей уланской службы. О своих делах он промолчал…
Среди гостей воцарилось некое покойное умиротворение. Слушая рассказы старика, каждый думал о своем — а что ожидает в жизни его?
Исчезли на миг все титулы и гордые имена. Любовь к отчизне, все пережитые их родиной драмы наполняли их души печалью. Все они были детьми своей страны, чьи раны болели, словно были их собственными.
Пани Идалия, суровая блюстительница этикета, уже не замечала, что Люция сидит на ковре, положив голову на колени Стефе, что у заслушавшейся Стефы рассыпалась прическа, а Вальдемар, сидящий совсем близко к ней, в задумчивости играет выпавшим из ее волос цветком. Не видела, что панна Рита, опершись локтями на столик, прячет в ладонях побледневшее лицо.
Покой этих минут, столь похожий на их обычную жизнь, освободил их от этикета и условностей.
Они напоминали счастливую семью, собравшуюся на скромном шляхетском дворике, среди побеленных стен и запаха резеды, плывущего из горшочков на подоконнике; на дворике, где в такие вот тихие вечера старый отец рассказывает сказки под аккомпанемент сверчков и шум старых груш над соломенной крышей. Но модные наряды мужчин портили картину. Лишь Стефа с Люцией не нарушали гармонии. Обе в простых белых платьицах, с цветами в волосах, они одинаково мило смотрелись бы и в богатом особняке и на сельском дворике небогатого шляхтича.
Зашелестела бархатная портьера, и официальный тон камердинера звуком трубы ворвался в тихую мелодию беседы:
— Прошу простить, время ужинать!
Тихий образ сельского дворика растаял, камердинер в галунах вернул всех в особняк. Первой очнулась пани Идалия — встала, исполненным элегантности жестом оправила платье и сказала с легкой иронией:
— Господа, проснитесь, пора за стол!
Пан Мачей вздохнул и поднялся, жалея об упорхнувшем очаровании. Под суровым взглядом матери Люция вскочила, порозовев. Стефа поправила волосы, Трестка нервно нацепил пенсне и, вставая, с тоской глянул на Риту. Она отняв руки от лица, затуманенным взором смотрела на Вальдемара. А он, комкая в ладони цветок, зло покосился на камердинера и буркнул:
— Чтоб тебя черти взяли!
После ужина никому не хотелось веселиться. Панна Рита и Трестка вскоре уехали. Даже Вальдемар не остался ночевать.
XXIII
Над большим озером в Слодковцах заблистала в вышине ясная полоска рассвета. Густая мгла молочно-белой поверхности озера сливалась с небом того же оттенка. Нигде ни звука, ничто не нарушало покоя воды и неба. Рассветная полоса ширилась, обещая хорошую погоду. Белая мгла словно бы предвещала появление ясного солнышка. Краски розового рассвета одолевали серую дымку; везде, куда они проникали с радостной вестью о приходе утра, становилось светлее. Когда первые солнечные лучики коснулись воды, она блеснула серебром. Мистическая минута пробуждения утра готовилась изгнать сосредоточенную тишь спящей природы.
А пробудить ее могли лишь голоса: птичий щебет и жужжание насекомых. Временами в ветвях что-то тихо прощебечет, словно разбуженная птица зевнет сладко, прогоняя сон. Но звуков постепенно становилось все больше. Мир оживал, неподвижный доселе воздух наполнялся ими. Легкие ветерки свободно и весело играли в прозрачном воздухе над озером. Вода больше не сливалась с небом, их разделяли полоса золотого рассвета и далекая ленточка леса.
Вода играла мириадами серебристых чешуек, они становились все светлее, все блескучее, превращаясь в неуловимые для глаза потоки розовых жемчужин и изменчивых опалов. Небо приветствовало зарю. Нежные розовые краски заиграли на трепещущих листьях деревьев, на вершинах елей, атласом блистали на желтом пригорке, черную полосу леса озарили лазурно-розовые отблески. Прекрасная заря поднималась по небосклону, крася воды своим румянцем.
На миг весь мир замер, потом взорвался гулом восхищения.
Деревья зашумели вершинами, заколыхались листья, рассыпая вокруг рои разноцветных бабочек. Несколько птичьих голосов стали запевалами, и вот весь мир зазвучал веселой, звучной, триумфальной музыкой!
Птичий щебет, звон мушек и комаров, плеск проснувшихся волн — все взывало, сообщая друг другу радостную весть:
— Розовая пани на небе… ведет к нам солнце! День! День! Ясная погода, радость!
Внезапно по опаловым волнам поплыл поток расплавленного золота.
Взошло солнце! Шум на земле усилился, птицы пели все громче.
Стефа опустила голову на грудь. Радостная улыбка пропала с ее лица. Словно наперекор счастливой природе, девушка опечалилась.
Она сидела на каменной скамейке у озера, окруженного раскидистыми березами. Сегодня она не могла заснуть, и еще задолго до рассвета, в полумраке, тихонько выскользнула из спальни и прибежала сюда. Ей показалось вдруг, что солнце никогда не взойдет.
Вечер ее именин оставил в душе чувства, которые она не забудет никогда. Каким будет наступающий день?
Взойдет ли ясное солнце? Тревога и печаль охватили ее. По мере того, как уходил мрак, прояснялось ее лицо. Она вслушивалась и всматривалась, вбирая в себя столько красок, столько золота, сколько их отражали волны и воздух. И наконец она просияла.
Солнце взошло!
Природа вторила тому, что происходило в душе девушки.
— Солнце, солнце! Для меня ли ты сияешь?
XXIV
Выставка! Магическое слово, достигающее отдаленнейших уголков. Выставка — результат человеческого интеллекта и научных достижений. Улицы большого города, многолюдные и в другое время, теперь забиты были народом, в отелях не было мест, в садах, ресторациях, кондитерских — повсюду стоял гомон. На железнодорожном вокзале суета удесятерилась. Что ни минута, под стеклянную крышу перрона въезжали переполненные поезда. Правда, лишь вагоны первого и второго классов были переполнены. В третьем классе такая давка была и во все прочие дни. Тех, кто ехал бы на выставку исключительно развлечения ради, напрасно было бы искать в зеленых вагонах третьего класса — к их услугам были голубые и желтые. Город выглядел необычно, празднично. Прекрасная погода немало тому способствовала. Все свое осеннее золото сентябрь высыпал на прямые улицы, сады и богато убранную флагами выставочную площадь.
Посередине главной улицы ехало прекрасное ландо, запряженное четверкой черных арабских лошадей. Лакированная упряжь сияла начищенной бронзой. Кучер и лакей в изысканных ливреях гармонировали с экипажем. На темно-красных подушках сидел в изящной позе Вальдемар. Он часто приподнимал шляпу или кланялся в ответ на приветствия знакомых. Прекрасная упряжка производила большое впечатление на горожан, то тут, то там на тротуарах слышалось:
— Чьи это лошади? Кто едет?
— Это из Глембовичей. Майорат Михоровский.
— Тот магнат? У него лучшие на выставке конюшни. Вальдемар направлялся на вокзал, чтобы встретить дедушку и дам. На вокзале он встретил панну Риту, Трестку и Вилюся, нервно прохаживавшегося в ожидании поезда.
Трестка шутил над студентом, уверяя, что тот бросил занятия и примчался сюда вовсе не на выставку, а исключительно встречать поезд, и что студент вот-вот потеряет сознание от тоски, вызванной известными причинами.
Студент отшучивался как мог, но в главном не перечил. Вальдемар покусывал усы — его это рассердило. Когда после удара сигнального колокола он вышел на перрон и увидел Вилюся, неотрывно взиравшего на приближавшийся поезд, — Вальдемар не выдержал и бросил с усмешкой:
— Как это вы приехали без букета!
Студент жалобно глянул на него, потупился и покраснел.
Поезд подъехал к перрону. Вальдемар медленно шагал вдоль вагонов первого класса, поглядывая в окно. Вот в одном засветилось личико Люции, потом показались пани Идалия и пан Мачей. Обеспокоенный майорат вскочил внутрь, прежде чем поезд окончательно остановился, но тут же увидел Стефу — склонившись, она завязывала какой-то пакет. Вальдемар быстро подошел к ней, они подали друг другу руки. Глядя ей в глаза, он поднял к губам ее ладонь. Стефа засмущалась. Видевшая это Люция уже не удивлялась. Следом вошли пана Рита, Трестка и Вилюсь, зазвучали приветствия, начался шумный, бессвязный разговор.
Вскоре по главной улице вновь проехало ландо майората, с паном Мачеем, баронессой, Люцией и Вилюсем Шелигой. Во второй бричке ехали панна Рита со Стефой, Вальдемар и Трестка. Рита говорила:
— Знаете, мои кони произвели фурор. Ваших им не затмить, но они все равно на высоте…
— На какой высоте? Моих коней или ваших амбиций?
— Ехидный! До ваших конюшен я пока что не доросла.
— Забавная формулировка!
— А я вот счастлив, — громко воскликнул Трестка. — Я сюда ни одного одра не пригнал!
— Это увеличивает ваши шансы, — усмехнулся Вальдемар.
— Вот именно!
Панна Рита окинула их суровым взглядом, но оба пана лишь усмехнулись.
— О чем это вы тут говорили? О каких-то шансах? Вальдемар сделал преувеличенно серьезную мину:
— Всего лишь о скачках, ясновельможная пани спортсменка.
— А точнее?
— Каждый из нас может проиграть скачки, но тот, кто не выставил коней, не окажется среди проигравших. Следовательно, его можно считать выигравшим.
— Парадокс! А вы что имели в виду, граф?
Трестка смутился:
— Я? Да примерно то же, что и майорат.
— Дорогой мой, будь посмелее, — засмеялся Вальдемар.
Панна Рита пожала плечами и обернулась к Стефе:
— Что вы думаете об этих вот двух панах?
— Что вы в постоянном конфликте и не можете понять друг друга.
— Я совсем не это имела в виду…
В ресторанном зале, расположенном на первом этаже отеля, собралось за обедом человек двадцать. Тон задавали Мачей Михоровский и княгиня Подгорецкая. Изящные прически и платья дам рядом с элегантными мужскими костюмами делали собрание гостей изысканным.
Воцарилось веселье, надежно удерживаемое в рамках хорошего тона благодаря присутствию пана Мачея и княгини.
Однако молодым ничто не мешало чувствовать себя свободно.
XXV
В павильонах встречались люди разного круга, разного общественного положения, но одержимые схожими стремлениями: осмотреть все, что здесь отыщется интересного.
Повсюду шум, гам, гомон тысяч голосов, перекрывающих друг друга. Шум, толчея, вавилонское столпотворение.
Павильон пасечников в форме улья, павильон рыболовства, садоводства, отделы шелкоткацкого производства, цветоводства… Туда в основном стремились пожилые пани, сельские хозяйки. В павильоне птицеводства людской гомон перекрывали гагаканье, кудахтанье, воркование цесарок, пронзительные крики павлинов, и все это — под аккомпанемент хлопанья крыльев. Из дальних клеток другого павильона доносились хрюканье и визг свиней. Посверкивали выкрашенные в яркие цвета машины отечественного производства. Глухой рокот мощных моторов притягивал специалистов: там в основном виднелись мужские шляпы, разговоры шли тихие, профессиональные, словно гигантские машины и бег приводных ремней, помимо воли, заставляли людей приглушать голос.
Вместе с другими там прохаживался и Вальдемар Михоровский, сопровождая дам, которым давал пояснения. Панна Рита, Стефа и Люция несли охапки цветов, подаренных им майоратом в павильоне цветоводства. Стефе достался ворох желтых хризантем.
Они вошли и замерли, ошеломленные мощью техники. Огромные локомобили и двигатели поневоле притягивали взоры. Все было в движении, быстром, но размеренном, каким отличаются хорошо отлаженные механизмы. Стефа и Рита не скоро ушли отсюда. Машины привлекали их, словно некие живые гиганты. Вальдемар давал подробные пояснения.
Стефа была увлечена, но Люция стала капризничать:
— Пойдемте отсюда! Мне все время кажется, что ремни упадут мне на голову или платье порвется об эти железки.
Они перешли в отдел экипажей и упряжи. Здесь Люции понравилось больше.
— Вальди, купи в Слодковцы карету, — предложила она.
— Там уже есть две.
— Да, но это твои, а я хочу, чтобы и у мамы была своя.
— У нее есть ландо и бричка. Когда будешь выходить замуж, я тебе подарю английскую карету.
— Такую, как в Глембовичах?
— В точности такую.
Стефа и панна Рита разглядывали дамские седла. Одно понравилось им больше всех: целиком из светлой кожи, уздечка, налобник и хлыст украшены серебром, чепрак из голубого бархата и серебряной вышивкой.
Панна Рита осведомилась о цене, оказавшейся крайне высокой. Вальдемар, поторговавшись, купил седло.
— Это для вашей будущей жены? — спросила Рита. — Ведь у вас в Глембовичах и так хватает прекрасных дамских седел…
— Это предназначено для Слодковиц.
— А для кого конкретно?
— Для панны Стефании.
— Но я почти не умею ездить верхом! — воспротивилась Стефа.
— Будем учиться.
Рита нервно рассмеялась:
— Вы сегодня un vrai chevalier de la gйnйrositй![53]Люции подарите карету, панне Стефании подарили седло, не забудьте же и обо мне. Рассчитываю на вашу милость.
— Подарок вы получите немедленно, — ответил он весело.
— Сгораю от любопытства!
Майорат отошел и вскоре вернулся с хлыстом прекрасной работы. Рукоять его была оплетена серебряной проволокой.
— Рад служить, — с поклоном подал он панне Рите изящную вещицу.
— Благодарю! А он для коней или для вас?
— Ну, если я провинюсь перед вами…
— Вы уже провинились. Но, увы, не мне принадлежит право вас наказывать…
Они осмотрели еще несколько павильонов. Побывали в глембовической псарне, где суетилось множество псарей в темно-желтых куртках, высоких сапогах и широких перевязях. На головах они носили плоские коричневые шапочки. Там стоял писклявый скулеж щенят, множество собак повизгивали и гавкали — знаток сразу мог бы распознать породы по голосам. Особенно красивы были таксы, гончие и борзые. Пандур, огромный дог майората, разгуливал в красивом, обитом серебром ошейнике. Когда вошла Стефа, он в несколько прыжков оказался рядом с ней и дружелюбно вскинул ей на плечи мощные лапы.
— Он вас узнал! — обрадованно шепнул Вальдемар.
— Ну мы же с ним друзья!
— Пойдемте к лошадям! — предложила панна Рита.
В конюшнях они встретили много знакомых. Кони майората пользовались большим успехом. Перед входом старший конюх держал под уздцы Аполлона, окруженного толпой знатоков. Пояснения давал главный глембовический конюший с помощью нескольких подчиненных. Зрители рассматривали кобыл, которых водили конюхи в темно-пунцовых куртках и белых панталонах, черных лакированных сапогах и высоких шапочках с золотым галуном и княжеской шапкой над козырьком. Дальше стояли кони панны Риты. Среди них наибольшее внимание привлекал рослый фольблют Бекингем. Рита сказала, что на него рассчитывает больше всех. И в самом деле, он один не уступал фольблютам майората.
Не желая слушать сугубо профессиональные оценки знатоков, дамы отошли. К Вальдемару приблизился высокий, по-спортивному одетый господин и, снимая шляпу, учтиво сказал:
— Пан майорат, мы хотели спросить вас о жеребце Аполлоне. Он ведь чистокровный?
— Чистокровный. Жеребенком привезен из Аравии. Но простите меня, со мной дамы, и им наш разговор неинтересен…
— О, разумеется, прошу простить!
— Остальное вам расскажет и покажет бумаги Аполлона мой конюший. Но должен заметить — конь не продается.
Спортсмен прикоснулся к шляпе и отступил с поклоном. Майорат с дамами осмотрел еще несколько конюшен, пока не дошли до хлевов.
— Ну, скот вас явно не интересует? — спросил Вальдемар.
— Ничуточки, — ответила Рита. — Вернемся к Идальке. Она там наверняка мучается со своими колбасами.
Пани Идалию пригласили участвовать в дамском комитете выставки как эксперта по колбасам, копченостям и сырам. Графиня Чвилецкая взяла на себя конфитюры и вина, молодая княжна Подгорецкая — разнообразнейшие водки, меды и наливки. Все они сидели в обширном, красиво декорированном павильоне в обществе нескольких мужчин. Баронесса пробовала разнообразные колбасы, подаваемые на тарелочках с карточками производителей, и делала свой приговор.
Все это сопровождалось шутками, но и чисто профессиональными разговорами. Графиня Чвилецкая искоса посматривала на Стефу и на букет желтых хризантем в ее руках. Ее сердил майорат, неотлучно сопровождавший «эту троицу».
Пани Идалия, увидев их, сказала:
— Ну, вы, должно быть, недурно развлекались, а я horriblemenet fatiguйe.[54]
— Смените колбасы на конфитюры, а княжна пусть от наливок перейдет к сырам, — пошутил Вальдемар.
— Хороший совет! А потом ты будешь за нами ухаживать, когда мы расхвораемся и сляжем.
— Как вы находите эти продукты?
— В основном весьма неплохие. Особенно колбасы заслуживают похвалы.
— Это доказывает, что хороших хозяек у нас хватает. Кто-то из мужчин обратился к Вальдемару:
— Если я не ошибаюсь, пан майорат, и вы числитесь среди выставочных экспертов?
— Да, по сельскохозяйственным машинам, скоту и лошадям.
— Каково же ваше мнение?
— Машины и культиваторы отечественного производства неплохие. Но мы чересчур уж верим в заграницу: заграничное — значит, великолепное, а все, что сделано у нас, чаще всего вызывает лишь ироническую усмешку. Но смеяться легко, производить гораздо труднее.
— Значит, вы против заграничных машин?
— Нет, что вы. Просто мы обязаны больше приложить усилий, чтобы иметь лучше результаты. Увы, у нас еще много поклонников Запада, глухих и слепых к отечественному прогрессу.
Вмешалась графиня Чвилецкая:
— Вы забыли, что заграница дает нам то, чего мы не можем найти здесь, — ведь каждый предпочитает заграничные шелка местному тику.
— Однако если вы постоянно будете покупать тик, производство и качество его улучшится, и постепенно мы начнем сами производить и шелк.
Графиня иронически бросила:
— Однако ж вы почему-то не следуете своим взглядам в собственном хозяйстве.
— Ну да, мои фабрики и имения оборудованы на заграничный лад, однако я устраиваю их не за границей а у себя на родине.
— И тем не менее в былые времена вы не пренебрегали так заграницей, проводили там гораздо больше времени, чем здесь.
— Не стану перечить! Но именно годы жизни за границей привели меня к моим нынешним убеждениям.
Графиня смолкла. Она не нашла, что ответить. Панна Рита устремила на нее злорадно-насмешливый взгляд, совершенно смутивший графиню.
Вальдемар продолжал:
— Нам не следует бездумно отдавать загранице деньги за что попало. Мы должны создавать у себя не суррогат западной цивилизации, а брать у нее самое толковое — и убедимся, что у нас самих достаточно умов и умелых рук.
— Кстати, как вы находите на выставке скот и лошадей? — спросил кто-то из мужчин Вальдемара.
— Прекрасно! Здесь собраны самые разные породы. Животные красивые и ухоженные.
— А почему вы не выставили ваш скот?
— Я его выставлял в прошлый раз в М.
— Да, я помню, ваш коровник получил тогда золотую медаль, — запечалился Трестка. — Сегодня вы ее опять получите за лошадей, а я столько трудился над своим коровником — и все зря.
— Наберитесь терпения! Побольше уделяйте внимания своим животным.
— Эге! Как будто вы сами безвылазно сидите в Глембовичах.
— Но у него есть желание и энергия! — подхватила панна Рита.
Вальдемар с улыбкой поклонился ей:
— За последнее — спасибо!
— За энергию? Но ведь каждый знает, сколько ее у вас, это не мое открытие.
— Нужно заметить, что нынешняя выставка особенно отличается разнообразием павильонов, — вмешался князь Гершторф, седой старик.
— О да! — живо откликнулся Вальдемар. Дальнейший разговор прервал вошедший глембовический конюший, бравый шляхтич, явившийся сюда словно с военного парада. Войдя, он поклонился по-военному и пружинистым шагом подошел к Вальдемару:
— Пан майорат, в наши конюшни пришли господа эксперты.
— Иду. Попоны с коней сняты?
— Все сделано, как надлежит.
Конюший поклонился и вышел из павильона столь же величественно.
— Ну, золотая медаль у вас в кармане, — сказал Трестка.
— Кто знает? Хотя в своих конях я уверен.
Трестка жалобно покивал:
— И он еще говорит: «кто знает?»…
Когда майорат вышел, князь Гершторф обратился к дамам:
— Мы помешали вам, но разговор с майоратом был столь интересен…
— Благодаря вам мы отдохнули от своих трудов, — вежливо сказала баронесса Эльзоновская.
Князь потер ладони:
— Ах, майорат! Будь у нас побольше таких, уж мы бы…
И он многозначительно взмахнул рукой.
XXVI
На площади в центре выставки собралась огромная толпа. Здесь должны были состояться скачки. Зрители тесным кольцом обступили ограду ипподрома. Трибуны, украшенные гирляндами и знаменами, возносились подвижным и многоцветным поясом. Из выдвинутых вперед лож, переполненных дамами в роскошных нарядах, несся легкий шум разговоров. Здесь собралась высшая аристократия. Пышные шляпки вздымались на пышных прическах. Глаза сверкали, губы улыбались. Изящные, благоухающие, веселые ложи казались островками красоты и спокойствия. Шум на трибунах для публики попроще заглушал тихие беседы в ложах.
Скачки начались. От конюшен приближались к стартовой линии элегантные всадники на породистых конях. Князь Гершторф, одетый в длинный редингот и цилиндр, держал в руке список участников и их коней, по одному пропускал всадников на старт, то и дело сверяясь с бумагой. Кони брали препятствия с разным успехом, но большинство показали себя неплохо. Временами отлетала в сторону сбитая копытами с барьера доска, но прежде чем подлетал новый всадник, конюхи успевали навести порядок. Оркестр поднимал и без того отличное настроение зрителей.
В одной из лож сидели обитатели Слодковиц, княгиня Подгорецкая и Рита. На ее коне должен был ехать Вилюсь. Панна Рита была словно в горячке. Сидя рядом со Стефой, она повторяла то и дело:
— Хорошо ли Вилюсь возьмет барьер?
— Это и от коня зависит, — сказала Стефа.
— Почти все зависит! Тем более что Вилюсь наездник не из лучших. Да и Бекингем норовистый.
— А почему не поехал кто-нибудь другой? Хотя бы пан…
— Трестка, конечно? Нет уж, спасибо! Он бы мне испортил коня. Да и Вилюсь стоял на своем. Я едва успела рассказать ему о Бегингеме, какой у того норов…
— Внимание, дамы, майорат выезжает! — перегнувшись к ним из соседней ложи, предупредил барон Вейнер.
Стефа порывисто подалась вперед. В кремовом платье и изящной белой шляпке она была очаровательна. На ней не было никаких драгоценностей, только к вырезу платья приколоты две чайные розы. Дамы из других лож настойчиво и недоуменно приглядывались к ней. Кое-кого удивляли доверительность ее беседы с панной Ритой, сердечность к ней пана Мачея, Люции и даже обычно чопорной пани Идалии. Молодая девушка «не из общества», — но веселая, разговорчивая, смело шутившая с Тресткой, считавшимся завзятым аристократом… Одних она интересовала, других сердила. Она была со вкусом одета, красива, но не носила звучного аристократического имени, и этого было достаточно, чтобы поглядывать на нее искоса. Но Стефу эти взгляды ничуть не расстроили. Она имела сильную поддержку в лице обитателей Слодковиц и их ближайших соседей, а все это были люди, с которыми в высшем свете весьма считались; так что Стефа чувствовала себя непринужденно. А сейчас, когда она перегнулась из ложи, чтобы лучше видеть всадников, никто не смотрел на нее — все взоры были тоже прикованы к беговой дорожке.
От старта двинулись четыре всадника: Вальдемар, Трестка, молодой Жнин и Брохвич. Все — на конях майората, а сам он — на Аполлоне. В обтягивающем костюме и желтых сапогах, в белых перчатках, он сидел в седле изящно и чуть небрежно, спокойно удерживая гарцующего жеребца. Трестка принимал различные позы, то и дело поправляя пенсне. Жнин, казалось, скучает. Один Брохвич посадкой и статью напоминал майората, хотя во многом уступал ему. Скачка началась. Все четверо стартовали одновременно, но Аполлон тут же вырвался вперед. Он брал барьеры легко, словно играючи, попрыгивая, как теннисный мячик. Проезжая рысью мимо лож, Вальдемар приподнял шляпу. Дамы оживленно замахали в ответ платочками. Стефа не шевельнулась, только разрумянилась пуще, и глаза ее заблестели.
Всей душой она стремилась к нему, тысячи слов рвались наружу, но губы ее не шевельнулись. «Нельзя!» — пыталась внушить она себе. Ведь этим всадником был Вальдемар Михоровский, глембовический майорат, шляхтич из шляхтичей, один из наипервейших в стране магнатов. А она была Рудецкой — старый добрый шляхетский род, однако Рудецкие — всего лишь Рудецкие… Все бунтовало в ней, она спрашивала себя, отчего не может выказать ему свое восхищение столь же открыто, как окружающие ее аристократки. На трибунах, где теснилась интеллигенция, тоже воцарилось всеобщее воодушевление, вызванное появлением майората. Даже в стоявшей вокруг ограды толпе простонародья вспыхнул тот же азарт. Будь Стефа там, могла бы свободно выражать свои чувства. Здесь, в ложе, — ни в коем случае…
Кони сделали два круга. Все препятствия были преодолены, и перед последним заездом Вальдемар велел сделать барьер выше. Подъезжая к старту, он поинтересовался мнением друзей на сей счет. Жнин и Брохвич согласились охотно, один Трестка колебался.
— Вы уверены в моей Саламандре? — спросил он майората.
— В ней — да. Но коли вы не уверены в себе…
Кони унесли их в разные стороны.
В ложах азартно замерли, увидев, как повышают барьеры. Пан Мачей явно тревожился, Стефа волновалась, панна Рита была увлечена происходящим.
Старт! Первым ехал Вальдемар.
Первый барьер… Удачно! Аполлон на миг повис в воздухе, легко коснулся земли и помчался вперед. Второй барьер… Удачно!
Третий, четвертый… Великолепно!
Аполлон первым достиг финиша.
Князь Гершторф поздравлял победителя, со всех сторон неслось, громогласное «Браво!». Все кони майората показали себя неплохо, но лучшим наездником оказался сам майорат, непринужденно и ловко управляющий конем. Аполлон прямо-таки пропархивал над барьерами. Жнин и Брохвич держались напряженнее. Ехавший последним на Саламандре, красивой гнедой кобыле из Слодковиц, Трестка, явно боявшийся, чересчур сильно натягивал поводья, и Саламандра задевала копытами каждый барьер. Породистая кобыла держалась прекрасно, скакала красиво, смело прыгала через препятствия, но испуг седока передавался ей, и она теряла уверенность в себе, горячилась, при каждом ударе копытами о доски нервно вздрагивала, перед каждым новым препятствием задирала голову, словно бы постановив, что уж этот-то барьер возьмет обязательно, отринет страх, покажет себя во всей красе и ловкости. Но испуганный Трестка снова натягивал поводья сильнее, чем нужно, сжимал коленями ее бока, и копыта вновь ударяли по доскам. Кое-как он финишировал.
— Лошадь великолепная, а вот седок будет малость похуже! — громко заключил Гершторф.
Разозлившийся Вальдемар подъехал к Трестке и укоризненно сказал:
— Нужно было заранее предупредить, что вам страшно. На третий круг можно было и не идти.
— Но позвольте! Все неслись сломя голову, а я должен был отступать? Это вашей кляче нужно пулю в лоб пустить, большего она не заслуживает. У меня до сих пор эти удары в голове шумят.
Вмешался князь:
— Лошадь отличная, вот только вы, пан граф, к арабам не привыкли. Не стоило и пробовать. Могли бы ехать и на фольблюте, может, английская кровь больше соответствовала бы вашей горячности. А так — полный крах!
Трестка снял пенсне:
— Одно утешает — здесь было столько отличных наездников, что на меня, наверное, никто и внимания не обратил.
— А панна Шелижанская? — спросил Брохвич.
— Да она, должно быть, меня и вовсе не заметила.
Кони направлялись в конюшни шагом — толпы придвинулись со всех сторон, чтобы лучше рассмотреть возвращавшихся всадников, едва ли не преграждая им дорогу. Некая молодая симпатичная особа жадно глазела на майората; когда всадник поравнялся с ней, она заявила довольно громко:
— Как он ловок, как красив!
Вальдемар, очнувшись от задумчивости, услышал ее слова и рассеянно глянул на нее; перехватив ее восхищенный взгляд, усмехнулся и невольно прикоснулся к шляпе, что еще больше восхитило незнакомую даму. А он посерьезнел, спрашивая себя: видела ли Стефа, как он проехал, понравилось ли ей? Шепнул себе:
— Меня начинают интересовать такие вещи? Интересует, что обо мне подумают? Невероятно!
Начался новый заезд. Теперь поскакал и Вилюсь на Бекингеме. Барьеры понизили до прежней высоты. Панна Рита, встав в ложе, беспокойно вздрагивала, цедя сквозь зубы:
— Бекингем взял бы барьер и повыше, но только не под Вилюсем, получилось бы, как с Тресткой…
Она застыла, выпрямившись, перед каждым прыжком коня лицо ее кривилось, словно от физической боли. Но заезд удался. Вилюсь ехал смело, с отважным выражением лица, то и дело бросая взгляд на ложу, в которой сидела Стефа. Он сражался под ее штандартом.
Когда заезд окончился, Рита облегченно вздохнула:
— Ну что ж, Вилюсю повезло! Мне чуточку жаль, что барьеры не установили повыше, но тогда их могли бы взять только кони майората. Никаких сомнений — золотая медаль ему и достанется.
— Быть может, и ваши кони… — начала было Стефа, но ее отвлек разговор возле их ложи — молодая женщина довольно громко произнесла что-то по-французски, и тут же раздался веселый, кокетливый смех.
Стефа посмотрела в ту сторону.
Мимо в сопровождении старого господина и двух молодых людей проходила молодая панна, высокая, загорелая, очень красивая брюнетка, прекрасно и со вкусом одетая. В одном из молодых людей Стефа узнала князя Занецкого. Панна Рита, тоже выглянув было из ложи, вдруг поспешно откинулась назад и шепнула Стефе, прикусив губы:
— Это Барская с отцом.
Стефа тоже откинулась в глубь ложи. Графиня тем временем поднималась по ступенькам.
Пани Идалия поздоровалась с ней первой, крайне учтиво, княгиня Подгорецкая — вежливо, степенно, Люция — холодно. Несколько мужчин торопливо поднялись и подошли поздороваться с улыбками на лицах. Барская торжествовала, принимая многочисленные знаки внимания. Панна Рита нагнулась к Стефе и, притворяясь будто ничего этого не слышит и не видит, прошептала:
— Видите эту толпу вокруг нее? Видите? Не оглядывайтесь! — и громко сказала: — Не правда ли, хорошо идут кони? А Идалька как перед ней стелется… Прекрасные кони! — и вновь шепотом: — Ну, пусть Идалька потешится, толку все равно не будет…
Стефа, развеселившись, слушала и тоже что-то отвечала громко, совершенно невпопад. Со стороны казалось, что они увлечены скачкой.
Но вот графиня подошла к ним совсем близко. Не замечать ее далее было бы просто невежливо, тем более что граф Барский громко поздоровался:
— Бонжур, мадмуазель Маргарита! Ах, я очарован Бекингемом! Великолепный конь!
Панна Рита великолепно изобразила удивление:
— Граф, куда же вы пропали? Не видела вас в ложах!
— Мы были в ложе возле судейской трибуны. Я и Мелания. А вот и она!
Пока панна Рига и Барская здоровались, граф искоса поглядывал на Стефу, гадая, кто она такая и как с ней следует держаться. Но панна Рита быстро пришла на помощь:
— Граф Барский — панна Рудецкая.
Она представила Стефу таким образом, что граф уверился, будто это девушка «из общества». Она ему даже понравилась, но тут же он задумался: Рудецкая, Рудецкая… странно, кто это? Он наморщил брови и мысленно перелистал страницы Несецкого, [55]ища там Рудецких. Панна Рита тем временем представила Мелании Барской Стефу — тем же образом. Не зная Несецкого, как ее отец, она тем не менее тоже пыталась вспомнить, что ей известно о Рудецких. Красота Стефы неприятно задела ее.
Завязался легкий светский разговор. Появление майората мгновенно придало ему веселую живость. Графиня обратила на него все свое остроумие. Трестка сел рядом с Ритой и Стефой.
— Все хвалят майората, а вы могли бы и меня похвалить, — сказал он словно бы шутливо, но довольно хмуро.
Панна Рита пожала плечами. Стефа стала уверять графа, что если бы не его нерешительность в седле, все могло бы обернуться иначе.
— Но в общем, вы выглядели неплохо, — закончила она с комичной серьезностью.
— И на том спасибо… Не хватило вас на коротенький комплимент!
— А я и не собиралась говорить вам комплименты.
— Ну что же, вы по крайней мере откровенны, а это лучше фальшивых похвал, какими меня осыпала графиня Паула… а сама тем временем подмигивала этому ослу Вейнеру. Черт меня раздери, нечего меня утешать!
— Граф!
— О, простите! Я забылся… Пардон! Наблюдавший за их разговором граф Барский, улучив момент, легким шевелением указал на Стефу и спросил у Занецкого:
— Qui est зa?[56]
— Учительница и dame de compagnie[57] малышки Эльзоновской, мадмуазель Стефания Рудецкая.
Глаза графа расширились от удивления:
— Учительница? Отчего же Рита?.. Что за шутки! Учительница!
Занецкий с многозначительной улыбкой шепнул графу:
— On l'accepte trиs bien, [58]особенно старый Михоровский… и майорат.
Барский быстро, тревожно глянул на Стефу. Ироническая гримаса появилась на его губах:
— Que c'est ridicule![59]Откуда она?
— Дочка какого-то загонового[60] из Царства.
— Ах, вот что! «Шляхтич в своем огороде всегда равен воеводе!» Ну, времена этого девиза прошли… да и не было их никогда.
— Mais elle n'est pas mal?[61]
— Qui, pas mal![62]Но какую шутку сыграла Рита…
Граф скривился, уверенный, что панна Рита поступила весьма нетактично. В общественном месте можно столкнуться со множеством особ, но представлять их аристократам, как равных?! Граф шевельнул пальцами, словно говоря:
— Чего же еще ждать от этих Шелиг?
XXVII
Сразу после заезда состоялось вручение наград. Перед красивым павильоном высокопоставленный чиновник городской управы оглашал имена удостоенных, потом с соответствующей короткой речью вручал им награды. В этот миг громко пели фанфары. Кони майората получили золотую медаль, врученную владельцу с превеликим почтением, множеством приятных слов и улыбок. Высокопоставленный чиновник прекрасно умел дозировать теплоту своих рукопожатий и слов. Панна Рита получила серебряную медаль, напутствуемая парой вежливых фраз и откровенно игривыми улыбками местного сановника. Участникам поскромнее награды вручали вежливо, но вовсе без речей.
Вечером, после того, как господа «из общества» посетили концерт и развезли дам, некоторая их часть собралась в веселом ресторанчике Гофмана.
Ярко освещенный зал был окутан дымом сигар и ароматами вин. Цыганский оркестр играл громкие, диковатые мелодии. Щелканье кастаньет в руках смуглых испанок мешалось с крикливыми голосами цыганских певиц. Их красочные одежды, горящие глаза, низкие вырезы рубах, порывистость движений создавали впечатление, будто веселая компания находится где-то перед вратами ада.
В одном из кабинетов за фортепиано сидел Брохвич и, воодушевленно жестикулируя, встряхивая растрепавшимися волосами, играл «Малгожатку». Его красивые темные глаза смеялись, белые зубы весело сверкали.
Внезапно он обернулся и позвал:
— Трестка, подпевай!
Молодой граф медленно подошел к нему, встал у фортепиано, умостил на носу пенсне и вперившись взглядом в угол, сделал шеей такое движение, словно поправлял некую машинку, скрывавшуюся в его горле.
Брохвич рассмеялся:
— Ну что, аппарат готов?
— Начинай! — буркнул Трестка, державшийся очень торжественно.
Малгожатка, ты достойна любви!
Малгожатка, мои чувства пойми!
Малгожатка, ты любви моей верь…
Раздался общий смех.
— Что такое? — удивился Брохвич.
— Трестка, в чью честь вы поете? — раздалось со всех строи.
— Трестка смешался:
— Что? Да просто пою «Малгожатку»…
— Браво, браво, Юрек! Лучшей песенки ты для него подобрать не мог!
— Да что такое? — не понимал Брохвич и вдруг тоже расхохотался. — Ну да, верно! Трестка, продолжаем! Малгажатка-Маргаритка-Ритка…
— Одурел ты, что ли? — крикнул Трестка.
— Ты ведь почти то же самое пел…
— Черт меня раздери! — зло крутнулся на пятке Трестка и решительно направился в угол зала, куда только что вглядывался с таким вниманием.
— С ума вы все сошли, — буркнул Вилюсь Шелига.
— А где же майорат? Он обещал быть, — сказал Жнин.
— Запаздывает — сказал Брохвич и продекламировал: — У каждого есть своя Малгожатка…
— Тихо! А то войдет и услышит… — оглянулся Жнин. — И надерет вам уши за себя и за меня, — буркнул в углу Трестка, но никто его слов не услышал.
Жнин поднял палец и, словно грозя кому-то, сказал, подчеркивая каждое слово:
— Это весьма выдающаяся девушка, только вот не позволяет исследовать температуру своих горячих глаз…
— Быть может, температуру ее глаз удастся сделать еще горячее, — пробормотал барон Вейнер.
— Да уж не вам! — запальчиво сказал Вилюсь.
— Боюсь, что и не вам тоже.
— У майората больше всех способностей к экспериментам с температурой.
— И, добавлю, шансов! Брохвич сказал:
— Господа, советую вам до прихода майората закончить о панне Стефании, иначе в этом кабинете температура поднимется так, что от нас останутся одни угольки.
— Неужели он так увлечен? — спросил Занецкий.
— Il l'adore![63]Притом ее гордость держит его на коротком поводке. Это принцесса в обличий скромной шляхтянки.
— Но какое у всего этого может быть будущее?
— Уж Михоровский придумает, как все закончить!
— А-ля маркиза Помпадур? Да?
— Или — алтарь…
Молодой князь Гершторф поразился:
— Да что вы такое говорите? Насколько я знаю панну Рудецкую, любовницей майората она не станет, я женитьба… никогда Михоровский на ней не женится!
— А насколько вы знаете Михоровского? — спросил Брохвич.
— Любовница… в конце концов, это возможно. Но алтарь! Михоровский — словно запертый на все замки сейф. Пока он сам не откроется, открыть его невозможно. И не заглянуть внутрь, не узнать, что там творится…
— Ну, если это сейф, то жар глаз панны Стефы он вынесет, — изрек Трестка.
— Да нет, она его прожжет! — пробормотал Брохвич. — Она добродетельна, как святая, но в глазах у нее таится дьявол темперамента — а это самая опасная разновидность дьяволов. Кокетливый дьявол не смог бы завоевать майората, но этот…
Жнин поднял голову:
— О да, темпераментом Стефа обладает! А что она принцесса — тем лучше! Наибольшим наслаждением будет овладеть ее короной. О, знай я, что это удастся, был бы согласен стать при ней пажом! Что вы меня пожираете взглядом? — спросил он, увидев злое лицо Вилюся.
— Жду, когда вы закончите монолог о панне Стефании, — грубовато ответил студент.
— А чем вам мой монолог… эге, пан Вильгельм! У вас такая физиономия, словно вы тоже не прочь в пажи! Ну-ну, не раздувайте так ноздри! Готов поклясться чем угодно, что вы в нее влюблены!
— Открыл Америку! — засмеялся Брохович. — Заплесневевшую старую истину считаешь своим открытием…
Жнин рассмеялся:
— Ах, вот как! Браво, пан Вильгельм! Нужно признать у вас отменный вкус. Если бы к нему еще и шансы…
— Тихо! Майорат! — шепнул Трестка.
Вилюсь насмешливо рассмеялся:
— Ну, быстренько ищите другую тему для разговора! Вальдемар вошел быстрым шагом и огляделся. Весело спросил:
— Ну, хорошо развлекаетесь?
— Неплохо! — ответил Брохвич.
— А почему Трестка такой грустный?
— Обиделся на экспертов, не одаривших золотой медалью волов его, — сказал Брохвич.
Однако вмешался Жнин:
— Да нет не в том печаль. Граф Трестка только что распевал «Малгожатку», и слова песенки побудили его к размышлениям…
— «Малгожатку»? — усмехнулся Вальдемар. — В точку попал!
Трестка уставился на него:
— А вы где были так долго?
— В конюшне. Саламандра прихворнула. Ветеринар говорит, от переутомления.
— Ну конечно! — хлопнул в ладоши Брохвич. — Из-за Трестки она заработала истерию. Глядя на скачки, я пожалел, что не обретаюсь в шкуре бедной Саламандры, на ее месте я уж так взбрыкнул бы, чтобы Трестка улетел не то что за барьер — за ипподром. Правда, чтобы подсластить пилюлю, я бы постарался, чтобы он приземлился прямиком на ложе панны Риты.
— Довольно, Юрек, оставь его в покое! — сказал Вальдемар. — Я хочу обратить ваше внимание на одно сегодняшнее событие, которое мне пришлось весьма не по вкусу… но что это? Здесь нет вина?
— Черт, а мы заболтались и о вине совсем забыли!
— Эй, слуги! — позвал Вальдемар. — Господа, съедим что-нибудь?
Все переглянулись.
— Мы же недавно ужинали.
— Я, пожалуй, съем устриц, — сказал Брохвич.
— Можно еще и омаров.
— Омаров, устриц и шампанского! — приказал Вальдемар лакею.
Брохвич потянул Вальдемара за рукав и шепнул:
— Вальди, ты только приглядись к этой банде цыганок! Пикантные, верно? Особенно вон та, увешанная цехинами, — глаза, что Везувий! А испанки? Ням-ням! Гофман уж постарался!
Вальдемар выглянул в зал сквозь полуоткрытую дверь и чуть пожал плечами.
— Кривляки, попугаи! — сказал он, угощая друзей сигарами.
— Ну, ты сегодня ужасно лаконичен! — обиделся Брохвич.
Вошли князь Занецкий-старший, зять княгини Подгорецкой граф Морикони и князь Францишек Подгорецкий. Следом величественно прошествовал в кабинет граф Барский. Внесли шампанское, все подошли к столу. Вальдемар выпил бокал и бросился в кресло. Молча закурил сигару.
— О чем же вы хотели нам рассказать? Что вам пришлось не по вкусу? — спросил молодой Станислав Ковалевский.
Майорат сказал:
— А вы, господа, ни на что не обратили внимания при вручении наград?
— Ну… Разве что на учтивую физиономию губернатора, когда он вручал тебе медаль, да на удивленные глаза Трестки, когда он понял, что ничего не получит, — сказал Брохвич.
— Ну, насколько я знаю, граф Трестка получил все же похвальный листок, — сказал Занецкий.
— Ха-ха-ха!
Вальдемар выпустил клуб дыма:
— Довольно шуток! Разве вас не удивили фанфары?
Князь Гершторф резко обернулся к нему:
— Фанфары! Ну, конечно! Они особенно выделяли титулованных призеров!
— Скандал! — вскочил Вальдемар с кресла. — Такого терпеть нельзя! Когда получал награду кто-то из нашего круга… или даже богатый нувориш, фанфары играли особенно долго и громко, оркестр словно с цепи срывался.
Когда награждали промышленников, простых граждан или малоизвестных участников из Варшавы, фанфары едва изволили отзываться, а пару раз вообще молчали. Стыд! Это вина нашего товарищества! Кто приказал так поступать? Участник есть участник, и точка! Если уж кто-то отличился и получает награду, должны звучать фанфары, Михоровский это, Таковский или Сяковский! Меж ними не должны были делать разницы — но сделали! И она бросалась в глаза! Обиженные не станут жаловаться в голос, но начнут перешептываться, а самые остроумные возьмут нас на язычок. Они к тому же знают, что в оргкомитете большинство — из нашего круга, и могут подумать, что ими попросту пренебрегают. Я говорил об этом председателю, но…
— А не говорил ли я вам? — спросил молодой князь Гершторф. — Граф Мортенский, некогда дельный человек, нынче не видит и не слышит, что у него делается под самым носом!
Михоровский пожал плечами:
— Что правда, то правда!
Князь Занецкий подошел к Вальдемару:
— Вы правы, промашка получилась, — и добавил тише: — Я вам давно говорил, что Мортенский поддерживает только высшие круги.
К ним приблизился граф Барский и сказал с таким выражением лица, словно только что велел обстрелять из орудий весь земной шар:
— Позвольте сказать, господа! Я весьма удивляюсь вашим словам, пан Михоровский. Должны оставаться некие различия между патрициями и плебеями. По моему мнению, директор оркестра своей затеей с фанфарами проявил большой такт.
— Что до участников, все получили по достоинству.
— Значит, для простой справедливости и беспристрастного суда вы места не находите? — взорвался майорат. — К чему тогда эксперты? Вывесим на выставке огромный щит с перечнем наших заслуг, а на достижения людей простых и внимания не стоит обращать! Если уж начали, закончим совершеннейшим свинством!
Граф Барский воздел голову еще величественнее. Глядя на Вальдемара, он менторским тоном изрек:
— Щиты с гербами у нас и без того имеются, не стоит вывешивать их лишний раз. На выставке мы всем открываем дорогу, можем оценивать их и награждать, но… соблюдая меру.
— Глупости! — буркнул Вальдемар. — У нас два пути, — продолжал майорат.-Либо способствовать развитию производителей из трудовых классов, либо не устраивать больше выставок.
— Решительно ставите вопрос! — вмешался граф Морикони, хмуря брови и так сильно потирая ладони, словно крошил что-то в них.
— Иначе нельзя. Без участия простых людей выставки станут напоминать карнавал для людей нашего круга. Развлечений будет масса, но не более того. А награды? Ну, конечно, мы ими осыплем друг друга. Выстави я свое старое пальто и стоптанные калоши, наверняка получу золотою медаль.
Брохвич и Трестка расхохотались, потом Трестка вмешался:
— А мне такая система нравится. Так легко будет получить золотую медаль!
— Ну, у тебя и сейчас есть похвальный лист.
— Сдается мне, исключительно благодаря деликатности экспертов.
— Ничего подобного, Трестка! Ты его заслужил. Если бы мне несправедливо присудили золотую медаль за коней, я бы ее вернул; но будь я тем пчеловодом, с которым поступили по-свински, уж я бы поучил экспертов уму-разуму!
— Экспертами по пчеловодству были дамы.
— И мужчины тоже! Быть может, в этом и была ошибка: они больше занимались флиртом, чем пчелами.
— Экий вы насмешник! — засмеялся князь Занецкий.
— Я говорю чистую правду! Любой может понять, что высшая награда по праву принадлежала этому пчеловоду, чем мне или множеству других. Имеющий глаза да увидит! У меня — деньги, образование, я знаком с новейшей культурой производства, а у него один лишь жизненный опыт, ум и крестьянская бережливость. Кто из нас потрудился больше? И при чем тут гербы, имена и общественное положение?
Барский потрогал шею, словно опасался апоплексического удара, и приглушенным голосом изумился:
— Неслыханно в устах аристократа! Что за кощунство!
Вальдемар громко засмеялся, поднял руки и, подражая пафосу графа, воззвал:
— О, смилуйся, граф!
Граф выпрямился, величественный, но удивленный:
— Что? Вы vraiment?[64]
Вальдемар смеялся, расхаживая по комнате. Брохвич шепнул ему на ухо:
— Посмотри! Барского обуяло магнатское безумие. Сейчас его удар хватит.
Занецкий старший, коснувшись руки Барского, спокойно сказал:
— Отложим дискуссию! Дорогой граф, выпьемте лучше вина.
И потянул тяжело дышавшего магната к столу. Увидев полные бокалы, Барский успокоился. Майорат посмотрел на него и произнес с усмешкой:
— Все у нас этим и кончается…
Зазвенели бокалы. Брохвич, обняв за плечи Михоровского и Жнина, шепнул:
— Посмотрите только на Вилюся!
Студент стоял в полуоткрытой двери, подавшись вперед, побледнев, затуманенными глазами пожирая поющих цыганок. Вытянув шею, он таращился на них с любопытством новичка и напоминал подстерегающего мышь кота.
Вальдемар усмехнулся:
— Сущие конфетки, верно? Неплохой цветничок!
Но Вилюсь его не слышал.
Брохвич, тихонько подкравшись к юноше, сильным толчком выпихнул его за порог.
Ошеломленный Вилюсь внезапно оказался посреди зала.
Две цыганки бросили в него цветами и закружились вокруг в чардаше.
Вилюсь казался совершенно одуревшим.
— Ха-ха-ха! — рассмеялся граф Барский.
Ему вторил Морикони.
Вальдемар скривился:
— Юрек, что за глупости? Брохвич заходился от смеха:
— Да ты только посмотри на него! Как он от них шарахнулся!
Трестка затащил Вилюся назад в кабинет. Юноша скорее был возмущен, чем зол; но он уже осушил несколько бокалов и потому исподлобья воззрился на Брохвича.
— Смотрите, Трестка в роли няньки! — хохотал Брохвич. — Ничего удивительного, Вилюсь — его будущий шурин…
— Оставьте его в покое! Юрек, ты сегодня совершенно шальной, — сказал Михоровский.
Князь Гершторф поднял бокал:
— Господа, выпьем за сегодняшних обладателей наград, и в первую очередь за майората!
— Нельзя — нет панны Риты, а ее тоже наградили!
— От ее лица выпьет граф! — засмеялся Вальдемар, чокаясь с Тресткой.
— Тогда уж — и за мой похвальный лист!
— Непременно!
Посыпались новые тосты. В зале гремела музыка. Пылкая, дикая мелодия чардаша будоражила кровь. Брохвич подошел и широко распахнул дверь.
В кабинет проникали запахи вина, помятых цветов и крепких духов. В зале развеселились не на шутку — громкий смех, болтовня, песни цыганок отдавались в кабинете. Несколько мужчин подошли к двери и неотрывно смотрели в зал.
Черноволосые темпераментные испанки потрясали кастаньетами, их черные глаза рассыпали искры. Красочные, как бабочки, женщины очаровывали красотой движений, соблазняли. Песни, музыка, шум, стук кастаньет и своеобразный запах разгоряченного зала дурманили. Серые глаза Михоровского заискрились, в них блеснул огонь. Горячая кровь уже вскипела в нем. Он сделал шаг вперед, пытался иронически посмеяться над собой, но притяжение зала оказалось сильнее. Внезапно перед ним мелькнули ясное личико Стефы и ее большие темно-фиалковые глаза, затененные пышными ресницами, словно светящие в ночи звезды. Он вздрогнул… видение растаяло. Лицо его изменилось, он равнодушно посмотрел в зал, отвернулся и пожал плечами.
Майорат хлопнул в ладоши. Появился лакей. Михоровский велел подать пальто.
— Вальди, ты уходишь? Бросаешь нас? — удивился Брохвич.
— Потешный ты, Юрек! Доброй ночи!
— Я ухожу с майоратом, — сказал молодой Гершторф.
— И я, и я! — раздалось несколько голосов.
— Ну, тогда и я с вами! — крикнул Брохвич.
Трестка тоже встал, будя задремавшего Вилюся.
Вскоре кабинет опустел.
Когда они проходили через зал, одна из испанок заступила Михоровскому дорогу и, ударяя в кастаньеты, обдала его черным пламенем прекрасных глаз.
Майорат неприязненно отшатнулся.
На улице перед входом стояли ландо и кареты. Кучера почти все спали, клюя носами на козлах. Но Бруно из Глембовичей чутко бодрствовал. Вальдемар попрощался с друзьями и откинулся на подушки. Рядом с ним сел Брохвич.
Когда экипаж тронулся, Брохвич сказал:
— Вальди, ты невероятно изменился.
— Изменился, — словно эхо, отозвался майорат.
XXVIII
Назавтра пани Идалия со Стефой и Люцией возвращались с выставки в ландо Вальдемара. Он сам сидел впереди, рядом с Люцией. Когда они выходили из отеля, швейцар подал Стефе запечатанный конверт. Девушка радостно вскрикнула:
— Письмо от отца!
Распечатала конверт и быстро пробежала письмо глазами:
— Отец остановился в отеле «Европейский»… Он был здесь, но меня не застал… — она умоляюще глянула на пани Идалию. — Вы мне позволите увидеться с отцом?
— Конечно, но вы вернетесь к ночи?
— О да!
— Надеюсь, ваш батюшка нанесет нам визит…
— Я возьму второй экипаж и отвезу вас, — сказал Вальдемар.
— Спасибо, я поеду на извозчике.
Стефа попрощалась с паном Мачеем и Люцией.
— Вы упорно не хотите ехать со мной? — спросил Вальдемар.
— Я же сказала, возьму извозчика.
— Очень тактичная девушка, — сказала баронесса отцу, когда Стефа и Вальдемар покинули экипаж. — Вальди временами чересчур уж галантен.
— Ему вольно было предложить, ей отказаться, — сказал пан Мачей.
Провожая Стефу, Вальдемар обратил внимание на ее волнение и поинтересовался:
— Что с вами происходит, пани Стефания?
— Я давно не видела отца.
— Но вот уже несколько дней, как я вас не узнаю. Выставка странно на вас повлияла.
— Хорошо или плохо? — прикусила губу Стефа.
— Непонятно. Вы чем-то глубоко озабочены… Она подняла на него задумчивые глаза:
— Значит, вы заметили?
Подавая ей на прощание руку, Вальдемар сердечно шепнул:
— Будьте веселой… и верьте мне.
— В чем это? — гордо выпрямилась она.
— Вы знаете, только боитесь дать себе в том отчет, — чеканя каждое слово, сказал Вальдемар.
Лишь сев на извозчика, Стефа вздохнула с облегчением. Он отгадал, понял то, чего она больше всего боялась, скрывала даже от самой себя…
Она ощутила себя счастливой, словно гуляла среди лугов, полных благоухания. Знала, что заблудилась, но не искала других дорог. Зачарованный сад раскинулся перед ней, цветущий, благоухающий. Закрыв глаза, она упорно слушала чудесную музыку. Раньше она любила жизнь, теперь прямо-таки обожала ее. Она боялась, что кто-то отгадает по ее лицу ее мысли — и эти страхи в сочетании с сияющими глазами делали ее еще прелестнее.
— Стефа! — радостно вскрикнул пан Рудецкий, вскакивая при виде входящей дочки.
— Папочка!
Стефа долго расспрашивала отца о матери, о младших братьях и сестрах, о доме, соседях. Пан Рудецкий приглядывался к ней радостно, но испытующе. Наконец, он спросил:
— Ну, а как твои дела, детка? Письма-то ты пишешь веселые… А что оно на самом деле?
Стефа обняла отца и спрятала лицо на его груди:
— Все прекрасно, папочка! Люция очень милая девочка, и мы любим друг друга.
— Ну, а пани Эльзоновская? А этот ваш любимый дедушка, которым ты так восхищаешься? Как его зовут, вечно забываю?
— Пан Мачей.
— Ну да! Пан Мачей Михоровский… Говоришь, он тебя любит?
— Он самый лучший! Да и все они не такие, как о том часто думают.
— Потому что это — подлинные аристократы.
— О да! Настоящие магнаты! — воодушевленно воскликнула Стефа.
Пан Рудецкий, чуть отодвинувшись, окинул дочку взглядом:
— Смотрите, как они тебя завоевали! Волшебники какие-то. Но это им Бог дал счастье тебя узнать. Ты прекрасно выглядишь, похорошела… Я тобой любовался на скачках.
— Папа, вы там были?!
— Был. Я приехал вчера утром, были срочные дела, и никак не удавалось с тобой увидеться раньше, да и не хотелось мне идти в ту ложу, где ты сидела. Я тебя видел издалека, а ты меня, понятно, в толпе не разглядела.
— А где вы сидели?
— Я просто проходил по площади, не было времени сидеть и смотреть. Увидел тебя и остановился. Но ты была всецело поглощена зрелищем. — Стефа порозовела. — Я попал к самому интересному: скакали кони майората. Отличные, должно быть, у него конюшни! А на этом прекрасном арабе, наверное, ехал сам майорат?
— Да, пан Вальдемар был на Аполлоне.
— О! Отличный конь, но и седок ему под стать. Он часто бывает в Слодковцах?
— Довольно-таки.
Пан Рудецкий задумался. Стефа опустила голову, обеспокоенная, оробевшая вдруг. Украдкой поглядывая на нее, отец сказал:
— Детка, расскажи, как все получилось с Эдмундом Пронтницким? Ты очень скупо об этом писала.
— Папа, это было так мерзко! К чему вспоминать?
— Но как же все-таки было?
Стефа вкратце рассказала, помимо воли распаляясь. Пан Рудецкий не спускал с нее глаз:
— Значит, в том, что тебя избавили от этого болвана, заслуга главным образом майората?
— Да, он не отвечал требованиям майората.
Пан Рудецкий усмехнулся: такой аргумент его не убедил. Он задавал себе вопрос: а может, и подошел бы Пронтницкий магнату, не будь тут замешана Стефа? В нем родились смутные подозрения…
Прогуливаясь по комнате и разговаривая с дочкой о будничных делах, он не спускал с нее внимательного взгляда. Это смущало Стефу. Меж ними словно встало вдруг нечто неприятное. Наконец пан Рудецкий, усевшись рядом с дочерью, взял ее за руку и не спеша заговорил:
— Стефа, знаешь, что поручила мне мама? Забрать тебя домой. Мы скучаем без тебя, детка…
Стефа покраснела, потом побледнела вдруг. Губы ее приоткрылись, словно она хотела кричать. Почти в испуге она посмотрела на отца:
— Домой? Меня? Папочка!
— Я приехал за тобой, — сказал пан Рудецкий. Девушка повесила голову. На ее бледные щеки упали тени длинных ресниц.
— Это невозможно! — воскликнула она.
— Почему?
— Потому что договор… с пани Эльзоновской… на год. Я дала слово…
— Но и мы не можем больше без тебя. Стефа порывисто прильнула к отцу:
— Я знаю, папочка, но это невозможно! Что они подумают? Нет, так нельзя! Папа! Я вас с мамой очень люблю… но домой! Прямо сейчас? Нельзя!
Она умоляюще смотрела на отца. Пан Рудецкий ласково привлек ее к себе, но на лице его отразилось беспокойство — подозрения его крепли…
— Бедная мама очень огорчится, она так тебя любит, — сказал он.
Стефа вскочила. Лицо ее пылало, глаза горели, подернутые слезами. Она сделала движение, словно хотела схватиться за голову обеими руками, нервно сжав губы. Пан Рудецкий удивленно смотрел на нее:
— Девочка моя, что с тобой?
— Ничего, папа! Я только хотела сказать, что вернусь к вам, если это обязательно, но…
— Стефа! — Рудецкий схватил ее в объятия. — Девочка моя дорогая! Я пошутил. Конечно, ты останешься, конечно, нельзя нарушать договор, коли уж мы дали слово… Я только хотел узнать… узнать… любишь ли ты нас по-прежнему.
— Папа! Ты еще сомневаешься? — воскликнула она с полными слез глазами.
Но в ее восклицании звучали уже и победные нотки.
Она обняла отца и жарко целовала его в лицо, в глаза, не в силах скрыть горячей благодарности. Боясь, что обидела его отказом, хотела загладить горячей сердечностью неприятную минуту.
Но пан Рудецкий, о многом догадываясь, притворялся, будто ничего не замечает.
После долгих ласк Стефа обрела прежнее веселое настроение. Рассказала несколько забавных историй из ее нынешней жизни, о поездке в Глембовичи, о потешном Трестке, смеялась, шутила, так что в конце концов и пан Рудецкий повеселел. Но глядя на нее, когда она с жаром рассказывала о блестящих аристократах, беспокойно думал: «Она очарована ими, этот мир манит ее… Странные люди — так умеют очаровать… Люди? Или один человек?»
XXIX
Два дня Стефа почти не разлучалась с отцом. Они вместе гуляли, вместе обедали. Вечером Стефа возвращалась в отель и попадала в объятия Люции, печально жаловавшейся, как ей скучно:
— Я без тебя не могу, мне так тоскливо! Люция уже называла Стефу по имени. Узы дружбы между учительницей и ученицей очень окрепли в последнее время.
В один прекрасный день пан Рудецкий нанес визиты пани Эльзоновской и пану Мачею. Он им очень понравился, умел держаться крайне вежливо, но с достоинством и своего рода почтением. Он был элегантно одет, умел держать себя в высшем обществе и произвел впечатление человека, обладающего хорошим вкусом. Пани Идалия нашла его «еще лучше», нежели при их первой встрече в Варшаве и принимала весьма радушно. Пан Мачей нашел в нем много симпатичных черт, трезвомыслие и веселость. Пан Рудецкий постоянно высматривал украдкой кое-кого еще, но во время его визита Вальдемара не было. Однако пан Мачей, словно отгадав мысли своего гостя, пригласил его назавтра на обед. К этим приглашениям присоединилась и пани Эльзоновская.
— Соберется несколько ближайших друзей, будет и мой внук, — сказал пан Мачей. — Хочу, чтобы вы познакомились.
На обед приехали Вальдемар, княгиня, панна Рита с братом и неотлучный Трестка.
Пан Рудецкий, подвергнутый испытанию, выдержал его с честью. За столом пани Эльзоновская наблюдала за ним, но пан Рудецкий держался превосходно. С Вальдемаром он поздоровался вежливо, оба не скрывали интереса друг к другу и были взаимно обходительны. Только пани Идалия укоризненно глянула на Вальдемара, когда он кланялся пану Рудецкому: так уважительно Вальдемар не приветствовал даже старых аристократов своего круга. Все остальные тепло приняли пана Рудецкого, даже Трестка отбросил свое обычное фанфаронство.
Избранное общество и учтивые беседы способствовали тому, что пан Рудецкий стал лучше понимать дочку, открыл, что круг этих людей и в самом деле притягивает.
С майоратом пан Рудецкий много разговаривал о конях, скачках. Коснувшись мимоходом университетов Бонна и Галле, они перешли к только что закончившейся выставке. Майорат умел направлять разговор, сдабривая его то хорошего тона шуткой, то долей необходимой иронии.
Трестка рассыпал много шуток, но юмор его был другого характера, чуточку буршевский, не портивший, впрочем, беседы.
Одним словом, небогатый шляхтич Рудецкий пришелся здесь «ко двору», завоевал симпатии магнатов и ничуть не выглядел вторгшимся в их общество выскочкой.
Вальдемар крайне его заинтересовал. Рудецкий невольно попал под его обаяние, но, вспоминая о дочке, не переставал тревожиться, считая компанию магната небезопасной для Стефы. Чуял, что девушка не могла остаться равнодушной, что на нее не могло не подействовать очарование майората. И заметил, что Вальдемар оказывает Стефе явное внимание, незаметное на первый взгляд, но достаточно целеустремленное и сильное, чтобы вскружить ей голову. Вспоминая разговор с дочкой в отеле, видя, что Стефа прекрасна и взволнованна, как никогда, старый шляхтич с горечью думал: «Она уже поддалась его чарам…»
Внезапно страшная мысль пришла ему на ум, и он взглянул на майората почти с ненавистью. Взор его таил угрозу.
«Не станешь ли ты несчастьем ее жизни?» — подумал старый шляхтич.
XXX
На раут к графу Мортенскому Михоровский и Брохвич приехали поздно. Оба они пытались сначала уговорить пани Идалию поехать с ними, но баронесса уперлась, будучи слегка нездорова. Все остальные дамы тоже остались в отеле. Вальдемар рассерженно пожимал плечами, но Брохвич махнул рукой:
— А, раскапризничались бабы! Поедем одни.
В особняке графа майорат вызвал всеобщий интерес, хотя держался сдержанно и в разговоры вступал редко. Князь Гершторф стал расспрашивать его о филантропической деятельности Товарищества; председатель граф Мортенский упрекал Вальдемара, что в своих глембовических реформах он перехлестывает через край.
От графа его спас Брохвич, энергично сказавши:
— Я забираю Михоровского с заседания. Предстоит другое, гораздо более приятное — в дамском кругу.
— Ну, он мало дамам внимания уделяет! — сказал Гершторф.
— Зато они ему много. Там он — вечный председатель!
— Мы договорим после, — весело сказал Вальдемар. Отходя, Брохвич прошептал ему на ухо:
— Этим старичкам уже нечего делать среди дам, вот они и нудят… Знаешь, сейчас ты встретишь знакомую!
— Кого?
— Увидишь! Лазурное небо Италии, римские площади, сады Флоренции… Афины, Корфу…
— Что ты несешь?
Но Брохвич уже исчез куда-то. Удивленный Вальдемар отправился дальше. Он оказался в кабинете… и высокая шатенка протянула ему обнаженную руку.
Вальдемар взглянул на нее и вздрогнул:
— Вера?!
— Да, это я. Вы меня узнаете?
— Что вы здесь делаете?
— Приехала с мужем. Мы едем в Петербург.
Вальдемар смотрел на нее холодно, но с любопытством. Тень набежала на его лицо.
Маркграфиня порывисто схватила его за руку, приблизила к его глазам свои, горячие, подернутые поволокою:
— Ты мой навсегда! Я люблю тебя! Он отступил на шаг.
— Вера, мы не в Палаццо Сильва! Опомнись!
— Ты забыл меня? — ее глаза блеснули гневом. — Забыл!
— Маркграфиня, прошу вас, успокойтесь, — тихо сказал он.
Она выпрямилась:
— Я спокойна. Но хочу вам кое-что сказать. Завтра утром мы уезжаем, и долго не увидимся…
— Слушаю вас, — сказал он сухо.
Она взяла его за руку, увела в следующую комнату и прикрыла за ними дверь. Графиня закинула ему на шею прекрасные руки, прильнула губами к его губам, шепча:
— Я любила тебя и любить буду вечно! Жажду тебя! Приезжай в Рим, я твоя, навсегда!
Вальдемар чуточку грубовато отстранил ее:
— Вера, забудем о прошлом. Прошлое мертво…
— Ты зачерствел, слишком долго сидя в этой стране! Приезжай в Палаццо Сильва… помнишь палевый будуар?
Она все крепче обнимала его, обдавая лицо жарким дыханием:
— Вера, прошло четыре года; пора забыть и обо мне, и о палевом будуаре, — сказал он, откровенно скучая.
— А ты забыл?!
— Почти.
Она закинула голову и, полузакрыв глаза, улыбнулась.
— Ты очаровательна, — сказал майорат. — А как поживает герцог де Толедо?
— А почему ты о нем спрашиваешь? — поразилась графиня.
— Потому что он тоже может вспомнить палевый будуар…
Вера убрала руки с его шеи и отступила. Вальдемар преспокойно открыл портсигар и спросил:
— Ты разрешишь закурить?
— Бога ради! — гневно бросила она.
Разжигая сигару, майорат взглянул на нее: стоя к нему спиной, она рвала зубами кружевной платочек.
Михоровский вспомнил часы, проведенные с этой женщиной в роскошном палевом будуаре. Он уселся в низенькое креслице, непринужденно закинул ногу на ногу, выпустил клуб дыма и спросил:
— Ну что, кончено с платочком?
Вера живо подбежала было к нему, но остановилась, опустила голову и, раздирая в клочья остатки платка, хмуро глянула на него исподлобья. Губы ее дрожали.
Майорат испытующе смотрел на нее. Наконец, стряхивая пепел, сказал:
— Я вижу, ты разучилась топать ножкой. Знаешь, это тебе очень шло. А сейчас ты похожа на пансионерку.
Вера упала на оттоманку, закинула руки за голову и тихо смеялась. Тяжелая материя ее платья волнами ниспадала на ковер. Грудь вздымалась, лицо пылало, глаза ее искрились колючими огоньками.
Майорат спросил:
— Что тебя так развеселило?
— Твоя холодность.
— Ты не веришь в ее искренность?
— Ах! Я не ребенок и понимаю, что ты охладел ко мне, не видя четыре года. Вы, мужчины, все одинаковы: чтобы вдохновлять вас, нужно находиться при вас неотлучно.
— Гм! Зато ваша «верность» мало в чем уступает нашей ветрености, не так ли?
— Ты ревнуешь к де Толедо?
— Нет. Коли уж ты решила вернуться ко мне, я прощаю ему все.
— Ты чересчур уверен в себе! С чего ты решил, что я вернулась к тебе?
— Но ты же здесь. И даешь это понять совершенно недвусмысленно.
— Сначала мне пришлось бы как следует изучить письма заменивших меня. Сколько их после меня было?
Майорат сказал не без цинизма:
— Наверняка не меньше, чем до тебя… и, несомненно, меньше, чем гостей в палевом будуаре.
Маркграфиня изящно потянулась. Забрасывая руки за голову, разнеженно сказала:
— Ты великолепен, как встарь. Вот только куришь какую-то дрянную сигару, не иначе, это она делает тебя другим, совсем не тем, что в Риме. Что поделать, я понимаю: эта страна холодит кровь в жилах. По-настоящему прекрасных женщин тут не найти — знаю я этих северных дам… Уверена, они тебе давно надоели.
— Совершенно верно, — бросил он равнодушно.
Вера мягкими движениями тигрицы переместилась ближе к нему; рука ее нетерпеливо похлопывала по бархатной подушке дивана:
— Султан мой, поезжай на зиму в Рим! Я же сказала, что люблю тебя по-прежнему. Поедешь?
Майорат покривил губы. В глазах у него плясали чертики.
— Зачем? Исключительно для того, чтобы дать пощечину герцогу и обновить палевый будуар?
Он склонился и с проказливой усмешкой заглянул ей в глаза.
— Я твоя, — шепнула она.
— Вот видишь? Наш север тебя не заморозил.
Он посмотрел на Веру. Нельзя было остаться равнодушным к этой женщине, по-прежнему прекрасной, преданной ему, невыразимо притягательной. И все же некий холод остужал охвативший его жар.
Маркграфиня положила руку ему на колено и зашептала:
— Мой лев! Помнишь, как я тебя называла? Mon lion.[65]
Другой рукой она обняла его и прошипела сквозь зубы:
— Оставь эту холодность, я начинаю злиться! И откинулась на диван гибко, словно змея:
— Ну, не смотри так на меня! С такой насмешкой! У тебя прибыло стали во взгляде, ты сейчас словно лев над жертвой. Великолепный, но страшный!
Майорат засмеялся, не скрывая иронии:
— Лев? Ха-ха… Не бойся, Вера, мои когти для тебя больше не страшны…
В голосе его прозвучало нечто холодное.
Маркграфиня подняла голову, с любопытством глядя на него блестящими глазами. Тихо, с беспокойством сказала:
— Тебя кто-то останавливает… Скажи, кто это? Новая султанша? Я чувствую, она есть…
Майорат сломал в кулаке сигару. С него, он чувствовал, достаточно. Встал, подошел к ней. Глаза его горели и были поистине страшными.
— Вера! — вырвалось у него.
Маркграфиня встала, простерла к нему руки. Вальдемар перехватил ее запястья и яростно отбросил. Она упала на украшенную кружевами подушку и тихо прошептала:
— Пусть теперь нас покроет мгла…
Вальдемар склонился над ней и сказал спокойнее:
— Только вас одну. Я удаляюсь. Желаю хорошо повеселиться в Петербурге.
Вера вскочила и села. Лицо ее побагровело.
— Уходишь?!
— Да.
Он раскланялся и вышел.
В зале молодой граф Мортенский спросил его:
— А где моя кузина, майорат?
— Маркграфиня Сильва находится в красном кабинете. — Ответил Вальдемар равнодушно.
— Прекрасна по-прежнему, верно? — шепнул граф с циничной улыбкой.
— Помада в таком количество портит самые прекрасные губы, — сделал гримасу Вальдемар.
— Чего же вы хотите? Четвертый десяток на носу!
Майорат отошел, а молодой граф лисьим шагом направился в сторону кабинета.
XXXI
— Папа, значит, вы решительно не хотите идти на концерт и на бал? — спросила Стефа пана Рудецкого.
— Решительно! Завтра мне уезжать домой, а еще многое не сделано.
Стефа насупилась:
— А я-то думала… Хотела быть с вами. На балу будет столько незнакомых мне людей, к тому же почти все они — из высшего общества…
— Ну, там будут и люди попроще; участники выставки. Как-никак это открытый бал на какие-то там благотворительные цели, так что хватит и не таких «бархатных». Бал начнется сразу после концерта?
— Да, в том же зале. Мы вообще не будем на концерте, приедем сразу на бал.
Пан Рудецкий распрощался с дочкой до завтра. Хоть он и уверял, что на бал не пойдет, на самом же деле отправился туда — но как зритель на галерею. Он хотел увидеть Стефу в окружении, которому не очень-то доверял, понаблюдать за ней издали, не выдавая своего присутствия.
Он пораньше пришел на концерт в зал большого отеля, нашел себе и хорошее место в креслах, и хорошее место на галерее. Среди публики на концерте сидело много разодетых для бала дам, но аристократок среди них пан Рудецкий не обнаружил.
Концерт ему не особенно понравился — он знал толк в хорошей музыке, и здешние музыканты его не порадовали. Но убранство эстрады ему понравилось. Там был березовый лесок из настоящих деревьев, сцена была выстлана натуральным мхом, меж деревьями стояли кресла и пюпитры для музыкантов. Они прибыли из столицы, но игра их оставляла желать лучшего.
— Только что громко, — ворчал пан Рудецкий под нос. — А мелодия где же, Боже милостивый?
Певица еще меньше ему понравилась.
На эстраду вышла молодая панна отнюдь не слабого телосложения, в белом декольтированном платье.
Она вышла, придерживая платье, поклонилась. Закинула голову и запела.
Пан Рудецкий поглядывал на нее не без опаски. Во-первых, обнаженный бюст ее приобретал все более багровый оттенок. Во-вторых, ей так перехватывало дыхание, что иные из слушателей даже потянулись к собственным воротничкам, дабы убедиться, что они не душат шею.
Вдруг к уху пана Рудецкого наклонился сидевший рядом молодой человек и, указывая на полные руки певицы, сказал отнюдь не шепотом:
— Пане, это у нее руки или ноги? Что-то распознать не могу никак…
И, не дожидаясь ответа, весьма довольный собой и своей шуткой, рассмеялся.
Во время перерыва многие вышли в коридор и на лестницу, ведущую к ложам. Там уже начиналось движение, знаменовавшее подготовку к балу. Бегали лакеи, из кондитерской несли торты и пирамиды конфет в хрустальных вазах. Тащили корзины цветов для украшения зала. Пан Рудецкий с любопытством ко всему этому приглядывался.
Глядя на лихорадочную суету слуг, на их рвение, прямо-таки вдохновением исполненное, пан Рудецкий подумал, что именно так слуги всегда и трудятся, обслуживая забавы аристократии: работают они за деньги, но при этом еще и преисполнены гордости, что именно их для этого используют. Размышления его прервал стук колес кареты у подъезда. Несколько лакеев ринулись к дверям.
«Начинают съезжаться, пора отправляться на пост», — подумал пан Рудецкий. Вошли двое, громко разговаривая друг с другом; лакеи бросились снимать с них пальто.
— Что, не кончилось еще это вытье? — спросил один из них, молодой, стройный, но уже лысый.
Лакей согнулся в поклоне, наиприятнейше улыбаясь:
— Нет еще, с вашего позволения, ясновельможный пан граф, хоть уже и пора…
— Я не с тобой говорю, болван этакий, — обрезал ясновельможный.
Лакей вновь низко поклонился. Господа задержались у зеркала, потом медленно, размеренным шагом стали подниматься по лестнице, небрежно окинув взглядами пана Рудецкого.
Лакей, в выжидательной позе глядевший, как удаляются господа, резко повернулся и показал язык им в спины… но они уже скрылись в дверях, и вышло, что гримаса эта была адресована пану Рудецкому. Узрев свою ошибку, сконфуженный лакей поспешил ретироваться в ложи.
Развеселившийся пан Рудецкий отправился на галерею. Со своего места он мог видеть входную дверь, лестницу и часть верхнего коридора.
То и дело подъезжали новые гости. Отец Стефы, сидевший рядом с портьерой, мог видеть все, а в случае необходимости, чуть откинувшись за портьеру, был бы невидим снизу. Все до сих пор приехавшие были ему незнакомы. Один из них привлек особенное внимание пана Рудецкого. Это был человек старый, но державшийся прямо и величественно, во фраке в обтяжку. Лицо у него было бледное, словно восковое, на нем выделялись орлиный нос и огромные черные глаза. Поседевшие волосы были на старинный манер зачесаны буклями над ушами, гордо стиснутые узкие губы выражали магнатское высокомерие.
Пан Рудецкий знал, что это Анджей Мортенский, председатель местного сельскохозяйственного товарищества и директор выставки. Рядом с ним стоял какой-то низкорослый пан, толстый и краснолицый, без усов, с пышными бакенбардами а-ля Мольтке.[66]Руки он заложил за спину, стоял с таким видом, словно в грош никого здесь не ставил. Однако на графа он поглядывал с полным почтением, и в этот миг с губ у него не сходила счастливая улыбка. Когда граф обращался к нему, непременно чуточку свысока, руки пана внезапно оживали, и толстые красные пальцы беспокойно сновали у манишки. Он так униженно кланялся, делал столь умильную физиономию, что пану Рудецкому поневоле стало противно.
— Наверняка какой-нибудь мельник из графских поместий! Чтоб горожанин так гнулся!
Концерт никто уже не слушал. Все кинулись смотреть на съезжавшихся аристократов. Пан Рудецкий высматривал пани Эльзоновскую и Стефу, но они еще не появились. Зато прибыли граф Трестка и Вилюсь Шелига. Лакей метнулся к дверям — это вошел майорат Михоровский, сопровождая пана Мачея.
Движение прошло среди собравшихся. Те, кто помоложе, даже выскочили на лестницу. Председатель подался вперед. Он и старший Михоровский приветствовали друг друга крайне почтительно и уже не разлучались. Вальдемара окружили молодые аристократы. Пан Рудецкий внимательно разглядывал его из-за портьеры. Молодой майорат выглядел совершенно иначе, нежели в седле и за обедом — но, быть может, еще великолепнее, ибо безукоризненно сидевший фрак подчеркивал стройность и элегантность фигуры. Он решительно выделялся на фоне окружения. В нем с первого взгляда узнавалась высокая порода.
Приехали старая княгиня Подгорецкая в драгоценных черных кружевах и панна Рита. Княгине предложил руку председатель, Рите какой-то старательно изображавший английского джентльмена юнец, опередивший Трестку.
Барон Вейнер ввел триумфально сверкавшую драгоценностями графиню Чвилецкую. За ней выступала панна Михалина под руку с обругавшим лакея лысым графом и смешливая Паула, опиравшаяся на руку столь же смешливого юноши. Вальдемар с явным нетерпением поглядывал на входную дверь.
«Что же они не едут» — подумал и пан Рудецкий.
— Пане, что же музыка не стихает? — обратился к Рудецкому его сосед. — Бубнят себе и бубнят, а там аристократов понаехало, поди, тоже злятся.
— Кто-то кому-то должен уступить: музыканты аристократам или наоборот, — задумчиво ответил пан Рудецкий.
— Но пока что никто не уступает. А отсюда следует, что все эти господа к искусству мало расположены, да еще плохо воспитаны — и сами не слушают, и другим не дают.
Тут внимание их привлекла суета у дверей. Пан Рудецкий глянул туда и тут же спрятался за портьеру. На лестницу в сопровождении старого князя Гершторфа вступала пани Идалия в пышном бархатном платье и бриллиантах.
Вальдемар вел молодую княжну Подгорецкую. Люция шла с Вилюсем Шелигой. Стефа, окутанная облаком бледно-зеленого крепа, опиралась на руку Трестки. Забыв о предосторожностях, пан Рудецкий высунулся из-за портьеры, чтобы лучше все видеть. Стефа показалась ему попросту прекрасной. Когда она проходила мимо, мужчин, все головы обернулись следом. Пани Идалия в ответ на поклоны кивнула чуть высокомерно, а молоденькая княжна, стройная и премаленькая, — неописуемо изящно. Множество взглядов скрестились на Стефе и Люции — но главным образом на Стефе, потому что большинству из присутствующих она была незнакома. Однако Трестка, сопровождавший ее с прегордым видом, был знаком всем.
Появились граф и графиня Барские с дочерью. К ним тут же подбежал князь Занецкий.
Концерт закончился. После долгих аплодисментов публика стала расходиться, но, не успела и половина из них покинуть зал, как туда уже бросились лакеи, хватая кресла и шумно выволакивая их в коридор. Воцарились гомон и суета. Из-за портьеры вышел Вальдемар, показал рукой в сторону двери и сказал кратко, спокойно, но решительно:
— С этим потом. Сначала — туда.
Лакеи бросились подавать верхнее платье уходящим.
Толчея в зале утихла. Люди покидали его спокойно, без ненужной сутолоки.
«Ого, как он справно! Это вам не лысый граф!» — удовлетворенно подумал пан Рудецкий.
А сосед в очках причмокнул:
— Ну, лихой! Это, чтоб вы знали, майорат… Михоровский из Глембовичей. Ба! Большой пан.
— А вы знакомы лично с майоратом? — спросил он.
— А как же! Здесь, на выставке, познакомились. Я, изволите знать, инженер. А майорат был членом комитета, и самым из них дельным, так что мне посчастливилось не раз с ним общаться. У него были на выставке огромные конюшни. Десять кобыл разных пород, со всех поместий, и тот прекрасный жеребец, чистокровный араб, на котором он так ловко ездил. Да вы наверняка, видели.
— За коней он получил золотую медаль.
— Они того стоят!
— И псарня получила награду. Видимо, у него весьма культурное хозяйство.
— Уж это точно! А ведь совсем молодой. Знаете, он раньше разъезжал по свету, как какой-нибудь набоб, погулял немало. А теперь сидит в своем имении.
Пан Рудецкий погрузился в раздумья.
В зале тем временем воцарился порядок. Садовники устанавливали благоухающие корзинки с цветами. Внезапно из будуара вышли Стефа с Люцией и, держась за руки, пробежались вдоль зала. За ними показались две паненки в возрасте Люции, маленькие, как куколки, в белых платьях. Это были княжны Подгорецкие, внучки княгини Подгорецкой из Обронного. Все четверо весело кружили по залу. Среди тепличных деревьев и цветов девушки казались белыми мотыльками. Стефа, выше ростом и смуглее остальных, вела хоровод. Обе княжны веселились со всем азартом новичков, увлекая за собой и Люцию, державшуюся чуть-чуть серьезнее. Они не обращали ни малейшего внимания ни на зрителей с галереи, ни на суетившихся слуг, почтительно уступавших им дорогу. В коридоре появился Вальдемар, бросил взгляд в зал и оказался среди веселящихся девушек.
— Вальди! Вальди! — закричали княжны.
— Паненки, хоровод! — приказал он весело. Схватил за руки Стефу и одну из княжон, остальные тоже взялись за руки, и все в ритме мазурки сделали несколько кругов по залу.
— Вальди, ты становись в середину, а мы споем! — предложила запыхавшаяся Люция.
— Не нужно, пошли! — сказал он быстро и увлек за собой, взглядом показав на битком набитую галерею.
Девушки сконфуженно разбежались. Вальдемар медленно пошел следом.
Оркестр заиграл вальс, дав тем самым знак, что бал начался. Но пан Рудецкий уже не смотрел на входящие пары, так захватила его сцена, свидетелем которой он только что стал.
— Они всецело ею завладели, всецело… — повторял он, рассеянно слушая соседа. А тот не унимался:
— Какова молодежь, а? Какая грация! А майорат! Он и швец, и жнец, и на дуде игрец! И пахать, и плясать! А красивей всех была та, в светло-зеленом. Интересно, кто такая? Княжна какая-нибудь, не иначе!
«Знал бы ты, что это моя дочка»! — подумал пан Рудецкий гордо.
Бал начался шумно, был полон веселья. Распорядителями в танцах были Вальдемар с графом Брохвичем и еще несколько молодых людей.
Яркие наряды дам перемежались черными фраками, в глазах рябило от драгоценностей и приколотых к платьям живых цветов. Запахи изысканных духов, цветы, колышущиеся веера создавали непередаваемую атмосферу бала. Блестели глаза, гибкие фигуры женщин, изящно опиравшихся в танце на руки мужчин, грациозно склоненные головки — все было исполнено прелести. Мужчины выглядели триумфаторами, их руки смело и уверенно обнимали гибкие станы партнерш. Некоторые, кажется, что-то шептали друг другу на ухо, захваченные уносившим их чарующим ритмом вальса.
Вальдемар пригласил Стефу. Впервые он обнимал ее, впервые чувствовал так близко, гибкую, покорную его движениям. Держал крепко, чувствуя биение ее сердца. Горячее дыхание девушки обжигало его, ее волосы раз и другой мимолетом коснулись его губ. И он склонился еще ближе, чтобы самому прикоснуться лицом к шелковистым прядям. Он видел длинные ресницы Стефы, нежный румянец, прекрасный профиль, пылающие губы, белую шею и обнаженные плечи в бледно-зеленом облаке крепа. Он был очарован девушкой, чувствовал, что и Стефа переживает нечто подобное.
Стефа танцевала прекрасно и свободно, но словно бы в забытьи. Ярко освещенный зал, цветы, прекрасная музыка — все это ошеломило ее, и она увлеченно танцевала. Грудь ее была переполнена незнакомыми прежде чувствами. Не глядя, она знала, что легко и изящно плыла по волнам неизмеримого счастья. Упоение кружило их в вихре вальса, их танец приковал к себе взоры внимательных наблюдателей.
Слеза навернулась на глаза пана Рудецкого, и он тихонько вздохнул. Не мог оторвать глаз от прекрасной пары, но в то же время чувствовал непонятную боль.
— Вырвать ее отсюда, увести, забрать! — зашумело у него в голове.
— Поздно!
Пан Рудецкий знал уже — поздно…
Внезапно звучный, дерзкий марш обрушился на зал, горяча кровь в жилах, отдаваясь в сердцах.
Пары поплыли по паркету. В первой — майорат с молодой графиней Виземберг, дочкой князя Гершторфа, которую майорату тоже некогда сватали. За ними — графиня Барская с князем Занецким, Трестка с панной Ритой, граф Брохвич со Стефой, Люция с молодым Жнином.
Запал возрастал, звучный голос объявлявшего фигуры танца майората разносился по залу. Мазурка никого не оставляла равнодушным, бросала в бешеный вихрь. Неисчерпаемый в своей фантазии Вальдемар измышлял все новые и новые фигуры. Видя его столь развеселившимся, пан Мачей лишь удивлялся про себя, но пани Эльзоновская поспешила вслух объявить, что давно уже не видела майората в таком запале.
Мазурка длилась долго, и майорат не позволял ей убавить бешеный темп; в конце концов, хотя сам он был полон жизни, танцоры попросили его смилостивиться. Зал опустел. Большинство гостей отправились в буфеты, а самые знатные — в кабинет наверху, где для них был сервирован особый стол. В зале появились вооруженные щетками слуги и принялись подметать пол, словно арену перед выходом гладиаторов.
В верхнем кабинете веселились. Слева у Стефы оказались Трестка и панна Рита, справа незнакомый молодой человек с моноклем, и напротив — Вальдемар с графиней Барской. Оказавшись в добром соседстве, Стефа была в самом хорошем расположении духа. Она весело препиралась с Тресткой, успевая в то же время смеяться в ответ на комплименты молодого человека с моноклем. Часто в разговор вмешивался Вальдемар, и оживленный, полный шуток и смеха разговор плыл широкой рекой.
Графиню раздражало внимание Вальдемара к другим дамам, и она прилагала все усилия, чтобы удержать его при себе. Не раз черные глаза графини неприязненно устремлялись на Стефу. Инстинктивно графиня чувствовала опасность, грозящую ей со стороны этой девушки. Панна Барская в своем ярко-желтом платье, смуглая, с черными, как ночь, глазами и волосами, казалась цыганской принцессой, с дикой ревностью сражавшейся за свою добычу.
Когда она переводила взгляд с майората на Стефу, глаза ее вспыхивали.
Пожиравший ее взглядом князь Занецкий шептал:
— Демоническая девушка! Но прекрасная!
Он совершил неосторожность: сидевшая рядом с ним графиня Паула услышала и сказала язвительно:
— Майорат не любит в женщине демонических черт. Ее, в свою очередь, сердило, что сидевший рядом князь всецело поглощен Барской.
Занецкий, вместо того, чтобы впасть в уныние, безмерно радовался. Он призвал бы к майорату всех ангелов небесных, лишь бы тот своей холодностью к демонам в женском облике позволил бы ему самому демона такового завоевать.
Стефа заметила неприязненно вспыхивавшие глаза графини, но ничуть тому не огорчалась и чувствовала себя свободно и весело.
Пан Рудецкий оказался прав: она чувствовала себя прекрасно в кругу этих людей. Ее бальный блокнотик, куда записываются кавалеры на будущий танец, был переполнен фамилиями. «Михоровский» повторялось не один раз.
Ужин длился недолго; танцы вновь начались с удвоенным азартом.
Протанцевав со Стефой контраданс, Вальдемар отвел ее под огромные пальмы, усадил и сказал с ноткой грубоватости, всегда звучавшей в его голосе, когда он чего-то сильно желал:
— Покажите мне ваш блокнот.
Стефа подала ему светло-зеленый блокнотик с крохотным карандашиком того же цвета.
— Вы сами выбирали блокнотик?
— Мне его подарила баронесса. Он перелистал странички:
— Ого, да тут вписана целая армия! Неплохой список! Моя скромная фамилия тут совершенно потерялась. Что-что? Котильон — Брохвичу? Ну, котильон вы могли оставить для меня.
— Я не могла отказать пану Брохвичу. Бал словно битва: побеждает тот, кто приходит первым.
— Не всегда! Иногда пришедший вторым первого побивает. Именно это я и намереваюсь сделать…
Он посмотрел ей в глаза. Стефа смешалась, но ответила без колебаний:
— Так нельзя. Пан Брохвич обидится, и на то у него будут все основания.
— Вы только дайте свое согласие, а уж я сделаю так, что Юрек не обидится… Откажете мне? — он встал и усмехнулся: — Я отправляюсь к Брохвичу. Минутку подождите!
Едва он отошел, к Стефе подскочил молодой человек с моноклем:
— Не занят ли ваш котильон?
— Увы…
— Ах, пардон… Я опоздал. Всегда майорат…
— А ну-ка, что вы тут обо мне сплетничаете? — раздался за его спиной низкий голос майората.
Молодой человек пробормотал что-то по-французски и с поклоном удалился.
Вальдемар стоял перед Стефой, держа под руку Брохвича.
— Знаешь ли, Юрек, я тут атаковал блокнотик панны Стефании, и занятые тобой в котильоне позиции мне весьма не по нраву. Баталию я начинать не хочу, а посему льщу себя надеждой, что дело мы уладим полюбовно.
— Все зависит от меня, а я не согласен, — сказал Брохвич.
— Друг мой!
— Кое-что зависит и от меня, так что выигрываете вы, граф, — сказала Стефа.
— Благодарю! Что скажешь, Вальди?
— Не радуйся до времени! Прибегаю к последнему средству! Сейчас вы убедитесь, что победа останется за мной. Панна Стефания, вы еще в Слодковцах обещали мне самый первый ваш котильон. Этот и будет первым. Что до тебя, Юрек, ты вроде бы стремился овладеть рукою графини Мелании? Поспеши, ей наскучил Занецкий!
— Я отступаю с глубокой печалью в сердце… Порозовевшая Стефа подала Брохвичу руку:
— Простите, я и вправду забыла… Молодой человек пожал ее руку и поклонился:
— Я разбит, но поскольку девиз мой «ничего задаром», попрошу у вас последнюю мазурку.
Стефа с комической гримаской сложила руки:
— Увы! На нее записался пан Жнин.
— Тогда объявим еще одну мазурку, сверх программы. Вальди, ты это сможешь устроить как распорядитель.
— С превеликим удовольствием.
На последней страничке Стефа написала большими буквами: «Белая мазурка» — Ежи Брохвич».
Брохвич поклонился и отошел в сторону Барской.
— Вы довольны? — тихо спросил Вальдемар.
— Почему вы солгали? Я никогда не обещала вам котильон!
— А почему же вы поддержали мою ложь?
— Хотела спасти положение.
— А я хотел танцевать с вами. Раньше мне никак не удавалось преодолеть окружавшую вас баррикаду из фраков, и я прибег к коварству.
— Но что подумает Брохвич?
— Он поверил. А теперь — смотрите! — он кланяется графине и она к нему явно расположена.
Мимо прошел Барский. Он смерил высокомерным взглядом Стефу и майората, но увидел в глазах Вальдемара холод и поспешно удалился.
— Что вы о нем думаете? — спросил Вальдемар.
— О графе Барском? Он выглядит неприступным. А впрочем, я его мало знаю.
Вальдемар покривил губы:
— Он убежден, что не он существует для мира, а мир для него. Считает, что он и есть та ось, вокруг которой все вращается. Ладно, пусть холит и лелеет свое величие, как ему угодно, лишь бы перестал быть апостолом своих идей — они небезопасны для общества…
— Неужели у графа есть какие-то идеи и он их пропагандирует? — удивилась Стефа. — В этом я его и подозревать не могла; у него вид себялюбца, озабоченного лишь своим богатством, титулом и… хорошей партией для дочки.
Вальдемар с улыбкой поклонился:
— Вы попали в точку. Ограничься он этим, графу можно было бы и простить, ибо подобных ему множество. Но при этом он еще проповедует невыносимые этические и общественные теории.
— А его дочь взгляды отца разделяет?
— О да! Правда, у нее это выражено несколько иначе. Она меняет взгляды словно платья, применительно к обстоятельствам.
— Вы все говорите верно, но слышится злорадство…
— Быть может, оттого, что мы на балу. А впрочем, сегодня она — в прекраснейшем наряде, окружена поклонниками и видит среди них парочку особенно ей подходящих…
Стефа улыбнулась и, склонившись к нему ближе, сказала:
— А один из наиболее ей подходящих беседует с представительницей низших классов. Быть может, это сердит ее.
— О, теперь и в вашем голосе слышится злорадство.
— Нет, только откровенность.
— Тогда скажу прямо: я эгоист и ради графини не отойду от вас… оркестр! Пойдемте.
Стефа оперлась на его руку. Обняв ее гибкий стан, майорат смотрел на нее тем взглядом, что привлек не одну женщину, словно птичку на манок. Стефа вздрогнула и опустила длинные ресницы. Майорат обнял ее крепче, и они поплыли в танце по залу.
Котильон танцевали небывало живо, так что не хватило заранее приготовленных цветов, и пошли в ход те, что украшали зал.[67]Грудь Вальдемара покрыл настоящий панцирь из цветов. Стефа казалась огромным букетом, в цветах тонули панна Рита, графиня Мелания, графиня Виземберг, даже Люция и молоденькие княжны Подгорецкие. Зал казался цветущим садом; все дамы, румяные, разгоряченные, с блестящими глазами, были цветами в нем.
В запале все объяснялись с помощью цветов. Упоительный их запах, очарование реяли в воздухе, оплетая танцующих. Вальдемар отрезвел первым и закончил котильон лихой фигурой из мазурки.
Измученные дамы искали спасения в будуарах. Лакеи разносили прохладительные напитки. Стефа, княжны и Люция выбежали в коридор, сложили на балюстраду охапки цветов и стали прохаживаться. На лестницу взбежал лакей, неся огромный букет роз, гвоздик и орхидей, перевитый перистой ветвью папоротника. Он исчез в дверях зала.
— Интересно, для кого это? — шепнула Люция. — Наверняка Барской от Занецкого.
К ним подошло несколько мужчин. Молодой человек в монокле вновь отпускал Стефе комплименты. Она нетерпеливо забрала цветы и поспешила укрыться в будуаре. Девушки пошли следом за ней.
В проходе, у портьер, они встретили Вальдемара.
Он шел, неся букет, который они только что видели в руках лакея. Блеск радости зажегся у него в глазах. Он разделил букет, половину цветов вручил Стефе, а другими осыпал ее, словно на карнавале. И сказал, понизив голос:
— Это — сверх программы. Цветы оказывают вам почет от моего имени.
Розы с бархатистыми лепестками повисли на платье, упали на шею и плечи девушки, к ее ногам. Одна гвоздика оказалась в волосах.
Вальдемар исчез за портьерой, прежде чем изумленная Стефа успела его поблагодарить. Обе княжны с веселыми криками бросились поднимать цветы и вновь осыпать ими Стефу. Она, опомнившись, хватала их и бросала в них. Все веселились, как дети. Только Люция стояла, словно окаменев, неотрывно глядя на смеющуюся тройку.
— Вот так? Даже так? — шептала она.
Пани Идалия, даже не зная еще о сцене с букетом, начинала сердиться — из-за поистине триумфального успеха Стефы. Аристократическая молодежь наперебой рвалась танцевать со Стефой, она была постоянно окружена кольцом поклонников. От пани Идалии не укрылось, что майорат чересчур часто и крайне настойчиво приглашал Стефу на танец. Но больше всего огорчало баронессу, что Вальдемар не замечал графиню Меланию.
После котильона в боковом будуаре баронессу атаковали с двух сторон весьма расстроенные граф Барский и графиня Чвилецкая и с ходу перешли в наступление. Начал граф:
— Баронесса, вы поступили против правил, введя в наш круг эту Рудецкую. Это почти что скандал! Зa ressemble un peu mal![68]
Тон графа поразил пани Идалию. Она терпеть не могла, когда ей вот так делали замечания. Свысока глянув на графа, она сухо ответила:
— Никакого скандала я тут не вижу, в зале найдется много паненок, стоящих на общественной лестнице еще ниже, чем Рудецкая. Как компаньонка моей дочери, она имеет право на некоторые знаки внимания.
Барский высокомерно задрал голову:
— Не стану перечить. Знаки внимания? Почему бы и нет? Но исключительно от вас и вашей дочери. А я вижу вокруг панны Рудецкой форменную толпу нашей молодежи. Это уж слишком.
— Все зависело от ее красоты и манеры держаться, — отпарировала пани Идалия.
— Идалька, не нужно ее защищать! — подключилась графиня Чвилецкая. — Брать ее на бал было с твоей стороны величайшей ошибкой.
Пани Эльзоновская разгневалась:
— Не могла же я оставить ее в отеле! Ваши претензии, дорогие мои, кажутся мне чуточку странными.
Разозлилась и графиня:
— Ты с самого начала поступила неосторожно, пригласив ее в Слодковцы. Для места, где постоянно бывает майорат, она чересчур красива.
Барский беспокойно встрепенулся и смерил графиню злым взглядом:
— Permettez, comtesse![69]Здесь я вынужден встать на защиту майората. Эта панна не может иметь столь сильного влияния, чтобы торопиться заявлять об опасности. Она вовсе не затмевает… но вносит определенное беспокойство и деморализует молодежь. И поведение майората по отношению к ней можно объяснить легко: она красива, что правда, но… горничные тоже бывают красивы. Понимаете?
Толстые губы графини раздвинулись в понимающей улыбке, и она подмигнула с лукавым видом.
Внезапно на середину будуара вышла графиня Виземберг, до сих пор незамеченной стоявшая в дверях, и холодно сказала:
— Однако горничным мы не доверяем наших дочек, не вводим их в общество, не подаем им руки. Ваше сравнение, граф, по меньшей мере неуместно. Панна Рудецкая c'est une fille jeune, belle et trиs bien йlevйe[70]. Она вас сердит, но нельзя ее унижать, особенно в присутствии дамы, которая вверила дочь ее опеке.
Графиня повернулась медленным движением и гордо покинула будуар, увлекая за собой шумную волну голубого платья.
Граф, злой и растерянный, грыз усы, а когда и пани Идалия вышла вслед за графиней Виземберг, прошипел:
— Истеричка!
Графиня Чвилецкая пожала плечами:
— Они все свихнулись на этой Рудецкой.
И они вернулись в салон.
Танцы продолжались до утра. Белая мазурка проплыла последней звучной волной, прогремела, разнесла уже чуточку сонное эхо веселья по утомленному залу и умолкла.
Перед подъездом стучали колеса экипажей, лакеи громко выкрикивали кареты.
Восходящее солнце приветствовало разъезжавшихся, говоря им: «Добрый день!»
Усталый пан Рудецкий, возвращавшийся домой на извозчике, печально понурил голову, полную тяжких дум.
XXXII
Вечер пришел в город. Зажглись шеренги фонарей на улицах, засветились окна домов, перед отелем сияла белым блеском высоко подвешенная электрическая лампа.
В номере пана Рудецкого царила суета. Лакеи выносили его чемоданы и свертки, подавали счета, извозчик ждал уже на козлах.
У окна, глядя на оживленную улицу и едва сдерживая слезы, стояла Стефа. Перед ней на подоконнике — лубяная корзинка, полная цветов со вчерашнего праздника. Стефа посылала их матери вместе с огромным пакетом конфет для сестрички и брата. Внезапно она подняла крышку и, перебрав старательно уложенные на влажный мох цветы, выбрала бледно-желтую розу и две гвоздики. Быстрым движением спрятала их за лиф, закрыла корзинку и вновь открыла, взяла еще прекрасную пурпурную орхидею.
Это его символ… это он! Орхидея, роза и гвоздики были из букета Вальдемара, те цветы, которыми он ее осыпал после котильона.
В номер вошел швейцар.
— Все готово? — спросил пан Рудецкий.
— С вашего позволения, извозчик был готов, но пан майорат Михоровский прислал свое ландо четверкой. Есть и лакей, а вот — письмо.
Пан Рудецкий вскрыл конверт.
Энергичным, уверенным почерком Вальдемар просит пана Рудецкого приехать на вокзал на его лошадях. Майорат обещал быть там тоже. Пан Рудецкий поморщился. Вошел лакей майората и почтительно поклонился.
— Пан майорат поехал на вокзал один? — спросил его пан Рудецкий.
— Нет, с ним граф Трестка и паненка из Обронного.
Пан Рудецкий облегченно вздохнул и подумал:
«Очень тактичный и вежливый человек».
Они вышли из отеля.
Перед входом стояло сверкающее лаком ландо с увенчанным княжеской шапкой гербом на дверцах: запряженное караковой четверкой в прекрасной упряжи. Хомуты краковской работы посверкивали серебряной оковкой.
Кони нетерпеливо приплясывали, грызя удила, но осанистый кучер Флавиан, возивший еще пана Мачея в бытность того майоратом, умело сдерживал их.
Когда ландо тронулось, прижавшаяся к отцу Стефа тихо спросила:
— Майорат был вчера у вас?
— Да, за обедом, мы провели вместе пару часов. Очень интересно поговорили.
И после долгого молчания прошептал, словно самому себе:
— Весьма, весьма интересный человек…
Стефа молчала. Ей жаль было уезжавшего отца. Размеренный топот коней, чуть колыхавшееся на мягких рессорах ландо и знакомая ливрея неотвязно возвращали ее мысли к Вальдемару. Она ехала в его экипаже, на его конях — одно это волновало ее. Пан Рудецкий тоже молчал. Искоса поглядывал на нежный профиль дочки, видел ее печаль. И в душе его нарастала тревога.
Обоим им многое нужно было сказать друг другу — и оба молчали.
Вокзал гремел и гудел, как улей. Протяжный свист локомотива странно подействовал на Стефу — с нескрываемым испугом она прижалась к отцу.
— Папочка, ты уедешь, а я опять останусь одна, — прошептала она с такой тревогой, что пан Рудецкий задрожал:
— Стефа, детка! Ты же сама не захотела возвращаться со мной. Тебе здесь хорошо, они тебя любят, уважают… Стефа, чего ты боишься?
Ландо остановилось. Лакей соскочил с козел, ватага носильщиков бросилась к экипажу. Возникла суета. Сердце Стефы стучало. Поспешно, словно это она должна была ехать и опаздывала на поезд, она выскочила и быстро пошла за несущим корзину лакеем.
Тут кто-то коснулся ее руки. Она обернулась: Вальдемар.
— Вы одни? Где же отец?
— Пошел покупать билет.
— Обопритесь на мою руку. Здесь такая толчея… Стефа подала ему руку. Вальдемар, ничего не говоря, повел ее в зал первого класса.
Панна Рита и Трестка громко приветствовали ее. Это ее обрадовало. Вскоре появился пан Рудецкий.
Разговаривали недолго.
— Вы покидаете выставку? — спросил пан Рудецкий Вальдемара.
— О нет! Я остаюсь. Когда все мои служащие осмотрят выставку, а господа практиканты как следует развлекутся, мы все вернемся домой.
Раздался первый звонок. Стефа с трудом разжала объятия, Вальдемар едва ли не снял ее со ступеньки тронувшегося вагона.
На обратном пути в ландо царило молчание. Панна Рита и Стефа сидели тихо, задумчивые. Мужчины тоже молчали. Стефа вновь слушала размеренный топот копыт, тихое постукивание колес. Она ехала в его экипаже — но теперь еще и рядом с ним.
XXXIII
Сумятицы на выставке заметно поубавилось — многие уехали. Веселые забавы поутихли. Все выглядели уставшими, один Михоровский устраивал все новые сюрпризы родственникам и знакомым — поездки в прекрасные окрестности города на лошадях или автомобилях, прогулки по городу, походы по магазинам. Теперь можно было без помех осмотреть самые любопытные павильоны. Однажды всем обществом отправились навестить глембовические конюшни и павильоны.
В конюшнях царил образцовый порядок. Больше всех восхищались Аполлоном, которого вывел сам конюший. При виде майората Аполлон тихо заржал, потянулся к нему мордой.
Стефа подошла к коню, погладила его вытянутую шею, красивую голову.
— Стефа, он тебя ударит! — перепугалась Люция.
— Ничего подобного. Приласкайте его, приласкайте, — шепнул Вальдемар. — Дайте ему руку для поцелуя.
— Ну, уж этого он не сумеет! — засмеялась Стефа.
— Он знает свои обязанности!
Вальдемар коснулся хлыстом колен Аполлона. Конь фыркнул, и, припадая на передние ноги, опустился на колени перед удивленной Стефой.
Панна Рита прикусила губы. Глаза Трестки расширились. Что до Брохвича, он чрезвычайно учтиво отступил в сторону, давая возможность Барскому ничего не упустить из этого необычного зрелища.
— Коник, коник, хороший мой! — опомнившись от удивления, сказала Стефа, обняла голову коня и поцеловала белую звездочку во лбу.
Аполлон, словно только этого и ждавший, вскочил на ноги, махая головой и радостно фыркая.
— Сумасшедший! — буркнул Барский.
— Кто, Аполлон или майорат? — усмехнулся Брохвич.
Граф свысока глянул на него с таким выражением, словно хотел сказать: «Оба! Да и вы не лучше!» Однако промолчал и, явно задетый, заложив руки за спину и насвистывая как ни в чем не бывало отошел.
— Как в цирке! — удивилась Стефа. — Как вам удалось его научить?
— Главное — умение, — ответил Вальдемар.
— Должно признать, оно у вас есть, — сказала панна Рита.
Охотничий павильон был не менее любопытен. У входа стояло чучело огромного медведя, державшего в передних лапах стальную вешалку для шляп. Здесь были собраны образцы фауны и флоры из лесов майората, карты и планы культурного их содержания, статистические таблицы, а также охотничьи трофеи Вальдемара. Там были львиные, тигровые и леопардовые шкуры.
Рядом — чучело бенгальского тигра. При каждом трофее — табличка с указанием места и даты. Отдел обслуживал кучерявый негр, одетый в зеленый шелк. На стенах висели фотографии глембовического зверинца, ружья, револьверы, охотничьи ножи и рога. Пояснения давал главный ловчий Урбанский.
Все навестили еще павильон с зерном из поместий майората и отправились в кондитерскую на главную площадь.
Они заняли несколько столиков на веранде. Михоровский сидел с панной Ритой, Стефой и Люцией. К ним присоединился и Трестка. Столик напротив был свободен. Вскоре туда сели двое мужчин: толстый пан с багровым потным лицом и молодой, по виду — бедный чиновник.
— Кофе! — резким басом позвал толстый юношу в белом фартуке.
Потом упер подбородок в огромный костяной набалдашник трости и принялся стрелять глазами во все стороны.
— Наверняка какой-нибудь ресторатор, — буркнул Трестка. — Высматривает, больше ли тут посетителей, чем у него в заведении. А может, мясник какой-нибудь?
— Не стоит судить по виду, — сказал Вальдемар. — Увидим…
— Но разве вы не физиономист? — спросила панна Рита.
— Я? Конечно! Бывает, и часто, я отгадываю мысли людей по улицам, точнее, по глазам. Профессию угадать гораздо труднее. Поведение человека выдает его занятие… а этот пан мне что-то подозрителен.
— Наверняка мясник, — повторил Трестка и стал рассказывать Стефе с Люцией какой-то забавный анекдот.
Рита сказала Вальдемару:
— Если вы можете угадывать мысли, попробуйте отгадать мои. О чем я сейчас думаю?
— О чем думаете или о чем думали?
— Когда?
— В конюшне.
Панна Шелижанская сурово посмотрела на него:
— Ну что ж, отгадайте, о чем я недавно думала в конюшне…
— Обо мне.
— Вы чересчур уверены в себе…
— Разрешите закончить! Вы думали, что… что я сумасброд и чересчур явно бросаю вызов общественному мнению. А еще вы думали, что я сумасшедший. Ну как, отгадал я?
И он, улыбаясь, посмотрел ей в глаза. Рита вдруг бросила быстрый взгляд на Стефу и неуверенно ответила:
— Угадали… Но я не думала, что вы сумасшедший, Боже сохрани! И о том, что вы бросаете вызов, не думала. Я просто удивлялась, что вы… что вы слишком смело афишируете ситуацию, которой… которой лучше бы оставаться пока что в тени.
Михоровский нахмурился:
— Почему? А если я хочу вывести ее из тени на яркий свет? Или я не волен в своих поступках?
Панна Рита побледнела:
— Вольны, кто сомневается. Только… мне казалось, что вы поступили так под влиянием минуты… и, быть может, чуточку против воли…
Вальдемар раздельно и внятно произнес:
— Уверяю вас, я был искренен. Никаким «влияниям минуты» я не поддаюсь. Совсем наоборот — я всегда стараюсь, чтобы особа, которой я интересуюсь, не была скомпрометирована излишним вниманием и не попала под огонь «общественного мнения».
Рита сидела бледная, пытаясь овладеть собой. Потом холодно ответила:
— Что до «особы», ее вы, возможно, и не скомпрометируете. Но вот о вас самом могут подумать…
— Это право того, кто так подумает. Обо мне могут говорить и думать что угодно. Но только — обо мне. Это — предостережение, — добавил он, выделяя последние слова.
— Предупреждайте других. Я не собираюсь поднимать брошенной вами перчатки. Могу лишь выступить в вашу защиту в… в некоторых кругах, где ваш вызов наверняка уже замечен и принят.
Михоровский раскланялся:
— В вас я и не сомневался.
— Ох…
Панна Шелижанская задумчиво опустила голову. Заходящее солнце в последний раз осветило павильоны и деревья, бросило сияние, словно последний взгляд, на веранду кондитерской и столик, за которым каждый думал о чем-то своем, но все мысли касались одного предмета.
В середине сентября обитатели Слодковиц и Обронного покинули выставку. Майорат оставался до самого закрытия. Все разъезжались не без грусти, но расставались они не больше чем на неделю. Затеянная майоратом охота в Глембовичах должна была положить начало новой череде развлечений. Дамам предстояло подобрать соответствующее количество нарядов, в том числе и маскарадные. Его энергия удивляла всех. На выставке он был самым деятельным, удивлял оригинальными идеями, и все предчувствовали, что в Глембовичах, где к тому же имелось несказанно больше возможностей, Михоровский превзойдет самого себя. Никто не догадывался, что привело его в такой азарт, хотя многие пытались доискаться истины. Некоторые считали, что причины в графине Барской (к их числу принадлежала и пани Идалия). Но большинство этому не верили.
Только самые близкие, включая панну Риту, Трестку и Брохвича, знали правду, однако даже им она казалась невероятной.
Неожиданное появление в салонах Мортенского маркграфини Сильвы крайне заинтересовало посвященных. Чья это была инициатива — Мортенского или Веры?
Внезапное исчезновение маркграфини интриговало вдвойне.
— Проиграла Верка! — шептались довольные дамы.
Брохвич рассказывал всем и каждому, что майорат подвел черту под итальянским дебетом-кредитом и бросил счета в печь…
— А как насчет польских счетов? — шутливо спросил как-то молодой князь Гершторф.
Трестка нахмурился:
— Тут будет труднее: княгиня Кристина потверже Веры…
— Однако в монахини и она не уйдет, — сказал Брохвич. — Кончится слезами, скандалами… однако кончится. Майорат давно предоставил Крыське свободу — могла и подыскать что-нибудь. А уж со слезами и скандалами он справится…
Панна Рита лишь печально кивала.
XXXIV
Выставка закрылась. Большинство аристократов отправились в Глембовичи, где началась осенняя охота. Глембовический замок без труда принял множество гостей. Вальдемар встречал их по-королевски.
Должна была состояться большая облава на волков, охота на лосей, диких кабанов и фазанов. Целая армия ловчих майората пришла в движение. Урбанский выслушивал приказания хозяина, распоряжался подловчими, а те, в свою очередь, командовали отрядами лесничих и загонщиков. Псари готовили своры гончих и маленьких такс, добывающих лис в норах.
Вокруг замка разъезжало множество экипажей. Конюхи выводили верховых лошадей. Майорат пригласил в Глембовичи всех своих соседей.
Выглядело это так, словно войско собиралось на войну. Михоровский в охотничьем костюме, казалось, был во множестве мест сразу: он встречал гостей, надзирал за последними приготовлениями, развлекал собравшихся в большой столовой дам, где гости подкреплялись перед выездом. Время было раннее, так что собрались только молодые. Экипажи и всадники длинной вереницей потянулись из ворот замка. Их провожали звуки труб, словно замок, посылая на бой свои дружины, старался придать им отваги.
Впереди ехал верхом майорат, за ним Юр вез два ружья и патроны. У Вальдемара при себе были револьверы в кобурах и кинжал в серебряных ножнах. Огромный дог Пандур чинно бежал рядом. И он понимал серьезность предстоящего дела. Сначала направились в ближайший бор. Кавалькада клином врезалась в лес, и тут же началась охота. Облава на волков принесла многочисленные трофеи. Первое время Вальдемар не стрелял, уступая своим гостям. Потом и он свалил огромного волка, наметом несшегося сквозь кустарник. С ним охотились ловчий Урбанский и два практиканта. Командовал один из подловчих, другой распоряжался псарней. Но надзор за всеми осуществлял Вальдемар.
Кавалькада въехала в ту часть леса, где водились лоси.
Охотники заняли позиции, громко пропела труба, давая сигнал загонщикам, и наступила глухая тишина. Линия охотников замерла, только густые кроны сосен шумели в вышине.
Вальдемар занял место под огромной сосной. Ружье он держал наготове; второе стояло у дерева. Он не любил держать за спиной слугу; его ловчий, гигант Юр, стоял в отдалении, ожидая, когда придет пора приносить убитую хозяином дичь.
Облава шла далеко отсюда, охотники не могли ее слышать. Бор молчал, словно готовясь к предстоящей вскоре канонаде. Вальдемар оперся спиной о сосну, не очень внимательно глядя на темную стену леса перед ним. Он о чем-то задумался, что-то решил, быть может, даже мечтал…
Внезапно лицо его озарилось. Легкая улыбка, почти сентиментальная, мелькнула на губах. Он прошептал:
— Стефа.
Подул ветер, шевельнулись желтые листья, громче зашумели мохнатые кроны сосен, птичьи голоса взлетели к небу.
— Стефа… Стефа… — шептали вокруг деревья. Вдалеке зазвучали трещотки и протяжное уханье загонщиков.
Шла облава.
Еще миг напряженного внимания… Раздался мощный глухой топот, треск ломавшихся веток, и сбоку Вальдемар увидел несущегося лося. Тяжелым галопом зверь мчался сквозь заросли, закинув за спину рогатую голову.
Вальдемар прицелился, но не выстрелил, отдавая первенство князю Занецкому. Тот быстро поднял ружье, но лось заметил это движение и, развернувшись на месте, бросился в сторону Вальдемара. Занецкий выпалил из обоих стволов — мимо! Нет, не промах! Но зверь лишь ранен! Задрав голову и пятная кровью мох, зверь направлялся к майорату.
Тогда выстрелил и Вальдемар, раз, другой, целя в сердце. Великан протяжно заревел, он был тяжело ранен, но не умерил бега.
С ним покончил Брохвич. А Занецкий шепнул себе под нос:
— Майорат размечтался, начинает мазать… Выстрелы теперь гремели неумолчно по всей линии. Когда охота закончилась, охотники собрались вокруг князя Гершторфа.
Каждый повествовал о своих подвигах.
— Я больше всех стрелял, — заявил Трестка.
— А убили сколько?
— Ну… да не знаю я! Потом посчитаем!
— Господа, минуту внимания! — весело крикнул Брохвич. — Получше следите за своей добычей, а то Трестка стянет у каждого по зайчику и выйдет в победители!
Трестка обиделся:
— Вот с тобой я этого никак не мог бы сделать. Отними у тебя одного зайчика — у тебя ничего и не останется!
— Извини! Я положил шесть зайцев, волка и козла. Чуть побольше, чем у тебя. Что там? Лисичка да пара ушастых…
— Ну что вы, вы оба хорошо стреляли и много добыли, — примирительно сказал князь Гершторф.
Граф Барский приблизился к Вальдемару, взял его под руку и спросил:
— Мы будем ждать с обедом, пока приедут дамы?
— Конечно. Они должны вскоре быть. Граф увлек его в сторону:
— Вот кстати… Скажите-ка вы мне… объясните, Бога ради, положение панны Рудецкой в нашем обществе.
Вальдемар остановился, как вкопанный. Гнев вскипел в нем. Смерив графа пронзительным взглядом, он сказал:
— Положение? Я вас не понял!
— О Боже! Пан майорат! Я попросту хочу, чтобы вы яснее объяснили мне роль этой панны в нашем кругу.
— Она — учительница Люции Эльзоновской и в то же время ее подруга.
— Ну, это я и сам знаю! Но не наделили ли вы ее и другими, более серьезными правами? Однако, смею заметить, что Рудецкая мне представляется особой мало подходящей для нашего круга. Надеюсь, вы меня поняли?
— «Нашего круга», как вы изволите выражаться, — это нечто такое, что требует уточнения.
Граф скривился, но поза его оставалась исполненной достоинства:
— В ваших устах… в устах потомка одного из лучших родов такие слова звучат чуточку фальшиво.
— Пан граф, я ценю свой род, но слепо перед ним не преклоняюсь. Подлинную цену я вижу в поступках, а не в гербе — ибо этот герб носят и другие наши роды.
— Но у других он не украшен княжеской шапкой, как у вас. Вальдемар рассмеялся язвительно:
— Ах, вот оно! У меня — княжеская шапка, у вас — корона с девятью зубцами… это и есть пресловутые вершины? Что ж, если так, панна Рудецкая нам действительно не ровня… однако Шелиги, Жнин и многие другие, кого мы почитаем за равных, имеют в короне только пять зубцов…[71]
Граф глянул на майората с любопытством:
— Не пойму, чем вас так рассердил!
— Я вообще не могу понять, чем вызван наш разговор!
Вальдемар был задет и не скрывал этого.
— Я просто пытаюсь вас убедить…
— О нет, граф, не утруждайте себя! Барский продолжал, словно не слыша его слов:
— Дело не в одной короне — еще и в традициях. То, что весь мир называет аристократизмом, требует от нас внимания, даже заботливости. Нам нельзя об этом забывать!
Вальдемар взорвался вдруг:
— Какое отношение имеет все это к панне Рудецкой?
— О, большое! Таких особ следует держать на расстоянии, не вводя в наш круг. Это вносит сумятицу.
— К нашему дому все высказанные вами… гм, банальности отношения не имеют. В нашем доме и в его окрестностях панну Рудецкую принимают наилучшим образом, чего она полностью заслуживает. Мы стараемся, чтобы она не чувствовала себя, чужой, и каждый, кто среди нас пребывает, должен подчиняться этим условиям.
Вальдемар говорил жестко, почти грубо. Он словно бы совершенно забыл, что граф — есть гость. Врожденная вспыльчивость нашла выход. Однако граф, казалось, ничего не замечал.
— Пан Михоровский, я не подвергаю сомнению достоинства этой панны. В конце концов, у Несецкого наверняка найдется какой-нибудь закуток, где помещены и Рудецкие. Но, Боже мой, ведь и среди наших слуг отыщутся субъекты, значащиеся в гербовнике!
— Пан граф, вы лишаете меня учтивости гостеприимного хозяина! Меня это оскорбляет! Коли уж вы так ставите вопрос, могу вас заверить, что завтра за стол с нами сядут мой управитель, главный ловчий и дворецкий. И вы, пан граф, из уважения ко мне и моему дедушке вынуждены будете подать им руку. Что до панны Рудецкой, положение ее среди нас определено четко, и унизить ее означало бы унизить нас.
— Позвольте, майорат! Вы чересчур пылко ее защищаете. Можно защищать таких девушек, согласен… но иным способом. Разве я не прав?
— Граф! — взорвался майорат.
— Простите, но среди нас она прокаженная.
Вальдемар побледнел. Резкие выражения вот-вот готовы были сорваться с его уст. Почуяв это, граф поспешно обернулся к группе подходящих мужчин. В тот же миг застучали колеса, и на лесной дорожке показалась четверка коней, везущая экипаж с дамами.
Охотники подбежали, чтобы помочь им выйти. Вальдемар же, не обращая ни на кого внимания, забросил ружье на плечо и устремился в чащу. Глаза у него зло сверкали, губы иронично кривились.
Его заметил Брохвич и догнал:
— Вальди, куда собрался? Приехали дамы, в павильоне готов обед. Я голодный, как тот волк, которого убил.
— Иди, ешь, распоряжайся всем от моего имени. И уж особенно учтиво поухаживай за этим олухом!
— За Барским?
— Угадал! Как тебе только удалось?
— Дорогой, среди нас только один олух, так что отгадать было легко…
— Ну ладно, иди.
— А ты?
— Я хочу побыть один.
— Но как там будут без тебя?
— Оставь, надоел…
Брохвич схватил Вальдемара за плечо:
— Вальди, если ты меня любишь и хочешь ублаготворить Барского, тебе следует вернуться к гостям. Веди себя как ни в чем не бывало — это и будет лучшая кара для старого мамонта. Не знаю уж, чем он тебя допек… Но что случилось, Вальди? Чтобы так тебя разозлить, должно было произойти что-то крайне серьезное.
— Угадал! Этот старый символ мнимого величия был столь великолепен, что сделался невероятно глупым. Это меня и разозлило.
— Вальди! Ну что ты! Любой воробей знает, что на этой вот тропке больше извилин, чем у графа в голове. Стоит ли на него за это злиться?
Вальдемар усмехнулся:
— Хорошо же ты отзываешься о своем будущем тесте!
— Надеюсь, он моим тестем не будет. Б-р-р! Даже Мелания со своей горячей кожей не в силах разжечь мою северную натуру. Тут больше подходит Занецкий… А хочешь услышать о Барском нечто новенькое? Отлично с ним держался твой практикант, тот, самый старший.
— Отоцкий?
— Да. Вообрази только, когда мы вышли на номера, граф первым делом накричал на конюшего.
— На Бадовича? За что?
— За то, что тот обратился к нему попросту «пан», без титула. Своими ушами слышал.
— Скотина, — буркнул Вальдемар. — Ну ладно, пойдем к дамам.
Они пошли к павильону.
— Это еще не все, — продолжал Брохвич. — Когда пошла облава, граф перешел со своего места на другое — вечно он так. Перешел и забыл взять ружье, а его егерь куда-то запропастился. Тогда Барский, недолго думая, посмотрел свысока на случившегося поблизости Отоцкого и говорит через губу: «Слушай-ка… как тебя там… принеси-ка мне мое ружье».
— Я ведь представил ему всех практикантов, как он смел! — возмутился Вальдемар.
— Барский узнал, что Отоцкий человек бедный и ты ему платишь — этого графу хватило. Он ведь всех, кто работает за деньги, за людей не считает.
— Отоцкий наверняка дал ему хороший урок? Он такого обращения не выносит.
— Погоди! Расскажу по порядку. Сначала он притворился, будто не слышит. А когда граф все повторил, Отоцкий поворачивается к нему, учтиво кланяется и говорит: «Майорат уже представил меня вам, моя фамилия Отоцкий». И преспокойно удаляется.
— Отлично! — развеселился Вальдемар.
— Я и Жнин прямо-таки рукоплескали Отоцкому, но граф наверняка вышел из себя.
Вальдемар засмеялся:
— А я еще сказал, что на обеде ему придется подавать руку моим управителям! Он постарается выкрутиться, но я его поймаю вечером, и уж тогда ухитрюсь представить ему и ловчего, и дворецкого!
— Вот видишь! И ты еще хочешь, чтобы я породнился с этим титулованным остолопом? Да предложи мне Барская миллион, а тетушка лиши наследства — я и тогда не соглашусь. Заполучить такого тестя?
Они вернулись к гостям как раз вовремя. Подъехали еще два экипажа с дамами.
Обед прошел весело, но длился недолго — Вальдемар спешил.
Было решено, что каждая дама выберет себе кавалера. К Вальдемару живо подбежала раскрасневшаяся графиня Виземберг. Вальдемар с благодарностью поклонился ей, довольный, что она опередила графиню Меланию, недвусмысленно намекнувшую майорату за обедом, что выберет его. Шагая под руку с графиней, Вальдемар украдкой оглянулся на Стефу. Она стояла с Люцией поодаль, целясь из ружья в высокую сосну. Стоявший в кругу мужчин Барский что-то оживленно говорил, явно затевая каверзу Стефе. Беспокойство Вальдемара было замечено графиней:
— Пан Михоровский выглядит так, словно недоволен моим обществом…
— Наоборот. Просто я увидел, что не все нашли себе пары и вынуждены скучать.
Графиня быстро глянула на майората, потом проследила за его взглядом.
— Понимаю! У Люции и панны Стефании нет кавалеров. Но почему они сами их не выбирают? Многие наверняка только и ждут этого. Подмигните Жнину, он будет благодарен.
Вальдемар весело поцеловал ей руку:
— Уже не нужно. Смотрите, Юрек сам сообразил.
— Правда!
Брохвич галантно уговаривал Стефу выбрать его. Она охотно согласилась, и все втроем они направились по тропинке.
Барский покосился на них и бросил с иронией:
— Похищение сабинянки! Брохвич забыл, что и другие дамы остались без кавалеров.
Занецкий улыбнулся:
— Это скорее похищение сиамских сестер — ведь эти девушки неразлучны.
Барский не любил, когда кто-нибудь портил его шутки. Он свысока глянул на Занецкого и кисло поморщился:
— Ну ладно, не забудь о своих обязанностях. Моя дочка ждет.
Все расселись в экипажи и отправились на новое место. Некоторые дамы, в том числе панна Рита, тоже стали на номера. Однако новая охота в обществе дам оказалась не столь успешной.
Стефа, Люция и Брохвич стояли рядом с майоратом и болтали без умолку. Временами звенел смех графини Виземберг. Вся линия шумела веселыми разговорами, и пули чаще летели в воздух, чем в зверей. Впрочем, добыча все же была неплохой. В один прекрасный момент загонщики выгнали на линию стадо диких свиней, с громким топотом и хрюканьем поваливших прямо на охотников. Загремели выстрелы, но охотники чересчур азартно дергали курки и часто промахивались. На князя Занецкого вышел огромный кабан. Он бежал быстро, огромное черное тело переваливалось на коротких ножках, в разинутой пасти сверкали огромные острые клыки. Князь, не теряя головы, хладнокровно прицелился и выстрелил. Но пуля лишь скользнула по жесткому хребту. Разъяренное чудище, хрипя, метнулось вперед. В него выпалили еще двое. Барский прострелил зверю ухо, пуля князя Гершторфа угодила в ногу. Разъяренный до безумия кабан, разбрызгивая с морды пену, огляделся налитыми кровью глазками и ринулся прямо на Стефу, несясь тяжелым галопом, сопя и выдыхая, со свистом.
Стефа оцепенела от испуга, побледнела, но сохранила присутствие духа и заслонила собой Люцию. Среди охотников началась страшная паника. Брохвич крикнул Стефе, чтобы она бежала, и сам сделал такое движение, словно хотел кинуться прочь. Михоровский стоял бледный, но спокойный.
В последний миг, когда охотники, видя настигшего Стефу кабана, окаменели от ужаса, Вальдемар молниеносно метнулся вперед, одним движением переместил девушек за сосну и мощным ударом погрузил кинжал по рукоять в сердце зверя. Смертельно раненный кабан рухнул, черная кровь брызнула на траву, огромная туша дернулась несколько раз и застыла.
Вальдемар, выдернув окровавленный кинжал, другой рукой вытер вспотевший бледный лоб. Глаза у него были страшными. Бросив мимолетный взгляд на мертвого зверя, он направился к Стефе. Опомнившись, она вместе с Люцией вышла ему навстречу. Вальдемар отшвырнул кинжал, схватил ее за руку и спросил сдавленным голосом:
— Вы очень испугались? Боже, какое несчастье!
Она горячо пожала ему руку:
— Спасибо… вы спасли меня… рискуя собой… я не забуду…
— Боже, что я пережил… Довольно об этом! Что было, то прошло!
Лишь теперь охотники и дамы опомнились от пережитого ужаса. Мужество майората поразило всех. Первым очнулся чуточку пристыженный Брохвич. Все подошли к сосне, поздравляя Стефу со счастливым спасением, а майората с проявленной отвагой. Дамы переводили взгляды с майората на Стефу. Брохвич успокаивал испуганную Люцию. Наконец майорату подала руку графиня Виземберг:
— Vainqueur! Maintenant vous l'aver prise, elle vous appartient![72]
Майорат молча поцеловал ей руку. После захода солнца кавалькада возвращалась в замок, приветствуемая звуками труб. и игрой оркестра на галерее.
Пока охотники переодевались, лесничие под надзором ловчего выложили огромной дугой во внутреннем дворе всю убитую дичь. Вперемешку лежали лисы и зайцы, там и сям бархатом поблескивала шерсть диких козлов; головы их, искусно подпертые колышками, вздымали длинные рога. Как украшения в короне, на вершине дуги лежали лоси и кабаны, а в середине — несколько волков. Впереди стоял заколотый Вальдемаром кабан. Из полуоткрытой пасти свисали сосульки застывшей черной крови, грозно торчали длинные белые клыки. Остекленевшие глаза смотрели изумленно, будто зверь удивлялся, что он, так недавно внушавший людям ужас, выставлен теперь им на посмеяние.
Когда охотники вышли во двор, ведя дам, несколько егерей в зеленых куртках и высоких сапогах, стоявшие у трофеев, подняли к губам фанфары и огласили двор победной песнью. Было в них что-то от рыцарских времен.
Гости подошли ближе. Дамы гладили головы оленей и прекрасные перья куропаток. Мужчины наперебой рассказывали друг другу, как был добыт тот или иной зверь, при этом громче всех кричал и больше всех врал Трестка, совершенно заглушив Брохвича — тот все еще не мог опомниться после случая с кабаном, зная, что вел себя не наилучшим образом. Начались споры, кто больше добыл дичи. Оказалось, именно Брохвич. Майорат провозгласил его, как полагалось, королем охоты. Но Трестка, рассердившись, что его опередили и здесь, не упустил случая позлорадствовать:
— Юрек, тебе не повезло бы так, если бы майорат стрелял почаще. Но он сегодня уступал лучшие места и выстрелы гостям. Он попросту отдал тебе титул короля.
— В таком случае мы с тобой имели равные шансы, — сказал Брохвич. — Ты тоже мог постараться…
Трестка лишь махнул рукой.
Руку Стефы смочили в крови кабана. Ее и майората провозгласили героями дня. Графиня Мелания и ее отец едва удерживались, чтобы не дать открыто волю гневу… Из дам больше всего дичи добыла панна Шелижанская. Вальдемар взял одну из убитых ею куропаток и помазал ей кровью руку:
— Виват нашей Диане!
Молодая панна рада была, что ей достался от него хотя бы такой знак внимания. Но Трестка сердито грыз усы.
XXXV
Вечером замок осветился электрическими огнями. Округлые стеклянные стены зимнего сада сияли, украшенные вьющейся зеленью. В большом зале был накрыл стол в форме подковы на сто с лишним человек. Крытая железная лестница вела из зала в зимний сад, откуда доносился тихий шум фонтана и искусственных водопадов. Лестница, увитая цветочными гирляндами, освещенная букетами лампочек из цветного стекла в форме тюльпанов, казалась дивным мостиком, ведущим из прекрасного зала в подлинный Эдем. Чары веяли на Стефу отовсюду, покоряя, будя фантазию…
Совсем другие чувства обуревали графиню Меланию и ее папеньку. Она клялась себе любой ценой, не выбирая средств, завладеть хозяином этого замка. Графиня глядела на майората влюбленно, почти покорно, что лишь раздражало его. Граф прогуливался по залам и думал, какой эффект произведут его миллионы, если вложить еще и их в украшение этого замка.
За обеденным столом граф сидел презлющий — Вальдемар представил гостям управителя, главного ловчего и дворецкого столь недвусмысленным образом, что всем пришлось подавать им руки, в том числе и графу. Однако хорошие вина развеяли досаду, шампанское окончательно примирило графа с происходящим, и, в конце концов, присутствие «этих господ» уже не казалось ему столь ужасным. Он лишь решил про себя: когда станет тестем майората, тотчас же поставит некие условия и проведет некие реформы согласно всем традициям, в которых майорат явно не силен…
Во время обеда на террасе играл оркестр. Замок, парк, террасы и английский сад были иллюминированы, даже река пылала, отражая пламя разложенных на ее берегах многочисленных костров. Цветные лампочки озаряли ведущую к пристани лестницу, клумбы и цветочные аллеи. Ряды маленьких лампочек колыхались меж деревьев, протянулись поперек аллей. На газонах бледными огоньками светили неисчислимые светлячки. То и дело к небу взлетали ракеты, вспыхивали бенгальские огни, озаряя водопады.
После обеда в замке не осталось никого. Одни разбежались по аллеям, другие отправились любоваться фонтанами. Многие побрели к лодкам, украшенным гирляндами цветов и разноцветными фонариками. Гондола «Стефания» была убрана пурпурными фонариками и венками из роз.
Пан Мачей бродил по парку и, убеждаясь, что уголки его один прекраснее другого, грустно кивал головой. Он боялся подумать, для кого все эти чудеса, но в глубине души отгадывал.
На террасе графиня Барская просунула руку под локоть майората и умоляюще шепнула:
— Не покажете ли вы мне иллюминированные гроты?
Она, несомненно, была привлекательной. Сильно декольтированное платье добавляло ей прелести; светлая материя и кружева-паутинки оттеняли смуглую кожу. На шее у нее подрагивало жемчужное ожерелье.
Опираясь прекрасной обнаженной рукой на его плечо, она повторила:
— Хорошо? Покажете мне гроты?
— Если вы так желаете…
— Они, должно быть, чудесные…
Они молча спустились с террасы и направились меж фонтанами в глубь сада. Их обогнали несколько человек, в том числе и панна Рита, глянувшая на Вальдемара удивленно, а на графиню — насмешливо и неприязненно.
Графиня щебетала:
— Ваши Глембовичи прекрасны! Я и представить не могла, что они столь великолепны! Вы живете словно в раю. Это принесло вам счастье? — заглянула она в глаза майорату.
— Каждый понимает счастье по-своему. Я люблю Глембовичи не за их великолепие, а за то, что они мои. Это моя земля, моя родина, которую я хочу сделать прекрасной.
— Вам это удалось. Здесь все так прекрасно! Вас не упрекнешь в отсутствии вкуса. Так все устроить!
Вальдемар посмотрел на нее:
— Устроил здесь все не я, а бабушка Габриэла. Я лишь поддерживаю все в прежнем великолепии. Бабушка хотела устроить из Глембовичей второй Версаль, и я продолжаю ее дело, не считаясь с расходами.
— Да, женщины умеют добиться такой вот красоты. Однако вашей жене не к чему будет приложить руки — все, что только можно измыслить, здесь уже есть. Разве что ей захочется перемен…
Вальдемар усмехнулся, отгадав намерения графини: его вызывали на откровенность.
Графиня взглянула на него кокетливо:
— А вы позволили бы своей жене что-то переменить здесь, приди ей такая охота?
— Право, не знаю.
— Понимаю! Все зависело бы от глубины ваших чувств к жене, верно? Но привязанность и любовь, если они велики, требуют порой и великих жертв…
Вальдемар удивился:
— Вы понимаете это?!
— О да! Когда в нас происходит… перемена, начинаешь понимать многое из того, о чем доселе и не думал…
— Ну, а вы, графиня, какую смогли бы принести жертву во имя великих чувств?
— Я? Все!
— В том числе и свой круг?
— Не понимаю!
— Если бы вы полюбили кого-то, не принадлежащего к аристократии, стали бы вы его женой во имя любви?
— О нет! quelle idйe![73]Такое мне не грозит. Я и глаз не задерживаю на людях не нашего круга. Любить можно только равных себе…
И она склонила головку на плечо Вальдемара, словно бы говоря: «Это — ты, и я — твоя».
Вальдемар понял, но не показал вида. Засмеялся чуточку язвительно:
— В чем же тогда «все», которым вы пожертвуете для любимого?
Обиженная его смехом графиня поджала губы:
— Вы задаете вопросы так… странно. Похоже, вы не верите в силу моих чувств… Но тот, кого я полюблю, сумеет их оценить.
— Наверняка! Такого рода открытия — сущий триумф! Если сумеешь их сделать…
— Разве вы не умели?
— О, я достаточно часто делал открытия, но не могу сказать, что это были «триумфы». Триумфом я мог бы назвать последовавшее за открытием счастье… но его-то я и не пережил ни разу.
— Быть может, вы просто не старались?
— Трудно «стараться» стать счастливым. Счастье приходит само… или не приходит.
Графиня помолчала, потом заговорила тише, словно бы для себя одной.
— Хотела бы я быть мужчиной. Мужчины могут говорить, что думают, а нам этого нельзя…
Голос ее звучал тоскливо, глаза были обращены к звездному небу, в них отражались искры фейерверка. Она нетерпеливо ждала.
Вальдемар посмотрел на нее искоса. Оставаться совершенно равнодушным к ее прелести он не мог.
«Жаль, что здесь нет Занецкого, — думал он. — Уж он-то был бы уже у ее ног… потому что прекрасная обертка заставит потерять голову. Но я, дурак этакий, предпочитаю перчатке, пусть и красивой, руку… Эх, случись все пару лет назад!»
Вальдемар послал ей дерзко-шаловливую улыбку:
— Вы говорите, женщины связаны по рукам и ногам в выражении своих чувств? Мне так не кажется.
— Но не можем же мы объясняться первыми!
— О нет! Однако женщины могут недвусмысленно дать понять, какими чувствами они обуреваемы. Если они искренни, они всегда могут облегчить влюбленному в них дорогу к счастью. Своей песней без слов…
И он замолчал — нарочно, зная, что ступил на скользкую дорожку и забросил крючок, который графиня может и проглотить. Его это откровенно развлекло. Внезапно появившийся на щеках графини румянец прямо-таки развеселил и подсказал ему дальнейшие слова:
— Иные женщины — словно цветки, которые в солнечную погоду распускаются и одурманивают чудесным ароматом, но едва появится луна, замыкаются, жалея свои краски, прячут очарование, словно опасаясь, что меньше его останется влюбленному. К таким растениям относится самое мое любимое — вьюнок. Когда женщина, подобно вьюнку, дает почувствовать свою любовь, она без слов шепчет: «Я твоя, возьми меня» — это и есть то безмолвное объяснение, на которое мужчина отвечает словами…
Графиня внимательно слушала его. Губы ее подрагивали — желанная цель была близка, и будущее представлялось в радужных красках…
— Вы любите вьюнок? — переспросила она.
— О да, и еще как!
— Когда вы так говорите, заслушаться можно… Но всегда ли солнце способно услышать, в чем признается цветок? Столько глаз смотрит на солнце, столько клятв к нему обращено… Сможет ли бедный влюбленный вьюнок надеяться на теплый лучик?
— Наверняка… если им движут искренние чувства. Солнце, знаете ли, слишком умно, чтобы принимать все клятвы бездумно. Оно-то уж сумеет различить, кому нужно оно само, а кому — лишь золотой его блеск… и никогда не ошибается.
Барская беспокойно встрепенулась — тон майората и его слова пробудили в ней смутную тревогу, и она потупилась.
Вальдемар вновь украдкой глянул на нее, в глазах его прыгали чертики. Он подумал: «Не знаю, равен ли я солнцу, не в том дело. В одном уверен: никакой ты не вьюнок, ты — обычный подсолнечник!»
Они подошли к иллюминированным гротам, откуда доносился шум веселых разговоров. Графиня замедлила шаги и сказала, не глядя на майората:
— Вы знаете, что князь Альфонс Занецкий добивается моей руки?
В голосе можно было различить и нотки высокомерия.
— Знаю, графиня.
— Папа мне усиленно рекомендует его, а я… Что думаете о нем вы?
— Это очень добрый человек, чуточку пустоват, но в наших кругах это считается не недостатком, а достоинством.
— Пустоват? Вот не замечала! И что же вы мне посоветуете? — голос ее явственно дрогнул.
— Я никогда не выступаю советчиком в подобного рода делах. Свое мнение я о нем высказал, а дальнейшее заинтересованные лица должны решать исключительно вдвоем.
— Значит, вы мне ничего не посоветуете?
— Я не советую в таких делах. Советчик, ко всему прочему, фигура печальная — что бы он ни сказал, «да» или «нет», на него сплошь и рядом бывают весьма обижены…
— Почему вы уклоняетесь от прямого ответа?
Вальдемар нахмурился, заметив загадочную улыбку графини. Она ему наскучила, он искал способа прервать этот разговор, но настойчивость Мелании прямо-таки сердила, и он ответил весьма недружелюбно:
— Не понимаю, отчего вы так рьяно добиваетесь, чтобы я стал судьей в деле… скажем так, совершенно мне неинтересном… Но коли уж вы настаиваете… Я уверен, что из всех, добивающихся вашей руки, Занецкий — самый лучший.
У графини перехватило дыхание:
— А если бы я вышла за него?
— Я от всего сердца пожелал бы вам счастья.
Графиня стояла бледная. Губы ее нервно подрагивали.
Она молча шла рядом с ним. Оба долго молчали. Вдруг Мелания резко вырвала руку и бросила:
— Благодарю, я одна осмотрю гроты.
— Как вам будет угодно, — поклонился он.
Она побежала к гротам, он повернул к замку: «Ну вот, я спалил за собой еще один золотой мост…»
Стефа тихонько ускользнула из парка, где за ней неотступно следовал молодой человек с моноклем, ухаживавший за ней еще на выставке. Вместе с Люцией и молодыми княжнами Подгорецкими она пошла в зимний сад. Бродила меж пушистых папоротников и бархатных листьев бегоний, ярких, словно эмаль. Мох на камнях помогал создать иллюзию, что девушка находилась в настоящем диком лесу. В расселине скалы сидела нахохлившаяся сова, меж камнями прополз уж, в озерках плескались золотые рыбки.
Стефа ходит, смотрит, слушает, вдыхает запахи и не знает — явь это или сон? Правда, и сны, столь великолепные, ей не снились никогда… Замечтавшись, она и не замечает, как Люция увела княжон, чтобы показать им охотничий костюм, предназначенный для завтрашней охоты на фазанов. Стефа осталась одна, чувствуя себя одурманенной и счастливой безмерно. Не видит, что давно уже на лестнице среди цветов стоит он, хозяин и властелин всех этих сокровищ. Замечтавшаяся, не видит, как он неспешно, шаг за шагом, спускается с лестницы, не сводя с нее взгляда; не слышит его шагов в аллее. Он замер, боясь испугать девушку неожиданным появлением. Она вздрогнула, инстинкт подсказал ей, что кто-то находится рядом. Резко обернулась. Он протянул к ней руки. Стефа не вскрикнула, но страшно побледнела. В этот миг, когда вся ее душа была поглощена им, она тем не менее не желала его видеть, пугаясь его присутствия и его взглядов.
Он взял ее руки в свои горячие ладони, оказавшись совсем близко.
— Уже второй раз я испугал вас в этом замке, — шепнул он низким тихим голосом. — Пани Стефания, что с вами?
— Ничего… нет… отпустите меня, прошу вас…
— Почему вы боитесь меня? Почему избегаете? Она взглянула на него. Его серые глаза горели, став почти черными. Брови нахмурились. В лице молодого магната, в трепетавших губах, в нервно раздувавшихся ноздрях чувствовались страсть и нежность. Стефа видела его уже таким в портретной галерее… Она порывисто отстранилась и сдавленным голосом шепнула:
— Отпустите…
Он притянул ее к себе. Стефа чувствовала, что слабеет. Чересчур мощная сила противостояла ей. Он пожирал ее глазами и шептал:
— Вы меня боитесь?
— Нет… только…
— Ты думала обо мне! Я знаю. Не вырывайся, все напрасно, ты в моей власти… Кроме нас двоих, никого нет в замке. Останься со мной!
— Отпустите! — вскрикнула Стефа. Отчаянным, сильным движением высвободилась, взлетела по лестнице и через миг исчезла.
Вальдемар смотрел ей вслед горящими глазами:
— Она будет моей, даже если весь мир окажется против! — воскликнул он.
Взглянул на лестницу, где исчезла Стефа, и побежал вверх по ступенькам.
Он долго искал ее, бродя по комнатам, и отыскал наконец рядом с Люцией в окружении нескольких гостей. В освещенном алькове графиня Виземберг играла на цитре. Все увлеченно слушали. Вальдемар остановился под деревом, за креслом Стефы. Видел, как взволнована она была, как побледнела, увидев его. Когда графиня закончила игру, стало шумно. Ее громко благодарили. Стефа вскочила. Вальдемар, используя удачный момент, наклонился к ней, произнес серьезно и сердечно:
— Простите, я обезумел… простите. Вашу руку — в знак прощения!
Она, дрожа, протянула ему руку.
— Все хорошо? — шепнул он просительно.
— Да, — ответила она.
— Повторяю, я был безумен… Но вы для меня дороже всего на свете.
И они отошли от графини и аплодировавших ей.
XXXVI
Назавтра был перерыв в охоте. Общество развлекалось в замке. Одни играли в бильярд в большом зале, другие — в теннис на площадках. Гости осмотрели устроенную майоратом в башне метеорологическую обсерваторию, библиотеку и картинную галерею.
Потолок длинной картинной галереи был расписан батальными сценами. Здесь висели полотна известных мастеров. Среди них несколько подлинников Матейко, Семирадского, Норблина и Коссака, [74]подлинники и копии Рембрандта, купленные за сумасшедшие деньги, картины Тициана и других художников с мировым именем. Многие полотна были посвящены наполеоновской эпохе, другие изображали славные в польской истории битвы, портреты королей, пейзажи. Галерея казалась бесконечной, там уместились и прекрасные мраморные статуи и бюсты знаменитостей. Из галереи можно было пройти в библиотеку, содержавшую в застекленных дубовых шкафах неисчислимое количество томов. Портреты знаменитых писателей висели под потолком. Середину зала занимал резной дубовый стол, окруженный такими же креслами, высокими и тяжелыми; было и несколько других, более современных, обитых бронзового цвета кожей. Рамы высоких венецианских окон и дверей были украшены искусной резьбой.
Стефа с любопытством и почтением перебирала книги. Здесь были все книги польских классиков, попадались даже старинные фолианты, документы минувших эпох, письма. Иностранная литература была представлена не менее широко, начиная от классиков античности.
Из библиотеки дверь вела в салон-читальню, со стенами, выкрашенными светлой краской и ковром на полу. Рядом с пальмами стояло фортепиано из красного дерева. Роспись на потолке изображала Париса с золотым яблоком в руке перед тремя богинями. Большие застекленные двери выходили на балкон с мраморной балюстрадой, украшенной фигурами девяти муз. С балкона открывался прекрасный вид на террасы и реку. Гости прошли еще зал для концертов, оформленный в готическом стиле. Там находился прекрасной работы орган. Стефа уже была здесь летом, но и в этот раз не могла насмотреться.
— Зал выглядит как-то ужасно серьезно, правда? — шепнула она панне Рите.
Молодая панна вздохнула:
— О да! Наверняка жалоб здесь прозвучало больше, чем смеха. Видите этот орган? Он многое помнит. Габриэла де Бурбон… Но вы, должно быть, не знаете ее историю? Это бабушка майората, она…
— Я знаю.
— Кто вам рассказал?
— Сам майорат.
— А… Наверняка она поверяла органу все свои печали и горести. Она мастерски играла на органе. Майорат тоже, и очень его любит. Какое впечатление производит на вас этот зал?
— В нем есть что-то от монастыря. Быть может, из-за того, что все здесь устроено на старинный манер… или потому, что орган до сих пор я видела только в костелах.
— На меня от этих прекрасных стен веет затаенной печалью, — задумчиво призналась Рита.
Потом все перешли в оружейную, где оставались дольше всего, с интересом разглядывая богатейшее собрание доспехов всех времен, собранных в красочные группы. На доспехах с гербами Михоровских были прикреплены таблички, пояснявшие, кому из членов рода они принадлежали и в каких битвах использовались.
В другом зале были собраны охотничьи трофеи. Многое здесь было добычей самого Вальдемара, а один из отделов был целиком составлен из трофеев, привезенных из Индии.
Каждый зал в замке был устроен на особый манер. Гости осмотрели еще памятную Стефе портретную галерею с ее знаменитыми скульптурами и зал гобеленов.
— Это что! Вы еще не видели всех коней, — сказала Стефе Рита.
После обеда было решено посетить знаменитые глембовические конюшни, шорные мастерские и пожарное депо. Некоторые настаивали, чтобы в первую очередь посмотреть бумажную фабрику и расположенную в некотором отдалении сахарную, но Вальдемар, смеясь, заверил, что найдется время и для фабрик. Ему по душе было, что выпал столь прекрасный повод похвалиться любимыми им Глембовичами. Он сам давал все нужные пояснения, радуясь вниманию гостей.
Осмотрели электростанцию, потом отправились в конюшню. Там панна Рита впала в сущий экстаз, а Стефа, хоть и привыкшая к роскоши конюшен в Слодковцах, долго стояла, не в силах очнуться от изумления. Здание было огромным; внутри же каждый конь, укрытый роскошной попоной, стоял у своих яслей, словно бы в собственной комнате. Когда Вальдемар вошел, все кони повернули к нему головы с тихим ржанием, ноздри их раздувались, копыта нетерпеливо ударяли в пол. Вся конюшня знала его и радостно приветствовала.
Большие застекленные двери вели из конюшни в шорные мастерские. Там на стенах и станках висела разнообразнейшая упряжь, на каменном полу стояло множество великолепных экипажей.
Многих господ пожирала зависть, у других глаза разгорелись от изумления. А посреди этих сокровищ, давая пояснения, прохаживался Вальдемар, спокойный и вежливый.
Чем больше его богатства видела Стефа, тем больше он ее пугал. Непонятно почему, но его миллионы претили ей. В Глембовичах она не чувствовала себя с ним свободно, избегала его. Летом Глембовичи очаровали ее, теперь же — отпугнули.
Гостей вели все дальше и дальше. За шорной мастерской открылся большой зал для отдыха гостей, убранный в совершенно ином, нежели покои замка, стиле. Мебель из лосиных рогов, обтянутая желтой, вручную выделанной кожей, дубовые стены завешаны картинами, представляющими сцены польских скачек и английского дерби. На больших фотографиях и картинах — конские головы и кони в полный рост, Аполлон во всей красе; здесь же висели фотографии глембовических конюшен. Были портреты пана Мачея верхом на коне, в уланском мундире, и Вальдемара на Аполлоне с бегущим рядом Пандуром. Висели вставленные в рамки генеалогические древа коней, выигранные ими золотые медали — в том числе и медаль недавно закончившейся выставки.
Стефе очень понравился портрет Вальдемара на коне, и перед ним она задержалась подольше. Это обратило на себя внимание тех из гостей, кто украдкой наблюдал за ней. Граф Барский подошел к ней:
— Что вас больше всего увлекло: всадник, конь или рама?
Застигнутая врасплох, Стефа вспыхнула, но, тут же опомнившись, ответила:
— Все вместе, пан граф, ибо оно составляет достойное внимания целое.
— Но больше всего достоин внимания всадник, не так ли?
— Без сомнения. Как центр композиции.
— Но этот центр не для всех… доступен. Впрочем… мечтать никому не грешно.
Стефа открыто посмотрела ему в глаза:
— Что вы хотите этим сказать, пан граф?
— Ох! Не собираюсь вам объяснять. Забавный вопрос! Вы, сдается мне, пытаетесь достигнуть вовсе не вашего уровня горизонтов. Однако такие эскапады чаще всего плохо кончаются, я имею в виду, для прекрасного пола… Говорю это вам из чистого расположения.
Стефа побледнела, гордо подняла голову и, смерив графа обжигающим взглядом, выразительно произнесла:
— Пан граф, я не нуждаюсь в вашем расположении.
Сказав это, она отошла, стараясь выглядеть совершенно спокойной.
Слезы навернулись ей на глаза, невыносимая печаль легла на сердце. Люция спрашивала, что случилось, но тщетно ждала ответа. Стефа молчала. Наблюдавшая эту сцену панна Рита не расслышала слов, но догадалась, о чем шла речь. На обратном пути в замок она подошла к Стефе:
— Что вам наговорил наш чванливый граф?
Стефа преспокойно ответила:
— О, ничего особенного.
— Но я же видела: он чем-то оскорбил вас. Несносный тип!
Люция удивленно посмотрела на Стефу:
— Что? Граф Барский тебя оскорбил? Этот ужасный дед? Я ему дам! Сейчас же скажу Вальди!
И девочка пустилась было бежать, но Стефа схватила ее за руку:
— Люция, не нужно!
— Этот дед решил, что он тут хозяин? Ну, я ему не прощу! Он никакого права не имел тебе грубить!
Стефа успокаивала девочку. Панна Рита так ничего и не узнала.
XXXVII
В один из дней охотились с борзыми в полях. Кавалькада всадников и амазонок выехала на желтевшие стерней равнины. Для дам майорат подобрал наилучших коней. Стефе главный конюх подвел карюю арабскую кобылу Эрато, на которой обычно ездил Вальдемар. Она грациозно била копытом, похрапывала. Все кони были в весьма дорогих седлах и чепраках, и никто не заметил, что Эрато покрыли голубым чепраком и заседлали новым замшевым седлом, купленным Вальдемаром на выставке. Только панна Рита, чуткая и внимательная, сразу это отметила. Стефа сначала отказывалась ехать в столь многочисленном обществе, но верховую езду она очень любила, и в конце концов удалось ее уговорить. Вальдемар сам поддержал ей стремя. Она легко взлетела в седло. В обтягивающей амазонке из черного сукна она выглядела прелестно. Маленькая спортивная шляпка изящно сидела на ее медно-золотых волосах. Рядом с ней ехал Брохвич, не имевший никакой охоты соревноваться с князем Занецким — графиня мало занимала его. Гораздо больше его привлекала Стефа, которой он искренне восхищался. Так что Брохвич помогал майорату опекать ее, В лагерях Мелании и ее папеньки против Стефы составился уже не один заговор. Свои усилия приложила и графиня Чвилецкая, пытаясь втянуть дочку Паулу и барона Вейнера — но барон оказался крепким орешком. Своим поведением Брохвич раздражал многих аристократов, но это его только забавляло.
Когда выехали на поля, спустили борзых. Конные доезжачие в красных куртках и черных высоких сапогах рассыпались по необозримым желтым полям. Борзые гнались за зайцами, несущимися искать спасения в лесу. Всадники и амазонки помчались следом. Звуки труб, крики «Улюлю!», топот коней смешались с пронзительными воплями раздираемых псами зайцев. Любители такого рода забав в азарте не помнили себя. Трестка несся сломя голову, графия Барская и Занецкий мчались, не разбирая дороги. Черные огненные глаза графини пылали, ноздри раздувались. Ее вид волновал вялого князя Занецкого, разыгрывавшего английского джентльмена. Графиня манила и влекла его.
— Демон! Сущий демон! — шептал он восхищенно. И мчался за ней, не щадя коня, так, что пена летела во все стороны от его скакуна.
Вальдемар держался в стороне, наблюдая за охотой. Он часто бросался вперед, но не пускался в погоню — лишь стрелял в лиса или зайца, прежде чем того успевали настигнуть собаки. Он не любил, когда собаки рвали дичь, к тому же его ужасно забавляли глупые и удивленные морды борзых, когда перед самым их носом настигаемый зверь валился вдруг мертвым. Вальдемар стрелял с коня на всем скаку. Аполлон приучен был к выстрелам над самым ухом. Но чаще всего орлиный взгляд майората преследовал карюю арабскую кобылу…
Стефа гонялась по полю за зайцами, но исключительно ради самой скачки. Она любила конную езду и старалась держаться подальше от кровавых сцен. Ее радовал сам вид лихих наездников и красных курток доезжачих, веселили крики, пенье труб, борзые, пролетавшие над полем, словно узкие пестрые ленточки. Ее взгляд тоже часто обращался к стройной фигуре майората. Ей нравилось, как охотится Вальдемар, в нем сочетались ловкость и изящество, уважение к преследуемой дичи не переходило в любование кровью. Гарцуя по полям, она заметила поблизости скачущую наперерез панну Шелижанскую. Когда Бекингем поравнялся с Эрато, молодая панна громко крикнула:
— С дороги! Улю-лю!
Стефа занесла хлыст и тоже крикнула:
— Улю-лю!
— За мной! — проносясь мимо, крикнула Рита.
Стефа помчалась следом, но внезапно услышала душераздирающий вопль зайца. Натянула поводья и повернула лошадь, лицо ее исказилось болью — такие сцены были не для нее, слишком нежной была ее натура. Рысью она направилась в сторону леса.
— Нет, не могу… — шепнула она.
Сбоку ее догонял Вальдемар. Аполлон призывно заржал, и Эрато ответила ему. Кони поравнялись.
— Почему вы свернули? — спросил майорат, придержав коня.
— Заяц так кричал… Вы знаете, какая я впечатлительная, — ответила она чуточку пристыженно.
Глаза Вальдемара блеснули:
— Вот и прекрасно, оставайтесь собой, так будет лучше всего. Все мы рядом с вами выглядим шакалами…
Стефа засмеялась:
— Ну, не все! Взять хотя бы вас…
— Я? Я тоже убиваю…
Мимо проскакала панна Барская, пламенеющая, с развевающимися волосами, сущая царица бури. За ней мчался Занецкий.
— Гей, гей, улю-лю! — кричала графиня, ничего не видя вокруг, кроме летевших перед ней борзых, настигавших уже зайца. Она так и пронеслась, не заметив майората со Стефой.
Вальдемар с усмешкой посмотрел ей вслед, не без иронии бросив:
— Она в своей стихии…
Стефа ничего не ответила, лаская выгнувшую шею Эрато. Они молча отъехали, а когда кони унесли их в разные стороны, они лишь проводили друг друга глазами.
Двумя днями спустя после утренней облавы на волков глембовический замок погрузился в глухую тишину. Охота началась с восходом солнца, к полудню все вернулись в замок, и каждый отправился к себе в комнату немного отдохнуть.
Майорат не спал. Он долго совещался с ловчим и конюшим, отдавая новые поручения, заглянув на конюшню, на фабрики и, вернувшись в замок, бродил по нему, чуточку скучая.
Он прошелся несколько раз взад-вперед по огромному сводчатому коридору на третьем этаже, разглядывая старинные картины и статуи в нишах. И остановился вдруг, привлеченный большой картиной с поблекшими уже красками, представлявшей библейскую сцену. Сбоку стояла изображенная в профиль Мария Магдалина, в голубой накидке, с белым платком на шее; длинные ее волосы были распущены, густые ресницы и полукружья бровей оттеняли выразительные глаза. Она была прекрасна. Фигура ее дышала раскаянием, но и нескрываемым кокетством. Вальдемар долго смотрел на нее. Губы у него дрогнули, и он прошептал:
— Стефа! Невероятно похожа, тот же тип…
Магдалина прямо-таки приковывала его к себе, и он поспешил отойти. Тихо спустился с лестницы и удивленно остановился на большой площадке между этажами. Навстречу ему по другой лестнице спускалась Стефа в светло-голубом фланелевом платье и просторной блузке, на плечи у нее была накинута белая шаль, из-под которой выглядывал распушившийся кончик густой косы. На миг перед глазами майората вновь встала Магдалина — сходство было удивительным. Обрадовавшись встрече, он стоял и смотрел на нее. Стефа тоже остановилась. Румянец запылал на ее нежном личике.
— Вы не спите?
— Я хотел задать вам тот же вопрос, панна Стефания…
Девушка рассмеялась:
— Вот забавно! Я была уверена, что весь замок храпит. Давненько уже разгуливаю по нему, даже успела заблудиться и, признаюсь вам честно, понятия не имею, где нахожусь. Вы явились, как призрак. Наверное, и меня вы приняли за привидение? У вас было весьма удивленное лицо…
Вальдемар подошел ближе:
— Мне вы показались не привидением, а видением. Это большая разница! Я только что видел вашего двойника. Пойдемте, и сами убедитесь.
Стефа живо подбежала к нему и внезапно остановилась. Белая шаль стала сползать с ее плеч, открывая пушистую косу. Она почему-то колебалась.
Вальдемар легко прикоснулся к ее руке:
— Пойдемте.
— А это далеко?
— Уже боитесь? Далекого расстояния или меня? Покраснев, она смело побежала вперед:
— Идемте!
Спеша следом, Вальдемар думал: «Ну сейчас-то что ты меня боишься? Последнее время я к тебе относился крайне почтительно…»
В коридоре они остановились перед картиной.
Вальдемар указал Стефе на Магдалину:
— Минуту назад я смотрел на нее и думал о вас… И нужно же было такому случиться, чтобы буквально тут же я встретил вас, даже в похожей одежде… Стефа прошептала:
— Неужели я такая… красивая?
Майорат придвинулся к ней ближе, склонился:
— Еще красивее! Вы живы, а она мертва… она увяла, а вы расцветаете…
Стефу взволновал его голос. Он продолжал:
— Однако волосы у Магдалины распущены, а у вас заплетены. Я впервые вижу вас с косой.
— Я не ожидала кого-то встретить, — покраснела девушка.
— Но вам так весьма к лицу! Вы должны почаще заплетать косу. В девятнадцать лет вы имеете на это полное право. Почему вы никогда так не ходили?
— Дома я всегда ходила с косой, но здесь… здесь это было бы против этикета, — улыбнулась она.
— Довольно об этикете!
— Вы не любите его? Но ведь он — постоянный обитатель этих стен.
— Знаю. Прокрался сюда еще в незапамятные времена и никак не удается извести его с корнем. Впрочем, замку его присутствие сообщает некий стиль…
Стефа огляделась:
— Здесь я ни разу еще не была. Какой огромный коридор! Странно, но такие высокие своды меня почему-то пугают. А в вашем замке они на каждом шагу.
Куда он ведет?
— В правую башню, там есть часовня. Пойдемте туда?
— Но…
— Никаких «но». Весь замок спит, будто вымер. Чем вы займетесь, оставшись одна? В парк не выйти — дождик моросит. О! Видите?
Они остановились у ниши с высоким узким окном, и Вальдемар указал ей на синее небо, запятнанное серыми тучами. Падал обильный мелкий дождик. Полутемный коридор и это залитое дождем узкое окно в толще могучих стен оставляли тяжелое, угнетающее впечатление, поневоле навевая сравнение с монастырем.
Она быстро глянула на Вальдемара.
— Что вы подумали? — спросил он тихо. — О чем-то грустным?
Она кивнула и тихим голосом произнесла:
— Этот замок — скала, а вы — молодой орел… и вы, уже покинули гнездо, правда?
Он серьезно посмотрел на девушку:
— Да. Я уже вылетел из гнезда. Но обязательно туда вернусь.
Она обернулась и, порозовев, протянула Вальдемару руку:
— Простите, если я вас обидела… Он задержал в руке ее ладонь:
— Все верно, но не я ли буду тем орлом: что сделает их гораздо менее грустным?
— Дай Боже! От всей души желаю вам этого. Но теперь… пойдемте.
В нижнем салоне они остановились у распахнутых стеклянных дверей, выходивших на малую террасу.
Солнце выглядывало из-за туч, но дождь падал по-прежнему. Большие капли стучали по мраморным перилам террасы. Капли жемчужинками спадали с твердых блестящих листьев деревьев, вспыхивая драгоценными камнями.
Экзотические деревья в парке и кусты выглядели великолепно в этом диковинном сочетании дождя и солнечного сияния. В открытую дверь залетели капли, обдав платье Стефы. Девушка протянула ладонь под дождь и, когда она наполнилась прозрачной водой, вылила ее на цветы.
— Говорят, такой дождь при солнце — благословение Божие, — сказал Вальдемар. — Выходит, вы собираете благословение в ладони.
Лицо Стефы озарилось улыбкой.
— Панна Стефания, вы промокнете, давайте перейдем в читальню, благо это недалеко. Вы просили у меня вчера «Таймс». Все газеты там.
Стефа убрала руку, вытерла ладонь платком, и они вошли в маленькую читальню рядом с зеленым кабинетом Вальдемара. Он придвинул ей кресло, а сам сел за стол, заваленный газетами.
— Сейчас я найду, — сказал он, вороша гору бумаг.
— Ах, я вовремя вспомнила! — сказала Стефа. — Вы уже посылали человека на почту?
— Да, он ездил утром. Но если вам нужно, он отправится снова.
— Нет, это подождет до завтра. Я написала письмо, отдам вам его сейчас, потому что завтра утром могу проспать.
Майорат взял письмо и, присмотревшись к нему внимательно, шевельнул бровями:
— Красивый и оригинальный почерк, но адрес — это шаблонно, — сказал он. — Я думал, вы не поддались общей моде, точнее, эпидемии — писать имя адресата по-французски Monsieur Stanislas Rudecki a Ruczaj.[75] — То же самое нетрудно выразить по-польски, правда?
Стефа покраснела.
— Вы совершенно правы. Для меня это будет хорошая наука.
Он усмехнулся:
— Признаете?
— О да! Вы метко назвали это эпидемией: видят у других и без раздумья подражают. Надеюсь, вы меня не причисляете к бездумным фанатичкам французского?
— О нет! Но французский, язык стал для нашей страны словно саранчой, повсеместно вытесняющей родной. Я уж не говорю об адресах и даже письмах по-французски, но посмотрите, что делается в других областях, в основном там, где что-то предназначено исключительно для дам. Большие магазины, ателье мод, все они пишут счета и адреса только по-французски.
Полькам это делает мало чести. Дамы, да и некоторые мужчины, молятся no-французским книгам, потому что молитва по-польски для них выглядит чересчур вульгарно. Визитки — тоже французские. Дети бойко лопочут по-французски, еще не зная толком родного языка. Я знал одну девятилетнюю девочку, отец спросил ее, на какой реке стоит Варшава, она стала заикаться: «Вис… Вис., . Вис…» и наконец выдавила «Vistule». «Висла» она попросту не могла выговорить. Люция воспитывалась точно так же. А меж тем за границей ничего подобного вы не увидите, там каждый любит и почитает свой родной язык. Француз не напишет по-польски ни одной вывески, ни одной этикетки, пусть даже большинство его покупателей будут поляками. Не спорю, французский в иных случаях необходим, как и другие иностранные языки, но не стоит употреблять его на каждом шагу. Французский язык распространен по всему миру, польский — только у нас, и то мы сами изгоняем его из Польши. Стыд! Иностранцы над нами смеются, потому что не знают такой дикой моды — отдать первенство иностранному. Это — исключительно наша черта…
Стефа порывисто сказала, глянув на него с благодарностью:
— Вы меня пристыдили, но и дали добрую науку. Теперь уж никогда не буду употреблять французского без крайней к тому нужды.
Он весело заглянул ей в глаза:
— Правда? Очень рад. Будьте прежде всего полькой и патриоткой, и никогда — космополиткой, которая ради моды забывает родной язык. Надеюсь, перестанете подражать графиням Чвилецким, Барским, всем этим Тресткам, Вейнерам… Единственная настоящая полька среди наших дам — панна Рита.
— И наверняка она стала ею под вашим влиянием, — вырвалось у Стефы.
Майорат усмехнулся:
— Быть может… Ну, а прочих наших дам уже не переделаешь. Они слишком чтят заграничных божков, чтобы отвыкнуть приносить им жертвы.
В боковом коридоре раздались шаги лакея. Стефа встала.
— Вы уходите?
— Все, наверное, уже проснулись.
— Жаль, нам было так хорошо вдвоем. Что, вы забираете письмо?
— Я перепишу адрес. Теперь я просто не могу его отправить в прежнем виде.
Вальдемар рассмеялся:
— С вами не соскучишься. Добрая и… прекрасная детка.
— Вы опять начинаете?
— Нет-нет! До свиданья. Вот ваша газета. Правда, скоро обед…
— Мы долго сидели, — сказала Стефа уже в дверях.
— Вы жалеете об этих минутах?
— Я жалею, что они прошли.
Они вновь улыбнулись друг другу, и девушка скрылась в боковом салоне.
Вальдемар несколько минут расхаживал вдоль стен и, бросившись наконец в кресло, воскликнул:
— С ума схожу!
XXXVIII
Назавтра вновь охотились на фазанов. Ужин был накрыт в охотничьем приюте. Белокаменную статую Дианы-охотницы окружали полукругом столы, под балдахином из парусины, украшенной венками из дубовых листьев. Дубовыми листьями были изображены и монограммы хозяина. На столбах, украшенных такими же венками, висели ружья и рога. Играли оркестранты. После каждого тоста лесничие давали залп из ружей.
Вдали на темной глади реки блестели, как звезды, редкие огни, пылающей каймой окружая парк и зверинец — это иллюминированные лодки с музыкантами тихо скользили по волнам.
Дамы и господа оставались в охотничьих костюмах. Стефа была в костюме из темно-малинового сукна и мягкой белой тирольской шляпке. Пан Мачей подарил ей и Люции красивые малокалиберные ружьеца и патронташи. Настроение Стефы чуточку упало: ее раздражали грубиян Барский и неприязненные взгляды его дочки. Даже присутствие Вальдемара стесняло ее, сердце ее, когда он подходил, переполнялось странным испугом. Майорат чуял ее беспокойство и, догадавшись, что главный повод к тому — это он сам, тактично избегал приближаться.
Но другие мужчины так и пожирали ее глазами, она нравилась всем. Два молодых графа перешептывались:
— Быть не может, чтобы майорат до сих пор не лизнул сахарку…
— Он обращается с ней, как с принцессой.
— Это для вида, чтобы никто ничего не заподозрил.
— Можно только позавидовать.
Однако такие разговоры велись с величайшей осторожностью — к тому вынуждало явное расположение к Стефе особ из высшего общества, с которыми следовало считаться. А молодой Михоровский, чуткий и внимательный, опекал ее, но с величайшим тактом, так что никто не разгадал его игру. Но Рита знала Вальдемара давно. Никогда еще на ее памяти он не оказывал кому-либо столько уважения, даже почтения, никто столь всецело не занимал его мысли и чувства. Временами, когда майорат смотрел на Стефу, Рита замечала горящие его глаза, и это ее беспокоило.
Во время охоты панна Рита спросила Трестку:
— Вы развлекаетесь или еще и наблюдаете порой?
— Почему вы спросили?
— Так… Вы ничего не замечаете?
— О, многое! Замечаю, что особы, жаждущие быть возвышенными, оказались униженными…
— Что за библейский стиль!
— И еще — особы, которые не собираются покорять вершины, тем не менее уже там находятся…
— Браво! Вы говорите о Барской и Рудецкой, да?
— Конечно! Вторая, даже о том не ведая, оказалась в вышине, а первая… как кричали французские революционеры, долой короны!
— Да, короны ей не видать… Ей не позавидуешь. Она сама все видит — в таких случаях слух, зрение и инстинкт неслыханно обостряются.
Но не только панна Рита и Треска видели все. Беспокоился пан Мачей, сердилась пани Идалия, видя, что графия недвусмысленно ревнует Стефу к Вальдемару. Столь желанная баронессе партия таяла на глазах и ей оставалось лишь искусно изображать полнейшее равнодушие. Но панна Барская не столь искусно владела собой…
На охоте графиня стала свидетельницей сцены, переполнившей чашу и уничтожившей ее совершенно. У Стефы что-то случилось с ружьем. Не в силах наладить его сама, она подошла было к одному из ловчих, но тут, словно из-под земли, перед ней вырос сам главный ловчий Урбанский — он только что говорил с Барским, но, заметив краем глаза растерянность Стефы, извинился перед графом и мгновенно оказался рядом с девушкой, принялся осматривать ружьецо с видом величайшего почтения. Когда ружье было починено, Стефа поблагодарила Урбанского и прошествовала с достоинством принцессы, привыкшей к проявлениям почтения…
Граф Барский едва не выругался вслух, вне себя от ярости. Его дочка, хоть и кипела от гнева, изумлялась Стефе — девушка держалась столь благородно, с таким тактом, что ей могла позавидовать не одна герцогиня.
XXXIX
Охота и развлечения длились десять дней. Глембовический сезон закончился с нетерпением ожидавшимся всеми костюмированным балом. Белый бальный зал с увитыми плющом мраморными колоннами тонул в электрическом свете, в сиянии хрустальных люстр. Повсюду были цветы и зелень. На бал съехались многие соседи майората и приглашенные из более отдаленных мест. Поражали дорогие и оригинальные костюмы. Среди дам выделялась графиня Виземберг в наряде, символизировавшем бурю. Ее фантастическое платье жемчужно-сапфирового цвета украшали букеты газовых лент оттенков клубящихся грозовых облаков: темно-золотые, черно-фиолетовые, голубые, бело-серые; цвета эти составляли гармоничное цело, а молнии изображали вшитые в газ полоски материи, усеянные множеством мелких бриллиантиков и золотых зигзагов. Брильянты окружали шею. С коротких рукавов свисало множество нитей, столь легких, что от малейшего движения рук они» шевелились, словно развеваемые вихрями. Тяжелые черные волосы графини были распущены, голову ее окутывало темное облако фиолетового газа, увенчанное золотой молнией с огромным бриллиантом. Из-под этого облака волной ниспадали длинные, гибкие стебли трав. Обнаженные руки графини были украшены золотыми змеями с глазами-бриллиантами. В одной руке она держала веер из золотых бляшек и бриллиантов, а в другой — золотую тросточку, заканчивавшуюся бриллиантовой молнией и снабженную приспособлением, издававшим при нажатии глухой треск. Костюм был необычным и изысканным, как нельзя более подходившим к классической красоте графини. Колыхавшиеся травы, необычайно напоминающие взбудораженный вихрем луг, бриллианты, внезапно вспыхивавшие разноцветным сиянием, — все это представляло крайне эффектное зрелище. Не менее красиво выглядела графиня Мелания в костюме богатой иудейки библейских времен — в платье из золотой парчи, в белой вуали, поддерживаемой на голове высокой диадемой, расшитой жемчугом. Наряд такой как нельзя лучше подходил к ее восточной красоте. Панна Рита преобразилась в средневековую даму, Люция — в итальянскую цветочницу. Стефа была дамой из времен Директории[Правительство Франции из 5 директоров (с ноября 1795). В ноябре 1799 свергнуто Наполеоном Бонапартом.
Противоположности притягивают (франц.).] — в розовом воздушном платье из легкой шерсти с шелковым шарфом и черной шляпе с большими страусовыми перьями. Искусно причесанные волосы волнами буйных локонов падали ей на плечи. На шее висело довольно дорогое жемчужное ожерелье. В этом наряде, с веером из черных страусовых перьев, букетиками розовых камелий у корсажа и в волосах, она выглядела серьезнее, чем обычно, но была столь прекрасна и величественна, что к ней обратилось гораздо больше мужских взглядов, неужели к прекрасной еврейке. Вальдемар и большинство мужчин были во фраках. Два оркестра играли попеременно. Во время мазурки, когда следовало выбирать партнерш, к Михоровскому приблизился Брохвич, державший под руки графиню Меланию и Стефу;
— Электричество или огонь?
— Электричества у меня довольно, так что выбираю огонь, — ответил Вальдемар.
Брохвич передал ему Стефу.
Графиня засмеялась холодно, язвительно:
— Les extrкmes se touchent![76]
Майорат великолепно танцевал мазурку, сочетая достоинство рыцаря и юношеской пыл влюбленного. Стефа словно плыла по залу. Во время танца глаза их часто встречались. Стефа не опускала взгляда. На поворотах майорат прижимал ее к себе, но не сильнее, чем того требовал танец. Он танцевал ловко и живо, но было в его движениях и нечто от величия. Лицо его было серьезным, лицо Стефы, несмотря на искрившиеся весельем глаза, — задумчивым.
Графиня Мелания пробормотала сквозь зубы:
— Cette fille a L'air d'une princesse![77]
Однако Брохвич услышал и сказал воодушевленно:
— Да, будь я художником, под их портретом подписал бы: L'йtat c'est moi![78]
Графиня послала ему вызывающий взгляд.
Сбоку у колонны стоял пан Мачей. Глаза его следили за танцующей парой внимательно, но без благожелательности. Наоборот, брови старца были грозно нахмурены, глаза угрюмо светились. Он видел танцующего внука, но словно бы иным зрением — в глазах пана Мачея мазурка с этой девушкой неким неведомым образом изменила Вальдемара. Обычно не великий охотник для танцев, сейчас он вкладывал всю душу, ничего вокруг не видя, кроме Стефы. Пана Мачея охватило беспокойство — Стефа… Какова она сегодня! Розовая дама из времен Директории, прекрасная и грациозная, изящно поднося к глазам веер, плывет по залу величественно, как княгиня… Пан Мачей не узнавал обычной Стефы, в скромных платьицах, веселой порой почти как ребенок или с грустной улыбкой на свежем личике… Что ее сделало сегодняшней, такой? Она всегда красива, легка, как ветерок, всегда нежна, обаятельна. Но это нынешнее величие, величавое достоинство… Старик не сводит с нее глаз, вспоминает некие минуты, покрытые мглой ушедших лет, закрывает глаза, слушая тяжкое биение сердца, и вдруг из груди его вырывается вздох, словно бы испуганный:
— Она… в точности она… откуда это сходство? Что это, о Боже?
Помолчав, шепчет, едва ли не охваченный ужасом:
— Имя, краса, возраст, очарование — все, как у той… Боже, мой Боже!
Он стоит, словно прикованный к колонне, неотрывно глядит на стройную фигурку в розовом, открывая все новые черты сходства, все сильнее раня душу:
— Тот же характер, манера держаться… движения… голос! Неужели она возродилась вновь в этой девушке?
И внезапно задрожал всем телом:
— Неужели и Предначертание повторится? Неужели это — рок нашей семьи? Боже, смилуйся!
Расстроенный пан Мачей избегал внука, боясь даже встретиться с ним взглядом.
После мазурки дамы и господа разошлись по зимнему саду и оранжерее. Некоторые прохаживались в огромном, пышно убранном холле, словно бы дополнявшем бальный зал. Оттуда вели ступени на вычурную железную галерею, пролегавшую вдоль стеклянных стен зимнего сада. Потолок в холле был украшен барельефами, представлявшими сцены сражений и конные полки на марше. Стены были окрашены в голубые тона, а пол выложен бесценной венецианской мозаикой.
Всем было весело. Веера колыхались медленно, пылко, вяло, настойчиво, равнодушно… Повсюду слышались громкие разговоры и тихие шепотки уединявших пар. Электрические лампочки, искусно укрытые среди пальм и цветов, бросали разноцветные блики на обнаженные плечи дам, отбрасывали на лица меланхолические тени.
Вальдемар разыскивал Стефу, но постоянно кто-нибудь заступал ему дорогу, спеша завязать разговор. После долгих поисков майорат увидел меж пальмами розовое платье, услышал ее веселый молодой голос и остановился, пытаясь рассмотреть, с кем она говорит. Рядом с ней увидел Трестку, чуть подальше — панну Риту в компании местного доктора. Трестка что-то оживленно говорил с крайне серьезной физиономией. Охваченный любопытством, Вальдемар подошел поближе: «О чем они говорят столь живо?»
— Скажу вам откровенно, — молвил Трестка, — вы решительно изменились к лучшему. Не скажу, чтоб вы стали еще прекраснее, вы и раньше были очаровательны, но некие перемены налицо — и в том наша заслуга.
— Это каким же образом?
— В вас чувствовалась порода, но некая робость портила весь эффект.
— Значит, изменения — к лучшему?
— Ого! В этом наряде вы восхитительны. Представляю себе Наполеона на моем месте…
Стефа рассмеялась:
— А при чем здесь Наполеон? Вы так подумали из-за моего костюма? Но разве я похожа на Жозефину Богарнэ?
— Вы ужасно добродетельны, если связываете Наполеона исключительно с Жозефиной…
— Неужели я похожа на Марию-Людовику?
— О, что вы? Это была глиста, не женщина! Стефа засмеялась:
— Вы великолепны! Разве можно проводить такие сравнения?
— Но сравнить ее с глистой — менее ужасно, чем позволить такую дерзость и сравнивать с вами!
— Ах! Я это должна считать комплиментом и поблагодарить? Простите, но я никогда не благодарю за комплименты…
— Но ведь любите их, правда? Вот только мои комплименты вас что-то не вдохновляют. Будь тут Наполеон…
— Дался вам Наполеон! Он что, тоже говорил комплименты?
— Ему говорили!
— Но уж наверняка не женщины?
— Не скажите, панна Стефания! Поклонниц он считал на дюжины! Вижу, вы плохо знакомы с наполеоновской эпохой.
— Извините, я ее хорошо знаю.
— Со всеми подробностями?
— Надеюсь, граф!
— Тогда начнем экзамен: какая из поклонниц была с ним под Трафальгаром[79] какая — под Березиной, какая — в ущельях Самосьерры?[80]Он ведь и под Самосьеррой ухитрялся флиртовать. Ну-ка, панна Стефания!
— Ответьте на ваши вопросы сами и заранее поставьте себе пятерку, а я сразу скажу: браво лучшему ученику! И довольно экзаменов, пусть будет «браво», но никаких «бис!», занавес опустился!
И Стефа весело упорхнула.
— Умеет и шутить, и защищаться… — буркнул Трестка.
Сегодня Стефа подвергалась атакам со всех сторон. Едва она отдалилась от Трески, на пути у нее блеснул монокль ее неотлучного обожателя по выставке. Девушка попыталась разминуться с ним, но он, опередив Вальдемара, загородил ей дорогу:
— Панна Стефания, вы меня сегодня сушим образом тираните! Я от вас не дождался и словечка, а из танцев получил один этот нудный вальс!
— Пан граф, разве вам этого не довольно?
— О нет! Вы сегодня выглядите, как королева, но вы — безжалостная королева, немилосердная к своим верным подданным.
— Правда? А кого вы считаете моими подданными?
— Прежде всего — себя.
— Выберите себе другого сюзерена. Для обеих сторон это будет выгоднее.
— Я роялист и храню верность своей королеве!
— Но, граф, своим сегодняшним костюмом я представляю республику!
— Ничего. У вас все равно на голове корона. Но у меня нет ни малейших шансов, особенно здесь, среди пальм, меж которыми вы так искусно скрываетесь.
— Прекрасные пальмы!
— Как все в Глембовичах. Дамы даже майората называют чудесным.
— Вы с этим не согласны, пан граф?
— А вы?
Стефа чуть смешалась, но быстро нашлась:
— Майорат соответствует всему, что окружает его.
— Значит, он все же чудесен?
— О нет! Я люблю чудесные вещи, но не выношу чудесных людей.
— Вы сами себе противоречите…
Стефа присела в изысканном реверансе на старинный манер:
— Monsieur, je suis enchantйe.[81]Засмеялась и исчезла за деревьями. Граф целеустремленно направился следом. Слышавший все Вальдемар провел рукой по лбу.
Шепнул, довольный:
— Как она умеет от них отделаться! И они ее ничуть не интересуют.
И решил непременно отыскать ее.
Она сидела на мраморной скамеечке с княжной Лилей Подгорецкой в окружении нескольких господ и дам. Когда Вальдемар приблизился, Стефа обернулась к нему:
— Пан Михоровский, просим на международный конгресс! Здесь многие в костюмах самых разных народов. Мы дискутируем, одних привлекает менуэт, другие хотят еще полюбоваться пальмами…
— А вы к какому лагерю принадлежите?
— Я не умею танцевать менуэт и потому нейтральна.
Меня выбрали судьей.
— Значит, в моем вмешательстве нет нужды? Арбитр здесь уже есть…
— Но вы примкнете к одному из лагерей?
— Я — за менуэт. А большинство?
— Тоже. Значит, дело решено, — и она изящно взмахнула веером. — Судебное заседание закрывается…
Распорядитель, молодой князь Гершторф, выбежал в зал. Вскоре зазвучала музыка. Менуэт наплывал меланхоличными, звучными волнами. Стефа и Вальдемар стояли в дверях оранжереи под огромными фестонами роз и зелени.
— А вы не будете танцевать?
— Нет, панна Стефания.
— Но вы голосовали за менуэт?
— Чтобы остаться с вами.
Стефа замолчала, весело глядя на красочную шеренгу танцующих пар. Белый зал, пальмы, цветы, фраки, драгоценности, изящные поклоны медленно двигавшихся в менуэте танцоров, старинная музыка — все это создавало впечатление, что бал происходит лет сто назад, в первые годы девятнадцатого века.
— Так должны были выглядеть балы в Сан-Суси и Версале, — сказала Стефа.
— Да, не хватает только париков и кружевных жабо… и кавалеры не в чулках.
— И нет мушек на щеках, и нет того кокетства, — добавила в тон ему Стефа.
— О, его довольно. Долю кокетства можно найти и у вас.
— Правда?
— Но у вас оно — особого рода. Кокетство мимозы безотчетно притягивает к ней и таит нечто от привередливости…
— Почему вы так решили?
Михоровский с улыбкой покачал головой:
— Вы задаете довольно смелые вопросы! Если я захочу быть откровенным, могу стать самоуверенным, а этого мне не позволяет собственная этика…
Девушка смутилась, но ответила столь же прямо:
— Может, я и привередлива, слишком требовательна… но если я перестаю быть требовательной, теряю обычную смелость, и у меня тогда наверняка очень наивный вид…
В глазах майората зажглись радостные огоньки, он ласково глянул на девушку:
— О нет, не наивный — озабоченный. И это составляет полный контраст с вашей обычной веселостью и красноречием… Незнакомый с вами человек ни за что не догадается, что вы можете быть иной… но непременно очаровательной.
Стефа взглянула на него, на лице ее вспыхнул румянец, всегда очаровывавший Вальдемара.
— Пан майорат, мне кажется…
— Что я становлюсь самоуверенным? Вы сами меня невольно к тому вынуждаете, если уж речь зашла о полной откровенности. Откровенно говоря, я рад, что в ваших глазах имею немного больше шансов, нежели граф с моноклем, Вилюсь и Трестка.
Стефа улыбнулась:
— Нужно признать, вы выбрали себе не самых сильных противников. Здесь ваша самоуверенность ослабла…
Вальдемар изящно склонил голову. Это был жест благодарности.
Какое-то время они молчали, потом он сказал, указывая на танцующих:
— Взгляните только, каким вдохновением охвачены иные дамы. Менуэт, я назвал бы наинесноснейшим из танцев, но их он явно воспламеняет. Неплохое изобретение, этот менуэт! Часто лишь в танце по-настоящему и раскрывается темперамент человека. Но зрители, наблюдая со стороны, диву даются — что так воодушевляет танцующих?
— Да, но так может думать только тот, кто сам не танцует. Танцор ничуть не удивится. Интересно, что за человек станцевал первый танец в истории человечества?
— Или сумасшедший в приступе безумия, или безмерно обрадованный чем-то субъект… например, пещерный человек, довольный богатой добычей.
— Или съевший собственную жену, закончив тем медовый месяц, — раздался за их спинами голос Трестки.
Стефа и Вальдемар рассмеялись:
— Откуда вы знаете, о чем мы разговаривали? Граф снял пенсне:
— Слух у меня отличный, а менуэт мне действует на нервы, я его не танцую, вот и решил присоединиться к вам, ибо поставленный панной Стефанией вопрос заинтересовал и меня. Если я здесь не нужен, — удаляюсь. Однако полагаюсь на ваше расположение. Посмотрите на Барского: как он уставился на нас, что у него за взгляд… Видите?
Михоровский поморщился:
— Это тоже пещерный человек. Разве что современный.
— А где панна Рита? — спросила Стефа.
— Раскланивается в менуэте с Жнином, и оба довольны.
— А что же вы?
— А что прикажете делать — в лоб себе стрельнуть или повеситься?
— Хотя бы потанцевать.
— И не подумаю. Чересчур большая жертва выйдет с моей стороны.
Князь Гершторф закончил менуэт. Пары рассыпались. Заколыхались веера. Короткий перерыв — и под звуки оркестра красочно наряженные гости, предводимые дворецким, направились в столовую. Дворецкий рассаживал гостей за богато убранными столами. Все опечалились, вспомнив, что это был прощальный пир…
Назавтра приглашенный фотограф запечатлел гостей в маскарадных костюма. Стефа стояла во втором ряду, сбоку. Вальдемар подошел, когда ряды уже установились, и встал за спиной Стефы. Он был выше ее ростом, но ее огромная шляпа заслоняла его лицо, и ему пришлось чуть отступить в сторону. Стоявшая в первом ряду графиня Мелания не заметила, где именно он стоит. Зато Рита тихонько шепнула Трестке: — Первый публичный тет-а-тет… Трестка утвердительно кивнул. Кроме общего снимка, все дамы сфотографировались и отдельно, в маскарадных костюмах и бальных платьях, Стефа — в своем наряде времен Директории, а потом, по просьбе Люции, — в своем обычном сером платьице с ниткой кораллов на шее.
Снимались в охотничьих нарядах в зверинце, на лодках, верхом на лошадях, за теннисом и бильярдом. На это ушел весь день. Вечером иные гости уехали на станцию, другим предстояло покинуть Глембовичи завтра утром. Уезжавшим дамам майорат дарил букеты, и в их честь играл оркестр.
Последний вечер собрал в столовой значительно поредевшее, но, по странному стечению обстоятельств, приятнейшее общество. Барские уже уехали. И сразу воцарился иной настрой. Отъезд графини никак нельзя было назвать триумфальным. Она получила прекрасный букет, в ее честь сыграл оркестр, увезла ее прекрасная карета майората, запряженная четверкой серых арабов, но лицо графини оставалось злым. Она проиграла. Невестой майората она не стала и не могла питать на то никаких надежд и в будущем. Больше всего ее гневило неотвязное воспоминание о том, кто стал причиной ее поражения, вернее, о той…
Граф уехал мрачный, как туча. Мечты, чтобы стать тестем в Глембовичах, рассеялись, как дым, и он уже не верил, что обретет когда-нибудь этот «титул». Глядя на очаровательную дочь, граф мысленно прибавлял великолепное придание и графскую корону с девятью зубцами на желтом поле — и все это ничуть не подействовало на майората! Дурак, идиот, не понимает, сколько потерял! Едва перед глазами спесивого пана возникала изящная, нежная фигурка Стефы, кулаки у него сжимались поневоле.
В замке никто не ощущал скуки, но настроение было уже другим. После шумных дней, проведенных в веселых забавах, всех охватил меланхоличный покой. Они тихо бродили по узеньким аллеям зимнего сада, заглядывали в винный подвал, в оранжерею, где росли ананасы, в прекрасную долину роз.
Каждый печально думал, что завтра предстоит покинуть замок.
Стефа, тихая и молчаливая, не вздыхала украдкой, не искала взглядом Вальдемара. Странные чувства охватывали ее: она хотела вырваться отсюда — и не могла; хотела бежать — но что-то удерживало ее; хотела обороняться, но что-то твердило: «Поздно!». Ей было так тяжко, словно весь этот огромный замок валился не нее. Внешняя пышность и великолепие вновь тяжким грузом ложились на плечи, угнетали. Небывалая печаль раздирала грудь.
XL
Пару дней спустя замок покидали гости из Слодковиц. Княгиня Подгорецкая уехала вчера с сыном, невесткой и Ритой.
Глембовичи выглядели чуточку печально, словно на этот лад настроили их первые дни наступившего октября. Лица у лакеев были мрачноватыми, они сонно тащились по коридорам. Их ждал заслуженный отдых, но они грустили по минувшим веселым дням, хоть и собрали чаевые, способные утешить любого.
Управитель Остроженцкий и два практиканта, спускаясь с террасы, увидели напротив поднимавшегося по ступенькам майората. Он задумчиво шел из теплицы, неся пышный букет желтых роз. Увидев вежливо уступивших дорогу служащих, Вальдемар благожелательно улыбнулся:
— Куда вы направляетесь, господа?
— Бродим по замку, вызывая эхо минувшего, — ответил один из практикантов.
Он вежливо раскланялся и взошел на террасу. Вскоре, когда он исчез из глаз, Остроженцкий вполголоса спросил:
— Что скажете? Майорат с букетом роз… Неслыханно!
Молодой практикант, граф Л., сунул руки в карманы пиджака:
— Что же тут неслыханного? Букет предназначен для панны Рудецкой. И скучать он будет по ней, ergo, [82]панна Рудецкая — будущая хозяйка замка.
— Вы думаете? — удивился Остроженцкий.
— Что тут думать? Я в это верю, как в святое Евангелие. Слепой увидит, что он из-за нее потерял голову. Потому-то Барский и злится, потому-то предвижу множество воплей и переполоха — аристократия взовьется на дыбы, но все кончится Veni Creator.[83]Иным способом он Рудецкую не получит, а поскольку он форменным образом сходит с ума, все кончится у алтаря. А уж она наверняка не отвергнет такую партию.
Остроженцкий поморщился:
— Если только майорат всерьез думает об алтаре… В конце концов, это магнат по крови, человек исключительный, но все же магнат, а то, что он потерял голову… На нее это не могло не подействовать. Он умеет нравиться. Окружил ее королевскими почестями… одно это может привлечь панну Рудецкую, не говоря уж о самом майорате, к которому она, похоже, неравнодушна. Майорат майоратом… а его миллионы сами по себе раскинули на нее силки. И чем все кончится, абсолютно неизвестно. Если намерения его не столь благородны, мне жаль бедную девушку. Слишком прекрасный цветок, чтобы погубить его, — даже в такой роскоши…
Практикант-граф рассмеялся:
— Почему? Неужели вы думаете, что панна Рудецкая не сможет стать вдохновительницей майората, не глядя на глупые предрассудки?
— Жаль будет девушку!
— Вздор! Майорат и не с такими имел дело, не думая ни о каких предрассудках… К чему же делать исключением панну Рудецкую? Она красива, изящна — тем лучше, темпераментна — это возбуждает, ну, а если добродетельна — это лишь разожжет аппетит. Майорат это прекрасно сам понимает.
— Не следует вам так говорить. Майорат не способен на подобную низость. Панна Рудецкая занимает определенное положение и в Слодковцах, и в обществе, с этим майорат вынужден считаться.
— Думаете, для него это препятствие? Его прошлое доказывает, что он выбирал исключительно прекрасных и исключительно в высших сферах. Это эстет, его никогда не прельщали неотшлифованные алмазы! Он всегда оставался победителем, не станет колебаться и теперь… хотя, конечно, я не спорю, все может кончиться и алтарем. Панна Рудецкая не просто воспламеняет майората — она занимает его мысли…
— И все это понимают, даже слуги, — сказал Остроженцкий. — Это отнюдь не мимолетное увлечение. Вопрос только в том, сумеет ли майорат пойти до конца и хватит ли у него сил смести все преграды, которые неминуемо нагромоздит на его пути высший круг…
Перед главным подъездом раздались топот копыт и стук колес.
— Уезжают. Пойдемте туда! — предложил практикант-граф.
Они поспешили.
Стефа, уже в пальто и шляпке, стояла у лестницы в главном вестибюле, она застегивала перчатки, лаская Пандура. Люция бегом спускалась по лестнице, зовя мать.
Из бокового коридора вышел Вальдемар, подошел к Стефе и вручил ей букет роз. Рядом были слуги, и он перешел на английский:
— Пусть эти цветы, благоухая в вашей комнате, напоминают вам о Глембовичах.
Стефа вспыхнула и, сердечно взглянув на него, сказала:
— Благодарю. О Глембовичах я не забуду… и без посредничества цветов.
Вальдемар поцеловал ей руку:
— Теперь я осиротею и останусь здесь один, словно пустынник…
— Тогда поезжайте с нами.
Вальдемар быстро взглянул на нее, и глаза у него загорелись. Он обернулся к лакеям:
— Оседлать Аполлона!
Младший камердинер опрометью выскочил прочь. В это время с лестницы как раз спускались пани Идалия и поддерживаемый камердинером пан Мачей. Они успели расслышать приказ майората.
— Ты едешь с нами? — спросила баронесса, глядя на покрасневшую Стефу и розы в ее руках.
— Да, — сказал Вальдемар. — Меня страшит опустевший замок. Никогда еще он не выглядел так угрюмо…
Он взбежал по ступенькам и, отстранив лакея, сам подал руку девушке.
Подошли Остроженцкий с практикантами, дворецкий и ловчий. В уголке собрались лакеи и горничные. В дверях стоял конюший Бадович. Оркестр на террасе играл любимую Стефой увертюру Зуппе «Крестьянин и поэт». Пани Идалия и Люция тоже получили огромные букеты цветов. Ландо, обитое темно-красным бархатом, было запряжено четверкой рослых фольблютов золотисто-гнедой масти; на лошадях сидели форейторы, на запятках стояли ливрейные лакеи. Рядом оседланный Аполлон нетерпеливо мотал головой. От портика до ворот стояли в две шеренги конные егеря в праздничных костюмах с Юром во главе. Вальдемар подсадил дедушку и пани Идалию в ландо. Стефан с Люцией заняли переднее сидение.
Майорат вскочил на коня.
— Я вернусь завтра, — сказал он управителю.
Кони тронули. Егеря взяли под козырек. Когда ландо миновало первые ворота, они поскакали следом по четыре в ряд. Во главе колонны скакал Юр. На башне чуточку жалобно запела труба. Это был королевский выезд, но развеселил он одну Люцию. Пани Идалия сидела насупившись, пан Мачей был погружен в печальные раздумья — оба они догадывались, что все эти почести и сопровождение Вальдемара были не для них, а ради Стефы… Пан Мачей избегал встречаться с девушкой взглядом, и она это чувствовала. Неимоверная тяжесть легла ей на грудь, щеки побледнели. Вальдемар молча ехал рядом. Стефа видела, как изящно мелькают ноги Аполлона, идущего крупной рысью, видела ноги Вальдемара в замшевых сапогах с блестящими шпорами. Он чуточку нервно позвякивал стременами. Седло и уздечка тихо поскрипывали. Аполлон грыз удила, разбрасывая пену. Стефе хотелось поднять взгляд повыше, но она боялась встретиться с Вальдемаром глазами. Разговор не клеился, у всех были уставшие лица. До Слодковиц добирались почти в совершеннейшем молчании.
Вечером Стефа, сидя в библиотеке, увидела в окно молодого Михоровского. Размеренно, словно автомат, он расхаживал по аллеям. Желтые листья падали ему под ноги. Голубоватый дымок сигары растекался вокруг. Вальдемар о чем-то глубоко задумался.
Стефа знала, что назавтра Вальдемар уезжает в Глембовичи, а оттуда отправится на охоту в поместья друзей, где будет развлекаться до наступления зимы. Никакая сила не могла бы оторвать девушку из окна. Тысячи мыслей вихрились в ее голове, сердце сжимала тоска — тоска по нему. Прекрасные глаза Стефы наполнились слезами, рыдания подступали к горлу.
Вальдемар шагал по аллеям.
— О чем он думает? О том ли, что и я? Девушка закрыла глаза, слушая биение собственного сердца, слушая бег собственных мыслей, — и они поражали ее смелостью. Внутренняя борьба продолжалась, девушке противостояли силы, которых сама она не могла бы назвать по имени. Она понимала себя… и скрывала что-то от себя самой.
А Вальдемар шагал по аллеям, шелестя опавшими листьями, погруженный в раздумья.
Он не удивлялся уже, что былые его мечтания и надежды вдруг обрели плоть и кровь в столь прелестном облике… Думал лишь: для него ли эта явь? И вот этот человек, всю свою жизнь пользовавший неслыханным успехом, удачник и баловень судьбы, теперь робко спрашивал себя:
— Станет ли это очарование моим? Да или нет?
В нем пробуждались надежды… И он решил отдаться на волю судьбы, но не ускоряя чрезмерно бег событий.
КНИГА ВТОРАЯ
I
Лето, выставка, золотая осень, охота в Глембовичах — все ушло в прошлое. На смену прекрасным солнечным дням пришло морозное дыхание севера, осыпая обнажившуюся землю большими белыми хлопьями. Снег сыпал, кутая пушистой белизной нагие ветви деревьев и высокие темно-зеленые ели, набросив на землю белое покрывало, скрыв поля и угодья, сухую траву, преобразив мир. Солнце, очистившись от облаков, прогнало туманы. Снег сверкал мириадами искр, многокрасочных самоцветов. Прекрасная погода нарядила мир в чудесные зимние одежды, мороз добавил энергии и сил людям. Алые снегири рубинами сверкали на снегу.
Снег укутал Слодковцы, под белым покрывалом скрывались парк и сад, развесистые кусты. Озеро, покрывшееся льдом, ярко белело под солнцем. Снег лежал на крышах, на крыльце. Вместо цветущих роз виднелись лишь снежные бугорки на месте кустов. Пышные липы перед особняком походили на огромные одуванчики — столь нежными и прозрачными казались их покрытые инеем ветви.
В конце большой грабовой аллеи, словно в коридоре из алебастра, стоит под тяжелыми сводами крон гибкая фигурка, крошечная среди мрачных великанов.
Стефа оперлась спиной на ствол граба. Она стоит на пригорке, глядя из-под меховой шапочки на заснеженные поля и вьющуюся среди них темную ленточку дороги. Окружающая парк стена не заслоняет от нее окрестности.
Ее взор улетает в заснеженную даль. Место, где взгляд этот задерживается, место, куда он стремится, становится для девушки центром земли. Она стоит не шевелясь. Можно подумать даже, что падающий с веток снег заморозил и ее, превратив в прекрасную статую.
В глазах ее печальная мысль, она устремляется к дороге, еще дальше… в те края, куда с необоримой силой рвется и душа. В такие минуты зрение и слух становятся небывало чуткими, достигают предела, и напряжение это причиняет боль. Жаль оторвать взгляд, чтобы не упустить ни единого мига, жаль пошевелиться, чтобы не спугнуть наитишайшего шелеста.
Стефа не отрывала взгляда от дороги, боясь пошевелиться. Задерживала дыхание, вслушиваясь в малейший шорох. Она пришла сюда, влекомая предчувствием, что должен приехать он, и терпеливо ждет. Никто ей не говорил о его приезде, никто его не ждал, но она знает, что Вальдемар вернулся в Глембовичи, и некий голос шепчет ей: «Сегодня он будет здесь».
Он уезжал охотиться, далеко-далеко. И долго не возвращался. Как сонно, бесцветно плелись эти долгие дни! Серые, дождливые… казалось, сами они плачут. Но природа — веселого нрава, она не выносит долгих рыданий, не может плакать беспрестанно даже по прекрасному лету. Природа преисполняется стойкости, замораживает слезы, скрывая свое увядание. Однако ей недостает красок, нет уж зелени и цветов, природа осыпает деревья пушистой снежной пылью, охапками белого пуха покрывая широкие ветви. Откидывает тяжелые серые занавеси облаков, выпуская из темницы солнце. Радостный, веселый, стряхнувший сонную дремоту золотистый круг является миру Божьему и замирает от изумления. Где цветущие луга? Куда подевались фрукты, зеленые деревья, становившиеся под его теплым дыханием прекрасными? Повсюду, толстым слоем укутав землю и кроны, распростерлась ослепительная, мертвая белизна. Золотой круг поднимается все выше, посылая слабые косые лучики.
Стефа стоит в лучах солнечного пожара, освещенная его огнями и сиянием. Глаза ее жмурятся, розовые зайчики бегают по лицу, прорвавшись сквозь завесу обледеневших веток. Для девушки ни хмурое небо, простершееся над снегами, ни озаренное солнцем не приносят перемен. Дни тянутся по-прежнему унылые, беспросветные. Серебряная дорога пуста. Словно душа Стефы. Вновь, в который уж раз, подступает морозная долгая ночь. Предчувствия подвели ее, чувства, побуждавшие взбежать на этот пригорок, растаяли. Вербы вдоль дороги отсвечивают фиолетовым; чем дальше, чем более черными они становятся. Дорога сверкает золотом, уходя вдаль, к самым дальним рубежам заката. Белые поля становятся нежно-розовыми.
Внезапно что-то засветилось в устремленных вдаль глазах Стефы. В полях, среди фиолетовых верб, показалась подвижная, едва различимая точка. Появившись, она уже не исчезла. Растет на глазах, приближается, становясь ясно видимой, обретает четкие очертания. Стефа, не открывая взгляда от движущейся точки, замирает. В тиши кровавого заката что-то зазвенело вдали, едва слышно, и вот гремит все громче…
Девушка вздрогнула. Шевельнулась было, хотела убежать, но ноги будто налились свинцом. Хотела скрыться в парке — и не могла. Испуг и радость, целая буря чувств отразилась на ее лице. Она узнала звон глембовических бубенцов.
Предчувствие ее не обмануло.
Усилием воли она заставила себя чуть отступить. Опираясь на заснеженный ствол, слушала звон бубенцов и фырканье коней, и кровь стучала ей в виски. Вслушивалась в легкий скрип полозьев и нежный звон упряжи. Всматриваясь, увидела элегантные санки и пару коней, покрытых сапфирового цвета сетками, видела их выгнутые шеи. Видела лисьи хвосты, развевавшиеся возле конских ушей, подбитые мехом ливреи кучера и лакея. Сердце ее колотилось в груди так, что, казалось, вот-вот разорвется и произойдет что-то ужасное. Возбуждение росло, становясь поистине страшным. Стефа окаменела, сердце замерло. Сидящий в санках мужчина внезапно пошевелился, словно хотел выпрыгнуть, но удержал себя, остался на месте, лишь дрогнувшей рукой приподнял шапку, низко поклонившись. Санки промелькнули, звеня бубенцами, исчезли из глаз.
Стефа крикнула, словно бы в безумии:
— Приехал! Видел меня!
Счастье переполняло ее душу. Она сорвалась с места и побежала заснеженной аллей в сторону особняка. На повороте, у замерзшего бассейна-фонтана, остановилась. Кровь застыла в ее жилах.
Навстречу шел Вальдемар.
Он шагал в распахнутой шубе, приближался, не сводя с нее глаз. Рядом бежал Пандур. В два скачка он оказался возле Стефы и, весело гавкая, пытался положить ей лапы на плечи. Девушка онемела. В голове у нее шумело. Он! Он!
Михоровский остановился перед ней, молча взял в ладони ее застывшие пальцы. Они смотрели друг другу в глаза, не в силах вымолвить хотя бы слово. Глаза его стали темно-синими, почти черными, обуревавшие его чувства отражались на лице, сменяя друг друга. Стефа переживала одну из тех минут, когда душа покидает человека, чтобы засверкать вокруг него радужным ореолом небывалого счастья.
Вальдемар сжимал ее пальцы, его взор проникал в глубины ее души. Он склонил голову и поцеловал руку дрожащей Стефы. Глаза его говорили: «Ты ждала меня… ты тосковала… и вот я здесь…». Стефа поняла его, и щеки ее запылали. Медленно, трепеща от счастья, она высвободила руки и быстро пошла к дому.
Он шагал рядом.
Они молчали. Пандур обогнал их, взбежал по мраморной лестнице веранды и, гордо воздев голову, смотрел на приближавшуюся пару; его умные глаза стали серьезными. Пес удивлялся, что они совершенно не обращают на него внимания.
Они подошли уже к самой веранде. Никто их не встречал.
Открывая перед Стефой дверь, Вальдемар произнес первые слова:
— Вы отгадали, что я сегодня приеду. Это было предчувствие?
— Да.
— Ясновиденье! Я знал, что встречу вас в парке… и увидел на фоне вечерней зари. Я отослал коней, никому не показался, чтобы поздороваться с вами первой.
Слова эти доставили Стефе несказанное удовольствие.
На звук открываемой двери появился Яцентий во главе едва и не всех лакеев. В особняке, минуту назад тихом и сонном, началась суета.
— Майорат приехал! — звучало повсюду, вызывая общую радость.
На ужин все сошлись в самом хорошем расположении духа. Пан Мачей, обрадованный приездом внука, смотрел на него, как на икону. Пани Эльзоновская выпытывала у Вальдемара как можно больше новостей об охоте и общих знакомых. Несмотря на частые с ним споры, она встретила его приветливо: его изысканность и чуточку саркастические шутки действовали на нее, словно живая вода. Вальдемар учтиво отвечал на ее вопросы, но они начали его утомлять. Не давали ему покоя в основном пани Идалия и пан Ксаверий — Люция и Стефа лишь молча слушали, девочка не сводила глаз с Вальдемара, а Стефа явно избегала встречаться с ним взглядом. Боялась, чтобы в глазах он не прочитал того, что сказали ему ее глаза в заснеженном парке.
Ее охватило беспокойство. И мучилась, не понимая, откуда происходит эта непонятная тревога, возраставшая с каждой минутой. Легкую бледность на ее лице первым заметил майорат, понял смущение девушки, но не хотел при всех досаждать ей вопросами. Беспокойство Стефы передавалось ему.
Пан Мачей внимательно посмотрел на нее:
— Что с тобой, дитя мое?
— Боюсь… — откровенно ответила она.
Взгляды их встретились. Лица затуманились.
— Чего ты боишься? Стефа бледно улыбнулась:
— Не обращайте на меня внимания. Это пройдет… Разговор поутих. Все почему-то почувствовали себя уставшими. Беседа вновь оживилась, когда все перешли в малый салон, где у камина был сервирован чай.
Внезапно вошел лакей с серебряным подносом и направился прямо к Стефе. Она не отрывала от него глаз.
— Что это? — спросил Майорат.
— Телеграмма, с вашего позволения…
— Мне? — спросила Стефа. Лакей утвердительно поклонился.
Все взгляды обратились на нее, потом на майората.
— Да, это для вас, — сказал майорат, подавая ей конверт.
Стефа с пылающими щеками разорвала ленточку.
Все затаили дыхание. Неспокойное поведение Стефы за ужином и внезапно пришедшая телеграмма показались вдруг чем-то странным.
Стефа прочитала и, уронив руки, безжизненным голосом произнесла:
— Бабушка умерла. Меня вызывают на похороны. Все облегченно вздохнули — почему-то ожидали чего-то худшего.
Только пан Мачей затрепетал, словно перед ним вырос призрак и вперил в него взгляд.
— Это ваша бабушка Рембовская умерла? — спросила Люция.
Стефа расплакалась:
— Да, она… Бедная бабушка! Я так ее любила! Боже мой, Боже…
— Она болела?
— Нет. Она внезапно скончалась в Ручаеве… Ничего не понимаю. Обычно она проводила зиму за границей… Нужно немедленно ехать, иначе не успею — телеграмма изрядно запоздала, судя по датам…
Она порывисто вскочила.
Молодой Михоровский глянул на часы:
— Вы решительно хотите ехать прямо сейчас?
— Я должна… только бы успеть на поезд!
— На поезд вы успеете, но наступает ночь… Стефа умоляюще сложила руки:
— Я должна ехать немедленно!
— Тогда я прикажу запрягать.
Они перешли в столовую, и Вальдемар отдал должные распоряжения.
Пани Идалия взяла Стефу за руку и поцеловала в лоб:
— Быстренько собирайте вещи. Только не плачьте, бедная моя Стеня!
Люция плакала навзрыд.
Все дамы разошлись по своим комнатам.
В зале остались пан Мачей, сидевший в огромном кресле, Вальдемар, расхаживавший взад-вперед, и пан Ксаверий, сонно пошевеливавшийся у камина. Царило молчание. Величественно тикали большие старинные часы, звучно раздавались размеренные шаги Вальдемара.
Пан Мачей бросал быстрые взгляды на внука и спросил наконец:
— Ты не знаешь, какой была девичья фамилия ее бабушки?
Вальдемар отрицательно мотнул головой. Старик потер лоб:
— Меня странно встревожили отъезд Стефы… и эта смерть.
Вошел лакей и доложил, что кони готовы. Следом появились дамы. Стефа уже была в теплом зимнем платье и шапочке. Глаза ее были красными, лицо горело. Взволнованная, она подошла попрощаться с паном Мачеем. Старичок дружески обнял ее и отцовским жестом прижал к груди.
Люция плакала.
— Стефа, ты ведь скоро вернешься к нам, правда?
— Я постараюсь…
Когда она подошла к Вальдемару, слезы перехватили ей горло. У него дрожали губы. Впервые он поцеловал ей руку при посторонних.
Пан Мачей вздрогнул, пани Идалия поджала губы, глаза ее сузились. Люция глядела с неким триумфом, словно говоря: «Я-то обо всем давно знала…»
Когда все выходили в прихожую, пан Мачей придержал Стефу за руку:
— Детка, твоя бабушка была Рембовская, так ведь?
— Стефания Рембовская, — ответила Стефа и, увлекаемая Люцией, вышла из зала. Девочка что-то шептала ей на ухо.
Пан Мачей остался один. Дверь в прихожую была распахнута. Старик, тяжко опершись на стену, задумчиво смотрел на жирандоль, словно считая лампочки.
— Что это? Стефания… Что это? У меня было чувство…
Он сделал шаг вперед и громко позвал:
— Вальдемар!
Стефа, уже одетая, выходила на крыльцо. Люция и майорат сопровождали ее. Пани Идалия, облокотившаяся на лестничные перила, услышала голос старика и позвала:
— Вальди, дедушка тебя зовет!
Вальдемар, нетерпеливо оглянувшись на тетку, быстро взбежал вверх. Разгоряченный, он не заметил в первый миг беспокойства пана Мачея.
— Спроси Стефу про девичью фамилию ее бабушки! Скорее!
— Что случилось?
— Быстрее!
Вальдемар заторопился назад. Стефу он застал на крыльце. Лакей отворял дверцу поставленной на полозья кареты. Ночь была ясная, лунная, похрустывавшая от мороза и снега. Кони фыркали, столбы пара били из их ноздрей. На козлах сидели Бенедикт и выездной лакей из Глембовичей. Майорат усадил Стефу в карету и сам закутал ей ноги волчьей полостью:
— Простите, как была фамилия вашей бабушки? Стефа удивленно взглянула на него:
— Рембовская.
— Я знаю… а девичья?
— Стефания Корвичувна.[84]
Михоровский вздрогнул, кровь ударила ему в лицо.
— Что с вами? — спросила пораженная Стефа.
— Ничего, ничего! До свидания! Берегите себя… и побыстрее возвращайтесь к нам. Хорошо?
— Не знаю… — еле выговорила Стефа. Рыдания вновь вырвались наружу.
Вальдемар порывисто поцеловал ей руку и захлопнул дверцу:
— Бенедикт, езжай осторожнее. А Вавжинец пусть устроит все на станции!
Нетерпеливые кони пустились рысью.
Вальдемар долго смотрел вслед удалявшейся карете, потом глянул в сторону, где ожидали его запряженные санки.
— Вы едете, пан майорат? — спросил Яцентий.
— Не знаю… нет. Как думаете, они благополучно доберутся?
— Светло, хоть иголки собирай, ночь лунная, да и на козлах — Бенедикт, — успокоил его Яцентий.
Вальдемар вошел в прихожую и тяжелыми шагами направился наверх. В голове у него шумело, он был бледен. Поднимаясь на последний пролет, он увидел ожидавшего его пана Мачея.
Старик выглядел, словно статуя. Недвижимый, помертвевший, он тяжко опирался на обтянутый бархатом поручень. Глаза его впились в лицо внука. Они молча смотрели друг на друга… боясь того, что должно прозвучать, и понимая друг друга.
— Она? — еле выговорил старец.
— Да. Внучка той, — закончил за него Вальдемар. Пан Мачей схватился за грудь. Лицо его посинело.
Майорат подскочил к нему:
— Дедушка! Боже!
Старик безжизненно осел в его руках.
Четверть часа спустя молодой Михоровский, бледный, но спокойный, вышел из спальни дедушки к перепуганным слугам:
— Санки, которые заложили для меня, немедленно отправить за доктором! Пан заболел.
Слуги молча расходились.
II
В Ручаеве был тихий зимний вечер. Шел густой снег, кружа белыми туманами. От ворот обширного двора отъехали привезшие Стефу санки. Она вошла, приветствуемая родителями, родственниками и слугами. Лица всех тотчас просветлели. Оказавшись в объятьях матери, Стефа забыла на миг о цели приезда, прижалась, тихо всхлипывая. Пани Рудецкая тотчас отгадала, что, кроме печали по бабушке, за этим кроется что-то еще.
— Ты чуточку опоздала, дочка, — сказал отец. — Тело уже в костеле, завтра похороны.
— Я выехала сразу же, папочка, телеграмма опоздала…
Все приглядывались к Стефе с любопытством, только мать посматривала на нее растроганно. Со времени выезда из родительского дома девушка стала красивее и серьезнее, выглядела более элегантно. Однако отцу показалось, что, по сравнению с осенью, Стефа чуточку увяла. Ее прекрасная кожа стала бледнее, напоминая по цвету раковину-жемчужницу. Розовые губы улыбались уже не столь весело. Фиалковые глаза стали словно бы чуть темнее. Все, что творилось в душе девушки, выражалось в ее глазах. Во всем доме царила печаль, и охватившая Стефу грусть не выглядела чем-то из ряда вон выходящим.
Глядя на мать и отца, Стефа, в свою очередь, видела в них перемены. На лице отца явственно читалась озабоченность. Когда девушка мимоходом упомянула о пане Мачее, родители чуть побледнели и обменялись быстрыми взглядами. Стефу это обеспокоило. О Вальдемаре она старалась не вспоминать — правда, о нем никто и не спрашивал.
Только однажды кузен Нарницкий спросил:
— Слодковцы — частное владение или одно из имений майората?
— Частное владение.
— А сколько лет майорату?
Стефа зарумянилась, злясь на себя за это:
— Тридцать два.
— Совсем еще молодой! — сказал Нарницкий, глядя на нее испытующе.
Пан Рудецкий подхватил:
— Ты же видел его портреты в газетах, когда он вернулся из путешествия по Африке, чтобы принять майорат после смерти Януша.
— Тех газет я не помню. Но помню снимки с выставки. Симпатичный человек, прежде всего…
— Светский, правда? — спросил пан Рудецкий.
— И настоящий большой пан.
Стефе хотелось рассказать им о Вальдемаре побольше, но она знала, что равнодушной остаться не сможет. И ограничилась кратким замечанием:
— Кузен прав. Подлинная аристократия во всем отличается от тех, кто пытается ей подражать. Разница особенно видна при близком знакомстве с человеком.
Пан Рудецкий искоса глянул на дочку и подумал: «Лишь бы не при особенно близком…»
Поздно ночью, когда все разошлись, кузен Нарницкий поделился с зеркалом своими впечатлениями о Стефе: «Она попала под влияние аристократии, особенно майората, а может, даже…»
Однако эту мысль он не стал развивать, не хотелось даже допускать ее — потому что рассчитывал, что Стефа займет в его жизни определенное место, а отступаться от этого он не собирается…
Покойная не была жительницей Ручаева, но на похороны пришли многие соседи. Гроб поместили в фамильный склеп Рудецких, откуда его должны были потом перевезти в имение Рембовских.
Когда траурный кортеж направился к кладбищу. Нарницкий предложил Стефе опереться на его руку, но она отказалась. Шла чуточку сбоку, увязая в снегу, по самому краю расчищенной дорожки. Черные платье и вуаль прибавили изящества ее фигуре. Она шагала печальная, задумчивая. Последний раз она видела бабушку год назад, еще в те времена, когда Пронтницкий наезжал в Ручаев, добиваясь ее руки.
Седая старушка, крайне добродушно со всеми обращавшаяся, пользовалась всеобщим уважением. Лицо ее, хоть и увядшее, сохранило выразительность черт, хранивших отпечаток некой трагедии, пережитой на заре жизни. Стефа была словно бы ожившим портретом бабушки в юности, что неопровержимо доказывали старые фотографии.
С раннего детства, впервые услышав смутные недомолвки о некой печальной истории, пережитой бабушкой в юности, Стефа чрезвычайно заинтересовалась этим. Но никто не хотел ей ничего рассказать. Когда она, не находя места от любопытства, спросила наконец бабушку прямо, старушка побледнела и запретила настрого на будущее задавать ей такие вопросы…
Бабушка Стефа давно жаловалась на сердце, и окружающие старались не причинять ей ни малейших волнений. Именно потому ей долго не говорили про отъезд Стефы в Слодковцы, старушка и так перенервничала, узнав о разрыве внучки с Пронтницким.
Внезапная смерть бабушки оставалась для Стефы загадкой. На все ее вопросы отец отвечал:
— Потом все узнаешь.
«Может, здесь и я сыграла какую-то роль?» — думала Стефа.
Любопытство не давало ей покоя, а поведение отца беспокоило. Сердил ее и Нарницкий. Стефа легко угадала, что он намерен добиваться ее руки, и решила сразу же после похорон, не мешкая, возвращаться в Слодковцы. Перед глазами у нее стоял Вальдемар — такой, каким он ей запомнился во время короткого, но столь многозначащего свидания в парке. Именно тогда она открыла, что любима. То, что любит, она поняла уже давно. Во время его долгого отсутствия Стефу убедила в том тоска, столь же сильная, как и любовь. Когда при прощании он поцеловал ей руку, жар этого поцелуя потряс ее. Она вновь видела его санки, стоявшие рядом с каретой. Яцентий сказал, для чего они здесь — Вальдемар должен был сопровождать ее на станцию. Но что-то ему помешало. Быть может, пани Идалия? Но ее он не послушался бы. Значит, пан Мачей?
Острая боль пронзила сердце Стефы, но она понимала: трудно требовать от старого магната, чтобы он одобрял поступки внука… Мысли эти усиливали ее печаль… и словно бы отрезвляли.
— Я не должна, не должна думать о нем! — повторяла она упорно. — Не должна думать о…
Шагая по рыхлому снегу, она устала, раздумья о Вальдемаре утомляли ее. Стефу охватило тупое равнодушие. Когда подошел Нарницкий и вновь предложил руку, она не отказалась, тяжело опершись на его плечо. Они не обменялись ни словечком. Стефа склонила голову и прикрыла глаза. Пыталась вообразить, что идет под руку с Вальдемаром, но это ей не удавалось — с Вальдемаром ее нынешнего спутника никак нельзя было сравнить… Она вздрогнула. Нарницкий наклонился к ней:
— Кузина, тебе не холодно? Может, ты устала? Садись в санки, я провожу.
— О нет, я пойду пешком.
Нарницкий, поглядывая сбоку на ее нежный профиль, видел ее состояние, но относил его целиком за счет похорон. Серый мглистый день и длинная процессия, шагавшая под гору за черным катафалком и крестом, навевали печальные мысли. У подножия пригорка чернели высокие ели, окружавшие кладбище, перемежаемые густыми зарослями кустов. Щебетали оставшиеся на зиму птицы, мешая свои голоса с монотонными, прерывавшимися порою нотами погребального песнопения. Неизмеримая печаль витала над процессией. Пронзительный звон колокола провожал ее; мрачные ели встречали. Процессия выступала медленно, величественно, сопровождая меж деревьев и крестов еще одну людскую душу, претерпевшую столько огорчений от жизни…
В погребальной процессии всегда скрыты печаль и угроза. Человек ощущает беспокойство и трепет страха, но в нем пробуждается и любопытство — что же ожидает там? Что откроется пред душой человеческой? Стефа, крайне впечатлительная, переживала все это особенно остро. Впервые в жизни смерть показалась ей страшной, впервые она столь четко осознала, что любит жизнь и мир. И не скрывала уже своих чувств от себя самой, любила Вальдемара всей силой юной души. По сравнению с этими новыми чувствами давняя симпатия к Пронтницкому была каплей в океане, а сам Пронтницкий — карикатурой, червячком. Ибо все возвышенное подавляет низменное. Плевелы могут быть яркими, но даже скромный колосок затмевает их…
Молитвенные напевы, колокольный звон, запах ладана — все погружало Стефу в тоску, ее живое воображение рисовало картины одна угрюмее другой. Она не противилась даже навязчивому присутствию Нарницкого — лишь бы забыться, снять тяжесть с души.
Часа через два после возвращения с кладбища из Слодковиц пришла соболезнующая телеграмма за подписями обоих Михоровских, пани Идалии и Люции. Была еще одна, направленная Вальдемаром лично Стефе, выдержанная в не столь церемониальном, сердечном тоне. Вальдемар сообщал еще, что пан Мачей внезапно занемог. Известие это крайне взволновало Стефу, на щеках ее выступил румянец, и все сразу поняли — что-то произошло.
— Что же могло случиться? Так внезапно… — сказала она, показав телеграмму отцу. Однако, когда к листку потянулся Нарницкий, Стефа почти вырвала у него телеграмму, не дав прочитать ни слова. Он удивленно пожал плечами. Оставшаяся для него тайной телеграмма небывало его заинтриговала.
Под вечер в Ручаеве осталось совсем немного людей, но Нарницкий не уехал. Стефе пришлось остаться на какое-то время — этого очень просили родители.
Когда они остались с отцом наедине в его кабинете, пан Рудецкий спросил с любопытством:
— Пан Мачей знал фамилию бабушки?
— Знал, — ответила Стефа, побледнев в непонятной тревоге. — Он спрашивал перед самым моим отъездом, и я сказала…
— Но он не знал ее девичью фамилию? Это было бы невозможно! Он же не знал!
— Конечно, не знал, он никогда и не спрашивал… но тогда же, перед дорогой, майорат спросил меня…
— Ах, все-таки спросил!
— Когда я уже садилась в карету. Я сказала.
— Вот как… А когда ты уезжала, пан Мачей был здоров?
— Совершенно. Он ни на что не жаловался. «Узнал от майората и захворал», — шепнул себе пан Рудецкий.
— Папа, что вы сказали? Что он узнал?
— Подожди, детка. Сейчас поймешь.
Он достал из ящика стола большой пакет, старательно завернутый в пожелтевшую от времени бумагу и перевязанный черной ленточкой. Отдавая его Стефе, сказал дрожащим голосом:
— Это тебе, бабушка велела передать. Умирая, она очень о тебе беспокоилась и просила отдать в твои руки самое для нее дорогое. Это было для нее свято… отнесись к нему с уважением, дитя мое… и да хранит тебя Бог! Доброй ночи!
Взволнованный, со слезами в глазах, пан Рудецкий поцеловал онемевшую Стефу и быстро вышел.
Она растерянно стояла посреди комнаты, вертя в руках поблекший, довольно тяжелый пакет. От него пахло старой бумагой. Стефу охватили беспокойство, страх и любопытство — что же находится там, под завязанной крест-накрест черной ленточкой? Пытаясь на ощупь угадать содержимое, она определила, что там лежит нечто похожее на книгу. И побежала к себе, шепча словно в беспамятстве:
— Самое дорогое для бабушки… ее святыня… предназначенная для меня… почему?
Смутные опасения заставили ее сердце биться чаще. Стефа влетела в свою комнату и захлопнула дверь.
— Ты отдал ей? — спросила пани Рудецкая входившего мужа.
— Да. Она пошла к себе. Бедный ребенок!
Глаза пани Рудецкой были полны слез:
— Она так изменилась… Что ты обо всем этом думаешь?
— Не сомневаюсь, что она любит майората.
— Снова Михоровский! Боже, Боже!
— Твоя мать сама в том виновата — мы не знали этой истории, не знали даже имени…
III
Усевшись за столик в своей комнате, Стефа развязывала пакет. Прежде ее томило любопытство, теперь она умышленно медлила.
Развернула бумагу. Под ней была еще одна обертка. Щеки девушки горели, глаза зажглись. Нервным движением она сорвала последнюю обертку. Перед ней лежала довольно толстая тетрадь, искусно переплетенная в темно-пунцовую кожу. На обложке была тисненая золотом, чуть потемневшая надпись: «Наш дневник». Под надписью буквы: С. К. и M. M. Стефа долго смотрела на золотые буквы, прежде чем решилась открыть тетрадь. Из нее выпал и со звоном покатился по полу какой-то маленький предмет, обернутый тонкой бумагой. Стефа подняла его, развернула, и из груди ее вырвался крик. Она держала в руке миниатюру пана Мачея, в точности такую он подарил ей на именины…
Девушка стояла, как оглушенная, зажав ладонями виски:
— Что это? Он… здесь? Что все это значит?
Поспешно, лихорадочно она раскрыла тетрадь, обуреваемая страшным предчувствием. Первая страница была исписана четким красивым женским почерком.
Стефа проглатывала строчку за строчкой:
«Дневник сей посвящен нашей глубокой любви, как вечный документ чувств, кои угаснуть не смогут никогда, посвящаем неугасимой вере, безграничному доверию, нерушимой привязанности…»
Здесь строчки обрывались, под ними стояли другие, написанные уже несомненно мужской рукой:
«…дабы с течением времени будущие поколения имели Живое свидетельство, что любовь — всесокрушающая сила, что жаркие чувства способны преодолеть все преграды и позволить влюбленным пасть друг другу в объятия с возгласом неизмеримого счастья. Ореол, озаряющий любовь, сверкает столь же ясно и чисто, как над головами святых. Такой именно ореол засиял над нами и вечно осенять будет нашу любовь до гробовой доски».
Внизу стояли подписи:
Стефания Корвичувна
Мачей, майорат Михоровский
— Езус-Мария! — вскрикнула Стефа, тяжело падая в кресло.
Она была словно бы мертва. Кровь застыла в ее жилах. От страха сердце ее билось едва слышно. Девушка всхлипывала, укрыв лицо в ладонях. Глухие рыдания раздирали ей грудь, не в силах вырваться из стиснутого спазмой горла.
Наконец всю ее сотряс плач, мучительный, звучавший невыразимой болью. Она поняла все, что когда-то было для нее тайной. Перед глазами встали портретная галерея в Глембовичах и рассказ Вальдемара. Значит, несчастная нареченная пана Мачея, которую он любил, но вынужден был от нее отказаться — ее бабушка? Значит, величественная дама с портрета, герцогиня де Бурбон, заняла место ее бабушки? Отобравшая у бабушки все, что по праву должно было принадлежать ей… кроме любви! Лишь любовь осталась собственностью брошенной. Но… быть может, герцогиня ни о чем не ведала? Жизнь ее была нелегкой, она сама перенесла много страданий… Обеих женщин погубили, сломали им жизнь, «высший круг», фанатизм, предрассудки встали на их пути к счастью…
А ведь поначалу он думал иначе. Он написал на первой странице дневника, что жаркие чувства сметают все преграды. Но случилось по-другому. Он уступил фанатизму своего круга, оставил любимую и любящую женщину только потому, что она не принадлежала к аристократическому роду. Не нашел достаточно сил, чтобы следовать принципам, которые сам же провозглашал. Нарушил обещание, пошел не по зову сердца — туда, куда вели его «сферы» и надменный магнатский род. Княжеская шапка соединилась с герцогской короной, не печалясь, что разбила чье-то сердце, чересчур скромное, чтобы на него оглядываться. Старый шляхетский герб, старая фамилия — но ее не было в золотой книге магнатов, и она не могла соединиться с блистающим гербом и фамилией Михоровских. Простая шляхетская корона с пятью зубцами — всего лишь мимолетная забава для княжеской шапки… Существуют неписанные правила, и преступить их — все равно что государственная измена, преступление против аристократического круга, караемое лишением наследства и изгнанием из высших сфер. Мачей, испугавшись суровой кары, посвятил сердце Маммоне и всю жизнь не знал счастья…
— Ужасно! Ужасно!
Стефу, внучку той Стефании, судьба провела по той же дороге, поставила почти в те же самые условия. Но все не ограничилось тем, что она полюбила того старика, как отца, злой рок вел дальше — в тех же покоях вновь появился молодой майорат, носящий то же самое имя, столь же прекрасный…
Прошлое возвращается.
Страшная шутка судьбы!
Стефа, закрыв руками разгоряченное лицо, в горячке шептала:
— Нужно это оборвать, нужно покончить, пусть даже сердце у меня разорвется. А сейчас — читать, читать!
Оперевшись на стол локтями, сжав пальцами виски, она читала, не пропуская ни словечка.
Сначала Стефа Корвичувна кратко описывала свою жизнь, семью, дом, в котором выросла, и наконец… Настала очередь главы, озаглавленной «Королевич из сказки».
Стефа Рудецкая читала:
«Я мечтала о нем, еще не зная его… уверена была, что он придет наконец, именно такой, и сразу покорит меня. Предчувствия будущего счастья были слишком сильны. Отец, набивая трубку с длиннющим чубуком, смеялся надо мной, дразнил: „Фантазерка, фантазерка!“ Быть может, под влиянием старой няни, рассказавшей мне множество сказок, я любила мечтать и тешиться золотыми снами. Любила прекрасные майские вечера и закаты, ибо в эти минуты, погружаясь в просторы фантазий, видела его — королевича из сказки. Любила пение соловья и даже кваканье жаб — все навевало прекрасные мечты. И однажды пришел самый прекрасный день, оставшийся для меня памятным навсегда. Я увидела его — королевича из сказки…
Это было на большом балу во дворце камергера Лосятиньского. Мой отец был его школьным другом, и они остались приятелями на всю жизнь. Мы приехали на бал всей семьей. Когда я, в розовом тарлатановом платье, с цветами в волосах, поднималась из сада на террасу, увидела его в уланском мундире. И сразу узнала свой идеал. Красивый, стройный, весь проникнутый достоинством и величием магната, он заставил меня онеметь, подчинил вес мысли и чувства. Он быстро приблизился к нам и, представленный камергером, первый раз поцеловал мне руку».
Стефа подняла голову, заломила руки:
— Совершенно такой, совершенно! Красивый, достоинство большого магната!
«Мы с первого взгляда полюбили друг друга, души наши без единого слова летели навстречу. Со мной он танцевал чаще других, так умел говорить, так пленять! С бала я уехала зачарованной. Высота его положения в свете пугала меня. Подруги говорили, что он магнат, майорат в Глембовичах, Михоровский, миллионер, с княжеской шапкой в гербе. Но сейчас, видя перед глазами его образ, я и думать не хотела обо всем этом. Подружки остерегали, что такой магнат не для меня, что я и думать о нем не должна..».
— Боже! Боже! — охнула Стефа.
«Но я ничему не верила, чувствуя, что и он меня полюбил. И чувства не подвели меня. Уже пару дней спустя он приехал к нам в Снежев с визитом, и теперь я вижу его почти каждый день. Сначала он приезжал от Лосятиньских, потом — прямо из Глембовичей, на перекладных, хоть это неблизкий путь. Ах! Что за счастье услышать рог глембовического ловчего, сопровождающего своего пана! Этот звук уже знаком мне лучше, чем колокол нашего костела. А позже Мачей кутал в наших местах небольшое именьице (удивив тем соседей) и поселился там. Все поняли причину странного поступка молодого магната, которого вдруг заинтересовало именьице в глуши. Отец мой сначала косо поглядывал на эти визиты, но в конце концов смирился — ему льстило, что столь родовитый магнат навещает его так часто. Он полюбил Мачея за его деловитость и благородство. Мы же скоро признались друг другу в наших чувствах. И Мачей открылся моим родителям. Отец сначала гневался, говоря, что прежде всего Мачей должен получить позволение на такой брак от семьи, но Мачей поклялся своей честью, что получит его. Однако ж его матери и дядюшки, ближайших родственников не было дома (они уезжали за границу), и мы обручились, не поставив их в известность. Как я его люблю, и как он меня любит! Жизнь наша, несомненно, продлится века — столь великое счастье не может иметь конца».
Чуть ниже была приписка:
«…счастье наше окрепнет, когда мы соединимся неразрывными узами… когда ты, любимая, опершись на мою руку, пройдешь по жизни, вечно прекрасная. Не пугайся, не тревожься, верь моему слову: либо ты будешь моей, либо никто! И думать не смей, что счастье наше встретит какие-нибудь преграды, поставленные моим кругом. Мой круг станет и твоим: где любовь, там нет сословных различий. Родные мои обязаны будут полюбить тебя, жизнь моя, ибо ты достойна всеобщей любви».
Грудь Стефы часто вздымалась, слезы вновь подступили к горлу. Собрав всю силу воли, она заставила себя успокоиться и читала дальше. Следующие главы дышали счастьем, безмерной радостью молодых пылких душ. Во многих местах сделанные мужским почерком приписки сопровождали признания Стефы. В одном месте она писала:
«Боюсь, не омрачит ли его магнатское величие нашей лучезарной дороги. Не закует ли его в цепи круг, к которому он принадлежит? Раздумья эти, словно черные тучи, неотвязно пятнают мою зарю».
Ниже стояло четким мужским почерком:
«Моя несравненная Стеня, даже если наступит битва, которой ты боишься, не забывай — я поклялся честью. Твой Мачей слишком тебя любит, чтобы повредить твоему счастью. Я смету любые предрассудки, если они встанут на пути, пойдут напролом и уж не дам заковать себя в великосветские кандалы. Прошу тебя, единственная, верь мне безгранично! И ты увидишь, какое счастье ждет нас!»
Должно быть он, читая дневник нареченной, дополнял его своими мыслями. В дневнике были описания проведенных вместе дней, записи разговоров… Но настал момент, когда тучи стали сгущаться. Он отправился к родным за дозволением и благословением, она готовилась к свадьбе. Бабушка Стефа писала:
«Это были ужасные минуты — когда я увидела его готовую к отъезду коляску. Мы стояли друг перед другом в саду. Цвела сирень, пели соловьи, мир был чудесен! Мачей, растроганный до глубины души, целовал меня, сжав в объятиях, просил ни о чем не беспокоиться, обещал, что вскоре вернется с матушкиным дозволением и отвезет меня к ней, дабы она благословила нас. Но я боялась эту гордую пани! Говорили, она очень красива и происходит из славного венгерского рода графов Эстергази. Я верила Мачею, доверялась ему всецело, но, когда он уезжал, сердце мое занемело от боли, я заливалась слезами. Наконец минул час прощанья. После долгих обещаний и клятв, когда коляска тронулась, я крикнула, казалось, на весь мир: „Мачей, не уезжай!“ Он выскочил из коляски, подбежал, обнял. Столько веры и надежды сумел он мне внушить, что я, в конце концов, проводила его с улыбкой. Отец же благословил его фамильным крестом. Когда коляска удалялась, смутная печаль вновь ожила в моем сердце, а когда экипаж исчез за поворотом, я упала без чувств!» Стефа Рудецкая потерла лоб:
— Это, несомненно, было их последним свиданием, — прошептала она побледневшими губами.
Дальнейшие страницы дышали печалью. Подклеенные в дневник нежные письма от него свидетельствовали, что он любил ее по-прежнему. Тоска и печаль молодой нареченной витали над становившимися все короче, все грустнее главами. Местами на страницах виднелись явственные следы пролитых слез, не исчезнувшие десятилетиями. А там и писем от него не стало. Еще несколько тоскливых страниц — и Стефа увидела вклеенное короткое письмо, написанное незнакомым почерком. Оно было окружено траурной рамкой — несомненно, ее начертила бабушка. Это было письмо от опекуна Мачея, его дяди Цезаря Михоровского, весьма холодно сообщавшего Стефе Корвичувне, что ее помолвка с Мачеем считается отныне разорванной с ведома и согласия самого Мачея. Главным поводом Цезарь Михоровский называл разницу в общественном положении. Впрочем, он пускался в долгие объяснения. Сделанная Мачеем короткая приписка выражала лишь стыд и печаль — но ничего более. Молодой Михоровский отсылал Стефе кольцо, сообщая, что судьба неотвратимо разлучила их. Никаких пожеланий на будущее он не делал, не называл главным виновником Предначертание. Понимал, что ранит ее сердце и не хотел добивать ее такими увертками, сваливать все на игру судьбы.
— Значит, вот так? — шепнула потрясенная Стефа. — Куда же подевались все его заверения? Где любовь, сметающая все преграды? Значит, высшие круги столь сильны, что торжествуют над самым святым? Что лишают чести столь же легко, словно всего лишь сняли кольцо с пальца? Чего же стоили его слова? Выходит, блеск этих сфер столь велик, что способен заслонить грязные пятна неприглядных поступков? Значит, будучи магнатом, можно топтать людские сердца? Убивать их своими немилосердными предрассудками? Пренебрегать любовью ради миллионов и внешнего лоска? Где же совесть? Где сердце? Где порядочность? Где, наконец, стремление к счастью, таящееся в душе каждого? Неужели «сферы» все это превращают в прах?
Слова срывались с ее уст, словно в горячке:
— А Вальдемар? Тогда, у портрета, он говорил то же самое. Во всем обвинял дедушку, упрекая его в недостатке энергии и решимости. Но смог бы он сам поступить иначе? Смог бы побороть предубеждения, преодолеть фанатизм своего окружения? Не в крови ли у него титул, общество, миллионы? Станет ли для него святой любовь женщины, осмелится ли он сложить все к ее ногам? Быть может, слова его столь же пусты, какими были слова того?
Вопросы эти кривили губы Стефы болезненной иронией. Сердце вставало на защиту Вальдемара, добавляя ему благородства, вознося в заоблачные выси. Но разум холодно и грубо стирал благородные порывы. Стефа произнесла убежденно:
— И этот поступил бы точно так же! Боже, Боже! Дай мне силы вырваться из этого заколдованного круга. Счастье еще, что он, быть может, и не любит меня так, как тот любил бабушку. Как она это вынесла, как смогла пережить?
И она вновь бросилась к дневнику.
Там оставалось совсем немного страниц, исписанные торопливым неровным почерком.
Стефа читала:
«Все ложь — и его любовь, и заверения, и вера, которой он меня опаивал — все! Он сам породил наше недолгое счастье, и сам засыпал его в могилу, чтобы посадить поверху пышные цветы своей будущей великосветскости! Никчемный! Подлый! О нет, вечно любимый, на всю жизнь! Это те подлые, те, кто отнял у него силы, заковал в цепи. Но ведь он давал слово чести — и отступился. Кто же он после этого? Слабый, бессильный… А может, он не любил меня? Пусть бы осталась надежда хоть на это — единственный цветочек, оставшийся от чудного луга, один радужный лучик от прекрасной зари! Любит ли он меня еще? Скорбит ли о разрыве? Эти вопросы я унесу с собой в могилу. Он уничтожил меня, всего несколькими безжалостными словами убил мою душу, убил сердце, которое сам же пробудил к жизни. Проклятый мир! Проклятые аристократы, отобравшие его у меня! А он — один из них, он живет среди них! Стоит ли проклинать аристократию за то, что он — плоть от ее плоти? Нет! Во всем виновата судьба, будь она проклята! Я люблю его, люблю, брезгуя нарушителем слова чести! Как темно, как беспросветно, Боже! Ни лучика света отовсюду, ни лучика!»
На этом записи кончались. Оставалось еще несколько страничек, пустых, как душа, раненная навсегда. Но нет, вот самые последние строки… Стефа читала, превозмогая боль в сердце:
«Он женился в Париже… на герцогине де Бурбон, старинного рода, бывавшего в родстве с королями… Газеты наперебой хвалят их: прекрасная пара, оба очаровательны, но не выглядят счастливыми… быть может, лишь мне одной так кажется? Они поженились и будут счастливы… А я? Я? Что я значу рядом с герцогиней де Бурбон? Для него, для всего мира я — ничто. Сердце у меня разбито, душа мертва — но что это значит в сравнении с княжеской шапкой? Две красивых, сверкающих короны и я с кровавой раной в сердце — Боже, какое коварство, как мелко!»
Еще горькие слова, следы новых слез:
«Такое величие… и такая подлость! Как он мог поступить так с нею? Как посмел обручиться? Боже, он верил! Невозможно, чтобы он был подлым. Он благороден, только слаб, а те круги — титаническая сила, победившая его, одолевшая… О, если бы он еще и не написал, не прислал кольца! Каким холодом пронизаны его слова! Боже!
Из Глембовичей приехал какой-то его служащий, кажется, секретарь. Продает Волокшу, его именьице по соседству с нами. Ну, конечно! Зачем оно ему теперь? Волокша, Волокша! Сколь дорогим было для меня это имя! Все утрачено! Пустота… пустота… убийственная, ужасная! И черные черви печали! О Боже, эти черви…
Как смешно! Я любила мир, теперь я его ненавижу. Он наполнил меня горечью, став моей Голгофой.
А жить нужно. Умереть мне не дано… спасли… изгнали яд из моего организма… Тоска! Печаль! Наш священник много говорит со мною о Боге и о моих обязанностях по отношению к Господу. Быть может, в этом спасение?»
Снова записи обрываются. И вновь — несколько слов:
«У отца случился сердечный приступ. Мачей и его убивает. Я — единственный ребенок, отец любит меня и очень, очень страдает».
Несколько чистых страничек. И вот — завершение:
«Год минул после смерти отца… Выхожу замуж. Я обещала это умиравшему отцу, не могу не исполнить клятвы. Выхожу за человека, которого отец сам мне выбрал и на смертном одре соединил наши руки, заставил нас поклясться. И вот — завтра моя свадьба. Моя свадьба! Мыслимо ли? Боже, какая мука! Вот так все кончается на свете, на этом лживом, ужасном свете! Рана моя останется незажившей. Я рассказала Рембовскому все, но он по-прежнему желает взять меня в жены.
Удивляюсь его решимости! Он меня любит… Если бы не любил, мог бы освободить меня от данного слова. Быть может, я нашла бы тогда покой за монастырскими стенами. Но я не боюсь предстоящей мне новой жизни. Ничего более горшего меня уже не сможет встретить. Что может быть горше этой минуты, когда в канун свадьбы я завершаю навсегда этот несчастный дневник, никогда больше к нему не вернусь… когда проклинаю минувшее счастье! Больше мне в жизни не видеть счастья. А он… если он все забыл и счастлив теперь, так тому и быть! Я не проклинаю его, но отмщение придет, не может не наступить!»
Конец.
Стефа захлопнула дневник, пораженная неимоверной болью и печалью последних слов. «Придет отмщение, не может не наступить!» Слова эти заставили ее вскочить на ноги:
— Ужасно! Ужасно!
Девушка уже не властна была над собой. Перед ней встал бледный призрак мстительницы, Немезиды их рода, вытянул руки к перепуганной Стефе.
Стефа закричала.
Дверь отворилась, вошла ее мать.
Стефа, чувствуя, как подгибаются колени, бросилась к ней, испуганно вскрикнула, упала на колени:
— Мама! Мамочка! Я все знаю, прочитала… Ужасно! Отмщение обязательно придет…
Пани Рудецкая склонилась к дочери.
Белоснежный зимний рассвет, вползая в окна, высветил их фигуры и нависшую над ними тень угрозы.
IV
Стефа долго не могла успокоиться. Открывшаяся истина была тем больнее, что она и сама любила молодого майората из рода Михоровских. Казалось, драма былых лет повторяется…
— Как же все случилось дальше, мама? — спросила Стефа.
Пани Рудецкая, столь же печальная, привлекла к себе заплаканную дочку:
— Бабушка так и не узнала, у кого ты живешь… Я ни разу не упоминала при ней имени пани Эльзоновской — иначе она сразу бы поняла, что ты живешь среди аристократов. А она на всю оставшуюся жизнь предостерегала нас от общения с аристократами. Я написала, что ты живешь у наших знакомых, в обычной семье нашего круга. Она часто в письмах спрашивала о тебе, пеняла нам, что мы отдали тебя в чужой дом. И это усиливало нашу тоску по тебе. Но мы терпеливо ждали, пока не пройдет год. Я так была рада, когда отец вернулся с выставки и рассказал, что ты похорошела, что пользуешься в обществе большим успехом. О том говорили и посланные тобой цветы. Я была бы счастлива, но…
Стефа поняла, что хотела сказать мать.
— …но мы говорили о бабушке, — продолжала пани Рудецкая. — Ты знаешь, она была патриоткой, всегда интересовалась происходящим в стране. По ее просьбе отец подробно описал выставку и много вспоминал о тебе. Письмо это ушло к ней совсем недавно. Отец неосторожно упомянул в нем пани Эльзоновскую, мать твоей ученицы, добавив, что происходит она из дома Михоровских. Сама не пойму, как он мог так оплошать… Из фамилий недвусмысленно явствовало, что ты попала в среду магнатов. Но бедный твой отец, не зная, что больше всего может опечалить бабушку, хотел сделать ей приятное и отослал несколько иллюстрированных журналов, где подробно было рассказано о выставке, о происходивших там развлечениях. Меж портретами было изображение и молодого майората Вальдемара. В списке значилась пани Эльзоновская из дома майоратов Михоровских, дочь Мачея и Габриэлы, герцогини де Бурбон в девичестве. Для бедной бабушки это было внезапным и страшным ударом. С ней случился сильный сердечный приступ, несмотря на предостережения доктора и панны Эльвиры, бабушка немедленно отправилась к нам. Нам пришлось открыть ей правду… Слушая рассказ твоего отца, достаточно уклончивый, она неотрывно, пытливо смотрела ему в глаза, все спрашивала… но не о пане Мачее, а о Вальдемаре. Отцу пришлось рассказать о нем подробнее. Она вдруг резко изменилась, мы не могли понять, что ее так поразило… Когда отец рассказывал, как любит тебя пан Мачей, как ты называешь его дедушкой и очень привязана к нему, бабушка неожиданно разрыдалась. Мы испугались, ничего не понимали… А бабушка ничего не хотела объяснить, твердила только, чтобы ты поскорее возвращалась домой. Отец даже написал тебе письмо и показал бабушке. Под вечер я застала ее в зале. Она увлеченно разглядывала фотографии из Глембовичей. Когда я вошла, она показала мне тот снимок, где вы стоите группой, в маскарадных костюмах, майорат там стоит рядом с тобой, смотрит на тебя с выражением, заставляющим задуматься. И ты выглядишь, словно на тебя снизошло некое озарение… Нас это тоже поразило. Но бабушка, оказалось, прекрасно знала эти черты лица и это их выражение. Он очень похож на своего дедушку, а ты — на бабушку… Она была поражена, стиснула мне руку и почти кричала: «И вы так спокойно на это смотрите? Ведь ясно как день, что они влюблены друг в друга!» Она стала настаивать, чтобы мы тебя немедленно забрали оттуда. Всю ночь она не могла заснуть, мы не отходили от нее ни на шаг. Она бредила. На рассвете случился приступ. Казалось, вот-вот она умрет. Счастье, что мы заранее пригласили доктора. Приступ прошел, и она попросила к себе ксендза. После соборования, [85] причастившись святых даров, она призвала нас к себе и все рассказала. Мы пережили ужасные минуты! Человеком, сломавшим ей жизнь и навсегда лишившим ее счастья, был Мачей Михоровский — «дедушка», о котором ты писала с такой симпатией! Нас охватила ужасная тревога за тебя, ведь, не будь там молодого майората… бабушку тоже больше всего поражало именно это. Она все твердила о тебе — с любовью и страхом… Отдала отцу сверточек с дневником и вновь принялась разглядывать фотографии. Видя тебя, повторяла: «Бедняжка, такая красивая…» А глядя на Вальдемара, шептала: «В точности такой… Видение из юности, мой рок…» Она чувствовала подступающую смерть, потому что отдала дневник отцу, чтобы он вручил тебе его после похорон. Дневник этот она называла сокровищем, с которым никогда не расставалась. Новый приступ оборвал ее жизнь…
Пани Рудецкая поднесла к глазам платок.
Стефа, прильнувшая к ее коленям, вся содрогалась.
— Мама, отчего вы не вызвали меня раньше?
— Не успели, детка, все произошло так быстро… Пани Рудецкая гладила Стефу по голове, сквозь слезы глядя на ее сломленную печалью фигурку. Прижав ее к себе, спросила тихо:
— Стенечка, дитя мое, будь со мной откровенной и скажи правду: ты… любишь майората?
Девушка заплакала громче:
— Да… да!
— Как она угадала, как поняла все! — шепнула пани Рудецкая. — О, мама… Стеня, ты должна уехать оттуда.
— Я уеду, мамочка, вернусь к вам, но мне так тяжко…
Рудецкие задержали у себя дочку на две недели — она была очень расстроена, и родители опасались за ее здоровье. Мать старалась держаться с ней как можно ласковее. Отец не уступал ей в заботах о дочке, и Стефа понемногу приходила в себя, успокаивалась, начинала тосковать по Слодковицам. Она упорно прогоняла любые мысли о Вальдемаре, но напрасно: он стоял у нее перед глазами, красивый, изящный победитель. Такой, каким был некогда Мачей. Но Вальдемар был более ироничен и обладал несравнимо большей силой воли, несгибаемым характером и гораздо меньше верил в людей…
— А как бы поступил он?
Она пыталась заглушить тоску, но не могла. Она уже успела привыкнуть к иной жизни, в роскоши. Легко жить без роскоши и комфорта, если не довелось никогда его испытать — а вот отвыкать тяжелее… Хотя Стефа и не показывала этого, чего-то ей не хватало. Игры с восьмилетней Зосей не могли теперь ее развеселить, как встарь. Брат Юрек, веселый четырнадцатилетний сорванец, учившийся у жившего в Ручаеве домашнего учителя, теперь попросту раздражал Стефу своим буйным весельем. Девушка сама себя не узнавала: год назад и. она носилась с братом и сестренкой по всему дому, играя в лошадки и производя еще больше шума. Теперь же Зоська поглядывала на нее словно бы с большим уважением и даже не без опасений. Не таскала ее запросто за платье, как раньше. Но Стефа все же ласкала ее по-прежнему, и малышка недоумевала:
— А почему Юрек говорит, что Стефа изменилась? Юрек врет! Стефа такая же самая. — И тут же добавляла, сделав серьезную мордашку: — Стеня, расскажи мне о Люци, я ее так люблю!
И начинались рассказы, которые очень любила и сама Стефа — потому что они возвращали ее в Слодковцы.
С Юреком обстояло труднее. Он обиженно косился на старшую сестру, повторяя всем и каждому:
— Стенька теперь — совсем взрослая панна. Даже в лошадки не хочет поиграть, все думает и думает. Ей бы уж пора носить платье со шлейфом, как у взрослых дам!
Стефа, однако, покорила его рассказом о глембовических конюшнях, псарне и зверинце, но с тех пор не знала покоя — Юрек то и дело домогался подробностей. Однажды на уроке он спросил учителя, молодого студента-юриста, большого демократа:
— Вам нравится Стефа?
— Очень красивая панна и очень милая.
— Эге! Вы так говорите, потому что она моя сестра. А вы вот скажите честно, как коллеге по учебе…
— Я и говорю честно: она красивая и милая, вот только… большая дама.
У Юрека широко открылись и глаза, и рот:
— Как это? Стенька — и вдруг большая дама?
— Тебе этого пока что не понять. Панна Стефания проникнута аристократизмом. Пока что ее не успели изменить, она симпатичная и совсем не чванная… но, это пройдет. Они ее переделают на свой манер.
Юрек обиделся за сестру:
— Да ничего подобного! Стефа всегда будет нашей, а не какой-то там аристократкой! Жалко, что она теперь такая серьезная… но это все из-за бабушкиной смерти. Она потом исправится. — Он подумал и спросил: — А разве аристократия — это что-то плохое?
Студент пренебрежительно скривился:
— От этих напыщенных глупцов — никакой пользы обществу. Сущие нули! Но ты этого, повторяю, пока что не поймешь.
— Но таких коней, как в Слодковицах и Глембовичах, даже у нас нет. Уж я-то знаю, Стенька рассказывала. А какие там звери, какие псы! И самый красивый — большой дог Пандур, он от майората ни на шаг не отходит. Вы его сами видели на фотографии.
Студент пожал плечами. Он не любил, когда кто-нибудь поминал при нем Глембовичи, ибо знакомый ему понаслышке майорат неким странным образом опровергал или искажал его излюбленные теории об аристократии, был словно бы исключением из правил, а будущий адвокат терпеть не мог исключений из правил…
За Стефой внимательно наблюдал и Нарницкий. Из нескольких разговоров с ней он заключил, что она отнюдь не равнодушна к майорату Михоровскому, и это его раздражало. Он никак не мог догадаться, отвечают ли Стефе в Глембовичах взаимностью.
Однако он недолго пребывал в неведении. Неким ключиком к загадке стали для него глембовические фотографии. Он понимал, что такая Стефа может нравиться и ей грозит опасность со стороны майората, особенно если он заметит ее расположение к себе. Однако Нарницкий не знал о подробностях печальной истории покойной своей тетки Рембовской — только смутные предания, бытовавшие в семье. Он не ведал о самом важном, об удивительном стечении обстоятельств — о злом роке, нависшем сейчас над Стефой. Не понимал, что с ней происходит. И не хотел верить, что Стефа любит без взаимности, имея к тому не одно доказательство.
Нарницкий окружил Стефу ненавязчивым вниманием, намереваясь как можно дольше задержать ее в Ручаеве. Он не навязывал ей, но постоянно находился рядом. Как-то он попросил у нее фотографии из Глембовичей. Стефа разложила на столе большие картоны паспарту и смотрела на них с таким любопытством, словно видела впервые. Нарницкий внимательно посмотрел на нее и спросил:
— Кузина, вас кто-нибудь расставлял по местам? — он показывал на группу в маскарадных костюмах.
— Конечно, фотограф.
— Майорат не похож на человека, которого кто-то уместил на указанном месте.
— Да, он сам потом подошел.
— Так и чувствуется.
— Он тебе нравится? — спросила Стефа с совершенно равнодушным выражением лица.
— Кто, майорат?
— Ну да…
Нарницкий хотел было сказать: «Надутый щеголь!», но вовремя сообразил, что это будет чересчур бросающейся в глаза ложью и Стефа угадает его побуждение. Выражать таким образом ревность показалось ему чересчур низким, и Нарницкий ответил искренне:
— Симпатичный и очень элегантный, к тому же в нем чувствуется поистине светский человек.
Стефа глянула на кузена с благодарностью:
— Да, ты хорошо сказал. Он именно таков. Нарницкий, заметивший ее внезапное оживление, продолжал, не спуская с нее глаз:
— У него умное лицо, в нем чувствуется энергия. Такие люди смело идут к цели, сметая любые препятствия — и оттого опасны… А прошлое майората, не столь уж далекое, было весьма бурным…
— Зачем ты мне это говоришь? — тихо спросила Стефа.
Нарницкий пожал плечами:
— Я говорю не о конкретном человеке, а о типичном характере, свойственном людям определенного склада. Могу добавить разве, что люди с такой энергией и прошлым, особенно обладающие вдобавок миллионами, не выбирают средства, чтобы удовлетворить свои капризы, пусть даже минутные. А если он светский человек до мозга костей — тем хуже. Этакий бархатный плащик, скрывающий феодала — ибо у него есть эти черты — и помогающий ему претворять в жизнь свои фантазии.
— Ты не должен, не зная его, говорить о нем столь уверенно.
— Я неправ? Характер у него иной?
— Нет, характер его ты угадал верно… но плохо о нем думаешь.
— Извини, кузина! Но уж если у меня нет оснований судить о нем уверенно, ты тоже не можешь за него ручаться.
— Я его знаю лучше.
— По светским салонам! Как большого пана, светского человека, спортсмена, интересного собеседника, танцора. Но это ничего не доказывает. Это-то и есть тот бархатный плащик…
Глаза Стефы сверкнули:
— Я еще знаю его как подлинного гражданина, хозяина больших поместий, настоящего патриота и… весьма культурного человека. Он исключительно умен и придерживается крайне либеральных взглядов.
Нарницкий искоса поглядывал на воодушевившуюся Стефу. Губы его дрожали от подавляемого гнева. Когда он ответил, в голосе его появились шипящие нотки:
— Словом, идеальный герой! Однако он сам явно не признает за собой таких достоинств — иначе почему у него столько сарказма в глазах, а губы он кривит, словно форменный байроновский Чайльд Гарольд!
— Безусловно, он не идеальный герой, у него найдутся свои недостатки, но среди них нет заносчивости.
— В это я не поверю! Человек его положения, богатый, как набоб, пользующийся небывалым успехом в высшем свете, — и не стал бы заносчивым? Неужели он представления не имеет, каким успехом пользуется и как высоко стоит? Неужели не отдает себе в том отчета?
— Отдает. Но он весьма умен. И обладает уверенностью в себе… но это совсем другое.
— Да нет, то же самое, только под другим названием. Главное, он знает, что собой представляет, знает, сколько может получить, слегка кивнув…
Стефа молчала, догадавшись, куда клонит Нарницкий. Но не показала, что его слова ей неприятны. Стала рассказывать ему о глембовических охотах, о людях на фотографии, кратко описывая каждую особу. Наконец взяла свои наклеенные на паспарту фотографии — на одной она была в наряде времен Директории, на другой — в современной одежде:
— Какая тебе больше нравится?
Фотография «дамы эпохи Директории» была искусно раскрашена в полном соответствии с натуральными цветами и выглядела крайне эффектно. Стефа выглядела на ней неслыханно похожей на себя в жизни.
Нарницкий поглядывал то на одну, то на другую. Наконец сказал:
— Мне больше нравится та, где ты в обычном своем платье; платье и кораллы на шее напоминают мне тебя такой, какой ты была год назад… а потому эта фотография мне дороже. В наряде времен Директории ты гораздо красивее… но уже не наша. Выглядишь, как княгиня, от тебя веет богатыми поместьями… В такой роли ты мне не нравишься. Предпочитаю уж нашу, неподдельную…
Стефа пошевелилась:
— Ты не любишь аристократов?
— Я к ним равнодушен. Но не люблю тебя среди них…
— Ты говоришь так, потому что не знаешь их. Разве я изменилась?
Нарницкий глянул на нее прямо-таки грозно и, чеканя каждое слово, произнес:
— Если хочешь знать мое мнение — изменилась!
— Я?!
— Ты попала под их влияние. Дай-то Боже, чтобы это прошло.
Стефа задумалась. Он понял ее. Отгадал ее чувства и предостерегал!
Девушке вспомнились Глембовичи, их история, магнатская пышность, изысканное общество. Действительно, она словно бы вросла в их круг, полюбила их роскошь. Конечно, и у них есть недостатки, среди них частенько встречаются совершенно никчемные люди. Но хватает и других — взять хотя бы Вальдемара, княгиню Подгорецкую, пана Мачея. Тот, кто не знаком с ними близко, судит о них поспешно и несправедливо.
Так рассуждала Стефа.
V
В глембовическом замке царила угнетающая тишина. Майорат не покидал своего кабинета, а порою уединялся надолго в библиотеке или, наоборот, задумчивый и серьезный, долго бродил по коридорам и залам.
Его администраторы и слуги еще ни разу в жизни не видели его таким. Он стал еще более резким, раздражительным. После выздоровления пана Мачея, долго страдавшего нервными приступами, Вальдемар был избран председателем сельскохозяйственного товарищества — граф Мортенский, принуждаемый дряхлостью и плохим здоровьем, добровольно ушел из своего поста. За майората проголосовали единогласно, но он, ничуть этим не обрадованный, провел несколько заседаний, вернулся в Глембовичи и зажил там затворником. Что происходило в его душе, не мог догадаться никто. Камердинер Анджей частенько видывал его в портретной галерее, сидящим на канапе напротив портрета бабушки. Иногда Вальдемар, забыв о еде и сне, надолго погружался в бумаги и старые книги с пожелтевшими страницами. Конюхи недоуменно чесали в затылках — майорат в конюшнях и не появлялся. Иногда он, правда, в сопровождении большого отряда егерей выезжал на охоту, но после первых же добытых зверей преисполнялся скуки и приказывал возвращаться. Бывало, что он отсылал егерей в замок, а сам, забросив ружье на плечо, долго блуждал по лесам, так ни разу и не выстрелив.
Словно странные сумерки спустились на имение. Слуги, работники зверинца, садовники, конюхи, фабричные работницы — все лишь перешептывались о странном поведении майората. Экономы из фольварков расспрашивали Остроженцкого, что же такое с хозяином творится. Но он и сам не знал. Только молодой граф-практикант, ужасно заинтригованный, сумел втянуть в разговор Клеча из Слодковиц и дознался кое-каких подробностей, касавшихся болезни пана Мачея и отъезда Стефы, — однако так и не смог сделать из этого какие-либо выводы. А майорат мрачнел с каждым днем, становясь все грознее. В Слодковцы он ездил редко и ненадолго, исключительно затем, чтобы навестить пана Мачея.
Все распоряжения по хозяйству он отдавал по телефону из своего кабинета. Директора фабрик и электростанции, управители и главные лесничие точно так же получали от него указания и докладывали. По телефону он разговаривал с арендаторами, своим врачом, с больницей, школой и детским приютом. Замок он покидал редко. Временами бывал на мессе и навещал приходского ксендза, который тоже не узнавал, как он выражался, «своего хозяина». Лишь однажды, ночью, когда горела соседняя деревня, в майорате проснулась былая энергия. Он помчался во главе пожарных, заменив их заболевшего начальника, управлял отрядом в блестящих шлемах и кожаных куртках, с риском для собственной жизни спасая деревню от разбушевавшегося пламени, вытаскивая со своими удальцами людей из горящих изб. Ни один человек не погиб. Но когда на другой день к майорату пришли благодарить за помощь погорельцы, он приказал выдать им большую сумму денег и поделить по справедливости, но сам к крестьянам не вышел. Сидел в библиотеке, погруженный в старые фолианты. Так проходила неделя за неделей…
Однажды вечером Вальдемар по своему обыкновению сидел за столом в библиотеке, заваленным лежавшими в беспорядке томами. Он курил сигару и размышлял.
Все эти книги были им прочитаны и не занимали его более. Он предпочитал углубиться теперь в историю своей жизни и собственную психологию. С ним происходило нечто особенное, чего он никогда прежде не ощущал. Вспоминал студенческие времена и проведенные за границей бурные годы. В это время с ним произошло и немало любопытного, оставившего след в душе. Однако тем временем он был обязан и пессимизмом, сарказмом и горечью, с которыми теперь не мог справиться. Самые разные чувства и помыслы смешались в его душе, он ни в чем не мог разобраться и ни в чем не мог быть уверен, кроме одного.
Он любил Стефу.
Это чувство было чересчур крепким и неподдельным, чтобы сомневаться в нем.
А сомневался он долго.
Ему везло с женщинами, он пережил множество романов. Верил, что всегда будет смотреть на женщину, словно на более-менее ценный самоцвет, служащий исключительно забавы ради. Самоцветы такие он менял часто, без колебаний отбрасывая утратившие прелесть новизны. Вечная жажда нового толкала его на новые связи, но никогда он не чувствовал себя довольным. А если и возникали такие чувства, то проходили очень быстро. Часто, преследуя очередной сверкающий драгоценный камень, он уверен был, что с достижением этой цели обретет покой. Бывали случаи, когда с неслыханной отвагой он шел навстречу опасности, которая могла бы остановить многих… Победы эти воодушевляли его. Однако, достигнув своего, он всегда разочаровывался.
Он даже не гордился своими победами. Только двух женщин на свете он ценил и воздавал им должное: княгиню Подгорецкую и покойную мать. Матери он почти не помнил, что чтил ее память. И вот теперь Стефа, полная противоположность всем его прежним победам, перевернула его взгляды на женщин. Зная ее чувства к нему, Вальдемар ощущал, что она становится средоточием его жизни. Разница в общественном положении ничуть его не занимала, он беспокоился об одном: не окажется ли чересчур тяжелым для плеч Стефы груз того величия, на вершину которого он ее вознесет. Однако сомневался он недолго. Ее развитой ум позволял верить, что она сможет отвечать обязанностям, этикету и требованиям тех кругов, куда он ее введет. И с долей любопытства ждал, как она примет его признание. Его охватил трепет при мысли о том, что вскоре она окажется в его объятиях — Стефа, столь желанная… Временами он представлял ее пылкой любовницей. Могла бы она стать любовницей или нет? Она, Вальдемар знал, любила его, так что при желании он мог бы добиться от нее любых доказательств любви к нему. К тому же у него был талант… но на сей раз ему впервые недостало отваги. Стефа была словно белый цветок, незапятнанный, удивительно чистый — и святотатством было бы коснуться его нечистыми руками. Она, несмотря на возбуждаемые ею шалые желания, должна была остаться чистой. Она уже принадлежала ему — но обладание такое не запачкает и ангела. Именно потому, что она и так уже принадлежит ему, он не коснется ее нечистыми руками, не унизит до уровня своих желаний, оставит в вышине, именно там ища наслаждения. И он, в общении с женщинами избегавший каких бы то ни было обещаний, теперь наслаждался одной мыслью о Стефе — своей жене. Он сам себя не узнавал. Его в жизни так не воодушевляли даже прекраснейшие дамы и девушки из высшей французской аристократии — а ведь в Париже он, внук герцогини де Бурбон, одержал столько легких и заставлявших возгордиться побед, ни разу не потерпев поражения. Он сходил с ума по демонической красе мадьярок, его привлекал венский шик, в Риме он шествовал среди синьорин и синьор из высшей итальянской аристократии, словно садовник, собиравший в букет прекраснейшие цветы, — но всегда это кончалось одинаково. Немножко больше, немножко меньше усилий — победа… Он никогда не собирался связывать себя на всю жизнь и посмеивался над родными, либо взиравшими со страхом на его приключения, либо пытавшимися уговорить его остепениться и предпринять в том или ином случае решительные шаги. Он был циником, скептиком и был уверен сам, что на иные чувства попросту не способен. Видел в себе одно лишь воплощение страсти и к более одухотворенным чувствам ничуть не стремился, попросту не веря в них. Теперь он открыл что-то новое. В любом случае он был без ума от Стефы — но, не будь она Стефой, так и осталась бы одной из его побед… Однако теперь в нем родились совершенно иные чувства.
— Что же это, как все случилось? — спрашивал он себя.
Солнце зашло, в библиотеке воцарился мрак, серые тени заскользили по остекленным шкафам, проникая в каждый уголок, помогая тьме сгуститься. Вальдемар встал, прошелся взад-вперед, позвонил. Камердинер вошел бесшумно, как дух.
— Свет! — коротко бросил майорат.
Анджей нажал кнопки выключателей. Хрустальный абажур под потолком вспыхнул мириадом радужных огней.
«Я это и сам мог сделать, — подумал майорат, когда камердинер вышел. — Что он подумает, видя меня таким?»
Он перешел в читальню и поднял крышку фортепиано. Блеснули слоновой костью и палисандром клавиши. Вальдемар взял несколько аккордов. Зазвучала его любимая соната Бетховена, которую когда-то играла Стефа. Вальдемар убрал руки с клавиш и повернулся на вертящемся табурете, глядя в сторону салона. Окинул все вокруг ироничным взглядом и подумал: «Придется ли вся эта оправа Стефе по вкусу?»
Он зажмурил глаза, вызывая в памяти прекрасный образ: Стефа сидит за фортепиано, играет его любимую сонату, она в элегантном платье для визитов… нет, лучше — в повседневном. Ее волосы зачесаны вверх, ее нежный профиль… А он, откинувшись на канапе, смотрит на нее — на свою жену. И они счастливы. Она любит его. Он окружает ее любовью и пышностью, на какую только способны его миллионы.
— Стефа — моя жена? У меня будет жена!
Вальдемар не в силах оторваться от вставшей перед его взором картины, вновь и вновь вспоминает Стефу:
— Как она молода! На двенадцать лет моложе меня, ей едва пошел двадцать первый… Но что скажет моя семья, мой круг?
Вальдемар резко поднялся и захлопнул фортепиано. Громко произнес вслух:
— Главное — что я сам думаю!
— Но имеешь ли ты право? — что-то шепнуло ему, словно дух-опекун замка.
Вальдемар остановился посреди комнаты:
— Что? Я сам создаю для себя права!
Но дух зашептал вновь:
— Последние хозяйки этого замка были княгинями из известнейших фамилий… Была даже герцогиня…
— А она будет моим счастьем, — твердо ответил Вальдемар.
Он быстро зашагал в глубь замка, зажигая электричество везде, где проходил, в каждом зале, каждой комнате, в каждом коридоре.
Замок погрузился в ослепительное сияние. Майорат, миновав картинную галерею, вошел в зал фамильных портретов. Доселе темный и угрюмый, он озарился вдруг светом жирандолей. Портреты ожили, мертвые лица воскресли. Пурпур и золото, вырезы женских платьев исполнились живых красок.
Вальдемар устраивал смотр своим пращурам.
Он заглядывал в грозные, дышавшие могуществом лица известнейших его предков. Читал титулы и громкие имена женщин, ставших их супругами. Переходил от портрета к портрету — но нигде не находил счастья в лицах, скорее уж угрюмых. Дольше остальных задержался перед портретом прадедушки Анджея, генерала, женившегося на графине Эстергази. Выразительное, породистое лицо — но сколь драматичные воспоминания искажают его черты… В глазах сквозит апатия. Вальдемар усмехнулся и насмешливо прошептал:
— Быть может, его рисовали в то время, когда он вынужден был развестись с женой, славившейся красотой, богатством и родственными связями…
Портрет отца. Та же печаль на лице, тот же равнодушный взгляд.
Мать, очень похожая на княгиню Подгорецкую, красивая и молодая. Ни следа счастья на лице.
Вальдемар обошел весь зал. Возбуждение охватило его, ироническая усмешка крепла на губах. Наконец он остановился перед портретом бабушки. Смотрел на него долго, внимательно.
— И здесь то же самое, — шепнул он, присаживаясь ощупью на канапе.
Он видел глаза, проникнутые трагизмом и печалью, фигуру, словно согнувшуюся под тяжестью переживаний. Печаль сквозила в любой детали, даже, казалось, в фалдах тяжелого платья. Вальдемар сидел, погруженный в задумчивость. Внезапно встал, огляделся вокруг и произнес громко, с горечью:
— Титулы, положение, связи, миллионы… но где же счастье? Нигде я не вижу счастья…
Горько рассмеявшись и пожав плечами, он продолжал:
— Нет счастья в истории нашего рода…
Портрет Габриэлы Михоровской в натуральную величину висел у самой двери, по обеим сторонам от него ниспадали с потолка тяжелые бархатные портьеры. Вальдемар поднял ту, что слева. Увидел пустое место на выложенной дубовыми панелями стене. Не опуская портьеру, посмотрел направо от портрета и подумал: «Там — место для дедушки Мачея, ну, а здесь для кого?»
Гладкая, поблескивающая дубовая панель показалась ему загадкой — но он не понимал, отчего его охватило легкое, как тень, чувство тревоги. Странным непокоем веяло от пустой стены, и это чувство полегоньку вкрадывалось в душу…
Майорат затрепетал и, хмуря брови, спросил сам себя:
— Что это еще такое?
Решительным жестом опустил портьеру. Уселся на канапе и сжал ладонями виски: «Я чертовски нервничаю, чертовски!»
Во время своего долгого отсутствия в Слодковицах он тосковал по Стефе, потом ненадолго увидел ее, они вновь расстались, и тоска снова крепла, не давая ему покоя.
Вернувшись в кабинет, он нашел на столе адресованное ему письмо от Люции Эльзоновской.
Быстро разорвал конверт.
Девочка писала:
«Приезжай, Вальди, если хочешь увидеть Стефу, она возвращается завтра утром. Я бы очень хотела поехать ее встречать, только боюсь маму. Никто не знает, что я тебе пишу. Хотела позвонить, но ты сам знаешь, телефон стоит близко от маминой комнаты. Не идти же мне было во флигель к Клечу. Наш милый Яцентий помог мне найти человека, который доставит письмо. Приезжай обязательно, Люция».
Кровь бросилась Вальдемару в лицо: «Возвращается! Она возвращается!»
Дикая, безумная радость охватила его. Майорат схватил колокольчик и затряс им.
— Кто принес это письмо? — неестественным голосом спросил он вошедшего лакея.
— Павел, конюх из Слодковиц, четверть часа назад. Я не посмел беспокоить пана, оставил письмо на бюро…
— Плохо. Иногда письма бывают срочными… Посланец ждет?
— Он уже уехал. Очень спешил. Паненка не приказывала дожидаться ответа…
— Хорошо, иди.
Анджей направился к двери.
— Подожди! Который час?
— Половина восьмого.
— Отлично! Пусть Бруно немедленно запрягает серых в большую карету на полозьях. На козлы — Юра. Приготовьте для меня все необходимое, я выезжаю.
Анджей вылетел из кабинета. В голосе хозяина он расслышал некие нотки, которые его встревожили и обеспокоили.
«Случилось что-нибудь или пан майорат болен?» — думал он, сбегая по лестнице.
Вальдемар быстро ходил по комнате, размышляя:
— Знает ли она все о покойной бабушке, знает ли ее историю? Не исключено! В таком случае она возвращается лишь затем, чтобы попрощаться. Она меня любит и потому не останется здесь, зная о прошлом, убоится будущего… Наша семья отныне будет пугать ее. Что таится во мне — любовь к ней или жалость? Я люблю ее, любил и до того, как все открылось. И она любит… но, может, возненавидела теперь? А высшие круги? А моя семья, родственники? Они не допустят… но пусть только попробуют! Станут мешать — смету! Мои чувства они не растопчут, не позволю!
Он остановился, поднял руку ко лбу: «Я нашел ее и отнять у меня не дам! Одолею их… они уступят… должны будут сдаться… я хочу этого… жажду… и будет по-моему!»
Кто-то постучал в дверь.
— Можно! Вошел дворецкий.
— Что вам угодно?
Старик согнулся в учтивом поклоне.
— Простите, что осмелюсь беспокоить, но я узнал, что пан майорат уезжает… а через два дня в замке должен состояться званый обед в честь победы пана на выборах. Будут ли какие-нибудь указания на этот счет?
— Нет, завтра я вернусь, — сказал Вальдемар нетерпеливо. — Делайте все, как было намечено. Гостей будет много… но, кроме обеда, никаких развлечений!
Дворецкий поклонился и вышел.
Вальдемар вновь принялся расхаживать по комнате. Тысячи мыслей шумели у него в голове, чувства раздирали грудь. Он столь был потрясен последней беседой с собственными душой и совестью, столь взволнован, что, казалось, ощущал и слышал каждую капельку своей крови, спешившую по венам в мозг и всплывавшую туда жаркой, пылающей, словно бы каплей огня. Все колебания, метания, думы, пережитые им в последние часы, теперь стали четкими, ясными. Теперь он совершенно точно знал, к чему стремится и жаждет, знал, что идет верным путем. Больше он не станет колебаться. Прибавит энергии.
Он сметет все преграды, превратит их в прах!
Словно вулкан клокотал в нем.
— Карета подана, — сказал вошедший камердинер. Четвертью часа спустя серые лошади быстрой рысью уносили карету прочь от замка. Майорат был уже спокоен, холоден, уверен в себе. Замок окутан был белыми вихрями снега. Освещенные окна гасли одно за другим.
VI
Сквозь необозримые пространства белоснежных полей, сквозь темные леса с шумом и грохотом несся короткий пассажирский поезд, оставляя длинный шлейф серого дыма. Два фонаря на паровозе светили, словно глаза циклопов. Локомотив с гордо выпяченной вперед грудью мчался неутомимо, размеренно вращались могучие колеса, словно плавники морского гиганта. Влажные от снега бесконечные рельсы отблескивали в свете очей несущегося чудовища.
За одним из окон второго класса виднелось чуточку бледное личико Стефы. Облокотившись на столик локтями, она смотрела сквозь двойное стекло на проносящиеся мимо пригорки и деревья, укутанные серым в вечернем мраке снегом. Огненные искорки из паровозной трубы пролетали золотистыми нитями, растворяясь в мутной полутьме, появлялись все новые и новые и, по мере того, как за окном темнело, золотистого сияния прибывало и прибывало, так что в конце концов огненный град озарил окна словно бы рассветной зарей. Уже не ниточки — полосы, золотые потоки струились, колыхались, сказочным прозрачным покрывалом окутывая, заливая поезд. Среди этих блистающих волн мигали огненно-алые зигзаги, сверкали молнии, пролетали пламенные копья, стайки кровавых мух, и все это сменяло друг друга в сумасшедшем вихре, пылающее, изменчивое, проворное…
Стефа прижалась лицом к стеклу. Пылающие искры отражались в темных глазах девушки золотом, зажгли отблески в волосах, окрасили в розовый длинные нежные ресницы, изящно обрисованные черты лица, в которых, однако, не было уже прежней безмятежности: цветущее жизнью и весельем личико Стефы словно бы увяло, утратило иные из прежних красок.
Словно некий искусный резчик взял ее за образец и изготовил камею на белом камне. Да, именно камеей казалось теперь лицо Стефы, камеей, которую художник создал, вложив в нее большое сходство и достаточно чувств, чтобы лицо это могло очаровывать чем-то большим, нежели прелестью молодой красивой панны. И все же лицо это дышало теперь тоской и неодолимой печалью. После трехнедельного пребывания дома девушка ненадолго возвращалась в Слод-ковцы, чтобы сказать им последнее «прости». Она твердо решила расторгнуть договор с пани Эльзоновской, распрощаться навсегда со всеми и вернуться домой к прежней жизни. Распрощаться навсегда!
Стефа повторяла это с неким приносившим боль наслаждением, каждое из этих слов ранило ее, словно кинжал, девушка понимала, что сама по капельке вливает себе в собственную душу отраву. Чем же иным может стать для нее расставанье?
Страшная, нескончаемая мука…
Но она обязана превозмочь себя, должна вырваться из этого зачарованного царства, причиняющего ей чересчур сильную боль.
Ее несчастная, сломанная, раненая жизнь!
Наступила черная, бездонная ночь. Стефа так долго не отрывала взгляда от искр за окном, что заболели глаза. Она пересела на скамейку. В купе она была одна. Подкрадывалась дремота. Мысли начинали путаться. Только один образ упрямо оставался перед глазами.
Прекрасный летний сад, цветет сирень, щебечут птицы, поют соловьи, и посреди великолепного мая — красивый улан, рядом с ним молодая девушка с золотистыми локонами и фиалковыми глазами. Они стоят, не отрывая глаз друг от друга. Юноша взял в свои руки ее ладонь и ласкает нежные пальчики, обещая безграничное счастье, упоение любовью, чарует надеждами. Она на седьмом небе.
Потом картина меняется.
…Заснеженный парк. Закат окрасил деревья розовым. В воздухе висит дыхание подступающих сумерек. Галки черными точечками пятнают небо. На заснеженной тропинке стоит молодой элегантный пан в тюленьей шубе, его темно-серые разгоряченные глаза пожирают стоящую перед ним девушку с золотыми локонами и фиалковыми глазами. Он стиснул ее ладонь в своих руках и не произнес ни слова, говоря все глазами, сколько же они обещают, о Боже! Счастье распростерло над ними свои крыла…
А поезд неудержимо мчится вперед, стучат колеса, звякают цепи, вагон легонько раскачивается, а за окнами плывет, плывет золотая река…
Стефа сонно откинула голову на мягкую спинку, образы перед ее глазами тают, расплываются, исчезают в некоей туманной бездне. Сон все дальше и дальше уносит ее в свои глубины… и вот уже Стефа крепко засыпает здоровым молодым сном. Зов природы превозмог все переживания и печали.
На какой-то большой станции она проснулась. В ее купе вошли несколько человек. Немолодая, богато одетая дама с дочкой и сыном. У дочки — шелестящая огромная шляпа, посверкивающие гребни в волосах и щедро раскрашенное лицо. Юноша носит пенсне, должно быть, исключительно из шика, потому что то и дело снимает его и потирает утомленные оптическими, стеклами здоровые на вид пустые глаза. Они удобно рассаживаются, энергично отставив саквояж Стефы.
Юноша, усевшись рядом с ней, развязно заглянул ей в лицо. Стефа вновь откинула голову и попыталась уснуть, но ей мешала их болтовня вполголоса на ужасном французском. Дамы внимательнейшим образом обозрели черное английское платье, изящно и пышно окутывавшее стройную фигурку Стефы, не пропустили вниманием висящую над ее головой креповую шляпку с вуалью и признали, что вещи эти свидетельствуют о хорошем вкусе и определенном достатке, хотя и страдают некоторым отсутствием фантазии. Оглядели меховой жакет с длинным воротником из скунсов — и лишь после этого перенесли взгляд на лицо хозяйки одежды. В свете фонаря волосы Стефы, мягкой волной обрамлявшие лицо, казались изменчивыми, словно блеск старинного золота. Тяжелый полурассыпавшийся узел опадал на шею, среди медно-золотистых шелковых прядей деликатно поблескивали черепаховые гребни и шпильки. Нежный, округлый овал лица, прекрасный рисунок носа и маленьких розовых ушек почти не привлекли их внимания — они смотрели главным образом на ее прическу и одежду. Впрочем, только дамы — юноша не отрывал глаз от длинных ресниц Стефы и теней, отбрасываемых ими на белоснежную, тронутую нежно-розовым румянцем кожу. Разглядывая ее беленькие ручки, маленькие и узкие, с тонкими длинными пальцами — один был украшен перстеньком с большой жемчужиной. Изучив все это, юноша начал вполголоса излагать матери и сестре свои впечатления о Стефе, заметив, что «она ничего», только страшно «худенькая», а лично он предпочитает таких девушек, на которых приятно посмотреть «в смысле пышности». При этом он изобразил руками соответствующую иллюстрацию к своей «лекции», из которой дамы могли неопровержимо заключить, что его привлекают формы крайней степени изобилия. Все трое наперебой стали гадать, кем эта девушка может быть.
— Какая-нибудь аристократка, — в конце концов сделали они вывод, единогласно принятый всеми.
Стефа, раздосадованная всем этим, не хотела выдавать, что все слышала — сидела тихонько, не шевелясь, и вскоре снова заснула.
Кондуктор вошел в купе, когда стоял ясный день. Он вежливо поклонился Стефе:
— Прошу прощения, Рудова уже близко, осталась одна станция…
Стефа встрепенулась, открыла глаза:
— Рудова? Уже? Спасибо.
Она стала поспешно извлекать из сумочки туалетные приборы; видя, что остается предметом неустанного внимания двух дам и молодого человека, вышла в коридор. Когда вернулась несколькими минутами спустя, уже причесанная и умытая, выглядела совсем свежей.
Юноша сорвал с носа пенсне, чтобы получше разглядеть ее. Обе дамы взирали на нее удивленно. Длинный свисток локомотива возвестил, что близится Рудова. Стефа, превозмогая легкий трепет, надела жакет, шапочку и принялась застегивать перчатки. Поезд замедлял бег, а перед глазами у девушки встал ее первый приезд сюда с пани Эльзоновской. Тогда, едучи со станции, на границе Слодковцов она впервые увидела Вальдемара. Он ехал в «американке» один, сам правил четверкой каурых. Понравился ей с первого взгляда, был такой симпатичный, элегантный, светский, но, едва заговорив, посмотрел на нее насмешливо, и это ее словно бы заморозило надолго…
До сих пор она помнила его крепкое рукопожатие. Однако, не успев еще доехать до Слодковцев, она уже чувствовала к нему глухую неприязнь.
А теперь? Теперь…
«Боже, существовали ли те, первые часы нашей встречи?» — спрашивала она себя.
— Мама, мама! Смотри, какие прекрасные кони стоят на станции! А карета какая! — воскликнула молодая панна, стоявшая у окна.
— Точно, великолепные арабы! Какая четверка! — подхватил юноша. — И все серые! Как подобраны!
Стефа вздрогнула: неужели глембовические кони? Протяжный свисток, звонок, шум тормозов — и поезд остановился.
Сердце Стефы учащенно забилось. В купе ввалился носильщик.
— Это кони из Слодковцов? — спросила Стефа.
— Нет, пани. Карета из Глембовичей приехала, и сам пан майорат с нею. А из Слодковцов — только паненка баронесса. А вот и ваш пан ловчий идет, ясная панна.
Носильщик не скупился на величания. Он поспешно отступил, давая пройти ловчему Юру, выглядевшему, словно принимающий парад генерал.
Гигант улыбнулся Стефе, снял высокую шапку, низко, почтительно поклонился:
— Какие вещи прикажете забрать, панна Стефания? Стефа подала ему свою сумочку. Саквояж подхватил носильщик.
В этот миг вошел Вальдемар.
Они поклонились друг другу молча, но невозможно было скрыть обуревающие их чувства.
Стефа покраснела.
Он, приподняв шапку, горячо поцеловал ей руку. Они держались словно бы холодно, но столько нежности и любви окутывало их ясным ореолом, что это почувствовали даже скверно знавшие французский дамы и развязный юнец в пенсне. И быстро переглянулись, говоря друг другу взглядами: «Ну ясно, нареченные!»
Их форменным образом ошеломили кони, карета, Юр, титулы и, наконец, — княжеское величие Вальдемара.
Вальдемар повернулся к ловчему:
— Подайте карету к вагону, — и вновь обернулся к Стефе: — Поедем немедленно, вы кажетесь, мне уставшей.
— Как хотите, — тихо ответила она.
Выходя из купе, Стефа с улыбкой поклонилась попутчикам. Заметив это, майорат тоже обернулся и приподнял шапку.
Дамы поклонились чрезвычайно учтиво, юнец торопливо и шумно шаркнул ножкой — все были крайне удивлены, что столь аристократическая молодая пара вежлива в обращении со случайными встречными.
Вбежала Люция.
— Ну, что вы тут застряли? — воскликнула она, бросаясь на шею Стефе. — Вальди сказал мне дожидаться в зале, я чуть со скуки не умерла! Стефа! Милая! Дорогая! Как я рада, что ты вернулась!
Они сердечно расцеловались.
Потом все вышли из вагона. На перроне ожидали их Юр и Ян, лакей из Слодковиц.
— С нами ехала аристократка, точно вам говорю, — сказала детям дама, когда они остались в купе одни.
— Это точно жених с невестой. Сразу видно большого пана. Красивая пара! — поддакнул юноша, не отходя от окна.
Карета отъехала первой, за ней двинулись сани с Яном и багажом Стефы.
Люция рассказала Стефе о болезни пана Мачея и о том, как скучала без нее.
— А как себя сейчас чувствует пан Михоровский? — спросила Стефа.
Люция опешила:
— Почему ты говоришь «пан», а не «дедушка», как раньше?
— Хорошо, дедушка… Как он сейчас?
— О, ему гораздо лучше, он вас все время вспоминает, — ответил Вальдемар, не сводя со Стефы горящих глаз.
Взгляд его ласкал девушку, не упуская ни малейшей детали в ее одежде. Лишь траурная вуаль неприятно подействовала на него.
Люция, словно отгадав его мысли, спросила:
— Стефа, зачем тебе этот траурный креп? Он тебе к лицу, но он страшный! По бабушке ведь не носят траура, только по родителям.
— Я ее очень любила. Да и носить этот креп буду недолго.
Она хотела сказать: «Вернее, ты недолго будешь видеть этот траур, потому что я вскорости же уеду», — но сдержалась. При одной мысли о том, что она навсегда покинет Слодковцы, слезы сами навернулись на глаза.
Она представить не могла, как будет с ними расставаться.
Вальдемар был молчалив, как и Стефа. Оба чувствовали, что что-то отделило их друг от друга, и догадывались, что именно. Только Люция щебетала как ни в чем не бывало.
Едва карета остановилась перед крыльцом особняка, едва они вышли и обрадованный Яцентий поцеловал руку Стефе, появился старый камердинер пана Мачея, направился прямо к ней и, склонившись к ее уху, шепнул:
— Старый пан просит панну к себе. Он в своем кабинете.
Девушка побледнела, но смело пошла вперед, не снимая верхней одежды.
Вальдемар догнал ее, они оказались одни в малом салоне.
Вальдемар взял ее руки и поднес к губам:
— Панна Стефания, вы знаете все?
— Да, — сказала она, трепеща.
Он заглянул ей в глаза, смотрел неотрывно:
— Я догадался сразу, еще в вагоне. Только не нужно нервировать себя, дедушка и сам в необычайном расстройстве чувств. Оставайтесь спокойной… ради него.
Он проводил ее до самой двери кабинета.
Пан Мачей сидел в кресле. За три недели он сильно изменился, побледнел, волосы поседели еще сильнее; весь он как-то сгорбился, согнулся, выглядел очень старым. Увидев его таким, Стефа не выдержала: слезы навернулись ей на глаза, она подбежала к старику, присела на корточки у его колен и спрятала лицо в ладони, сдерживая рыдания.
Пан Мачей обнял ее трясущимися руками.
Едва увидев девушку, он понял, что она знает все.
Что-то захрипело в его груди.
— Детка, ты плачешь? Ты все знаешь… От кого?
— Из ее… дневника.
Воцарилось молчание, тяжкое, глухое. Он знал этот дневник!
— Ты писала Люции, что она умерла от сердечного приступа. Была… какая-нибудь тому причина? — спросил он изменившимся голосом.
Стефа колебалась.
— Говори, дитя мое… расскажи все, я хочу знать… не бойся, ты же видишь — я спокоен…
Стефа рассказала, что бабушка, пребывая за границей, не знала в точности, где и у кого живет внучка, но письмо отца Стефы, в котором упоминалось имя Михоровских…
Она умолкла, не желая уточнять, что именно это и стало причиной… Избегала подробностей, потому что они касались и Вальдемара.
Но пан Мачей, легко угадавший недосказанное, склонил голову и тяжко вздохнул. Потом произнес с несказанной горечью:
— Значит, она не простила… до сих пор помнила… самого нашего имени оказалось достаточно… боялась за внучку, оказавшуюся среди нас…
Стефа прильнула губами к его руке, чувствуя, что любит этого старика, что бы ни произошло.
— Нет, дедушка, она все простила… и очень страдала, даже ее дети не знали имени…
— Однако ж она боялась… боялась за тебя. Почему?
Стефа затрепетала.
— Неужели?.. — прошептал пан Мачей.
Внезапно он понял все, перед глазами у него встал Вальдемар…
Тот же трепет охватил и пана Мачея:
— Да, вот главная причина ее опасений. Правда! Вот она! Само существование молодого майората Михоровского, находившегося рядом с ее внучкой, наполнило страхом ее душу…
Старик выпрямился. В его запавших глазах горел огонь всесокрушающей печали.
Он положил руки на плечи Стефы:
— Вставай, дитя мое. Иди к Идальке. Но не забывай о своем старом дедушке, в этой комнате тебе всегда рады…
Стефа поцеловала его руку и тихонько вышла. Пан Мачей стиснул руками голову:
— О Боже, все вернулось… минувшие годы, часы печали… Это ее и убило! Дневник… о, я несчастный… он сохранился, Стеня его прочитала… Господи Иисусе!
После долгого молчания он нажал кнопку электрического звонка на поручне кресла.
Беззвучно вошел старый камердинер.
— Что в доме? — спросил пан Мачей.
— Паненки наверху у пани баронессы, а пан майорат в своем кабинете; он велел доложить ему, когда паненка выйдет от вас. Прикажете просить?
— Нет, нет! Обед скоро?
— Сейчас будут подавать.
— Францишек, извинитесь перед пани баронессой от моего имени — я сегодня не выйду к обеду.
— Пан сегодня еще не пил брома…
— Хорошо, подай.
Когда камердинер выходил, пан Мачей задержал его:
— Сейчас я хочу остаться один, но скажи пану майорату, чтобы он пришел… после обеда и кофе.
Францишек вышел обеспокоенный и удивленный — его хозяин не хотел видеть даже любимого внука! В голосе не умещается!
Пожав плечами, старый камердинер пробурчал под нос:
— Ой, что-то недоброе у нас творится…
VII
Старик был совершенно прав. В тот же вечер Стефа и Люция сидели, прижавшись друг к другу на кушетке в комнате Стефы. Обе плакали. Люция всхлипывала:
— Стефа, я и думать не могла, что ты можешь меня бросить. Ты меня больше не любишь? Почему ты уезжаешь так внезапно?
Стефа рыдала. Сердце у нее разрывалось при мысли, что вскоре она покинет Слодковцы. Но оставаться она боялась. Появление Вальдемара в вагоне прямо-таки потрясло ее, а разговор с пани Идалией форменным образом измучил. Баронесса и слышать не хотела об ее отъезде, и, видя настойчивость девушки, твердо решила доискаться причин. Правды Стефа рассказать не могла и решила стоять на том, что родные категорически требуют, чтобы она возвращалась в отчий дом. Однако баронесса под влиянием дочки не сдавалась:
— Стефа, ну скажи, что ты шутила, что ты останешься с нами! — умоляла Люция.
— Нет, не стану обещать… Я не шучу. Я должна уехать, должна!
— Тебе у нас так плохо?
Стефа принялась целовать девочку:
— Люци, не говори так, ты мне делаешь больно… Мне у вас было хорошо, очень хорошо, я никогда вас не забуду, но обязана уехать… Я должна вернуться к родителям.
Люция не выдержала:
— Но мы тебя любим, как свою! Стефа, разве ты не чувствуешь себя как дома? И я тебя люблю, и дедушка, и мама. Я по тебе тосковала, как по родной сестре! Стефа, опомнись! Сразу после Рождества мы поедем путешествовать — на Ривьеру, Ниццу, в Рим, в Венецию, будем и в Париже, и в Вене, и в Швейцарии… Стефа, побойся Бога! Неужели тебя с нами там не будет? Я так на это рассчитывала! Я еще не видела тех мест, и, представь, как нам было бы хорошо вдвоем! Стефа, одумайся! Едут и дедушка, и Вальди, а уж если он с нами будет, все пройдет просто великолепно! Стефа! Если ты не поедешь, Вальди тоже останется дома!
Стефа вздрогнула:
— Люци, что ты говоришь!
— Правду. Если ты поедешь, поедет и Вальди. Если ты останешься, он останется. Уж я-то знаю!
Украдкой глянув в заплаканное личико девочки, Стефа увидела на нем тоску и озабоченность.
Значит, даже этот ребенок о чем-то догадывается? Стефа испугалась:
— Я должна уехать, должна!
Но перед ее мысленным взором встали неизвестные страны, моря, горы, огромные города, центры цивилизации, о которых она так мечтала. Она окажется среди всех этих чудес… и рядом будет он! Столько счастья, исполнение самых смелых мечтаний, и все зависит от нее, от ее согласия, ее воли. Губы Стефы улыбались, она готова была уже сказать: «Хорошо, я согласна». Но вдруг, как наяву, увидела перед собой Вальдемара. Его взгляд обжигал. В ушах звучали слова Люции: «Если ты поедешь — поедет и Вальди». Колебания исчезли. Стефа гордо подняла голову и решительно сказала:
— Не могу. Я должна уехать! Я буду писать тебе, дорогая. Будь со мной откровенной, поверяй мне все свои печали и радости. Мне грустно покидать твою молодую душу, столь прекрасно пробудившуюся к жизни, но я обязана, Люци, обязана!
Несколькими днями спустя состоялся званый обед по случаю избрания Вальдемара председателем сельскохозяйственного товарищества. Из Слодковиц на него поехали только пан Мачей, пани Идалия и пан Ксаверий. Стефа с Люцией остались дома.
Под вечер они распорядились запрячь маленькие санки и отправились на прогулку. Стефа сама правила парой серых. Санки неслись по накатанной дороге, снег скрипел под полозьями, летел из-под копыт, рассыпаясь на покрывавшей коней сапфирового цвета сетке. День был ясный, морозный. Стефа забыла на миг о своих печалях и поддалась очарованию прекрасного зимнего дня, весело болтала со своей юной спутницей. Но Люция, надувшись, бросала хмурые взгляды на Стефу и внезапно разразилась громким плачем.
— Люция, что с тобой? Отчего ты плачешь?
— Потому что забыть не могу о твоем скором отъезде! Мне так грустно, а ты веселишься, как ни в чем не бывало…
— Детка, и мне тяжело… ах, как тяжко! Я развеселилась, потому что мир прекрасен… Думаешь, мне весело бросать вас всех? Ох, Люция…
Столько неподдельной печали прозвучало в ее голосе, что девочка глянула на нее с любопытством:
— Почему же ты тогда уезжаешь? Стефа ничего не ответила. Люция покрутила головой:
— Ты от меня что-то скрываешь, Стефа. Не хочешь сказать правду, а я… может, я лучше, чем ты думаешь, угадала причины… И мне так жаль! Я уже знаю, как бывает грустно без тебя — знала бы ты, каково мне было эти три недели… Боже! Удивляюсь, как я не сошла с ума! Когда ты сбежала…
— Люция! — воскликнула Стефа, пытаясь оставаться спокойной. Слово «бегство» неприятно задело ее. — Люци, ты преувеличиваешь…
— Ни капельки! Ты и понятия не имеешь, что за тоска… Сначала, сразу после твоего отъезда — может, ты еще не успела и выехать за ворота — захворал дедушка. У него был жуткий нервный приступ. Вальди на руках отнес его в спальню. Мама перепугалась и тоже захворала. Вальди ходил такой понурый, злой, что я к нему и подойти боялась. Пока дедушка болел, Вальди от него ни на шаг не отходил. Маму он тоже навещал, только редко. А раз говорил с мамой довольно резко. Я сама слышала, как мама сказала: «Сущее детство, стоило помнить и мучиться столько лет…», а Вальди, должно быть, страшно рассердился, потому что сказал: «Тетя, у того, кто так может сказать, нет ни совести, ни сердца!» Я-то уж знаю, о чем они… я много подслушала и подсмотрела. Знаю, из-за чего слег дедушка… но молчу, потому что ты тоже мне ничего не говоришь. Потом, когда дедушка выздоровел, он все время был печальный. А Вальди спрашивал о нем только по телефону, всегда злой… Однажды он приехал после обеда, когда все спали, я увидела его санки, обрыскала весь замок, но его нигде не нашла. И совсем случайно застала… в твоей комнате. Он сидел у окна и держал в руке… угадай, что?
Стефу пронизал трепет. Рассказ девочки пробудил все печали и тяготы ее души.
— Не знаю, — ответила она.
— Твои кораллы.
— Кораллы?
— Да, ты спешила и не убрала их; они остались на столике под зеркалом. Вальди сидел, подперши голову одной рукой, а в другой держал кораллы, играл ими, гладил их, грустно так перебирал… Он так задумался, что не сразу меня заметил. Я видела, он жутко рассердился, что я вошла, но он этого не показал, встал, положил кораллы на столик, поцеловал меня, а потом осмотрел комнату и сказал: «Нужно к приезду панны Стефании украсить цветами ее комнату». Те камелии и белые рододендроны, что у тебя стоят, он приказал принести. А пальму сам поставил у зеркала. Он так разглядывал твои пастели и этюды… а тот большой картон, что ты нарисовала в Глембовичах, — кусочек парка с видом на реку — вообще унес. Такая красивая была картина, мне она самой очень нравилась. Видишь, Стефа, и Вальди скучал по тебе…
Люция замолчала. Стефа сидела тихая, угнетенная и обрадованная одновременно.
Значит, он даже не скрывал своих чувств? Тосковал по ней, бывал в ее комнате, держал ее кораллы, украсил комнату цветами…
Стефа собрала всю силу воли, чтобы не расплакаться от радости, от горечи — тысячи чувств смешались, обуявши ее…
Люция неожиданно спросила:
— Стефа, скажи откровенно, кто симпатичнее: Вальди или Пронтницкий?
Стефу буквально потрясло:
— Люци, не сравнивай Пронтницкого с паном Вальдемаром!
— Но Пронтницкий красивее, если откровенно. Эдмунд симпатичный, как картинка! Но сейчас, когда я о нем и думать забыла, предпочитаю Вальди. У него красота более мужская, великопанская, тебе не кажется? А Эдмунд рядом с ним — просто кукленыш, и все. Будь Вальди мне не родственником, а чужим, я бы по нему с ума сходила! В нем есть что-то такое… как не знаю что! Так может вскружить голову…
Стефа боялась взглянуть на Люцию, чувствуя, как щеки у нее наливаются жаром. Девочка продолжала:
— Вальди способен невероятно нравиться! Стоит посмотреть, как его любят панна Рита и эта ослиха Барская — ей-то казалось: стоит пальчиком поманить — и он рухнет к ее ножкам! Не вышло! А еще в него влюблены и графиня Виземберг, и княжна Криста Турыньская и много еще… Есть такие, что охотятся только за его миллионами, но уж таких-то Вальди сразу раскусывает!
Может, Барская его и любит, но еще больше ей хочется быть пани майоратшей и хозяйкой Глембовичей… а Вальди это понял и вынес ей корзину!
— Люци, но откуда ты можешь знать?! Он ведь тебе не мог похваляться!
— Да это каждый видел! Она к нему так и липла, кокетничала до полной невозможности… а потом ходила, как вареная.
— Ох, Люци, что за выражения…
— А что? Все так и было. Я сама слышала, как Трестка говорил Рите: «Молнии майората поразили мечтания Барской». К чему это еще могло относиться?
— Ну, по таким шуточкам можно безошибочно опознать графа Трестку… Даже не зная, кто это сказал, — засмеялась Стефа.
— Трестка тебе нравится?
— Конечно, он ужасно милый, хоть иногда своими шуточками способен разозлить.
— И он к тебе хорошо относится. Когда приезжал навестить дедушку, спрашивал о тебе, даже чересчур сердечно для него. Но сейчас его нет дома, он поехал в Берлин. Говорит, покупать обручальное кольцо.
— Серьезно?
— Да ну, что ты его не знаешь? Рита его не хочет. Может, и выйдет за него, но не раньше, чем Вальди женится. А это наступит не скоро…
— Почему?
— Ему не так просто будет подыскать себе жену, хоть любая согласна была бы за него пойти. А уж теперь…
Люция, умильно прильнув к Стефе, сказала вдруг:
— Стефа, скажи честно… я так тебя люблю… ну, скажи…
— Что?
— Ты знаешь, что… что Вальди в тебя влюблен?
— О Боже, Люци! Никогда такого не говори! Дай честное слово, что не будешь!
— А я и так никому не скажу, только тебе… Вообще-то и так многие знают… Ты ему давно нравишься, он тебя любит. А ты, Стефа? Быть такого не может, чтобы ты осталась равнодушна! Ты его тоже любишь… ну, скажи!
Стефа поняла, что ее тайна раскрыта, что Люция добивается ответа, и так все зная… Что делать? Ее душили слезы, жалость к Люции и к себе самой. Она молчала, зная, что тем самым подтверждает все.
Вдруг зазвенели бубенцы, заскрипел снег, зафыркали кони, и с их санками поравнялась великолепная упряжка панны Риты. Кучер придержал разгоряченных коней.
Стефа, несказанно обрадованная, тоже натянула вожжи, видя в панне Шелижанской избавительницу.
— Как дела? Как живете? — Рита перегнулась из санок, подавая руку Стефе и Люции. — А я как раз еду в Слодковцы! Хорошо, что вас встретила.
— Мы думали, вы в Глембовичах.
— Я должна была там быть вместе с тетей, но приехали Подгорецкие, и я улизнула…
— Вальди опечалится, — сказала Люция.
— Переживет! — нахмурившись, сердито отрезала панна Рита.
Стефа встряхнула вожжи:
— Возвращаемся? Вы поезжайте впереди, наши кони с вашими тягаться не смогут…
— У меня другая идея: вы обе пересаживайтесь ко мне, а Кароль займется вашими санками.
Лакей, услышав это, живо соскочил с козел.
Стефа уселась рядом с панной Ритой, Люция — на козлах, обернувшись к ним.
Они болтали весело, но что-то словно бы мешало прежней свободе в обращении. Панна Рита сидела скучная, Стефа — опечаленная, даже Люция уныло понурила голову. Когда по просьбе Риты Стефа рассказала ей о поездке в Ручаев, молодая панна не спускала с нее глаз, словно хотела прочесть затаеннейшие ее мысли. Стоило Люции грустно упомянуть о предстоящем отъезде Стефы, панна Рита встрепенулась:
— Как, вы уезжаете? Но почему?!
— Родители настаивают… и я решила не противиться.
Она сказала это столь решительно, что панна Рита и Люция промолчали. Слезы навернулись девочке на глаза.
Панна Шелижанская осталась в Слодковцах на ночь. Вечером они со Стефой играли на бильярде. Люция, заплаканная, сидела у камина в соседнем зале.
Об отъезде Стефы они больше не говорили — панна Рита угадала причину. К тому же она знала от пани Идалии, что Стефа — внучка Корвичувны.
— Знаете, отчего я не поехала в Глембовичи? — говорила Рита. — Оттого, что там будут возглашать здравицы в честь майората, будут курить ему фимиам, а он терпеть этого не может и начнет злиться. Всем этим господам кажется, что они, выбрав его председателем, корону надели ему на голову… Они поступили умно и справедливо, но это вовсе не милость — ему этот пост принадлежит по праву. Он умнее их всех… Выборы не были для него неожиданностью… как и для всех остальных. И все равно заведут длиннющие похвальные речи, начнут поднимать за него тосты, наделают шуму… и тот, кто станет кричать громче всех, наверняка про себя станет исходить от зависти — вновь майорат на виду, а он сам — в тени… Будет считать, что удача слепа, что сам он, с его миллионами и генеалогией, справился бы не хуже… не в силах признаться, что сам он не более чем светский бездельник. Но вслух — о, ничего подобного! Одни здравицы в честь пана Михоровского! И майорат из простой учтивости вынужден будет прилюдно благодарить такого болвана за теплые слова… Слава Богу, майорат не любитель длинных речей, сам он всегда говорит коротко и дельно…
— Но ведь среди пустых болтунов будут и дельные люди — князь Гершторф, молодой граф Мортенский. Их выступления обойдутся без пустой лести. Их приятно послушать, майорату они — настоящие друзья… — она умолкла.
Панна Рита посмотрела на нее:
— Со мной можете говорить откровенно. Я сама не просто друг майорату — я люблю его, не могу равнодушно смотреть на все, что с ним связано… Да, есть еще одна причина, почему меня не будет в Глембовичах, — отсутствие там Трестки.
Стефа, нацелившая было кий, удивленно подняла голову: — Из-за Трестки?
— Вот именно. Вы только не думайте, что я делю сердце меж двоими, о, нет! Просто порой Трестка бывает незаменим, я привыкла, что он меня неотступно сопровождает, и других кавалеров не терплю. Если он со мной, я под защитой, никто другой уже не станет мне надоедать. Исключение я делаю только для майората, но… он относится ко мне, как сама я отношусь к Трестке, без малейшей тени чувств…
— Он очень любит вас и ценит, — живо вмешалась Стефа. Печаль и боль, прозвучавшие в словах панны Риты, наполнили ее сочувствием.
Молодая панна рассмеялась:
— Вы хотите меня утешить? Напрасно… Он любит меня… но больше любит своих коней и Пандура. О да… Знает мои чувства к нему, но из деликатности никогда не намекнет об этом. Я вам повторю, что уже говорила однажды. Этот человек выберет женщину, в точности на него похожую, словно для него созданную, не уступающую ему в красоте, характере, темпераменте… словом, во всем. И это будет ЕГО женщина. Красивейшие женщины мира могут раскинуться к его ногам — простите за банальность… — но ни одна из них не пробудит в нем подлинные чувства, разве что мимолетное кипение крови. Он выберет себе женщину, которую захочет назвать женой, — но только не среди громких имен и прекраснейших партий, не среди титулов; выберет там, где никто и не догадается, и перед такой женщиной я первая готова склонить голову…
Рита замолчала. В тишине только кии стучали о шары — девушки продолжали азартно играть.
Пришла Люция. В какой-то миг Рита, склонившись над зеленым сукном, произнесла словно бы для себя самой, но достаточно громко:
— И я знаю такую женщину… И если я угадала правильно…
Она не закончила. Заговорили о чем-то другом. Люция внимательно посмотрела на Риту, потом на Стефу и медленно, повесив голову, вышла.
Пан Мачей и пани Идалия ночевали в Глембовичах. Вернулись они утром.
Баронесса, пребывавшая в самом лучшем расположении духа, оживленно и во всех подробностях рассказывала, как прошел обед. Пан Ксаверий вставлял свои дополнения, кивал лысой головой, поддакивая:
— Да-да, майорат — человек заслуженный. Дельный, энергичный! Вот только вчера он был не в лучшем настроении…
— Да, порой становился просто язвительным… — подтвердила пани Идалия.
Панна Шелижанская прикусила губы и покосилась на Стефу.
Пан Ксаверий продолжал:
— В последнее время это с ним часто бывает. Вчера он усердно выступал в роли любезного хозяина… но словно бы делая над собой усилие…
Из-под кустистых бровей он посмотрел на серьезное лицо пана Мачея и добавил:
— Пан благодетель, и вы невеселы. Может, плохая новость?
Пан Мачей усмехнулся:
— Заразился от внука…
Обед прошел невесело. Только пани Идалия и пан Ксаверий наперебой болтали о Глембовичах. После обеда панна Рита собралась уезжать.
— Мы, должно быть, расстаемся навсегда, — с болезненной улыбкой сказала ей Стефа.
— Упаси Господи! Я уверена, что Идалька вас не отпустит. Да я к тому же приеду еще, пока вы здесь… в любом случае, не уезжайте, не попрощавшись с моей тетей в Обронном.
— Да, верно! Княгиня всегда была добра ко мне.
— Она вас очень любит, — сказала Рита, сердечно целуя ее.
VIII
Прошел еще один день, столь же печальный и унылый. Стефа паковала вещи. Последний ее разговор с пани Идалией стал решающим.
— Но объясните же мне настоящую причину, — сказала баронесса, явно опечаленная. — Не понимаю вашего упорства. Быть может, вы недовольны Люцией?
— Наоборот, мне невероятно жаль расставаться с ней. Я ее по-настоящему полюбила. Мне жаль покидать вас всех, но я должна… должна.
Пани Идалия посмотрела на нее внимательно:
— Мы собирались ехать за границу, я рассчитывала, что вы не покинете Люцию…
— Вы без труда найдете другую учительницу.
— Какая вы смешная! Мы считаем вас не учительницей, а подругой Люции. Она к вам неслыханно привязалась. У нее, кроме вас, нет больше настоящих подруг. Я вижу в ней значительные перемены, она изменилась к лучшему под вашим влиянием. Ее ум за последнее время развился, и все благодаря вашему интеллекту. Вы не должны нас покидать! — баронесса обняла Стефу и с улыбкой поцеловала ее в лоб: — Стеня, не упирайтесь, мы вас очень любим и без вас будет грустно!
Стефа, чуя ее мимолетную сердечность, хотела также обнять ее, но не осмелилась. От пани Идалии на нее всегда веяло холодком, не смогла Стефа превозмочь этого впечатления и сейчас. Она лишь произнесла:
— Я никогда вас не забуду, стану писать Люции… но я должна уехать! Простите, что я нарушила договор, но… это обязательно.
Пани Эльзоновская посерьезнела:
— А может, все из-за этой… чудной истории моего отца и вашей покойной бабушки? Не стоит об этом вспоминать. Все забыто и похоронено… Смерть пани Рембовской… и присутствие в нашем доме ее внучки произвели на отца сильное впечатление, не спорю. Но теперь отец совершенно успокоился, ему будет не хватать вас. Не собираетесь же вы спасаться бегством из-за какой-то старинной истории?
Стефа горько усмехнулась, она несказанно была огорчена, и это заглушило в ней все иные чувства. Заметив это выражение на ее лице, пани Эльзоновская пытливо глянула на нее.
Стефа опустила глаза. Щеки ее медленно заливал жаркий румянец, губы дрожали. Всей своей фигурой, этим румянцем она, казалось, говорила:
«Именно эта „старинная история“ меня и гонит, я боюсь, как бы умершее не воскресло…»
Они долго сидели, не произнося ни слова. Большие светлые глаза пани Идалии, устремленные на Стефу, сужались и сужались, пока не стали узкими щелочками. Одна ее бровь нервно подергивалась. Баронесса одной рукой играла золотой цепочкой для часов, о чем-то усиленно размышляя.
Стефа медленно, серьезно подняла на нее глаза, блестевшие от затуманивших их слез.
Пани Эльзоновская встала:
— Свое окончательное решение я сообщу вам утром. Вот так, сразу я не могу… понимаете?
Стефа поняла, что ее разгадали. Кровь бросилась ей в лицо.
Мать Люции пожала ей руку — гораздо холоднее, нежели прежде.
Спускаясь по лестнице, Стефа чуточку пошатывалась. В голове у нее шумело.
Она облокотилась на обтянутые бархатом перила:
— Нужно уезжать… уехать… навсегда. Боже! Боже, дай мне силы!
Ее фигура отражалась в огромном зеркале на лестничной площадке. Стефа увидела там свое лицо — неузнаваемо изменившееся, бледное, искаженное болью и тоской, с черными кругами под глазами.
Позади раздались чьи-то шаги.
Она обернулась. Младший лакей бежал вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Следом поспешал Яцентий.
— Что случилось?
— Пан майорат приехал!
Девушка задрожала, сделала движение, словно пытаясь убежать, но ноги отказались ей служить.
Внизу швейцар уже открывал дверь.
Она спустилась на нижнюю ступеньку, когда вошел Валъдемар.
Лицо его моментально прояснилось, он быстро снял шапку и стянул перчатку.
Стефа подала ему руку.
Он молча поднес ее к губам, потом глянул на изменившееся лицо Стефы и нахмурился.
Но она уже исчезла в боковой двери. Вбежала к себе в комнату и, сжав ладонями пылающие щеки, разразилась рыданиями:
— Боже! Господи, спаси меня!
Ее охватила горячка, с ней творилось что-то необычное. Сидя на диванчике у окна, втиснувшись в уголок, она то плакала, то лихорадочно размышляла, довольная, что мать задержала Люцию у себя и она может остаться в полном одиночестве…
Она очнулась, услышав стук в дверь.
— Кто там?
— Это я, Яцентий. Камердинер вошел:
— Пан майорат очень просит паненку прийти в белый салон.
Спазмы перехватили Стефе горло:
— Хорошо, я приду…
С минуту она сидела неподвижно. Потом подошла к окну, прижала разгоряченный лоб к холодному стеклу, вытерла глаза и подбежала к двери.
— Чего он хочет от меня?
Она отшатнулась, так и не выйдя в коридор, щеки ее пылали. Девушка, бесцельно бродя по комнате, заломила руки:
— Боже! Боже, покоя прошу!
Потом распахнула дверь и, не глядя по сторонам, не задерживаясь, побежала в сторону белого салона. Остановилась на пороге, в тени дамастовых портьер, запыхавшаяся, с колотящимся сердцем.
Вальдемар приблизился к ней, горячо сжал ее руки. Не отводя выразительного взгляда от ее пылающих щек, сказал уверенно:
— Перейдем в оранжерею, там нам будет спокойнее. Я хочу вас кое о чем спросить.
Отпустил одну ее руку, другую бережно положил себе на локоть и ласково прикрыл ладонью. Стефа, онемевшая, вся дрожа, не сопротивлялась.
Она чувствовала, что теряет сознание. Его близость и прикосновения наполняли душу неслыханным наслаждением, от которого шла кругом голова. Они вошли в оранжерею, примыкавшую к салону.
Цветущие камелии, рододендроны, прекрасные мирты и кедры, освещенные ярким светом электрических ламп, отбрасывали на вымощенные терракотовыми плитками тропинки шевелящиеся тени.
Вальдемар закрыл за ними дверь и повел Стефу по боковой дорожке, обсаженной камелиями. Сначала они шли молча. Потом он промолвил сердечно, заботливо, склонив к ней голову:
— Вы вправду хотите уехать? Вы все обдумали и решили окончательно?
Стефа обрела дар речи:
— Да, решила твердо и окончательно…
— И когда родилось это решение?
— С ним я вернулась сюда.
— Значит, вы все решили дома, в Ручаеве? — он сильнее сжал руку девушки: — Я догадывался, что последние события окажут на вас сильное влияние… но неужели вы могли подумать, что я позволю вам уехать? Вот так уехать?
Стефа ответила дрожащим голосом:
— Позволять или запрещать может только пани Эльзоновская… но уж никак не вы.
Вальдемар замедлил шаги:
— Тетя может поступать, как ей угодно… Но я… я люблю вас, и отсюда вы можете уехать только моей… невестой.
Он говорил энергично, но чуточку нервно.
Стефа помертвела. Ее бросило в жар. Цветущие камелии закружились перед глазами. Она сжала ладонями щеки:
— Как… вы… вашей…
Вальдемар склонился над ней, его голос звучал теперь мягко, проникновенно:
— Дорогая моя, единственная, я люблю тебя. Разве ты этого не знала? Я хочу, чтобы ты стала моей женой… Ты тоже меня любишь, потому и бежишь… но ты моя, моя!
Счастье бывает порою так велико, что оборачивается страданием. То, что ощущала сейчас Стефа, больше всего напоминало боль. Неожиданные слова Вальдемара наполнили ее душу столь безмерным счастьем, что девушка уже не владела собой. Только большие глаза, осененные длинными ресницами, сиявшие всеми оттенками фиалкового, не отрывались от глаз Вальдемара с немой просьбой, жалобной мольбой, словно девушка хотела сказать:
— Не мучай меня! Не искушай!
Пылающий взор Вальдемара опалял ее, ласкал, целовал. Крепко сжав ее руку, склонившись к ней, майорат шептал:
— Я схожу с ума, слышишь? Ты должна быть моей, ты будешь моею… Ты любишь меня, я знаю!
Внезапным движением Стефа вырвала руку.
Могучая волна счастья, шалый водоворот радости ураганом закружили ее. Огненный румянец залил щеки. Она, сжав ладонями виски, жадно хватая воздух пересохшими губами, воскликнула идущим от самого сердца голосом, словно благодаря силы небесные:
— Боже! Боже! Боже!
Вальдемар, совершенно уже не владевший собой, схватил ее в объятия, глаза его горели.
Но в тот же самый миг словно молния вспыхнула перед Стефой: перед глазами ее возник снежевский сад, белоснежная фигурка ее бабушки в объятиях юного улана… Непреодолимая сила оторвала ее от груди Вальдемара, прежде чем девушка успела склонить на нее закружившуюся головку, упоенную счастьем.
Вальдемар, пораженный, вновь схватил ее руки, сжал, словно в тисках:
— Что с тобой?
— Я вас… не люблю… никогда не любила… нет! нет! — вскрикнула Стефа глухим, изменившимся голосом.
— Что с тобой? Очнись! Что ты такое говоришь?!
— Я не люблю вас! Вы мне не нужны!
— Ложь! — крикнул Вальдемар. — Ты любишь меня и будешь моей!
— Никогда!
Она вся дрожала, грудь ее судорожно вздымалась, глаза горели.
Вальдемар был страшен. Уже не владея собой, он так стиснул ее запястья, что девушка крикнула от боли. Глаза его, ставшие почти черными, уперлись в лицо Стефы, он прохрипел:
— Ты должна стать моей! Я так хочу!
Из уст Стефы раздался нервный смех, словно бы стон пытаемого мученика. Глянув ему в глаза взглядом смертельно раненного человека, она спросила:
— Сейчас ты так хочешь… а что будет потом? Вся трагедия покойной бабушки прозвучала в этих словах.
Стефа резким движением высвободила руки и отскочила от него. Остановилась перед ним, гордая, уверенная в своем превосходстве, но потрясенная до глубины души. Страшным усилием воли она заставила себя успокоиться, а свой голос — звучать хладнокровно:
— Я не люблю вас… забудьте обо мне.
Она отвернулась и пошла к двери, с лицом, искаженным болью, но с гордо поднятой головой. Лишь оказавшись в белом салоне, она заломила руки в несказанной печали и побежала к себе. Упала перед постелью на колени. Рыдания рванулись из ее груди.
— Кончено! Все кончено! — простонала она сквозь слезы.
Вальдемар остался в оранжерее, словно пригвожденный к земле. Восклицание Стефы сказало ему все — она, несомненно, вспомнила о бабушке и пане Мачее. Последним же словам Стефы он ничуть не поверил, наоборот, то, как они были произнесены, убедило Вальдемара, что девушка любит его по-прежнему. В глазах у него сверкнуло торжество, он прошептал уважительно:
— Как она горда!
Стоял, глядя на колыхавшиеся ветви камелий, задетые убегавшей Стефой, и на лицо его медленно возвращалось спокойствие, приступ безумия минул.
Добрая ласковая улыбка озарила его лицо:
— Что бы ни произошло, я люблю ее… и она станет моей!
Он прошелся по тропинке. Стефа стояла у него перед глазами, вся его душа была полна ею.
— Но если…
Он вспомнил о родных. Его родные наверняка решительно воспротивятся. Что тогда?
Огонь засветился в его глазах, брови грозно нахмурились, и он яростно бросил:
— Посмотрим!..
IX
После страшного взрыва рыданий стоявшая на коленях Стефа осела, распростерлась на полу, не отрывая взгляда от солнечного света, ясной, трепещущей полосой пересекавшего комнату. Пылинки, оказавшиеся на его пути, вспыхивали ярко, нежно. Глаза Стефы, хотя и заплаканные, пылали, лучились охватившей душу безоглядной любовью. На место болезненной улыбки пришел беззвучный крик происходившего в душе разлада. Стефа собрала все свои силы, чтобы бороться и преодолеть себя, но оказалась слишком слаба, чтобы справиться с собственной душой. Ее любовь, трагическая, глубокая и неподдельная, зажгла сердце, как молния зажигает могучий лесной пожар; любовь эта увлекла ее ум и душу. Пожар величайшего чувства потряс все существо девушки…
Длившееся всего миг объятие Вальдемара отзывалось в каждой жилке ее тела. До сих пор Стефа ощущала на себе его руки, сомкнувшиеся на талии стальным обручем, ощущала жаркое его дыхание у своей щеки.
Откуда эта сила, нечеловеческая мощь, вырвавшие ее из-под титанической власти любимого? Причиной всему — печальный образ из прошлого…
Стефа застонала, из уст ее вырвалась раздиравшая сердце мольба:
— Я люблю его до безумия, до беспамятства! Хочу быть его рабыней!
Она вцепилась зубами в платочек, чтобы не стонать от боли.
— Я люблю его! Вальди! Вальди, господин мой!
Она трепетала, распростершись на полу, но страшная правда грубо ворвалась в ее мечты, словно удар обухом, отрезвила. Она приподнялась, стоя на коленях, оперлась о край постели, почувствовала, как неизбежность гасит в ней приступ любовного безумия, как покрывается льдом остывающая кровь и проникает в мозг медленным, болезненным кружением острых снежинок: «Не могу, нельзя! Нужно уехать!»
— Я должна уехать! — вскрикнула она, вставая. Но тут же пошатнулась и упала на постель, спрятав лицо в подушку:
— А он? Он любит, он сходит с ума! Как же он?! Бежать, бежать! Он забудет… все пройдет…
Но она сама не верила тому, что говорила. Но все равно — нужно бежать, исчезнуть с глаз всех этих людей, чтобы и след растаял, бежать от любимого, чтобы не видеть его больше, его взгляда, его рук, его губ. Он хочет жениться на ней, полностью отдавая себе отчет в своих мыслях и чувствах, дать ей свою фамилию — но она не может принять этого дара!
Стефа понимала, что прекрасный дворец счастья с Вальдемаром — не для нее, что она должна собственными руками убить мечты, пусть даже душа ее после этого умрет навсегда. Она страшилась нового разговора с ним, его глаз, голоса, слов, прикосновения рук. Одно воспоминание о его пылающих губах мучило девушку. Она крепко сжала веки, чтобы избавиться от взгляда его любящих глаз. Стефе казалось: задержи он ее в объятьях на миг дольше, она безраздельно принадлежала бы ему… коснись ее губ его губы, она потеряла бы сознание от сладкого, упоительного бессилия…
И этот золотой, лазурный сон она убьет собственноручно — все бесповоротно закончится, скрывшись за варварской стеной, невозможностью для них быть вместе. Ужасные щупальца несчастья грозно и неумолимо протянулись к Стефе, убивая в ней жизнь. «Высший круг», где вращался майорат, словно гидра, пил кровь девушки присосками чар. Впереди гибель… но нет, она спасется, вырвется из их щупалец, пусть даже израненная, почти мертвая, в совершеннейшем духовном упадке, полностью потерявшая волю к жизни. Она станет деревом, камнем, мертвой материей, лишенной духа и рассудка. Признание Вальдемара в любви стало последним щупальцем гидры, высосавшим кровь из сердца. Она поплетется отсюда бесприютным странником, жертвой, направляясь к трагической пропасти печали — только бы подальше от этого сияющего великолепия, от очарования, которое убивает! В большой мир! Черный, ужасный… Покинуть этот Эдем, ставшим адом, где в каждом уголке гремит сатанинский хохот иронии. Зажмуриться и бежать без оглядки, без раздумий, без сожалений…
— Но смогу ли я? Хватит ли сил?
Девушка изнемогала, словно привязанная к пыточному станку, но как она ни пыталась сохранить холодную волю, серые глаза Вальдемара властно смотрели на нее, его губы пылали, погружая в трепет, его голос, звучавший любовью и настойчивостью, не умолкал в ушах:
— Я без ума от тебя! Слышишь? Ты должна быть моей, ты будешь моей. Ты тоже любишь меня, я знаю.
Он знает! И не отпустит ее. В его глазах молнии, губы, словно кинжалы:
— Ты должна стать моей, я так хочу!
В нем — могущество, неодолимый ураган.
— Принадлежать ему! Боже, покарай меня за эти стремления! — молила Стефа.
Временами решимость ее слабела, тихая надежда овладевала тогда душою. Словно во сне, ей грезилось, что Вальдемар стоит рядом, что ее ладонь касается его щеки, что он шепчет ей ласковые слова. Она доверчиво склоняет головку ему на грудь, невероятно счастливая; его поцелуи горят на ее губах; жаркие прикосновения его нетерпеливых губ одурманивают ее словно бы сладким ядом… В безграничном упоении она лишается сознания, падая в пылающую бездну неизъяснимого блаженства.
Что это… смерть? Стефа дрожит, не в силах поднять голову, открыть глаза, пытается укрыться в беспамятстве, насыщенном сладкими запахами зачарованных цветов мечтания…
Тихий стук в дверь.
Мир! Окружающий мир призывает ее.
«Не открою! — думает Стефа. — Никто не имеет права вторгаться в золотые мечтания о нем, никто!»
И вновь заливается слезами.
Стук в дверь повторяется. Зорко бдящая Действительность пришла за своей жертвой. Занавес опускается со зловещим шелестом, скрывая от глаз прекрасные мечтания. Чары развеялись, все пропало.
Стефа не подошла к двери, она шептала, зажимая ладонями лицо:
— Боже! Боже, дай мне силы, дай упорство!
И словно одеревенела вдруг, окаменев с заломленными руками. Слезы застыли страданием, пронзительный холод заморозил кровь в ее жилах, душил ее петлей холодных, безжалостных истин. Словно увядшие от холодного прикосновения Смерти, в ней умирали всякие чувства, мозг становился куском льда. Стефа стала холодным камнем.
Глаза Вальдемара, упрямые, волевые, безжалостные, стояли перед ней, словно ограда, окружавшая разрушенные пространства и мрачные могилы, ставшие приютом ее души.
Через два часа стук в дверь возобновился, тихий, прерываемый рыданиями голос шептал умоляюще. Когда Стефа, будучи в полубессознательном состоянии, отворила, в комнату вбежала Люция и с громким плачем бросилась ей на шею.
Что-то произошло в замке; никто ничего не знал, но даже слуги догадывались — что-то нехорошее творится… К ужину не вышел никто. Пан Мачей после короткой беседы с майоратом заперся в своем кабинете. Майорат, правда, принял управителя Клеча, но разговор их длился недолго. Выходя, Клеч шепотом спросил ловчего Юра:
— Да что с майоратом приключилось?
Спрошенный развел ручищами:
— Да что вы меня, дурака, спрашиваете… Случилось что-то, вот вам и вся правда…
И он тихонько, с таинственной физиономией поведал, что со старым паном еще хуже, что пани баронесса все бегает взад-вперед по своему будуару — Анетка проболталась, ее горничная, а паненка баронесса едва достучалась в комнату панны Стефании, и теперь там обе плачут, но дверь заперта, и Анетка ничего больше не знает.
Клеч покачал головой:
— Что-то будет…
И отошел, погруженный в раздумья. Он вспоминал: еще после первого отъезда панны Рудецкой замок будто громом поразило…
На другой день Стефа объявила, что вечером уезжает.
Никто ей не перечил. Даже Люция, опухшая от слез, не покидавшая комнату подруги. Стефа написала короткое сердечное письмо панне Рите, прощаясь с ней и прося от ее имени передать наилучшие пожелания княгине Подгорецкой. В одиночестве она обошла сад и парк, заходила и в лес. Упав на колени в глубоком снегу, она долго молилась перед образком Богородицы, который еще в мае повесила на могучем грабе. Хотела забрать его с собой, но потом передумала:
— Пусть остается здесь, как память обо мне…
К ужину, как и вчера, никто не притронулся. Все были угнетены, даже — невероятная вещь! — пан Ксаверий лишился аппетита.
Вальдемар решительно отодвигал все подаваемые ему тарелки, выпив лишь пару бокалов бургундского. Он выглядел совершенно спокойным, был холоден, даже не смотрел на Стефу.
А она сидела как мертвая. Взгляд ее блуждал по залу — она прощалась с портретами, фресками, скульптурами. Дрожь пробегала по ее телу, холодная, конвульсивная. Она была бледна, только глаза горели огнем, прорывавшимся наружу пламенем души, только губы горели внутренним жаром. Шум в голове оглушал ее, сердце колотилось.
«Уезжаю, уезжаю навсегда! — с диким упорством повторяла она мысленно. — Это ужасно!»
Перед глазами ее проплывали проведенные в Слодковцах долгие недели — первые, весьма неприятные дни, веселое лето, исполненная очарования осень…
— Глембовичи! Ах, Глембовичи! Я никогда их больше не увижу…
Выставка, охота, костюмированный бал, все дорогие сердцу воспоминания проплывали перед мысленным взором, словно насмешки ради…
Потом она увидела, как будут тянуться дни без нее. Те же самые люди сядут утром за стол, только уже без нее. Ничего не изменится. Вальдемар будет бывать здесь, как встарь. Весной зацветут сирень, нарциссы и множество ирисов на газонах. В лесу запоет соловей. Над озером будут носиться ласточки, веселый крик кукушки эхом разнесется в парке. Но в Ручаеве она ничего этого не услышит.
И вдруг родная деревня представилась Стефе неизмеримо далекой, укутанной серым туманом, пропавшей в бесконечности.
И наоборот, Слодковцы и Глембовичи были для нее золотым царством, гаснущим навсегда.
В сердце ее вновь проснулась печаль: зачем она отказала Вальдемару? Он ее любит! Зачем она бедственными руками уничтожила свое счастье? Зачем? Из-за канувшей в прошлое истории бабушки? Зачем разум остановил порыв ее сердца?
«Что такое рассудок, что такое холодный разум? — подумала она. — Крылатый дух, реющий над нами? Мы не видим его, но ощущаем дыхание и направляющую руку…»
Разыгравшееся воображение Стефы представило ей разум в виде седобородого старичка, держащего доску с правилами, которым должны следовать люди, словно пророк Моисей, спускающийся с горы Синай с Божьими заповедями. Когда прекрасный божок очарования, упоения и искушений манит красой своей улыбки, старичок-разум поднимает к глазам человека доску с напоминанием о его обязанностях и указанием пути, по которому следует шагать; смотрит благожелательно, но непреклонно.
И побеждает любые порывы сердца. Бороться со старичком трудно, почти невозможно — он не убеждает, попросту притягивает к себе, как магнит железо. Он весьма учтив, но, последовав за ним, приходится скинуть яркие веселые одежды и облачиться в те, что предложит он; и всякий, удаляясь вслед за старичком, с горечью оглянется на покинутый Эдем: «Как там было прекрасно…» Стефа задрожала:
— Так оглянусь и я, так воскликну и я… Рыдания охватили ее. Борясь с ними, она закашлялась, но слезы навернулись ей на глаза.
Вальдемар молниеносно бросил на нее взгляд, лицо его отражало нелегкую внутреннюю борьбу. Он первым дал знак вставать из-за стола, и на сей раз пани Идалия ничуть не возмутилась столь явным нарушением этикета и ее прав хозяйки дома.
Прощание было недолгим. Баронесса тепло расцеловала Стефу:
— Стеня, пиши Люции как можно чаще! Ты ее буквально осиротила… Прощай! Я очень тебя любила, поверь…
Охваченная жалостью, Стефа бросилась в объятия пана Мачея, когда старик склонил перед ней седую голову. Вальдемар отвел глаза — волнение перехватило ему дыхание. Он иронически смотрел на нежности, расточаемые Стефе пани Идалией, но прощание Стефы с паном Мачеем потрясло его по-настоящему.
«Ты вернешься сюда моей или я умру», — повторял он себе.
Люция с душераздирающим плачем упала в объятия Стефы, и обе разрыдались: Стефа — тихо, Люция — во весь голос. Пан Ксаверий вытирал платком нос и, растроганный, всхлипнул.
— Скучно нам будет без вас, — сказал он, целуя Стефе руку.
— Стефа! Золотая моя! Единственная! — рыдала Люция.
Вальдемар решительно напомнил девочке, что Стефе пора ехать.
Стефу это неприятно задело: «Почему он меня прямо-таки выгоняет?!»
В боковом салоне ожидал управитель Клеч, распрощавшийся со Стефой крайне почтительно. Видя это, Вальдемар благожелательно посмотрел на него.
В обширной прихожей ждала неожиданность, потрясшая всех, даже пани Идалию. Там выстроились в ряд лакеи и камердинеры с Яцентием и Францишком во главе, дворецкий, экономка, панна горничная Анетка, младшие горничные и повар в своем белом колпаке. Все наперебой бросились прощаться со Стефой, целуя ей руки. Старый Яцентий, как всегда, бурчал что-то неразборчивое, на сей раз означавшее в его устах печаль и сожаление. Стефа едва сдержала слезы, только губы у нее дрожали, когда она прощалась со слугами.
Вальдемар помог ей надеть меховой жакет. Когда она пришпиливала к волосам меховую шапочку, с удивлением увидела, что и Вальдемар набрасывает меховой плащ.
Ее обуяло беспокойство.
— Зачем ты одеваешься? — спросила пани Идалия.
— Провожу панну Стефанию на станцию, — сухо ответил он.
Все сделали большие глаза. Пани Идалия поджала губы, пан Мачей отступил на шаг.
Стефа торопливо сказала Вальдемару по-французски:
— Прошу вас, не делайте этого. Я прекрасно доберусь сама. Вы меня очень огорчите, если…
Она произнесла это столь откровенно, столь недвусмысленная мольба читалась в ее глазах, что пан Мачей и пани Идалия были несказанно удивлены.
Однако Вальдемар, словно не слыша, спокойно и решительно подал ей руку:
— Поторопитесь, чтобы не опоздать на поезд…
— Оставайтесь! Умоляю вас… я… я не хочу, чтобы вы ехали!
— Не устраивайте сцен на глазах у слуг, — чуть раздраженно ответил он.
Стефа умоляюще огляделась. Ехать вместе с ним казалось ей страшным.
Заметив ее беспокойство, пан Мачей протянул к ней руки:
— Стеня, не спорь… пусть Вальди тебя проводит… так будет безопаснее…
В случае необходимости старик умел быть дипломатом.
Еще немного печального прощания, слез Люции — и Вальдемар вывел Стефу на крыльцо. Там с ней попрощались старший конюх Бенедикт и его подчиненные. Старый садовник печально кивал головой, стряхивая с седых усов слезинки.
Все горевали о ее отъезде, каждый по-своему это выражая.
У крыльца стояли карета и глембовический выезд. Бруно удивленно смотрел на Стефу, явно не понимая, почему она уезжает столь внезапно и провожать ее отправляется сам майорат. Юр, наоборот, величественно выпрямившись в тяжеленной меховой шубе, состроил весьма загадочную физиономию.
Вальдемар подсадил Стефу в карету, учтиво пожал руку Клечу и, садясь вслед за Стефой, бросил кучеру:
— Трогай, живо!
Юр захлопнул за ними дверцу и быстро запрыгнул на козлы.
Карета покатила по белой скользкой дороге, бубенцы громко зазвенели.
Стефа, забившись в уголок, сидела тихонько, сдерживая даже дыхание. Они проехали в ворота, свернули, и Стефа увидела сзади особняк, белый, изящный, сверкающий в лунном свете оцинкованной крышей и рядами освещенных окон.
Все это она видит в последний раз!
Слезы навернулись ей на глаза. Она жалобно заплакала, не стыдясь уже Вальдемара.
Вальдемар нежно взял ее руку, молча лаская в ладонях, стал медленно снимать рукавичку.
Стефа вздрогнула, но не убрала руку. Вернее, не смогла убрать — так крепко он держал.
— Успокойтесь… успокойтесь, прошу вас, — повторял он мягко.
— Зачем вы поехали со мной? Зачем вы меня мучаете? Зачем? — расплакалась Стефа.
— Не стоит об этом, дорогая. Разве я мог отпустить тебя, не поговорив… совсем по другому, не так, как тогда в оранжерее? Лучшая моя, я пытаюсь тебя уговорить…
Стефа беспокойно шевельнулась. Его сердечный, нежный голос, его слова, тон — все действовало на нее одурманивающее. Девушка поняла, что он приобрел власть над ней. Он ласкал, целовал ее пальчики; это отнимало всякую волю к сопротивлению, но она все же попыталась обороняться:
— Оставьте меня в покое. Я уеду, и все кончится. Так и должно быть. Доставьте мне это одолжение…
— Стефа, поговорим серьезно… и прежде всего — спокойно. Я знаю, в чем главная причина. Ты не можешь забыть о покойной бабушке и ее драме. Не спорю, это может вызвать весьма печальные сопоставления… Но ты не имеешь на них права — минувшая драма не может повториться. Я давно люблю тебя, люблю всей душой. Я проверил свои чувства — это не каприз, не минутная блажь, мне уже давно не двадцать лет… Я серьезно проанализировал все и пришел к выводу, что чувства мои самые серьезные, неподдельные. Я много раз влюблялся… но это было совсем иное! Это как раз и была минутная блажь, легкие романы, каких у каждого из нас — дюжины. Но я не встречал еще женщины, способной полностью и безраздельно завладеть моей душой. Ты первая пробудила во мне совершенно иные чувства — до сих пор я руководствовался лишь порывами… Я не просто жажду тебя, я безмерно люблю. Признаюсь, сначала мои побуждения были не столь благородными… При первой же встрече ты заинтересовала меня, ты была в моем вкусе, я хотел добиться тебя, но — совсем в ином качестве… Хотел, чтобы ты отдалась сама, был избалован жизнью и победами. Видя, что мне тебя не победить, стал злиться, язвить над тобой… А порой я тебя ненавидел, ты меня приводила в ярость. Видишь, единственная моя, я ничего не хочу скрывать…
Он взял другую ее руку и горячо прижал к губам обе. Стефа сидела, словно во сне. Он продолжал тихо, решительно:
— И ты усыпила во мне зверя, я стал смотреть на тебя иными глазами. Удивлялся твоей неприступности и благородной гордости. Уважал тебя, чтил. А ты оставалась прекрасной, невероятно грациозной в каждом движении, я находил в тебе столько достоинств, ты, сама о том не ведая, завоевывала мое сердце… И я полюбил тебя! Теперь ты моя, потому что и ты меня любишь. Не перечь, не надо, я все знаю! Ты пыталась бороться, но это сильнее тебя! Я удивился вчера, с какой горечью ты бросила мне в лицо, что вовсе не любишь меня — я же знал, что любишь… И ты хотела, чтобы после твоего вчерашнего отказа я перестал бороться? Я обрел тебя, чтобы тут же потерять?! Такому не бывать! Расстаться с тобой навсегда из-за твоей минутной горячности, минутных страхов, вызванных прошлым? Знай я, что ты ко мне совершенно равнодушна, я и тогда шел бы к цели с надеждой, что завоюю тебя. И уж тем более не могу отступать теперь, зная, что ты любишь меня! Ты плохо знаешь меня, единственная… Ты будешь моей женой, ибо я жажду разделить с тобой счастье…
Стефа слушала в упоении, с незнакомым ей доселе наслаждением. Он любил ее и говорил это спокойно, серьезно, все обдумав, совсем не так, как вчера, в сущем безумии. Взгляд его покорял, горячил кровь. Майорат вдруг притянул ее к себе и зашептал:
— Единственная моя, драгоценная, не упирайся, не перечь, ты любишь меня… скажи это… я жажду это услышать!
Стефа чувствовала, что слабеет. Слишком сильно она любила, чтобы теперь сопротивляться. Его чувства, его звучавший неподдельной любовью голос дурманили ее. Она не смогла сопротивляться даже тогда, когда он нежно обнял ее, притянул к себе и бережно привлек ее голову к груди.
Стефа совершенно не владела собой.
Сдвинув ее шапочку, Вальдемар погрузил лицо в ее пушистые волосы, сам будучи на седьмом небе от счастья, шептал:
— Счастье мое! Скажи, что любишь!
Она прильнула к его груди, счастливая, почти потерявшая сознание от нежности.
— Люблю… да… люблю… — прошептала она.
— Моя! Моя…
Он покрывал поцелуями ее губы, глаза, волосы.
Нескончаемая прелесть очарования, неземного упоения окутала их. Такие минуты заключают в себе все прекрасное, что только может сотворить мир, и это упоение духа, сливаясь со страстью, возносит на небывалые вершины любви и преданности.
Минуты эти чересчур прекрасны, чтобы быть сотворенными неразумной силой; они, несомненно, созданы ангелами.
Вальдемар, лаская прильнувшую к нему Стефу, шептал нежные слова любви: наконец она была в его объятиях, желанная, единственная…
— Моя навеки… жена моя… — повторял он.
Но Стефа вздрогнула вдруг и произнесла безмерно грустным голосом:
— Я люблю вас больше жизни… но никогда не стану вашей женой.
— Что ты говоришь, единственная? Почему?!
— Это невозможно! Вы — магнат, а это… вы не для меня!
— О Боже, дорогая, не нужно вспоминать об этом! Мы любим друг друга — и этого довольно, это все и решает! Ты моя, и я никому не позволю отобрать тебя у меня. Никто не посмеет запретить нам стать счастливыми, уж я позабочусь! Мой дедушка когда-то говорил то же самое, но ему было на десять лет меньше, чем мне сейчас, он больше поддавался влиянию родных. А может, был попросту слабее? Любимая, отбрось эти мысли, верь мне, и я тебя не подведу. Ты только верь в счастье — и будешь счастлива.
Стефа высвободилась из его объятий:
— Я — ваша жена? Возможно ли? Нет, в такое счастье я не могу поверить!
Вальдемар вновь привлек ее к себе, лучась улыбкой:
— Увидишь, единственная моя! Увидишь! Я смету, растопчу все и вся, что только встанет на пути, лишь бы завоевать тебя!
— Но я не хочу стать позором вашей семьи! Вас станут донимать издевками! Я люблю вас и не хочу для вас такого будущего. Я и так чересчур долго прожила среди вас. Я люблю вас давно… о Боже, почему я не бежала раньше? Я жила, как во сне… а теперь поздно все забыть!
И она вновь расплакалась.
— Успокойся, любовь моя! — прижал ее к груди Вальдемар. — Стефа, золотая моя, ты не должна так говорить, если любишь меня. Ты станешь моей женой, которую все обязаны будут уважать, будешь Михоровской, супругой майората, и на этой вершине тебе ничто не грозит. Я уверен, что открыто смеяться над тобой не посмеет никто, а шепотки по углам не должны нас заботить. Дорогая, я умру, но не оставлю тебя! Верь мне!
Он прильнул губами к ее губам. Его усы щекотали ей щеку, горячее дыхание одурманивало:
— Повторяю, любимая: твой Вальди тебя не подведет, если доверишься ему всецело. Настанет время… я приеду в Ручаев и заберу тебя. И ты сама подашь мне тогда руку, чтобы навсегда связать наши судьбы. Я жажду, чтобы ты была счастлива, и, чтобы жизни наши не были сломаны, я смету все преграды! С этого мига мы — жених и невеста! Мы — нареченные, не беспокойся ни о чем!
Они подъезжали к станции. Протяжный свист локомотива нарушил их грезы. Карета остановилась, поезд стоял уже на станции.
Болтовня, суматоха, суета.
Майорат отправил телеграмму в Ручаев и проводил Стефу в купе. Вещами занимался Юр. До отправления поезда оставалось еще несколько минут.
Стефу трясло, словно в лихорадке. Вальдемар сжал ее руку:
— До свидания, любимая! Жди меня в Ручаеве и верь. Ты — моя единственная, и я сделаю все, чтобы мы были счастливы!
Раздался третий звонок. Стефа глухо вскрикнула.
Вальдемар схватил ее в объятия и горячо расцеловал заплаканные глаза. Лицо его было крайне озабоченным, брови хмурились, губы дрожали:
— До свидания, милая, до свидания!
Стефа вырвалась из его объятий — в купе вошла пожилая, величественная дама. Вальдемар быстро глянул в ее симпатичное лицо — он где-то уже видел ее, она жила где-то неподалеку от Обронного. И поклонился исключительно галантно:
— Поручаю опеке пани мою невесту. Я — майорат Михоровский.
Она несказанно удивилась, но тут же с улыбкой протянула ему руку, представилась и заверила:
— Можете быть спокойны, пан майорат. Мы с панной едем в те же края, я о ней позабочусь до самой ее станции.
Вальдемар поблагодарил, пожал руку Стефе и выскочил из вагона.
Поезд тронулся.
Майорат, шагая рядом с окном, за которым виднелось личико Стефы, снял меховую шапку и громко говорил нежные слова прощания, пока поезд не вырвался со станции. Он быстро мчался по освещенным луной голубовато-белым пространствам, грохоча, уволакивая за собой полосу дыма.
Дойдя до водонапорной башни, Вальдемар остановился и смотрел вдаль, на отдалявшиеся быстро красные огни, напрягая слух, ловил удалявшийся стук колес, и лицо его украшала удивительно трогательная улыбка.
Он стоял так, пока красные огни и ставшая крохотной черная черточка поезда не исчезли окончательно в лунном свете. Потом вернулся на станцию.
— А теперь — в битву! — бросил он.
В буфете его встретил поклоном начальник станции:
— Прошу прощения, пан майорат, я не успел раньше засвидетельствовать мое нижайшее почтение… Это панна Рудецкая уехала, не правда ли?
— Да, пан начальник, это моя невеста отбыла к родителям.
— О-о-о…
Начальник станции так удивился, что не смог произнести ни слова, даже не поздравил майората.
Но Вальдемар не дал ему времени опомниться, тут же откланявшись.
Оказавшийся поблизости ловчий Юр, услышав ошеломляющую новость, тоже онемел.
— Подавай карету! — сказал ему Вальдемар.
— В Слодковцы едем? — спросил Юр.
— Нет, в Глембовичи.
Карета тронулась.
Вальдемар снял шапку и распахнул меховой плащ.
XI
В Обронном в своем кабинете задумчиво сидела княгиня Подгорецкая. Все ее окружавшее как нельзя лучше соответствовало властной и величественной хозяйке. Исполненная мрачных тонов комната, обитая темным дамастом, напоминала комнаты польских матрон старых времен.
Длинное фортепиано из красного дерева, покрытое парчовым покрывалом, тяжелая мебель, занавеси на окнах из старинных кружев, несколько потемневших от времени портретов довершали картину. У окна стоял огромный разросшийся фикус, пониже — два могучих кактуса. Высокие гданьские часы в резном футляре тикали размеренно, чинно. Напротив, «подколеночки»[86] висел большой портрет молодой красивой женщины в белом платье, украшенной драгоценностями. На коленях у нее сидел двухлетний мальчик в бархатном костюмчике с кружевами. Это была дочь княгини, Эльжбета Янушева Михоровская, майоратша глембовическая, с сыном Вальдемаром. У ребенка были длинные локоны, а личико казалось не столько красивым, сколько выразительным. По сторонам портрета висели два других. Один изображал покойного майората Януша, другой — нынешнего майората Вальдемара. Чертами лица Януш был подлинный Михоровский, но глаза у него были матери-француженки: большие, черные, пламенные, похожие на глаза пани Идалии, только больше и милее во взгляде; лицо его было красивым и благородным. Вальдемар, запечатленный в год, когда он принимал майоратство, смотрел серыми глазами с проказливой усмешкой. Изгиб бровей и кое-какие черточки лица указывали на неутомимую энергию.
Княгиня сидела на старомодной софе за округлым столом, заваленным множеством вещей, предназначенных для подарков детям бедняков на Рождество. Там были платья, курточки, вязаные шапочки для младенцев, красные штанишки, платочки и четки. Рядом с игрушками и лакомствами лежали башмачки и шерстяные туфельки.
Княгиня, в черном строгом платье, перебирала белыми руками подарки, деля их на кучки. Ее компаньонка, немолодая женщина, пани Добжиньская, суетилась, поднося на переполненный стол все новые вещи.
Очнувшись от задумчивости, княгиня с непонятным выражением на лице посматривала на портрет Вальдемара.
С некоторых пор внук ее очень беспокоил — княгиня обнаружила в нем большие перемены. В последний раз, на званом обеде в Глембовичах, княгиня попросту испугалась…
— Что с ним? Что его гнетет? — спрашивала она себя.
Все ее удивляли: и пан Мачей, и обычно веселая, остроумная Рита, сидевшая теперь в глубокой задумчивости посреди шумного веселья. Княгиня явственно рассмотрела, как несколько раз на ее щеках появлялись слезинки.
«Что же с ними со всеми творится?!» — гадала старушка.
Занятая работой, она ожидала возвращения Риты, которая, получив письмо от Стефы, тут же помчалась в Слодковцы. Внезапный отъезд Стефы озадачил княгиню… но еще более ее поразило лицо прочитавшей письмо.
Рита побледнела тогда, как полотно, и, прикусив губы, прошептала:
— Боже, какая у этой девушки твердость духа! Княгиня так и не дозналась, что эти слова должны означать, но с тех самых пор образ Стефы назойливо стал занимать ее беспокойные раздумья. И княгиня усиленно занималась приготовлениями к Рождеству, пытаясь заглушить в себе все недобрые предчувствия.
— Добжися, ты так и не сказала — двое детей той работницы приняты в приют в Глембовичах или нет?
Пани Добжиньская кивнула:
— Майорат велел их принять. А как же! У них теперь, как у всех, и кроватки, и чашки-ложечки.
— Но помни, мы договорились с майоратом, что одежду детям даем мы!
— У них уже есть новая, на праздник. А пока они ходят в старой, она еще хорошая. Пан майорат очень заботится о приюте. Женщин, что присматривают за детками, он подобрал хороших, и пани заведующая — весьма достойная особа. Приют и школа полны, но вот приют для стариков пустует…
— Почему?
— Потому что никто из старых бродяг не хочет бросать своего ремесла. Говорят, что лучше просить подаяние, чем иметь постоянную крышу над головой, хорошую еду и какое-никакое занятие. Придут, переночуют, поедят, поспят — и уходят опять бродить по свету. Я говорила пану майорату: к чему их так голубить, если они предпочитают нищенствовать? Но у пана майората золотое сердце…
— Что он сказал?
— Да вот так и сказал: «Дорогая моя пани Добрыся, так уж обстоят дела: ты либо нищий, либо нет. Эти, видимо, своего рода спортсмены, которые без любимого занятия не проживут. Трудно им это запрещать, могут заболеть от тоски по нищенству. Пусть уж лучше хоть едят да спят у нас, чем ночевать по канавам».
На лице княгини промелькнула улыбка. Пани Добжиньская продолжала:
— Живет там лишь горсточка мохом поросших старичков и старушек, из семей фабричных рабочих и пожарных. Щиплют себе перо для подушек или дремлют у печки. Пан майорат называет их комнаты «дворцом инвалидов».
Княгиня вновь глянула на портрет Вальдемара, шепнула с улыбкой:
— Милый, добрый мальчик…
— Пани княгиня, а не думаете ли вы, что с майоратом что-то не так? Он вроде и не больной, а все равно сам не свой. Пора ему жениться, вот что я вам скажу! Сколько можно тратить впустую молодые годы?
Княгиня ничего не ответила, лишь вздохнула. Но болтушка пани Добжиньская быстренько продолжала:
— Видно, что пану майорату никто и не нравится, да и наша панна Маргарита ему не по душе. А какая жалость! Паненка у нас добрая, дельная. А чем кончилось, с вашего позволения, с графиней Барской? Ведь все говорили, что майорат с нею обручится…
— Увы, Добжися, ничего не вышло. Тут ты совершенно права, моему внуку нелегко будет найти жену по вкусу…
— Жалость какая…
В комнату вошла панна Рита в меховой шапочке и шубке с каким-то странным выражением лица. Она молча раскланялась с графиней. Пани Добжиньска тут же вышла из комнаты.
Княгиня подняла глаза на воспитанницу:
— Рита, что там, в Слодковцах?
Рита уселась в кресло, резкими движениями стягивая перчатки:
— Стефа Рудецкая позавчера уехала.
— Я знаю… но почему?
— Ох! Совсем скоро узнаете, тетя… Она, конечно, нарушила договор, но поступила весьма тактично…
— Позволь, дорогая! Совершенно не пойму, о чем ты?
— Может, вы даже сегодня все узнаете. Вчера майорат побывал в Слодковцах, скоро будет у нас.
— Вальди? Откуда ты знаешь?
— Идалька мне сказала.
Рита бросила на портрет Вальдемара долгий, исполненный тоски взгляд и горячо воскликнула:
— О, он прирожденный победитель, он и теперь все преодолеет!…
И выбежала из комнаты.
Княгиня долго, недоумевающе смотрела ей вслед:
— Господи, да что с ней творится? Добжися! Поспешно вошла компаньонка.
— Добжися, иди к Рите и присмотрись как следует — не больна ли девочка. Как-то она странно выглядит, разнервничалась. Отнеси ей старого вина. И пусть придет ко мне, если захочет.
Очень скоро панна Рита вновь появилась в комнате княгини.
— Спасибо за заботу, тетя. Добжися угощала меня вином… но я ничуть не больна.
— Но ты говоришь сущими загадками! Ничего не понимаю! Одно мне ясно: из-за того, что Стефа уехала, в Слодковцах начались какие-то хлопоты. Но какие? Почему?
— Ах, тетя, трудно мне об этом говорить…
— А при чем тут Вальдемар? Про какую это его победу ты говорила?
— Увидите, тетя, увидите! В дверь постучали.
Вошел слуга и вручил Рите телеграмму от графа Трестки из Вены. Прочитав ее, панна Шелижанская необычайно зло швырнула бланк на стол.
— Что там еще? — спросила княгиня, взяв телеграмму.
Трестка сообщал:
«Вскоре вернусь. Гложет ностальгия. В Рим уже не поеду, рассчитывая, что летом отправимся туда вместе. Венские дамы меня ничуть не привлекают. Вместо чудесных профилей мадьярок предпочитаю крест мученика в Обронном.
Ваш незаменимый Эдвард».
Княгиня рассмеялась и весело сказала:
— Оригинальная телеграмма… и человек забавный. Верный, как Троил[87]. Уж теперь-то ты наверняка решишься его осчастливить…
Рита бросила на княгиню быстрый взгляд:
— Почему — «теперь»?
— Ну… не знаю. Если он столь решительно предлагает тебе Рим, наверняка питает какие-то надежды…
— Ах, эти надежды! C'est son cheval de bataille![88] Но долго же ему придется ждать… Хотя… тетя, вы можете оказаться правы.. Теперь я быстрее решусь осчастливить верного Троила…
— Ничегошеньки не понимаю! Что до Трестки, я тебе всегда говорила: прекрасная партия, он очень добрый и хороший человек, немножко чудаковатый, но это не помешает. Имение у него хорошее, прекрасный особняк, а главное, он тебя по-настоящему любит.
— Тетя, не нужно об этом! Прошу вас! Хотя бы теперь! — умоляла панна Рита, быстро расхаживая, почти бегая по кабинету.
Княгиня пожала плечами:
— Странная ты сегодня, Рита…
Вновь постучали в дверь. Вошел лакей и коротко доложил:
— Пан майорат.
Рита превратилась в соляной столб.
Вальдемар вошел энергичной походкой, непринужденно поздоровался с бабушкой и панной Ритой, словно не замечая состояния девушки. Она вышла вдруг из комнаты.
Вальдемар уселся в кресло рядом с княгиней и бережно взял ее руку. В глазах его читалась неподдельная сердечность, но было там и что-то от проказника.
— Я так рада тебя видеть, мальчик мой, — улыбнулась ему княгиня. — Последнее время ты редко бывал у меня, забыл про старую бабку…
— Боже сохрани, я и не думал! Значит… вы рады, бабушка, что я приехал? Вы меня по-прежнему любите?
— Может ли быть иначе?! Ты у меня один, ты мне и внук, и сын, потому что Франек… о Боже… — старушка махнула рукой: — Ох, если бы Франек был на тебя хоть чуточку похож!
— Признаюсь, бабушка, я ни для кого не хочу быть образцом для подражания…
— Однако ж обязан! Вальдемар усмехнулся в усы:
— Хорошо, когда-нибудь буду — для моего сына…
— В том-то и беда! Ты совсем не думаешь о женитьбе, а это твой долг! Ты — последний по глембовической линии, ты обязан об этом помнить, Вальди, но ты все шутишь…
Вальдемар посерьезнел и посмотрел в глаза княгине:
— Нет, бабушка, теперь я больше не шучу. Я твердо решил жениться, создать семью — не по обязанности, а по собственному горячему желанию!
Умные темные глаза княгини недоверчиво изучали лицо внука. Его решительный тон подействовал на старушку, но она все же переспросила недоверчиво:
— Вальди, ты хочешь жениться?
В ее голосе прозвучало столь безграничное удивление, что довольный Вальдемар рассмеялся:
— Бабушка! Ты все время, даже минуту назад, выговаривала мне, что я долго не женюсь, но едва услышала, что я собрался жениться, онемела от изумления…
— Значит, это правда?
— Правда, милая бабушка! Я же сказал — больше не шучу! Я нарочно приехал, чтобы рассказать тебе все и просить благословения.
— Благословения? Уже? Я и не слышала, Вальди, чтобы ты за кем-то ухаживал! Так внезапно…
— Почему внезапно? Та, кого я хочу взять в жены, давно мне дорога. Ты ее знаешь и любишь. Но я решил, что ты отгадаешь сама, потому что я особенно и не скрывал…
— Кто это, Вальди? Неужели… — на лице ее отразилось беспокойство. — Неужели Мелания Барская?
— Ну что вы, бабушка! К Барской я совершенно равнодушен.
— Кто же тогда?
Вальдемар, проникновенно глядя на нее, произнес мягко, но решительно:
— Стефа Рудецкая.
Княгиня широко раскрыла глаза:
— Кто-кто?
— Стефа Рудецкая, — повторил он.
— Вальди, ты шутишь?
— Ничуть, бабушка. Это правда, и я твердо решил. Княгиня, взявшись за голову, выдохнула полной грудью:
— Езус-Мария!
Вальдемар сжал зубы, нахмурился, изменившимся голосом спросил:
— Бабушка, что вас так поразило? Неужели это трагедия? В самом деле, если бы я умирал, вы и тогда не так встревожились бы…
— Вальдемар, опомнись, не разбивай мне сердце! Я теперь не сомневаюсь, что ты говоришь правду, но это ужасно! Ты этого никогда не сделаешь! Никогда!
Майорат гордо поднял голову, губы у него подрагивали:
— Почему же, любопытно знать?
Княгиня, белая, как мел, схватила его за руку, глаза ее лихорадочно сверкали, из горла едва вырвался хриплый голос:
— Умоляю тебя, не делай этого! Опомнись! Вспомни о своем роде, о своей фамилии! Ты не имеешь права безнаказанно оскорблять такими решениями память о предках! Не смеешь!
Вальдемар, едва подавив гнев, заговорил с едва сдерживаемым спокойствием:
— Хорошо… Хочу напомнить, бабушка, что, кроме имени, рода, герба и прочих декораций, у меня есть еще сердце и душа. А у сердца и души есть собственные, не родовые стремления. Могу я хотеть чего-то для себя, лично для себя? Никогда я не пожертвую чувствами ради декораций. Моей женой будет только та, кого я полюблю. Я долго искал… и нашел Стефу.
— Вальди, вспомни: твоя бабушка была из рода герцогов де Бурбон, породнившегося с королевскими домами, твоя мать Подгорецкая принадлежала к одному из славнейших польских княжеских родов! Майорат нетерпеливо пошевелился в кресле:
— А моей женой будет Рудецкая, из хорошей польской шляхетской семьи — и только… Зато с нею я буду счастлив.
— Ты так ее любишь?
— Люблю сердцем, душою — всем, чем мужчина может любить женщину!
— А она об этом знает?
— Я ей признался.
— И знает о твоих намерениях?
— Да, я все ей сказал.
Княгиня зло усмехнулась:
— И она, конечно, согласилась, не помня себя от счастья?
— Наоборот. Она мне отказала.
Княгиня удивленно посмотрела на Вальдемара, сухо спросила:
— Отказала? Ты шутишь?
— Ничуть! Говорю серьезно. Она не хочет стать моей женой как раз по тем причинам, о которых вы упоминали, бабушка, но она любит меня, любит давно — и потому уехала. Стефа горда и благородна, она пыталась заставить себя все забыть, но я ей не позволю, не хочу, чтобы она была несчастлива. Да и о моем счастье идет речь!
Княгиня сидела, словно мертвая. Потом прошептала, словно самой себе:
— Ты говоришь, отказала? Хоть столько такта у нее нашлось.
— Вот именно — такта! А речь идет о любви, она тоже меня любит. И я все сделаю, чтобы превозмочь ее сопротивление. Я поеду в Ручаев просить у Рудецких руки их дочери.
— Боже! Боже! Боже мой! — стонала княгиня. Вальдемар потерял терпение:
— Бабушка, к чему эти стоны? Никакого преступления я не совершаю. Я думал, что те, кто меня любит, только порадуются моему счастью, но вижу, все обстоит совсем иначе…
— Не о таком счастье для тебя я мечтала! Я не видела для тебя достойной партии во всей стране, а ты… ты… ты мне такое преподносишь на старости лет? Боже всемилостивый!
Княгиня, закрыв лицо руками, громко расплакалась, сотрясаемая безмерной печалью.
Майорат встал, прошелся по комнате, превозмогая себя — рыдания бабушки раздирали ему сердце, но решимости он не утратил ни на миг. Он сжал зубы, мысленно разговаривая со Стефой: «Маленькая моя, ради тебя я вынесу все, ты будешь моей, и они тебя примут! Обязаны будут признать!»
Он подошел к княгине и, обняв ее, бережно поцеловал старушку в мокрую горячую щеку:
— Бабушка! Если ты меня любишь, успокойся и не делай драмы из моего счастья. Я знаю, ты хотела, как лучше, но у каждого свои стремления… и у меня тоже, самые для меня дорогие. Не плачь, бабушка, прошу тебя. Это мне ранит душу… и оскорбляет Стефу.
Княгиня, рыдая, заломила руки:
— Вальди! Вальди…
Вальдемар опустился перед ней на колени, ласково говорил, целуя ее руки:
— Это я, твой Вальди… я останусь твоим… люблю тебя, уважаю… и потому жажду, чтобы ты меня поняла, чтобы не так трагически смотрела на мою любовь и будущую женитьбу. Бабушка, ты всегда была умнее и добрее большинства наших аристократов, я никогда не видел в тебе фанатичных предрассудков нашего сословия и за это любил и уважал еще больше. Подумай сама, заслужила ли Стефа столь великую немилость с твоей стороны, разве ты ее не знаешь? Она благовоспитанная, умная, благородная, ты сама это говорила…
Княгиня сурово посмотрела на внука:
— Она может быть прекраснейшей и благороднейшей… но она не для тебя.
— Только потому, что она — всего лишь Рудецкая?
— И потому тоже.
— Бабушка, я могу показать тебе гербовник, где фамилия Рудецких напечатана черным по белому. И не самыми мелкими буквами. Это хороший род старого шляхетского герба. Ничуть не хуже Жнинов, Шелиг… и уж тем более Чвилецких с их не полученным по рождению, а жалованным титулом.
— Среди тех, кого ты перечислил, я и не искала для тебя жены…
Майорат встал:
— Значит, я должен жениться на владетельной герцогине или принцессе из «Тысячи и одной ночи»?
Глаза княгини сверкнули:
— Я сватала тебе княжну Лигницкую — ты отказался. Сватала графиню Правдичувну — известнейший род, лучшая после Лигницкой партия в стране — ты тоже не захотел. Не буду вспоминать иностранных герцогинь и девушек из придворных кругов, где ты имел большой успех… В конце концов, я согласна была на Барскую с ее связями — опять неудачно!
Она безнадежно махнула рукой.
— Бабушка, так ли уж необходимо Михоровским гоняться за «связями»? Неужели при выборе жены это непременное условие? В нашем роду и без того довольно громких имен. На «партию» рассчитывали мои деды и прадеды, так не пора ли наконец впервые в нашем роду нарушить традиции… и быть счастливым? Наши семейные хроники сплошь и рядом пишут о несчастливых в браке «прекрасных партиях», а о семейном счастье наших предков как-то загадочно молчат… Это — единственное темное пятно на семействе нашем… и я хочу смыть его.
— Вальди, ты ошибаешься! Твои предки удачно женились и были счастливы!
Майорат пожал плечами:
— Я знаю, что прадедушка Анджей, женившийся на графине Эстергази, бывшей в родстве с Габсбургами, потом пытался с ней развестись, несмотря на ее богатство и красоту. Знаю, что мой дедушка Мачей с его французской герцогиней были несчастливейшими людьми на свете, что мой отец и княжна Подгорецкая вряд ли могли назвать себя среди счастливых…
— Твои предки любили друг друга, но у них были разные взгляды на жизнь, и это их разделяло…
— Вот именно, на пути всегда оказывалось какое-нибудь «но». Впрочем, насколько я знаю, когда мама выходила за моего отца, сердце ее было отдано другому…
— Ах, это было сущее детство!
— Детство? Легко сказать! То, что ты называешь «детством», причиняет нешуточные страдания, примером тому — мама и дедушка Мачей. Его таковое «детство» сделало несчастным на всю жизнь!
И он вновь зашагал из угла в угол. Княгиня, испуганно наблюдавшая за ним, вдруг спросила:
— А это правда, что Стефа… внучка той… Корвичувны?
— Да, ее родная внучка.
— Может, ты именно поэтому… во искупление того…
Вальдемар остановился:
— Ну что вы, бабушка! Я полюбил Стефу, ни о чем еще не зная, и не дам отнять ее у меня, как отняли у дедушки ту, первую Стефу!
— Значит, ты думаешь, тебе позволят такой мезальянс?[89] Позволят жениться на этой Рудецкой? Тебе, глембовическому майорату? Михоровскому?
Вальдемар гордо поднял голову и вызывающе спросил:
— Кто посмеет мне запретить?
— Семья! Высшие круги! Традиции! Наконец, я! — порывисто вскричала княгиня.
— Нет уж, позвольте! Я давно совершеннолетний, и родные не имеют права мне запретить! Наши круги? Я смеюсь над! ними! Традиции меня не волнуют, а что до тебя, бабушка… ты не будешь долго противиться. Ты для этого слишком умна.
— Ты ошибаешься! Я никогда не позволю!
— Позволишь, бабушка, хотя бы под угрозой моего непослушания. Моей женой будет только Стефа Рудецкая и никакая другая. На это согласятся и родные, и наш круг, потому что традиции особой власти надо мной не имеют.
— И это говоришь ты, Вальди? Ты?
— Я, Михоровский, майорат Глембовичей и твой внук!
— И ты, первый магнат страны, ты, по которому вздыхают девушки из лучших семей, совершишь такое отступничество?
— Я, бабушка! Женщины сходили по мне с ума, а теперь я сам схожу с ума по одной-единственной.
Княгиня простерла к нему руки:
— Сходи с ума, сколько тебе вздумается, только не женись!
Вальдемар удивленно посмотрел на нее:
— Теперь моя очередь спросить: и это говоришь ты, бабушка, ты?
— Вальдемар, не зли меня! Я не хочу, чтобы она стала твоей женой! Не хочу! Не хочу!
Бледная и трепещущая, она выпрямилась во весь рост. Вальдемар ласково взял ее за руку:
— Бабушка, успокойся, умоляю! Обдумай все серьезно, и ты обо всем будешь судить иначе, я уверен!
— Никогда! Слышишь? Никогда!
Майорат стиснул зубы, кровь вскипела в нем. Однако могучей силой воли он превозмог себя, только глаза его зажглись огнем:
— Бабушка, соглашайся, я не уступлю! Ты меня знаешь. Сломить меня ох как нелегко! Даже ты ничего не сможешь сделать там, где есть любовь и сильная воля. Я не хочу бороться с тобой и потому прошу: успокойся! Ты все обдумаешь и поймешь, что упираться не нужно. Ты полюбишь Стефу и благословишь нас.
Княгиня вырвала у него руку:
— Этого никогда не будет! Слава Богу, хоть это от меня зависит! Благословения вы от меня не дождетесь!
Вальдемар, бледный и страшный, провел рукой по лбу, утирая внезапно выступившие капли пота. Глаза его уже не пылали — из них струился пронизывающий холод. С невероятным упорством в голосе, словно произнося смертный приговор, он сказал:
— Тогда я женюсь на Стефе без твоего благословения.
Пораженная княгиня долго смотрела на внука, потом, заломив руки, почти выбежала из комнаты, шепча посиневшими губами:
— Он меня принудит их благословить… он сможет, Боже!
После ее ухода Вальдемар тяжело опустился в кресло, сжав ладонями голову. То, чего он больше всего боялся, свершилось. Он знал, что без благословения и позволения бабушки Стефа не согласится стать его женой. Впервые этот сильный человек почувствовал себя сломленным. Глухое отчаяние овладело его душой. Бунт, гнев, обида раздирала ему грудь. Перед глазами встала Стефа. Ее темно-фиолетовые глаза, полные любви, умоляюще обратились к нему. Ее розовые губы шептали слова любви, длинные ресницы отбрасывали тени на прекрасное личико.
«Девочка моя, счастье мое! Будь спокойна, я все свершу ради тебя!» — шептал он.
Горечь, печаль, неимоверная боль пригибали его при одной мысли о том, что ее отнимут у него, ее, единственную. Он страдал, но не сдавался. Судьбу и счастье Стефы он держит в своих руках — и не подведет!
«Так будет! Так обязательно будет!»
Вихрь взбунтовавшихся чувств распалил кровь жаждой победы.
Его отрезвил шелест женского платья. Он поднял глаза — перед ним стояла заплаканная Рита, пораженная, как громом, его сгорбившейся фигурой. Он нахмурился, встал. Рита коснулась его плеча:
— Не сердитесь, что я пришла… я должна была… знаю, о чем вы говорили с тетей… не теряйте надежды!
Он удивленно глянул на девушку, пожал плечами:
— Я теряю надежду? Я?! Кто это вам сказал? Уж если я начал борьбу, не уступлю!
Голос ее дрогнул:
— Да, я не так выразилась, я хотела сказать, не печальтесь… княгиню удастся переубедить… я… я приложу к тому все усилия…
Вальдемар знал о чувствах Риты к нему, и слова ее его безмерно тронули. Он с благодарностью глянул на девушку. Она иначе поняла его взгляд, посчитав, что он всего лишь удивлен ее словами. И гордо подняла голову:
— Не удивляйтесь, верьте мне! Я обещаю помогать вам от чистого сердца… хотя один Бог ведает, как мне тяжело…
Слезы хлынули из ее глаз. Майорат поцеловал ей руку:
— Спасибо, я вам очень благодарен… но лучше не подступайте с этим к бабушке. Я один преодолею все преграды.
— Я хочу счастья для вас обоих… вы этого достойны.
И она выбежала из комнаты.
Вальдемар стоял у окна, до крови кусая губы.
Часом позже он, спокойный и невозмутимый, прощался с панной Шелижанской, сообщившей ему, что княгиня весьма расстроена и не может сама с ним проститься. Усаживаясь в санки, Вальдемар сказал себе:
— Первое действие сыграно…
XII
Решение майората вызвало среди его родных форменную бурю. Княгиня не уступала, ее поддерживали князь Францишек и пани Идалия. Графиня Чвилецкая жила, словно в горячке. Она не была членом семьи, не имела права голоса в этом деле, и это ее мучило больше всего. Раздосадованная, злая, она старалась на иной манер отомстить Стефе: высмеивая ее и ее чувства к Вальдемару. Но рассерженной графине недолго пришлось так развлекаться: в один прекрасный день она получила от майората вежливое, но решительное письмо, после которого потеряла всякую охоту публично язвить над Стефой.
В Слодковцах творилось что-то непонятное. Пан Мачей, удивительно суровый, загадочно молчал. Обычно смелая пани Идалия боялась теперь сунуть нос в кабинет старика. Ее голубая кровь бунтовала против Стефы, но она не смела и заикнуться о том отцу. Пан Мачей, замкнувшись в себе, погруженный в тяжкие раздумья, целые дни проводил в кресле. Печальные мысли не умещались в его седой голове. Он знал о признании Вальдемара Стефе и об ее отказе и надеялся, что ее отъезд повлияет на решимость внука. Он жалел Стефу, чувствовал угрызения совести, мучился, но в то же время страстно желал, чтобы все кончилось и брак не состоялся. Когда Вальдемар сам повез Стефу на станцию, старик потерял надежду на благополучное завершение дела. Он предвидел, что в карете Стефа уступит настояниям Вальдемара, что она, влюбленная столь же горячо, не сможет сопротивляться его чувствам. И удивлялся: как он, зная внука, мог хоть на миг надеяться, что тот отступит? Когда назавтра пан Мачей увидел у крыльца глебовическую упряжку, он догадался, с чем приехал внук, и предчувствия его не обманули. Он спокойно выслушал горячую речь внука, исполненную чувств и неслыханной решимости, но стал умолять Вальдемара отказаться от задуманного. Вальдемар же, глядя ему в глаза, сказал, подчеркивая каждое слово:
— Как это? И ты, дедушка, запрещаешь мне быть счастливым… после всего, что произошло в твоей жизни? Ты хочешь, чтобы в нашей семье произошла новая драма, повторилось прошлое? Хочешь сделать несчастной и эту Стефу? Ты, дедушка, против моей женитьбы на внучке той несчастной женщины, которую любил сам?
Пан Мачей чувствовал себя побежденным. Горькие, но правдивые. слова внука неимоверной тяжестью обрушивались на его голову, тысячами острых жал вонзались в сердце. Старик понял, что прошлое отомстило ему, задев самое больное место.
В его разгоряченном воображении промелькнул хоровод образов, предшествовавших часу мести: приезд Стефы в Слодковцы, любовь Вальдемара, смерть той женщины. С момента ее смерти и началось наигоршее. Отъезд Стефы лишь ускорил катастрофу, которая — пан Мачей в том не сомневался — все равно наступила бы раньше или позже. Перед ним разверзлась пропасть. Но и отступать было некуда. Он был в руках Вальдемара, ощущал свое бессилие, и это мучило его больше всего.
Он понурил голову, сцепил высохшие пальцы и сидел так, очень старый, возбуждавший жалость. Вальдемар, опомнившись, утешал его, объяснял, насколько глупы предрассудки, мешающие ему соединить свою жизнь со Стефой. Говорил о своих чувствах к ней, крайне деликатно напомнил дедушке о его собственной любви, не касаясь ее финала. Старый магнат был не на шутку растроган, когда Вальдемар, говоря о своей Стефе, отстегнул от цепочки золотой медальон, украшенный бриллиантиками и рубинами, нажал пружину и раскрытым подал дедушке. Внутри в золотой овальной рамочке усмехалось миниатюрное, прекрасное личико Стефы, в скромном платьице, с кораллами на шее, с толстой косой, переброшенной на грудь. Ее глаза смотрели на пана Мачея с выражением «неописуемой прелести и печали. Ее губы, лукаво улыбавшиеся, таили в себе только ей свойственное очарование. Она склонила головку с покоряющей грацией.
Пан Мачей всмотрелся и вздрогнул. Несмотря ни на что, он видел в миниатюре лишь удивительное сходство с другой, с образом Корвичувны, сберегаемым им, как реликвия. Глаза Стефы, казалось ему, умоляли. Улыбкой и печальным взглядом девушка просила его, чтобы он не перечил ее счастью с Вальдемаром, не убивал ее отказом. Она вновь встала перед его глазами — в тот миг, когда, вернувшись с похорон бабушки, стояла перед ним на коленях. Тогда она, плача, с детским доверием прижималась к его рукам…
Пан Мачей утер со лба холодный пот; в нем пробудились угрызения совести.
«И ты хочешь ее убить? — шептал ему внутренний голос. — В чем она перед тобой виновата?»
Из-под кустистых бровей он глянул на внука. Вальдемар, склонившись, положив подбородок на переплетенные пальцы, смотрел на портрет Стефы с выражением счастья на лице, ласкал ее взглядом.
И вновь голос совести прозвучал в душе старика: «Ты хочешь помешать их счастью? По какому праву?»
Он зажмурился и горько ответил сам себе: «Как я могу запретить, если он меня не послушает?»
— Откуда у тебя этот портрет? — спросил он Вальдемара.
— Мне уменьшили фотографию, сделанную в Глембовичах. С тех пор я ее и ношу.
— Очаровательная девушка! — шепнул старик.
— Ты ее любишь, дедушка, в память о той, полюби же ее ради нее самой, как свою внучку и мою жену. Она, дедушка, и даст мне то счастье, которого ты для меня всегда желал.
Пан Мачей был весьма расстроен.
Вальдемар не настаивал более, понимая, что старик должен успокоиться и обдумать все трезво, давая ему на это время и чувствуя себя победителем.
Прошло несколько дней. Вальдемар не показывался. Пан Мачей уже знал, что внук побывал в Обронном, и Княгиня отказал ему в благословении. Душа старика словно раскололась надвое. Долгое отсутствие Вальдемара угнетало его. С дочкой он почти не виделся, его злили ее жалобы на «идиотизм Вальдемара», высказывавшиеся открыто и в полный голос. Он и сам не хотел видеть Стефу женой внука — но почему-то те же мысли, высказываемые кем-то другим, удручали его безмерно.
Чувства, переживаемые Люцией, были самыми разнообразными. Она тоже считала, что Стефа не ровня «их кругу». Поверить не могла, чтобы ее Стефа, ее подружка, стала вдруг майоратшей Михоровской, миллионершей, супругой магната, во всем превосходящей ее мать. Однако в письмах к Стефе Люция обходила молчанием эту тему, держась так, словно ни о чем не знает. Она жалела Стефу, всю свою злость обращая против Вальдемара, единственного виновника ее отъезда из Слодковцов.
Словом, все, каждый по-своему, были настроены против майората.
XIII
Несколько дней минуло в неуверенности и печалях. Посыльные неустанно курсировали меж Слодковцами, Глембовичами и Обронным. Княгиня при посредстве писем возобновила спор с Вальдемаром.
И наконец, пан Мачей с баронессой получили письма от князя Францишка Подгорецкого, сообщавшего, что в связи с последними поступками Вальдемара в Обронном созывается семейный совет…
Все собрались в салоне рядом с кабинетом княгини. Ждали только Вальдемара. Сидевшая в глубоком кресле княгиня беспокойно теребила в руках платок, тревожно поглядывая на отрешенное лицо пана Мачея — у него был вид человека, примирившегося с неизбежным. Князь Францишек и граф Морикони, зять княгини, муж ее второй дочери, тихо беседовали, прохаживаясь по салону. Пани Идалия с графиней смотрели в окно. Княгиня Францишкова и Рита сидели с загадочными лицами.
Княгиня говорила шепотом:
— Мне все это кажется сущей комедией. К чему этот балаган? Если они думают, что им удастся переубедить майората, их ждет крупное разочарование…
— Как только он приедет, я тут же уйду, — ответила панна Рита. — Духу не хватит все это слушать.
— Почему? Будет очень интересно. Они рассчитывают произвести впечатление на майората, а выйдет все наоборот. Мне только жаль, что Францишек так решительно выступает против майората в этой весьма неблагородной авантюре…
— Почему?
— Должно быть, по традиции во всем соглашается с матерью, — она искоса глянула на старую княгиню Подгорецкую. — Я ей тоже удивляюсь, понять не могу, откуда в ней столько фанатизма. В чем-чем, а уж в этом я ее никогда не подозревала…
— Именно в таких случаях все и выходит наружу… Княгиня показала взглядом на пани Эльзоновскую:
— Или возьмем Идальку! Она мне опротивела — горячее всех агитирует против Рудецкой.
Панна Шелижанская пренебрежительно покривила губы:
— А, что говорить об Идальке! Ей просто жаль Барскую, к которой она питает непонятную для меня симпатию. А может, рассчитывала, что ей, как свахе, достанется подарочек… Это на нее похоже.
— Едет! — воскликнула от окна графиня Морикони.
В салоне стало оживленнее.
Господа напряглись, словно перед боем, гордо выпрямились. Щеки дам заиграли румянцем. Только старая княгиня Подгорецкая побледнела еще больше, а пан Мачей глубоко вздохнул.
Рита тихонько выскользнула из салона в прилегающий кабинет.
Вальдемар вошел быстрым, энергичным шагом. Быстро окинул взглядом собравшихся, и в глазах его засветилась усмешка, губы покривились.
Приветствия состоялись с соблюдением всех правил этикета — однако пан Мачей расцеловал внука сердечно, как всегда, а княгиня Францишкова крепко пожала ему руку, бросив на него выразительный взгляд.
Майорат огляделся:
— Вижу, я приехал последним. Должно быть, теперь все в сборе?
— Да. Только ты опоздал, — сказала старая княгиня.
Вальдемар нахмурился и, усаживаясь в кресло, сухо бросил:
— Прошу простить.
Воцарилась долгая, тревожная тишина. Княгиня неспокойно вертелась в кресле, пан Мачей не отрывал глаз от покрывавшего пол ковра.
Майорат небрежно играл висевшим у него на часовой цепочке медальоном, гордо озирал присутствующих. Наконец молчание ему наскучило, и он заговорил первым:
— Я был вызван на семейный совет для рассмотрения… моего дела. Цитирую письмо, которым меня сюда вызывали. Я прибыл. Слушаю…
Княгиня пошевелилась, князь Францишек и граф громко откашлялись, значительно переглянувшись. Первой заговорила княгиня:
— Мы собрались, чтобы общими усилиями уговорить тебя отказаться от твоих… безумных планов, которые оскорбляют и нас, и тебя…
Пан Мачей бросил на нее быстрый взгляд. Прозвучавшая в ее голосе решимость неприятно задела его. Слова «безумные планы» многим показались чересчур громкими.
Вальдемар поднял брови, ноздри у него раздувались от гнева. Он усмехнулся:
— Бабушка, вы крайне решительно подступили к делу. Вижу, вы предъявили ультиматум… Но я давно совершеннолетний, и поэтому сегодняшний… сейм обязан изложить мне мотивы, по которым преисполнился такого неодобрения моих намерений. Я готов ответить на все обвинения, но отговорить меня или, что то же самое, принудить не сможет никто… и никто не имеет на то права.
На губах пана Мачея мелькнула мимолетная улыбка. Все напряглись. Княгиня побагровела.
Вальдемар продолжал:
— Бабушка, не обижайтесь: я лишь следовал тону, каким вы обратились ко мне. А теперь прошу вас объяснить, какими мотивами вы руководствуетесь.
— Ты не можешь жениться на панне Рудецкой.
— Это — теорема. А где же доказательства? Объясните, почему я не могу!
Заговорил князь Францишек:
— Ты не можешь взять в жены особу, не принадлежащую к нашему кругу. Это будет против обычаев рода Михоровских, против семейных традиций… даже против этики.
Майорат гордо поднял голову:
— Обычаи, традиции — эти словечки столь обветшали, что не производят уже ровным счетом никакого впечатления. По крайней мере на меня. Что до этики — моя этика отличается от вашей, и. вряд ли она хуже вашей. Я, например, считаю глубоко противоречащим этике супружество, заключенное исключительно ради фамильных традиций, ради «хорошей партии». Вы же рассуждаете как раз наоборот, мои понятия и ваши разделяет пропасть.
Граф Морикони сделал удивленное лицо:
— Мы не исключаем вовсе вопрос чувств, о котором вы, сдается мне, главным образом и печетесь. Но нельзя руководствоваться одними чувствами — это принесло бы нашей аристократии огромные неприятности. В выборе жены следует руководствоваться лишь вопросами равного происхождения. Все дело в породе!
Вальдемар засмеялся:
— Если бы я хотел жениться на немецкой или испанской герцогине, никто не затронул бы вопроса «породы». Мой дед был женат на француженке, и никто не ставил ему этого в вину. Если бы я даже женился на китайской принцессе, это считали бы поступком оригинальным, но вполне допустимым. Панна Рудецкая польская шляхтянка из хорошей семьи, при чем здесь «разные породы»?
— Не притворяйся! Ты прекрасно понимаешь: речь идет о том, что эта особа не нашего круга, — сказала княгиня.
— Не спорю. Но считаю это мелочью, не способной иметь какое-либо значение, когда речь идет о счастье двух любящих друг друга людей.
— Наоборот, эта «мелочь», как ты изволишь выражаться, играет решающую роль, иначе не существовало бы самих понятий «мезальянс» и «морганатический брак»[90], — вмешалась пани Идалия.
Лицо Вальдемара исказилось гневом. Он ответил холодно:
— Среди наших аристократов случались мезальянсы и хуже, а морганатическим браком называют исключительно случаи, когда царствующая особа женится на своей подданной… или наоборот, либо те случаи, когда член правящей династии сочетается браком с особой, ниже стоящей по положению, чем это обычно принято. В таких случаях ни жена, ни дети не носят фамилии мужа и не могут быть ни наследниками престола, ни наследниками имущества. Такие браки запрещены. Но меня эти законы ничуть не касаются. Я не коронованная особа и не член правящей династии.
— Ну, в некотором роде… все так и обстоит, — медленно, задумчиво произнес князь Францишек.
Все смотрели на него и на майората. Пан Мачей, охваченный непонятной тревогой, беспокойно глядел на внука.
Однако Вальдемар изящным, гордым движением повернул голову к князю и весело спросил:
— Серьезно? Я равен коронованным особам и членам династии? Вот не знал! Любопытно услышать, на каком основании?
Князь Францишек устремил на него неприязненный взгляд:
— Майоратство имеет свои, особые, свойственные только ему права и законы. Как поместья, принадлежащие к майоратству, не могут быть разделены, так и… так и… — он мучительно искал слова. — Так и сам титул майоратства неразрывно связан с… с некими обязанностями… устоями… я сказал бы, обязательствами по отношению к титулу… Он замолчал.
— Парадокс! — достаточно громко шепнул пан Мачей.
Вальдемар пренебрежительно усмехнулся:
— Обязательства по отношению к титулу? Возможно, не спорю. Но какое это имеет отношение к выбору жены?
— Самое прямое! Noblesse oblige![91]
— Панна Рудецкая ничем не запятнает этого святого афоризма. Она смело может стать майоратшей Михоровской, имея к тому все данные.
— И никаких прав, — фыркнул князь.
— Все права я сам разделю с будущей женой, обвенчавшись с ней.
— Это ваши личные взгляды, но наш круг думает по-другому.
— Когда я представлю «нашему кругу» панну Рудецкую уже в качестве жены, «круг» изменит мнение.
— И ты думаешь, мы ее примем? — иронически бросила пани Идалия.
Вальдемар обжег ее взглядом:
— Большая часть аристократии ее примет… хотя бы из уважения ко мне. Я занимаю определенное положение в обществе, ношу известное имя магнатов, связи мои большие. И посему со мной следует считаться… Недовольные останутся всегда, даже если я ни в чем не нарушу принятых у нас правил, но стоит ли о них беспокоиться — большинство мое решение примет.
— Позволю себе обратить внимание вот на что… — изрек граф Морикони. — В обычных условиях люди бывают недовольными по личным или профессиональным причинам. Здесь же войдут в игру нарушенные традиции высшего света. Это оттолкнет всю без исключения аристократию, наша сословная солидарность просто принудит людей к тому… Панна Рудецкая навсегда останется для нас чужой, для нашего круга она — прокаженная!
Вальдемар, сузив глаза, бросил на графа страшный взгляд, ледяной, враждебный. Потом сказал:
— Браво! Господа мои! Прокаженная! То же самое я уже слышал однажды от Барского, но, поскольку все знакомы с уровнем его умственных способностей, я не ожидал услышать вновь этих слов от тех, кто здесь сегодня присутствует… Не знаю, заимствовали вы от Барского это словечко или изобрели сами, но в любом случае — поздравляю! Великолепная шуточка! Гениальная в своей детской простоте!
Все были ошеломлены, ибо Вальдемар говорил словно бы совершенно спокойно, но за этим таилось необычайное волнение. Те, кто знал его хорошо, невольно вздрогнули. Однако граф, человек столь же запальчивый, сжал губы, кичливо задрал голову, сверкнул золотой оправой очков, потом отозвался обиженно:
— Благодарю пана майората за его ценные замечания…. которых можно было и не делать. Думаю, одно то, как вы держитесь, показывает, что нет ровным счетом никакого смысла и далее играть словами…
Вальдемар поклонился ему — учтиво, насмешливо:
— Пан граф, что до меня, я готов покончить с этой игрой в слова… словами весьма непристойными.
Воцарилось грозное молчание. Запахло скандалом. Двое мужчин уставились друг на друга в совершеннейшем молчании — граф сопел, меняясь в лице, а Вальдемар, величественный и хладнокровный, смотрел на него, как хищник на жертву. Еще миг, и произошло бы нечто непоправимое. Однако первой очнулась молодая княгиня Подгорецкая:
— Господа, прошу слова! Все мотивы, какие майорат выдвинул в защиту панны Рудецкой и своего намерения вступить с ней в брак, я полностью разделяю и хочу напомнить, что панна Рудецкая, будучи, по правде, не нашего круга, тем не менее не происходит из того класса, с которым мы не поддерживаем абсолютно никаких отношений. Все мы знаем панну Рудецкую и, говоря беспристрастно, знаем, что о ней думать. Я высказала свое мнение, теперь передаю слово майорату.
Вальдемар заговорил спокойно:
— Моя женитьба на панне Рудецкой не вызовет никакого скандала — я не ввожу в семью ни подозрительную особу, ни простую крестьянку. Вы можете, конечно, называть мезальянсом разницу в общественном положении обеих семей, моей и ее, и имущественное состояние Рудецких. Разница значительная, хотя и не напоминает бездонную пропасть. Однако разница эта как раз и создает то, что принято называть «нашим кругом», предстает в виде стены, за которую мы очень редко выглядываем, ибо всем недостает отваги это сделать. Эта стена столь утыкана веками, лелеявшимися колючками предрассудков, столь пропитана фанатизмом, что, подобно анчару, отравляет каждого, кто рискнет к ней приблизиться. Однако, если мы уберем яд, убедимся, что эту стену никак нельзя считать ужасной и непреодолимой…
— Такие вылазки за стену — не для магнатов, — прервал его князь Францишек.
— А я как раз рассчитываю убедить наших магнатов преодолеть эту стену, — сказал Вальдемар.
— Мы не испытываем потребности в тех, кто за стеной. Le jeu ne pas vaut pas la chandelle.[92]
— Наоборот, выйдя к ним из-за окружающей нас стены, мы извлекли бы для себя пользу.
— Интересно, какую?
— О! Мы избавились бы от нашей окостенелости, могли бы двигаться свободно, отринув традиции, кандалами сковавшие нас. И увидели бы, что мир, который мы называем «прокаженным», на самом деле, быть может, лучше… и уж наверняка в моральном отношении чище нашего. Мы увидим там людей, даже более благородных, чем мы. Многие из них придутся нам по нраву не из-за титулов и миллионов, не умением бойко тараторить на иностранных языках и быть прохвостами, внешне оставаясь джентльменами, — нет, все, о чем я упомянул, исключительно наши привилегии… Нет, они несравненно выше нас по уму и гуманизму, по своим идеям. Наша фамильная исключительность, выросшая на замшелых традициях, возносит нас на высокие пьедесталы, опирающиеся на титулы и миллионы… и очень редко — на способности. На этом традиционном, освященном высшими кругами пьедестале часто стоит человек никчемный, ни в чем не выдерживающий сравнения с человеком более низшего круга. Что же плохого, к примеру, в том, что двое сблизятся друг с другом, принадлежа к разным кругам? Устоявшаяся традиция назовет это мезальянсом… но я уверен, что главную роль играют личные качества человека, а не его принадлежность к определенному кругу. Иначе напрашиваются тысячи сравнений, весьма для нас нелестных…
— Французские якобинцы провозглашали то же самое, — засмеялся князь.
— А в перерывах меж речами рубили головы магнатам, — докончил Вальдемар. — Я знаю. Я не якобинец, я просто трезво мыслящий магнат.
— Который смотрит на все сквозь призму так называемой демократии.
— О нет, князь, я не пользуюсь никакими оптическими приборами, даже призмами! Полагаюсь на свои глаза… и делаю удивительные открытия.
Князь умолк. Майорат продолжал:
— Есть еще одна характерная черта нашего круга, охраняющая его устои, — связи. Если твой дед и прадед брали невест из магнатских домов, ты должен следовать их примеру — вот девиз нашего круга. Одного имени нареченной, пусть даже звучащего безукоризненно, нам мало, мы на этом не остановимся, вытащим из могил ее прадедушек и старательно исследуем их гербы и титулы. Если они соответствующего блеска, мы поместим их портреты в наших замках на самом видном месте — пусть даже они не стоят того, чтобы о них помнить. Если они выглядят поскромнее, мы вешаем их где-нибудь в сторонке и пренебрежительно машем рукой, говоря гостям: «Это? Да так, дальние родственники…» Я так никогда не поступлю, для меня простой, но заслуженный и честный человек всегда будет предпочтительнее пышного гетмана или воеводы, чье величие частенько заключалось лишь в пурпуре и самоцветах. Таков мой взгляд на классы и мезальянсы. Драгоценный камень оценивают не по оправе, а по его истинной стоимости.
Вальдемар взволнованно откинулся в кресле, и все поняли, что завязавшееся сражение не приведет к ожидаемым результатам. Лица у всех помрачнели.
Внезапно князь Францишек пошевелился и, собрав всю свою энергию, не сомневаясь в эффекте, какой произведет, отчеканил:
— Панна Рудецкая может стать Михоровской — но не майоратшей. На майоратство она не имеет никаких прав.
— Это, интересно, почему? — спокойно спросил Вальдемар.
— Франек, ты несешь глупости, — сказала, покраснев, молодая княгиня.
— Интересно, почему это моя супруга не сможет стать майоратшей?
— Потому что из-за такого мезальянса ты сам можешь потерять права на майоратство.
Вальдемар, всерьез развеселившись, едва сдерживал смех и наконец не выдержал. На весь зал прозвучал его смех, исполненный иронии, но неподдельно веселый:
— Ха-ха-ха! Ну, насмешили! Кто же станет тем палачом, который лишит меня майоратства? Не вы ли, князь? Ха-ха…
Он смеялся весело, но столь сатанински звучал этот смех, что всем стало зябко. Князь сидел весь красный, граф нервно теребил бородку, дамы были поражены, а старая княгиня близка к обмороку. Глупейшие заявления сына устыдили ее, а смех Вальдемара разгневал, и она совершенно не представляла, что сказать. Пан Мачей изменился в лице. Перед глазами его встала похожая сцена, пережитая им в юности. Ему угрожали тем же, но у него не было отваги Вальдемара, он не смог так свободно расхохотаться в ответ на угрозы — испугался и уступил…
Сравнения эти причиняли неимоверную боль старому магнату.
Вальдемар тем временем оборвал смех и сказал холодно, уверенно:
— Хотели меня испугать морганатическим браком, теперь стращаете лишением майоратства? Позвольте спросить, по какому праву? О морганатическом браке вообще умолчим — это вздор, не достойный внимания… Перейдем сразу к майоратству. Кто может лишить меня майоратства? Есть только один-единственный ответ — никто! Мне не восемнадцать, а тридцать два, я вышел из возраста, требующего опеки, я сам распоряжаюсь собой. Сам решаю о своих поступках и намерениях, а в таких делах, как женитьба и будущее счастье, вообще не намерен слушать ничьих советов. Знаю, чего хочу, к чему стремлюсь. Лишить меня майоратства вы не можете, потому что по глембовической линии я — последний Михоровский. Но даже если бы нашлись другие, все равно ничего бы не вышло — я не дам согласия, я совершеннолетний и имею право сам защищать свои права. Все вы это прекрасно понимаете. Я удивлен, что князь так решительно заявляет, будто возможно отобрать у меня титул майората. Это выглядит так, будто ребенка пугают, что отберут игрушку. К счастью, я не из пугливых, знаю свои права и не позволю лишить меня их. Отказаться от титула майората я могу лишь добровольно, но я этого никогда не сделаю, хотя бы для того, чтобы иметь возможность положить его к ногам любимой женщины!
Тихий шепот раздался в зале. Граф Морикони воззрился на майората, не веря собственным ушам. Старая княгиня смотрела на гордо выпрямившегося Вальдемара широко раскрытыми глазами. Пан Мачей понурил голову, пряча глаза, в которых были удивление и стыд, словно бы только сейчас осознанные им в полной мере.
После недолгой тишины Вальдемар заговорил вновь, все более распаляясь:
— Я женюсь на панне Рудецкой вопреки потертым традициям моего рода, что по вашим понятиям будет мезальянсом. Пусть так, меня это ничуть не трогает, я смотрю на жизнь иначе. Я женюсь, побуждаемый лишь чувствами, и потому счастлив, что не должен гоняться ни за «прекрасной партией», ни за приданым. Не буду перечислять достоинства панны Рудецкой — тот, кто ее знает, припомнит сам. Скажу только, что она прекрасно образована и хорошо воспитана, к тому же горда и самолюбива даже больше, чем иные барышни нашего круга, которые, не колеблясь, первыми признаются мужчине в своих чувствах. Внешние и внутренние достоинства панны Рудецкой всецело отвечают положению, которое она займет в нашем кругу.
— Однако этого мало, — прервала его графиня Морикони. — Одних внешних и внутренних достоинств мало, чтобы стать майоратшей Михоровской. Можно иметь внешность и осанку императора, не будучи даже пажом.
— Вот именно, — процедил ее супруг. — Пурпурную мантию рода Михоровских не годится подбивать первым попавшимся бархатом — только горностаем!
— У нее есть и другие достоинства, — сказал майорат. — Она сможет гордо носить мое имя и мой титул. И станет хорошей матерью моему наследнику. Мои миллионы ее не ослепят, для этого она слишком умна и тактична. Вам она может видеться пролазой, выскочкой, но для меня она — избранница сердца, и я требую, чтобы все вы приняли ее с подобающим уважением. Для вас она перестанет быть панной Рудецкой и станет Стефанией Вальдемаровой Михоровской, майоратшей глембовической и вашей родственницей.
Пани Идалия неприязненно фыркнула:
— Рудецкая — наша родственница? Это даже не смешно, это оскорбительно!
— Почему же? — спокойно спросил Вальдемар.
— И ты еще спрашиваешь? Я и думать не могла, что ты способен влюбиться, словно… студентик!
— Скажи лучше, тетя, — словно крестьянин. Это ты думала? По нашим понятиям, «чувства» могут иметь только простаки — студентики, крестьяне… Я понял бы еще вашу к ней неприязнь, будь панна Рудецкая особой не из общества…
— Она и есть особа не из общества, — прервала его пани Идалия.
— В самом деле? Интересно, какие еще обвинения посыплются на мою невесту… Я наслушался уже таких, на которые даже не знаю, как и ответить…
Граф Морикони, потирая руки, прошепелявил:
— Ответ есть: неясное происхождение. Ни с одной из хороших фамилий Рудецкие не связаны. Никто у нас и не слышал о Рудецких!
Вальдемар мимолетно глянул на него:
— Потому что мы, замкнувшись в своем кругу, совершенно не знакомы с другими слоями общества, которые тем не менее существуют. Фамилия Рудецких — известная и уважаемая. Лучше всего вам это объяснит и убедит Несецкий. Ну, с меня довольно, этот разговор ни к чему не приведет… Позвольте задать один, лишь вопрос: чем отличается панна Рудецкая от наших девушек? Разве что изяществом и красотой, не многие с ней могут в том равняться…
— Красота, изящество! — фыркнула пани Идалия. — В нашем кругу это не главное. Красивыми бывают и сельские девки…
Вальдемар рассмеялся:
— Ах, тетя, бросьте шутить! Кроме красоты, панна Рудецкая обладает всем, что необходимо в нашем обществе. Она умеет вести себя в обществе, она талантлива, прекрасно знает иностранные языки, легко поддержит пустую салонную болтовню… да и серьезный разговор тоже. Умеет тонко пошутить, изящно сесть в карету, элегантно управляться со шлейфом, что доказала на костюмированном балу. Ну вот, кажется, я перечислил все, что необходимо для светского человека…
Князь Францишек скривился:
— Детские примеры! Это хорошо для панны Рудецкой, но не для пани Михоровской, которая обязана быть первой дамой Царства.
— Будьте уверены, она не подведет и в этой роли, сумеет затмить не одну из нынешних звезд великосветских салонов.
Пани Эльзоновская иронически подхватила:
— Особенно с ее руками и походкой. Просто смешно!
Все с удивлением посмотрели на нее. Лицо ее посинело от гнева. Вальдемар серьезно глянул на нее:
— С ее руками? Что-то новенькое! А какие у нее руки?
— Ну, в любом случае не те, что подошли бы нам, — гордо ответила баронесса.
Вмешалась молодая княгиня:
— Идалька, ты становишься несправедливой! Руки у панны Рудецкой красивые, белые, маленькие, вполне аристократические, как и походка. Тут уж ничего не скажешь.
Вальдемар, сатанински усмехаясь, сказал, словно бы поддразнивая ее:
— Ну, о ее ручках не беспокойтесь! Они красивы от природы, а когда я еще усыплю их бриллиантами, многие магнатские лапки соответствующего происхождения должны будут стыдливо укрыться под муфтами или чем там еще…
— Вальдемар, ты над нами насмехаешься, — недовольно сказала старая княгиня.
— Я всего лишь отвечаю на брошенные моей будущей жене упреки.
— Вы слишком торопитесь, называя так панну Рудецкую, — иронически усмехнулся граф Морикони.
— Повторяю, женой моей будет панна Стефания Рудецкая. Прошу вас, господа, окончательно в это поверить и не сердить меня более — это ни к чему хорошему не приведет.
Он замолчал. Глухая тишина воцарилась в зале.
Майорат встал, выпрямился и, не спеша, пошел в глубь салона, разглядывая висевшие на стенах картины.
Старшая княгиня, провожая его испуганным взглядом, комкала кружевной платочек. Князь Францишек значительно откашлялся. Вальдемар недвусмысленнейшим образом дал им понять, что считает разговор законченным. Пани Идалия и графиня Морикони, переглянувшись, чуть пожали плечами. Наконец раздался дрожащий, неуверенный голос старшей княгини:
— Вальдемар, это твое последнее слово?
— Да. Своего решения я не изменю.
Княгиня ссутулилась. Слова внука поразили ее в самое сердце. Ища спасения, она умоляюще посмотрела на пана Мачея, словно призывая его на помощь. Молчание старика озадачило всех. Лишь теперь они сообразили, что на протяжении всего разговора он не произнес ни слова, и, по примеру старой княгини, уставились на него. Невольно повернулся к нему и Вальдемар.
Пан Мачей понял, что обязан высказать свое мнение.
Он сжал губы, склонился к старой княгине и, положив ладонь на ее плечо, сказал громко:
— Успокойтесь, княгиня. У Вальдемара свои, отличные от наших, взгляды, и они никогда не меняются. Да, наши правила звучат иначе… Мы не являемся его опекунами по суду, но мы — его моральные опекуны, и это дает нам право защищаться до конца…
И он умолк, часто дыша.
На лице княгини мелькнула тень надежды. Князь и граф переглянулись с улыбкой.
А Вальдемар, получив такой удар в спину, отступил на шаг, выпрямившись, замерев, нахмурив брови и подняв голову. Полные удивления глаза он устремил на старика, стоял, словно молнией пораженный. Быть может, именно так выглядел Юлий Цезарь, воскликнув: «И ты, Брут?!»
Пан Мачей вздохнул и продолжал медленно, выразительно:
— Но бороться и переубедить можно только того, кто колеблется, кто не уверен в себе, слабо разбирается в собственных побуждениях, кто сам не очень знает, чего хочет, слаб характером, кому недостает решимости и энергии. Именно так много лет назад случилось со мной. Сегодня я вновь пережил те минуты — и гораздо мучительнее, чем в прошлый раз. Я колебался, не уверен был в себе, мне не хватало воли. Не знал, кто же прав — я или те, с кем я спорил. Боже мой! Силы были чересчур неравны. Мне не хватало слов в защиту своего счастья… а может, я не столь сильно любил или оказался слабее характером. Мне тоже грозили, что лишат майоратства… Мать и дядя никак не могли лишить меня майоратства, но я испугался несуществующей угрозы и уступил. Последствия известны: я погубил свою жизнь и жизнь той женщины…
Он опустил голову, замолчал на миг.
Все смотрели на него опасливо и удивленно.
Майорат бесшумно переместился за спинами сидящих, оперся на каминную полку и не спускал глаз с дедушки.
Пан Мачей продолжал:
— Теперь, когда одной ногой я стою в могиле, возникла вдруг та же самая ситуация. Только роли переменились. Мой внук Вальдемар сегодня мне нравится. Трудно запретить ему то, в чем он видит счастье свое и любимой. Он совершеннолетний, вполне разумен, обладает стальной волей, которую не сломает никто и ничто… и закон на его стороне. Это не просто упрямство, а решимость зрелого человека, который знает, что прав, пойдет до конца, вооруженный благородством чувств. Он вовсе не одурманен, он трезво мыслит и обладает великой правотой, которую не затмит «наш круг». Наши возражения ничему не помогут, он уничтожит наше сопротивление, не считаясь с нами. Я был поражен, ни о чем подобном не хотел и слышать — но он меня убедил…
Тревожный шепоток пронесся по залу. Княгиня сделала движение, словно намереваясь встать. Глаза ее горели гневом.
Всех словно громом поразило, а разрумянившийся пан Мачей продолжал, обращаясь главным образом к старой княгине:
— Повторяю, он меня убедил. Женщина, которую он полюбил, достойна всякого уважения… потому он ее и выбрал. Я говорю о нем сейчас не как о внуке, а как о благородном человеке, заслужившем всеобщее уважение. Ту, которую он выбрал и собирается ввести в нашу семью, мы обязаны принять, как свою. Я, Михоровский, его дед, признаю его волю, согласен на его женитьбу… и благословляю! Княгиня, прошу тебя — сделай то же! Не омрачай его счастья, не убивай эту девушку: она любит его глубоко, по-настоящему, я знаю… Она, прямодушная и благородная, отказала ему, бежала, не желая, чтобы он из-за нее ссорился с семьей… Лицо пана Мачея прояснилось, голос окреп: — Получается, что она жертвует собственным счастьем, едва ли не самой жизнью, а мы не можем пожертвовать нашими убеждениями. Мы должны показать себя менее благородными, чем эта хрупкая юная шляхтянка? Будем же благоразумны, княгиня! Позволим себе хоть однажды руководствоваться сердцем, а не фанатизмом! Вальдемар — твой внук, княгиня, и мой тоже. Пусть же наша старость утешится его счастьем. Быть может, в нем и его жене возродятся мечты нашей юности, сломанные суровой жизнью. Княгиня, дай свое позволение и благословение. Прошу тебя об этом в память о наших с тобой детях, их родителях.
В запале старик поднялся с кресла, простер руку. Глаза его пылали:
— Внук мой! Благословляю тебя, и да будет с тобой благословенье Божье!
Растроганный Вальдемар обнял дедушку и горячо прижал к груди. Пан Мачей обнял голову внука, прижал губы к его лбу.
Все невольно встали, торжественность минуты подняла их на ноги. Одна-две головы повернулись к портьере, за которой, силясь сдержать рыдания, скрывалась панна Рита.
Княгиня сидела, как статуя, в лице ее не было ни кровинки. Она растерянно, в полном ошеломлении смотрела на пана Мачея. Она вздрогнула, когда Вальдемар, упав перед ней на колено и нежно взяв в ладони ее руку, шепнул мягким, ласковым голосом:
— А ты, бабушка? А ты?
— Никогда! — вскрикнула княгиня. — Никогда… И она обмякла в кресле, потеряв сознание. Все бросились к ней.
Вальдемар поднял старушку на руки и отнес в спальню. Все остальные печальной процессией потянулись следом.
В боковом коридоре, опершись на резную колонну, стояла Рита, заплаканная, трепещущая. Увидев майората, несущего бесчувственную княгиню, она охнула и отступила, не сводя с Вальдемара испуганного взгляда.
— Бабушка потеряла сознание, — сказал он кратко. В салон вернулись только пан Мачей и Вальдемар.
Князь с графом где-то укрылись, не смея попадаться на глаза майорату.
Пан Мачей обнял внука:
— Успокойся, все устроится… Все пройдет. Ты победил, Вальдемар, и будешь счастлив.
И старик разрыдался, но ласковые утешения Вальдемара вскоре вернули улыбку на его просиявшее лицо.
Княгиня никого не хотела видеть, и Вальдемару второй уж раз пришлось покинуть Обронное, не получив согласия бабушки и ее благословения…
XIV
Тишина воцарилась в Обронном, глухая, угнетающая тишина. Минуло Рождество, впервые отмеченное столь уныло. Близился к середине ясный, морозный январь. Княгиня Подгорецкая, пребывая в полнейшем расстройстве чувств, не выходила из своих покоев. Она не желала видеть ни панну Риту, ни любимую ею пани Добжиньскую. Даже попугая она велела вынести из своего будуара — наученный Ритой, он все кричал: «L'amoir c'est la vie!»[93], раздражая старушку. Никто не мог ее успокоить и вывести из этого состояния — она попросту не терпела человеческого присутствия. Иногда ее навещал приходский ксендз, но, как-то спрошенный княгиней прямо, он принял сторону Вальдемара — и больше его не принимали… Только врач приходил каждый день. Княгиня собиралась отправиться за границу, но врач запретил ей уезжать в таком состоянии. Вальдемара старушка больше не видела, и даже словом о нем не упоминала. Однако, когда в Обронное зачастили посланцы из Глембовичей, справляясь от имени Вальдемара о здоровье княгини, старушка, тронутая заботливостью внука, отправила ему письмо, в котором, правда, вновь требовала, чтобы он порвал со Стефой. Вальдемар ответил, что решения своего не изменит, он объявил это решительно, но так сердечно и деликатно, что княгиня в испуге воскликнула:
— Боже, он меня принудит…
Однажды в Обронное приехал пан Мачей. Он хотел переубедить княгиню, но вышло как раз наоборот — уговоры княгини испугали его и поколебали. Старик почувствовал себя виноватым перед своим сословием и княгиней за то, что так быстро согласился на этот скандальный, по мнению княгини, брак. Он почти покорился княгине, жалел уже, что дал слово Вальдемару. Княгиня торжествовала, пани Идалия, чтобы помочь ей, вкладывала всю душу, уговаривая отца передумать. Только панна Рита не участвовала в этом заговоре, совершенно отойдя в сторону.
Вальдемар, узнавший от нее обо всем, решил ехать в Ручаев и уговорить Стефу обвенчаться как можно быстрее. В нем происходила страшная внутренняя борьба, тем более мучительная, что тревога нареченной передавалась ему. Она ждала его, быть может, понемногу теряя к нему доверие… И терпение его лопнуло. Он написал крайне решительные письма княгине и пану Мачею, давая им неделю на раздумье. Если же они не согласятся, он считает себя свободным от всех обязательств по отношению к ним и женится на Стефе даже вопреки их воле.
Пан Мачей был в испуге, но княгиня тут же написала письмо Стефе, запрещая ей выходить за Вальдемара. Однако она совершила большую ошибку, показав письмо пану Мачею. Старик пришел в ужас. Он понимал, что для внука это было бы страшным ударом — получив такое письмо, Стефа умерла бы, но не согласилась выйти за майората. Так что княгиня Подгорецкая сама испортила все дело, когда чаша весов уже склонялась в ее сторону…
Она была деспотична по натуре и решила сражаться до последнего. Однако она не могла предвидеть — что перед глазами пана Мачея вновь оживет прошлое, безжалостное письмо его дяди, отнявшее счастье у той Стефании. Больше пан Мачей не колебался. Он смело объявил гордой графине, что одобряет намерения внука, а в доказательство написал письмо Стефе и отправил его Вальдемару незапечатанным. Но сначала прочитал его вслух княгине и пани Идалии. Письмо было прямо-таки отцовским, дышало чуткостью. Старик просил Стефу сделать Вальдемара счастливым на всю жизнь и называл ее своей внучкой.
Пани Эльзоновская поняла, что все потеряно. Но княгиня не сдавалась. Она замкнулась в своем упрямстве, глухая к любым уговорам, холодная, величественная, неумолимая. Пан Мачей, исполнившись к ней сострадания, перестал ее уговаривать и замкнулся сам, уязвленный в самое сердце. Вальдемара для Обронного словно бы не существовало, но княгиня знала, что он бывает в Слодковцах и вот-вот должен отправиться в Ручаев.
Временами княгиню охватывала дикая ярость: «Пусть едет, пусть женится — знать его не хочу, проклинаю!» Но всякий раз после взрыва гнева рыдания раздирали ей грудь. Вальдемар был ее единственный внук, ее надежда и гордость, украшение рода, самое дорогое, что только было у старушки. Княгиня очень любила и ценила его. Вальдемар был сыном ее младшей, самой любимой дочки. И потому княгиню раздирала внутренняя борьба. А времени, казалось, больше нет — Вальдемар уедет с письмом пана Мачея; получив благословение старого магната, Стефа не будет больше колебаться, на ее стороне Мачей, патриарх рода Михоровских — все кончено! Пан Мачей имеет на Вальдемара большие права и полностью перешел на его сторону. С княгиней же, как она сама в душе признавала, в семейных делах посчитаются меньше. Она чувствовала, что вот-вот потеряет любовь и уважение внука. Небывалая тревога охватила пани Подгорецкую. Гнев, упорство, уязвленная гордость, амбиции, любовь к внуку — все смешалось в ее душе. Она осталась одна, поддержки ждать было неоткуда — даже пани Идалия, боясь ссоры с отцом, тихонько сидела в Слодковцах, ни во что уже не вмешиваясь.
Князь Францишек и его супруга хранили полное молчание, выглядело это так, словно и они смирились с неизбежным. Граф Морикони и его супруга, явно опасаясь идти против майората, вообще не появлялись в Обронном. Панна Рита совершенно замкнулась в себе. Молчаливая, печальная, она часами гуляла по заснеженному парку. Даже любимые кони ее не утешали. Упорство княгини печалило ее. Она хотела Вальдемару счастья, пусть даже ее собственное сердце будет разбито. Но о Стефе она не могла думать спокойно. Неизъяснимая печаль не позволяла ей сочувствовать девушке. Однако она ощущала некую злорадную радость, представляя, что скажут Барские и множество других аристократических семейств, узнав о женитьбе майората. Саму ее, Шелижанскую, считали стоящей на ступеньку ниже, неподходящей партией для майората — даже княгиня и пани Идалия так думали. Теперь, быть может, княгиня и хотела бы видеть женой Вальдемара ее — но поздно! Что ж, будет им всем наука, теперь придется согласиться на Рудецкую…
Панна Рита видела утешение хотя бы в том, что Мелания Барская не станет майоратшей. И убеждала себя, что женитьба Михоровского на ком бы то ни было — это удар, который удастся все же пережить; но не пережила бы она, если бы Вальдемар женился на Мелании. Нелюбовь к графине переросла в ненависть.
Однако при всем своем уме Рита не могла простить Стефе очарования, покорившего майората, а Вальдемару — решимости и энергии, с какими он шел к цели. В одно и то же время она желала его победы и печалилась, что он победит.
Душу ее разрывали грусть, отвергнутые чувства, но она, ни на миг не колеблясь, встала на сторону майората и Стефы, использовала любую оказию, чтобы попытаться переубедить княгиню, чем сердила старушку.
Однажды, в день именин княгини, пани Шелижанская сидела в своей комнате у жарко пылавшего камина. Закутавшись в мягкий шотландский плед, она погрузилась в раздумья. И в этот миг ее уведомили о прибытии графа Трестки, только что вернувшегося из дальних странствий. Равнодушно, не повернув головы, она сказала:
— Просите.
Трестка вошел тихонечко, словно в часовню — что было у него признаком необычайного воодушевления. Молча, горячо он расцеловал руки панны Риты, молча придвинул к себе кресло и уселся. Пенсне не раз и не два сваливалось у него с носа, наконец так и осталось болтаться на шнурке. Казалось, сам вид панны Риты необычайно взволновал его. После долгого молчания он заговорил:
— Неслыханные перемены творятся, я смотрю. Мне на станции встретились Жижемские, они говорили, что в Шале у Барских настроение, словно на пепелище. Вижу, и в Обронном не лучше.
Панна Рита, глядя на огонь, машинально повторила:
— Словно на пепелище… Трестка крутнулся в кресле:
— А как майорат?
Рита удивленно посмотрела на него, пожала плечами:
— Разве не знаете?
— Я-то знаю, все знаю, но уладилось ли?
— Одна только княгиня не уступает.
— Черт возьми! Плохо… И зачем упирается? С майоратом сражаться трудно, почти невозможно. Я слышал, он великолепно защищался на семейном совете. Уж он им произнес речь!
— И победил их всех, — добавила Рита.
— Скорее, стер в порошок! Княгиня должна уступить. Конечно, я ее понимаю, Рубикон перейти неимоверно трудно, и все же… А вы? Что вас так печалит?
Она посмотрела на него сквозь слезы:
— Я? Да что я… Боже!
Опустила голову и уронила на плед несколько слезинок, словно немое признание.
Трестка склонился к ней, взял ее руку и сказал удивительно ласково:
— Знаю… уж я знаю, что вас печалит… Дорогая моя панна Рита, я бы многое отдал, чтобы майорат женился прямо сегодня… ибо тогда я мог бы надеяться завоевать вас. Он был тем утесом, о который разбивались все мои надежды — где уж мне было с ним соперничать… Знаете, я бы жизни своей не пожалел, чтобы вы так по мне убивались… но не всем вьпадает великое счастье, и я жажду хоть крупицу счастья, хоть чуточку надежды…
Рита сердито вырвала руку:
— Перестаньте! Не мучайте меня! У меня голова другим занята…
— Майорат?
Она открыто посмотрела ему в глаза:
— Да. Я жажду для него счастья.
— Он его найдет в той, кого любит.
— Но я хочу помочь, чем только смогу, пусть даже ценой собственного счастья, но я должна повлиять на тетю…
Трестка повесил голову.
Молчание длилось долго. Панна Рита смотрела в огонь. Трестка играл пенсне, не спуская глаз с бедного личика панны Шелижанской. Потом тихо спросил:
— Майорат ей уже признался?
— Давно! Еще в Слодковцах. Но она отказала и уехала.
— От… отказала?!
— Что вас так удивило? Отказала, потому что любит его… Бедняжка, как мне ее жаль!
— Будь на ее месте кто-нибудь другой, ее стоило бы жалеть — но она будет майоратшей! Я знаю от Брохвича, Вальди давно ее любит. Я давно чувствовал… но не думал, что события развернутся так быстро и решительно!
— Неужели вы не знаете майората?
— Знаю, но не подозревал его в матримониальных планах. Думал, что это очередной роман, один из многих, быть может, чуточку более пылкий… но не последний…
— Ну и словечки у вас!
— А что? В них много сердца, души, разума, порыва… словом, в его чувствах — весь непреклонный темперамент Вальдемара. Теперь чувства его оказались не только триумфальными, но и матримониальными. Я знал, что Стефа может очаровать, но даже от нее не ожидал такого — препроводить Вальдемара к алтарю! Брохвич меня убеждал, я не верил…
— А где вы видели Брохвича?
— В Берлине. Он мне первый и рассказал обо всем этом скандале.
— Интересно, какого он сам мнения? Он ведь друг майората.
— Он твердит, что Вальдемар хорошо сделал, ломая сословные предрассудки, надеется, что майорат будет счастлив. Брохвич, знаете ли, боготворит Рудецкую.
— А вы?
— Я ее очень люблю и уважаю. Она прекрасно справится с ролью майоратши. Но вот для родословной Михоровских имя ее прозвучит весьма скромно. После Бурбонов, Эстергази, Подгорецких — Рудецкая… звучит чуточку скандально.
Панна Рита понурилась, ей пришло в голову, что и ее имя — Шелига — выглядело бы не менее скандально, попади оно в родословную Михоровских.[94] Проснувшаяся в ней ирония обратилась на Трестку. Рита сказала колко:
— Если вас столь заботят имена, странно, что вы предлагаете мне руку и сердце. Я ведь не более чем Шелижанская, а вы — Трестка из Тресток, урожденный граф. У нас в роду было всего два графа, так что я вам не пара! — и она язвительно рассмеялась.
— Зачем вы так говорите? — печально спросил Трестка.
— Ах, не будем об этом…
Она зажмурила глаза, откинулась на спинку кресла, и сидела так, сама на себя не похожая.
Трестка опустил глаза на ковер и тоже молчал, тихонько посапывая.
В комнату медленно вползали зимние сумерки, серыми щупальцами касаясь голубых обоев, укутывая мглою картины и зеркала, заливая тенями углы. Пламя в камине гасло. Слабенькие голубоватые огоньки едва мерцали меж почерневшими головешками, да раскаленные угли светились багрово. В сыпучем белесоватом пепле посверкивали и гасли золотые мерцающие искры.
Угнетающая тишина чудовищной паутиной повисла над этим прекрасным уголком особняка и, неся с собой тоску, проникала в сердца двух людей, погруженных в мрачные раздумья.
Бледное личико Риты было полузакрыто пушистым пледом. Ее пышные волосы поблескивали в свете уходящего дня. Пламя камина слабыми отблесками играло на золотом гребне в ее волосах.
Две этих фигуры, укутанные серым сумраком, не отрывавшие глаз от серого пепла в камине, могли бы стать воплощением трагедии. Сердцами их овладели печаль и сомнения, паук тоски все сильнее опутывал их своей серой паутиной, высасывая надежду из потаеннейших уголков сердец.
Внезапно оба пошевелились. Панна Рита подняла голову. У дверей раздался какой-то шум. Они взглянули в ту сторону… и вскочили, побуждаемые одной и той же силой.
В дверях стояла княгиня, надменная, бледная, страшная. Она пошатывалась, глаза ее лихорадочно пылали.
— Тетя! — вскрикнула, подбежав к ней, перепуганная Рита.
— Кто еще здесь? — прошептала княгиня.
— Пан Эдвард, тетя.
Трестка низко поклонился:
— Я только сегодня вернулся и спешу засвидетельствовать вам свое искреннее почтение…
— Хорошо… Благодарю вас.. — прошептала княгиня, протягивая ему руку.
Трестка почтительно поцеловал ее.
— Тетя, присядьте… — обеспокоенно предложила панна Рита.
— Нет-нет, я только хочу, чтобы ты отправила гонца… Рита, прошу тебя, сделай это сейчас же… камердинера… или конюха…
— Хорошо, тетя. А куда он должен ехать?
— В… в Глембовичи, — прошептала пани Подгорецкая.
Панна Рита и Трестка молниеносно переглянулись.
— Он должен отвезти письмо? — спросила Рита.
— Нет… пусть попросит Вальдемара… чтобы он сегодня же приехал сюда… непременно…
Панна Рита выбежала из комнаты.
— Княгиня, не приказать ли зажечь свет? — спросил Трестка.
— Нет, я пойду к себе… мне нездоровится…
— Я вас провожу. Она покачала головой:
— Нет, спасибо, я пойду сама.
И медленно, величественно вышла из комнаты.
Оставшись один, Трестка подошел к камину и стальными щипцами разгреб пепел, подняв сноп искр. Пробормотал под нос:
— Крах или счастливые финал? Вскоре вернулась панна Рита:
— А где тетя?
— Ушла к себе. Отправили человека в Глембовичи?
— Поехал мой кучер. Он быстро обернется.
— Интересно, что будет? Панна Рита была взволнованна:
— Не знаю, не знаю… Как бы там ни было, дело закончится. Княгиня выглядит странно… Я пойду к ней.
— Оставьте ее в покое. Она наверняка хочет побыть одна до его приезда, в особенности если хочет покончить дело решительно. Весьма похоже на то…
— Боже! Лишь бы Вальдемар был дома! Может, он еще не уехал…
— А куда он должен был ехать?
— Люция говорила, что он собирался в Ручаев.
— Куда?!
— К родителям Стефы, просить ее руки.
— Авантюра! — буркнул Трестка.
— Боже, хоть бы он был дома!
— А какого мнения обо всем этом пани Эльзоновская и Люция?
— Люция всем этим очень удивлена, но любит Стефу и потому рада. А Идалька… сердится, но уже ни слова не скажет против, потому что пан Мачей полностью на стороне Вальдемара. Стефа напоминает ему ту. Вы знаете историю бабушки Стефы, покойной Рембовской?
— Та, что была невестой пана Мачея? Брохвич мне рассказывал. Поистине случай необычайный, удивительное совпадение! Но настоящее расплатится за прошлое…
— Кто знает! — вздохнула панна Рита, вновь погружаясь в задумчивость.
XV
Вечер тянулся долго, казался бесконечным. Панна Рита металась меж комнатой княгини и своей, где сидел Трестка. Тихий шум ветра в парке, малейший скрип снега у крыльца — все заставляло насторожиться особняк. Майората ждали с нетерпением, но проходили часы, а его все не было…
Старые часы в столовой отбивали четверти часа, вызванивали мелодии каждый час. Слуги бродили по коридорам, таинственно перешептывались. Раскрасневшаяся панна Рита то и дело выглядывала в окно. Валил снегопад, словно хотел покрыть своим мягким белым, холодным плащом все Обронное с его парком, особняком и горсточкой печальных, угнетаемых ожиданием людей.
В комнату, где сидели Рита и Трестка, вновь вошла княгиня:
— Вальдемара все нет?
— Нет, тетя, но вот-вот приедет, лучше бы вам лечь…
— Не могу лежать… На дворе метет, правда?
— Да, тетя.
Княгиня уселась на канапе, переплела пальцы на коленях и застыла, понурив голову.
Взгляд ее блуждал по комнате, губы беззвучно шептали молитву. Она никого не замечала вокруг.
Панна Рита не могла найти себе места, не знала, что ей делать. Трестка с таким вниманием разглядывал цветы в вазах, словно видел их впервые в жизни. Временами он неуверенно посматривал на княгиню. Наконец, укрываясь за пышным букетом, черкнул что-то в блокноте и сунул вырванную страничку в руку проходящей мимо Рите. Она прочитала: «Этюд к скульптуре: мать взбунтовавшихся Гракхов».[95]
Рита, пожав плечами, уничтожающе глянула на него.
Шли минуты. Вдруг дверь отворилась, вбежала служанка, за ней ворвался лакей. Не замечая княгини, оба наперебой доложили Рите:
— Нету пана майората в Глембовичах! Кучер вернулся! Говорит, пан уже уехал на станцию…
Пораженная княгиня вскочила:
— Что? Уехал?!
Панна Рита и Трестка ужаснулись, увидя ее лицо. Побледневшие служанка и лакей попятились…
— Когда он уехал? — вскрикнула княгиня.
— Пани княгиня… кучер говорит, что еще днем… — пробормотал лакей.
— Боже! Боже! — воскликнула княгиня. Рита обернулась к Трестке:
— Пошлите людей на станции Рудову и Тренбу. Он на какой-то из двух… Скорее!
Трестка выбежал из комнаты, увлекая за собой слуг.
— Несчастье! Какое несчастье! — стонала княгиня. — Уехал! Уехал к ней! Отказался от меня! Боже, я во всем виновата…
Панна Рита с пани Добжинськой едва успокоили ее. Однако старушка впала в оцепенение, сидела, как мертвая. Она молча, без сопротивления позволила снять с себя платье, но в постель ни за что не хотела ложиться. Странные искры зажигались в ее черных глазах, губы кривились от боли, лицо конвульсивно подрагивало. Она дала знак панне Рите и Добжиньской, чтобы они оставили ее.
— Кого вы послали? — спросила Рита у Трестки.
— В Рудову — вашего конюха и кучера, а в Тренбу — моего лакея и кучера.
— Боже, что будет, если они его не застанут!
— Они должны успеть. Поезд отходит от обеих станций поздней ночью. Если он поехал еще днем — значит, направился не на станцию, а в Слодковцы, а уж потом оттуда поедет в Рудову. Но почему он так спешит, что случилось?
— Спешит! Он ждал два месяца! Боже, какой удар для тети! Она и слышать не хотела о Стефе, а он поехал без ее благословения…
— А вернется уже после свадьбы, у него все идет быстро, — заметил Трестка.
— Ох! Этого я больше всего и боюсь! Его порывистости! Без благословения княгини Стефа не согласится, а майорат потерял всякое терпение…
— Не украдет же он ее! Не те времена.
— Но он в ярости может сделать что-нибудь, что убьет княгиню, Езус-Мария! Он страшен в гневе!
— Да, но великолепно умеет сдерживать себя.
— Меня утешает лишь, что он очень любит княгиню. Но в случае долгого ее сопротивления любовь к Стефе сделает его безумцем…
Панна Рита стала тихонько молиться.
Страх вползал в особняк, проникая даже в сердца слуг.
Часы пробили два часа ночи, когда панна Шелижанская увидела наконец среди метели черные очертания санок, подкативших к крыльцу. Тихонько прозвенели колокольчики, и санки остановились перед входом.
— Приехал! — крикнула Рита и стремглав бросилась вниз по лестнице. Следом понесся Трестка.
В сенях камердинер помогал Вальдемару снять заснеженную бобровую шубу.
— Что случилось? — спросил Вальдемар, молча им поклонившись. — Все какие-то перепуганные, словно только что с похорон… Гонец сказал, что бабушка здорова.
— Она непременно хотела вас видеть, — сказала панна Рита. — Она вся изнервничалась, совсем ослабла…
— Вас очень долго не было, — добавил Трестка.
— Долго… Я еду с Рудовы. Гонец меня вытащил из вагона. Я спешил, как мог, но в такую метель лошадям трудно. Проклятая погода!
— Я пойду, скажу тете, что вы приехали, — сказала панна Рита.
— Я иду с вами.
Княгиня сидела в кресле в своей спальне, недалеко от постели. На ней был белый фланелевый халат, украшенный дорогими кружевами. В этой одежде, с бледным лицом и горящими глазами, в белой кружевной шапочке на седых волосах, она была красива и казалась ожившим старинным портретом. Темные обои, золотая инкрустация потолка, тяжелый дамастовый полог кровати из эбенового дерева — все это в сиянии висячей лампы выглядело величественно, создавая великолепный фон для гордо выпрямившейся фигуры княгини. Рядом с ней стоял резной столик, на котором лежала открытая Библия.
Панна Рита вошла, склонилась к старушке и шепнула:
— Тетя, приехал майорат… Можно ему войти? Румянец вспыхнул на бледном лице княгини:
— Приехал? Уже?
Она обвела вокруг взглядом и откинулась в кресле:
— Где Вальдемар?
— Рядом, в салоне.
В глазах княгини зажглась непреклонная решимость, и она громко сказала:
— Пусть войдет.
Выскочив в салон, панна Рита схватила Вальдемара за руку:
— Идите, но… будьте с ней осторожнее. Она так расстроена и слаба…
— Будьте спокойны.
Вальдемар вошел в спальню и сердечно расцеловал руки княгини.
Она смотрела ему в глаза с немым вопросом, величественная, гордая. Казалось: ее черные глаза проникают в глубины души внука, словно пытаясь выведать, что там скрыто. Она сжала руку Вальдемара белыми пальцами — на одном, словно зеленая звезда, светился изумруд.
Он сел с ней рядом, принужденно улыбнулся и спросил:
— Бабушка, почему ты так на меня смотришь?
— Хочу увидеть в тебе перемены, — прошептала княгиня.
— Перемены? Во мне?
— Да, я хотела бы видеть тебя изменившимся, — сказала она настойчиво.
Вальдемар понял.
— Нет, бабушка, я так легко не меняюсь, я человек решительный, — ответил он исполненным силы голосом и гордо поднял голову.
Княгиня выпустила его руку:
— Значит, ты по-прежнему упорствуешь?
Глаза ее дико блеснули. Вальдемар спокойно выдержал этот взгляд.
— Да, бабушка.
— Значит, ничто… ничто не способно повлиять на твое решение? Ничто не заставит тебя изменить твои… чувства?
— Решение мое твердое, а о смене чувств и говорить не стоит…
— Значит, ничто на свете…
— Ничто, милая бабушка. Я так решил. И так должно быть. И тебе придется с этим примириться. Я прошу тебя об этом, твой единственный внук, твой Вальди, прошу от всего сердца. Я люблю Стефу больше жизни, и она меня любит. И я ее не подведу — даже если придется вырвать сердце из груди. Сегодня я направлялся в Ручаев, долго ждал, но больше терпеть не могу. Еще минута — и мы бы уже не увиделись. Бабушка, ты суровая, неумолимая, но я питаю к тебе сыновние чувства. Они-то меня и удержали от решающего шага. Я знаю, Стефа не пошла бы за меня без твоего позволения, но я сумел бы ее убедить. Боже, так она тонка и деликатна! На письма мои она отвечала крайне сдержанно. Свою любовь она хотела бы укрыть так глубоко в глубине сердца, чтобы никто не дознался…
— Ты переписываешься с ней?
— Я отправил ей два письма. Она ответила только раз — и, повторяю, в словах ее звучали глубокие чувства, но скованные некими удилами, которые калечат ее чистую любовь, такую искреннюю, такую святую!
— Вальдемар… ты очень ее любишь?
— Она для меня — единственная. Не будь она мне дороже всего на свете, я не сражался бы так за свою любовь, — ответил Вальдемар крайне серьезно.
Он пронзил бабушку пристальным взглядом серых глаз, полных любви.
Княгиня опустила глаза, длинными тонкими пальцами оправляла кружева халата. На лице выступили красные пятна, губы решительно сжались. Вся ее фигура выражала тяжелую борьбу двух чувств: любви к внуку и уязвленной гордости.
Что же победит? — этот вопрос висел в воздухе, им дышали стены спальни.
Вальдемар не отрывал взгляда от бабушки. Он хорошо ее знал и в охвативших ее колебаниях видел добрый для себя знак. Сердце у него билось учащенно, он не хотел дальше сражаться с этой женщиной, которую любил и почитал, как родную мать. Но в глазах его горели бунтарские огни, терпение его было на исходе. Всей душой, всей силой воли он мысленно умолял ее: «Довольно, хватит, иначе ничто уже меня не удержит!»
Княгиня подняла на него глаза, прочитала все в его взгляде и быстро опустила веки. Кровь бросилась ей в лицо.
С минуту она молчала, заставляя себя успокоиться, наконец тихо шепнула:
— Я давно ее не видела… У тебя есть фотография? Глаза Вальдемара загорелись, радостная улыбка появилась на губах, придя на смену угрожающей решимости. Лицо его словно озарилось светом восходящего солнца.
Княгиня, заметив эти перемены, подумала: «Как он ее любит!»
Вальдемар отстегнул от цепочки медальон, открыл и мысленно шепнул печально улыбавшейся Стефе:
— Теперь ты победишь, единственная моя!
Он достал элегантный бумажник, вынул из него узкую, длинную фотографию Стефы в бальном платье на темном фоне и вместе с медальоном подал княгине.
Удивленная старушка взглянула на медальон:
— Вот как ты носишь ее фотографию?
— Как и положено носить фотографию невесты, — ответил он.
Княгиня долго приглядывалась, подняв медальон и фотографию к глазам. Руки ее дрожали. Словно внутренний свет озарил ее лицо, отражая владевшие ею глубокие, но непонятные стороннему наблюдателю чувства.
В комнате настала торжественная тишина, словно бы в ожидании чуда.
Наконец княгиня отвела от глаз лорнет в черепаховой оправе на длинной ручке, положила медальон и фотографию на столик, оперев их на Библию. Вновь всмотрелась в лучезарные, бездонные глаза Стефы. Промолвила, словно бы для себя самой:
— Очень красивая… и удивительно очаровательная. И закончила едва слышно:
— Как принцесса…
Опустила веки. На ее висках пульсировали жилки. Вновь подняла глаза на фотографию и вдруг подала Вальдемару обе руки, сказав:
— Вальди… мне нравится… твоя Стефа…
Он стиснул ладони старушки, склонился к ней, глаза его сияли сумасшедшим счастьем:
— Да, моя Стефа! Моя!
— Пусть же вас… благословит Господь, — сказала княгиня торжественно, возлагая руку на голову внука.
Вальдемар, зная, чего стоили княгине эти слова, прижал ее руки к губам:
— Спасибо, дорогая бабушка! Счастье наше будет тебе наградой!
Княгиня поцеловала его в голову. Слезы навернулись ей на глаза:
— Дай-то Бог, чтобы вы были счастливы, дай-то Бог! Я не хотела оказаться, хуже, чем Мачей, боялась, ты от меня отвернешься… твои чувства много значат и для меня… и вот… благословляю.
— Мы будем любить тебя! И ты ее полюбишь!
XVI
Вальдемар разговаривал с бабушкой долго, так что панна Рита сгорала от нетерпения, а Трестка громко жаловался. Пробило половину третьего, потом три. Наконец вышел Вальдемар. Панна Рита не шевельнулась. Что-то словно бы приковало ее к месту. Трестка подошел к майорату, не сказал ни слова, но лицо его выражало живейшее любопытство.
Вальдемар был весел, но, глянув на каменное лицо Риты, посерьезнел, нахмурился.
Неловкое молчание продолжалось.
Сейчас решались судьбы всех троих.
Вальдемар подошел к панне Рите. Она, сделав над собой усилие, спросила:
— Что тетя? Неужели…
Она не смогла закончить, — перехватило горло.
— Тетя ложится спать, — сказал майорат. — Завтра… точнее, уже сегодня, будем праздновать бабушкины именины, а потом я поеду в Ручаев.
Панна Рита смертельно побледнела, глухой стон рванулся из ее груди, но она, прикусив посиневшие губы, страшным усилием воли превозмогла себя, протянула Вальдемару руку, глядя на него с нескрываемой болью:
— Да пошлет вам Бог счастья…
Вальдемар, низко склонившись, поцеловал ей руку.
Трестка бросился громко его поздравлять. Назвал майората героем и обещал, что произнесет на его свадьбе великолепную речь — назло графу Морикони, которого терпеть не может:
— А еще я хотел бы, чтобы там были Барские. Да сомневаюсь, не приедут!
После отъезда майората и графа Рита пошла к себе, двигаясь, словно во сне; внезапно из ее груди вырвались рыданья, заключавшие в себе все: любовь к Вальдемару, давнюю и горячую, непонятную жалость к нему и Стефе, глухое отчаяние. Рухнув на колени перед постелью, она спрятала лицо в подушку, и плечи ее затряслись от безудержных рыданий. Она никогда и не питала надежды, что майорат однажды проникнется к ней чувством, никогда не строила иллюзий, но и не представляла, что он, в конце концов, изберет женщину, которую полюбит и назовет женой. Такое виделось столь туманно, так далеко, что теперь, когда это наступило, обрушилось страшным ударом. Она знала о его чувствах к Стефе, и давно знала о расположении к девушке пана Мачея, слышала дышавшие решимостью слова Вальдемара на семейном совете, но упорство княгини было для нее последней слабой опорой, ограждавшей ее от страшной правды. Она искренне желала ему счастья, и, если бы все зависело от нее, не колеблясь вручила бы ему руку Стефы. Но природа человеческая сложна, и не всегда ее можно понять. Лишь теперь Рита поняла, какая пропасть разверзлась перед ней и майоратом, какая мощь обратила в прах ее любовь.
Княгиня, так и не дождавшись ее, сама вошла в комнату воспитанницы. Увидев рядом тетю, Рита вскочила с колен.
— Тетя, зачем? Зачем вы пришли? Старушка обняла ее и прижала к себе:
— Детка, не упрекай мне, что я пришла. Я догадывалась, я все знала… Рита, ты его любишь, мы обе страдаем. Ты благородная душа, вставала в его защиту, хоть сердце у тебя разрывалось от боли… а я тебе выговаривала. Прости меня.
Она села на постель. Рита, дрожа и плача, сильнее прижалась к ней. Княгиня продолжала:
— Видишь, все кончено, уже и я их благословила, Рита. Он любит Стефу, очень любит, они будут счастливы, и это меня утешает. Я совсем стара, и мне жаль стало, что последние минуты жизни я проживу, лишенная любви внука. Я уступила и на душе стало спокойнее, упал камень с сердца, я даже счастлива… ибо что мне еще оставалось? — Княгиня глубоко вздохнула: — И девушка эта мне все же нравится. Должно быть, она того достойна, если смогла так сильно привязать к себе Вальдемара. Он удивил меня силой воли, а она… — и она закончила шепотом:
— А она — очарованием…
Старушка гладила темные волосы воспитанницы. Панна Рита умолкла, словно бы успокоившись. Княгиня шепнула:
— Я разговаривала с духом моей Эльзуни и с Габриэлой. Особенно часто во сне ко мне приходила Габриэла. Становилась рядом с Вальдемаром и клала ему руку на голову, словно бы благословляя. И Стефу я видела, она стояла перед Габриэлой на коленях, красивая, умоляющая, совершенно такая, как на медальоне Вальдемара… — Старушка вздрогнула: — И еще… знаешь, … ко мне приходила покойница Рембовская. Ох! Как жутко она мне смотрела в глаза!
— Тетя, не мучайте себя, — сказала заботливо панна Шелижанская.
— Все прошло, детка… Сейчас мне хорошо, так спокойно… Вальди любит меня, и только это меня теперь волнует. Ах, почему его не видит сейчас Эльзуня!
Панна Рита вздохнула. Княгиня поцеловала ее в лоб:
— Ты страдаешь, девочка моя, вижу… Бог даст, найдешь и ты свое счастье. Ты достойна счастья.
— Не хочу, тетя, не хочу… Я люблю его всей душой, но никогда и мечтать не смела, что он… Что я для него? Чересчур смело было бы и мечтать. Но мне так печально…
— Это пройдет, — сказала княгиня.
Уже светало, когда княгиня, ослабленная бессонницей и событиями минувшей ночи, легла в постель.
Но уснуть она не могла. Перебирая сандаловые четки, не отрывала взгляда от дамастовой портьеры, на которую бледный рассвет бросал фиолетовые тени.
Губы старушки шептали молитву, но мысли ее были далеко, унеслись в давние времена, когда и она была молодой, сама любила, а потом видела первую любовь своих детей.
В каждом поколении все повторяется снова…
XVII
Вальдемар возвратился в Глембовичи, когда уже рассветало. Замок, еще минуту назад спокойно спавший, ожил. Больше всего суеты было в теплицах и оранжерее, где ярко засияли электрические лампы. Майорат сам выбирал цветы. Отряд садовников с ножницами в руках производил сущее опустошение. Главный садовник составлял букеты. Было чем залюбоваться. В букеты попадало все самое прекрасное, что только могли дать теплицы в эту пору года. Розы, орхидеи, мимозы казались перенесенными сюда с Ривьеры. За упаковкой букетов надзирал сам майорат.
В одиннадцать ловчий Юр, в богатых ливрейных мехах, стройный и гордо державшийся, выехал на станцию, сопровождая этот благоухающий груз. Кроме цветов, он вез письма от Вальдемара Стефе и ее родителям.
Перед обедом майорат появился в Слодковцах, столь оживленный и радостный, что все сразу отгадали причину. Пан Мачей радовался от души, Люция, уже примирившаяся со Стефой в роли майоратши, хотела, чтобы это произошло как можно быстрее. Только пани Идалия была сумрачной, быть может, перед глазами у нее встало трагическое в гневе и смертельной обиде лицо графини Мелании.
Однако, вынужденная считаться с отцом, она тоже пожелала Вальдемару счастья, правда, чуточку ироничным тоном.
Именины княгини собрали в Обронном много гостей. Были пан Мачей с дочерью и внучкой, герой дня Вальдемар, князь Францишек Подгорецкий с женой, дочками и их учительницей, граф Морикони с графиней, и Трестка, и Вилюсь Шелига, прибывший из Варшавы перед отъездом в университет.
Из соседей приехали Жижемские и Чвилецкие. Графиня Чвилецкая, узнав, чем кончилась борьба с Вальдемаром, приняла вид пораженной в самое сердце, то и дело бросала на княгиню сочувственные взгляды. Чемоданы у нее были уже запакованы, но она не уезжала за границу, желая знать, чем все кончится, и теперь гнев ее не имел границ — но никого он не напугал. Княгиня уже вернулась к прежнему душевному равновесию. Княгиня Францишкова с дочками, Люция и панна Рита поддерживали хорошее настроение. Панна Рита говорила молодой княгине, что смеется сквозь слезы, дабы скрыть рыдания, но звучало это даже шутливо. Им вторили Жижемские и развеселившийся пан Ксаверий. Отличное настроение Вальдемара увлекало и пана Мачея, и старую княгиню. Трестка сыпал шутками, впервые глядя на майората с любовью и благодарностью. Только пани Идалия, графиня Морикони и Чвилецкая держались чуточку скованно, слегка надувшись. Князь Францишек и граф Морикони посматривали словно бы иронично-критически, говорили мало, всячески обходя предстоящее обручение майората. Вилюсь Шелига сидел потерянный, ни на кого не обращая внимания. Трестка в какой-то миг попытался пошутить над причиной его печали, однако майорат деликатно, зато недвусмысленно осадил его, и Трестка ненадолго потерял свой буршевский юмор.
За ужином большое впечатление на всех произвел тост пана Мачея.
Старик встал и, подняв бокал с шампанским, четко произнес:
— За здоровье невесты моего внука, панны Стефании Рудецкой, которую с этой минуты я считаю членом нашей семьи. Да здравствует молодая и счастливая пара!
Вальдемар с благодарностью взглянул на дедушку, все осушили бокалы — кто искренне, кто не особенно. Трестка — с большим пылом, графиня Чвилецкая и пани Идалия — принужденно.
Один граф Морикони держал бокал, не отпив ни глотка, озабоченный и злой, словно хотел открыто продемонстрировать свое неодобрение, но пока что колебался.
Заметив это, Вальдемар задержал у губ свой бокал и посмотрел на графа. Какое-то время они в полном молчании смотрели друг другу в глаза. Взгляд Вальдемара стал ледяным, лицо графа побагровело, но он так и не выпил за здоровье молодых. Все смешались. Глянув на Вальдемара, графиня Морикони легонько потянула мужа за рукав. Наконец Вальдемар произнес твердо, с особенной интонацией:
— Пан граф, мы вас ждем!
Граф бросил на него неприязненный взгляд, но в конце концов выпил. Вслед за ним выпил и майорат, с проказливой улыбкой, словно говоря этим: «Вот так будет всегда».
Ужин затянулся до поздней ночи и в конце концов привел в хорошее настроение всех, даже графа Морикони вроде бы перестала беспокоить разница в общественном положении майората и Стефы.
Впервые после долгих недель Обронное лучилось весельем и жизнью, словно празднуя триумф майората.
XVIII
В салон ручаевского дома проник золотой, прозрачный солнечный лучик, обежал стены, оклеенные белыми обоями, погладил ореховую мебель, засверкал на темно-пунцовой плюшевой обивке, осветил начищенный паркет длинной полосой. Звездные глаза его посверкивали искорками, но как бы нехотя, лениво, словно все это он видел в сотый раз, и ему давно прискучило.
И вдруг золотой лучик оживился, он увидел нечто новое, несказанно его удивившее.
Это были цветы. Множество цветов — в горшочках, плетеных корзинах, в вазочках с водой. Они стояли на столе, на полках, на зеркалах, даже на полу. Солнечный лучик, увлеченный и пораженный необычным зрелищем, проскользнул к цветам и принялся их изучать.
Он заглянул в венчики роз и шепотом спрашивал, откуда они взялись здесь, в этом скромном сельском домике, такие прекрасные, как попали сюда, преодолев окрестные снега, зачем их сюда привезли. То же самое он нашептывал гордо воздетым головкам тюльпанов и аристократичным орхидеям, целуя их легким прикосновением, почти неощутимым, — но чародейские поцелуи солнца, даже чуть прикоснувшись, окрашивают золотом. Цветы окутались сияющим ореолом, засверкали яркими красками. Первые ландыши, покачивая жемчужными головками, нежно прильнули к солнечному лучику и стали рассказывать свою историю. Следом заговорила белая и лиловая сирень, церемонно, но весело склоняя пышные кисти. Зашумели скромные и благодарные фиалки, подняв бархатные головки из изумрудных листков. И прекрасные гиацинты цвета радуги зазвучали тихим шелковым шелестом. Подняли головки и ирисы, желтые, лиловые, темно-крапчатые. Заколыхались белые нежные перышки разноцветных гвоздик, стрелки пушистого папоротника. Заблестели белые нарциссы.
Потом уж заговорили величаво королевы-розы, покорявшие богатством форм и оттенков: прекрасная «Марешаль Нель» в золотистом бархате, изящная «Ля Франс» в розовых шелках, грациозная «Тебри» в прекрасной тунике цвета чая. Были там и «Госпожа Самоцветов» в снежно-белом атласном платье, «Принцесса Либерти» в ярко-алом. Были и другие королевы, в богатых нарядах и платьях поскромнее, разных цветов и оттенков, начиная от белого как снег атласа и кончая черным бархатом. Иные из них блестели самоцветами росинок, и все ласково шептались с солнечным лучиком.
За королевами галантно выступали гордые в своей славе королевичи-орхидеи из знаменитой династии «Орхис Пурпуреа», в коронационных плащах, со шпорами. Обычно неприметные, сейчас они горели на солнце, увлеченные примером дам, а может, привлеченные блеском золота озарившего их луча. Орхидеи — привередливые магнаты, чувствительные к золоту и теплу.
Следом шествовал придворный кортеж. Во главе его шли пажи — разноцветные тюльпаны, яркие, словно попугаи, невероятно чванливые. Величественно выступали сановники-кактусы, мирты в зеленых придворных мундирах и пахучие желтофиоли. С другой стороны тянулись к солнцу грациозные царевны и принцессы крови — белые лилии в развевающихся одеждах, благоухающие, девственные, прекрасные. За ними придворные дамы: шарообразные азалии в вазах, сиявшие самыми разными оттенками, от прозрачной белизны до темного пурпура, изящные белые каллы, гордо возносящие вверх свои конусообразные диадемы.
Рядом усмехалась солнцу скромная, словно воспитанница монастыря, нежная, невинная мимоза, усеянная множеством цветов. И она стала щебетать что-то золотистым лучикам, купаясь в их сиянии. Хотя она была дочерью известного своей гордостью рода «Сензитивов», близких родственников богобоязненной семьи «Мимоза-Пудика», и она не осталась равнодушной к ласкам солнца, не отворачивалась от его прикосновений, наоборот, расцветала.
Чародейное солнце!
Вот еще одна кокетка, изящная, родовитая тубероза. Вся в солнечном блеске, окутанная теплом, она чуть приподняла свое прекрасное платьице и болтала с солнышком смело, шаловливо, темпераментно, распространяя нежный запах изысканных духов.
Цветы разговорились.
Цветы тараторили наперебой — как они ехали сюда, как их здесь встретила прелестная девушка, так обрадованная и восхищенная. Цветы рассказывали солнцу, как эта прекрасная юная девушка целовала их, разрумянившись от счастья, со слезами в темно-фиалковых глазах, едва ли не с молитвой на устах. Как она шептала желтым розам: «Вы от него, от него!» — а они, словно немой ответ, дарили ей свое благоухание.
О! Цветы прекрасно понимали, что стали вестниками счастья, которое вскоре привезет сюда сам майорат. Они знали, как им надлежит приветствовать эту прекрасную девушку.
Слушая, солнце радостно сверкало. Его золотое трепетание и теплое дыхание, соединившись с благоуханием цветов и их изящными очертаниями, создало в белом ручаевском салоне атмосферу упоения.
Так подумала Стефа.
Она вошла и остановилась в дверях, пораженная. Ее сияющее лицо и белое платье прекрасно дополняли сложенную из цветов прелестную картину.
Сколько она пережила в последние недели, как преследовали ее сомнения, тревоги, мучительные метания души!
Она сурово проверяла свои чувства к Вальдемару. Хотела неопровержимо убедиться, любит ли она его. Быть может, все переживаемое ею — не любовь, а всего лишь восхищение им? Быть может, очарование его заключается главным образом в прекрасных и пышных декорациях, окружающих его? Смог бы Вальдемар в другой обстановке, в другом окружении столь же безраздельно завладеть ее сердцем и душою?
Стефа все глубже погружалась в бездну сложнейших размышлений, ища правду в потаенных уголках души. Благородство ее характера требовало этого — в первую очередь ради Вальдемара, его будущего счастья. В его любовь она верила безраздельно. Боялась лишь одного — сможет ли она одарить его столь же великим счастьем, как то, что обещал ей он? Ответ на эти вопросы значил даже более самой ее жизни. Даже тоскуя, Стефа спрашивала себя — тоскует ли она по Вальдемару, или еще по Глембовичам и великолепному обществу? Однако в мыслях перед ней представал Вальдемар, один лишь Вальдемар, и его не заслоняли ни прекрасные пейзажи Глембовичей, ни величественные покои замка. К тому же, хоть она и узнала Вальдемара-магната, наследника знатного рода, миллионера, любовь к нему вспыхнула далеко не сразу, сначала все было как раз наоборот, сначала она его терпеть не могла. Значит, не богатая оправа привлекла ее, а сам человек, которого, узнав ближе, она оценила по достоинству; не блеск герба, титула, миллионов, а его очарование, благородство, мужественный характер. Его имения, связи и замки ничего не значили — она оказалась под влиянием его ума, личности.
Стефа вспомнила один разговор с Вальдемаром. Он сказал, что возникающее чувство похоже на строящийся дом, и хорошо, если кирпичами становится любовь, подкрепленная фундаментом уважения. Это словно цемент — никакой глины, глина такая непрочная…
Железная арматура — это постоянство.
Мастерок — доверие, связывающее любовь с уважением.
Стропила и свод — жизненные условия и обстоятельства.
Штукатурка — вера, обладающая великой силой.
Краска — мнение окружающего мира, способное либо поддержать, либо сокрушить.
Фундаментом Вальдемар чуточку цинично назвал и влечение. И уверял, что воздвигнутые на нем здания чувств бывают самыми прекрасными, в особенности если влечение не слабеет. Однако он признавал, что фундаментом может стать и духовная близость, сходство характеров и стремлений.
Припомнив это, Стефа прислушалась теперь к собственным чувствам.
Быть может, без влечения любовь и в самом деле никогда не станет безумной и покажется бледной, словно картина, нарисованная с подлинным мастерством, но помещенная в темный угол, где на нее не падает и лучик света.
Сначала Стефу удручал налет цинизма в характере Вальдемара, но потом она убедилась, что это — неизбежный результат его жизненного опыта, и что цинизм этот вместе с родственными ему иронией и пессимизмом всегда подчинен его этике и врожденной деликатности. Это и составляло часть его покорявшего женщин очарования, делало его своеобразным, в чем-то решительно отличавшимся от обычного покорителя сердец и светского льва, каких множество. Он не был лгуном в глаза, не заботился, нравится это кому-нибудь или нет. Мог задеть словом даже молодую женщину, которая ему нравилась, — но всегда существовали границы, которых он ни за что не перейдет. Он совершенно не умел ни льстить, ни говорить пошлости и не выносил этого в других. Люди, часто встречавшиеся с ним, поневоле попадали под его влияние. Так произошло и со Стефой. Она пыталась бороться — не помогло. Потом то же самое случилось с его родными, протестовавшими было против его женитьбы.
Со времени своего отъезда из Слодковцов Стефа боялась за него. Он назвал ее своей невестой при совершенно незнакомой женщине — значит, назовет ее так и перед своими родными. И что тогда?
Она перечитала дневник покойной бабушки, и страх ее усилился. Порой она ожидала, что придет письмо, после которого все будет кончено, в точности такое, как то, что сломало судьбу и счастье юного улана и девушки в белом, писавших в дневнике. Но сомнения вскоре рассеивались. Она верила Вальдемару, об одном лишь пытала свою совесть: имеет ли она право толкать ею на борьбу, войти в аристократическую семью, которая этому противится?
Но поздно… никакие аргументы на нее больше не действовали, и уж тем более на него — он взял их счастье в свои руки и, побуждаемый любовью, смело шел вперед.
И победил!
С письмом Вальдемара она подбежала к цветам и, вдыхая чудесные ароматы, в сотый раз перечитывала строки, упиваясь словами, как будто их произносили уста Вальдемара. Не могла оторвать глаз от строчек, выражавших его чувства, его мысли, его благородство и неукротимую волю.
Цветы, склонивши друг к другу прекрасные головки, бросая на Стефу тысячи благоуханных взглядов, простирали к ней сотни разноцветных ручек, тихонько шепча: наша хозяйка! Наша прекрасная хозяйка!
Стефа посмотрела на часы и шепнула:
— Пора ему уже быть…
Оглядев цветы, вынула из вазочки свежую, едва расцветшую «Марешаль Нель» и приколола к волосам. Посмотрела в зеркало. Наверное, впервые в жизни ее поразила собственная красота. На губах заиграла радостная улыбка:
— Я красива! И буду красива — для него!
Внимание ее привлекли донесшиеся снаружи звуки.
Она подбежала к окну. Щеки ее вспыхнули.
Перед крыльцом стояла гнедая ручаевская четверка. Лакей и ловчий Юр отстегивали меховую полость.
Стефа прижала ладони к пылающим щекам:
— Он здесь! Вальди в Ручаеве!
В сенях она услышала голос отца. Когда вскоре отозвался звучный баритон Вальдемара, горячая волна счастья охватила Стефу. Она побежала к двери… но тут вошел майорат и просиял, увидев ее.
Пан Рудецкий тактично скрылся за дверью.
— Моя! Моя! — воскликнул майорат, обняв нареченную.
Стефа уронила голову ему на грудь, почти теряя создание в приливе чувств.
— Я приехал к тебе, любимая… Теперь ты моя навсегда.
Стефа указала на цветы:
— Они говорили, что так будет…
— Красивые, правда?
— Прекрасные и к тому же… глембовические…
Вальдемар вручил Стефе два письма: от дедушки и от княгини Подгорецкой.
Княгиня обращалась к ней ласково, непринужденно, тон ее письма ничем не выдавал предшествовавшего сопротивления. Стефу она называла своей внучкой, выражая горячую надежду, что Вальдемар будет с ней счастлив. Она высказывала теплые слова в адрес родителей Стефы и недвусмысленно давала понять, что хотела бы познакомиться со Стефой поближе — явное приглашение в Обронное.
Старики Рудецкие уже ничего не боялись и не собирали больше защищать дочку от непрошенного гостя, наоборот, смотрели на него с гордостью и уважением. Будущее Стефы не таило для них более тревог и опасений.
Письмо княгини взволновало Стефу. Она догадывалась, какую схватку пришлось выдержать Вальдемару, прежде чем Подгорецкая написала ей эти строки. Знала, что борьба была нешуточной, но Вальдемар победил и добился своего. Любовь к нему смешалась в ее душе с удивлением и уважением.
Прочитав письмо, она протянула ему обе руки, глаза ее сияли благодарностью.
Вальдемар расцеловал ее ладони.
Оба поняли, что отныне они счастливы.
Двумя часами позже в белом салоне, среди цветов, Вальдемар и Стефа обменялись кольцами. Когда на пальчике Стефы заблистал огромный бриллиант, фамильная драгоценность Михоровских, а она надела нареченному на палец свой перстенек с жемчужиной, жаждущие уста Вальдемара слились с ее устами, и упоение казалось бесконечным.
Однако Стефа вдруг ощутила еще и смутную тревогу.
Быть может, все из-за того, что в этот миг молодую пару посетили духи Стефании Рембовской и Габриэлы де Бурбон — как напоминание о том, что жизнь соткана не из одного счастья. Но в самом ли деле духи наблюдали сейчас за ними?
XIX
Весть об обручении майората Михоровского с панной Рудецкой разнеслась широко, вызвав в аристократических кругах гнев и многочисленные протесты, а среди интеллигенции — удивление. Многие попросту считали это пущенной кем-то ложью. Салоны, клубы, будуары только об этом и говорили, но там по крайней мере сохраняли определенный такт; шепотки по углам были не в пример злее.
— Мезальянс! Мезальянс! — звучало повсюду.
Все графини и княжны, все светские девицы, рассчитывавшие на майората, краснели от злости.
Газеты подали сенсационное известие, не скрывая благожелательного отношения к Вальдемару. Иные особы из аристократии и желали бы, чтобы дело было описано не в пример цветистее, но журналисты не хотели оскорблять Михоровского.
«Высшие круги» напоминали потревоженный улей.
Имя Стефы было у всех на устах. Ее фотографии, запечатлевшую девушку — среди глембовических гостей, и в одиночестве, щедро раздаваемые панной Ритой, переходили из рук в руки. Одна, разорванная на мелкие кусочки, сгорела в камине в особняке Барских, брошенная в огонь хищными пальчиками графини Мелании.
Маркграфиня Сильва отсылала майорату крайне патетические письма, которые вместе с целой пачкой им подобных благополучно упокоились под замком в одном из ящиков стола Вальдемара, прозванном им «архивом дней минувших».
Весельчак Брохвич, вернувшийся из Берлина, странствовал по светским салонам, произнося повсюду речи в похвалу Стефы, громко и откровенно восхищаясь будущей майоратшей. По этому поводу его крепко невзлюбили во многих аристократических домах, но азартный шутник не сдавался.
Сущую панику вызвало поразительное известие: через две недели после обручения в Ручаев вместе с майоратом прибыли младшая княгиня Подгорецкая, панна Рита, а следом — неотвязный Трестка и Брохвич, прибывшие поздравить Стефу на правах близких друзей Вальдемара.
Стефа светилась счастьем, делавшим ее еще прекраснее, но нагрянувшие в Ручаев гости вызвали бурю в Слодковцах: пани Идалия заходилась от злости, но ничего не могла поделать с Люцией — девочка во что бы то ни стало хотела ехать в Ручаев. Встретив решительный отказ матери, заявившей, что уж ее-то ноги там не будет, Люция собралась поехать в Ручаев с панной Ритой, но баронесса не согласилась и на это. Не поддавшись на уговоры пана Мачея, она увезла дочь за границу. Втайне от матери Люция отправила Стефе отчаянное письмо. Она капризничала, проявляла упрямство, и пани Идалия поторопилась уехать на Ривьеру, оставив отца на попечении пана Ксаверия.
Но пан Мачей почти все время проводил в Обронном, ожидая вместе со старой княгиней приезда Стефы. Княгиня недвусмысленно дала понять Вальдемару, что хочет, чтобы Стефа, погостила у нее, и они лучше узнали бы друг друга. Майорат охотно согласился привезти девушку, но с непременным условием: ее будут сопровождать отец или мать. Княгине пришлось согласиться и на это. Вальдемар понял замысел бабушки: примирившись с неизбежным, княгиня решила стать наставницей Стефы, подробнейшим образом ознакомить Стефу с ее будущей ролью, дав ей своего рода образование. Пани Подгорецкая знала Стефу не понаслышке, но была уверена, что найдет у нее недостатки, требующие исправления — как необработанному алмазу, чтобы стать прекрасным бриллиантом, необходима огранка. Вальдемар, не имевший ничего против, тем не менее подшучивал над бабушкой, уверяя, что она попросту вспомнила средневековый обычай, когда обрученных принцесс привозили перед свадьбой ко двору жениха, дабы ознакомить их с придворным этикетом. Княгиня ответила сухо:
— Я просто хочу, чтобы в будущем она ничем не отличалась от дам нашего круга.
Вальдемар нахмурился, но ничего не ответил, лишь подумал: «Уж она-то нас не скомпрометирует».
Когда из Ручаева вернулась молодая княгиня и рассказала матери о своих впечатлениях, последние опасения старушки развеялись. Сыграли роль и письма Стефы к ней и пану Мачею.
Молодая княгиня рассказывала:
— Поверьте, мама, я сама сначала боялась чуточку этого Ручаева, но кому было ехать, как не мне? Идалька отказалась. И я была приятно поражена: совершенно приличный дом в старом шляхетском духе, без чрезмерных претензий и глупой пышности — хороший вкус и неподдельная сердечность. Рудецкие-родители — люди вполне светские, хорошо воспитаны. Отец — человек с образованием, мать — классическая польская матрона, еще довольно молодая. Там есть еще двое младших детей. Мальчик — сорванец, но очень милый, готовится с домашним учителем в университет. С Брохвичем они тезки и потому как-то сразу подружились, а на Вальдемара он поглядывает с невероятно комичным удивлением. Девочка, Зося, совсем еще маленькая, тоже очень милая, но не такая красивая, как Стефа. А Стефа попросту цветет, сияет от счастья.
— Я думаю! — усмехнулась не без иронии княгиня.
Молодая княгиня продолжала:
— Вы только не думайте, что Стефа счастлива из-за будущего положения в свете. Насколько я ее узнала, она бы предпочла, чтобы у Вальдемара было поменьше миллионов и титулов. Единственное, что ее наполняет гордостью, — слава его рода. Что поделать, настоящая шляхтянка! Однако она всей душой любит Вальдемара ради него самого. Только чуточку опасается, придется ли ко двору в новой роли: наш круг ее немного пугает. И Рудецкие говорят о будущем самую чуточку озабоченно, тоже опасаются, как бы наше общество не причинило дочке вреда…
Старая княгиня молчала. Пан Мачей, понурив голову, отозвался:
— Они нас боятся из-за прошлого… Что ж, я сыграл незавидную роль, но Вальдемар их переубедит, докажет, что история не повторяется. Неужели они ему не верят?
— Что вы! Они ему верят, ценят его… но опасаются. Может быть, у них дурное предчувствие?
Пан Мачей и княгиня удивленно воззрились на нее:
— Предчувствия? Какие могут быть дурные предчувствия?!
— Быть может, они не верят, что Стефа будет в будущем совершенно счастлива. В конце концов, она входит в чуждое ей общество… которое настроено против нее.
— Но мы ведь приняли ее, считаем нашей, — сказал пан Мачей.
— Мы, но не наш круг… Старая княгиня пошевелилась:
— Вальдемар и их переломит! Уж если он сумел побороть меня — одолеет весь мир! Разве что они не верят в постоянство чувств Вальдемара? Но это уж форменная глупость.
— Нет, что вы, ничего подобного! Просто предчувствие…
Пан Мачей и княгиня встревоженно переглянулись.
В середине февраля большой зал в Обронном был пышно убран. Ожидали приезда Стефы с отцом и Вальдемаром. Старая княгиня, в тяжелых черных кружевах, как обычно, казалась чуточку высокомерной. Княгиня Францишкова, пан Мачей, панна Рита и Трестка веселились, князь Францишек угрюмо безмолвствовал. Чем ближе к приезду Стефы подходило время, тем беспокойнее становилась старая княгиня. Помимо ее воли перед глазами вставали прошлые мечтания — вот она приветствует невесту Вальдемара, княжну из древнего рода… Вновь возвращались уснувшие было печаль и горечь. Княгиня со страхом ожидала встречи, гордость, тоска по ушедшим надеждам, самолюбие вновь ранили душу, и старушка боролась с ними изо всех сил, повторяя про себя:
— Все ради внука… Он ее любит… лишь бы он был счастлив…
Когда вошел камердинер и доложил, что показалась карета, княгиня тяжело опустилась в кресло, подняла к лицу флакончик с нюхательной солью. Она трепетала, изменившись в лице.
На лестнице, ведущей в прихожую, торопливо выстраивались лакеи. Трестка с панной Ритой первыми встречали приехавших. Молодая княгиня подошла к резным поручням, окружавшим галерею над прихожей. Наверх взбежал Вальдемар, веселый, небывало оживленный, поздоровался с князем Францишеком и его женой, паном Мачеем, поцеловал руку бабушки и сказал нежно:
— Я привез к тебе мою Стефу, дорогая бабушка.
Княгиня молчала, бледная, грозная, неподвижная.
Вальдемар, удивленно взглянув на нее, с невероятной силой сжал ее ладонь, настойчиво воскликнул:
— Бабушка!
Впервые в жизни он растерялся. Положение показалось ему ужасным. Его глаза впились в княгиню, словно раскаленные угли.
Княгиня молчала, часто дыша.
Майорат выпрямился, нахмуренный, с диким выражением на лице, сдавленным голосом произнес:
— Бога ради, в чем дело?
Пан Мачей, столь же пораженный, молчал.
Но вскрик Вальдемара все исправил, угроза в его глазах испугала княгиню, она уже ругала себя за то, что готова сломать счастье внука. Любовь к нему прогнала всякие колебания.
Это была ее последняя схватка с собой.
Княгиня встала и, положив руки на плечи Вальдемара, посмотрела ему в глаза, уже улыбаясь:
— Приведи ко мне… Стефу. Я хочу с ней поздороваться и… благословить.
Вальдемар облегченно вздохнул, поцеловал бабушке руку и сбежал вниз по лестнице.
Пан Рудецкий с дочкой поднялись на первые ступеньки в сопровождении Трестки и панны Риты.
Вальдемар торопливо подал руку невесте, но его взгляд ничуть не успокоил ее. Она была прекрасна в элегантном платье светло-пепельного цвета, оттенявшем ее кожу, напоминавшую цветом жемчужную раковину на восходе солнца.
На галерее молодая княгиня пожала Стефе руку, показав ей глазами на открытую дверь салона. Сердце девушки готово было выпрыгнуть из груди.
Темно-фиалковые глаза Стефы с легкой тревогой обратились к черной фигуре графини. Губы девушки вздрогнули, волна румянца залила щеки. Едва заметные слезинки заблестели в ее глазах, словно перья ласточек, когда они, коснувшись воды в полете, взмывают к солнцу.
Черные глаза графини смотрели прямо на нее. Лицо пана Мачея прояснилось. Князь Францишек отступил за портьеру.
Под пылающим взором княгини длинные ресницы Стефы опустились, словно тяжелый занавес, скрывший очарование ее глаз; брови изогнулись чуточку капризно.
Княгиня была удивлена. Стефа поразила ее красотой и осанкой. Явное замешательство девушки лишь прибавило ей прелести и благородства. Княгиня, неведомо почему, решила, что невеста Вальдемара, войдет, гордо подняв голову, невероятно уверенная в себе. Но Стефа преподнесла ей, сама того не ведая, приятный сюрприз.
Странное чувство сжало сердце старушке. Она простерла руки к девушке с неподдельной сердечностью, обняла ее и привлекла к себе.
По щекам пана Мачея скатились две слезы. Вальдемар был растроган.
Княгиня, взяв его руку и руку Стефы, соединила их. И прошептала, глядя сверху на их склоненные головы:
— Будьте счастливы!
В ее голосе прозвучали торжественность, достоинство и необычная для нее нежность. Эта горделивая дама в черных кружевах, с мраморным лицом поражала своим величием.
Благословение пана Мачея прозвучало не столь церемониально, но еще более сердечно. Пан Рудецкий учтиво приветствовал княгиню, серьезно и с большим достоинством они обменялись несколькими словами. Пан Мачей по-братски обнял Рудецкого.
Лед растаял.
Пребывание Стефы в Обронном совершенно расположило к ней княгиню. Она удовлетворенно отметила, что не так уж много потребуется трудов, чтобы сделать из Стефы светскую даму.
Панна Рита тоже была со Стефой в наилучших отношениях. Стефа не чувствовала себя здесь чужой, недружелюбно к ней были настроены, подметила она, лишь князь Францишек и княгиня Морикони. Граф вообще не показывался. Больших приемов Подгорецкая не устраивала — большинство их знакомых пребывали либо в Варшаве, либо за границей. Стефе недоставало лишь Люции, отсутствие ее и пани Идалии удручало девушку.
После недели в Обронном все отправлялись на несколько дней в Глембовичи, откуда пан Рудецкий с дочерью должны были вернуться домой.
Санный поезд выехал в середине дня. Впереди ехали в изящных санках, запряженных глембовической четверкой, Вальдемар и Стефа. Вальдемар сам правил. Пурпурная, шитая золотом сетка ниспадала до самого снега, пушистые лисьи хвосты развевались у конских ушей. Далеко по окрестным глембовическим лесам разносился звон бубенцов и бронзовых оковок упряжки. Каурые арабские кони с длинными хвостами, в сверкающей упряжи, напоминали скакунов римских императоров, везших триумфальные колесницы.
Стефу зачаровала езда, они с Вальдемаром веселились, как дети. Счастье осыпало их мириадом золотых искорок. Их молодость и любовь были прекрасны, как веселая езда вскачь по накатанной дороге, как звон колокольчиков и фырканье каурой четверки. Лес стоял тихий, укутанный последним снегом, последний раз он нарядился в белые меха и пошумливал ветвями, словно жалуясь, что вскоре должен расстаться с белоснежным нарядом. Близился конец зимы, подступал март, но снег еще радовал людей, радовал лес — деревья знали, сколь прекрасны они в зимних горностаях.
Стефа с радостью ждала весну. В июле должна была состояться ее свадьба, и столько мыслей теснилось в голове, столько впечатлений, безмерный, безграничный трепет охватывал ее, стоило только вспомнить о том, что ждет впереди! И все же она чуточку печалилась об уходящей зиме. Странная, необъяснимая печаль вкрадывалась в ее мечты, и избавиться от нее никак не удавалось. Снег был свидетелем наивысшего ее счастья. Она всей душой ждала весны и в то же время боялась ее…
Но сейчас, рядом с женихом, она ничего не боялась, радовалась жизни, снегу, полету саней. Однако когда среди темных елей поднялись впереди величественные стены замка, Стефа вдруг посерьезнела.
Ей предстоит стать хозяйкой этого замка, майоратшей этой роскошной резиденции. Она станет женой этого родовитого магната, миллионера. У девушки шумело в голове… Он выбрал ее из превеликого множества женщин, есть чем потешить самолюбие и гордость, есть от чего закружиться голове. Но голова у нее кружилась исключительно при мысли, что Вальдемар беззаветно любит ее. И она была влюблена в него до безумия. Его величие, поддерживаемое мощными стенами замка, угнетало ее сейчас больше, чем когда-либо. Она останется здесь, станет родоначальницей новых поколений…
Стефа понимала значимость предстоящих ей свершений, но некая непонятная тень словно бы витала над ней.
Заметив ее состояние, Вальдемар чуть отпустил вожжи, наклонился к ней:
— Наконец-то! Ты едешь ко мне — моя!
Он коснулся губами ее щеки, полускрытой меховой воротником.
Стефа затрепетала. Его слова и поцелуй взволновали ее.
Майорат весело щелкнул кнутом. Сбоку его догнал Брохвич, ехавший один в красивых саночках, весело крикнул:
— Я все видел! Но держу язык за зубами! Стефа залилась румянцем.
— Погоди, сам мне вот так попадешься! — крикнул Вальдемар и подхлестнул коней.
Ветер шумел в ушах седоков, из ноздрей арабов валили клубы пара.
Внезапно на их глазах развернулось на главной башне большое голубое знамя с гербом Михоровских, триумфально хлопая. Видимо, в замке заметили приближавшегося хозяина. И знали, даже, с кем он едет — с башни раздались громкие звуки труб.
С заснеженных стен, громко щебеча, взмыли табунки перепуганных воробьев, бросились к деревьям, чернея меж заснеженных ветвей, словно подброшенные пригоршни дроби. Фанфары звучали мелодично и торжественно.
Стефа была тронута до глубины души.
Они проехали по обсаженной высокими елями аллее. Новая неожиданность — выстроившиеся в шеренги по сторонам дороги конные лесничие и ловчие в расшитых мундирах дали залп из ружей, махали шапками и радостно кричали.
Глембовичи гремели, приветствуя Стефу.
Развеселившийся Вальдемар придержал коней, сорвал шапку и махал дворне. Стефа раскланивалась на обе стороны, трепеща всем телом.
Вновь загремели залпы, словно приветствуя вернувшегося с бранного поля победителя, звучное эхо далеко разносило пенье труб, хлопало на ветру знамя.
Весь этот шум заглушил приветственно шумевшие ели — ветви их колыхались, роняя снег, словно кланяясь Стефе.
Наконец-то в Глембовичах появится хозяйка!
Ее встречали уже как майоратшу.
В голове у Стефы воцарился форменный хаос, мысли беспорядочно клубились, кровь закипала.
Среди ружейных залпов и приветственных криков они миновали каменный мост через ров, въехали под арку, и Вальдемар на всем скаку остановил разгоряченных лошадей перед высоким крыльцом с портиком и колоннами. Лишь теперь только их догнали все остальные сани.
Пан Рудецкий был поражен, он не ожидал, что Глембовичи столь прекрасны. Оказанные Стефе почести взволновали его, и он подумал: «Обида, нанесенная той, вознаграждена. В другом поколении. Видит ли это сейчас она?»
И перед глазами у него встала умирающая старушка.
У колонн Стефу приветствовали слуги. Здесь были и администраторы: управитель Остроженцкий, все практиканты, дворецкий, ловчий и конюший. Выстрелы и трубы умолкли. Во внутреннем дворике заиграл оркестр.
Пан Мачей, думая о том же, что и Рудецкий, вновь увидел юную девушку в белом платье посреди цветущего сада: «Ты вознаграждена. Во втором поколении. Почему же ты не дожила?»
И он вздохнул, словно сбросив наконец с души угнетавшую долгие годы неимоверную тяжесть.
XX
Стефа ошеломленно замерла, увидев приготовленные для нее покои. Три комнаты утопали в цветах. И прекраснее всего был будуар — большой, округлый, обитый золотистым шелком, с инкрустированным потолком. Из центральной розетки свешивался хрустальный светильник. Половина комнаты сплошь из зеркал. Пальмы с веерообразными листьями, бледно-желтые розы в вазах, гиацинты, цветущая мимоза. Все в светлых, пастельных тонах. Пол устилал желтый плюшевый ковер, ноги утопали в нем по щиколотку. Шелковая портьера заслоняла резную кровать из орехового дерева, с отделкой из раковин-жемчужниц.
Повсюду — белые розы и пунцовые гвоздики.
Гардеробная, вся белоснежная, словно из фарфора, и примыкавшая к ней ванная светились незамутненной белизной алебастра, мрамором ванны, серебром кранов; нежные лиловые ирисы стояли в чеканных ванночках, в серебряных кувшинах, в высоких хрустальных вазах.
Словно во сне, Стефа оглядывалась вокруг, слушая почтительный щебет приставленной к ней для услуг «гофмейстерессы» здешнего двора пани Шалиньской, которую все здесь звали Шалися. Старушка служила еще у матери майората. От нее Стефа узнала, что эти покои когда-то занимала пани Идалия, будущая баронесса Эльзоновская, но теперь пан майорат велел их полностью переделать.
Старушка со своими учтивыми поклонами и гримасами выглядела совершеннейшей придворной дамой в стиле венских императоров. Она очень гордилась своей новой ролью при невесте майората.
Стефа ей понравилась, но Шалися все же шепнула на ухо камердинеру, что паненка, надо полагать, происходит не из благородных, потому что ничуточки не гордая:
— Уж из каких там ясновельможных…
На что камердинер Анджей отрицательно покачал головой:
— Уж не скажите! Не знаю, как там насчет вельможных, а вот яснее точно в замке стало, как только она приехала, так прояснилось! Пан майорат искал, искал… и нашел не графиню, зато красотку.
— Ох, что правда, то правда! — согласилась старая дама.
Прислуга в замке души в Стефе не чаяла.
Пану Рудецкому Глембовичи очень понравились, но в нем проснулись прежние страхи. Будущий зять поражал его богатством, замок подавлял величием и пышностью. Подобное он видел, только в бытность свою студентом в Вене, попав с экскурсантами в эрцгерцогский дворец, но в роли обитателя столь роскошной резиденции очутился впервые в жизни.
Здесь ему предстояло оставить дочку.
«Не будет ли это золотой клеткой, богатой, но неуютной?» — временами думал он.
Глядя на дочку, на ее непринужденность и грациозную свободу, с какими она порхала посреди этой пышности, пан Рудецкий уверился, однако, что Стефа словно создана для этих стен. Великолепие замка и титулы наезжавших сюда гостей ничуть ее стесняли. Она чувствовала себя столь же свободно, как в скромном родительском домике. Казалось даже, что это Глембовичи должны служить ей украшением, оправой для прекрасного бриллианта.
В том же уверились обе княгини и пан Мачей, и это их только радовало. Они были довольны Стефой. Даже князь Францишек и граф Морикони смягчились, одного не в силах простить Стефе — ее скромного имени. Графиня в письме к мужу уговаривала его приехать, уверяя, что Стефа полностью «соответствует» и elle connaоt son rфle.[96] Именно тем, что Стефа вошла в роль, графиня объясняла некий холодок в отношениях с ней. Девушка, вежливая и радушная со всеми, с графиней держалась немного натянуто и избегала ее, чуя глубокое нерасположение к ней графини.
Дни, проведенные в замке, радовали гостей. Майорат устраивал великолепные развлечения в честь невесты, но в то же время это не мешало ему с прежней энергией заниматься делами. На санках без кучера, запряженных цугом или верхом, он объезжал фольварки, фабрики и имения. Тратил два часа в день, чтобы у себя в конторе выслушать доклады администраторов, отправить письма и телеграммы, принять прибывших по делам посетителей. Он занимался делами сельскохозяйственного товарищества, составлял программы.
Освободившись от дел, он устраивал санные прогулки по окрестным лесам. Однажды ужин состоялся в маленьком особнячке, скорее, охотничьем домике в глухой чащобе. Вокруг горели на снегу костры, лесничие подбрасывали в них поленья, трубили в охотничьи рога. Два прирученных медведя, огромные, косматые, с грозным урчанием прохаживались у костров. В обширном вестибюле хватило места для множества охотничьих трофеев, звериных голов, рогов и шкур. Там пели прирученные птицы. Сидели на жердочках огромные живые ястребы, филины и вороны, соколы двух пород, кречет и небольшой кобуз, которых ловчий обучал охоте. Лесничий, надзиравший за домиком, держал еще прирученных волка, лиса и огромного оленя, попавшего сюда еще, теленком.
Глядя на это все, Стефа порой думала, что оказалась вдруг в средневековье, когда такие леса покрывали едва ли не всю страну, и зверей было видимо-невидимо. Прирученные звери удивили ее — они разгуливали свободно, не причиняя обид друг другу. Костры на снегу, огромный камин в вестибюле и урчанье медведя дополняли впечатление.
Пан Рудецкий, страстный охотник, часами готов был беседовать с Вальдемаром о населявших эти чащи зверях, о способах привады и облавах на волков. Охотничий домик увлек его даже больше, чем глембовический замок. Здесь пан Рудецкий чувствовал себя полностью в своей тарелке. Он уважал будущего зятя еще и за то, что тот содержал в таком порядке, да еще приумножал богатства и поместья, доставшиеся ему от предков. Кроме денег, необходимы были недюжинная энергия и ум, чтобы не привести хозяйство в упадок, большие способности и умение обращаться с людьми, чтобы управлять массой служащих и работников, множеством предприятий, сердечность и справедливость, чтобы быть любимым всеми — администраторами, слугами, крестьянами и фабричными рабочими.
Видя, за что отец Стефы выше всего ценит Вальдемара, пан Мачей исполнился симпатии к пану Рудецкому и уважения к его уму.
Вальдемар пользовался почетом и всеобщим уважением, и отсветы этого блеска ложились и на Стефу. Ее любили за то, что она была невестой майората, но еще и за ее умение завоевывать симпатии.
На волчью облаву приехали и несколько соседей Вальдемара, бывших с ним в близких отношениях. Все они были уже знакомы со Стефой, но теперь, видя ее в роли невесты майората, стали ее почитателями.
В глембовическом замке царили ничем не омраченные веселье и счастье, тем более возносившее Стефу на седьмое небо, что она делила чувства с любимым, сопровождавшим ее неотлучно.
Гости и хозяин играли в теннис в крытом зале рядом с конюшнями, катались в парке с горок на санках под звуки оркестра, а самые смелые, надев коньки, отправлялись на реку, которая уже начинала потихоньку подтачивать лед, ища избавления от навязанного морозами панциря. Стефа играла с Вальдемаром на бильярде, они вели бесконечные разговоры. Ее дерзкий, интеллигентный ум развивался в серьезных беседах с любимым. Они часто сидели в библиотеке или читальне, где Стефа играла Бетховена, а Вальдемар, откинувшись в кресле, любовался ее четким и чистым профилем камеи.
Иногда он играл ей на органе. Тогда в воображении Стефы возникал образ его бабушки Габриэлы, сидящей за клавишами этого готического инструмента, заплаканную, с раненой навсегда душой… а потом — образ ее собственной бабушки, Рембовской, ставшей женой и матерью, но до самой смерти страдавшей от сердечной раны.
Иногда Стефа играла в своем зеркальном будуаре на пианино. Этот прекрасный инструмент был свадебным подарком матери майората от пана Мачея. Стефа погружалась в созданные ее фантазией картины будущего счастья. Она жила в непреходящем упоении. Каждое слово, каждая ласка нареченного отзывались в ее душе.
Оба любили навещать портретную галерею, хотя она чуточку дышала на них холодом и наводила на Стефу смутный страх. К истории бабушки Габриэлы они никогда больше не возвращались.
Что их охватывала поистине детская веселость. Тогда Стефа любила посещать зимний сад и зал пальм, а порой Вальдемар в оружейной рассказывал ей историю каждого меча, копья, доспеха. В охотничьем зале Стефу почтительно приветствовал негр, уже смекнувший своей курчавой головой, что это его будущая хозяйка. Майората он считал чем-то вроде полубога, и часть этих чувств, часть восторженного поклонения изливал на Стефу.
Конюшни они тоже часто навещали. Однажды Стефа в сопровождении Вальдемара проехалась по парку верхом на Аполлоне. Вальдемар следил за каждым шагом, каждым движением своего верхового коня, готовый даже при необходимости выстрелить ему в лоб, угрожай Стефе опасность. Вальдемар любил невесту без памяти, окружая ее подлинным нимбом счастья.
Стефа занималась и приютом, близко познакомившись со многими детьми. Приходила в школу поприсутствовать на уроках и гимнастических играх детей в специальном зале. Посетила больницу в соседнем фольварке Ромны и приют для стариков, прозванный Вальдемаром «дворцом инвалидов». Наблюдала за учениями пожарных, сопровождала жениха при ежемесячной раздаче слугам книжек из народной читальни рядом со школой. Вальдемар познакомил ее с работой сберегательной кассы; которую он завел для работавших у него, и сам управлял ею. Стефа побывала и в большом здании Народного дома, где была устроена баня, а в большой зале, украшенной в закопанском стиле, слуги и работники здесь собирались потанцевать или порой даже разыграть своими силами пьесу. Все это было устроено Вальдемаром. Десять лет назад, став майоратом, он учился еще в университете, но тем не менее развернул энергичную деятельность. Отдавал приказы, которые надлежало выполнять немедленно. И потом, обучаясь в сельскохозяйственном училище, странствуя по свету, он не забывал о Глембовичах. У него рождались все новые идеи, он неожиданно появлялся в своих имениях, вносил что-то новое, проверял прилежание управителей и, метеором блеснув в Глембовичах, снова уносился в большой мир. Его хозяйство стало гордостью всей округи. Мотом и расточителем его называли только те, кто видел, что он тратит деньги. Вальдемар действительно тратил много и легко, но те, кто упрекал его, никогда не бывали у него и не знакомы были с его прекрасно налаженным хозяйством.
«Дельный человек, настоящий патриот и умный аристократ», — думал Рудецкий.
Такой славой Вальдемар пользовался повсеместно.
Стефа бывала с княгиней и в костеле — старушка хотела проверить насколько девушка набожна. Когда нареченные впервые пришли в костел вместе, приходской ксендз отслужил в их честь «Тебе, Боже, хвалим». Он был очень взволнован — старик радовался, что его «хлопец» наконец-то решился обзавестись семьей. Стефа ему очень понравилась.
Рядом с костелом, окруженный стеной, стоял фамильный склеп. Взволнованная Стефа горячо молилась у саркофага Габриэлы де Бурбон и Эльжбеты, матери Вальдемара. Склеп, огромное готическое здание, осененное вековыми деревьями, потряс ее, и Вальдемар не позволил невесте оставаться там долго.
Однажды майорат, войдя в часовенку, устроенную в угловой башне, застал там Стефу. Она стояла, задумчиво глядя на великолепное изображение Христа из слоновой кости, распятого на дубовом кресте. Небольшая часовенка тоже была в готическом стиле, выложенная серым мрамором, с темным полом из венецианской мозаики, она производила строгое и серьезное впечатление. Под сводом висел тяжелый оксидированный жирандоль. Там стояли две мраморные скамьи, резная скамеечка для коленопреклонений и небольшой орган. Алтарь был из оксидированного серебра. Пожалуй, часовня выглядела даже сурово. Рядом с распятием на темно-алом сукне сверкали дары рода Михоровских. Особенно выделялось сердце из бриллиантов и рубинов, пожертвованное несчастливой бабушкой Вальдемара.
Стефа мысленно возлагала к распятию собственное сердце, переполненное благодарностью и пылкими чувствами. Она обращала к Распятому свои молитвы, и просьбы, веру в будущее. Увидев ее, коленопреклоненную, Вальдемар опустился на колени рядом с ней и взял за руку. Они взглянули друг на друга. Разноцветные стекла витражей отбрасывали на них таинственные тени. Стефа прильнула к жениху и прошептала, указывая взглядом на распятие:
— Он нас благословляет.
Вальдемар прижался губами к ее волосам:
— А помнишь наш разговор в коридоре рядом с той картиной, где изображена Магдалина? Тогда ты сулила мне… некие печали. Но видишь, единственная, я вырвал у мира мое счастье и принес к себе в гнездо. Как я и предсказывал, кончилось Аустерлицем!
Стефа вздрогнула.
— Что с тобой, единственная? — спросил Вальдемар, обеспокоенный выражением ее изменившегося лица.
Из-за стен донесся глухой, басистый перезвон костельных колоколов.
Неприятное ощущение пронзило Вальдемара.
— Что с тобой? — повторил он тихо.
— Нет, ничего… Давай прочитаем «Ангела Господня»…
XXI
— Я покажу тебе что-то, чего ты еще не видела, — с таинственным выражением лица сказала старая княгиня, взяв Стефу за руку.
Когда они вошли в обширную, сводчатую комнату, где Стефа никогда прежде не бывала, девушка удивилась. Там стояли две старинных кровати, к которым вели ступеньки, — палисандровые ложа, богато украшенные бронзой. Над ними тяжелыми складками вздымался балдахин из парчи, увенчанный гербом Михоровских и княжеской шапкой. Темно-алая с золотом комната, кроме кроватей, не имела почти никакой мебели, кроме самой необходимой. Огромная лампа из алого хрусталя, оправленная в бронзу, служила завершающим штрихом в картине удивительного величия. Мягкий ковер совершенно глушил шаги. Тяжелые портьеры из темно-красного бархата, украшенные кремовыми кружевами, поддерживали полумрак и суровую пышность, главные признаки этой комнаты, высокомерной в своей гордости, как старые портреты или начертанные на пергаменте манускрипты.
Сжав руку Стефы, княгиня сказала полушепотом:
— Это замковая спальня. Здесь появились на свет все Михоровские, и твой жених.
Стефа ощутила легкую дрожь. Княгиня шептала:
— О, у этой комнаты великая история! Много рассказали бы эти стены, умей они говорить. Много здесь прозвучало и печальных, и радостных вздохов. Один Бог ведает, сколько слез пролито на золотую парчу. Здесь хватало драм и горя, — а вот счастья эти стены видели так мало… Вальдемар был прав: род наш не может похвастаться, что предки наши были счастливы…
Княгиня шагнула вперед и остановилась, печально кивая, словно над могилой:
— Печальная семейная хроника, трагическая комната, хоть никто в ней и не умер — так уж случалось, что каждого перед смертью что-то прогоняло из этих стен. Удивительно даже… И Мачей по своей охоте покинул эти стены. Его жена умерла за границей, моя Эльзуня тоже, а зять Януш — в Белочеркасске. В этой комнате впервые видели наш мир новорожденные, значит, она должна быть веселой, а не исполнена печали…
Внезапно княгиня схватила Стефу за руку:
— Я не должна была тебе все это говорить, пугать тебя… Но кто знает, вдруг именно тебе предначертано внести сюда иной дух, быть может, именно ваше счастье снимет проклятье! Дай-то Бог! — старушка пошла к двери, шепча: — Сколько слез пролито, сколько слез., и моей Эльзуни тоже…
Стефа испуганно окинула взглядом комнату и поспешила следом за княгиней. Они прошли обширной гардеробной, миновали ванную, блестевшую мрамором; в туалетной комнате, уставленной шкафами, княгиня отперла висевшим у нее на цепочке ключиком дверцы одного из них, помещенного в нише. Это оказался не шкаф, а вход в небольшую комнату, обитую дубовыми досками. Даже потолок был дубовым, и пол тоже. На полу стояли огромные окованные сундуки. Два зарешеченных оконца, маленькие и узкие, почти не пропускали внутрь света. Княгиня нажала кнопку, и под потолком вспыхнули две шарообразных электрических лампы. Старушка подошла к небольшому железному шкафу, замурованному в стену, открыла его и стала выкладывать на стол коробочки разной величины, обтянутые бархатом и сафьяном. Стефа удивленно разглядывала их.
— Хочу показать тебе родовые драгоценности Михоровских, — пояснила княгиня. — Вальди, став майоратом, поручил мне опеку над ними до тех пор, пока не женится. Я стираю с них пыль, иногда вместе с Ритой или Добжисей. Теперь Вальдемар поручает все это твоим заботам. Эти самоцветы украшали весьма гордые головы, теперь украсят… прекрасную.
Стефа отшатнулась, схватила княгиню за руку:
— Нет, бабушка, спрячьте все это! Это не для меня! Старушка взглянула на нее с любопытством:
— Как это — не для тебя? Ты будешь женой и майоратшей, это — твоя собственность, Я пока только показываю, а он сам осыплет тебя этим.
Из открытых коробочек брызнул сноп разноцветных искр, на столе засверкала многоцветная радуга.
Стефа увидела прекрасные бриллиантовые диадемы, колье, браслеты, серьги, серые и розовые жемчужины. Перед глазами ее сверкали кроваво-знаменитые рубины Михоровских, светились зеленым изумруды, таинственно поблескивали сапфиры, бледно-зеленым и розовым отсвечивали опалы. Золотые цепочки, старинные застежки и пряжки, перстни, усеянные драгоценными камнями ленты — все это излучало снопы ослепительного пламени, целое море искр, блистали потоки зачарованных огней.
Удивительная это была картина — большой стол, усыпанный драгоценностями, и рядом, в кресле — величественная, гордая старуха, в задумчивости склонившая голову на руку. И рядом — молодая, прекрасная девушка, с легкой тревогой глядевшая на сокровища, о которых минуту назад и понятия не имела.
Глаза Стефы были печальными. Кто носил эти сокровища? Какова их история? Чего они видели больше, слез или улыбок?
Княгиня, словно ей вдруг пришла в голову та же мысль, стала перебирать коробочки. Ее белые длинные пальцы прикасались к колье, диадемам, скользили по жемчужным ожерельям. Она тихо сказала:
— Эту диадему из жемчугов и бриллиантов получила в подарок от мужа прабабушка Мачея, Анна Конецпольская, жена воеводы Мазовецкого. Воевода купил эту диадему в Париже за сказочные деньги. Это колье из рубинов больше всего любила знатная мадьярка из рода графов Эстергази. Очень красивая брюнетка, так любила наряды и драгоценности… Только сердце у нее было из камня. Хотела разводиться с мужем, до скандала, правда, не дошло, но жизнь их с тех пор была адом. Смотри, эти бриллианты с изумрудами больше всего любила надевать моя Эльзуня. Как они ей шли! Помню, в Вене, на балу в итальянском посольстве… Она была тогда в расцвете красоты, а через пару лет умерла…
Княгиня тяжко вздохнула.
Взяла колье из бриллиантов и опалов в оправе прекрасной работы:
— Его привезла с собой герцогиня де Бурбон, Габриэла. Говорят, будто опалы приносят владельцу несчастье. Может, это и суеверие, но в данном случае так и сталось. Это колье отец подарил ей, когда она впервые выехала в свет. Ты знаешь ее историю, она была счастлива всего два месяца, когда познакомилась с Гвидо, все кончилось… Его фотографию она всегда носила с собой, уступив ее предсмертным мольбам, я положила ее к ней в гроб, на грудь… прикрыла цветами… Несчастная мученица!
Стефа опустилась на колени рядом с княгиней, прижалась щекой к ее рукам. Глаза у нее разболелись от сверкания драгоценностей, временами легкий трепет сотрясал тело.
Княгиня склонилась над ней:
— Твоя бабушка тоже была несчастная… тяжкая выпала ей доля…
Стефа подняла на нее глаза, прошептала жалобно:
— Она не знала, что он продолжал любить ее. Жила и умерла, разуверившись в его чувствах. Это страшнее всего!
— Да, Мачей никогда больше не был счастлив… Совесть ужасно мучила его. Потом жизнь залечила рану, появились дети, внуки… он многое забыл. Но сохранил миниатюру с ее изображением, ты видела сама. Время, дитя мое, словно безжалостный резец, изменяя лик земли, изменяет и душу человека. Он все забыл! Быть может, зря… Ты напомнила ему ее, и его ужасно потрясла ее смерть…
— Если б она о том знала, ей легче было бы умирать, — шепнула Стефа.
Они умолкли. Только самоцветы перемигивались разноцветными искорками, словно глумясь над людскими печалями и несчастьями, как бы принижавшими красоту камней. Самоцветы, вызывающие, гордые, холодно и язвительно рассыпали фонтаны радужных искр.
Княгиня очнулась. Медленно взяла со стола диадему с бриллиантами и жемчугами, возложила ее на голову Стефы. Огромные бриллианты засияли в пышных, шелковистых волосах девушки. Казалось, ее увенчали королевской короной. Стефа улыбнулась княгине, глаза ее искрились, от нее веяло расцветшей юностью, и детской наивностью, и величием принцессы. Она была столь прекрасна, что княгиня, изумленно откинувшись на спинку кресла, любовалась ею, словно картиной старого мастера.
— Как ты очаровательна! Откуда в тебе столько красоты?
Стефа рассмеялась:
— Так уж вышло, бабушка…
В дверь постучали. Княгиня резко спросила:
— Кто там?
— Я, Вальдемар.
Старушка быстро встала и подошла к двери. Майорат сказал, входя:
— Дорогие дамы, я ищу вас по всему замку. Вы хорошо спрятались, однако я…
Он умолк, увидев Стефу в бриллиантовой диадеме. В глазах у него сверкнуло восхищение, торжество, радость. Он подошел к ней и взял в ладони ее руку:
— Чудо мое, как ты прекрасна!
— Правда, бриллианты ей идут? — подхватила княгиня.
— Божественно! — сказал Вальдемар. — Я хотел бы, чтобы тебя сейчас видели все… — он поколебался и закончил: — все, кто тебе завидует.
— А не похожа я на переодетую Золушку? — спросила Стефа с долей кокетства.
Княгиня рассмеялась. Вальдемар поцеловал Стефе руку:
— Ты похожа на королеву, недостает только соответствующего платья, колец-сережек, ну… и горностаевой мантии. Когда я одену тебя так, ты завоюешь весь мир!
— Но прежде всего — короля! — подхватила Стефа, открыто глядя на него.
— Сорванец! — погрозила ей шутливо княгиня.
— Короля ты очаровала в скромном платьице и с кораллами на шее, которые ему дороже всех этих сокровищ из пещеры Али-Бабы, — сказал Вальдемар, указывая на драгоценности.
Потом взял прекрасную ленту с большими рубинами в центре и бриллиантовыми звездами, сам возложил ее на голову невесте, сняв предварительно диадему:
— Чарующе!
Она весело рассмеялась. Княгиня подавала Вальдемару все новые драгоценности, а он украшал ими Стефу.
Девушка, увидев себя в зеркале, поразилась собственной красоте. Восхищенный Вальдемар пожирал взглядом любимую, радуясь, что родовые драгоценности послужили ей прекрасной оправой.
Он сам выбрал двойное жемчужное ожерелье с маленькой застежкой, усыпанной бриллиантами, улыбаясь, застегнул на шее Стефы. Жемчужины блистали на бледно-лиловой шелковой блузке, словно капли росы на изящных ирисах.
— Пусть они на шее и останутся, — сказал Вальдемар, целуя руку зарумянившейся Стефе. — Мой первый подарок после кольца.
— Первый? Вы уже и раньше делали мне подарки! — возразила Стефа.
— Все равно, это мой первый подарок из фамильной сокровищницы, — сказал майорат.
Она поблагодарила его улыбкой. Вальдемар нежно обнял ее и притянул к себе, прильнул губами к ее губам.
Стефа замерла. Вальдемар тут же отпустил ее. Девушка глянула на княгиню, но старушка с преувеличенным вниманием перебирала драгоценности.
Вальдемар хлопнул себя по лбу:
— Ах, я и забыл! Приехал Морикони, и я пошел искать вас, но, увидев тебя, чудо мое, обо всем забыл…
Они втроем принялись собирать драгоценности и закрывать коробочки.
Когда Стефа с княгиней и майорат появились в зале, к ним подошел граф Морикони, высокий мужчина со светлыми бакенбардами и прической на прямой пробор, отчего лицо его выглядело словно бы разъятым на две половинки, которые скрепляло пенсне в золотой оправе. Он приветствовал тещу и учтиво поклонился Стефе.
Она грациозно подала ему руку, с некоторым холодком, что придавало ей элегантность и независимость.
Граф, глядя на нее удивленно, чуть смешался, но тут же поднес к губам ее руку и галантно промолвил:
— Желаю всех благ… и примите мои поздравления, хотя они должны быть сделаны главным образом майорату, которому, я сказал бы, повезло.
— Спасибо, — просто ответила Стефа и отошла к его жене, панне Рите и Трестке.
Морикони смотрел на нее с возраставшим удивлением. Ее красота, изящество, голос, каждое движение начинали восхищать его. Стефа предстала перед ним в совершенно ином свете.
«Quelle noble fille! quelle enchante resse»[97] — повторил он мысленно, не веря собственным глазам.
На пана Рудецкого он тоже поглядывал удивленно. Людей его уровня граф считал похожими на неуклюжих слонов, но перед собой он увидел вполне светского человека и только крутил головой, словно подозревая, что пан Рудецкий попросту переодетый и загримированный актер.
За обедом место Стефы оказалось прямо напротив графа, и его выпуклые голубые глаза неустанно впивались в нее из-за стекол пенсне, словно два буравчика. Разговор за столом шел оживленный, легкий. Стефа говорила много и охотно, слова ее звучали свободно и живо. Восхищение графа было безграничным — сущая патрицианка!
Вальдемар видел в глазах Морикони это удивление и, крайне довольный тем, как Стефа держалась, нарочно вел разговор так, чтобы Стефе пришлось говорить как можно больше. Не сомневался, что она с честью выйдет из любого сложного положения. Он уже не раз подвергал ее разного рода испытаниям и убедился, что она обладает острым умом, чувством юмора и тактичностью.
Когда подали последнее блюдо, Трестка сказал, обращаясь ко всем сразу с таким видом, словно мысль эта буквально сейчас пришла ему в голову:
— Сильнейший порок нашего времени — это флирт. Будь у него голова, я бы его, заклятого врага моего, гильотинировал!
Панна Рита засмеялась:
— Однако ж вы не сторонитесь вашего заклятого врага…
— Я? Вы шутите! Докажите!
— Ну, доказательства наверняка остались за границей…
— А что, вам собирали сведения обо мне?
Все рассмеялись. Рита пожала плечами:
— О, меня ваше поведение не интересовало! Я всего лишь встаю на защиту флирта.
— Потому что вы его обожаете.
— Попросту люблю.
— Зловредный сорняк, порожденный каким-нибудь демоном…
— И перенесенный к нам наверняка из дворца французских Людовиков, — весело подхватила Стефа. — Скорее всего, его изобрели именно там…
— Напудренные головы маркизов и виконтов, — закончил Вальдемар.
— Или уличные цветочницы и разносчики газет, — махнул рукой Трестка.
— Ну что вы! — запротестовала Стефа. — Флирт родился в салонах, а не на улицах!
Граф Морикони, бросив на нее быстрый взгляд, склонился над столом и спросил:
— Значит, вы считаете, что флирт — достижение цивилизации?
— Отчасти — да.
— А на каком основании?
— Потому что простые люди не знают флирта — ни по названию, ни по сути. У них нет времени оттачивать искусство флирта, они бы попросту не сумели овладеть им.
— Почему? И у крестьян встречается нечто похожее на флирт.
— Но не в деталях.
— Но похожее.
— Но не то, что подразумевается под этим у нас.
— Но лежащая в основе идея — та же самая, — упрямился граф.
Стефа не уступала:
— Пан граф, и дикая лесная роза — тоже роза, но если сравнить ее с оранжерейной — какое отличие в цветах, аромате и породе! Потому я и утверждаю, что простые люди радуются жизни и берут от нее свое гораздо откровеннее, чем более интеллигентные круги, но не обладают салонными манерами. Их этика своеобразна, только им присуща, и это отличает их от тех, кто обладает светскими манерами.
Она говорила свободно, легко, звучно. Граф внимательно смотрел на нее, чуть прищурившись. Вмешался Трестка:
— Все наши светские манеры проигрывают перед простотой души, которой у нас нет, а у крестьян есть. По крайней мере в сфере эротических отношений вы не встретите лжи, уверток, умильных физиономий, им неведомо, что значит делать глазки.
— Трестку что-то гнетет, быть может, ревность, — сказал майорат.
— Я всего лишь говорю, что эти черты — их достоинство, а не порок.
— Господи, а кто называет это их пороком? — удивилась Стефа.
Морикони выручил Трестку:
— Вы, поскольку вы считаете простоту души недостатком культуры.
— Вы плохо меня поняли, граф. Цивилизованность не уничтожает души — всего лишь приглушает ее до определенной степени, смягчая шероховатости.
Граф пригладил бакенбарды:
— Предположим… Однако и простолюдины не находятся совершенно вне пределов цивилизации.
— О да! Но они едва соприкасаются с ней.
— А мы?
— Мы уже одеты в одежды цивилизации.
— Скорее это не одежда, а маскарадный костюм. Или декорация, — бросил Трестка.
— Бывает и так! Те, для кого цивилизация — лишь внешнее украшение, носят ее, как пышный султан, на виду, для всеобщего обозрения, а в действительности сплошь и рядом — первобытные создания. Но такой макиавеллизм в ходу исключительно в высших сферах. Низкие круги называют такое совершенно по-иному. Так и то, что мы называем флиртом, у них именуется…
— Топтать дорожку, — засмеялся Вальдемар. — Ножки бить.
— Голову кружить, — добавила Стефа.
— Названия другие, но суть та же, — уперся граф.
— Земля везде одна, но на ней растут цветы самых разных оттенков, — поддержал его Трестка. — Но ведь земля-то одна! Слово «флирт» заимствовано из иностранного языка, а простонародье простыми словами выражает ту же суть.
Морикони сказал:
— Значит, вы полагаете, что именно их неразвитые мозги виновны в том, что они отторгают культуру?
— Здесь вина и самой культуры. Узость их кругозора не позволяет овладеть культурой, а культура не настолько еще совершенна, чтобы оказать на них влияние помимо их воли. Она ограничена…
— Чем?
— Кругом высших кругов, простите за каламбур. И оттуда ей трудно вырваться в иные круги, более низшие. Интеллигенция и общество — словно бы два полюса. Существуют ярко выраженные различия в умственном развитии меж высшими и низшими кругами.
— Существуют еще и сословные различия, — сказал граф, глядя в упор на нее.
Пан Рудецкий вздрогнул. Наступило молчание. Щеки Стефы зарумянились.
— Мы отклоняемся от темы, пан граф, — сказала она с бледной улыбкой.
— Нет, мы просто-напросто расширяем тему.
— Значит, вы считаете, граф, что общественная лестница и «лесенка» в уровне развития интеллекта — братья-близнецы? Я бы с этим не согласилась. Конечно, разница в умственном развитии существует, но она не является стеной, разделяющей разные классы. Гении могут рождаться и там, и здесь.
— Но не полагаете ли вы, что у высшего света гораздо больше шансов, чем у простолюдинов, порождать гениев и развивать их интеллект?
Граф произнес это со злой иронией, с физиономией сатира. Он не обращал внимания на удивленные глаза остальных и ледяной холод во взгляде Вальдемара — хотел во что бы то ни стало смутить Стефу, уязвить. Забыв, что в этом случае его противником неминуемо окажется и майорат, он язвительно спросил, растягивая слова, как истый аристократ:
— Так какой же из слоев общества вы считаете наиболее развитым умственно, этически и эстетически?
Стефа принужденно улыбнулась, но, не желая показывать свои чувства, произнесла абсолютно спокойно:
— Пан граф, мое мнение могло бы быть чересчур односторонним из-за круга, к которому я в данный момент принадлежу, и преждевременным для круга, в который я собираюсь войти. Поэтому наиболее достойно ответить на ваш вопрос можете только вы сами.
В знак окончания разговора она склонила голову и повернулась к сидящему рядом с ней Вальдемару. Выпутаться из затруднительного положения ей удалось блестяще. Обрадованный майорат иронически покосился на графа.
Обе княгини, пан Мачей, пан Рудецкий, даже князь Францишек — все с уважением смотрели на девушку. Видя это, его досточтимая супруга словно превратилась в ледяную статую.
Обескураженный и злой, граф не предпринимал больше попыток вернуться к дискуссии, лишь бросал на Стефу холодные взгляды. Однако в душе он признавал, что девушка оказалась достойным противником и он обязан ее уважать. Глядя, как Стефа весело болтает с майоратом и Брохвичем, граф побелел от злости, но бoльше всего его раздражало нескрываемое удовлетворение, читавшееся на лице панны Риты, иронически посматривавшей на него. Да и Трестка почти в точности копировал Риту.
Когда все встали из-за стола, граф направился в курительную. Там, развалившись на турецкой софе, он дымил сигарой и размышлял о Стефе: чего в ней больше, красоты или чувства юмора? Наконец, решив, что она несравненна во всех отношениях (разумеется, за исключением имени!), он вынужден был сделать вывод:
— Когда она станет Михоровской, будет безупречной светской дамой. Во вкусе майорату не откажешь, что ни говори…
XXII
На замок опустился серый мартовский вечер, укутал изящные башни, размывая их четкие контуры, проник внутрь. Лишь некоторые окна оттолкнули его сиянием электрического света — большинство, остававшиеся темными, покорно уступили. Вместе с ночью пришел ветер, влекущий мрачные тучи. Первый весенний дождь, смешанный с последним снегом, застучал по окнам. Снег разметывал ветер, секли бичи дождя. Кроны деревьев в парке глухим бесом аккомпанировали духовому оркестру ветра. Март вышел на войну с зимой. Дергал ее белесые волосы, вгрызался острыми зубами в ее шубу, немилосердно обжигал дождем, выпустив на нее стаи ветров-убийц.
Сошлись в беспощадной схватке стихии. Погрузился в полумрак и зеркальный кабинетик Стефы. Желтый атлас обивки стен приобрел цвет пепла. Вечерние тени струились по поверхности зеркал, гася их блеск, и они выглядели теперь, словно поблескивающие от влаги стены.
Стефа играла. Ее пальчики лихорадочно сновали по клавишам. Фигура девушки растворялась в полумраке. Гармония струн звучала вразнобой со стихийной музыкой природы.
Стефа беспокоилась за жениха: он уехал в дальние фольварки и до сих пор не вернулся. Дикие отзвуки разыгравшейся битвы стихий угнетали Стефу. Она ускользнула от друзей, чтобы поверить инструменту свою тревогу. Она импровизировала под впечатлением разыгравшейся непогоды. Музыка выдавала все многообразие охвативших ее чувств: шумные вариации, неожиданные, мастерские по исполнению переходы от безмерной тоски к бурной юной страсти, исполненной жизненной силы мелодии. Стефа дарила миру, разбушевавшейся природе золотое руно музыки, переполнявшей ее душу.
Но вот отзвучали последние аккорды, и руки девушки упали на колени. С минуту она сидела неподвижно, слушая эхо собственной песни. И вдруг вскочила — новая атака завывающего вихря и темнота в комнате ужаснули ее. Она подбежала к стене и повернула выключатель. Электрическое сияние морем света пролилось из зеркал, золотом заиграло на стенах. Стоя под пальмой, Стефа удивленно и радостно вскрикнула:
— Ты здесь?!
— Я слушал, как ты играешь, — сказал Вальдемар.
Он подошел к девушке. Стефа подала ему руку:
— Я так беспокоилась…
— К чему? Дождь меня не пугает, и я только выиграл — ты играла так, как мне давно хотелось услышать… Чудесно! Ты сможешь когда-нибудь повторить?
Она улыбнулась:
— Сомневаюсь… Это было мое прощание с Глембовичами, внезапный прилив чувств, импровизация… Я просто играла для себя.
— Ты еще сыграешь приветствие Глембовичам, когда вернешься сюда, чтобы остаться здесь навсегда… Когда ты играла, я словно видел запорожские степи, по ковылям скачут выступившие в поход казаки, позвякивают копья и бунчуки… Значит, играя, ты думала обо мне?
— Да, о тебе… и о счастье, — шепнула Стефа. — Я думала: счастье — редчайший цветок, уникальная орхидея посреди необозримого множества полевых цветов, и потому добыть его неслыханно трудно… но мы его получили. И цветок не подведет нас, правда?
Вальдемар поднес к губам ее руку:
— Мы сумеем позаботиться о нем, главное — иметь это. Лепестки у счастья нежные, его нужно защитить.
Майорат обнял за плечи невесту и привлек ее к себе:
— Я думал когда-то, что непременное условие для счастья и величайшее богатство — это разум, а наибольшее убожество — бедность ума. Теперь я дополню: величайшее счастье в жизни — любовь, молодость и разум!
Стефа, не отрываясь, смотрела в пламенеющие глаза жениха:
— Ты веришь в те три силы, что я назвал? — спросил он тихонько, приблизив губы к ее щеке.
— Конечно. Они могут одолеть весь мир…
Вальдемар попытался поцеловать ее, но она ускользнула и направилась к двери, произнеся сдавленно:
— Спустимся вниз, уже поздно…
Разгоряченный Вальдемар направился следом. Оказавшись у выхода, он вдруг нажал выключатель на стене.
Свет погас.
Стефа вскрикнула. Он схватил ее в объятия и приглушенно прошептал:
— Не вырывайся никогда! Слышишь? Ты моя! Моя!
Голос его дрожал, руки конвульсивно сжали ее талию. Стефа затрепетала, его безумие передалось ей, она чувствовала, что слабеет.
— Вальди… ты же добрый… — умоляюще прошептала она, лишь в этих словах видя защиту.
Опомнившись, Вальдемар отпустил ее и зажег свет. Стефа выпрямилась, подняла руки к затылку, поправляя волосы. Она опустила глаза, покраснела.
Майорат коснулся ее плеча:
— Ты обезоружила меня… чудо мое единственное… Один поцелуй в знак, что ты веришь…
Стефа подняла к нему улыбающееся личико. Их жаркие губы соприкоснулись. Потом они вышли в освещенный коридор.
Маршевые роты мартовских ветров-забияк неистовствовали перед замком. Оконные стекла позвякивали жалобно.
XXIII
На другой день пан Рудецкий с дочкой уехал домой. Вскоре по случаю великого поста общество перебралось в Варшаву. Обе княгини приехали туда, чтобы помолиться в варшавских соборах, Стефа с родителями — чтобы приготовить приданое, а Вальдемар — чтобы видеть Стефу. Он привез и пана Мачея. В столицу прибыли Трестка с князем Францишком. Что до Брохвича, он приехал еще раньше.
Пани Рудецкая произвела хорошее впечатление, нравилась княгине за ее спокойный характер и тактичность — к тому же княгиня видела, с каким уважением относится к будущей теще Вальдемар. Пан Мачей, впервые увидевшись с пани Рудецкой, страшно взволновался и ощутил смутную тревогу — это была дочь покойной Стефании. Догадавшись обо всем, пани Рудецкая с врожденной деликатностью поддерживала вежливый разговор, но свободных, непринужденных отношений меж ними так и не установилось. Стоял великий пост, нельзя было устраивать большие приемы, и потому княгиня с паном Мачеем собирали у себя лишь нескольких близких друзей. Стефа инстинктивно не хотела показываться на глаза аристократам в качестве невесты. Вальдемар не настаивал, боясь всего, что могло бы причинить ей хоть малейшее расстройство. В тех случаях, когда все же приходилось посещать приемы, где были незнакомые Стефе представители высшего круга, ее и Вальдемара сопровождала младшая княгиня.
Супруги Рудецкие предпочитали вообще не появляться в свете.
Стефа была занята с восхода до заката. В мелочах ей помогала пани Рита при неотлучном Трестке.
Надежды графа крепли. Рита относилась к нему внимательнее, чем прежде. Тоска ее ослабла, превращаясь в легкую меланхолию, Рита примирилась с неизбежным.
Однажды на малом приеме у княгини Стефа впервые после осенней охоты встретилась с графиней Чвилецкой и ее дочерью. Высокомерная графиня собиралась было недвусмысленно выказать свое нерасположение Стефе, но присутствие майората и старой княгини не позволило ей решиться даже на пренебрежительный тон, не говоря уж о словах. Графиня и Стефа приветствовали друг друга сдержанно, но по всем правилам хорошего тона. Панна Паула Чвилецкая, невеста барона Вейнера, наоборот, с неподдельной радостью пожала руку Стефе. Все мужчины, знакомые со Стефой по Глембовичам, теперь посматривали на нее удивленно — невеста майората… Но что бы они про себя ни думали, всем было известно, что майорат — человек разборчивый и требовательный, а значит, он знал, что делает…
Среди прежних ее знакомых она не увидела одного Барского. Он и его дочь наносили визиты одной лишь старой княгине, да и то скорее отдавая дань этикету. При встречах с майоратом графиня Мелания держалась величественно и холодно. Вокруг нее увивались многочисленные претенденты на ее руку, но она никак не решалась сделать выбор. После краха всех ее надежд заполучить Михоровского нелегко было отыскать человека, способного хоть в чем-то сравниться с ним. Наибольшие шансы имел князь Занецкий, отягощенный, правда, огромными долгами, но зато украшенный титулом и громким именем. В салонах одно время сплетничали, что Мелания хотела бы видеть своим супругом князя Лигницкого, которому однажды отказала, а потом одумалась — но она тем временем обручилась с Занецким. Но почему-то не любила, когда об этом говорили.
Выходя однажды из модного магазина, графиня увидела выходивших из кареты майората, молодую княгиню Подгорецкую и Стефу. Мелания поклонилась княгине, но притворилась, будто не замечает Стефы, однако искоса ухитрилась во всех деталях рассмотреть ее фигуру, элегантный весенний костюм из темно-голубого сукна с шиншиллами и маленькую шапочку.
Когда швейцар с поклоном отворял дверь двум дамам, застывшая на тротуаре графиня издала полный злой иронии смех. Княгиня и Стефа удивленно обернулись в дверях. Графиня выглядела ужасно, ее вызывающая осанка, пылавшие злобой глаза, перекошенные гримасой губы делали ее воплощением величайшей ненависти.
Стефе это причинило невыразимую боль. А княгиня произнесла довольно громко:
— Imbecile![98]
И принялась успокаивать взволнованную Стефу.
Княгиня Кристина Турыньская, тоже стремившаяся когда-то завоевать сердце майората, переживала поражение по-иному — она просто перестала бывать в обществе, в то же время пытаясь как бы ненароком встретиться где-нибудь со Стефой, чтобы взглянуть на нее со стороны. Увидев Стефу на концерте в филармонии, а потом на прогулке в Лазенках, [99] княгиня призадумалась и горько шепнула себе:
— Ничего удивительного, что эта девушка его очаровала…
Вечером у зеркала, сравнивая свою вызывающую красоту гетеры с обаянием и прелестью юной невесты майората, княгиня вынуждена была признать, что оказалась побежденной.
Разглядывая фотографию Стефы так пристально, словно хотела проникнуть в ее мысли, княгиня Кристина, неглупая и справедливая по натуре, решительно вынесла приговор:
— Это не пустенькая кокетка, это — прекрасная душа. Она любит не майората из Глембовичей, а Вальдемара…
И она перестала ненавидеть Стефу. Но тоска по Вальдемару пожирала ее. Она понимала, что их роман, длившийся уже года два, теперь обязательно кончится.
Отчаянных писем Вальдемару она не писала, но попросила ее навестить. Майорат приехал, ничуть не колеблясь: Кристина была для него не просто любовницей, с которой предстоит расстаться, он уважал ее за ум и благородство души, и в его глазах она стояла неизмеримо выше графини Сильвы и нескольких подобных.
Свидание длилось недолго. Майорат был исключительно вежлив, но держался непреклонно. Поняв, что Михоровский твердо намерен порвать с ней, княгиня готова была расплакаться, но сдержалась: во-первых, она была не юной девушкой, а разведенной молодой дамой, а во-вторых, знала, что Вальдемар терпеть не может сцен с истерикой и рыданиями, и, даже порывая с ним навсегда, не хотела ронять себя в его глазах.
Они распрощались, как светские люди, вежливо и учтиво, не вспоминая о минувшем и без пожеланий друг другу на будущее. Пожав руку Вальдемару, княгиня сказала лишь:
— Что ж, ты бросил играть no-маленькой и поставил на карту все. Уверена, ты наверняка выиграешь… Но что до меня, хотела бы я принадлежать к тем счастливым натурам, которых ничуть не трогает переход зари в серую мглу…
Майорат молча поцеловал ей руку и удалился. Он поехал прямо к Стефе, знавшей об этом свидании, — Вальдемар откровенно рассказал ей о своей холостяцкой жизни, и она ощущала к княгине смешанную с сочувствием симпатию.
Когда по салонам разнеслась весть, что княгиня уехала в Испанию, многие были на нее злы, не в силах простить ей столь неслыханную уступчивость. Все с большой надеждой ожидали скандала, новой вспышки сплетен — и вдруг Кристина так их подвела…
XXIV
Вечером к зданию оперы подкатила следом за другими карета майората. Из нее вышли княгиня Подгорецкая, пан Мачей, Стефа и панна Рита. Майорат и Трестка прибыли раньше.
Когда все вошли в ложу майората, уже воцарилась темнота. Вот-вот должен был подняться занавес. Стефа сидела меж княгиней и панной Ритой, пан Мачей, майорат и Трестка — за ними. Оркестр заканчивал увертюру.
В зале тихо шелестели женские платья и слышались шепотки.
Занавес поднялся. Давали польскую оперу «Графиня».
Сердце Стефы учащенно билось, на душе было чуточку неспокойно. В полутьме она увидела напротив Барскую с отцом и компаньонкой. С ними сидел и Занецкий. Все ложи заполняла аристократия. Случайно так вышло или Вальдемар умышленно привез их на сегодняшнее представление? Должно быть, нарочно — Стефа вспомнила, что Вальдемар перед отъездом в оперу оглядывал ее наряд с необычайным вниманием. Сегодня на ней было платье из белого газа, изящно украшенное золотой тесьмой. В волосах — золотая ленточка, к лифу приколот букетик фиалок с бледно-зеленой травой. Никаких драгоценностей.
Наверняка Вальдемар знал, что сегодня здесь соберется высшее общество. Хорошо это или плохо? Стефа волновалась, так и не ответив для себя на этот вопрос. Она смотрела на поющих артистов, занятая собственными мыслями.
Вальдемар это заметил, наклонился к ней и шепнул:
— Ты обеспокоена… Что случилось? Она ответила шепотом:
— Посмотри, все ложи переполнены…
— Вижу, аристократия льется через край. Но при чем тут мы? Нас это не касается.
Стефа опустила глаза.
— Тебя это заботит?
— Да, — прошептала она, не в силах что-либо скрыть от него.
Вальдемар взял ее за руку:
— Не нужно беспокоиться. Я специально сделал так, чтобы все сегодня увидели нас вместе. Сколько можно прятаться? Через два месяца свадьба. Они должны почаще видеть тебя. Ты сегодня очаровательна! Пусть дивятся.
Стефа улыбнулась:
— Посмотри на сцену — граф рассматривает наряд Дианы.
— Она не красивее тебя.
— Но как играет! Какой голос!
— Да, мастерски изображает аристократку начала девятнадцатого столетия. Т-с! Они переживают решающую минуту!
— Кто?
— Влюбленные рядом с нами…
Его усы коснулись щеки Стефы. Она затрепетала, жар растекся по ее жилам, щеки и шея порозовели. Ноздри Вальдемара вздрагивали, глаза пылали, страсть читалась в полумраке на его лице. Он вдыхал нежный, едва уловимый запах духов, которые сам для Стефы выбрал. Словно охваченный безумием, стиснул в ладони ее веер, смотрел, как изящно лежат на стройной шее темно-золотистые локоны, как вздымается часто грудь девушки. Ее близость опьяняла его. Глядя на заливший щеки Стефы румянец, Вальдемар прошептал:
— Сколько пыла обещает этот пламень!
Стефа покраснела еще сильнее.
— Прелесть моя!
Занавес опустился. Вспыхнули люстры.
Вальдемар пришел в себя. Стефа, жмуря глаза от яркого света, посмотрела на Риту и Трестку и увидела, что они чем-то взволнованы.
Загремели аплодисменты. Певица кланялась публике.
В театре сделалось шумно. Люди вставали с кресел. В ложах так и мелькали черные фраки входящих и выходящих мужчин. Заиграл оркестр.
— Все смотрят на вас, — сказала княгиня Стефе. Стефа смешалась, взяла с барьера букет орхидей и прижала его к губам.
Вальдемар склонился к ней:
— Родная моя, будь смелее…
Стефа улыбнулась ему и ощутила внезапный прилив энергии.
— Хорошо, буду смелой…
— Золотая моя!
— Посмотрите во второй ряд кресел, — сказала панна Рита. — Там кое-кто знакомый, вон тот смазливый молодой человек с бутоньеркой.
Стефа и Вальдемар посмотрели туда. Стефа отшатнулась.
— Пронтницкий! — сказал Вальдемар.
— Где? Где? — вытянул шею Трестка. Панна Рита показала ему взглядом:
— Я его сразу узнала, а он нас еще не заметил. Воображаю его физиономию, когда…
— Ему наверняка покажется, что крыша на голову упала, — закончил за нее Трестка.
— Ах, оставьте! — сказала Стефа. Но Рита продолжала:
— Он наверняка ошалеет при виде бывшего патрона, с которым ему, кстати говоря, очень не повезло…
Вальдемар пожал плечами:
— Панна Стефания права — оставьте его в покое. Ему наверняка будет не по себе…
Театральный бинокль Пронтницкого переместился с амфитеатра на ложи.
Внезапно молодой человек вздрогнул, опустил бинокль, смотрел, не веря собственным глазам, побагровев так, словно получил пощечину.
Стефа! Несомненно, Стефа! В окружении знакомых ему аристократов, и рядом с нею — сам майорат!
Лишь теперь Пронтницкий заметил, что в ту же сторону обращено множество глаз, услышал перешептывания и невольно сам обернулся к соседу:
— Простите, кто это вон там?
— Как, вы не знаете? Это невеста майората Михоровского. Красотка, верно?
Пронтницкий онемел.
Значит, эти смутные слухи оказались правдой? А ведь он поначалу не верил… Он не переписывался с отцом и ничегошеньки не ведал о случившемся в Ручаеве обручении. Он настолько удивился, что застыл, как столб. Трестка, следивший за каждым его движением, тихо засмеялся.
Встретив взгляд Вальдемара, Пронтницкий опомнился, забрал шляпу и направился к выходу, изображая полнейшее равнодушие, но по-прежнему красный до ушей.
Проходя мимо ложи, он элегантно раскланялся. Все склонили головы в ответ, вежливо, но без тени улыбки — так здороваются с теми, с кем не поддерживают никаких отношений. Только Трестка состроил комичную физиономию. Изо всех сил стараясь казаться спокойным, Пронтницкий вышел из зала.
Больше о нем в ложе не говорили.
Вальдемар сказал:
— Пойду навещу знакомых. Принести дамам прохладительные напитки?
— Нет, спасибо, — сказала Стефа.
Майорат и Трестка вышли. Стефа стала открывать белую атласную коробку конфет, преподнесенных ей Вальдемаром.
Теперь она чувствовала себя совершенно свободно, разговаривала с княгиней и паном Мачеем, не обращая внимания на бинокли и лорнеты, направленные на нее со всех сторон. Княгиня радовалась ее непринужденности.
Панна Рита молчала, отодвинувшись в глубь ложи. Одетая в декольтированное платье, она сонно обмахивалась веером, не обращая внимания на ложи и шумящий внизу партер. Подаренные Тресткой конфеты лежали у нее на коленях, она так и не открыла коробку.
К ним вошел Брохвич и весело заговорил:
— Ну, как вам «Графиня»? Великолепно, правда? Панна Стефания, не будет ли чересчур смело с моей стороны попросить у вас шоколадку? Мерси! Что за орхидеи! А платье! Вы сегодня — украшение театра. Где же майорат? Ах, навещает знакомых! А вы заметили, Занецкий уже держится как обрученный жених. Забавно! Он пыжится, а графиня к нему весьма холодна…
— Должно быть, они и вправду обручились.
— Ох, сомневаюсь что-то!
Он склонился так, чтобы его голова оказалась меж Стефой и панной Ритой, зашептал:
— Он у Мелании вместо шпоры, она этой шпорой хочет нас оцарапать до крови, а мы не даемся…
И он вышел, поприветствовав в дверях входящих барона Вейнера с графом Чвилецким. Вскоре в ложе майората оказалось множество людей. Черные фраки и пышные платья стеной сомкнулись вокруг Стефы. Развеселившись, она принимала комплименты, шутила. Молодые люди обращались главным образом к ней. От тех, кого пан Мачей представил ей впервые, она избавлялась вежливо, но с угадывающимся холодком. Веселость и свобода удивительнейшим образом сочетались в ней с тактом и великосветскими манерами. Даже те, кто до того смотрел на нее искоса, помимо воли попадали под ее обаяние. Не пришел один только Барский, недвусмысленно выказывая враждебность. Он отправился в ложу к графу Мортенскому и что-то долго шептал ему на ухо. Седые клочки волос над ушами экс-председателя, большие светлые глаза, горбатый нос — все в его лице печально кивало, горестно подмигивало. Граф Барский всегда приходил в театр не праздным зрителем — он умел в антрактах раскинуть сети своих интриг.
У дверей ложи майората сделалось шумно, чей-то веселый голос призвал:
— Дорогу, господа!
Черные фраки расступились, и в ложу вбежала прекрасная графиня Виземберг в сопровождении немолодого мужчины, вся в кружевах и бриллиантах.
Мужчина поклонился, пан Мачей привстал. Графиня весело приветствовала всех, уселась на молниеносно придвинутом кем-то кресле и сказала:
— Пришла вас навестить, княгиня. Я только два дня назад вернулась из-за границы.
Пан Мачей спросил о пани Идалии и Люции.
— У них все хорошо. Люция всем шлет тысячу поклонов.
И она обернулась к Стефе, протягивая ей руку:
— Желаю всех благ! Майорат был у меня в ложе, я его замучила поздравлениями. И мой муж считает, что вы просто чудесная. Говорит, что вы ему напоминаете гроттгеровских[100] девушек. А бедная Люция печалится, что не может вас видеть.
— Баронесса еще в Ницце? — спросила смущенная Стефа.
— Нет, она сейчас в Ментоне. В середине мая, а может, и раньше, она вернется.
— А где ваш муж? — спросил кто-то из мужчин.
— В фойе. Сейчас он к нам поднимется. Барон Вейнер пригладил бакенбарды:
— Нам здесь нелегко пришлось с вашим мужем, он все стремился уехать к вам на Ривьеру.
Графиня засмеялась:
— А вы его не пустили! Примите мою благодарность! Я долго путешествовала, и муж совсем расстроился… — она весело глянула на Стефу: — Вы удивлены? Правда, я и в самом деле просила барона, чтобы он удержал моего мужа в Варшаве. Он испортил бы мне на Ривьере весь праздник.
Княгиня погрозила ей пальцем:
— Ветреница! Ничуть не меняешься!
— Что ж, тетя, признаюсь открыто: я не хотела, чтобы он ехал со мной. Господи, как было там чудесно! Я совсем сошла с ума, выкинула столько денег! А майорат сказал, что я тем не менее выгляжу разочарованной. Честно говоря, он угадал, но я на него за это не сердита! Она обернулась к пану Мачею:
— Ваш внук чертовски наблюдателен. Сразу заметил, что я вернулась печальная.
— Ну, Варшава вас быстро вернет к веселью.
— Увы, вернуть меня к веселью может только некто исключительный, кого я, увы, в нашем свете не вижу…
И она весело взглянула на мужчин, притворившихся обиженными.
Когда графиня вышла, Стефа поискала взглядом Вальдемара. Он как раз разговаривал с Чвилецкими в их ложе.
Стефа радостно смотрела на его свободные, элегантные жесты, выражавшие уверенность в себе.
Когда он вошел в ложу Барских, графиня Мелания с деланной улыбкой протянула ему руку и тут же заговорила об опере, словно опасаясь разговора на любые другие темы. Один из находившихся в ее ложе мужчин поклонился майорату:
— Пан майорат, примите мои поздравления. Я только что вернулся из Парижа, не мог поздравить вас раньше.
Вальдемар пожал ему руку:
— Спасибо.
Молодой человек продолжал:
— О вашем обручении я узнал еще в Париже. Я еще не имел чести быть представленным вашей невесте, хотя заочно восторгаюсь — я слышал, она так прелестна и изысканна!
Над головой графини Вальдемар посмотрел на Стефу — она и в самом деле выглядела очаровательно, словно нежный цветок на фоне окруживших ее черных фраков.
Графиня Мелания, покраснев от гнева, бросила ядовитый взгляд на ложу майората. Успех Стефы злил ее, а слова молодого князя разъярили окончательно.
— Когда же свадьба? — спросила она с гримасой, долженствующей означать приятную улыбку.
— Через два месяца.
— И потом, конечно, свадебное путешествие? — с любопытством спросил молодой князь.
— Нет, лето мы собираемся провести в Глембовичах, а в путешествие отправимся осенью и зимой. Разрешите откланяться!
Нервный, исполненный злости жест, каким графиня протянула ему на прощание руку, рассмешил Вальдемара, и в коридоре он прошептал себе под нос: «Безнадежна!»
Он обошел еще пару лож. Вернувшись в свою, застал там молодого князя. Уже представленный Стефе, он стоял рядом с ее креслом, держа цилиндр обеими руками, наклонившись вперед. Стефу смешила его высокая сутулая фигура и восхищение в его глазах. Видно было, что она ему очень понравилась, он рассыпался в комплиментах.
Выходя, он пожал руку Вальдемару:
— Поздравляю! Поздравляю! Редкостная красота! У вас прямо-таки талант отыскивать звезды с небес…
— Слышите? Звонок, не опоздайте, — нетерпеливо попрощался с ним Вальдемар.
— Да-да! Мерси! Редкостная красота… спешу… спешу…
Он побежал в свою ложу, ссутулившись — высокий, со впалой грудью и лысеющей головой молодого старика.
Началось второе действие. Пронтницкий не вернулся на прежнее место, перебрался на галерку и смотрел оттуда на майората и Стефу. Странные чувства овладели им — и в первую очередь какой-то непонятный стыд.
Из ложи его не было видно.
Вальдемар часто склонялся к уху Стефы, но она, вдруг заинтересовавшись спектаклем, не сводила глаз со сцены.
Княгиня шепотом попрекнула Вальдемара:
— Послушай хотя бы арию Графини…
Голос артистки в костюме Дианы был великолепен:
О мой наряд, ах, этот мой наряд,
я словно древнегреческая статуя…
О, сколько почестей и сколько зависти
меня сегодня встретит на балу…
Вокруг сиянье, голоса, благоуханье,
и радугою проплывают платья,
и зеркала сверкают…
Вот пары закружились в танце…
Вот превращает в чары и безумье
вихрь бала наш прекрасный мир…
Словно серебряные капельки, сыпались звуки чистого, прекрасного голоса. Все зачарованно слушали. После окончания арии раздались аплодисменты.
— Как прекрасно она поет, — шепнула Стефа. Вдруг они с Вальдемаром услышали шепот Трестки:
— …конечно, глупо мне надеяться на пылкую любовь, но я ведь столько лет ждал… это кое-что да значит…
— Это меня не заставит расчувствоваться, — шепнула в ответ панна Рита.
— Но вы ведь верите мне?
— А вам довольно только этого?
Вальдемар с проказливой улыбкой повернулся к княгине:
— Бабушка, не я один пренебрегаю оперой, посмотри на семейство Трестка…
Стефа легонько ударила его веером.
— Вы чересчур рано так нас называете, — сухо сказала Рита.
Вальдемар сказал Стефе:
— А вы тоже обиделись бы, если бы нас прямо сейчас назвали — семейство Михоровских?
— Ничуть, — улыбнулась Стефа.
— Вот видите? — сказал Вальдемар Рите.
— Вы-то обручены.
— Сдается мне, что и вас мы сегодня будем поздравлять.
Трестка посмотрел на майората с благодарностью. Тот продолжал:
— Посмотрите на сцену: как энергично ведет себя Малыш! Берите с него пример, граф, и вы, Рита!
— Не докучайте им, — шепнула Стефа.
— Слушаю и повинуюсь…
Пришел черед сцены с разорванным платьем. Графиня упрекала Казимежа.
— Она сама дает ему оружие против себя, — шепнул Вальдемар. — Платье станет тем щитом, что спасет улана от кокетки. Так часто случается…
Во время второго антракта Вальдемар и Трестка отправились в курительную. Барский уже был там, дымил сигарой, ни на кого не глядя. Брохвич громко восхищался игравшей Графиню примадонной.
— А Броня вам не нравится? — спросил барон Вейнер.
— Броня? Гм… Она играет несколько сухо. Быть может, все оттого, что она по роли одета слишком простенько, куда ее скромному кунтушику равняться с нарядом Дианы…
— Нет, по-моему, все дело в том, что Графиня держится, как подлинная дама, — сказал Вальдемар. — Броня не смогла бы добиться такого эффекта, даже будучи в ее наряде. Все дело в породе.
— Ого! — язвительно покосился на него граф Барский. — Майорат начинает придавать значение «породе». Это что-то новенькое, вот от кого бы не ожидал! Слова, полностью противоречащие поступкам…
— Что вы этим хотите сказать? — с ледяным спокойствием спросил Вальдемар. — Я лишь хотел сказать, что артистки могут быть хорошими, могут быть и плохими.
— Вот как? А мне происходящее на сцене показалось удивительно точным отражением жизни: лишь подлинная аристократка может выглядеть… и быть по-настоящему благородной.
Намек был недвусмысленным.
Вальдемар вскочил. Брохвич, Трестка и еще несколько человек окружили их. Запахло скандалом.
— Довольно, граф! — сказал Вальдемар. — «Порода» — это неотъемлемое свойство того или иного человека, и принадлежность его к тому или иному сословию вовсе не означает, что он будучи «благородным» по рождению, станет благородным и в жизни! Надеюсь, я вас ничем не оскорбил? А если оскорбил, вы всегда знаете, где меня найти!
Он поклонился довольно вызывающе и быстро вышел.
— Ну, он его приложил! — тихо засмеялся Брохвич.
— Дуэль? — поднял брови Трестка.
Брохвич вытащил его в коридор, потер руки:
— Скандал! Но никакой дуэли не будет! Вальдемар, правда, форменным образом вызвал его, но Барский знает, что не ему тягаться с майоратом, ни на шпагах, ни на пистолетах! Уж Вальди его продырявил бы, как курчонка! Отличная оплеуха! Павлин надутый!
— Но если Барский все же пришлет секундантов? — обеспокоился Трестка.
— Если пришлет, узнает зубки Вальдемара… Будь спокоен, и не подумает присылать. Майорат предоставил ему самому сделать выбор, потому что сам прекрасно понимает, насколько граф ничтожный для него противник. Пошли, звонок!
Вдруг Трестка остановился:
— А если вызов пришлет Занецкий, заступится за будущего тестя?
Брохвич расхохотался:
— Занецкий — кукленок, набитый ватой! К тому же его здесь не было. Ты что же думаешь, граф станет хвалиться? К тому же Занецкий — еще не официальный жених. Ладно, пошли.
Вальдемар вошел в свою ложу спокойный, самую чуточку побледневший, молча сел рядом со Стефой.
Она заметила происшедшую в нем перемену:
— Что случилось?
— Ничего. Что-то здесь жарковато…
Свет был пригашен, занавес опущен. В оркестровой яме зазвучал «Полонез» Монюшко — нежно, красочно, волнующе.
— Какая музыка! — тихо сказала Стефа.
Она зачарованно слушала, откинувшись на спинку кресла.
Полонез наполнял душу мечтаниями.
— Прекрасно! — шептал и Вальдемар, сжимая в руке пальчики невесты.
Стефа, крайне впечатлительная, переживала нечто необычайное.
Княгиня и пан Мачей заслушались, погрузившись в раздумья.
Трестка склонился к Рите, держа в ладонях ее руку, и время от времени целовал ее пальцы. Она уже не сопротивлялась. Сидела неподвижно, бледная, темные глаза ее светились решимостью.
Вальдемар расслышал их шепот:
— Скажите: да! Скажите… — умолял Трестка.
— Пусть так, — ответила она тихо.
Трестка поцеловал ей руку.
А полонез звучал в притихшем зале, пробуждая желания, воспламеняя страсти, наполняя души добротой, глаза — неподдельным чувством, а иногда и слезами…
Он растекался могучими волнами, захватывая всех, унося, порабощая…
Погружая в мечтания…
Заставляя замереть в блаженстве…
И вдруг — тишина! Мягко угасли последние такты.
В зале царило молчание, словно люди увидели вдруг пролетающих ангелов и онемели от восхищения.
Высоко на галерке, словно первые раскаты грома, раздались аплодисменты. Театр взорвался энтузиазмом. Переполнявшие всех чувства нашли выход в оглушительных овациях.
Дамы хлопали, перегнувшись через барьер лож. Партер грохотал, словно взбудораженное море. Отовсюду неслось:
— Браво! Бис! Бис!
Но другие стали шикать: столь неизгладимое впечатление повторения не требует. Трудно еще раз, с той же силой пробудить те же чувства. Повторение убило бы весь эффект.
— Довольно! Довольно! — требовали тонкие знатоки и ценители музыки.
Занавес поднялся.
Зрители, словно после наркотического опьянения, возвращались к действительности. Панна Рита спросила Трестку:
— Что случилось с майоратом? Он весь кипит.
— Скандал с Барским.
— Где?
— В курительной.
Услышав это, Стефа побледнела. Видя, что Вальдемар беседует с княгиней, она склонилась к Трестке.
— Что вы сказали? — шепнула она со страхом. Глаза ее стали почти черными.
— Успокойтесь! Маленькая неприятность… Барский втоптан в грязь, — ответил Трестка небрежно.
— Честное слово?
— Богом клянусь!
Однако Стефа не успокоилась. Она чувствовала, что все произошло из-за нее. Была уверена, что именно так все и было. В ложе Барских сидели только Мелания с Занецким и компаньонкой. Граф, скорее всего, покинул театр.
— Что случилось? — шептала Стефа с колотящимся сердцем. — Что же, так будет всегда?
Панна Рита, тоже обеспокоенная, посмотрела на Трестку и сделала мимолетный жест.
Трестка понял: она спрашивала, будет ли дуэль.
Он отрицательно мотнул головой, написал что-то в блокноте и подал Рите.
Она прочитала: «Майорат — это матадор. Кто тогда Барский? Разъяренный, фыркающий… Понятно?»
Панна Шелижанская кусала губы, чтобы не расхохотаться.
Наконец занавес опустился — представление окончилось.
Все задвигались, смеялись, весело прощаясь.
Кутая Стефу в белую накидку, Вальдемар заметил, что Стефа словно угнетена чем-то.
— Что с тобой, дорогая?
— А что было с вами, когда вы вошли в начале второго акта? — спросила она, не сводя с него глаз.
— А, ты догадалась… Пустяки, сущие пустяки!
— Правда?
— Честное слово.
Спускаясь по лестнице, Вальдемар поддерживал под локоть Стефу, Брохвич — княгиню. Из лож струилась элегантная волна дамских накидок и шляпок, черных мужских пелерин. Звучали прощальные слова, часто раздавался смех. Шумя шелками, благоухая, проходила аристократия. Из партера выходила публика поскромнее, хотя там тоже сидели люди из светского общества.
Верхние этажи отозвались топотом и громкой болтовней — это с галерки, словно град из грозовой тучи, валили «низшие классы».
В коридоре у кассы стоял Пронтницкий. Увидев Стефу с майоратом, он отвернулся. Стефа не заметила его. Майорат заметил, но притворился, будто не видит.
Швейцар выкрикнул:
— Карету майората Михоровского!
Вальдемар усадил в карету невесту и панну Риту, приказал кучеру:
— В «Бристоль»! Карета отъехала.
— А вы поедете со мной. Нам нужно поговорить, — сказал Вальдемар Трестке.
В отеле малиновый зал был уже освещен, стол украшен цветами, выжидательно выстроились лакеи.
Вальдемар и пребывающий на седьмом небе Трестка приехали первыми.
Стали съезжаться гости. Вальдемар взял на себя роль хозяина.
Малиновый зал, читальня, вестибюль были ярко освещены, повсюду виднелись веселые лица. Журчал посреди зала искусственный водопад, играл оркестр. Дамы поправляли туалеты наверху.
Наконец позвали к столу.
Майорат, усевшись рядом с невестой, сказал загадочно:
— Сейчас будет неожиданность…
— Какая?
С бокалом шампанского в руке он встал и отчетливо произнес:
— Позвольте поднять первый тост за только что обручившуюся пару — Маргарита Шелига и граф Эдвард Трестка. Желаю счастья!
Все онемели от удивления. Вообще-то многие этого ждали, но не так скоро. Полные бокалы остановились в воздухе. Трестка был вне себя от радости, панна Рита сидела бледная, но спокойная.
— Желаю счастья! — повторил Вальдемар, отодвинул кресло и подошел к ним.
С шумом отодвинулось множество кресел:
— Поздравляем! Поздравляем!
— Vive![101] — аристократическим дискантом процедил граф Морикони.
— Что там vive! Лучше по-нашему: виват! — подхватил Брохвич.
Вальдемар поцеловал панне Рите руку и сказал:
— Я хотел первым поздравить вас, потому что именно вы первой пожелали нам счастья.
— Откуда вы знаете?
— Эдвард выдал.
Панна Рита с улыбкой принимала поздравления. Со Стефой они расцеловались, как сестры.
В глазах княгини стояли слезы.
Когда к руке Риты подошел и Трестка, она отстранила его мягко, но решительно:
— Пан граф, я, правда, сегодня расчувствовалась, но нежничать не люблю. Оставим это до свадьбы.
— Я даже на это согласен! — ответил весело Трестка. И у него от превеликой радости свалилось с носа пенсне.
Ужин затянулся надолго. До рассвета оставалась пара часов, когда «Бристоль» наконец опустел.
XXV
Прошло две недели. Рождественские праздники Вальдемар провел у невесты.
На другой день в приходской костел пришли все обитатели Ручаева и много их соседей, в том числе и старый Пронтницкий, поглядывающий на Стефу робко и почтительно. Приходской ксендз как раз собирал пожертвования на подновление костела и теперь весьма расчетливо выбрал себе в помощники Стефу и пожилого местного помещика. Когда они принялись обходить с подносами присутствующих, пожертвования так и посыпались. Красота Стефы, ее новое положение и присутствие майората заставили всех соревноваться в щедрости. Вальдемар с безразличным видом положил на поднос маленький сверточек, из которого ксендз достал потом два пятисотрублевых банкнота, и похвалил себя за удачно выбранных помощников.
Старый Пронтницкий, для которого деньги были единственным светом в окошке, узнав от ксендза о даре Вальдемара, лишь теперь понял, насколько он, оказывается, терпеть не может Стефу и ее родителей. Он не подошел поздравить Стефу и Вальдемара и не пошел на обед в дом священника, когда все отправились туда.
Слуги ручаевские не могли нарадоваться жениху их паненки — майорат одаривал их чаевыми, превосходящими всякое воображение.
Минули праздники, Вальдемар вернулся в Глембовичи.
В один прекрасный день, когда Вальдемар собирался на станцию, чтобы отправиться в свои волынские имения под Белочеркасском, ему доложили, что приехал граф Чвилецкий и с ним какой-то пан.
«Должно быть, Вейнер», — подумал Вальдемар.
Но в салоне он, к своему удивлению, увидел графа Мортенского. Раскрасневшийся старичок что-то оживленно говорил Чвилецкому.
— Здравствуйте, граф, — сказал майорат. Граф чуточку смутился:
— Мое почтение, рад вас видеть. А я, знаете ли, как раз рассказывал графу Августу про Глембовичи — старое гнездо, старое…
«Наверняка опять против меня интриговал», — подумал Вальдемар.
Все уселись. Мортенский потряхивал остатками седых волос, то и дело морща нос, словно бы чем-то обеспокоенный.
— Рад вашему визиту, господа, но почему-то мне кажется, что вы приехали не из простой вежливости, а с некой определенной целью, — сказал Вальдемар. — Я угадал?
Чвилецкий поерзал, откашлялся:
— Да, вот именно, у графа Мортенского к вам именно дело, вы угадали…
Бывший председатель высоко поднял голову, в глазах его появилась уверенность в себе:
— Qui, ju stemen![102] — сказал он сухо. — Будучи в Шале, я решил навестить вас, пан майорат, и… узнать от вас кое-что о последнем заседании сельскохозяйственного товарищества.
— Я весь внимание…
— Я узнал от Гершторфа, что у вас есть новые предложения и вы хотите претворить их в жизнь.
— Какие конкретно предложения вас интересуют?
— Вы вроде бы хотите организовать в округе сельскохозяйственные кружки?
— Да, я давно об этом думал, а теперь решил претворить эту идею в жизнь.
— И что это даст?
— Многое! Поднимет культуру и уровень умственного развития крестьян, увеличит урожаи и сделает сельский труд более эффективным.
— Но разве вы не знаете, что крестьяне не готовы к подобным новшествам?
— Они будут не одни: интеллигенция возьмет их под свою эгиду. Я взял за образец подобные кружки в Познаньском воеводстве, которые успешно работают…
— В Познаньском воеводстве люди не в пример цивилизованнее, а у нас дикарь на дикаре сидит и дикарем погоняет.
— Что ж, мы приобщим их к цивилизации. Это наша обязанность, мы должны делать все, что в наших силах, хотя бы проявить инициативу…
— Много же вы найдете желающих!
— Немного, я знаю, знаю еще, что даже среди желающих мало будет тех, из кого потом выйдет толк. И дело не только в дикости. Наши средние хозяева плохо обеспечены материально. Трудно требовать от людей, которые едва сводят концы с концами, чтобы не допустить полного разорения именьица, еще и тратиться на образование крестьян. Но посчитайте, сколько в нашей губернии магнатов и зажиточных хозяев — вот вам и фундамент! Нужно дать толчок? Мы это сделаем!
— Желаю удачи, но я в этом участвовать не буду.
— Почему?
— У него есть личные причины, — процедил Чвилецкий.
Вальдемар усмехнулся:
— Боится переработать? Взвалить все на свои плечи? Я не думаю, что мы останемся в одиночестве и все ляжет исключительно на наши плечи. Понимаете ли, всегда найдется достаточно дельных людей с большими амбициями, которые будут руководить работой не из желания облагодетельствовать человечество, а попросту из жажды власти.
Мортенский покачал головой, иронически рассмеялся.
— Много же они вам наработают!
— Я и не собираюсь полагаться на них во всем. Они будут выполнять какую-то часть нашего плана. Пусть такой пан, которому лестно прослыть филантропом и этаким проповедником, возьмется обучать крестьян в своем имении, а мы уж найдем ему помощника, не столь амбициозного, зато дельного. Не забывайте, у крестьян тоже есть люди с запросами. Кто-то из тех же амбиций, только понимаемых на свой лад, отправит сына в такую школу, а то и в университет. Если нам удастся организовать кружки, это окажет огромное влияние на расцвет образования.
— Мерси! Сидеть рядом с вонючими сапогами и шубами? — скривился от отвращения граф Мортенский. — Разве в этом долг нашей аристократии? Слуга покорный!
Вальдемар, внимательно посмотрев на него, сухо сказал:
— Мы прежде всего граждане этой страны, а уж потом аристократы. И мы должны заботиться, чтобы на наших нивах вырастало доброе зерно, а не сорняки. Сами по себе наши гордые знамена положения не выправят; мы должны запалить лампы на древках наших знамен и идти с ними, распространяя свет. Чем пышнее и величественнее знамя, тем больше должен быть фонарь. И нужно побороть отвращение, пан граф. Этих вонючих сапог гораздо больше, чем нас, и об этом нельзя забывать.
Бывший председатель громко проглотил слюну, словно горькую пилюлю, потер ладонью колено и сказал:
— Чересчур, чересчур много почтения вы им выказываете. Вы только подумайте, они… и мы? Это ведь…
Вальдемар прервал его:
— Знаю, что вы хотите сказать: что они — океан, а мы корабли с гордыми парусами, которые имеют право скользить по гребням волн, подавляя их величием. Увы! Разбушевавшиеся волны способны потопить любой корабль, сколько ни лей масла на поверхность штормового океана. Мы попросту сгинем без следа. Наша мощь — фикция. Реальная сила — у них. Совсем не обязательно впадать в другую крайность и брататься с ними, как это делают аграрии. Но мы должны заботиться о них, а не ежиться от отвращения. Они бескультурны — мы должны им это простить. Прежде всего я вижу в них людей… но и сырье для выработки полноценного продукта.
— Вы идеалист, — сказал Чвилецкий.
— И противник аристократии, — добавил Мортенский.
— Ничуть. Аристократия необходима, как и все прочие сословия. Вот только… она должна пересесть на менее норовистого коня, который не шарахался бы при виде крестьянского плетня — слишком много у нас в стране этих плетней… На нашем щите я вижу множество дыр и хочу их заделать — однако многие считают, что тогда, видите ли, сотрется позолота. Давайте для начала залатаем хотя бы две дыры: сибаритство и эгоизм. Давайте хоть чуточку позаботимся о фундаментах, на которых стоят наши дворцы, и о тех, кто эти фундаменты для нас воздвигает.
— Словом, аристократию вы не считаете опорой общества? — раздраженно засопел старый магнат.
Вальдемар сказал, уже не скрывая насмешки:
— Ох! Прошли времена язычества. Мы не идолы, перед которыми почтительное общество обязано возжигать фимиам. Вместо того, чтобы сидеть под балдахином родовой спеси и вести растительный образ жизни, мы обязаны работать. Пирамиды остались в Египте. Они не придут к нам, чтобы водрузиться постаментами под наши подошвы, и никто их нам не возведет… Но давайте вернемся к нашим кружкам. Допустим, наш крестьянин на первом занятии будет только чесать в затылке да таращиться на панов. На втором он непременно начнет слушать, что же все-таки говорит пан, а на третьем сам заговорит, конечно, сначала коряво, но все-таки сможет объяснить свои нужды. Начнет набираться ума, научится вести хозяйство в ногу со временем.
Мортенский передернул плечами:
— И вы думаете, вам это все удастся?
— Приложу все старания, чтобы удалось. У меня есть поддержка в министерстве, скоро я еду по этому делу в Петербург.
Старый граф беспокойно вертелся в кресле, глядя на майората, словно генерал на рядового, нарушившего воинские уставы. Седые волосы над ушами еще больше встопорщились, нос казался наконечником копья, узкие губы пренебрежительно кривились.
Майорат спокойно выдержал укоряющий взгляд, лишь улыбнулся и подумал: «Интересно, чего он от меня хочет?»
Вслух он сказал:
— Пан граф, вижу, мой проект вам не нравится. Могу я узнать, почему?
— Конечно! Чересчур быстро вы приступаете к делу, а ведь вы совсем… совсем…
— Совсем недавно избран председателем? — иронически подхватил Вальдемар. — Значит, вы решили, что до того я совсем не интересовался такими вопросами и Товариществом? Вы забыли, что я не новичок в сельском хозяйстве.
Вмешался Чвилецкий:
— Конечно, вас никак нельзя назвать новичком, никак нельзя. Хотя бы потому, что вы были инициатором…
Мортенский окинул графа неприязненным взглядом и надменно прервал его:
— Инициатор — этого мало! Предводительствовать должны люди почтенного возраста, а распространять идеи, я считаю, не должны люди… чересчур молодые люди, я бы сказал.
Майорат рассмеялся:
— Вы намеревались назвать меня юнцом? Бога ради, я и не подумал бы обидеться. Думаю, многие согласятся, что юнцом меня никак нельзя назвать, а то, что люди мне доверяют, можно доказать простым примером — они сами выбрали меня председателем Товарищества… которое когда-то убедил всех организовать именно я.
— Повторяю, апостолами новых идей должны быть люди почтенного возраста, — сказал граф.
— А если таковых нет? — не без дерзости спросил Вальдемар.
— Как это — нет?
— Назовите мне их!
Граф длинными костистыми пальцами ткнул себя в грудь:
— Есть я, есть Барский, наконец, ваш дедушка, есть присутствующий здесь граф Чвилецкий…
— Позвольте! — спокойно сказал майорат. — Мой дедушка слишком стар и к тому же давно отошел от общественной деятельности. Князь Гершторф живет не в нашем округе… а жаль, он во многом смог бы нам помочь, и настоящий патриот к тому же. Насчет его я с вами полностью согласен. Барский тоже не из нашего округа, да и идеи его… Кроме пурпура, осеняющего его род, да священной миссии аристократии он в жизни ничего больше не видит. Пан Чвилецкий, сколько я ему ни предлагал, не хочет участвовать в нашей работе, а вы… — Он помолчал, взглянул на Мортенского и сказал серьезно: — Вы были председателем пять лет, и у вас была масса возможностей стать апостолом, однако вы добровольно уступили свой пост…
Наступила тишина. Чвилецкий откашливался, гладил подбородок. Его глаза, обычно холодные, сейчас светились весельем.
Мортенский выпрямился в кресле. На его бледном лице появился кирпичного оттенка румянец, он пожевал губами, что означало у него озабоченность, не сводя глаз с майората.
А тот продолжал серьезно:
— Не считайте мои слова упреком. Когда было организовано Товарищество, все мы единогласно выбрали вас председателем, считая вас самым из нас серьезным. Но возраст и упадок сил не позволили вам работать интенсивно. Теперь, когда я встал у руля Товарищества, пришла пора расширить масштабы нашей деятельности. Я полон сил, молод и здоров… однако не собираюсь пренебрегать хорошими советами, более того, прошу их.
Старый магнат, явно польщенный, благожелательнее посмотрел на Вальдемара.
— Говорят, вы заботитесь об улучшении наших дорог? — спросил Чвилецкий.
— Да, хочу, чтобы люди поняли: затраты себя оправдают, не говоря уж о выгоде и улучшении облика страны. Хорошие дороги и исправные мосты — это тоже признак культуры. А у нас недостает дорог и мостов…
Только не в ваших имениях, — запротестовал Чвилецкий. — У вас любая стежка напоминает прусское шоссе. Когда въезжаешь в пределы ваших поместий, словно покидаешь Азию и оказываешься в Европе. Да и крестьяне ваши — сущие европейцы.
— Я стараюсь поддерживать кое-какой порядок, — небрежно сказал майорат.
— Скажите лучше — отменный порядок! Правда, вы обладаете еще nervus rerum[103] — миллионами.
— Миллионы — еще не гарантия того, что воцарится порядок. Я засыпаю дороги гравием, обсаживаю деревьями, огораживаю, ставлю новые мосты. Тот, у кого нет средств на такое, пусть хотя бы засыпает рытвины, чинит те мосты, что есть, ухаживает за теми деревьями, что есть. Довольно будет и этого… А в Глембовичах есть даже парочка дорог, обсаженных фруктовыми деревьями. Бывает еще — ломают ветки, но со временем люди отучатся. Я заложил для слуг фруктовые сады и склоняю крестьян делать то же самое. В моих поместьях хватает защитников деревьев, а это — как раз плоды просвещения.
— Вы еще вроде бы организовали общество трезвости и магазины? — спросил Чвилецкий.
— Да. Приходский ксендз помогает мне бороться за народную трезвость. По этой причине в винокурне, которую поставил еще мой отец, сейчас вырабатывается только технический спирт. В магазинах есть все необходимое. Крестьяне сначала поглядывали косо на мои магазины, но потом привыкли. Девушки из бедных семей устраивают туда целые экспедиции.
Граф Мортенский снова зажевал губами. Он слушал разговор майората с Чвилецким, не вмешиваясь ни словом. Но когда узнал, что слуги и работники майората складываются на стипендии для учащейся молодежи из их числа, вновь обозлился:
— Да они же разорятся на этих стипендиях!
— Отчего же? Половину суммы вношу я, Да и мои люди не стонут под непосильным бременем, каждая семья вносит всего рубль. Но посчитайте всех работников в моих поместьях, и вы убедитесь, что суммы получаются значительные. К тому же у меня есть люди, которые по своей охоте вносят и больше. А директора фабрик и администраторы не отстают. План этот в свое время был охотно принят, как только мои люди поняли всю выгоду для себя. Каждый из них может дать детям соответствующее образование. Благодаря этому фонду несколько молодых людей учатся даже в университетах… хотя должен честно признать, что большинство ограничивается глембовической школой, содержащейся исключительно за мой счет. Я хочу теперь ввести то же самое и у крестьян, но там будет труднее.
— Услуги больницы тоже оплачиваются из вашей кассы? — спросил Чвилецкий.
— Все благотворительные организации для работающих у меня — бесплатные. Я могу себе это позволить. Местный врач и фельдшеры тоже получают плату от меня.
— Вы просто разбаловали своих людей, — гневно вмешался Мортенский. — Никто не последует вашему примеру!
— Разбаловал? Я забочусь о них, но держу в строгих рамках. Слуги и работники — это пружина, с помощью которой я привожу в действие механизмы извлечения доходов, и эту пружину надлежит хорошо смазывать.
— Словом, одни инициативы! Одни новшества! — прошипел старый граф. — В толк не возьму, откуда в вас столько демократизма и филантропии — уж от предков вы их унаследовать никак не могли…
— Вы неправы. Кое-что я и в самом деле унаследовал от матери. Вы ее хорошо знали. Она всегда питала симпатию к простому народу и желала им добра. И мой дедушка — большой гуманист.
— Но вы превзошли всех! Я понимаю, последние события, касающиеся вас лично, еще больше укрепили ваши убеждения. Вы дезертируете с командного пункта нашей аристократии.
— Нет, я просто перешел с командного в шеренгу стрелков, — засмеялся Вальдемар чуточку нервно, предчувствуя, что еще скажет граф.
— Простите! Вы именно дезертируете, переходите к демократам. И я знаю, что тому виной!
В его холодном голосе прозвучало явное злорадство.
Вальдемар вздрогнул, глаза его вспыхнули. Одновременно на лице его появилась скука.
— Пан граф, — сказал он, стараясь остаться спокойным. — Даже если бы «лично касающиеся меня последние события» и оказали какое-то влияние — влиянию этому не более полугода, — а ведь все свои усовершенствования я провожу в жизнь в течение десяти последних лет. И никогда не скрывал ни своих идей, ни убеждений.
Чвилецкий вдруг выпрямился и заговорил неспешно, однако с небывалым оживлением на лице:
— Пан граф, тут я вынужден встать на защиту майората. Действительно, мы давно знали его убеждения, они открылись нам не сегодня. Он давно отстаивает свои идеи и делом, и пером. Мы все читаем его статьи, поднимающие массу интересных вопросов. Я имею в виду статьи под заголовками: «Что мы сделали для страны?», «Осуществляем ли мы свою миссию?» — и другие, смело написанные, принесшие автору заслуженную популярность.
Вальдемар поблагодарил его, склонив голову, и продолжал:
— Граф, вы задеваете особ, которые совсем не принадлежат к «столпам демократии», а посему просто не способны оказывать на меня то влияние, которые, вы им приписываете. Мои убеждения… Они со мной с юношеских времен, их развили университеты и собственные мои размышления. И путешествия! Узнав вблизи порядки в чужих странах, я устыдился нашей отсталости и начал действовать. Результат вы видите в моих поместьях, но мне этого мало, и я желал бы распространить свой опыт на всю страну.
— И добиться славы вождя! — тихо засмеялся Мортенский.
Вальдемар пожал плечами:
— Граф, эти словам не делают вам чести. Я стремлюсь не к диктатуре, а к исполнению моих идей; мои личные побуждения ничто в сравнении с нуждами общества. Мне очень жаль, что в вас, граф, я не нашел союзника. Но я не отступлю, и тех, кто верит мне, не подведу. Простите, если я был чрезмерно откровенным. Я обязан был защитить свои взгляды и убеждения. И уверен, что если вы обдумаете мои слова позже, когда… будете уже в одиночестве, — он значительно глянул на Чвилецкого, а тот притворился, будто ничего не понял, — вы увидите все в совершенно ином свете. Я очень желал бы видеть в вас не врага, а друга.
Чвилецкий торопливо протянул руку майорату:
— Что до меня, я полностью с вами согласен. Обещаю, что буду сотрудничать с вами в деле просвещения народа не из амбиций, а по внутренней потребности. Но правление я отдаю в ваши руки, тут я не компетентен — быть может, мои дамы справятся лучше? Я готов участвовать и в работе ваших кружков, если нужен вам в этом качестве.
Вальдемар пожал ему руку:
— Спасибо за добрые намерения. — Он позвонил: — Анджей, все готово? Господа, прошу к столу!
За обедом разговаривали о вещах малозначимых. Граф Мортенский выглядев подавленным.
Когда часом позже ландо, в котором сидели оба графа, выезжало из ворот, Вальдемар, смотревший из окна ему вслед, пробормотал: «Козни Барского. Упрямый враг!»
XXVI
Исчезли последние пятна снега.
Природа готовилась приветствовать весну.
Весь мир воспрянул!
Тихие ветры пролетали над полями, межами и дорогами. Шумели могучие голоса природы. Грохот трескавшегося льда, треск ломавшихся льдин звучал, как подземный гром.
Победили вздувшиеся воды.
Как кипящая в глубине лава взрывает вулкан, так и они, пенясь, взломали твердый панцирь, разлились по нему и дробили своей тяжестью. Стоны уцелевших льдин заглушал мощный рык разнузданных волн. Громко журча, струились кипевшие водоворотами ручьи, с полей устремились потоки. Извиваясь, изнуренные, мутные, они впадали в реки и озера. Реки вздулись. Быстрые ручьи несли на волнах тину, обломки веток и сухую прошлогоднюю траву.
Жизнь заструилась по жилам земли, вновь наливавшейся жаром.
Пришли теплые вечера. Засверкали обильные росы.
Земля трепетала от страсти, могучее ее дыхание вырывалось из недр белыми туманами, до восхода солнца стоявшими на полях, колыхавшимися над лугами, овевавшими леса потоками белой пены.
— Земля курится! — восклицала природа.
— Земля курится! — кричали птицы.
— Весна начинается!
— Хвала весне!
Вихри притихли, утомленные буйным разгулом. Воцарилось всемогущее солнце.
И весна пришла!
Она появилась на свет юная, прекрасная, окутанная опаловыми туманами, лентами солнечного света.
Ее баюкала мать-земля, колыхали тихие воздушные струи, она вырастала в чудесную богиню, набиралась сил.
И наконец избавилась от младенческих пеленок.
Весна расцветала, пела.
Она сама была влюблена.
Она надевала все новые и новые одежды, украшала волосы аметистовой, бархатной сон-травой, окутывалась белыми облаками цветущих деревьев, бродила в сандалиях из янтарных калужниц по зеркальной глади ключей и озер, смотрясь в них мечтательно.
Она бродила по лесам, призывая любимого. Из молодой груди вырывались тоскующие вздохи, звонкий напев нескончаемой мелодией разносился по дубравам, и эхо распространяло его в бескрайние пределы, слушая прекрасные песни своей госпожи.
Тоскующая весна, простирая увитые цветами руки, молила жаркими устами:
— Любви! Любви!
Стройная, полная уже зрелой женственности богиня очарования, с кипящей шальной кровью, порой вечерних сумерек она взывала к месяцу:
— Приди!
И месяц спускался к ней с небес, бледноликий, в таинственных тенях ночных туманов, ласкал любимую, устремив на нее блистающие серебряные глаза.
Заключал ее в объятия, охлаждая ее лихорадочно пылавшие губы поцелуями своих холодных уст.
Ночь укрывала влюбленных.
— Весна дала начало новой жизни! — воскликнула вскоре природа.
— Весна дала начало новой жизни! — кричали птицы.
— Она зачала лето!
— Честь ей и хвала!
Среди глембовических полей, покрытых пушистым руном молодых трав, среди расцветающих лесов ездил верхом счастливый майорат, впервые в жизни столь пронзительно чувствовавший красу своей земли и весенней прелести. Неизмеримая радость и упоение владели им, душа полна была мечтаний. До свадьбы оставалось две недели. Вальдемар жил, как в горячке. Никогда еще родные не видели его таким. Торжеством и счастьем сверкали его серые глаза. Давняя ирония и пессимизм сгинули бесследно. Только в губах осталось нечто саркастическое, но в сочетании с энергичными чертами лица это скорее привлекало. Сидя на черном Аполлоне, он думал о Стефе. Любил ее так безмерно, что она стала неотъемлемой частью его души, была в его глазах, его мыслях, его сердце. Кроме медальона и кабинетной фотографии, которые он носил при себе, никогда не расставаясь с ними, над его столом висел ее портрет — в белом обручальном платье и подаренных им жемчугах. Глядя на него, Вальдемар вновь и вновь восхищался ее красотой, радуясь, что вскоре судьба навсегда соединит его с любимой. Он носился на Аполлоне по окрестным полям, чтобы дать хоть какой-то выход буйному темпераменту, с которым не мог справиться. Пускал коня галопом, перелетал рвы и изгороди, взлетал на пригорки, немилосердно шпоря жеребца, чуя кипевшее в крови безумие. Молодая польская кровь с примесью бабушкиного наследства — венгерской — разгулялась в нем; удаль, молодечество, буйные фантазии овладели им.
Аполлон, словно разделяя безумие хозяина, летел сломя голову, пренебрегая любыми препятствиями, черной молнией стелясь над полями, лихими прыжками одолевая рвы, взмывая на дыбы. Казалось, стройные ноги арабского скакуна не касаются земли. Хозяин горячил жеребца, жеребец горячил хозяина.
Однажды на прогулке Вальдемар встретил ехавшую верхом Риту и весело приветствовал ее. Она молча посмотрела на него, потом спросила:
— Сумасбродствуете?
Его белые зубы блеснули в улыбке из-под усов:
— Более того — безумствую!
— Какой вы счастливый! — шепнула она со вздохом. — Когда вы к ней теперь поедете?
— К Стефе? Перед самой свадьбой, через две недели поеду забрать ее из Ручаева.
— Значит, свадьбу играть решено в Варшаве?
— Да, восьмого июня. Завтра я еду в столицу.
— Зачем?
— Купить Стефе бриллианты. Хочу, чтобы она, кроме фамильных драгоценностей, получила что-то от меня лично. А когда ваша свадьба?
— Ох… В июле. Но нашу мы сыграем тихо, в часовенке Обронного. Это ваша прогремит на всю Варшаву…
— Стефа тоже хотела тихой свадьбы, но я ее переубедил, я хочу, чтобы наша свадьба была самой пышной, самой прекрасной…
— Ну, конечно! Чтобы неимоверная пышность вполне отвечала вашему неимоверному счастью… и дразнила аристократию.
— Вот об этом я меньше всего думаю!
— Вы заберете в Варшаву своих коней?
— Да, четыре четверки и кареты. Венчание будет вечером, потом ужин в особняке бабушки Подгорецкой, а назавтра мы возвращаемся в Глембовичи. И будем оба на вашей свадьбе. Как, кстати, поживает ваш жених?
Рита засмеялась:
— Эдвард, как всегда, неподражаем! Хозяйствует в своем Ожарове, приходится его то и дело сдерживать, потому что пускается на всевозможные авантюры — начал устраивать особую конюшню для моих коней, я ведь коней заберу с собой, а Трестка — очень хороший человек, страшно меня любит, это-то меня и утешает.
— Он очень добрый, — сказал Вальдемар. — Да и вы за эти годы много влияли на него к лучшему.
— Спасибо за комплимент! Я и представить не могла, что выйду замуж за человека, на которого придется влиять к лучшему…
— Вы бы с каждым это могли совершить. Панна Рита глянула на него чуточку вызывающе:
— Ну, вас-то нет необходимости улучшать… Он усмехнулся:
— Я попросту никому бы не позволил на меня влиять!
— А Стефе?
— Она на меня влияет другим способом, успокаивает мою буйную натуру, а это совсем другое.
Рита показала на отдаленный лес:
— Смотрите, какая радуга! Я выехала из дому после дождя и еще ее не видела… А вы, похоже, не из Глембовичей едете?
— Из Орлина. Но радугу вижу уже давно.
— Ту, что сияет над вами со Стефой?
— И эту тоже.
— О, к человеческим чувствам вряд ли стоит применять это слово…
— Отчего же нет? Солнечные лучи человеческих чувств преломляются в атмосфере чистоты и нежности на чистых капельках взаимности — вот вам и радуга! А впрочем, вы правы, никогда не стоит разбирать чувства человеческие на атомы. Радуга остается радугой, пока она сияет на небе, но едва вы подвергнете ее холодному анализу — может превратиться в капельку ледяной воды, а там и стать ледышкой, ранящей сердце.
— Вы красиво говорите, — сказала Рита. — Но из нас двоих такая радуга висит над Эдвардом, а не надо мной…
— Он сумеет сделать так, чтобы его радуги хватило на двоих, засмеялся Вальдемар.
— Вот вы говорите — не подвергать анализу, а сами? Вы ее анализировали, но она осталась радугой.
— Я лишь анализировал свои чувства. Сам простер их радугой над нашими головами и безгранично верю этой радуге. То же и вам советую.
— Быть может… Но наша радуга никогда не будет столь яркой и многоцветной.
Они распрощались. Вальдемар помчался галопом. Панна Рита шагом поехала в противоположную сторону, опустив голову к шее Бекингема, прошептала страстно:
— Великолепный всегда! Вокруг него всегда веют эти неуловимые черты… Господи, я готова лежать у его ног, стать его служанкой, невольницей, только бы принадлежать ему…
Бедный Трестка карликом представал в ее глазах.
Вальдемар вернулся в Глембовичи, где царила невообразимая суета. Майорат велел, чтобы парк, сады и террасы стали еще прекраснее, чем в прошлом году. Главный садовник-ботаник, отличный декоратор, работал с рассвета до заката, управляя целой армией садовников и рабочих. Слуги с нетерпением ожидали приезда молодой хозяйки: все ее знали и любили.
В Слодковцах тоже было весело. Пани Идалия вернулась с Люцией из Франции; поездка повлияла на нее к лучшему, она повеселела и, видя, как довольны отец и княгиня, не могла уже смотреть на происходящее с прежней холодностью. Люция писала Стефе пылкие, экзальтированные письма, нетерпеливо ждала свадьбы, обрадованная, что молодые не уедут после венчания за границу. Ривьера девочке вовсе не понравилась — главным образом потому, что она постоянно ссорилась с матерью и не смогла насладиться путешествием. Возвратилась едва ли не больной, с расстроенными нервами. Однако Слодковцы и Вальдемар быстро вылечили ее. Вальдемар стал для нее сущим божеством. Он относился к ней еще теплее, чем раньше, защищал перед матерью, опекал. У Люции вновь оказался друг, которому можно было довериться. В одном из писем к Стефе она похвасталась, как ласков с нею майорат. Стефу это радовало. О Люции она всегда, думала как о сестре. Лишь панн Идалия беспокоила ее.
Но баронесса такой уж уродилась…
XXVII
Стефа жила, словно в горячке. Мысли о предстоящем замужестве вызывали страшные чувства — радость, смешанную с беспокойством, перераставшим порой в опасения, даже в печаль.
Она была невестой майората, но, сколько ни пыталась, не могла представить себя его женой. Счастье было столь велико, что способно было убить. Видя расцветающую весну, она упивалась теплыми цветущими днями, как когда-то в Слодковцах, но уже по-другому. Быть может, еще поэтичнее, но уже не столь свободно, скорее, чуточку печально. Она не понимала причин своей тревоги, удивлялась, пыталась изгнать ее из сердца, но не могла. Неуловимые страхи опутывали ее тончайшей сетью все сильнее и сильнее. Временами в душе рождались смутные предчувствия чего-то ужасного.
И еще эта тоска! Стефа тосковала по Вальдемару.
Тоска способна растрогать несказанно, привнося в душу невесомую пыльцу сожалений, горечи и жалоб, Когда человек тоскует, разлад его чувств столь велик, что он и сам не понимает, что с ним происходит, — может быть одновременно веселым, грустным, нежным, грубым, и все замыкается в одном-единственном слове — тоска!
Письма от Вальдемара, длинные и пылкие, успокаивали Стефу. Но вскоре она стала получать и другие, анонимные. Никому не говорила о них, но тревога ее усилилась. Она с величайшим нетерпением ждала очередной почты, но слишком часто там попадались страшные для нее анонимные листы. Из каждого лоскутка человеческой подлости она узнавала, что она — убогая шляхтяночка, выскочка, охотящаяся за миллионами майората, за его именем и княжеской шапкой в гербе, за титулом майоратши.
Другие письма пытались убедить ее, что майорат женится на ней главным образом для того, чтобы искупить прошлое, что он всего лишь хочет затушевать грехи дедушки, прекрасно понимая сам, что совершает мезальянс и открыто говорит о том в кругу аристократов.
Стефа не верила, но яд проникал в ее душу…
Он с пугающей регулярностью сочился капля за каплей. Она мучилась, несколько раз собиралась написать об этих письмах Вальдемару, но боялась, что он придет в ярость и взрыв бешенства сможет превозмочь его врожденный такт. Стефа не хотела подвергать его такой опасности. Зная, что для написания анонимного письма потребны исключительные таланты и полное отсутствие порядочности, Стефа без труда догадывалась об авторах написанных крайне смело писем — это могли быть только Барский с дочерью и графиня Чвилецкая. Никто другой из аристократии на это не пошел бы. Стефа почти не сомневалась, что угадала правильно. Интрига разворачивалась с исключительным мастерством. Вопреки тому, как это бывает с большинством анонимных писем, эти не содержали грубых слов, грязных выражений — одни только грязные мысли, выраженные в изящной форме. Авторы не считали нужным подписываться «доброжелатели» — наоборот, они, смело высказывая свои обвинения, обличали ее с высокомерием и безжалостностью владык мира, хозяев жизни! Обвинения, никогда не повторявшиеся дважды, чередовавшиеся с дьявольской предусмотрительностью, имели целью привести Стефу в полное расстройство. Все было продумало до мелочей. Каждый изящный, насыщенный иронией оборот ранил Стефу, каждый дышал великосветской ненавистью. Каждое слово было взвешено и рассчитано. Внутренняя борьба обессиливала Стефу. Любовь к Вальдемару, горячее желание счастья им обоим, опасение, чтобы ее любовь не отравила его душевного покоя, — все это переплеталось самым ужасным образом. В горячечном воображении Стефы Вальдемар представал перед ней измученным, несчастным. Эти призраки мучили ее. Стефа свято верила в его чувства, вера в него ни разу не была поколеблена в ее душе, но опасения возрастали — она боялась стать несчастьем его жизни. Он защитит ее от любых напастей, но сможет ли укрыться от них сам? Не отравит ли его страх, что ему никогда не простят его отступничества от принципов аристократии? Он станет мучиться, затаит в душе сожаление по покинутым им кругам, и порой, охваченный мимолетным приливом горечи, станет жалеть о совершенном… Имеет ли она право думать только о себе и подвергать его тем опасностям? Не отомстит ли ей за это судьба? Не станет ли жизнь вечным горестным искуплением недолгих минут счастья?
— Боже! Боже! Дай мне силы! Смилуйся! Наставь на путь истинный!
Стефа в полной растерянности хваталась за голову, жадно хватая воздух пересохшими губами, словно выброшенная на горячий песок рыбка. В самые тяжелые минуты она писала Вальдемару длинные откровенные письма, но отправить их не хватило решимости, и Стефа складывала письма в стол.
Здоровье ее пошатнулась, стали мучить головные боли.
Родители, понятия не имевшие об анонимных письмах, никак не могли доискаться, что же происходит с девушкой; они решили, что все дело в горячем темпераменте девушки, ее любви и тоски по нареченному. А может, виной всему близящееся венчание, столь разволновавшее ее?
Рудецкие знали, что Стефа чуточку побаивается окружения майората, но, видя, какой успех она имеет, появляясь среди аристократов, не думали, чтобы эти страхи были такими уж сильными. Энергия майората, его уверенность в себе, любовь к Стефе, его исключительно высокое положение в обществе не позволяли сомневаться — уж он-то сумеет защитить Стефу при необходимости! Панна Рита, смягчая особенно острые моменты, как-то рассказала пану Рудецкому о схватке майората с родными в Обронном и о его полной победе. И пан Рудедкий был уверен, что дочка останется счастлива. Правда, майорат, приехав на Рождество в Ручаев, предусмотрительно попросил будущего тестя уберечь Стефу от анонимных писем, которые могут быть ей присланы, — Вальдемар ничего не знал точно, но хорошо представлял характер Барских. Сначала пан Рудецкий бдительно следил за почтой, но анонимных писем не было. Они, словно бы умышленно, посыпались как раз тогда, когда бдительность его ослабла. Читая их, Стефа не раз порывалась разорвать хотя бы одно, но боль и некая ирония не позволили ей этого.
Постоянная борьба, столкновение противоречивых, но одинаково сильных чувств изнурили ее. Она ходила бледная, почти не спала, глаза ее потухли. Губы, всегда свежие, теперь пылали, сжигаемые внутренней горячкой. Она стала неслыханно впечатлительной. Целыми днями просиживала с письмами Вальдемара в саду или в поле. Часто из своих бесконечных странствий по окрестностям она приносила целые охапки цветов и расцветшие ветки деревьев. С каждым днем ей становилось все хуже. Свою болезнь она скрывала от родителей, но видела, что они обеспокоены ее видом. Бросалась к ним в объятия, скрывая слезы. Один Юрек подсмотрел пару раз, как она плакала, но Стефа упросила его ничего не говорить родителям.
— Маме с папой я не скажу, чтобы не переживали, — ответил он рассудительно. — Но если еще раз увижу, как ты хнычешь, напишу пану Вальдемару, а уж он тебе даст науку! Что ты плачешь, имея такого жениха? Такой добрый и дельный, а она еще не рада? Неблагодарная ты, Стефка! Если б ты выходила за Трестку, я бы тоже с тобой хныкал, у него то и дело пенсне с носа летит, тоже жених! Но уж пан Вальдемар… Ты что, Стефка?
— Юрек, не докучай! — печалилась расстроенная Стефа.
— Ну ладно, не буду, только и ты больше не хнычь. Вот и прав был пан Адам, когда говорили, что аристократия гроша ломаного не стоит. На майората он, правда, иначе смотрит, но ведь и майорат из них, а пан Адам говорит — никогда неизвестно, что там у них под бархатной кожей…
Стефа расплакалась. Оторопевший Юрек умолял:
— Стефа! Стефуня, не плачь! Ну, дураки мы с паном Адамом! Слова больше не скажу про аристократов, только не плачь, я тебе цветов нарву…
Так всегда кончались разговоры Юрека со Стефой. Юрек гордо рассказывал всем и каждому, что вскоре уедет учиться в варшавскую гимназию, даже учителю не позволял что-то ему указывать. Хвастался, что майорат обещал показать ему глембовические конюшни и псарню. Юрек был сорвиголова, но добрый; он любил обеих сестер, хоть и часто докучал маленькой Зоське, выдавая замуж ее кукол таким образом, что после свадьбы они возвращались к хозяйке с открученными руками-ногами.
— Да понимаешь ли, это жених ей руки-ноги оторвал, — объяснял Юрек расстроенной девочке.
Сам он забавлялся, разъезжая на прекрасном пони, которого майорат подарил ему на именины с полной сбруей. Стефе он был благодарен за то, что она брала его с собой на прогулки. Пытался услужить, чем только мог. Когда Стефа рисовала с натуры ручаевские пейзажи, Юрек носил за ней все принадлежности и выбирал красивейшие уголки окрестностей. Но когда Стефа попробовала углем нарисовать по фотографии портрет майората, Юрек мешал ей, не отходя ни на шаг и твердя:
— И не похож! Совсем не похож! Ну, намалевала! Стыдно жениха таким страшилой изображать!
Однажды в полдень Стефа получила от Вальдемара письмо из Варшавы, потрясшее ее.
— Через десять дней моя свадьба? Боже, как скоро! Это вдруг показалось ей столь невероятным, что она повторила громко:
— Через десять дней моя свадьба с ним — с Вальдемаром, с Вальди… — И добавила потише, словно испугавшись: — С Вальдемаром Михоровским; майоратом глембовическим… разве такое возможно?
Задумалась, охваченная тревогой.
Он приедет, заберет ее в Варшаву, все они поедут в столицу… она станет его женой, Михоровской… А что ждет потом — счастье или горе?
Взбудораженная, она прогуливалась по саду. Под ноги ей падали белые лепестки вишневых цветов, словно овевая ее свадебной фатой. Благоухали расцветшие деревья. Воздух был теплым и свежим. Стефа, задумчиво бродя по дорожкам, смотрела на множество порхающих бабочек, слушала жужжание пчел и посвист иволги. Временами поблизости ворковал дикий голубь или свистел черный дрозд. Им вторила кукушка.
«Точно так же было год назад в лесу под Слодковцами, — думала Стефа. — И в глембовическом парке. Скоро я навсегда останусь там с ним. Вальди будет со мной! Боже, сколько перемен за один только год, сколько счастья!»
Стефа вернулась в свою комнату, неся букет свежих ландышей. Ее комната и без того напоминала цветущий сад — каждую неделю майорат присылал невесте цветы из Глембовичей или из самой Варшавы. Однажды прислал даже из Петербурга, где провел несколько дней по делам Товарищества. А Юрек таскал в комнату сестры множество полевых цветов, незабудки и кувшинки, которые с превеликим трудом вылавливал из пруда. Даже Зоська порой одаривала ее смятыми в ладошке нарциссами, говоря с печальной мордашкой:
— Ты уже совсем скоро уедешь от нас с этим красивым паном. Зося тебе нарвала цветков, чтобы ты ее любила. Будешь любить?
Стефу эти презенты от младшего поколения всегда веселили — вот и теперь, увидев на столике несколько анютиных глазок, она на миг отбросила грустные мысли и улыбнулась:
— Наверняка от Зоси. Пойду с ней поиграю…
Но мысли ее вновь вернулись к прежнему. Стефа открыла шкаф, где висело свадебное платье, несколько дней назад присланное Вальдемаром из Варшавы. Разложила его на канапе, стала разглядывать. Платье было невероятно красивое. Белый прекрасный атлас обшит тоненьким прозрачным газом. Атлас просвечивал из-под него нежным блеском, словно нерастаявший снег. Длинный шлейф придавал платью удивительную пышность. Стефа положила рядом красивые атласные туфельки и стояла, задумчиво глядя на этот великолепный, словно бы ангельский наряд. Внезапно очнулась и громко произнесла:
— Надену, посмотрю, как будет…
Она едва справилась с облаками газа и атласа. Надела платье, прикрепила к волосам длинную невесомую вуаль, украсив ее анютиными глазками.
Когда она увидела в высоком зеркале свое отражение во весь рост, радостная улыбка украсила ее бледное личико.
Она долго не могла оторваться от зеркала. Роскошное, но исполненное скромности платье, превосходно сидел на ней. Газ овевал ее облаками белых туманов, прозрачными, трепетными. Нежные волны вуали обрамляли ее златовласую головку, ее ресницы, словно выточенные из рассветного сияния. Она стояла так, молодая, гибкая, чарующая, словно миг назад спустилась с облаков, с лазурно-розовых небес. Глаза ее сияли счастьем.
— Что он скажет, когда увидит меня такой? — шептала она в упоении.
Зажмурившись, она представила, что рядом стоит Вальдемар. В черном фраке, белой крахмальной манишке, с апельсиновым цветком на лацкане, он наклоняется к ней, и Стефа вновь слышит его звучный баритон:
— Единственная моя малютка! Как ты красива, чудо мое!
Вздрогнут его губы, шевельнутся ноздри, все его энергичное лицо исполнится той прелести, которую может вызвать одна Стефа. В серых глазах загорится гордость и торжество, прилив горячей крови оживит его смуглую кожу. «Он завоевал ее наконец!» — вот что он будет думать.
Улыбаясь, Стефа открыла глаза и тихонько шепнула:
— Через десять дней! Всего десять! Чего же бояться? Столько счастья впереди!
Вошла пани Рудецкая и невольно вскрикнула, увидев дочку. Протянув к ней руки, она сказала:
— Боже мой, Стефа, как ты прекрасна!
— Мама, скажет ли то же самое Вальди?
— Он заново в тебя влюбится!
Показался пан Рудецкий с письмом в руке и обрадованно уставился на дочку:
— Хороша!
— Пани майоратша Михоровская, — протянула мать, любуясь звучанием этих слов.
Стефа вздрогнула. Отец обнял ее и поцеловал.
— Ну, покамест она еще Рудецкая, не навеличивай ее до времени… — сказал он с деланной суровостью и подал дочери письмо: — Смотри, тебе еще одно. Но это почерк не Вальдемара. Я его только сейчас нашел между газетами.
Стефа глянула на обратный адрес — он был ей незнаком так же, как и энергичный почерк.
— От кого это? — спросила мать.
— Должно быть, из Слодковцев, — сказала она, хотя прекрасно знала, что письмо не оттуда. — Переоденусь, потом прочитаю…
Пан Рудецкий вышел. Мать помогла Стефе снять платье, поцеловала ее и тоже ушла.
Стефа лихорадочно разорвала конверт.
Прежде всего посмотрела в конец письма — подписи не было. Вместо нее стояло: «Один от имени всех».
Снова…
Сердце ее учащенно забилось. Стефа сжала ладонями виски, прикусила губы, принялась читать:
«Любезная панна! Мы безмерно удивлены, что после стольких предостережений вы все же не оставили намерений стать женой майората Михоровского. Мы даже не будем вспоминать об эгоизме, который толкает вас на чересчур дерзкий шаг. Ради своих безумных желаний, ради удовлетворения чрезмерных амбиций вы, не колеблясь, готовы сделать майората несчастным на всю жизнь. Он будет уничтожен навсегда. Вы лишите его прежней свободы, понизите до минимума его положение в обществе, во мнении света его имя совершенно потеряет прежний блеск. Майорат сам не понимает, на что идет, не понимает, что приносит чересчур большую жертву ради искупления прошлых грешков своего деда, его былого романчика, каких было множество и у Мачея Михоровского, и у его внука, но никогда они не придавали им большого значения и не мучились совестью. Майорат всего-навсего ослеплен, ваша красота увлекла его, будучи не в силах сделать вас любовницей, он решил заполучить вас хотя бы таким способом, совершенно не думая о последствиях. Придет время, когда он опомнится и проклянет тот миг, когда решился на столь безумный шаг. Высшие круги мстят за нарушение их прав и порядков. Тот, кто решится бороться с нами, будет сметен! Нельзя посягать на их традиции, освещенные столетиями! И не надейтесь, что мы примем вас! Ge ressemble un pei mal![104] Первые месяцы пройдут счастливо — что делать, du mois de miel![105] — но когда опьянение майората схлынет, он быстро поймет, что попал в ловушку. Если же он попытается нахально ввести вас в наше общество, можете быть уверены, что мы вас не примем. Мы могли встречаться с вами на нейтральной территории, но в более близкие отношения не вступим никогда! Майорат в этом убедится — увы, поздно! Его нынешнюю энергию сломит этот факт, который даст ему во всей полноте ощутить абсурдность совершенного им. Тогда и ваше положение будет грустным. Для аристократии вы, несмотря на вашу красоту, были и останетесь прокаженной. Предупреждаем в последний раз.
«Один от имени всех».
Стефа выпрямилась.
Неизмеримая тяжесть пригибала к земле ее голову, заливая мозг, разливаясь по телу. Она вложила письмо в конверт, лихорадочно скомкала, почти машинально пряча в стол. Провела ладонью по лбу — ладонь стала мокрой. В глазах у нее мутилось, она ощутила легкую тошноту, в ушах звенело, грохотало.
Пошатываясь, она подошла к окну и затуманенным взглядом посмотрела на цветущий сад. Прошептала с болью:
— Прокаженная!
И вдруг стала смеяться. Смех этот был страшен, он смешался с глухими стонами…
— Они врут! Врут! — кричала она, заходясь от жуткого смеха. — Они его боятся! Будут вынуждены уступить! Будут! Будут! Он не допустит… одолеет их… они его боятся! Боятся! Ох…
Она присела на постель, умолкла, чуточку успокоилась. Однако лицо ее кривилось, как у ребенка, который вот-вот заплачет; она устремила ставшие мутными, бессмысленными глаза на портрет нареченного, стоявший посреди цветов на ее столе, зашептала тихо, ласково:
— Вальди… мой Вальди… неужели я сделаю тебя несчастным? Ты же любишь меня! Любишь! Вальди… Валь…
Она захлебнулась рыданиями. Зарылась лицом в подушки; плач, страшный, горестный, идущий от каждой капли крови, от каждого нерва, из души и сердца, сотрясал ее, словно разбушевавшийся ураган.
Плач этот мог расколоть камни, сокрушить скалы.
Тысячи молотков стучали в ее мозгу.
Пламя охватило ее.
ХХVIII
В Варшаве, за ресторанным столиком в первоклассном отеле сидели майорат и Брохвич. Вальдемар не ел, но много пил, он был угрюм.
— Значит, едешь завтра утром? — спросил Брохвич.
— Может, даже сегодня. Брохвич посмотрел на часы:
— Я бы сказал, что это глупо. Поезжай утром. Все готово?
— Все.
— Со всеми делами покончил?
— Со всеми.
— Я тоже. Давай завтра утром побродим по городу, навестим знакомых, а вечером — в путь! Ты прямо в Глембовичи?
— Да. Поеду в Глембовичи, отправлю в Варшаву коней, кареты, цветы, еще раз все проверю и отправлюсь в Ручаев.
— За невестой… — сказал Брохвич. — Эх! Счастливец ты, человече! Все женитесь, en foule, [Толпой (франц.). только я живу в безбрачии.
Вальдемар поднял к губам бокал с шампанским:
— А кто тебе мешает последовать нашему примеру? Брохвич махнул рукой:
— Видишь ли, меня слишком интересуют все на свете женщины… Не могу выбрать из них какую-то одну.
— Со мной было то же самое, а теперь, сам видишь, я у финиша.
— Ну, твоя Стефа — золотая рыбка… Какие бриллианты ты купил?
— Я тебе покажу.
— Знаешь что? Пошли наверх, сегодня здесь чертовски скучно. Ни знакомых, ни красивых женщин, что тут делать?
Майорат встал и пошел за ним.
У себя в номере он показал Брохвичу драгоценности: ожерелье из бриллиантов величиной с лесной орех, брошь с бриллиантом и большим изумрудом, браслет, диадему и большие серьги. Все камни — чистейшей воды. Изящная оправа, похожая на золотую паутину, лишь подчеркивала их красоту и игру огней.
Осмотрев все это, Брохвич долго крутил головой:
— Ну, денег ты не пожалел! Варшава на тебе заработала! Я и не знал, что у них отыщутся такие камешки… И оправа чудесная. Не поверю, чтобы сами ювелиры такую выдумали, тут чувствуется твой вкус…
— Да, я им сделал эскизы, когда заказывал.
— Бедная Мелания, как я ей сочувствую! — вздохнул Брохвич. — Она такие камешки обожает. Ей чем больше, тем лучше: ожерелье — так в несколько шнуров, повязка на голову должна цепляться за люстру, браслеты — шириной в ладонь, а серьги — до плеч. Вот такое для нее!
— Занецкий постарается, чтобы она именно такие и получила.
Брохвич расхохотался:
— Вальди, ты шутишь или пьян? Если Занецкий и купит Мелании камешки, то исключительно на деньги Барского. Он у будущего тестя даже на свадебный фрак одолжит!
Майорат махнул рукой и равнодушно бросил:
— Да, верно…
Он спрятал коробочки с бриллиантами, потом прикоснулся ладонью ко лбу.
Слушай, Вальди, ты сегодня какой-то странный, — сказал Брохвич. — Да что с тобой такое? Знаешь, ложись и выспись как следует.
Вальдемар прохаживался по комнате, явно нервничая:
— Пожалуй, я все же поеду сегодня: неспокойно что-то…
— Заболел?
— Да ничего подобного!
— Тогда оставайся. Это у тебя предсвадебная дрожь. Сам я ничего такого пока что не пережил, но точно тебе скажу! Расстаешься навсегда с веселым холостячеством — тут затрепещешь! Я все понимаю, но женитьба — это переход из бравой кавалерии в обоз. Поневоле забеспокоишься… Ничего, венчальная молитва тебя вылечит!
Майорат тоже рассмеялся.
Брохвич, радуясь, что развеселил друга, растянулся на софе и скрестив руки на груди, весело продолжал:
— Эгей! Когда я-то буду хоронить свое холостячество и кем будет будущая графиня Брохвичева? Жутко любопытно! Слушай, признайся честно, есть в твоих чувствах к Стефе что-то платоническое или нет? Она, может, и поверит, что есть, да я — ни за что! А впрочем, она девушка умная, к тому же не из тех монашенок, что ходят с потупленными глазками и подозревают в появлении новорожденных исключительно аистов. Да и твои бешеные взгляды не могла не заметить…
— Мой дорогой, — прервал его Вальдемар. — И я, и моя невеста знаем, что чисто платоническая любовь меж мужчиной и женщиной — такая же легенда, как цветок папоротника: все ждут, когда он расцветет, верят, что так бывает, но на самом деле никто его никогда не видел!
— Браво! — сказал Брохвич. — Нужно иметь чересчур романтичную голову, чтобы в такое верить. Адам, правда, вздыхал по Еве платонически, но очень недолго…
Вальдемар сказал живо:
— Пройдут столетия, придут новые долгие века, но любовь останется в крови и в сердцах людей. Она была и в каменном веке. Разве что с ходом времени меняет одежды: сначала щеголяла в звериной шкуре, потом в нарядах трубадуров…
— А сейчас одевается в шелка и золото, — закончил Брохвич.
— Ну, не всегда. Порой она мастерски сочетает допотопное зверство с современной элегантностью.
— А вы со Стефой добавили к этому еще и средневековую идиллическую пастораль, что создало прекрасный образ, — сказал Брохвич. — Ваши чувства, признаюсь, меня глубоко восхищают — сущая поэма… но сомневаюсь, способен ли я сам на такие. Ты, Вальди, умеешь красиво говорить и писать, значит, умеешь и красиво любить… Кстати, о писании; твои последние статьи «На нас смотрят и вторая, о сельскохозяйственном синдикате, всех очаровали, а у Барского вызвали скрежет зубовный. Ты умеешь и уязвить сатирой, и приласкать, когда следует…
Он говорил что-то еще, но Вальдемар не слушал его. На него напала странная рассеянность и еще что-то, чего он никак не мог определить.
Остановившись у стены, он прошептал:
— Да что со мной такое? Ничего не понимаю… Нет, все же поеду!
Он стоял у кнопки электрического звонка, уже протянул к ней руку, но так и не нажал, не успел — в дверь постучали. Вошел лакей, подал майорату телеграмму и молча вышел.
Вальдемар развернул бланк. Бледность внезапно покрыла его лицо.
— Что случилось? — вскочил Брохвич. Вальдемар отдал ему телеграмму, а сам бросился к звонку.
Брохвич прочитал:
«Стефа очень больна. Немедленно приезжайте.
Рудецкий».
Влетел запыхавшийся лакей.
— Счет! — крикнул Вальдемар. — Вещи — упаковать! Коней! На станцию!
Лакей выбежал.
— Мне ехать с тобой? — спросил столь же бледный Брохвич.
Вальдемар, как безумный, выбрасывал из шкафа одежду на пол.
— Как хочешь! — отрезал он.
Брохвич задумался, потом подошел к майорату и коснулся его плеча:
— Вальди… слушай… успокойся! Не стану тебя утешать, телеграмма звучит очень серьезно… Дело плохо. Но все равно ты должен успокоиться. Вот что я тебе посоветую: ты поезжай сейчас, захвати только самое необходимое, а я останусь до завтра, соберу все твои вещи и завтра привезу, а прежде всего присмотрю за бриллиантами.
— А, бриллианты! — нетерпеливо махнул рукой Вальдемар.
— Ну да, сейчас тебе не до этого. Поэтому я и займусь вещами. Ты слишком взволнован, чтобы о них думать… Я тебе все привезу в Глембовичи.
Вошел лакей со счетом, двое других начали паковать вещи.
Через четверть часа майорат ехал на вокзал. Брохвич остался в отеле.
В купе Вальдемар оказался один. Всю ночь он не сомкнул глаз, мучимый нетерпением и тревогой. Ему казалось, что поезд тащится, как черепаха. Перед глазами у него вставало лицо Стефы в обрамлении рассыпавшихся на белой подушке темно-золотых волос, и он стискивал зубы от боли:
— Но что случилось? Что могло случиться? Последний раз он видел ее в первых числах мая. Она выглядела чуточку бледной, но казалась совершенно здоровой. Он помнил каждое ее слово, каждое движение, каждый взмах ресниц. В ее глазах было столько тепла, ее губы с детской доверчивостью поддавались его жаждущим устам. Так нежно она трепетала в его объятиях… Он вспомнил, как однажды они сидели на лавочке под черешней. В саду пели соловьи. Он встал, обломил огромную ветку, густо усыпанную белыми гроздьями цветов. Срывал эти цветы и осыпал ими Стефу, волосы ее, грудь, руки, колени покрыты были нежными лепестками. Бросил благоухающие цветы к ее ногам. Она радостно смеялась, глядя на него из-под темных, необычайно длинных ресниц, и вдруг сказала с милой гримаской, так ласково:
— Всю меня засыпал…
Вальдемар, забыв обо всем, принялся целовать ее. Потом она вспомнила их встречу в лесу под Слодковцами год назад:
— Я тогда нарвала цветов, еле несла. Ты назвал их тогда охапкой зелени, а меня — русалкой.
— А я был лешим, — сказал он, притянув ее к себе.
— Ох, как я на тебя была тогда сердита! Прошло одиннадцать месяцев, и как все изменилось! Через месяц тому ровно год.
— Через месяц ты будешь моей женой, через месяц мы поселимся в Глембовичах…
Вспомнив все это, Вальдемар содрогнулся:
— Она больна… а через неделю свадьба! Боже, что же могло случиться?
Он вспомнил ее радость, когда в феврале, сразу после обручения, он планировал будущее — после венчания они проведут лето в Глембовичах, а на зиму поедут в Европу, потом в Алжир и Египет. Как она радовалась! Предпочитала Глембовичи всем этим далеким странам, где еще не бывала. Каким голосом она произнесла:
— В Глембовичах…с вами…
Вальдемар сжал голову руками. Пульсирующие на висках жилки словно бы разбивали ему голову молоточками:
— Боже, что могло случиться?
…А когда он после рождественских праздников уезжал из Ручаева, она так беспокоилась, что он едет на ночь глядя — там на дороге были какие-то опасные места, рытвины, кажется… Все пытались его отговорить, но он спешил на заседание Товарищества. Только потом, уже в Глембовичах, он нашел у себя в кармане пальто маленький серебряный образок с ликом Богоматери — на тонкой цепочке, пришитый несколькими стежками к карману изнутри. Сразу понял, что это от нее. Забота невесты о нем, то, что она отдавала его под опеку Богоматери, глубоко тронула Вальдемара.
Он смотрел на раскрытый медальон с фотографией Стефы, называл ее нежнейшими именами, мысленно ласкал, привлекал к себе. Беспрестанно прохаживался по купе от окна к двери, становясь временами сам не свой от беспокойства, враждебно поглядывая на темноту за окном, словно лишь темнота эта была виной всему. Наступило светлое, благоуханное, веселое утро, когда ручаевский экипаж, привезший Вальдемара со станции, остановился перед крыльцом. Вальдемар взбежал в сани. К нему вышел навстречу пан Рудецкий, измученный, с кругами под глазами.
— Что? Как? Ей лучше? — выпалил майорат.
Пан Рудецкий глухо ответил:
— Воспаление мозга. Сегодня ей стало еще хуже.
— Боже! — охнул Вальдемар. — В чем причина? Кто ее лечит?
— Местные доктора и профессор из Варшавы.
— Когда это началось?
— В среду вечером.
Майорат яростно уставился на него:
— В среду? И вы уведомили меня только вчера, в субботу? Да почему…
— Мы телеграфировали, когда приехал профессор. Местный врач был при ней с первой минуты, — грубовато ответил Рудецкий. — Мы сделали все, что могли.
— Где она?
Ссутулившийся Рудецкий пошел впереди, указывая ему дорогу.
В салоне они встретили двух докторов. Майорат мимолетно кивнул им и пошел дальше.
В комнате Стефы, в полумраке, рядом с постелью девушки стоял варшавский профессор и слушал ее пульс. Тут же была и пани Рудецкая. Она на цыпочках подбежала к вошедшим и прошептала:
— Тс-с! Она спит…
Здороваясь с Вальдемаром, она заплакала. Профессор подошел, поздоровался.
— Как вы ее находите? — приглушенным голосом спросил Вальдемар.
— Пан майорат, не стану скрывать, дела плохи… но Бог милостив, мы делаем все, что в наших силах…
Вальдемар упал на колени у постели. Осторожно взял руку Стефы, белую, казавшуюся прозрачной, горячую, как огонь. Девушка спала, голова ее была обложена льдом, лицо горело нездоровым румянцем. Ее сухие горячие губы были чуть приоткрыты, она дышала тяжело, неровно. Всмотревшись в ее лицо, Вальдемар с величайшей осторожностью поднес к губам ее ладошку. Сердце его разрывалось, он смотрел на невесту сухими, но полными страшной боли глазами. Выбившиеся из-под ледяного компресса волосы окружали ее голову темно-золотистым венцом.
Вальдемар долго стоял на коленях, приникнув лбом к руке Стефы, слушая, как пульсируют на ней жилки, как она порой беспокойно вздрагивает.
Из забытья его вывел профессор, менявший компресс. Вальдемар затрепетал, когда открылся лоб девушки, гладкий, бледно-розовый, с прилипшими к нему мокрыми прядями. Он склонился и коснулся губами ее виска.
Потом спросил тихо:
— Она приходит в сознание?
— Крайне редко, — ответил профессор.
— Значит… так плохо?
— Весьма! Но не убивайтесь — думаю, это просто переутомление.
Он отвел майората в сторону и, странно глянув в его опечаленное лицо, спросил шепотом:
— Пан майорат, мне нужно кое-что уточнить…
— К вашим услугам!
— Ваша свадьба должна была состояться совсем скоро?
— Через неделю, восьмого июня.
— Значит, уже в ту субботу… Сегодня у нас воскресенье, значит, осталось даже меньше недели… Вы давно виделись с невестой последний раз?
— Три недели назад.
— И она была совершенно здорова?
— О да! Только… чуточку бледнее обычного. Что вы думаете о причине болезни?
Старик погладил бороду и начал неуверенно:
— Гм… Она должна была пережить сильное нервное потрясение, другой причины я просто не вижу… Болезнь протекает крайне остро, больная бредит, иные ее слова возбуждают подозрение…
— Какие слова? — поразился Вальдемар.
В этот миг Стефа шевельнулась. Мгновенно Вальдемар оказался на коленях у ее постели.
Стефа широко раскрыла глаза, затуманенные, покрытые поволокой слез, пошевелила ладонями у висков, зашептала что-то.
Вальдемар, не сводя с нее застывшего взгляда, осторожно и нежно взял ее руки в свои, произнес глухим голосом:
— Стефа, сокровище мое, жизнь моя, это я, Вальди… я пришел… Стефа…
Девушка шептала что-то.
— Что она говорит? — спросил майорат профессора.
— Беспрестанно бредит…
Вальдемар встал, наклонился, приложил ухо к губам Стефы.
— Он храбрый… его боятся… нет… нет… не хочу его убивать… — шептала девушка едва слышно.
Вальдемар выпрямился, провел ладонью по лбу:
— О чем она? Что это все значит?
Его лицо выражало неимоверную тревогу. Внезапно Стефа дернулась и громко вскричала:
— Прокаженная! Прокаженная!
Вальдемар страшно побледнел, отшатнулся, словно получив от кого-то невидимого могучий удар. В отчаянии посмотрел на профессора:
— Ради всего святого, что это означает?
— Она очень часто повторяет это слово, — сказал профессор, пытливо глядя на изменившееся лицо майората.
Вальдемар тронул пана Рудецкого за плечо, глухо сказал:
— Выйдемте со мной.
Они вышли в соседнюю комнату. Майорат стиснул плечо пана Рудецкого, сказал сквозь зубы:
— Она все-таки получила анонимное письмо.
— Почему вы решили?
— Догадываюсь! По ее словам чувствую! Я… я же предупреждал вас, что могут быть… вы ее не уберегли… убили… Боже!
Пан Рудецкий остолбенел:
— Клянусь вам, я строго следил, не было ничего… Вот только в последнее время было много писем…
— Где они?
— Не знаю. Обычно она все письма держит у себя в столе. Может, там?
Пана Рудецкого поразили предположения майората.
Они вернулись в комнату Стефы — она снова заснула, приблизились к постели, бросили взгляд на девушку и направились к ее столу. Майорат тихонько открывал ящики один за другим… и, наконец, к великому удивлению пана Рудецкого и профессора, выгреб из одного какие-то странные, смятые листы — в конвертах и без конвертов. Посмотрел остальные ящики, забрал все письма, какие только нашел, и молча вышел с ними.
— Что все это значит? — спросила мужа пана Рудецкая.
— Должно быть, анонимные письма… Вальдемар предполагает, что… Какие-то слова заставили его думать…
— Весьма возможно! — кивнул профессор. — Очень похоже, здесь какая-то интрига…
— Боже! — воскликнул Рудецкий, ломая руки. — И ведь он меня предупреждал!
— Быть такого не может, — простонала его супруга.
— А помнишь? Мы нашли ее в горячке, без сознания, как раз в тот самый день, когда она примеряла свадебное платье… так вот, перед тем я отдал ей письмо. Может, это оно и было? Пойду посмотрю, я узнаю тот конверт…
— Быть не может, она говорила, что письмо из Слодковцев.
Но пана Рудецкого уже не было в комнате.
Вальдемар в его кабинете просматривал найденные бумаги. Он нашел собственные письма, заботливо уложенные в конверты, и несколько писем Стефы к нему, так и оставшихся неотправленными. Потом схватил смятые листы, угадывая в них анонимные письма. Лицо у него стало страшным, исказилось гневом, болью, печалью. Почерк был ему незнаком; должно быть, писавший постарался его изменить, но по стилю он узнавал графиню Чвилецкую и Барских. Впрочем, почерк следующего письма, крайне злого и неимоверно вульгарного, оказался хоть и измененным, но, должно быть, без должного тщания — Вальдемар без труда узнал руку Мелании.
— Подлая тварь! Змея! — хрипло сказал он. Когда вошел пан Рудецкий, Вальдемар показал ему на прочитанные письма:
— Вот, полюбуйтесь! Она получала эту мерзость, читала, сочившийся оттуда яд отравлял ее… Я ведь предупреждал, Боже, я ведь вас предупреждал!
Пан Рудецкий, побледнев, стал просматривать бумаги. Вальдемар взял в руки еще не читанное им письмо в смятом конверте, расправил его. Пан Рудецкий вздрогнул:
— Вот это я отдал ей в среду. Она сказала, что это письмо из Слодковцев… но заболела, едва прочитав его. Неужели и оно анонимное?
Вальдемар пробежал взглядом письмо. Почерка он не знал. Стал перечитывать уже внимательно, руки у него дрожали, на лице ярость сменилась омерзением.
Письмо выпало у него из рук. Вальдемар глухо вскрикнул:
— Это ее убило! Именно это! Негодяи! Тяжело упал в кресло и закрыл лицо руками. Пан Рудецкий поднял с пола письмо, прочитал и охнул:
— Езус-Мария! Вошла пани Рудецкая:
— Господи, что с вами? Муж показал ей на стол:
— Мы сами убили нашу девочку! Ужасно… Пани Рудецкая взяла письма и принялась читать. Вальдемар вскочил с кресла, весь белый, зубы у него стучали:
— Да, убили! Вы — недосмотром, а те — подлостью. Почему я не знал? Я пулями бы запечатал назад эти подлые листки! Отыскал бы авторов и заставил кровью расплатиться!
В его голосе гремели молнии.
— Пошлите сейчас же верхового на почту! — крикнул он я выбежал из комнаты.
Через десять минут верховой галопом несся на почту, везя телеграммы в несколько европейских столиц — Вальдемар вызывал светил медицины.
Долгие часы тянулись в страшном напряжении. Стефе становилось все хуже, она почти не приходила в сознание. Рудецкие совершенно потеряли голову, один майорат, казалось, был полон неисчерпаемой энергии. Он ни на шаг не отходил от Стефы, сам переносил ее, когда ей меняли постель, сам накладывал ей новые компрессы, удивляя докторов, — он не спал, не ел.
— Я должен ее спасти! Должен! Должен! — повторял он.
Седой профессор удивленно крутил головой: он давно знал Вальдемара, но не ожидал от него столь сильных чувств.
В один из вечеров, когда Вальдемар стоял на коленях у постели, держа руку Стефы, она вдруг открыла глаза и посмотрела осмысленно. Улыбнулась. Из ее уст тихонько вырвалось:
— Вальди…
— Золотая моя! Драгоценная! Девочка моя! — шептал Вальдемар пересохшими губами, покрывая поцелуями ее руки. — Ты узнала меня, узнала?!
— Вальди… — повторила Стефа.
— Я здесь, с тобой, единственная…
Стефа прильнула лицом к его рукаву. От этой немой ласки Вальдемар растрогался, у него перехватило дыхание, он обнял ее, горячими губами прикоснулся к щеке.
— Я больная, да? — спросила она шепотом.
— Да, золотая моя, но тебе теперь лучше… Что у тебя болит, единственная?
— Голова… голова горит… камни в голове…
— Это пройдет… пройдет… ты выздоровеешь… будешь моей…
Она пошевелилась, подняла на него глаза, спросила:
— Ты любишь меня… любишь?
— Люблю, единственная… больше жизни… Не шевелись, лежи спокойно.
— Ты любишь меня? Ты будешь счастлив? Ты… ничего не знаешь… я убью тебя… Вальди… Вальди…
На ее глаза навернулись слезы. Вальдемар прижал ее к себе:
— Успокойся, верь мне… не верь им… не вспоминай об этом… все будет хорошо… мы оба будем счастливы… очень, Стефа…
Она улыбнулась:
— Это хорошо… хорошо…
Сознание, казалось, покидало ее, она посмотрела замутненными глазами:
— Вальди, я прокаженная! А ты не знаешь?.. я прокаженная, несчастный! Берегись!
Она стала бредить.
Вальдемар отошел, уступая место профессору:
— Боже! Она только что со мной разговаривала!
— Долго?
— Пару минут…
Доктор задумался.
Ночью приехал знаменитый врач из Пешта, утром — два других. Начались долгие консилиумы. Майорат рассказал врачам о письмах, и они очень встревожились. Несмотря на все предпринимаемые меры, на все старания, болезнь не отступала. Каждый новый день увеличивал страдания больной, каждая ночь возбуждала в окружавших ее страшную тревогу. Все усилия выглядели тщетными. Однако Вальдемар не терял энергии и надежды. Приехали знаменитые врачи из Петербурга, Кракова и Вены. Утром в четверг приехал вызванный Вальдемаром домашний врач княгини Подгорецкой. Вслед за ним вечерним поездом прибыли пан Мачей и панна Рита. И в Обронном, и в Слодковцах уже знали от Брохвича о болезни Стефы и отложили выезд в Варшаву. Несколько раз они телеграфировали в Ручаев, но никто им не отвечал. Вызов врача княгини перепугал всех. Эта телеграмма застала пана Мачея в Обронном. Недолго думая, он выехал вместе с панной Ритой. Во всей округе знали о случившемся. В Глембовичах словно мгла окутала и замок, и слуг. Брохвич ездил из Слодковиц в Обронное мрачный, как туча.
Стефе становилось все хуже. Она беспрестанно бредила, не узнавала ни пана Мачея, ни панну Риту. Только раз произнесла внятно, глядя в угол, где никого не было:
— Хорошо, бабушка… я отдам дневник дедушке… отдам…
Пан Мачей навсегда запомнил эти слова.
В пятницу вечером Стефа ненадолго пришла в сознание, посмотрела широко открытыми глазами на стоявших у ее постели и прошептала:
— Вы все меня любите, да? Пан Мачей склонился к ней:
— Дитя мое… это я… дедушка… И Вальди здесь… Ты нас узнаешь?
— Узнаю. Вальди уже давно возле меня. И Рита здесь?
Она подняла глаза, словно ища Шелижанскую взглядом.
Панна Рита подошла и поцеловала ее руку:
— Я здесь, дорогая, здесь…
— А мама? Папа? Где Юрек и Зося? Всех хочу…
Зоська уже спала, но Юрек, утирая глаза кулаками, с плачем упал на колени перед постелью.
Вальдемар нетерпеливо отодвинул его — Стефа была утомлена. Пан Рудецкий хотел вообще вывести Юрека из комнаты, но мальчик забился в угол и присел там на корточках, захлебываясь слезами.
— Почему он плачет? — спросила Стефа словно бы равнодушно.
Никто ей не ответил. Вальдемар принялся ласкать ее и успокаивать.
Стефа улыбнулась, обвила руками его за шею и нежно погладила ладонью по горячей щеке.
— Мой Вальди… мой… мой… — шептала она, гладя на него темно-фиалковыми бездонными глазами, светившимися горячкой.
Он ласково говорил с ней, словно успокаивая ребенка, прижимая к себе, пока она не уснула в его объятиях.
В комнату начинали заползать мутные ленточки сумерек. В распахнутое окно доносилось монотонное гудение майских жуков, о стены громко ударялись оводы. Шумели липы. Внезапно раздалось звонкое, сухое трескотание аиста, тихо отозвались лягушки и дружно, слаженно затянули свой вечерний ноктюрн. Весь мир отходил ко сну, такой юный, по-молодому дерзкий, дышавший жаждой счастья. Все укладывались, тихо напевая, чтобы пробудиться завтра, изумившись прелести летнего утра. Вальдемар, слушая эту оперу лета, смотрел на девушку, юное олицетворение весны, сраженное болезнью. Посреди кипевшей жизнью природы лишь один этот прекрасный цветок увядал, угасал неотвратимо, глухой к зову и весеннему безумию природы. Вальдемар, глядя на невесту, тихую и безучастную ко всему, думал со страшной мукой в сердце:
— Завтра должна была быть наша свадьба…
XXIX
Утро засияло множеством красок.
Заколыхались акации, тихо зашептались жасмины. Стройные светло-зеленые березы, увитые бело-серым атласом, зашелестели множеством листков, блестевших, словно эмалевые. Цветы, кусты, цветущие деревья встречали новый день радостным гомоном.
Небо сияло чистой лазурью. Вслед за розовой зарей вставало радостное, счастливое солнце.
Все на земле жило, цвело, благоухало, все, что умело петь, чувствовать, щебетать, возносило к небесам звучный гимн:
— Когда опять встает заря…
Окно в комнате Стефы было распахнуто. Легкое дыхание растущих под окном берез колыхало муслиновые занавески, белые, в лиловых ирисах. Изящные балдахины веток трепетали листками, словно жалостно роняли бледно-зеленые слезы. Заря окрасила розовым белые занавески, отсвечивала пурпуром на белой постели, где лежала девушка, нежная, словно розовое облачко.
Щеки Стефы покрывал болезненный румянец. Вся комната была залита светом и свежестью. У постели стояли принесенные Юреком цветы. Пан Рудецкий хотел их выбросить, опасаясь, что чересчур сильные запахи могут повредить Стефе, но один из профессоров удержал его, сказавши печально и серьезно:
— Ей это уже не повредит…
Поняв смысл его слов, пан Рудецкий выбежал из комнаты и упал на колени рядом с женой, рыдавшей перед образом Богородицы.
Вальдемар, стоявший на коленях у ложа Стефы, сжимал маленькие ручки девушки, из груди его рвались сдавленные стоны, похожие на рык:
— Живи! Живи! Во имя Божье, останься с нами, не покидай нас!
Трясущимися губами он коснулся горячего запястья Стефы. Прижался мокрым, стянутым безграничной болью лбом, на котором бешено пульсировали жилы, к белому одеялу и молился, и рыдал без слез. Его сотрясала столь неутешная печаль, что даже эта железная грудь не могла ее вместить…
Стефа открыла влажные глаза, похожие на погасшие звезды, повернула голову, прижимаясь щекой к подушке, пошевелила рукой у лба, словно отталкивая что-то. Из ее уст вырвались бессвязные слова:
— Там… страх! Но ты спасешься! Вальди… сколько цветов, Вальди… это я во всем виновата… не уходи!
— Дорогая, пробудись! Смилуйся, пробудись! — глухо шептал Вальдемар, сам почти теряя сознание.
— Не карай их… Вальди…
Ее сотрясли конвульсии. Два доктора подбежали к ней, но не стали отстранять Вальдемара.
Вскоре конвульсии утихли. Стефа лежала без сознания. Волосы ее ниспадали на лоб Вальдемара.
Она дышала едва заметно, на висках и шее еще пульсировали жилки, но биение их становилось все медленнее…
Доктора переглянулись, опустили глаза, отошли от постели и опустились на колени, осеняя себя крестным знамением.
Увидев это, пан Мачей и панна Рита тоже преклонили колени, закрыв лица руками.
Великая, мистическая тишь опустилась на светлую, благоухающую ароматами цветов комнату.
Внезапно ее нарушили нежные трели, словно кто-то играл на флейте из жемчугов и золота.
На ветке березы под окном, окруженной кустами белого жасмина, запел соловей.
Его музыка летела под небеса, к розовым зорям, к золотому солнцу, к стопам Вседержителя, призывая белых ангелов небесных спуститься к этому окну, за которым было тихо, словно в часовне.
Столько чувства звучало в этих трелях, столько мольбы, столько молитвы, что утренние розовые зори поплыли в ту сторону, увлекая за собой все краски неба.
Плыло в ту сторону и солнце, юное, могучее, неся тепло и свет, плыли ароматы цветов, упоительные запахи лугов, тихие ветерки, дуновения птичьего полета…
И от стоп Бога взмыли прекрасные вдохновенные духи, сотканные из белизны облаков и серебряных туманов.
Вся ангельская небесная рать, озаренная радужным сиянием, опускалась к березе на призыв птицы.
Окутанная ароматом цветов, прелестью утра и чудесными весенними мелодиями, рать ангельская окружила Стефу.
Соловей рассыпал жемчужные трели, словно тоскливо подыгрывал рапсодии ангелов.
Когда золотой свет солнца озарил постель Стефы, ангельская рать, шумя крыльями, поднялась в воздух и поплыла к небесам в золотистом сиянии, унося с собой чистую душу Стефы, незапятнанную, как их белоснежные перья. Вздымаясь в лазурные заоблачные выси к стопам Господа, ангельский хор, в котором звучал и голос только что покинувшей землю юной и чистой души, возносил гимн:
— Salve Regina.
Трепет охватил всех, словно улетевшие к небесам ангелы задели их краем своих белоснежных одежд.
Коленопреклоненный Вальдемар услышал голос доктора:
— Все кончено…
Он вскочил, весь в холодном поту, пораженный, страшный, не отрывая сумасшедшего взгляда от девушки, лежавшей с закрытыми глазами, словно мертвая белая бабочка.
Без единого слова, без стона Вальдемар зашатался и тяжело рухнул на пол, опершись на край постели.
Все бросились к нему, устрашенные до глубины души.
На березе пел соловей.
XXX
Но Вальдемар не потерял сознания — просто все чувства словно вдруг умерли в нем, а тело отказалось повиноваться. Он смотрел на безмолвно лежащую Стефу. Ее алые полуоткрытые губы улыбались, длинные ресницы закрытых глаз отбрасывали длинные тени на матово-бледное личико. Казалось, она безмятежно спит — так поместил на подушках ее прекрасную головку хор ангелов, забрав ее душу, как аромат цветка.
Плач супругов Рудецких, Юрека, Зоси, всех бывших в комнате не мог заставить Вальдемара пошевелиться. Стоя на коленях, опершись на край постели, словно бы одеревенев, он неотрывно смотрел на девушку исполненными безумия и тоски глазами.
Так прошел час, нескончаемый, полный рыданий, мрачный, как сама смерть.
Внезапно Вальдемар поднялся, поднял руку, отер мокрый лоб и быстро, ни на кого не глядя, вышел из комнаты.
Пан Мачей, изменившись в лице, тенью последовал за ним.
Сам нуждавшийся в опеке, он не сводил глаз с внука, тревожась за него.
Майорат вошел в отведенную ему комнату и захлопнул за собой дверь.
— Во имя Божье, открой! — нечеловеческим голосом крикнул старик.
С небывалой силой, проснувшейся в нем, он рванул запертую дверь, открыл ее и ворвался в комнату.
Вальдемар вынимал из футляра револьвер.
Старик подскочил к внуку, схватил его за руку, пытаясь вырвать револьвер, но Вальдемар быстро поднял его вверх, глаза его дико светились, он оттолкнул пана Мачея, хрипло крикнул:
— Прочь!
Он выглядел ужасно — глаза горели гневом, все лицо конвульсивно дергалось. Выпрямился со смертоносным зловеще блестевшим оружием в руке. Из его груди вырвался придушенный нечеловеческий вопль:
— Она умерла! Умерла!
Пан Мачей с душераздирающим криком бросился к ногам Вальдемара, обнимая его колени, молил:
— Не нужно! Смилуйся! Не убивай меня! Ее смерть — кара для меня, это я проклят, а ты живи! Живи!
Вальдемар посмотрел на него, словно не понимая.
Вбежала панна Рита, молниеносно оценила происходящее и кинулась к ним, но опоздала — увидев ее, майорат торопливо поднял револьвер к виску, нажал на спуск.
Грохнул выстрел.
Дрожавшая рука и спешка спасли Вальдемара — пуля пролетела возле его головы и ударила в стену.
Панна Рита с неженской силой вырвала револьвер.
Он яростно бросился на нее, пытаясь отобрать оружие, но Рита выбросила револьвер за окно, перехватила руку Вальдемара, прижала к губам. Глаза ее смотрели умоляюще.
Старик скорчился у ног внука, рыдания раздирали его грудь:
— Вальдемар! Прости меня! Это я проклят! Меня настигло мщение! Вальди, единственный мой, жизнь моя, смилуйся!
Вид его был столь ужасен, что панна Рита закрыла глаза.
Боль, звучавшая в рыданиях старца, проникла все же в сердце Вальдемара.
— Дедушка… встань… — сказал он глухо.
Панна Рита помогла ему поднять старика. Он упал в объятия внука.
Сухие глаза Вальдемара горели отчаянием. Он тяжело рухнул в кресло, спрятал лицо в ладонях:
— Боже мой! Боже! Боже!
Казалось, в этом стоне звучат весь ужас и печаль мира.
Пан Мачей остался с ним, панна Рита тихо вышла, задержав в дверях испуганных выстрелом родителей Стефы.
Вальдемару казалось, что перед ним разверзлась пропасть, казалось, что душа его умерла, и он не мог плакать, не мог горевать. Голову его словно пожирал огонь, а в сердце стоял такой холод, словно вся владевшая им боль и печаль заморозила кровь в его жилах.
Проходили часы, а он оставался в том же положении, неподвижный, немой, страшный.
Пан Мачей и доктора не отходили от него.
Панна Рита, взяв в помощь одного из соседей, доброго знакомого Рудецких, рассылала печальные телеграммы.
Пан Мачей, угадывая желание майората, телеграфировал в Глембовичи, чтобы прислали цветы. Другую телеграмму отправил в Слодковцы дочери, потом вместе с паном Рудецким занялся приготовлением к похоронам.
…В субботний вечер в Слодковцах сидели за ужином пани Идалия, княгиня Подгорецкая, Люция, Брохвич, пан Ксаверий и даже управитель Клеч.
С тех пор, как врач княгини уехал в Ручаев, души всех переполняла тревога. От пана Мачея и Риты не было никаких вестей. Княгиня переживала очень тяжелые минуты. Не в силах выдержать одиночества в Обронном, она переехала в Слодковцы. Неуверенность владела всеми. Люция бродила как во сне. Одна только пани Идалия успокаивала княгиню, не теряя надежды.
Наступала благоуханная ночь. В парке пели соловьи, с озера доносился писк крачек. Угрюмо державшийся Брохвич распахнул в столовой все окна и ходил вдоль них, молча, беспокойно.
В соседней комнате тихо перешептывались слуги, охваченные той же тревогой.
Приближалась полночь, когда в комнату к ним вошел ночной сторож, ведя за собой посыльного с почты. Слуги окружили его, Яцентий молча выхватил у него телеграмму и побежал в столовую.
— Депеша! — крикнул Брохвич.
Дрожащей рукой он схватил телеграмму и разорвал ленточку.
Пани Идалия, Люция, пан Ксаверий, Клеч поднялись с мест. Княгиня осталась в кресле, не в силах встать.
Брохвич прочитал одним духом:
«Стефа скончалась сегодня утром. Похороны в среду. Опасаюсь за Вальдемара. Приезжайте.
Мачей».
— Боже милосердный! — охнул Брохвич, и телеграмма выпала у него из рук.
В глухой тишине внезапно раздался крик Люции. Стоявший у дверей Яцентий громко заплакал и выбежал в другую комнату. Перепуганные слуги столпились вокруг него, а он взвыл:
— Паненка… умерла!
Начался общий плач и причитания.
В столовой пани Идалия, сама со слезами на глазах, пыталась утешить рыдавшую Люцию. Пан Ксаверий утирал глаза, даже Клеч грыз губы, удрученный случившимся несчастьем.
Княгиня сидела без движения, необычайно бледная. Слезы текли у нее из глаз. Она шептала:
— Стефа умерла… умерла? Это дитя? Эта юная красавица? Может ли это быть… Вечный покой ее душе…
Она не смогла закончить. Зарыдала в голос. В зал неожиданно вошел Трестка, оглядел всех и кивнул:
— Вы уже знаете, а я ехал…
Он замолчал и сел в первое попавшееся кресло. Даже портреты на стенах казались печальными.
— Трестка, ты уже знал? — тихо спросил Брохвич.
— Рита прислала телеграмму. В десять вечера. Я спешил, едва коней не загнал… По дороге встретил Юра, он ехал из Глембовичей. Там тоже уже знают. Пан Мачей телеграфировал, просил привезти цветы. Юр мотается туда-сюда, улаживает все… Его как раз ко мне послали, чтобы сообщить, думали, я не знаю…
Княгиня встала, пошатываясь. Брохвич поддержал ее.
— Нужно ехать немедленно, — сказала она. — Мы должны успеть на утренний поезд.
В ее голосе звучала решимость.
Она шагнула вперед, но ее остановил крик Люции:
— Вы ее не хотели! Вы все не хотели Стефу, и потому она умерла! Вы ее убили! Стефа! Стефа моя!
И она разразилась рыданиями.
По знаку испуганной пани Идалии Клеч поднял девочку на руки и вынес из столовой. Княгиня подняла руку ко лбу:
— Что она сказала? Мы ее убили? Мы? О, Боже!
Баронесса вышла вместе с княгиней отдать нужные распоряжения. Она и не думала отговаривать старуху. Решила ехать тоже.
Лишь теперь она ощутила печаль по Стефе, ругая себя, что была так сурова к ней и тоже подняла свой голос против ее брака с Вальдемаром.
Брохвич позвал Юра. Великан вошел в зал, остановился у дверей, прямой, как дуб, но тем не менее выглядевший сломленным горем. Брохвич заметил, что глаза у ловчего заплаканы, и шепнул Трестке:
— Как все ее любили, даже слуги… Брохвич повернулся к ловчему:
— Когда у вас узнали?
— В девять вечера, пан граф.
— Кто телеграфировал?
— Старый пан прислал телеграмму дворецкому. Приказал привезти как можно больше цветов… исключительно белых… Похороны в среду.
— И тебя послали к нам?
— Мы думали, что у вас еще не знают… и пан дворецкий просит совета: какие цветы отправлять — срезанные или в вазах.
— И те, и другие, — сказал Трестка. — Для украшения катафалка всякие нужны…
Брохвич вздрогнул, повторил с горечью:
— Для украшения катафалка… Цветы из Глембовичей должны были сегодня быть в Варшаве на свадьбе — а теперь лягут на могилу… Ужасно!
Юр вытер глаза перчаткой. Он старался встать по стойке «смирно», но не удавалось, изо всех сил он сжимал губы и кулаки, чтобы не заплакать. Он успел привязаться к Стефе, как к любимой хозяйке.
Часом позже Брохвич с Юром уехали в Глембовичи, чтобы назавтра отправиться с цветами в Ручаев.
Обитатели Слодковцов выехали только в воскресенье вечером — недомогание княгини не позволило сразу отправиться в дорогу. На станции они встретили молодую княгиню Подгорецкую с дочками.
Все молча приветствовали друг друга.
— Ты тоже на похороны? — спросила старая княгиня невестку. — Это хорошо… А как же Франек?
— Франек решил не ехать. Я не настаивала. Лучше ему сейчас не попадаться Вальдемару на глаза. Да и в Ручаеве он никогда не бывал… А девочек я взяла. Они ее знали и очень любили.
— Это хорошо, там должны быть все…
— Рита в телеграмме написала что-то непонятное, — добавила молодая княгиня.
— Что?
— «Стефа умерла — убита».
Старуха широко раскрыла глаза:
— Что это все значит? Она же болела… воспаление мозга.
— Должна быть какая-то причина… быть может, нервное потрясение, — вмешался Трестка.
— Какая причина?
Княгиня Францишкова подняла брови:
— Простите, мама, но эта внезапная болезнь… что-то в ней подозрительное. Что-то должно было случиться.
Всю дорогу княгиня не могла успокоиться. Люция беспрерывно плакала, юные княжны напрасно старались ее утешить.
Они прибыли в Ручаев в понедельник вечером. Их встречали пан Рудецкий и Брохвич. На крыльце в окружении ручаевских слуг стоял заплаканный Юр.
Старая княгиня Подгорецкая впервые увидела Ручаев. Она вошла в дом, словно олицетворение печали — высокая, величественная, вся в черных кружевах, в тяжелых складках длинного темного платья. Княгиню сопровождала панна Рита, тоже одетая в траур. За ними шли пани Идалия с Люцией, княгиня Францишкова и княжны. Замыкали шествие Трестка и Брохвич. Пан Рудецкий шел впереди.
Когда они вошли в салон, несколько стоявших там соседей пана Рудецкого расступились перед величественной княгиней.
— Подгорецкая… бабушка майората… приехала… — зашептались они, поглядывая с уважением на медленно шагавшую матрону, чуть высокомерную, гордо выпрямившуюся, но несшую в лице и походке неизгладимую печать несчастья и печали. Седые волосы, падавшие на плечи из-под черного кружевного чепца, придавали ей вид средневековой королевы. Старая княгиня, дольше и упорнее всех сопротивлявшаяся женитьбе внука, явилась теперь, чтобы поддержать его в глухой тоске по ушедшему счастью. При одной мысли о том, как несчастен теперь любимый внук, сердце ее разрывалось болью.
На пороге комнаты Стефы она заморгала от яркого света.
Лившийся из окон свет озарял стены, вдоль которых стояли стройные березки. Потолок был покрыт венками из белых цветов. Огромные цветущие кусты, украшение глембовических оранжерей, привезенные сюда на нескольких возах, украшали теперь комнату, оттеняя своей многокрасочной прелестью белые стволы березок. Повсюду зелень, белые березы, горящие свечи…
Возвышение посередине комнаты тонуло в цветах: белых розах, гвоздиках и лилиях. На ступеньках лежали венки из ландышей и перистых стеблей папоротника.
Огромные пальмы, достигавшие потолка, образовали над возвышением свод. Комната казалась одним букетом, свежим, благоухающим, озаренным сиянием огней, украшением райских врат.
На ступенях, среди роз, стоял на коленях у гроба Вальдемар. Погасшими глазами он всматривался в лицо той, что уснула навечно. Широкие листья пальм заслоняли его.
За ним, в тени берез, сидел в кресле пан Мачей, стояла на коленях пани Рудецкая с детьми и еще несколько человек.
Княгиня вошла в этот грот, словно символ печали. Она остановилась у нижней ступеньки, подняла глаза, губы ее задрожали. Стояла неподвижно, совершенно сломленная в душе, наконец прошептала:
— Какая красивая… она спит… в подвенечном платье… вуали… венке… Боже!
Из глаз ее покатились слезы. Она опустилась на колени, склонила голову.
И тут же раздался душераздирающий крик Люции:
— Стефа! Стефа!
Вальдемар пошевелился, посмотрел на девочку и вновь уронил голову на сплетенные руки.
Люция потеряла сознание. Ее унесли.
Тишина воцарилась в комнате. Сквозь открытую дверь веранды, задернутую белой занавеской, долетел шум деревьев, и где-то далеко кричали дергачи, луговые музыканты.
XXXI
В четверг, после погребения, Ручаев был объят гробовой тишиной.
По комнатам молча скользили угрюмые слуги. В имении никто не работал, жизнь словно покинула фольварк. Заграничные светила медицины уехали сразу после смерти Стефы, уехали после похорон варшавские доктора, но родные майората оставались в Ручаеве.
По-прежнему распевал на березе соловей — прямо под окном опустевшей комнаты покойной, откуда уже вынесли цветы и погасшие заплаканные свечи.
Птичка рассыпала прекрасные и печальные трели, оплакивая светлую весеннюю душу, ушедшую с этой земли так тихо, оплаканную столькими людьми. Соловью вторило тоскливое гудение пчел, и беззвучно порхали разноцветные бабочки.
Собравшиеся на веранде вполголоса переговаривались.
В глубоком кресле сидела старая княгиня, неузнаваемо изменившаяся за несколько печальных дней. Глаза у нее запали, губы были плотно сжаты. Сгорбленный, еще более постаревший пан Мачей грустно смотрел в землю.
Супруги Рудецкие выглядели столь убитыми горем, раздавленными тяжестью утраты, что никто не мог смотреть на них без слез.
На веранде сидели еще пани Идалия, молодая княгиня и Рита. Брохвич, Трестка и врач княгини перешептывались в сторонке.
Люция захворала, она лежала в постели, заплаканная; княгиня и пани Идалия оставались тут из-за нее. Возле них находились обе юных княжны.
Не было и Вальдемара.
На лавочке под переплетением лоз дикого винограда сидел старичок ксендз, крестивший когда-то Стефу, и тихо всхлипывал.
Вильгельм Шелига, получив от сестры телеграмму, махнул рукой на семестровые экзамены и поспешил из Гейдельберга в Ручаев. Он успел к самым похоронам. Теперь он сидел мрачный, с заплаканными глазами.
Княгиня держала в руке стопу анонимных писем. Губы старушки затряслись, когда она проговорила подавленно:
— Самое страшное — эти письма. Если бы она умерла просто от болезни… Но профессора уверяли, что именно эти письма ее убили.
— Даже не письма — одно, последнее, — решительно сказал старый ее врач.
Панна Рита печально кивнула:
— Вот и я говорила то же самое. Она была очень впечатлительна, крайне чувствительна. Для нее эти письма стали ножом в сердце. Это форменное убийство!
Она и до того пережила невероятный душевный разлад, прежде чем согласилась стать женой майората… И столь великую душу убили, посмев писать ей подобные мерзости!
Она хотела продолжать, но не смогла и расплакалась. Трестка коснулся ее руки:
— Дорогая… не нужно… пожалей княгиню и пана Мачея…
Тогда заговорил пан Рудецкий:
— Вся вина лежит на мне, я не уберег ее от этих грязных листков…
— Пан Рудецкий, не умаляйте вины тех, кто все это писал! — сказал Брохвич. — Майорат предостерегал вас, что правда, но и он наверняка не предполагал, что письма будут столь бесстыдно лживы и столь изощренно коварны… Во всем этом, несомненно, участвовало несколько человек. Каждый из нас знает, кто они. Двух мнений тут быть не может… Автор последнего письма оскорбил еще и всех нас, осмелившись подписаться «от имени всех».
Лицо старой княгини стало суровым. Она тихо произнесла:
— Барские? Какая подлость… Стыд! И это — родовитые магнаты! Неужели правда?
— Несомненно! — сказал Трестка. — Последнее письмо несомненно написал Барский: его стиль, его выражения. В других примерно то же самое, только почерк изменен лучше. Увы, ему невозможно даже дать пощечину: он слишком подлый, чтобы покраснеть…
— Однако можно не подавать ему руки, — сурово сказала княгиня.
Все ощутили легкий трепет — на них произвела впечатление решимость, с какой высокомерная дама, родовитейшая шляхтянка из рода магнатов, вынесла приговор столь же родовитому магнату. Присутствующие невольно переглянулись, тень страха мелькнула на их лицах.
— Барскому кто-то помогал, — робко вмешалась пани Идалия.
— Его дочка и Лора Чвилецкая, — иронически усмехнулась панна Рита. — Никакой загадки…
— Пытаясь скомпрометировать невинную девушку, они скомпрометировали сами себя, — столь же непреклонно произнесла княгиня. — Что ж, Лора была выскочкой, ею и осталась. Но Барский скомпрометировал нас всех, и этого я ему не прощу!
— Явных доводов нет… — процедила пани Идалия.
— Идалька! — рыкнул на нее пан Мачей.
Княгиня, не обратив внимания на слова баронессы, продолжала сурово:
— Барский заметал следы, изменяя почерк. Это доказывает, что он боялся не Стефы, а нас. Увы, измененный почерк являет с формальной точки зрения… одним словом, прямых доказательств нет. Иначе ни один аристократ не подал бы ему руки. Боже мой, и это магнат! Какой стыд!
— Но почему она ничего не написала майорату? — сказал Брохвич. — Михоровский немедленно бы все прекратил.
— Я ее понимаю, — сказала панна Рита. — Она не хотела скандала, не хотела ранить его душу. Есть тому и доказательство — письма, которые она ему писала, но не отправила ни одного. Она была великодушна и благородна, но оказалась слишком слаба…
Старичок ксендз покивал головой:
— Уж я-то знаю, какая это была душа, какое сердце! Врожденное благородство было у нее в крови…
Пан Мачей закрыл лицо руками. Он долго молчал, потом заговорил с безмерной тревогой:
— Так должно было случиться… это предначертание…мое прошлое страшно отомстило, отомстила она… Стефания… Ударила в чувствительнейшее место моего сердца, во внука… Я разбил ей жизнь, она забрала счастье моего внука. О! ужасная месть…
Все молчали. Пани Рудецкая, казалось, рыданиями своими спрашивает покойную:
— Это правда? Ты отомстила, забрала ее у нас? Но за что такая кара нам, родителям? За что?
Пан Мачей продолжал:
— Несчастная наша семья, над нею — проклятье. Это рок. Вечно — слезы! Слезы! И этот прелестный ребенок, убитый нами, очередная жертва Михоровских! Вальдемар преодолел все преграды, мы полюбили ее, как дочку, но это не помогло! Все это было лишь началом мести судьбы, направленным на то, чтобы сделать удар еще больнее, сделать месть более жестокой и страшной. Месть настигла в тот день, когда они должны были обвенчаться!
Он глубоко вздохнул. Посмотрел на цветшую близ веранды клумбу, покачал головой:
— Я так ждал свадьбы, жаждал увидеть внука таким счастливым, каким он никогда прежде не был. Представлял их в свадебных нарядах, таких прекрасных, созданных друг для друга. И я увидел Стефу в подвенечном платье… наяву… увидел ее в венке из апельсиновых цветов из глембовических теплиц, в котором она должна была пойти к алтарю, увидел ее в вуали, прекрасную — но в гробу! И увидел его, почти потерявшего сознание, среди цветов, что должны были украсить свадьбу. О Боже! Эту страшную картину я унесу с собой в могилу. Боже! Столько пережить, всю жизнь мучиться печалью — и на закате дней увидеть еще и это! Заслуженная, но ужасная кара… даже не кара, адская месть! А потом… после ее смерти… о Боже, как мне только удалось не пасть бездыханным, когда в руках моего внука я увидел оружие? Господи Иисусе…
Княгиня вздрогнула:
— Что? Вальдемар хотел…
— Да, хотел убить себя, оттолкнул меня, когда я пытался отнять револьвер, он был дик, страшен! Но я упал перед ним на колени, я, его дед, молил его…
Он заплакал. Заплакала и княгиня. Брохвич встал и вышел на лестницу — горло у него перехватило. Он оперся лбом о столбик и стоял неподвижно.
Пан Мачей продолжал:
— Рита вырвала у него револьвер… Боже милостивый, вознагради Риту, я лежал без сознания, а она его спасла! Я терял сознание, зная, что ненасытившийся местью дух хочет отобрать у меня и его. Я заклинал его памятью покойной матери, памятью Стефы… Быть может, чистая душа Стефы и помогла мне в конце концов отговорить его, уже потом. Он дал мне слово… но вы сами видите, что с ним творится. Хуже всего, что он не может плакать. Ах, как он страдает! Вы помните, каким он был на похоронах? Его глаза, его лицо…
Княгиня Францишкова положила руку ему на плечо и сказала сочувственно:
— Не будем больше об этом, это ужасно, разрывает душу, успокойтесь, прошу вас..
— Где сейчас Вальдемар? — оглядев всех, тихо спросила старая княгиня.
— В своей комнате, — сказал врач. — Пойду к нему…
Воцарилось молчание. Пан Мачей тяжело дышал, утомленный речью. Тут вернулся врач с изменившимся лицом:
— Майората в комнате нет. Я искал по всему дому, его нет нигде…
Пан Мачей испуганно вскочил.
— Боже, что это значит? Где он? Может, в саду? Револьвер я спрятал, — добавил он тихо, словно бы самому себе.
Большая часть присутствующих направилась в сад, с ними, опираясь на плечо Брохвича, пошел и пан Мачей. На веранде остались тихо молившаяся княгиня, пани Рудецкая и ксендз.
Вальдемар поднимался в гору, направляясь к кладбищу, лежавшему в версте отсюда, за ручаевским ольшаником. По дороге он встретил заплаканного Юрека. Тот был весь в грязи, должно быть, снова лазил в пруд за кувшинками для Стефы. Пробегая мимо, мальчик искоса посмотрел на майората, но не остановился. Он понимал и разделял боль Вальдемара, но не мог простить ему смерти сестры. Раньше он не понимал в точности, что такое аристократия, теперь ему казалось, что он отгадал. Его детскому воображению аристократия представлялась семиглавым драконом, сидящим на стенах глембовического замка, знакомого ему только по рассказам и фотографиям. Он начинал наравне со своим учителем ненавидеть аристократов. Из тех, кто был на похоронах, он не чурался только майората и Брохвича, а остальных обходил далеко, даже Люцию и юных княжон.
Теперь он молча пробежал мимо майората.
Тот вздрогнул, увидев его. Чертами лица мальчик удивительно напоминал Стефу, даже волосы у него были столь же золотыми. Вальдемар и сам избегал брата и сестренку Стефы, не в силах смотреть на них спокойно.
У ворот кладбища стояли дрожки. Не обращая на них внимания, Вальдемар быстро шагал по березовой аллее, повернул направо, где среди кучки светло-зеленых берез белел покрытый свежими цветами холмик. Венки, гирлянды, охапки белых роз, лилий, гвоздик, целые снопы ландышей лежали, перевитые траурными лентами. На самом верху был огромный венок из пальмовых листьев, роз и лилий с надписью на широкой белой ленте: «От твоего Вальдемара».
И на березах висели венки. Один из них, особенно прекрасный, из белых орхидей, был от графини Виземберг. На голубой ленте сделана короткая надпись: «Спи спокойно».
Усыпанный цветами холмик окружали экзотические деревца в огромных вазах: кипарисы, кедры, прекрасные мирты и две пальмы с широкими кронами.
Солнце украсило цветы яркими белилами, осыпало искорками венки, поблескивало на лентах с надписями.
Не отводя взгляда от сложенного из цветов холмика, Вальдемар быстро шагал к нему. И вдруг остановился. Увидел стоявшего у могилы мужчину. Остановился, потом решительно пошел вперед.
Незнакомец обернулся и посмотрел на него.
Это был Нарницкий, кузен Стефы.
Они смерили друг друга взглядом. Михоровский был бледен, Нарницкий — взволнован. Он пытливо, с оттенком суровости смотрел на майората. Однако, прочитав на его лице и в его глазах столь безграничную печаль, столь невероятную боль, на миг ощутил даже симпатию к этому магнату, которого только что считал тираном Стефы.
Он поклонился:
— Наверное… пан майорат? Я — Нарницкий, ее кузен и…
Он не смог договорить, ему перехватило горло.
Михоровский быстро, с какой-то нервной дрожью подал ему руку и подошел к могиле.
Нарницкий направился к воротам, но вскоре остановился, а, опершись на стену кладбища, невидимый а ельнике, наблюдал издали за майоратом.
Вальдемар оглянулся и, видя, что остался один, опустился на колени у могилы, погрузил лицо в цветы. Нарницкий, не дыша, смотрел на его горестно сгорбившуюся фигуру, на сквозившие в каждом движении боль и печаль:
— Я его подозревал в самом худшем… считал, что он повинен в ее смерти… а он так любил ее. Так изменился… неужели это тот самый человек?
Нарницкий вспомнил фотографию майората, которую ему когда-то показывала Стефа, и повторил, словно не веря:
— Неужели это тот самый человек?
И смерть Стефы показалась ему еще ужасней.
Забыв обо всем на свете, Вальдемар жаловался Стефе. как пусто без нее, упрекал ее за то, что она ушла, оставив его одного на этой земле, прижимал ее к груди высвобождая из-под цветов и мрамора.
Вся его жизнь легла туда, все его убеждения, все воспоминания из прошлого и вся прелесть дней, которые никогда не наступят. У него остались миллионы, титул, славное имя — но то, что было дороже всего на свете, лежало теперь под мрамором и розами. Он знал, понимал, что утратил Стефу, что душа ее отлетела на крыльях ангелов и он никогда больше ее не увидит и не услышит ее голоса, даже в воображении — и нечеловеческая боль терзала его душу. Его божественная Стефа останется здесь, а он уйдет, вернется в Глембовичи, одинокий, с опустошенной душой, угасшим сердцем и с проклятиями на устах. Проклятиями тем, которые ее убили, ее палачам. О, если бы знать, что она счастлива теперь! Если бы он был уверен, что душа ее на небесах нашла все то, чем он хотел ее окружить! Если бы он был уверен, что, как тело ее было окружено цветами, так и душу ее светлую окружает сияние счастья, покоя, безмерной красы! Если бы он мог разделить глубокую убежденность бабушки, что душа Стефы исполнилась радости на небесах!
Но если нет небес, и душа после смерти без устали и отдыха блуждает в некоем мраке? Это было бы ужасно! Столь благородная душа должна сгинуть в пропасти небытия? И ее не увенчает нимб в награду за то, что она так рано покинула наш мир в расцвете и прелести? Кто же заслужил больше покоя и счастья в лазури у стоп Бога, как не эта чистая душа, отлетевшая с любовью в сердце, в преддверии исполнившихся мечтаний и счастья земного? Может ли такая душа растаять без следа, исчезнуть, как убитый голубь? Не превратится ли она в ангела? Неужели ее вера и девичья чистота не заслужили белоснежных ангельских крыльев?
О могучая, беспредельная сила смерти! Сколько сомнений она в тебе таит! Сможет ли Стефа хоть на миг спуститься к нему… или подняться из бездонного мрака небытия и поведать, куда унесла ее смерть, где теперь пребывает ее душа, и превышает ли тамошнее счастье земное? Быть может, если б он это знал, душа его избавилась бы от ужасной тревоги. Что у него осталось в жизни? Разве что забота о дедушке, которого он свел бы в могилу самоубийством. У него забрали оружие, его стерегли, не было бы, как знать, для него лучшим завершением — соединиться с любимой, не покидать ее больше, и, если ей там темно и печально, сопутствовать, чтобы она не ощущала пустоты и тоски по жизни на земле…
Вальдемар сжал голову руками, не чувствуя ничего, кроме безмерной печали:
— О, если бы знать, где она, каково ей? Что значит мое образование, мой ум, если я не могу знать, где она, и счастливее ли она, чем была на земле? Чего стоят философы и мистики, если смерть представляет для их ума непреодолимую преграду? Чего стоят ученые, если они, исследуя суть всего на свете, не могут узнать, что происходит после смерти? Познав все открытия и пройдя всеми мыслимыми путями, они не в силах пройти по одной-единственной тропинке, начинающейся у могилы. Есть еще религия… Но нужно верить беззаветно, не допуская в сердце демонов иронии и скепсиса. Ведь даже верующий беззаветно не может удержаться от вопроса: почему смерть выбирает своими жертвами таких, как Стефа? Почему она подрезает своей косой молодые, чудесные цветы — чистые души?
Почему? Почему?
Неужели Стефа была для него слишком чистой и светлой, и потому ему не позволили стать счастливым с ней? Неужели она не нашла бы покоя и счастья в браке с человеком, который чтил бы ее как божество?
Сознание его мутилось.
Его железная воля, энергиям и ум словно заблудились в пелене густого тумана, побежденные противоречивостью чувств, душевным разладом; он тщетно искал выхода, страдал посреди солнечного цветущего мира, шептал имя умершей, убивая ее вновь звуками своего голоса:
— Стефа, Стефа… светлая моя, где ты? Ясная моя, что теперь с тобой?
И вот показалось, что она встала перед ним, прекрасная, гибкая, как тростинка, смотрит на него темно-фиалковыми глазами, взмахивая длинными ресницами, бросающими тень на овальное личико, обрамленное золотистыми волосами; стоит под цветущей черемухой, улыбается ему и говорит с детской гримаской:
— Всю меня усыпал цветами…
Вальдемар затрясся, поднял голову. Видение растаяло. Он увидел лишь множество белых цветов, благоухающих, позолоченных солнцем.
— Да, я засыпал тебя цветами, засыпал! — простонал он.
Впервые с той страшной минуты глаза его увлажнились. Он рухнул в цветы, зажав лицо ладонями, сотрясаемый плачем.
Если его теперь слышала светлая душа Стефы, она и сама должна была заплакать, окутав его неземным дуновением упоения.
В ворота вошел пан Мачей, которого поддерживали с двух сторон Рудецкий и Брохвич, а следом шли панна Рита и Трестка. Они уже были недалеко от могилы Стефы, уже увидели Вальдемара, но тут к ним на цыпочках приблизился Нарницкий, подал рукой знак остановиться и шепнул:
— Оставьте его одного, оставьте! Он… заплакал!
Пан Мачей сложил руки, словно для молитвы.
Все тихонько отошли в боковую аллейку, обсаженную кудрявыми березами.
XXXII
В Глембовичах в день похорон Стефы приходский ксендз отслужил траурную мессу, на которую съехались люди со всей околицы, потрясенные ужасным событием. Костел был переполнен. Администраторы из Глембовичей, Слодковцев и с фольварков, фабричные конторщики во главе множества рабочих, слуги, экономы, садовники, арендаторы… многие, кому не хватило места в костеле, окружили его темной шевелящейся стеной. В строгом порядке, словно солдаты, стояли пожарные и лесничие. Дворецкий вошел в костел во главе всех замковых слуг, конюших, кучеров. Все они были в трауре. Тихие, серьезные, позванивая оружием, в костел вошли шеренги ловчих, словно замковая гвардия, личная стража майората. Лица их были печальны, они шагали в траурной, черной с серебром униформе, с черным крепом на рукавах. Во главе их шел ловчий Урбанский. Не было только ловчего Юра — он оставался в Ручаеве. Выступая медленным шагом, колонна окружила установленный в центре нефа символический катафалк, засыпанный цветами, озаренный огоньками множества свеч. Слезы блестели на глазах ловчих. Они первыми должны были встречать майората с женой на станции и сопровождать почетным эскортом до замка. Печаль охватила их — печаль по умершей Стефе, печаль по их хозяину, которого постигло страшное горе.
Князь Францишек Подгорецкий, глядя на понурые лица ловчих, слуг, старых камердинеров и администраторов, подумал с горечью: «И у меня когда-то было не меньше народа в работе и в услужении, вот только не питали они по мне такой любви, какую эти питают к майорату…»
Колокола на башне зазвонили протяжно, с безмерной тоской. В костел вошли глембовические школьники с учителями и обитатели приюта.
Дети встали по бокам катафалка, между ловчими и пожарными.
Их заплаканные очи были обращены вверх, им казалось, что там они вот-вот увидят ту красивую и добрую паненку, которую так хорошо помнили.
Замковый оркестр заиграл траурный марш Шопена.
Глубокие, печальные тона словно выпустили под своды костела множество щебетавших жалобно птиц печали. Печаль, усугубленная музыкой, охватила сердца. Плач раздался в костеле, громче других рыдали те, кто знал Стефу близко. Слезы текли по лицам. Даже у людей, никогда в жизни не видевших девушки, защипало глаза при виде столь искреннего проявления печали.
Среди общего волнения приходский ксендз произнес короткую, но горячую проповедь в память невесты майората, умершей в тот день, когда она должна была встать рядом с ним у алтаря. Стефу, словно белый, незапятнанный цветок, взяли ангелы, чтобы там, в чертогах небесных, украсить этим цветком стопы Богородицы.
XXXIII
Минули долгие тяжкие месяцы.
Глембовичи, Слодковцы, Обронное были необычайно угрюмы. Особенно печальным выглядел глембовический замок. Голубое знамя на главной башне уныло обвисло, увитое по распоряжению дворецкого черным крепом. Замок высился на горе, огромный, по-прежнему окруженный множеством красивых деревьев и яркой мозаикой цветов, но несчастие повисло над ним грозовой тучей.
Майорат дни напролет просиживал в печали. Опасались, что меланхолия никогда его уже не отпустит. Он кратко и решительно отказался от предложений поехать за границу, никуда почти не выезжал, а у себя принимал только самых близких. Иногда только он навещал княгиню в Обронном и дедушку в Слодковцах. Они тоже бывали в Глембовичах, но потом долго печалились, не могли забыть, сколько здесь могло быть счастья — и сколько теперь воцарилось уныния…
Чаще всего майорат принимал у себя графа Трестку с молодой супругой, лучше других понимавших его.
Глембовические слуги и ловчие должны были носить траур полгода — как несколько лет назад после смерти майоратши Эльжбеты. Яркие униформы и ливреи были спрятаны далеко. Замок выглядел словно бы вечно погруженным в полумрак. Администраторы имений и фольварков не устраивали никаких веселых забав даже по истечении полугода, — из уважения к печали майората. Практиканты ходили строгими, глядя на хозяина с сочувствием и тревогой — он по-прежнему оставался холоден и замкнут. Часто просиживал в мастерской известного скульптора-поляка, которого пригласил в Глембовичи из Рима и поручил ему по собственному эскизу изготовить надгробный памятник для Стефы.
Каждый визит в мастерскую дорого стоил расстроенным нервам Вальдемара, но он не щадил себя.
Чаще всего он приходил туда ночью, а днем выбирал моменты, когда скульптора в мастерской не было. Молча смотрел, как подвигается работа, а выходя ощущал столь мучительную тоску и горе, словно это мозг превратился в глыбу мрамора, которой предстояло возвышаться над Стефой.
В Ручаеве майорат бывал часто, почти всегда никого не предупреждая о своем приезде и никому не показываясь. Со станции он с букетом цветов отправлялся прямо на кладбище. Несколько часов просиживал над могилой нареченной, охваченный печальными думами; единственными свидетелями его посещений были цветы на могиле да сияющая от щедрого вознаграждения физиономия кладбищенского сторожа. У Рудецких майорат был всего два раза, и оба раза его визит длился совсем недолго. Слишком болезненные воспоминания связывали его с родителями Стефы. Встречи их друг с другом лишь усиливали боль. В Глембовичах Вальдемар часто приходил в часовню, вспоминая, как последний раз был здесь со Стефой, о чем говорил с ней, как испугал ее, сказавши, что его жизненные стремления всегда побеждают. Быть может, уже тогда она предчувствовала, что счастью их не суждено сбыться? И помнила ли она свои пророческие слова, сказанные ею в коридоре, рядом с картиной, изображавшей Магдалину?
Пророчество сбылось! Из борьбы он вышел со сломанными крыльями, закованный в кандалы тяжкой печали по Стефе. Его уничтожила сила, пришедшая неожиданно, необоримая.
В годовщину смерти Стефы майорат и все его родные приехали в Ручаев на освящение памятника.
Лежавшую там до того беломраморную плиту с выгравированной надписью перенесли в ручаевскии костел. На ее месте установили памятник, тоже из белого мрамора, столь прекрасный, что он мог бы стать украшением знаменитого кладбища Кампо Санто в Генуе.
На четырехугольном основании стояла высокая стрельчатая скала. Слева, среди искусно вырезанных лилий, стояла стройная юная девушка в легком платье, ниспадавшем изящными волнами. Скульптор, никогда не видевший Стефу живой, изобразил ее столь похожей, словно она сама стояла перед ним в мастерской. Левая ее рука была опущена, из пальцев выскальзывал черный венок. Голову она повернула чуть вправо, глядя на крылатого ангела. Он касался стопой скалы, словно только что спустившись с небес и не успев еще встать на землю. Его просторные одежды развевались, подхваченные вихрем полета, прекрасное лицо обрамляли длинные локоны. Весь в шелестящем золоте небесного убранства, грациозно наклонившись, держа обеими руками венок из лавровых листьев, он увенчивал им голову смотревшей на него с улыбкой девушки. Всем поневоле казалось, что они слышат шелест белоснежных перьев, музыку ангельского полета. Фигура девушки, удивительно нежная и грациозная в своем порыве, заключала в себе столько неземного идеала, будто вот-вот должна была подняться над мраморной плитой и взмыть в небесную лазурь.
Памятник казался необычайно легким. Ниже, на скальном обломке, виднелся гладко отшлифованный крест и щит с выпуклыми буквами.
Сверху — имя, даты рождения и смерти. Внизу надпись:
Посреди весны жизни она угасла, как заря…
Словно белый мотылек, запутавшийся среди колючего терна,
Оставив после себя только слезы
И невыразимую печаль в сердце нареченного,
Ибо она была его счастьем.
Увенчай же ее, ангел.
Памятник был окружен розами в вазах, выстроенных от самых низеньких кустов до самых высоких. Самые низкие кусты вились по земле, оплетая невысокую, артистически исполненную решетку из кованого железа. По четырем ее углам стояли столбы, увенчанные перевернутыми донышками вверх гравированными тарелками из металла, предохранявшими от будущих дождей хрустальные шары электрических ламп, оплетенных оксидированной металлической сеткой в форме косой решетки. Вокруг решетки стояли в кадках кипарисы, туи и кедры, окруженные стройными березками, как и год назад, одетыми светло-зеленой кипенью листвы.
Открытие и освящение памятника состоялось под вечер, и сама природа придала еще больше красоты торжественной минуте. Июньское солнце, спускаясь к горизонту гигантским огненным шаром, искристым океаном разлило повсюду свои пурпурные краски. Небо вспыхнуло, все дальше и дальше распространялись колышущиеся волны пурпура, распространяя рубиново-золотое сияние, украшая пышной бахромой пунцово-золотистые края темных облаков. Мир был залит ало-золотым потоком. И мрамор, и стволы берез отсвечивали в тон небесам. Фигуры девушки и ангела, свежие цветы, железная решетка, деревья, атласная трава, окружавшая памятник, — все окрасилось золотым и розовым.
Вальдемар, стоявший в стороне от собравшихся, тоже озаренный розовыми отблесками, смотрел на памятник с ощущением человека, сорвавшего повязки с глубокой открытой раны.
Памятник произвел на всех огромное впечатление.
Пан Мачей долго смотрел на легкие фигуры ангела и прекрасной девушки, и слезы поползли по его щекам. Он произнес печально:
— Она осталась с нами, как живая, но уже только в мраморе…
— Только? — шепотом спросил услышавший его Вальдемар.
Пан Мачей понурил голову.
— Жаль, что памятник стоит так далеко от нас, — сказала старая княгиня, не отрывая от него глаз.
Вальдемар сказал глухо:
— Все равно она останется среди нас, как живая. Все посмотрели на него, ничего не поняв. Вальдемар отвел в глубь кладбища старенького ручаевского приходского ксендза и вручил ему большой сафьяновый ящичек. Там были жемчужины, подаренные Вальдемаром Стефе в Глембовичах. Вальдемару вернул их Рудецкий.
Коснувшись плеча старика, Вальдемар сказал:
— Повесьте их на алтаре как мой дар.
— Старичок отозвался:
— Конечно, на алтаре, там, где я всегда ее причащал…
Вальдемар быстро отошел с колотящимся сердцем.
XXXIV
Вскоре в Глембовичах была заложена больница, а в Слодковцах — детский приют имени Стефании.
Вся округа смотрела на это в немом удивлении.
Спустя пару дней в глембовическом замке возникло небывалое оживление. Во дворе распаковывали какой-то груз, потом несколько слуг и великан Юр проволокли по лестницам большой предмет, укутанный красным покрывалом. Шедший впереди майорат открыл перед ними двери портретной галереи.
Справа от портрета Габриэлы Михоровской сняли бархатную портьеру. Обнаружилась дубовая стена, когда-то неприятно задевшая Вальдемара своей пустотой. Стук молотков эхом разнесся по залу.
Портреты вздрогнули!
Пращуры Михоровского проснулись в своих рамах. Сурово-стальные мертвые глаза смотрели на необычайное зрелище. Их поразили суета слуг, стук молотков столяров, молодой майорат, сухо отдавший распоряжения, но больше всего — большой предмет, покрытый покрывалом.
По залу прошел шумок, глухой и грозный, словно бормотание магнатов, разбуженных в вековом приюте их посмертной славы.
— К нам прибыл кто-то новый! — пронеслась весть от рамы к раме, пока не обежала весь зал.
— Но кто же это?
Вопрос повис в воздухе над портретами белых глембовических майоратов, давних воевод и гетманов.
Молотки стучали под дубовым стенам. Оконные стекла слегка позванивали.
Вдруг все утихло. Пару раз раздался голос майората — и узкий большой предмет повис на стене.
Портреты сосредоточенно ждали.
Одним движением руки майорат отослал всех.
Они забрали инструменты и тихо вышли.
Бледный, изменившийся майорат провел рукой по лбу, осмотрелся, нахмурившись, словно приказывая портретам:
— Смотрите!
Мертвые глаза всех без исключения портретов обратились в ту сторону, впились в мрачное лицо правнука.
Ожиданием некоего великого события дышал зал, дышали портреты в рамах.
Майорат подошел к стене, резким движением сорвал красное покрывало и далеко отбросил его.
Глухой крик, идущий от самого сердца, вырвался из его груди. Зажав виски ладонями, он упал на колени перед портретом нареченной.
Пращуры Михоровские вздрогнули.
Шепоток окреп:
— Кто это?! Кто это?!
Стефа стояла в наряде времен Директории — портрет был сделан по фотографии одним из известнейших в стране художников. Изображенная в натуральную величину, она стояла на фоне темной материи. Бледно-розовое платье окутывало ее стройную фигуру. На матово-гладкой ткани изящно выделялся шелковый шарфик. Вырез платья, украшенный газом, открывал стройные плечи и шею, увитую жемчугами. Водопад темно-золотистых волос, блистающих, словно соболий мех, рассыпался по плечам, Изящная черная шляпа с большими полями и длинные страусиные перья составляли прекрасный фон для ее патрицианского, благородного, прекрасного лица.
Одной рукой в кружевной перчатке без пальцев Стефа поддерживала длинный шлейф платья, с другой свешивался полураскрытый веер из черных страусиных перьев.
На безымянном пальце правой руки поблескивал перстенек с жемчужиной. Из-под ниспадавших мягко волн платья высовывался кончик розовой туфельки.
Она выглядела задумавшейся, невероятно пленительной. Губы ее, казалось, шепчут что-то.
Огромные темно-фиолетовые глаза в обрамлении темных ресниц были словно две звезды, они смотрели мечтательно, полные жизни, искрящиеся весельем. Изящно выгнутые брови и необычайно длинные ресницы словно бы подрагивали в шаловливой улыбке.
Достоинство, задумчивость и некая духовная зрелость, видневшаяся в глубинах ее глаз, составляли решительный контраст с юной веселостью, сквозившей в ее фигуре.
Ясный лоб, обрамленный темно-золотистыми локонами, светился умом. Черты лица и уголки маленьких губ выдавали нежную, впечатлительную натуру. Приподнятые брови — горячий темперамент.
Художник встречал Стефу в Варшаве. Девушка заинтересовала его как мастера кисти, и он сделал в альбоме несколько набросков ее головки. Это помогло ему потом наилучшим образом передать ее внутреннюю сущность и характер.
Стефа жила.
Ее фигура, словно распространявшая на весь зал дыхание утренней зари, была полной противоположностью Габриэле де Бурбон.
Она озаряла зал, как цветущая ветка белой акации озаряет величественные, но мрачные лиственницы.
— Кто это? Кто? — зашептались удивленные пращуры.
Мертвые глаза портретов уставились на чудесное видение, на край полотна возле широкой резной рамы из красного дерева с бронзовой оковкой.
Там была надпись:
«Светлой памяти Стефания Рудецкая, невеста Вальдемара Михоровского, двенадцатого майората Глембовичей.
Она преждевременно угасла, отравленная фанатизмом представителей высших кругов.
Но жить в этих кругах она будет вечно».
В этих словах звучали трагедия и угроза.
Портреты встрепенулись. Дрожь стыда за живущее поколение пробежала по ним.
Они застыли безжизненно.
Майорат встал, выпрямился, отступил назад и долго смотрел на Стефу затуманенным взором. Потом сказал громко:
— Она будет жить среди нас вечно!
Ответом ему было лишь глухое молчание.
Вальдемар тяжело опустился на канапе, устремил на Стефу бесконечно печальный взгляд, потом посмотрел на свою руку.
На пальцах у него поблескивали два обручальных кольца — перстенек Стефы с жемчужиной и огромный бриллиант Михоровских.
В замке стояла глухая тишина, словно счастье навсегда умерло в нем.