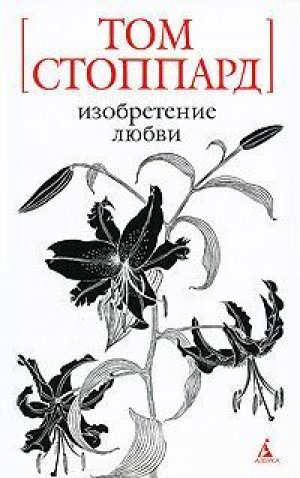
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
АЭХ, А.Э. Хаусмен, 77 лет.
Хаусмен, А.Э. Хаусмен, от 18 до 26 лет.
Альфред Уильям Поллард, от 18 до 26 лет.
Мозес Джон Джексон, от 19 до 27 лет.
Харон, перевозчик в Аиде.
Марк Паттисон, ректор Линкольн-колледжа, 64 года, ученый-классик.
Уолтер Пейтер, критик, эссеист, ученый, сотрудник Брейсноуза, 38 лет.
Джон Рёскин, выдающийся искусствовед и критик, 58 лет.
Бенджамин Джоуитт, Мастер Баллиоля, 60 лет.
Робинсон Эллис, латинист, 45 лет.
А также: Вице-канцлер Оксфордского университета и Баллиольский Студент.
Кэтрин Хаусмен, сестра АЭХ, 19 и 35 лет.
Генри Лябушер, член парламента от либералов и журналист, 54 и 64 лет.
Фрэнк Гарри с, писатель и журналист, 29 и около 40 лет.
У. Т. Стэд, редактор и журналист, 36 и 46 лет.
Чемберлен, клерк, около 20 и 30 лет.
Джон Персиваль Постгейт, латинист, около 40 лет.
Джером К.Джером, писатель-юморист и редактор, 38 лет.
Оскар Уайльд, 41 год.
А также: Банторн, персонаж из оперетты Гилберта и Салливана «Пэйшенс», Председатель и члены отборочной комиссии.
Роли персонажей, занятых лишь в первом или, соответственно, лишь во втором действии, может исполнять одна группа актеров.
Сценические указания относительно реки, лодок, сада и пр. не следует принимать буквально.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Семидесятисемилетний и более не стареющий АЭХ стоит в застегнутом на все пуговицы темном костюме и аккуратных черных ботинках на берегу Стикса, наблюдая за приближением перевозчика, Харона.
АЭХ. Стало быть, я умер. Хорошо. А это пресловутый стигийский мрак.
Харон. Эй, на берегу! Принять конец!
АЭХ. «Принять конец!» Вот он – язык людей и ангелов! [1]
Харон. Осторожнее с креплением. Я надеюсь, сэр, скорбящие друзья и домочадцы устроили вам достойные похороны.
АЭХ. Кремацию – впрочем, весьма достойную. Отслужили в Тринити-колледже и упокоили прах, как и ожидалось, в графстве Шропшир [2], где мне не случалось ни останавливаться, ни тем более проживать.
Харон. Мир праху, покуда волки с медведями вас не откопали.
АЭХ. Этих бояться нечего. Шакалы – другое дело. Люди любят поговорить о том, что будет после их кончины. Утешение в смерти не такое окончательное, как ожидаешь. Ну вот, конец принят. В первом семестре в Оксфорде я слушал лекции Рёскина [3]. Он принял конец безумным, как вы могли заметить.
Мы кого-то дожидаемся?
Xарон. Он опаздывает. Надеюсь, с ним ничего не стряслось. Как вас зовут, сэр?
АЭХ. Мое имя – Альфред Хаусмен. Друзья зовут меня Хаусмен. Враги зовут меня профессор Хаусмен. Теперь вы, вероятно, спросите с меня монету. К сожалению, обычай помещать монету в рот усопшего [4] чужд Эвелинской лечебнице и даже, пожалуй, запрещен их правилами. (Смотрит вдаль.) Непростительно задерживается. Вы уверены, что…
Харон. Поэт и ученый, так мне передали.
АЭХ. Это, я думаю, про меня.
Харон. Вы за обоих?
АЭХ. Боюсь, что так.
Харон. Описание как будто на двоих.
АЭХ. Я знаю.
Харон. Дадим ему еще минуту.
АЭХ. Чтобы прийти в себя? Смотрите-ка, я нашел шестипенсовик. Чеканки тысяча девятьсот тридцать шестого года Anno Domini.
Харон. Вы знаете латынь?
АЭХ. Да, пожалуй что знаю. Последние двадцать пять лет я преподаю… преподавал латынь в Кембридже, возглавил кафедру вслед за Бенджамином Холлом Кеннеди. Кеннеди здесь? Я был бы рад с ним увидеться.
Харон. Все здесь, а прочие – будут. Садитесь посредине.
АЭX. Да-да. Не думаю, впрочем, что у меля найдется время увидеться со всеми.
Харон. Найдется, хотя начинают обыкновенно не с Бенджамина Холла Кеннеди [5].
АЭХ. Я и не думал с него начинать. При нем практика стихотворного перевода на латынь и греческий приобрела вес, которого не заслуживала – по крайней мере, в качестве инструмента для изучения античной метрики. Логично предположить, что метрические законы невозможно обнаружить в собственных стихах, где ты эти, еще не открытые, законы то и дело нарушаешь [6]. Кеннеди был школьным учителем, пусть гением, но все же школьным учителем. В приступе сентиментальности Кембридж дал кафедре его имя. По мне, с него хватило бы памятной чернильницы. Однако именно Кеннеди или, точнее, третье издание его SabrinaeCorolla [7]мне, семнадцатилетнему, вручили в школе, и ему-то я обязан любовью к греческому и латыни. В греческом я дилетант, не лучше прочих профессоров. Ну, конечно, гораздо лучше Пирсона [8], который знал больше Джоуитта [9] и Джебба [10], вместе взятых. В бытность мою в Оксфорде профессор греческого Джоуитт горел неуместным пылом по части классического образования. В его редакции оно сводилось к тому, чтобы поставлять в правящие классы Англии людей, читавших Платона, – выпускников Баллиоля [11] или, на худой конец, рядовых оксфордцев, когда в баллиольцах случалась нехватка. В первую неделю учебы, в октябре тысяча восемьсот семьдесят седьмого, я услышал, как Джоуитт произносит akribos [12]с ударением на первом слоге, и подумал: «Ну и ну! Вот тебе и Джоуитт!» С Джеббом проходили Софокла. В его Софокле есть такие места, будто размеры подсчитывала Лондонская газовая компания.
Xарон. Вы не могли бы немного помолчать?
АЭХ. Да, полагаю, что могу. Моя жизнь отмечена долгими молчаниями.
Харон отвязывает снасть и отталкивается шестом.
С кого обычно начинают?
Харон. С Елены Прекрасной. Когда мы переплывем, вы увидите трехглавого пса. Не обращайте на него внимания, и он вас не заметит.
Голоса за сценой, тявканье собаки, плеск весел.
Хаусмен…Истинно, мы были оставлены в пустыне собирать с терновника виноград и с репейника смоквы! [13]
Поллард [14]. Держи правее, Джексон [15].
Джексон. Хочешь взять весла?
Поллард. Нет, у тебя прекрасно получается.
Вплывают трое в лодке с лающей собакой. Хаусмен на носу (держит собаку), Джексон гребет, Поллард на корме. За собаку – реалистичное собачье чучело или игрушка.
Джексон. Хаус бездельничает с самого Иффли [16].
АЭХ. Мо!
Хаусмен. Какая наглость! А кто вас вывел из Аида, не считая собаки?
Поллард. Это собака с тобой не считается. Собака любит Джексона.
Хаусмен. Собаку любит Джексон.
Поллард. Нефлективный собак нефлективный Джексон любить, в этом вся прелесть.
Хорошая собака!
Хаусмен. Нефлективная собака не может
быть хорошей, у собак нет души.
Джексон. Что он сказал?
Поллард. Говорит, у твоей собаки нет души.
Джексон. Каков нахал!
Поллард. Все это лишний раз показывает, что ты ни аза не смыслишь в собаках вообще и тем более в Джексоновой собаке, чьей душе уже предначертаны елисейские поля, где ее нетерпеливо ожидают друзья, не покойные, но упокоенные.
АЭХ. Не усопшие, но уснувшие.
Трое, переругиваясь, уплывают: «Держи правее!»… «Кто-нибудь проголодался?»
Харон. Что такое?! Со своей лодкой! До
чего дошло!
АЭX. Стоило лишь руку протянуть – ripaeulteriorisamove! [17] (Кричит.) Мо! Мо! Я бы умер за тебя, но счастье меня обошло!
Харон. Вы о собаке?
АЭХ. Я о своем ближайшем друге и товарище Мозесе Джексоне. Nec Lethea valet Theseus abrumpere cam vincula Pirithoo [18].
Харон. Верно, я помню его – Тезея. Как он рвал цепи своего друга, хотел забрать с собой из Преисподней. Но тут ничего не попишешь, сэр. Ничего не попишешь.
Харон правит в туман.
Свет на Вице-канцлера [19] в торжественном одеянии.
Его голос отдается эхом. Или иначе – на сцене только его голос.
Вице-канцлер. Альфредус Эдуардус Хаусмен.
Восемнадцатилетний Хаусмен выходит вперед, получает от него устав.
Альфредус Гильельмус Поллард… Мозес Йоганнус Джексон…
Свет на Полларда, восемнадцати лет, и Джексона, девятнадцати. Оба с уставами в руках.
Джексон. Что такое trochum?
Поллард. «Обруч» [20], в аккузативе. [21]
Джексон. «Nequevolvere…» [22]
Поллард. Да, устав запрещает нам катать обруч. Я – Поллард. Кажется, мы с вами разобрали обе открытые стипендии [23] в этом году. Примите мои поздравления.
Джексон. Очень приятно, поздравляю и вас.
Поллард. Что вы заканчивали?
Джексон. Академию Уэйл. Это в Рамсгейте. Собственно, мой отец там директор. Но я пришел не из школы, два года отучился в Лондонском университетском колледже. Занимался там греблей. А вы?
Поллард. Королевский колледж.
Джексон. Вы там в регби играете?
Поллард. Да. Я – заочно.
Джексон. Я предпочитаю регби футболу. Любопытно, в колледже сильная команда? Я не считаю себя серьезным крикетистом, хотя при случае могу ударить как надо. В весеннем семестре налягу на легкую атлетику.
Поллард. Ага. Что угодно, лишь бы не катать обруч.
Джексон. Нет, я прежде всего бегун. Четверть мили и полмили – мои лучшие дистанции.
Поллард. Вы, стало быть, спортом увлекаетесь?
Джексон. В Оксфорде, конечно, придется потрудиться, но – как сказал поэт – работа не волк…
Поллард (одновременно). Orandum est ut sit mens sana in corpore sano. [24]
Джексон…в лес не убежит.
Поллард. Не знал, что университетским людям дают стипендию на классику.
Джексон. Классика? Нет, это не про меня. У меня стипендия от естественников.
Поллард (счастливо). А… естественники! Прошу прощения! Очень приятно!
Джексон. Я – Джексон.
Поллард. Поллард. Мои поздравления. Это все объясняет.
Джексон. Что?
Поллард. Не знаю. Да, trochusесть в Овидии или где-то в Горации, в «Сатирах».
Подходит Хаусмен.
Хаусмен. В «Одах». Извините. «Оды», книга третья, 24, ludere doctior seu Graeco iubeas tro-cho [25] – это там, где он говорит, что все пошло коту под хвост.
Поллард. Верно! Высокородный юноша не может удержаться в седле и страшится охотиться, ему бы все играть с греческим обручем.
Хаусмен. В общем-то, «trochos» – греческое слово. Это на греческом и есть «обруч», так что когда Гораций говорит «Graecus trochus» – это все равно что сказать «французская chapeau [26]». Тут он, пожалуй, хватил.
Джексон. Почему? Как?
Хаусмен. Когда римлянин называл что-то «греческим», очень часто он подразумевал изнеженность, даже женоподобие. Вообще обруч, trochos, был излюбленным подарком греческого мужчины мальчику, с которым… ну, вы понимаете, избранному мальчику.
Джексон. Вы имеете в виду – сожителю?
Поллард. Кстати, это мистер Джексон.
Хаусмен. Очень приятно.
Джексон. Я, знаете, тоже новичок. Вы не видели здесь доску, где записываются? Я собираюсь попасть в Торпидс [27] в следующем семестре. Увидимся на речке.
Поллард (перебивая). На обеде.
Джексон удаляется.
Естественник.
Хаусмен. А на вид вполне приличный.
Поллард. Я – Поллард.
Хаусмен. Хаусмен. Мы с вами будем жить на одной площадке.
Поллард. О, чудно. Где вы заканчивали?
Хаусмен. Бромсгроувская школа. Это… гм… в Бромсгроуве. Такой город в Вустершире.
Поллард. Я учился в Королевском колледже, это в Лондоне.
Хаусмен. Лондон… знаю, бывал. Ходил в Альберт-Холл [28] и в Британский музей. Но лучше всего – смена караула. Кстати, вы правы насчет Овидия. Trochus есть в Ars. Am. [29]
Оксфордский сад, река, садовая скамейка. Вкатывается невидимый крокетный шар, за ним следует Паттисон [30] с крокетным молотком.
Паттисон. Мои юные друзья, я с сожалением извещаю вас, что если вы прибыли в Оксфорд в расчете обзавестись знаниями, вам лучше сейчас же от этой идеи отказаться. Мы вас купили и теперь погоним в двух забегах [31], подготовительном и выпускном.
Поллард. Да, сэр.
Паттисон. Учебный курс выстроен так, чтобы все знание умещалось между обложками четырех латинских и четырех греческих книг. Набор из четырех книг сменяется ежегодно.
Хаусмен. Благодарю вас, сэр.
Паттисон. Истинная любовь к учению – одно из двух прегрешений, которые вызывают слепоту и приводят юношество к краху.
Поллард /Хаусмен (уходя). Да, сэр, спасибо, сэр.
Паттисон. Безнадежны.
Паттисон выбивает шар за сцену и следует за ним. Входит Пейтер [32] в сопровождении Баллиольского Студента. Студент пригож и галантен. Пейтер малоросл и непривлекателен, денди: цилиндр, желтые перчатки, голубой галстук.
Пейтер. Благодарю вас за присланный сонет, милый мальчик. И конечно, за вашу фотографию. Но отчего вы всегда пишете поэзию? Почему не пишете прозу? Проза настолько сложнее.
Студент. Никто не создал поэзии, которую хочу создать я, мистер Пейтер, а проза уже создана вами.
Пейтер. Очаровательно сказано. Когда вернусь домой, я пристальнее взгляну на вашу фотографию.
Уходят. Входят Рёскин и Джоуитт, играют в крокет.
Рёскин. Мне было семнадцать, когда я приехал в Оксфорд. Это было в тысяча восемьсот тридцать шестом, и слово «эстет» еще не вошло в обиход. Эстетизм [33] едва прибыл из Германии и не диктовал своим адептам нарядов, как у Лондонской пожарной команды. Его еще не связывали с преувеличенным преклонением перед физической мужской красотой, которое содействовало падению Греции. До шестидесятых годов нравственное вырождение еще не пряталось под пагубной сенью поэтической вольности и не объявляло себя эстетикой. В прошлом все противоестественное обыкновенно оставалось в пределах школ, как, например, футбол…
Джоуитт. В школе, увы, меня считали очень красивым мальчиком. У меня были золотые кудри. Мальчики дразнили меня «мисс Джоуитт». Как меня ужасал этот дьявольский ритуал! – эта пытка! – это унижение! Мое тело ныло от истязаний, я сбегал, как только мяч оказывался рядом со мной… (Уходя.) Сейчас никто, думаю, не назовет меня мисс Джоуитт или хозяйкой Баллиоля.
Хаусмен, Поллард и Джексон вплывают в лодке, Джексон на веслах.
Хаусмен. Неверные долготы окрест себя я зрю [34], истинно, мы были оставлены в пустыне собирать с терновника виноград и с репейника смоквы.
Поллард. Вот, наверное, почему колледж назвали в честь Иоанна Крестителя. [35]
Джексон. Собственно, Иоанн Креститель – это акриды и дикий мед, Поллард.
Поллард. Суровые уроки задают в колледже Крестителя. Сперва пустыня, а потом голова на блюде.
Хаусмен. С того самого дня, как нас зачислили, стало ясно, что чего-то здесь недостает. Устав предостерегает нас от возлияний, карт и катания обруча, но в нем ни слова о джоуиттовском переводе Платона. Regius Professor [36] не способен произносить греческие слова, и во всем Оксфорде некому его поправить.
Поллард. Кроме тебя, Хаусмен.
Хаусмен. Я заберу его тайну с собой в могилу, только расскажу всем встречным. Предательство не грех, если совершать его в шутку.
Джексон. Нас учили этому новому произношению. Я, как нормальный англичанин, никогда не мог это выговорить. Veni, vidi, vici… [37]У меня эта ерунда в голове не умещается.
Латинское произношение: «уэни, уйди, уики».
Поллард. Это, собственно, латынь, Джексон.
Джексон. А богиня любви – Уэнус. С ума сойти!
Поллард. Может быть, я неясно выразился. Латинский и греческий – это два совершенно отдельных языка, на которых говорили разные народы, жившие в неблизких частях древнего мира. Хоть какое-то представление об этом тебе, Джексон, должны были внушить в Академии Уэйл в Рамсгейте.
Хаусмен. Но богиня любви Уэнус для человека таких венерических наклонностей, как Джексон, – это серьезное возражение против нового произношения. И потом, Уэнус – это так нехимично.
Джексон. Я знаю, вы с Поллардом презираете науку.
Поллард. Разве это наука? Овидий говорил, это искусство.
Джексон. А, любовьХ Вы просто меня клюете, потому что никогда не целовались с девушками.
Поллард. Правда. И как это, Джексон?
Джексон. Целоваться не похоже ни на науку, ни на искусство. Это не сравнить ни с тем ни с другим; это что-то третье.
Поллард. Ничего себе.
Хаусмен. Da mi basia mille, deinde centum [38].
Поллард. Катулл! Дай мне тысячу поцелуев, а затем еще сто! Потом еще тысячу, потом вторую сотню! Да, Катулл – это поэт для Джексона.
Джексон. Как там у него? Это удобно послать мисс Лидделл как мой стих?
Поллард. Смотря какая эта мисс Лидделл. Она – дактиль [39]?
Джексон. Я очень в этом сомневаюсь. Она – дочь декана колледжа Крайст Черч.
Поллард. Ты не понял. Ее имя должно совпадать по размеру с Лесбией. Вся любовная лирика Катулла написана Лесбии или про нее. Vivamus, тва Lesbia, atqueamemus…
Джексон. А по-английски? Девушки, которые целуются, латыни не знают.
Поллард. Ах, по-английски. Попробуем, Хаусмен? «Давай жить, моя Лесбия, и давай любить, в грош оценим ропот брюзгливой старости…»
Хаусмен. «Не дадим и двух медяков за бурчание стариков…»
Поллард. Каков пижон!
Хаусмен.
Джексон. Чем там заканчивается?
Ха смен. Заканчивается тем, что оба они умерли, а Катулла сдают на экзаменах [40]. Nox est perpétua [41].
Поллард. Все-таки, если его сдают, не perpétua.
Хаусмен. Этому вас англикане учат?
Джексон. Они поженились?
Поллард. Нет. Они любили, и бранились, и мирились, и любили, и дрались, были верными друг другу и изменяли. Она сделала его самым счастливым человеком на свете и самым жалким, а через несколько лет умерла, а потом, в тридцать лет, и он умер. Но к тому времени Катулл изобрел любовную лирику.
Джексон. Изобрел? Правда, Хаус?
Поллард. Можешь его не спрашивать. Как все остальное – часы, штаны и алгебру, – любовную лирику нужно было изобрести. После тысяч лет секса и сотен лет поэзии любовная лирика – непритворные признания влюбленного поэта, дарящего бессмертие своей даме в творении, ею вдохновленном, – так вот, лирика, как ее понимают Шекспир, и Донн, и студенты Оксфорда, была изобретена в Риме в первом веке до Рождества Христова.
Джексон. Ого!
Хаусмен. Интересный момент – это basiит [42]. До Катулла поцелуй всегда был osculum [43].
Поллард. Ну-ка, Хаус, напрягись, разве это интересный момент в поцелуе?
Хаусмен. Да.
Поллард. Держи правее, Джексон.
Джексон. Хочешь взять весла?
Поллард. Нет, у тебя прекрасно получается.
Джексон. Хаус бездельничает с самого Иффли.
Хаусмен. Какая наглость! Кто вас вывел из Аида?
Уплывают.
Игра в крокет возвращается на сцену: Паттисон, за ним по очереди – Джоуитт, Пейтер и Рёскин. Их появления, уходы и перемещения определяются развитием игры.
Паттисон. Мне не было и семнадцати, когда я впервые увидел Оксфорд. Это было в тысяча восемьсот тридцатом, и Оксфорд тогда был упоительным, не застроенным, как сегодня. Город кишит людьми, которым дела нет до университета, или, точнее, их отношение к университету исключительно деловое. Университет держался в стороне от лондонской и бирмингемской железных дорог вплоть до сороковых годов. Я тогда сказал: «Если к нам придут бирмингемские поезда, то и от лондонских не уберечься».
Пейтер. Мне не кажется, что вы правы, доктор Паттисон.
Джоуитт. Добираться десять миль до Стивентона, чтобы попасть на поезд в Паддингтон, никогда не было чересчур приятным занятием. Лично я благодарю Господа за нашу транспортную ветку и надеюсь, что теперешняя пересадка в Дидкоте не исчерпала щедрот Его милосердия.
Рёскин. Когда я в Паддингтоне, я чувствую себя как в аду.
Джоуитт. Вам не стоит об этом распространяться, доктор Рёскин. Нравственному воспитанию оксфордских студентов не пойдет на пользу мысль, что расплата за грехи – это всего лишь толкучка на крупном вокзале.
Рёскин. Быть нравственно воспитанным можно только тогда, когда осознаешь, насколько ужасающей была бы такая расплата. Механический прогресс – это шлак от нашей увядающей гуманности. Не удивлюсь, если ад представляет собой беспредельно раскинувшуюся модернизацию. Меж Бакстоном и Бейквеллом есть скалистая долина; там некогда – при первых и закатных лучах солнца – Музы танцевали пред Аполлоном и слышалась флейта Пана. Скалы эти взорвали ради железной дороги, и теперь каждый кретин из Бакстона может через полчаса оказаться в Бейквелле, а кретин из Бейквелла – в Бакстоне.
Пейтер (в игре). Первоклассный удар.
Джоуитт. Держите дистанцию.
Паттисон. Лично я всецело за образование, но в университете ему не место. Университет существует для того, чтобы искать смысл жизни посредством ученых занятий.
Рёскин. Я объявил смысл жизни в своих лекциях. Нет ничего прекрасного, что не благо, и нет ничего благого, что не имеет нравственной цели. Я заставил студентов вставать на заре, чтобы они прокладывали дорогу с цветами по обочинам вдоль болота Ферри Хинкси. Там был один ирландский щеголь, ражий детина с белыми руками и длинными поэтическими волосами, который с гордостью говорил, что никогда не видел лопаты; на целый семестр я превратил его в землекопа и научил, что труд – это основа добродетели. Потом я выехал в Венецию на зарисовки, и дорога провалилась в болото. Мой протеже начал вставать к полудню, чтобы курить сигареты и читать французские романы, а Оксфорд превратился в городской водоем для обучения гребле.
Хаусмен и Поллард идут вдоль реки, Хаусмен сосредоточен на лодочной гонке. Гонки не видно.
Хаусмен. Поднажми, Сент-Джон!
Поллард. Рёскин сказал, что, когда он в Паддингтоне, он чувствует себя как в аду, а Оскар Уайльд [44] добавил: «А когда…»
Хаусмен. «…когда он попадет в ад, то будет думать, что это всего лишь Паддингтон». Жаль, если Уайльд будет известен одними перевертышами. Сент-Джон, давай!
Поллард. Ты ведь ненавидишь спорт.
Хаусмен. Шевелись!
Поллард. Уайльда считают самым остроумным человеком в Оксфорде. Говорят, в его комнатах в Магдалине [45] нет ничего, кроме лилии в голубой вазе.
Хаумен. Что, и мебели нет?
Поллард. Да нет, мебель, конечно, есть…
То есть думаю, что мебель есть.
Хаусмен. Поднажми, Сент-Джон!
Поллард. Он заявился на бал к Морреллам [46] в мундире Рупертовского полка и с тех пор по рассеянности надевает его каждое утро. Его даже видели в этом наряде на главной улице. Все вокруг повторяют его реплику, что с каждым днем ему все труднее и труднее тягаться с той голубой фарфоровой вазой. По-моему, это блестяще.
Хаусмен. У нас в Бромсгроуве была голубая фарфоровая масленка, мы на нее и внимания не обращали. Отличная гонка! Эх, Сент-Джон продул!
Джоуитт. Когда я приехал в Оксфорд, мне было восемнадцать. Шел тысяча восемьсот тридцать пятый год, и Оксфорд выглядел весьма бесславно. Образование почти не затрагивало жизни университета. Учебу оттеснили на задворки и в кельи: так, должно быть, паписты проповедовали в елизаветинских домах. Члены советов не имели в обществе никакого веса. Казалось, их полностью обезоружил исторический процесс, который отдал студентов в руки добродушных священников, ожидавших назначения в сельские приходы. Мне не в чем упрекнуть тогдашний студенческий сброд – обычные дебоширы и лодыри. Великая реформа пятидесятых [47] заложила основу образованного класса, который простер нравственный и общественный порядок на те части света, где – приведу один лишь пример – прежде не слыхивали о моем Платоне.
Паттисон. Великая реформа превратила нас в базарную толкучку. Железная дорога доставляет сюда дураков, а после их же вывозит – с плацкартой для большого мира.
Джоуитт. Если современный университет и существует, то лишь с согласия большого мира. И мы обязаны выпускать людей, готовых к жизни в этом мире. Что подаст им пример, как не классическая древность? Нигде идеалы морали, искусства и общественного порядка не воплощались гармоничнее, чем в Греции в эпоху великих философов.
Рёскин. Не считая мужеложства.
Джоуйтт. Не считая мужеложства.
Пейтер. Собственно, Италия в конце пятнадцатого века… Нигде идеалы искусства, морали и общественного порядка не воплощались гармоничнее, не считая морали и общественного порядка.
Рёскин. Средневековая готика! Средневековые готические соборы были великими двигателями искусства, морали и общественного порядка!
Паттисон (в игре). Очко [48]. Ваш удар.
Пейтер. Средневековье прикоснулось и ко мне, но его время – и мое к нему почтение – прошло. Сегодня меня к Средним векам и калачом не подманишь. Эти ваши кустарные промыслы [49], они полезны для народа; без них Liberty's [50] был бы под угрозой краха, его попросту закрыли бы. Но все-таки истинный дух эстетизма восходит к Флоренции, Венеции, Риму – не считая Японии. Этот дух рельефно проступает у микеланджеловского Давида – не считая паха [51]. Самая голубизна моего галстука утверждает, что мы все еще живем в ту революционную эпоху, когда человек вновь стал властен над своей природой и произвел на свет итальянское Возбуждение.
Паттисон. В смысле, Возрождение. Равный счет.
Пейтер. На фресках Санта Мария делла Грацие [52], на расписном своде Святого Панкраца [53]…
Паттисон. В смысле, Петра. Если не ошибаюсь, вы блокировали мяч.
Входит Джексон в костюме для гребли.
Хаусмен. Хорошо ты греб, Джексон! Нас все-таки обошли на корпус.
Джексон. Поразительное дело. Подходит ко мне парень в бархатных бриджах, этакая штучка из мюзик-холла, и говорит, что желает высказать восхищение моим коленом. Я с достоинством отвечаю: «Благодарю вас, но хотя мое имя – Мозес, я не из колена Израилева и не могу принимать похвалы за чужой счет». Он говорит: «Оставьте шутки на мою долю, ради них меня держат в Оксфорде. Я видел вас в Торпидс, ваше левое колено – это поэма».
Поллард. А ты что сказал?
Джексон. Естественно, спросил, не гребец ли он. Он сказал, что садился за весла в Магдалине, но так и не смог понять, зачем ему каждый вечер спускаться в Иффли задом наперед, и оставил это занятие. Теперь он не признает игр на свежем воздухе, кроме домино; а в домино на свежем воздухе ему приходилось играть во французских кафе. Я думаю, он знаете кто?
Поллард. Кто?
Джексон. Один из этих эстетов.
Уходят.
Рёскин. Совесть, вера, дисциплина самообуздания, преданность природе – все христианские добродетели, давшие нам собор в Шартре [54], живопись Джотто, поэзию Данте, – были обряжены в радужное тряпье ради сиюминутных страстей.
Пейтер. В раннем Рафаэле, в сонетах Микеланджело [55], в Корреджо [56], в его мальчике с лилиями из Пармского собора и, отдаленно, в моем галстуке – мы чувствуем аромат, как лучше выразиться…
Паттисон. Калача.
Пейтер. Калача? Нет… аромат утонченного и благовидного язычества [57], которое освободило красоту из склепа христианского сознания. Возрождение учит нас, что книгу познания должно не затверживать на память, но писать наново, с восторгом проживая каждое мгновение ради самого мгновения. Поддерживать такой восторг, всечасно гореть этим твердым самоцветным пламенем – значит достичь всего.
Обзавестись привычками – значит потерпеть крах. Гореть самоцветным пламенем можно, лишь чутко улавливая каждый миг – ради самого этого мига. Обрастая привычками, мы упускаем мгновения своей жизни. Как увидеть эти мгновения? Как запастись не плодами опыта, а самим опытом…
Джексон бежит в нашу сторону, не приближаясь. Игра уводит со сцены Рёскина и Паттисона.
…как удержать явленную в мгновении изощренную страсть, причудливый цветок, искусство – или лицо друга? Ибо упускать мгновения в нашем кратком дне зноя и стужи – все равно что спать до заката. Принятая мораль, которая требует пожертвовать хоть одним из таких мгновений, не имеет на нас прав. Любовь к искусству ради искусства не ищет себе наград, она лишь придает высочайшую ценность мгновениям нашей жизни – ради этих мгновений.
Джоуитт. Мистер Пейтер, вы не могли бы уделить мне одно мгновение?
Пейтер. Разумеется! Сколько вам будет угодно!
Прибегает запыхавшийся Джексон. Хаусмен встречает его с часами в руках. Джексон бессильно опускается на скамейку. Хаусмен держит самодельный «лавровый венок». Он беспечно коронует Джексона.
Хаусмен. Одна минута пятьдесят восемь секунд.
Джексон. Что?
Хаусмен. Минута пятьдесят восемь, ровно.
Джексон. Ерунда какая.
Хаусмен. Или две пятьдесят восемь.
Джексон. Тоже ерунда. Сколько была первая четверть?
Хаусмен. Я забыл посмотреть.
Джексон. А что же ты делал?
Хаусмен. Смотрел на тебя.
Джексон. Дубина!
Хаусмен. А почему не может быть минута пятьдесят восемь?
Джексон. Мировой рекорд на полмили больше двух минут.
Хаусмен. А, да?… Мои поздравления, Джексон.
Джексон. Что только из тебя выйдет, Хаус?
Джексон снимает венок и, уходя, оставляет его на скамейке. Хаусмен берется за книгу.
Хаусмен. Вот что из меня вышло.
Пейтер. История была непомерно раздута, она, если угодно, обрела размах в вашем пересказе, но при всем том письмо, подписанное «Ваш любящий»…
Джоуитт. Несколько писем, к тому же адресованных студенту.
Пейтер. Несколько писем, подписанных «Ваш любящий» и адресованных студенту…
Джоуитт. Баллиоля.
Пейтер. Даже студенту Баллиоля, – еще не доказывают факт связи, они не обнаруживают даже намека на сношения, по сути…
Джоуитт. Письма от наставника, сэр, члена совета чужого колледжа, с благодарностью за отвратительный сонет!\
Пейтер. Короче говоря, доктор Джоуитт, вы чувствуете, что я преступил границу дозволенного.
Джоуитт. Я чувствую, мистер Пейтер, что письма студенту, подписанные «Ваш любящий», с благодарностью за сонет о медовых устах и быстрых бедрах Ганимеда могут быть истолкованы фатальным для университетских идеалов образом, даже если обсуждаемый студент не был бы известен под прозвищем Баллиольский педик.
Пейтер. Вы меня поражаете.
Джоуитт. Баллиольский педик, я убежден.
Пейтер. Нет, нет, я поражен тем, что вы не считаете возможным истинно платонический обоюдный пыл.
Джоуитт. Платонический пыл, если уж речь зашла о Платоне, есть пыл, который опустошит частные школы и наполнит тюрьмы, не подави мы его в зародыше. При переводе «Федра» [58] мне понадобилась вся моя ловкость, чтобы перефразировать описание педерастии в ту уважительную привязанность, каковая приличествует англичанину и его жене. Платон сам совершил бы эту перестановку, приведись ему заправлять Баллиолем.
Пейтер. И все же, Мастер, никакой ловкости не отменить любви к мальчикам как приметы общества, почитаемого нами за наиблестящее в истории культуры, превосходящего в нравственном и умственном отношении сопредельные нации.
Джоуитт. Вы крайне добры, но один студент [59] у нас погоды не делает; я написал отцу, чтобы его забрали. (Хаусмену, который появляется с новой книгой.) Складывайте вещи, сэр, и убирайтесь! Пагуба, которая принизила славу Греции, не возобладает над Баллиолем!
Пейтер (уходя, Хаусмену). Это долгая история, но время все расставит по местам.
Хаусмен. Я – Хаусмен, сэр, из Сент-Джона.
Джоуитт. В таком случае я отказываюсь понимать, почему я к вам обратился. Кто ваш наставник?
Хаусмен. Я посещаю мистера Уоррена из Магдалины трижды в неделю.
Джоуитт. Да, верно. Уоррен [60] – выпускник Баллиоля, он говорил о вас. Он думает, что вы на многое способны.
Хаусмен. Правда, сэр?
Джоуитт. Если вы сумеете отказаться от своей легкомысленности и цинизма и найдете другой способ избавиться от ирландской провинциальности, кроме как отпускать жеманные замечания о фарфоровых вазах и расхаживать в бриджах сливового цвета, что вы и так не делаете, и острижете волосы – вы ведь не тот, правда? Оставим. Что у вас там? О, «Катулл» Мунро [61]. Я видел его у Блекуэлла [62]. Целый океан Мунро и драгоценная капля Катулла. Поразительно, за что люди платят четыре шиллинга и шесть пенсов. Катулл в вашем списке для чтения?
Хаусмен. Да, сэр, «Свадьба Пелея и Фетиды» [63].
Джоуитт. Катулл, шестедят четыре! Первая сцена достойна кисти лорда Лейтона [64]! Цвет юношей Аргоса [65], горя поимкой золотого руна, пенит волны лопастями из сосны. Первый корабль отправляется бороздить океан! «И дикие лица нереид [66] всплывали из белых пенистых вод – emerserefericandentiе gurgitevultusaequoreae, – глядя изумленно на это зрелище – monstrumNereidesadmirantes.
Хаусмен. Да, сэр. Точнее, freti [67].
Джоуитт. Что?
Хаусмен. Мунро согласен, что feri [68]– это ошибка. Должно быть freti, сэр, поскольку vultus [69]в аккузативе.
Джоуитт. Согласен с кем?
Хаусмен. Ну, со всеми.
Джоуитт. Со всеми, кроме Катулла. Филологи сказали свое слово. Долой дикие лица, выплывающие в номинативе [70]. Да здравствует переходный глагол emersere [71], возносящий аккузативные неквалифицируемые лица над белыми пенистыми водами freti, чего-то водяного вроде канала. Ничего, что у нас переизбыток водных слов, пусть будет еще и канал, – вот, пожалуйста, «fretiвместо feriпредставляет собой несложное исправление, так как описки в буквахr, t, tr, rtчаще прочих отмечаются в рукописных текстах». Что ж, это право Мунро – соглашаться со всяким, кто правит рукописи Катулла по своему вкусу и называет такую правку конъектурой. Это пустое занятие пригодно для того, чтобы заполнять досуг профессоров Кембриджского университета. Но вы, сэр, не для того ходите по земле с оксфордской стипендией, чтобы морочить себе голову тем, написал Катулл в таком-то месте ut, или et, или out [72], или ничего; подделана или искажена такая-то его строка или, напротив, она являет нам авторский гений. Вы здесь для того, чтобы принимать античных авторов, какими они вышли от почтенного английского издателя, и изучать их, пока вы не сможете писать их размером. Без умения писать стихи на латыни и греческом как вы можете надеяться принести миру хоть какую-то пользу!
Хаусмен. Но разве нет пользы в том, чтобы установить, что на самом деле писали античные авторы?
Джоуитт. В общем и целом это было бы скорее желательно, чем нежелательно; и работу эту успешно проделали, где только возможно, добротные ученые, которых уже лет сто как нет. В остальном определенность возникнет, только если отыщется автограф. Не далее как сегодня утром у меня была причина отдать машинистке автограф письма, написанного мной отцу некоего студента. Копия, возвращенная мне, гласила, что Мастер Баллиоля принужден исполнить свой тяжкий долг и заклеймить противоестественный порог. Иными словами, каждый, кто имел дело с секретарями, знает, что слова Катулла были искажены уже тогда, когда двое переписчиков закончили свои списки, то есть приблизительно ко времени первого вторжения римлян в Британию [73], а ведь самый ранний из известных нам списков появился примерно на полторы тысячи лет позднее. Вообразите всех этих секретарей! Ошибка тянется за ошибкой с папируса на папирус и с последних крошащихся свитков переносится на первые новомодные пергаменты, чтобы повторяться еще тысячу лет; рукопись без единой запятой шла сквозь строй переменчивых график и правописаний, не говоря уж о плесени, крысах, пожарах, наводнениях и церковниках, скорых на суд и расправу; так слова Катулла и кочевали от переписчика к переписчику – тот пьян, этот дремлет, третий небрежен, а те, кто трезв, бодр и дотошен, – либо невежды в латыни, либо, что страшнее, почитают себя латинистами почище Катулла, – пока в долгожданном конце цепочки, подобно вернувшемуся домой битому и трепаному псу, на порог итальянского Возрождения не рухнул единственный живой свидетель тридцати поколений небрежности и глупости – Codex Veronensis [74]Катулла, который тоже был утерян почти моментально, но не раньше, чем его скопировали, дав ошибкам последнюю лазейку. Здесь-то стихи Катулла и приняли вид, в каком их увидел первый печатник-венецианец четыреста лет назад.
Хаусмен. Где, сэр?
Джоуитт (указывает). Вот здесь.
Хаусмен. Вы хотите сказать, сэр, что рукопись здесь, в Оксфорде?
Джоуитт. Ну да. Потому ее и называют Codex Oxoniensis. Один немецкий ученый совсем недавно осознал все значение кодекса и положил Oxoniensisв основу своего издания Катулла. Мистер Робинсон Эллис [75] из Тринити-колледжа обнаружил существование кодекса несколькими годами раньше, но, увы, не оценил, насколько он важен. Поэтому эллисовское издание Катулла отмечено лишь тем, что, на беду, игнорирует открытие собственного составителя.
Входит Эллис с самокатом, он играет ребенка, в руках – леденец на палочке. При этом одет не по-детски.
Вот тебе и на, Эллис! Забыл про свой Oxoniensis!
Эллис. Не забыл.
Джоуитт. Забыл.
Эллис. Не забыл.
Джоуитт. Забыл.
Эллис. Не забыл.
Так они и продолжают, тем временем вплывают АЭХ и Харон.
Джоуитт. Забыл.
Эллис. Не забыл.
Джоуитт (уходя). Забыл. Забыл. Забыл!
Эллис. Не забыл. И вообще, Беренс [76] его переоценил. Вот тебе!
АЭХ. Это Бобби Эллис! Он слегка изменил своим манерам, но по интеллекту узнаешь его безошибочно.
Эллис. Молодой человек, мне сказали, что вы определенно окончите с высшим баллом. Я предлагаю собрать класс в следующем семестре, читать Монобиблос. Взнос – один фунт.
Хаусмен. Монобиблос?
АЭХ. Этого я тоже где-то видел.
Эллис. О боже! Монобиблос – Проперций, книга первая.
Хаусмен. Проперций.
Эллис. Величайший из римских элегиков [77] – и самый испорченный.
Хаусмен. О!
Эллис. Разве что у Катулла текст более поздний, но я бы сказал, что Проперций испорчен сильнее.
Хаусмен. О, испорчен! Да, сэр. Спасибо, сэр.
Оба уходят.
АЭХ. Вы знаете Проперция?
Харон. Вы имеете в виду – лично?
АЭХ. Я имею в виду – стихи.
Харон. А, тогда нет. Приехали. Элизиум.
АЭХ. Элизиум! Где же еще?! Мне было восемнадцать, когда я впервые увидел Оксфорд, и Оксфорд был очарователен. Еще не стал приманкой для туристических толп, как сегодня. С бирмингемского поезда вас встречали извозчики; и в городе не было ни единого здания из кирпича, пока не построили Кинема и кафе Кардома. Оксфорд моих снов, вновь явленный во сне. Желание помочиться, вместе с соображением, что делать этого не стоит, обычно говорит о том, что ты спишь.
Харон. Или сидишь в лодке. Со мной такое было однажды.
АЭХ. Вы спали?
Харон. Нет, я был в пьесе.
АЭХ. Над этим нужно поразмыслить.
Харон. Аристофан, «Лягушки».
АЭХ. Да, это правда. Я вас видел.
Харон. На корме у меня сидел Дионис.
АЭХ. Вы хорошо играли.
Харон. Нет, я просто там был. Меня застали врасплох. Хорошая пьеса «Лягушки», как вам кажется?
АЭX. Не особенно, но в ней цитируют Эсхила [78].
Харон. Ах, вот то была пьеса так пьеса.
АЭХ. Которая?
Харон. Эсхил, «Мирмидоняне». Вы ее знаете?
АЭX. Она не сохранилась, только название и несколько фрагментов. Я разделил бы долю Сизифа в Аиде и с радостью толкал камень вверх по склону, если каждый раз, покуда камень катится вниз, мне читали бы строку из
Эсхила.
Харон. Кажется, я что-то припоминаю.
АЭХ. О господи!
Харон. Подождите минутку.
АЭХ. О боже!
Харон. Ахилл в своем шатре.
АЭХ. Господи, только бы это мне не снилось.
Харон. Хор – это его соплеменники, мирмидоняне.
АЭХ. Да.
Харон. Они его отчитывают за то, что он сидит в шатре и дуется.
АЭХ. Да, да, шатер, но вы можете вспомнить хоть строчку, которую Эсхил написал?
Харон. Я к этому подхожу. Сначала Ахилл сравнивает себя с орлом, который подбит стрелой, оснащенной одним из его собственных перьев. Эту вы знаете?
АЭХ. Слова, слова.
Харон. Ахилл в своем…
АЭХ. Шатре.
Харон. Шатре. Я рассказываю или вы? Он играет сам с собой в кости, когда приходит весть, что Патрокл убит. Ахилл теряет рассудок и, видите ли, винит Патрокла, что тот погиб. Теперь строка. «Неужели для тебя ничего не значат, – говорит он, – безупречные чресла, которым я поклонялся, и обилие моих поцелуев».
АЭХ. [79]
Харон. Вот-вот.
АЭХ. Да, понятно.
Харон. Не подходит?
АЭХ. Подходит. Это один из фрагментов, который до нас дошел. Равно как и метафора с орлом; но это не собственные слова Эсхила, которые, осмелюсь сказать, вы не способны вспомнить.
Харон. Досадно, правда?
АЭХ. Именно. Все прозрачно. Я могу сейчас напрудить лужу в постель, ночная сиделка сменит простыни и укутает меня без слова упрека. Они очень добры ко мне в Эвелинской лечебнице.
Джексон (за сценой). Хаусмен!
Поллард (за сценой). Хаусмен!
Харон. Тогда и ведите себя как живой! Поняли?
АЭХ. Да, еще как понял.
Харон. Ко мне таких десятками присылают.
АЭХ. Может быть, заедете попозже.
Харон. Думаю, нет.
АЭХ. Ах да. Где твое жало? [80]
Харон подвозит АЭХ к берегу.
Поллард (за сценой). Хаус! Пикник!
Джексон (за сценой). Акриды! Мед!
Входит Хаусмен с кипой книг, опускает ее на скамейку.
Хаусмен. Позвольте вам помочь.
АЭХ (Харону). Кто это?
Харон. Кто это, он еще спрашивает.
АЭХ (Хаусмену). Благодарю вас.
Харон. Умирать надо вовремя.
Хаусмен помогает АЭХ выйти на берег.
АЭХ. Крайне удачно.
Харон. Умирать надо вовремя! Конца-краю им нет! (Уплывает.)
АЭХ. Не обращайте на него внимания. Могу я спросить, чем вы здесь занимаетесь?
Хаусмен. Классикой, сэр. Изучаю античных авторов.
АЭХ. Вот как? Я тоже занимался античностью. Разумеется, это было пятьдесят с лишним лет назад, когда Оксфорд еще называли городом дремлющих шпилей [81].
Хаусмен. Наверное, он был тогда восхитительным.
АЭХ. Да. Я чувствовал себя, как Моисей [82], который поднялся с равнин Моава на вершину горы Фасга, когда Господь показывал ему всю землю Иудину до самого моря.
Xаусмен. Около нашего дома в Вустершире был холм, который я и мои братья и сестры называли Фасга. Я часто взбирался на него и смотрел на Уэльс и воображал его Землей обетованной, хотя это были всего лишь холмы Кли [83]. На горизонте, на запад от нас, лежал Шропшир.
АЭХ. О… потрясающе. Так вы…
Хаусмен. Хау смен, сэр, из Сент-Джона.
АЭХ. Неожиданный поворот. Где бы нам присесть, пока мы не ударились в философию? Я уже не так молод. А вы, естественно, молоды именно так.
Садятся.
Классические штудии, стало быть?
Хаусмен. Да, сэр.
АЭХ. Вы готовитесь стать полноценной личностью, подготовленной к жизни, человеком со вкусом и моралью.
Хаусмен. Да, сэр.
АЭX. Наука для нашего материального развития, классика для совершенствования внутренней природы. Красота и добро. Культура. Добродетель. Идеи и нравственная позиция античных философов.
Хаусмен. Да, сэр.
АЭХ. Вздор!
Хаусмен. О!
АЭX. Оглянитесь. Кажется ли вам, что классики превосходят разумом, добродетелями, вкусом или хотя бы приветливостью естественников?
Хаусмен. Я знаком только с одним человеком с естественнонаучного отделения, и он – лучший из всех.
АЭХ. И знаний у него больше, чем у античных философов.
Хаусмен. Ох!
АЭX. Те умели распорядиться своими знаниями. Это были лучшие умы. Но ведь и французы – это лучшие повара, и во время осады Парижа, я уверен, крысы были хороши на вкус, как никогда; и все-таки нет причин продолжать есть крыс сегодня, когда доступен coq au vin [84]. Единственное, для чего стоит выяснять мнение античных философов по тому или иному поводу, – это исправление искаженного или спорного места в их текстах. Читать поэтов могут быть и другие причины, и я не сбрасываю их со счетов. Поэзия даже способна улучшить вашу внутреннюю природу, если, например, чудесное слияние звуков и смысла в некоторых поэмах Горация внушит вам скромность, когда вы, скажем, готовитесь пополнить свод мировой поэзии собственным творением. Но такой эффект довольно редок. Это ваши книги?
Хаусмен. Да, сэр.
АЭХ. Что у нас тут? (Рассматривает книги Хаусмена, читает с корешков. Книги так и не открывает.) Проперций! И… Проперций! И естественно, Проперций.
Хаусмен (жадно). Вы его знаете?
АЭХ. Нет, пока нет.
Хаусмен. Он трудный. У него путаные мысли или, во всяком случае, путаная латынь…
АЭX. Ах, знаю ли я его?
Хаусмен…если верить рукописям, а верить им нельзя, потому что все они происходят из одного и того же манускрипта, да и тот отдален от Проперция так же, как мы от короля Альфреда [85], палящего пироги. Чудо еще, что первый римский элегик продержался до изобретения печати.
АЭХ. Строго говоря, не первый.
Хаусмен. Совершенно справедливо. Катулл был раньше, но стихи своей Лесбии он писал разными размерами.
АЭХ. Ага!
Хаусмен. Любовницу Проперция звали Кинфия – «Кинфия первая пленила меня своими очами».
АЭХ. Cynthia prima suis miserum me cepit ocellis [86]. Не забывайте miserum.
Хаусмен. Да, бедного меня. Так вы его знаете.
AЭX. О да. Издание Проперция, которое я замышлял в оксфордской юности, должно было заместить все труды предшественников и не оставить места для последователей.
Хаусмен. Это было бы здорово! Я и сам подумывал о таком издании. Понимаете, Проперций так сильно искажен, что, по-моему, даже сегодня над ним еще работать и работать. Ох уж эти издатели! Каждый со своим Проперцием, вплоть до Беренса, – вот он, горячий, прямо со станка! – и все равно остается ощущение, что в первозданном хаосе его стиля и неразберихе его списков никто и близко не подошел к исходному тексту. Беренс должен был затмить всех, кто писал до него, – разве не для этого издают нового Проперция? Я бы издавал Проперция единственно ради этого, но разве остановишься на Беренсе, если от его cunctas в один, один, пять [87] только что со стула не падаешь.
АЭХ. Да, его cunctas вместо castas [88]невыносима.
Хаусмен. Точно! И это Беренс, который обнаружил CatullusOxoniensisв Бодлеанской библиотеке!
АЭХ. Беренс чересчур увлекается рукописями [89], которых до него никто не заметил. Он всего лишь человек, а в работе над классиками это помеха. Чтобы защитить переписчика, он готов выставить поэта идиотом. С другой стороны, его конъектуры – жалкое мельтешение, а то и вандализм; но, вообще говоря, его Проперций заслужил бы больших почестей, не будь Беренс таким суетным и самонадеянным.
Хаусмен (в смятении). О… так он хороший или плохой?
АЭX. Это вам лучше спросить у его матушки. (Берет другую книгу.) А вот Пейли [90] с его et вместо aut [91]в один, один, двадцать пять. Он, по моему мнению, переоценивает Проперция как поэта, но при этом без угрызений заставляет его молиться о том, чтоб Кинфия полюбила его, а также чтоб сам он перестал любить Кинфию! (Откладывает книгу.) Хотя не все здесь вызывает насмешку или отвращение.
Хаусмен (в шоке). Пейли?
АЭХ. Палмер [92]. Палмер – это другое дело. Он одарен природой сильнее и ярче любого английского латиниста со времен Маркленда [93].
Хаусмен. Правда? Значит, Палмер?
АЭХ. При всей его одаренности многие превосходят его точностью мысли и уравновешенностью суждений…
Хаусмен. О!
АЭХ…прежде прочих – Мунро.
Хаусмен. О да, Мунро!
АЭХ. Но Мунро вы бы не доверили и текст набирать. У Палмера нет интеллектуальной мощи. Длительное напряжение мысли ему недоступно, поэтому он его избегает.
Хаусмен. Но ведь вы сказали…
АЭХ. Он верит своей интуиции. Если интуиция его подводит, то он с несравненным упорством готов защищать очевидную ошибку и отстаивать невероятную конъектуру; к этим-то недостаткам он прибавляет пагубную склонность к непродуманным суждениям.
Хаусмен. Ох! Так, выходит, Палмер…
АЭХ (со следующей книгой). А, да. Лжец и холоп. (Следующая книга.) Ах, этот: даже собаку можно научить комментировать Проперция лучше его. (Следующая книга.) О боже… его представление о редакции такое: поменять в тексте пару букв и посмотреть, что выйдет. Если – с огромными допущениями – результат можно принять за осмысленный и грамматически верный, то он объявляет его исправлением. Это не наука, это даже не спорт вроде игры в классики или в шары, которые требуют известного навыка. Это просто времяпрепровождение; все равно как подпирать стенку и плевать вдаль.
Хаусмен. Но ведь это мистер Эллис! Я ходил к нему на Проперция.
АЭХ. Верно, я его видел. Мне показалось, он выглядит хорошо, слишком хорошо. (Следующая книга.) Ах, Мюллер [94]! (Следующая книга.) И Хаупт [95]! (Следующая книга.) Росберг [96]! Право слово, нет нужды читать все, что написано на немецком в последние полвека. Да и в следующие.
АЭХ небрежно берет записную книжку Хаусмена. Хаусмен несколько неуклюже отбирает ее.
Хаусмен. Это так просто…
АЭХ. Ну конечно. Вы ведь пишете стихи.
Хаусмен. Писал, знаете, как все пишут…
АЭХ. Все пишут.
Хаусмен. Для школьного конкурса. Получилось, кажется, вполне сносно.
АЭХ. Примите поздравления, мои стихи были совершенно несносны.
Хаусмен. Я, собственно, думал подать на Ньюдигейт [97]: мне показалось, что поэма, которая выиграла первый приз в прошлом году, была не такая уж… как бы это сказать?
АЭХ. Не такая, чтобы предположить, что вам будет стыдно подать свою.
Хаусмен. Но я не уверен, я не чувствую, что у меня хватит смелости подать на Ньюдигейт. Оскар Уайльд из Магдалины, который выиграл Ньюдигейт и закончил классику с отличием, был зван на чай к Рёскину. Сам Пейтер приходил к нему на чай в его комнаты и вел разговоры, наверное, о лилиях, и Микеланджело, и французских романах. За год до Уайльда победил один из Баллиоля, который слал Пейтеру стихи на манер раннегреческих, да еще на такие темы, за которые из Оксфорда выставляют. И доктор Джоуитт надлежащим порядком выставил его – за вполне достойное поведение и за простительный просчет в оценке границ эстетизма. А мне как поставить свою метку? Памятник прочнее бронзы [98], которым хвалился Гораций, выше царевых пирамид, неподвластный ветру, и непогоде, и самому ходу времен?
АЭХ. Вы мыслите себя в роли поэта или ученого?
Хаусмен. Безразлично.
АЭХ. Лучше бы это вам не было безразлично.
Хаусмен. А разве нельзя стать и тем и другим?
АЭX. Нет. По крайней мере, вершин не достичь. Поэтические чувства – сущее бедствие для ученого. Всегда найдутся поэтические натуры, готовые заявить, что та или иная искаженная строка – изысканна. Изысканна для кого? Римляне – это чужестранцы [99], писавшие два тысячелетия назад для чужестранцев, для людей, чьих богов мы почитаем чудаковатыми, чью дикость мы презираем, чьи интимные повадки мы предпочитаем замалчивать, но чье представление об изысканности, как нам мнится, таинственным образом тождественно нашему.
Хаусмен. Но ведь оно тождественно. Когда мы читаем римлян, у нас захватывает дух в тех же местах, над которыми замирали и наши предки. Поэт пишет своей любимой, как она убила его любовь, «как степной цветок, проходящим плугом тронутый насмерть» [100]. Он отвечает на письмо другу: «Так не подумай, что твое письмо забыто, как забывает добрая девушка на коленях яблоко, дар любовника, пока не вскинется на зов матери и не уронит его на пол, с краской на виноватом лице» [101]. Две тысячи лет пролетели в один миг. Ох, простите меня, я, кажется…
АЭX. Не стоит извинений. Учиться никогда не поздно.
Хаусмен. Я едва не плачу, когда думаю, как близки они были к гибели: это яблоко и этот цветок, лежа в хламе под давильным прессом. Последний список Катулла, выживший при крушении античной литературы. Этого не забыть. Вы знаете Мунро?
АЭХ. Я когда-то состоял с ним в переписке.
Хаусмен. Я тоже собираюсь ему писать. Вы думаете, он пришлет мне свою фотографию?
АЭХ. Нет. Странная материя – молодые люди. Вам лучше податься в поэты. Литературный пыл никого еще не сделал ученым и многим помешал. Вкус еще не есть знание. Промысел ученого в том, чтобы приумножать познанное. Только и всего. Но в этом кроется высокое счастье, ибо знание – благо. Оно не должно быть благим на слух или на вид, не должно даже приносить благо. Знание – благо в силу своей природы. Суть знания в его истинности. Знания не бывает слишком много, и любая его крупица достойна внимания. Одна запятая вместит в себя истину и ложь. В вашем тексте «Свадьбы Пелея и Фетиды» Катулл говорит, что Пелей – покровитель Эматии, Emathiae tutamen opis [102], запятая, carrisimena-to. Как может быть Пелей carrisimenato, самым дорогим для своего сына, если его сын еще не рожден?
Хаусмен. Я не знаю.
АЭX. Быть ученым – значит навести палец на страницу и произнести: «Тебе место здесь, тебе – здесь» [103].
Хаусмен. Запятая стоит не на месте, правда? Ведь в Oxoniensisнет запятых, равно как и заглавных букв, что тоже важно…
АЭХ. Не сейчас, сестра, дайте ему закончить.
Хаусмен. Стало быть, opis – это не «власть» с маленькой о, а родительный от Ops, Опы, матери Юпитера. Переносишь запятую на одну позицию назад, и все становится ясно.
АЭХ. Emathiaetutamen, запятая, Opisс заглавной «О», carrissimenato. Покровитель Эматии, самый дорогой для сына Опы.
Хаусмен. Так правильно?
АЭX. О да. Это правильно, поскольку правдиво, – Пелей, покровитель Эматии, был дороже всех для Юпитера, сына Опы. Изъяв запятую и водворив ее на другое место, ученый извлекает смысл из бессмыслицы в поэме, которую читают беспрестанно с тех пор, как она была издана с опечаткой четыреста лет назад. Маленькая победа над неведением и заблуждением. Наши запасники пополнились частицей знания. Что вам это напоминает? Разумеется, науку. Филология – это наука, предмет которой – литература; как ботаника – это наука о цветах, зоология – о животных, а геология – о камнях. Коль скоро цветы, животные и камни суть природные объекты, мы называем соответствующие науки естественными; истинность этих наук поверяется наблюдением и измерением. Коль скоро литература – это продукт небезупречных пальцев и человеческого разума со всей его хрупкостью и зыбкостью, филологическая наука должна учитывать степень правдоподобия разных версий, тем более что верность результата мог бы оценить один только автор, умерший сотни или тысячи лет назад. И все же это наука, а не сакральное таинство. Разум и здравый смысл, близкое знакомство с поэтом, полное владение языком оригинала, осведомленность в античном письме ради все тех же неверных пальцев писца, концентрация, собранность, врожденная смекалка и укрощенное самоволие – вот хорошая основа для начинающего филолога. Иными словами, почти всякий может стать ботаником или зоологом. Филология есть венец и вершина науки. Многие, хотя и недостаточно многие, находят ее сухой и скучной, но филология – это то единственное, для чего стоит становиться профессором латыни. Я это говорю затем, что в английских университетах вы такого не услышите. Выдумки и жульничество, подтасовки и откровенное вранье, которые под именем науки шествуют из одного журнала в другой, – им позавидуют уличные торговцы патентованными средствами. В немецких университетах история другая. Большинство немецких ученых я поместил бы в Институт механики; остальных – в Институт статистики. Кроме Виламовица [104] – величайшего европейского ученого после Ричарда Бентли [105]. Некоторые говорят, что это я – величайший, но даже если так, не им об этом судить. Виламовиц, я должен добавить, умер. То есть умрет. То есть некогда умрет в вашем будущем. Думаю, пора принять таблетку, она приведет мои глаголы в порядок. Будущее совершенное мне всегда казалось оксюмороном. На вашем месте я не стал бы так уж заботиться о памятнике. Если бы молодость вернулась ко мне, я обращал бы больше внимания на стихи Горация [106], где он говорит, что молодость к вам не вернется. Жизнь коротка, а смерть безучастно колотит в дверь. Кто знает, сколько завтрашних дней даруют нам боги? Сейчас, пока вы молоды, время украшать волосы миртом, пить лучшее вино, собирать плоды. Времена года и луны родятся заново, но ни благородное имя, ни красноречие, ни даже праведные деяния не возродят нас. Ночь пленяет Ипполита, не запятнанного пороком, Диане его ничем не удержать, он должен остаться; и Тезей покидает Пирифоя в узах, которых не порвать товарищеской любви.
Хаусмен. Что это?
АЭХ. Оговорка.
Xаусмен. Это «Diffugere nives». Nec Lethaea valet Theseus abrumpere cam vincula Pirithoo.И Тезей не в силах разбить летейские узы своего возлюбленного Пирифоя.
АЭХ. Ваш перевод ближе.
Хаусмен. Они были товарищами – Тезей и Пирифой?
АЭХ. Да, соратниками.
Xаусмен. Соратники! Вот что бередит душу! Есть ли любовь крепче любви товарищей, готовых жизнь положить друг за друга?
АЭХ. О господи!
Хаусмен. Я не о скабрезностях говорю, вы понимаете.
АЭХ. А, не такая товарищеская любовь, за которую выставляют из Оксфорда…
Хаусмен. Нет!
АЭХ. Не такая, как у лириков: «Когда ты любезен, я провожу день как бог; когда ты отворачиваешь лицо, мне все темно» [107].
Хаусмен. Нет, я имею в виду дружбу – добродетель – та, что была среди героев Греции.
АЭX. Само собой, среди героев Греции.
Хаусмен. Аргонавты… Ахилл и Патрокл.
АЭX. О да. Ахилла, верно, взяли бы в университетскую команду борцов. Ясон и аргонавты хорошо бы смотрелись на Восьмерке [108].
Хаусмен. Что же, по-вашему, они заслуживают осмеяния?
АЭХ. Нет. Нет.
Хаусмен. О, я прекрасно знаю, что есть вещи, которые замалчивают в четырех оксфордских стенах. Страсть к правдоискательству – бледнейшая из людских страстей. В библиотеке моего колледжа, в переводе из Тибулла, он, любовник поэта, заменен на она; а потом, когда вы доходите до части, где «она» уходит с чьей-то женой, переводчика будто лихорадит – он эту часть опускает. Гораций был богоравен, когда писал Diffugereraves, – снега сошли, и времена катятся по кругу год за годом, но для нас, когда наш черед пройдет, возврата нет! – в английском так слова не составишь, даже не подступишься…
АЭХ.
Хаусмен (радостно). Да, безнадежно, не правда ли? Остается лишь безмолвствовать, когда ты попал в силки, расставленные между твоим прошлым и настоящим. Однако вернитесь на несколько страниц, и вы застанете Горация плачущим о каком-то атлете. В мечтах поэт бежит за ним через Марсово поле в катящиеся волны Тибра! Гораций! У которого в стихах столько девушек; и он еще невинен в сравнении с Катуллом. Тот безумно влюблен в Лесбию, а в промежутке откровенно… гм… крадет поцелуи у мальчика, который в Бромсгроуве еще и до старших классов не дошел бы.
АЭХ. Катулл, девяносто девять. Там есть интересный вопрос: vesterвместо tuus [110].
Хаусмен. Не то!
АЭХ. Простите?
Хаусмен. Интересный вопрос в другом: что есть добродетель? Что есть добро и красота, истинные и непреложные?
АЭХ замечает на скамье лавровый венок. Он машинально подбирает его.
АЭX. Вы думаете, что на это есть ответ: потерянный автографический список смысла жизни, который мы возьмем и освободим от искажений, превративших его в бессмыслицу? Но если такого списка нет, то – истинно и непреложно – нет и ответа. Все дело во времени. У Гомера Ахилл и Патрокл были товарищами, храбрыми и не запятнанными пороком. Столетия спустя, в пьесе ныне утерянной, Эсхил привнес в эту историю Эрос, что сегодня, подозреваю, истолковали бы как крайнюю скабрезность: обилие поцелуев и безупречные чресла. А Софокл? Он написал «Поклонников Ахилла» [111] – там, подозреваю, непотребства побольше, чем в веселом доме. Тоже утеряно.
Хаусмен. Откуда эти пьесы известны, если они утеряны?
АЭХ. Их упоминали критики.
Хаусмен. В те времена были критики?
АЭХ. Естественно, это же колыбель демократии. Еврипид сочинил «Пирифоя», последний список которого, должно быть, прошел сквозь кишки неизвестной крысы тысячу лет назад, если не был сожжен попами. Представления Церкви о добре и красоте исключают половые извращения: девственность не в счет – потому, надо думать, она из всех извращений самая редкая. Что это? (Подносит к глазам лавровый венок.)
Хаусмен. Это, собственно, мой.
АЭX. В таком случае возьмите его.
Быть быстрейшим бегуном, сильнейшим борцом, лучшим копьеметателем – вот что считалось добродетелью, когда Гораций гнался в мечтах за Лигурином по Марсову полю, и незастигнутый Лигурин не терял своей добродетели. Добродетель была прикладной: атлетическое поле называли по имени бога войны. Если бы только собрать армию из любовников и их возлюбленных! Это не я, это Платон, вернее, Федр в ловком переводе [112] Мастера Баллиоля: «Хотя бы их была горстка, такие люди одолели весь мир: ведь каждый скорее принял бы тысячу смертей, чем оставил строй или бросал оружие на глазах у возлюбленного; наитрусливейший был бы вдохновлен любовью». Пусть их глумятся; софистика грязных стариков всегда осудит молодых и прекрасных. Тогда, как и сейчас, идеалы пытались принизить. Армия такая действительно была [113], сто пятьдесят пар любовников, Священный отряд фиванских юношей, и они были непобедимы до тех пор, пока свобода Греции не сгинула в битве под Херонеей [114]. В конце того дня, говорит Плутарх, победоносный Филипп Македонский вышел, чтобы увидеть павших, и, когда он прошел к месту, где триста воинов сражались, а ныне и покоились вместе, в нем проснулось любопытство; поняв, что это был отряд любовников, он пролил слезы и сказал: кто помыслит низменное о деяниях этих людей, да погибнет.
Хаусмен. Я стал бы кому-то таким другом.
АЭХ. Мечтать о том, чтобы принять грудью меч, подставить голову под пулю…
Хаусмен. Я смог бы.
АЭХ…и очнуться, чтобы обнаружить, что мир гнусно продолжает жить, а ты умираешь от старости, не от боли.
Хаусмен. Но…
АЭХ. Сложи жизнь за товарища – брось ее наземь как циновку…
Хаусмен. Ох…
АЭХ. Оставь ее за доброе слово и улыбку, как оставляют на столе игральную карту, – отложи ее, как откладывают бутылку лучшего вина на тот день, когда твоя дурацкая жизнь окончится; можем ли мы помыслить о какой-нибудь еще жертве? – о да, прежде всего – прежде всего – брось свою жизнь, как мешок на обочине дороги, хотя дни твоего похода и так сочтены, и предел их – могила. Любовь не изменит своим проказам, назови ее дружбой или как угодно еще.
Хаусмен. Я не знаю, что такое любовь.
АЭХ. Отчего же, знаете. В Средневековье, в Македонии, в последнем меркнущем отсвете классической древности некто по имени Септимий [115] скопировал отрывки старых книг для своего сына; поэтому мы располагаем одним предложением из «Поклонников Ахилла». Любовь, говорит Софокл, как лед в детских руках. Осколок льда, крепко сжатый в кулаке. Я хотел бы помочь вам, но мне это не дано.
Хаусмен. Значит, это любовь. Я приму ее. Мне жаль, что вы несчастливы, но в этом нет моей вины. Чужим несчастьем вашего не излечишь. Вы подадите мне руку?
АЭX. Охотно. (Пожимает протянутую Хаусменом руку.)
Хаусмен. Что случилось в конце с Тезеем и Пирифоем?
АЭX. Это и был конец. Последнее путешествие вело их в Аид; их изловили и заковали в невидимые цепи. Тезей в итоге был освобожден, но ему пришлось оставить друга. В узах, которых не сорвать товарищеской любви.
Хаусмен. Abrumpere [116]здесь неудачно. На его месте я бы сказал «не разъять».
АЭX. На его месте вы бы и Ньюдигейта не выиграли.
Хаусмен. Я и думаю, что мне не выиграть. В этом году тема из Катулла: плач по золотому веку, когда боги спускались навестить нас, пока мы не пошли дорогою зла.
АЭX. Превосходная тема для поэмы. Ложная ностальгия. Рёскин говорил, что до железных дорог в Дербишире было видно, как Музы танцуют перед Аполлоном.
Хаусмен. Где это он говорил?
АЭХ (указывает). Здесь.
Под этой скамейкой есть горшок?
Хаусмен. А?… Нет.
АЭХ. Наверное, это плохая мысль.
Выходит, что мы всегда живем в чьем-то золотом веке, даже Рёскин, который глядит так мрачно. Он – бука: хмурится на все, что ни попадется ему на глаза, и все хмурится ему в ответ. От этого и впрямь лишишься рассудка. Жизнь для Рёскина – как дорожное происшествие: он только и знает, что, беснуясь, зовет врачей, отводит в сторону встречный транспорт и требует обуздать движение законным порядком. В этом соль его искусствоведения.
Хаусмен. В первом семестре в Оксфорде я слушал лекции Рёскина. Конец он принял безумным.
АЭХ. Боюсь, мы можем пойти по кругу.
Встает. Хаусмен подбирает книги. Пейтер и Бал-лиольский Студент входят как прежде.
Пейтер. Очаровательно сказано. Когда вернусь домой, я пристальней взгляну на вашу фотографию.
Уходят.
АЭХ. Так и есть.
Пейтер в чужие дела не лезет, его дело маленькое, он всегда в сторонке. Когда он смотрит на вещь, она тает: Пейтер весь в тонах, резонансах, в переплетениях, в ловле мгновений – и все ради себя. Жизнь не для того, чтобы ее понимать, но чтобы ее сносить и украшать. Из вас выйдет толк, так или иначе. Я тоже уверенно шел на высший балл [117].
Хаусмен. Вы его не получили?
АЭХ. Нет. Не получил – ни хорошего, ни среднего, ни даже проходного.
Хаусмен. Вы провалили?
АЭХ. Да.
Хаусмен. Но как?
АЭХ. Все хотели знать – как.
Хаусмен. О…
Джексон (за сценой). Хаусмен!
Поллард (за сценой). Хаусмен!
Хаусмен. Что же было потом?
АЭХ. Я стал чиновником и поселился на квартире в Бейзуотере.
Поллард (за сценой). Хаус! Пикник!
Джексон (за сценой). Акриды! Мед!
Хаусмен. Извините, меня зовут. Вы закончили своего Проперция?
АЭХ. Нет.
Хаусмен. Он все еще у вас?
АЭX. О да. В коробке с бумагами, которую я велел сжечь после смерти.
Джексон и Поллард подплывают на лодке.
Хаусмен (в сторону лодки). Я здесь. АЭХ. Мо!…
Поллард. Пора.
Хаусмен подходит к лодке и перебирается в нее.
АЭХ. Я бы умер за тебя, но счастье меня обошло!
Хаусмен. Куда мы плывем?
Поллард. В Аид. Я принес Платона – поучишь со мной?
Хаусмен. Я в него даже не заглядывал. Платон ничего не объясняет, кроме собственных мыслей.
Джексон. Зачем тогда его изучать?
Поллард. Мы изучаем античных авторов, чтобы извлекать у них уроки для настоящего.
Хаусмен. Вздор.
Поллард. Вот как? Пусть. Мы изучаем античных авторов, чтобы закончить с отличием и вести жизнь ученого с приятной легкостью.
Хаусмен. Чтобы объяснять мир, мы нуждаемся в науке. У Джексона знаний больше, чем у Платона. Следовательно, единственная причина изучать, что и по какому поводу думал Платон, – это восстановление его текста. Что и является сутью критики классических текстов, каковая, в свою очередь, является наукой, а именно филологией. Джексон, мы вместе будем учеными. То есть мы оба будем учеными. А Поллард станет тем, что считают классическим филологом в Оксфорде, – критиком литературы на древних языках.
Поллард. Послушай, ты видел в «Скетче» [118] последнюю из уайльдовских шуток? «Ох, как тяжело я проработал целый день – утром поставил запятую, а вечером убрал!» Разве это не восхитительно?
Хаусмен. Почему?
Поллард. Что?
Хаусмен. А, понимаю. Это была шутка?
Поллард. Право слово, Хаусмен!
Лодка уносит их. Хаусмен бросает лавровый венок в воду.
Держи правее, Джексон.
Джексон. Хочешь взять весла?
АЭХ. Parce, precor, precor. Оды, четыре, один. Ах ты, Венера, старая сводня. Где мы были? О, вот где мы все! Хорошо. Откройте вашего Горация. Книга четвертая, ода первая [119], молитва богине любви:
«Смилуйся, я молю, я молю! или лучше: пощади, я умоляю, я умоляю!» Эти же слова я произнес, когда увидел, что мистер Фрай пребывает в убеждении, будто bella – это прилагательное, значащее чуть ли не «прекрасная», которое столь же естественно подходит к Венере, как бекон к яичнице.
«Прекрасная Венера, прервавшись, движешься ли ты опять?» Мистер Фрай придает вопросу Горация редкостный идиотизм, а Гораций мертв, как и все мы будем мертвы но, пока я жив, я за него заступлюсь. Это война, мистер Фрай! Война есть bella. Венера, движешь ли ты войну? приводишь ли ты в движение войну? – сказали бы мы, затеваешь ли ты войну? или еще лучше: Венера, зовешь ли ты меня к оружию, rursus, опять, diu, после долгого времени, intermissa, после перерыва или после задержки, если вам угодно, и что же, по-вашему, было задержано? Два столетия назад Бентли прочел intermissaв связке с bella: отложена была война, мистер Фрай, а не Венера, и – да, и вы, мистер Карсен, а также и вы, мисс Фробишер, доброе утро, вы ведь извините, что мы начали без вас, – и теперь все становится ясно, не так ли? Через десять лет после того, как поэт объявил в Книге третьей, что он отказывается от любви, он вновь ощущает желание и просит пощады: «Венера, зовешь ли ты меня вновь к оружию после долгого перемирия? Пощади меня, умоляю тебя, умоляю тебя!» Мисс Фробишер улыбается по причине мне неведомой. Если бы Иисус Назорей имел перед собой пример мисс Фробишер, сдающей на диплом латиниста Экзаменационному совету Лондонского университетского колледжа, ему не понадобилось бы прибегать к верблюдам и игольным ушкам [120], а имя мисс Фробишер неожиданно обнаружилось бы в стихе девятнадцать в Евангелии от Матфея, как и еще более неожиданное имя Лондонского университетского колледжа. Ваше имя не мисс Фробишер? Как ваше имя? Мисс Бертон. Я нижайше прошу прощения. Принимаю поправку. Если бы Иисус Назорей имел перед собой пример мисс Бертон, сдающей… О боже, я надеюсь, вы не из-за меня плачете. Вам все равно? Вам безразлично, что я заставил вас плакать? О, мисс Бертон, вам хоть что-то должно быть небезразлично. Вся жизнь в том, чтобы различать. Вот пятидесятилетний Гораций притворяется, что ему безразлично, строка двадцать девять, те nec feminanec puer, iamnec spesanimicredulamutui – где здесь глагол? кто-нибудь? iuvat, спасибо, меня не восхищает, что? ни женщина, ни мальчик, ни spescredula, легковерная надежда, animimutui, доверчивая надежда на возвращение любви, nec, ни, это уже четвертое «ни», пятое будет перед «но», поэтому мы и называем такой текст поэтическим, – nec certareiuvatтет – состязания в винопитии, пока обойдемся этим, и nec – что? – nec vincirenovistemporafloribus, истолкованное мистером Ховардом как привязывание новых цветов к голове, Теннисон от таких слов удавился бы, – не важно, перед нами безразличный Гораций [121]: я не вижу удовольствия ни в женщине, ни в мальчике, ни в доверчивой надежде на возвращение любви, ни в состязательном винопитии, ни в украшении чела венком из свежесорванных цветов – но – sed – сиг heu, Ligurine, cur…
Джексон бежит в нашу сторону из темноты, не приближаясь.
…но почему, Лигурин, почему, увы, эта непривычная слеза стекает по моей щеке? – почему гибкий язык спотыкается и немеет, когда я говорю? Ночью, во сне, я крепко обнимаю тебя, я бегу за тобой по Марсову полю, я следую за тобой в бурные воды, но ты не ведаешь жалости.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Вершина Фасги на закате. Хаусмен, двадцати двух лет, и Кэтрин Хаусмен [122], девятнадцати, смотрят на запад. Ветерок.
Хаусмен…Всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Неффалимову, и всю землю Ефремову и Манассиину, и всю землю Иудину, даже до западного моря, но не Уэльс, который отдаю методистам.
Кейт. Что же произошло, Альфред?
Хаусмен. Все хотели это знать.
Кейт. Тут не до шуток. Все боятся тебя теперь, кроме меня, да и я тоже боюсь. Для отца это удар – хотя к ударам ему не привыкать. У нас теперь скупятся, ходят на цыпочках, зимой разжигают одну печку. У Клеменс каждый грош на счету. А ведь мистер Миллингтон всегда говорил: будь она мальчиком, он был бы рад видеть ее среди своих шестиклассников.
Хаусмен. По мнению Миллингтона, худшее, что могло со мной стрястись, – это хорошая выпускная отметка вместо отличной. Что ж, он ошибался. Да, он просил меня время от времени вести уроки латыни в шестом классе – этакий акт милосердия. Я буду преподавать маленькому Базилю.
Кейт. Мне бы хотелось, чтобы ты поучил меня, – я не такая уж тупица. Как-то раз ты собрал нас на лужайке, чтобы показать солнце и планеты. Я была Землей и выделывала пируэты вокруг Лоренса [123], а ты бегал за мной по кругу и изображал Луну. И по сей день это все, что я знаю из астрономии. Так, значит, ты будешь учителем?
Хаусмен. Только пока не пройду экзамена на государственную службу [124].
Кейт. На государственную службу?
Хаусмен. Буду чиновником Ее Величества.
Кейт. Как дипломат?
Хаусмен. Точно. Или как почтальон. Мой друг Джексон поступил в Бюро патентов Ее Величества. Читальный зал Британского музея там неподалеку. Я собираюсь продолжать занятия классикой. Посмотри-ка на Кли, какими синими становятся холмы, когда заходит солнце!
Кейт. Ах да! Наша Земля Обетованная!
Хаусмен. Я перестал верить в Бога, кстати.
Кейт. Ох уж мне эти оксфордские штучки.
Хаусмен. Я ждал у реки друзей, Джексона и Полларда. Джексона ты не знаешь. Поллард – это тот, кто к нам однажды приезжал. Мама осудила его за то, что он не сумел незаметно для нее подойти к двери уборной, не смог прокрасться как положено… Я ждал их на скамейке у реки, и меня осенило, что я одинок и помощи ждать неоткуда.
Кейт. Мама умерла бы, если б услышала тебя.
Хаусмен. Я не буду упоминать это в семейных молитвах.
Кейт. В Оксфорде ты поумнел. Ты хоть помнишь, какой была наша мама?
Хаусмен. Да, когда она болела, я все время сидел рядом с ней. Мы вместе молились, чтобы она поправилась, и она говорила со мной так, будто я совсем взрослый.
Кейт. Она ведь тебя слышит.
Хаусмен. В это я перестал верить, когда мне было тринадцать.
Кейт. Тогда ты просто наказывал Бога за то, что она умерла.
Хаусмен. И клянусь Богом, Ему еще нести наказание.
Темнота.
Свет на поющего Банторна [125] из «Пэйшенс» Гилберта [126] и Салливана [127].
Банторн (поет).
Банторн уходит.
Ночная вокзальная платформа, ветка подземно-наземной железной дороги.
Двадцатитрехлетний Хаусмен и двадцатичетырехлетний Джексон в служебных костюмах ожидают поезда. У Хаусмена в руках «Филологический журнал», у Джексона – вечерняя газета.
Джексон. Это было величественно, не так ли? Настоящая веха, Хаус!
Хаусмен. Мне кажется, это было… довольно мило…
Джексон. Довольно мило? Это же перелом! Д'Ойли Карт [129] сделал театр современным.
Хаусмен (удивленно). Ты имеешь в виду, Гилберт и Салливан?
Джексон. Что? Нет. Нет, театр.
Хаусмен. А, понимаю.
Джексон. Первый театр, полностью освещенный электричеством!
Хаусмен. Милый старина Мо…
Джексон. Новый «Савой» Д'Ойли Карта – это триумф.
Хаусмен. Ты – единственный лондонский театральный критик, достойный своего имени. «Новый, электрифицированный „Савой" – это триумф. Презренный, освещенный мерцающим газом Сент-Джеймс…»
Джексон (одновременно). А, я знаю, ты просто дразнишь меня…
Хаусмен. «…сумеречный зловонный Хей-маркет… ненаучный Адельфи…»
Джексон. Но ведь это было восхитительно, правда, Хаус? Всякий век думает, что он модерный, а на самом деле – только наш. Электричество изменит все. Все! Нам сегодня прислали электрический корсет.
Хаусмен. Он что, лампочками загорается?
Джексон. Я никогда так раньше не думал, но в каком-то смысле Бюро патентов стоит у самых врат нового века.
Хаусмен. Эксперты по электрическим спецификациям, может быть, и стоят, но у нас в Торговых марках все иначе. Ко мне сегодня пришли леденцы от кашля, запрос на регистрацию торговой марки в виде изысканно скорбного жирафа. Это задело весьма тонкие материи в регистрационном уставе. Выяснилось, что, вообще говоря, у нас уже учтен жираф с двенадцатью целлюлоидными воротничками разных стилей на шее, но – в этом весь фокус – мы регистрировали счастливого жирафа, по сути самодовольно ликующего жирафа. Возникает вопрос: является ли наш жираф платоническим? должны ли все богоданные жирафы in esse et inposse [130] быть отнесены к компании «Новые воротнички Хаундстича»?
Джексон. Значит, это правда – классическое образование везде выручит.
Хаусмен. Я посоветовался с коллегой Чемберленом – он составляет новый указатель, – мне кажется, он слегка не в себе, этот Чемберлен, он поместил Иоанна Крестителя в «Мифологические персонажи»…
Джексон. Знаешь, что о тебе говорят?
Хаусмен…а монаха с пивной кружкой – в «Библейские герои».
Джексон. Может, скажешь мне, что произошло?
Хаусмен. О, мы решили в пользу леденцов. Джексон. Говорят, ты нарочно провалил экзамен.
Хаусмен. Кто, Поллард?
Джексон. Нет. Но его вызывали, чтобы расспросить о тебе.
Хаусмен. Я видел Полларда в Читальном зале.
Джексон. И что он тебе сказал?
Хаусмен. Ничего. Это был Читальный зал. Мы обменялись быстрыми гримасами.
Джексон. Мы оба получили что хотели. Поллард в Британском музее, да и я уже в должности эксперта на три сотни в год и с перспективами… Ты был умнее нас обоих, Хаус!
Хаусмен. Я не получил того, что хотел, это правда, но я хочу то, что у меня есть.
Джексон. Копаться в бумагах за тридцать восемь шиллингов в неделю.
Хаусмен. Зато мы вместе, ты и я, мы вместе обедаем, спешим к одному поезду на работу, да и работа легкая, у меня остается время на классику… дружба для меня все, иногда я так счастлив, что голова кругом идет, – а потом, взгляни, и у меня есть перспективы! Меня напечатали! (Показывает Джексону журнал.) Я приберегал это для какао.
Джексон. Однако!
Хаусмен. «Филологический журнал». Видишь?
Джексон. «Горациана»… «А. Э. Хаусмен» – однако!… Что это?
Хаусмен. Рассказываю людям, о чем именно писал Гораций.
Джексон. Гораций!
Хаусмен. Всего лишь отрывки. По-настоящему я работаю над Проперцием.
Джексон. Молодчина, Хаус! Это нужно отметить!
Хаусмен. Мы и отметили – поэтому я и…
Джексон (припоминает). Ох, я же тебе еще должен за…
Хаусмен. Нет, это была моя идея, все равно тебе в спектакле пришлись по душе одни электрики.
Джексон. Девушки были симпатичные и музыка, – вот только сюжет.
Хаусмен. Вся эта вещица довольно бестолковая.
Джексон. Ты же говорил – милая. Ты не должен со мной все время соглашаться.
Хаусмен. Я и не соглашаюсь!
Джексон. Нет, соглашаешься. Знаешь, Хаус, тебе нужно тверже стоять на своем.
Хаусмен. Ну, это ты хватил. Как будто я не сказал только что Ричарду Бентли, что его securesque [131]в три, двадцать шесть никуда не годится!
Джексон. Кто? A, veni, vidi, vici… Знаешь, что меня раздражает? Этот приятель, да и все они не заслужили такой шумихи – сам посуди, ну какая от него польза?
Хаусмен. Польза?… Я знаю, что он не так полезен, как электричество, но это весьма увлекательно – обнаружить нечто…
Джексон. Что?
Хаусмен…быть первым человеком, кто за тысячу лет прочел стих так, как он был написан. Что?
Джексон. Я говорю про эстетов, про спектакль…
Хаусмен. А!
Джексон. Меня раздражает, как с ним носятся – газету не открыть, а все эти рисунки в «Панче» [132], стоит только ему заикнуться про то, какой он эстет и насколько он лучше обычных людей, занятых почтенным ремеслом… Я вот о чем – сам он что в жизни сделал? Тут еще и оперетта, не приведи господи, теперь о нем весь город будет шуметь вдвое больше. Что он такого сделал, интересно знать.
Хаусмен. Ну, я… У него есть книга стихов.
Джексон. Я против поэзии ничего не имею, не подумай, я, как все, люблю хороший стишок, но ведь Теннисон не снует по Пикадилли, не пытается умничать, правда? Эти его позы, его наряды… если ты меня спросишь, Хаус, по-моему, это просто не по-мужски.
Хаусмен. Это не он к вам приходил с электрическим корсетом?
Джексон. В Оксфорде таких было несколько, я помню.
Хаусмен. Помнишь, он сказал, что твой голеностоп – это поэма?
Джексон. Который?
Хаусмен. Левый. Ах, Уайльд. Оскар Уайльд.
Джексон. Оскар Уайльд был с нами в Оксфорде?
Хаусмен. В год, когда мы поступили, он окончил классику с высшим баллом. Я ходил к Уоррену, его наставнику в Магдалине. Ты разве не помнишь?
Джексон. Был такой Уилд, увлекался крикетом, стоял слева от воротец…
Хаусмен. Нет, нет… Голубой фарфор.
Джексон. Постой. Бархатные бриджи! Черт побери! Знал же я, что у него не все дома.
Шум и огни приближающегося поезда. Темнота. Комната, возможно бильярдная, в Лондонском клубе, ночь, 1885 год.
Лябушер [133] и Гаррис [134]: вероятно, во фраках с бабочками, например, с бренди и сигарами, играют, или не играют, в бильярд. Третий, Стэд [135], – в почти изношенном деловом костюме. У него окладистая борода и фанатичный взгляд пророка. Он профессионально просматривает газету.
Лябушер. Мы изобрели Оскара, воплотили его. Потом выпустили в свет. Потом мы взвинтили на него цены. Когда Д'Ойли Карт вывозил «Пэйшенс» в Нью-Йорк, у него появилась идея захватить с собой в Америку Оскара, чтобы выставлять для рекламы в качестве оригинального экспоната эстетизма. И Оскар оправдал доверие прежде, чем сошел с корабля, – «Мистер Уайльд разочарован Атлантикой», – помните, Стэд? Вы дали ему место в «Гэзетт», а я напечатал ответ в «Трут» – «Атлантика разочарована мистером Уайльдом». Я хорошенько расхвалил его, а Оскар, не ведая, что это всего лишь трюк, говорил людям по ту сторону океана: «Генри Лябушер – один из моих героев» – в общем и целом весьма удовлетворительно провернутое дельце. Но теперь он уходит от нас. Где бы мы ни резали нить, этот бумажный змей никак не упадет. И плутовать не приходится, а его акции все растут. Когда он вернулся домой и имел наглость провести лекцию на Пикадилли о своих американских впечатлениях, я тиснул три колонки под заголовком «ExitOscar». Я объявил его никчемным женоподобным пустозвоном; он, несомненно, был удивлен. Я подсчитал, сколько раз он употребил слова «прекрасный», «милый» и «очаровательный», и счет дошел до восьмидесяти шести. После такого, кажется, любой пойдет ко дну – ничуть не бывало… Он объездил провинцию, и люди платили немалые деньги, чтобы им рассказали, насколько они провинциальны… насколько их дома уродливы внутри и снаружи, их одежды безвкусны, их мужья серы, жены примитивны, а мнения об искусстве – ничтожны. Между тем сам Оскар ничего в этой жизни не сделал.
Гаррис. Вы взялись не за тот конец нити, Лабби.
Лябушер. Все выше, выше и выше… Это колеблет веру в то, что нравственным универсумом движет журналистика.
Стэд. Нас поражает бесцельная стрела, стрела, оснащенная одним из наших перьев.
Гаррис. Вам бы, старина, Ветхий Завет редактировать.
Лябушер. Он и редактирует.
Стэд. В «Пэлл-Мэлл гэзетт» достаточно много от Завета, чтобы Господь стоял за моим плечом. И Он был со мной вчера, когда я – да, я! – заставил парламент принять поправку к Уголовному кодексу [136].
Гаррис. Знаете, Стэд, многие считают, что вы сумасшедший. Они так думали и раньше – прежде чем вы купили тринадцатилетнюю девственницу [137] за пять фунтов для того только, чтобы подкрепить свою точку зрения. Выходка превосходная, не отрицаю – даже снимаю шляпу. Когда я принял «Ивнинг ньюз», я взялся редактировать эту газету так хорошо, как только мог в двадцать восемь лет. Тираж не шелохнулся. Тогда я стал редактировать ее как четырнадцатилетний юнец. Тираж начал расти и к прежним цифрам уже не возвращался.
Стэд. Нет, ради всего святого, Гаррис! В верных руках перо редактора – это скипетр власти! Еще при нас жизнь может вернуть себе великолепие героической эпохи. В свою первую кампанию, в бытность мою молодым провинциалом, я поднял весь север против русской политики лорда Биконсфилда [138] и турецких зверств в Болгарии. «Честь болгарских дев, – говорил я своим читателям, – находится в руках дарлингтонских избирателей». Я явственно слышал призыв Господа в тысяча восемьсот семьдесят шестом; я услышал его вновь в прошлом году, когда заставил правительство направить генерала Гордона [139] в Хартум; и я слышал голос в ходе той кампании, которая сегодня поместила тринадцати-, четырнадцати– и пятнадцатилетних девственниц под опеку парламента.
Гаррис. Генералу Гордону отсекли голову.
Стэд. Отсекли ее или нет…
Гаррис. Отсекли.
Стэд…мы, журналисты, наделены богоданной миссией служить народу трибунами.
Гаррис. Для меня как журналиста Русско-турецкая война стала боевым крещением. Я был с генералом Скобелевым при Плевне [140].
Лябушер (Стэду). Я – член парламента. Мне не нужно быть журналистом, чтобы служить трибуном народа. (Гаррису.) Нет, не были, Фрэнк. Вы тогда жили в Брайтоне. (Стэду.) Поправка к Уголовному кодексу составлена плохо и, как я утверждаю в своей статье, принесет больше вреда, чем пользы. (Гаррису.) В семьдесят шестом вы были учителем французского в Брайтон-колледже, по крайней мере, так вы сказали Хатти в антракте «Федры».
Гаррис. Это был полет фантазии.
Лябушер (Стэду). Ваш законопроект следовало отправить на переработку в специальный комитет [141]. И отправили бы, если б вы не изводили правительство своими отвратными статьями.
Гаррис. Парламент исстари покровительствовал британским девственницам, но обыкновенно по системе «первым пришел, первым получил».
Лябушер. Вы заставили «Пэлл-Мэлл гэзетт» выглядеть сенсационной, хотя ничего сенсационного в ней нет. Ваша кампания «в защиту девственниц» оскорбляет все приличия – вы дали мальчишкам-разносчикам прочесть о грязных проделках, которые касаются не кого иного, как их сестер.
Гаррис. Правда ли, что вы поймали мышь в конторе «Гэзетт», положили ее на тост и съели?
Стэд. Истинная правда. (Лябушеру.) Когда я приехал с севера, из Дарлингтона, работать в «Гэзетт»…
Гаррис. С юга.
Стэд…она распродавала не больше тринадцати тысяч экземпляров, да и этого не заслуживала, поскольку отпугивала читателя.
Гаррис. С юга.
Стэд. Я ввел подзаголовок в восемьдесят первом, иллюстрацию в восемьдесят втором, интервью в восемьдесят третьем, редакторскую колонку, авторские статьи…
Лябушер. Зачем вы ели мышь?
Стэд. Я хотел знать, какая она на вкус.
Лябушер. Спросили бы меня. Я ел их в Париже в дни осады, и крыс, и мышей.
Стэд. Я изобрел Новую журналистику [142]!
Лябушер. Мы не перешли на крыс, пока не съели всех кошек.
Стэд. Я дал добродетели голос, которого не заглушить никакому парламенту.
Лябушер. Тогда мы стали есть собак. Когда кончились собаки, мы взялись за зверей в зоопарке.
Стэд. Статья первая! Совершеннолетний возраст поднят с тринадцати до шестнадцати лет.
Лябушер. Я отсылал депеши воздушными шарами – и сделал себе имя. Я предполагаю, вы тоже были в осажденном Париже, Фрэнк?
Гаррис. Нет, в тысяча восемьсот семидесятом я строил Бруклинский мост.
Стэд. Статья вторая! Девочки, чья нравственность под угрозой, могут быть отняты у родителей по решению суда.
Лябушер. Вот уж этой статьей не воспользуются никогда.
Стэд. Но ведь это была ваша поправка.
Лябушер. Всякий разумный человек подбрасывает такие поправки с задних скамей единственно для того, чтобы правительство осознало, какой бурдой его пичкают, и отказалось их рассматривать. Я подал предложение поднять совершеннолетний возраст до двадцати одного, и двое проголосовали «за». Мое последнее достижение – это поправка о непристойных деяниях между мужчинами, и, господи помилуй, она прошла как по маслу – хотя не имела ни малейшей связи с тем законом, который мы собирались обсуждать; обычно такие отклоняют за несоответствие повестке дня, но все торопились покончить с делами, отложить парламентскую сессию и перейти ко всеобщим выборам.
Стэд. Но… но вы, разумеется, намеревались обуздать вашим законом современный порок?
Лябушер. Ничего подобного. Я намеревался выставить этот закон абсурдным для всякого разумного человека, который еще оставался в полупустой Палате… Но этот чудак, должно быть, вышел, и теперь за французские поцелуи и… сами знаете что пара парней может получить два года заключения с тяжелыми работами или без оных, даже если эти двое резвятся в собственном доме, за закрытыми дверьми. В странном мире мы живем, не правда ли?
Стэд. В таком случае ваши проказы оказались своевременными. По всем приметам Лондон низвергается в бездну извращенного эротизма, сопутствовавшего падению Греции и Рима.
Лябушер. Что еще за приметы?
Стэд. Скепсис в отношении возвышенной нравственности; вкус к чувственному и запретному во французской литературе. Наши эстеты равняются на пороки Парижа, которые я не смею именовать, но пороки эти столь одиозны, что им следовало бы запретить пересекать границу Франции.
Гаррис. Вообще, в Греции и Риме содомия едва ли связывалась с пристрастием к французским романам. Это была культура атлетических площадок и ратных полей; как в Спарте, например, или в Священном отряде фиванских юношей. Так вышло, что я путешествовал по Греции в октябре тысяча восемьсот восьмидесятого, когда пешком, когда верхом; находил приют в монастырях или в пастушьих хижинах, пока не прибыл в Фивы. Там работал немецкий археолог, который представился мне Шлиманом [143].
Лябушер. Гаррис, вы когда-нибудь говорили правду?
Гаррис. Он сказал нам, что молодой грек только что отыскал очень большое захоронение в Херонее, рядом, вернее, под каменным львом, воздвигнутым Филиппом Македонским в память о победе триста тридцать восьмого года до нашей эры. Помните, это в битве при Херонее, по Плутарху, сто пятьдесят пар любовников поклялись охранять Фивы от захватчиков, сражались и умерли все до единого. Так вот, я оставался там, пока мы не раскопали двести девяносто семь скелетов, захороненных бок о бок.
Лябушер. Так это были вы!
Гаррис. Они лежали в два слоя, плотно, как сардины. И по сей день видно, как македонские копья раскраивали им руки, ребра, черепа… Самая удивительная картина, какую мне приходилось видеть.
Открытая местность. Летний день, 1885 год. Двадцатишестилетний Хаусмен удобно лежит на траве, читая «Филологический журнал». Чемберлен, того же возраста, сидит, читает «Дейли телеграф» [144] или что-то в этом роде. Они невнимательно следят за пригородными атлетическими соревнованиями, звуки которых – вялые аплодисменты, выкрики вразнобой, возможно, музыка – слышатся вдалеке. Рядом на траве пакет с пивными бутылками и сэндвичами.
Чемберлен. Что скажешь, Хаусмен? Пять фунтов за девственницу. Это, интересно, за один раз?…
Хаусмен. С одной девственницей два раза не выйдет.
Чемберлен…или покупаешь ее насовсем? – это имел в виду. До чего доходят парламентские отчеты.
Хаусмен. Это на четверть мили выстроились? Я не вижу Джексона.
Чемберлен. В таком случае это другой забег.
Чayсмен (возбужденно). Ты уверен? Мы не для того приехали в Илинг [145], чтобы его пропустить.
Чемберлен. «Мистер Лябушер, либерал, Нортгемптон…» – ну он им сейчас задаст…
Хаусмен. Или это полмили?
Чемберлен. По старту никак не скажешь, все зависит от того, где они остановятся. «Поправка мистера Лябушера…» О боже, о боже, о боже, теперь лазейка открыта для любого вымогателя в городе. Всё про тебя проведают, будьте покойны. И это пишет Лябушер, выпускник Итона и Тринити [146], – он-то чем возмущен?
Хаусмен. Мне все-таки кажется, это четверть мили. (Встает на отдаленный звук стартового пистолета.) Ты видишь его?
Чемберлен наконец отрывается от газеты.
Чемберлен. Четверть мили – это забег без препятствий, правда? – а здесь барьеры. (Возвращается к газете.)
Хаусмен (облегченно). Ах да… он бежит после двухсот двадцати с препятствиями.
Чемберлен. Уже поздно.
Xаусмен. Нет, еще двести двадцать ярдов…
Чемберлен. Сядь. Ты как нервная барышня.
Далекие выкрики, редкие аплодисменты. Чемберлен изучает газету.
Не обижайся, старина. Ты мне нравишься больше всех. Мне даже нравится, как ты привязан к Джексону. Но он никогда не захочет того, чего хочешь ты. Тебе придется отыскать это в другом человеке, или ты останешься несчастлив, бесконечно несчастлив. Я-то знаю, о чем говорю. Я не против, чтобы ты про меня знал. Ты не разболтаешь на работе. Ты – самый прямой, добрый человек из моих друзей, и мне горько за тебя, вот и все. Извини, если я некстати.
Выстрел стартового пистолета вдалеке. Чемберлен встает. Они смотрят на бегунов молча, отчужденно, безучастно. Забег занимает около минуты: паузы и реплики проходят в реальном времени.
Долгая пауза.
Он будет в первой тройке, если выдержит темп.
Хаусмен (глядя на бегунов). Чего я хочу?
Чемберлен. Ничего, что ты назвал бы непристойным; да я и сам ничего дурного в этом не вижу. Ты хочешь быть его соратником, хочешь, чтобы он был твоим… вместе испытать кораблекрушение, совершить доблестные деяния, чтобы заслужить его восхищение, спасти от неминуемой смерти, умереть за него – умереть на его руках, подобно спартанцу, приняв губами единственный его поцелуй… а пока просто быть у него мальчиком на посылках. Ты хочешь, чтобы он знал о невыразимом и отвечал тебе на том же языке. (Пауза. Все еще ровным тоном.) Он победит. (Наконец гонка захватывает его, и он приходит в возбуждение, когда бегуны пробегают перед ними.) Честное слово, победит! Давай, Джексон! Патенты – вперед!… Он победил!
В безыскусной радости Чемберлен хлопает Хаусмена по спине. Хаусмен оттаивает и присоединяется к ликованию.
Хаусмен. Победил!
Чемберлен. Надо было принести шампанского!
Хаусмен. Нет, он любит библейский напиток. (Смущенно.) Я…
Чемберлен. Давай же – у меня от этих бегов жажда.
Двадцатишестилетний Поллард, разгоряченный и взволнованный, прибывает в служебном костюме, с субботним вечерним выпуском «Пинк уан» [147].
Поллард. Хаусмен! Вот ты где! Это была четверть мили?
Хаусмен. Поллард, тупица! Ты все пропустил! Он победил!
Поллард. Черт побери! Ну, ты понимаешь, про что я. Я и на минуту раньше не мог прийти. Со станции я бежал, наверное, быстрее Джексона. (Чемберлену.) Как поживаете?
Хаусмен. Чемберлен, Поллард; Поллард, Чемберлен.
Чемберлен. Очень приятно познакомиться.
Хаусмен. Он из Британского музея [148].
Поллард (Чемберлену). Но не экспонат, я работаю в библиотеке.
Хаусмен. Экспонат-экспонат… (Поправляет воротничок и галстук на Полларде.) Вот, смотри. Так-то. У нас пикник.
Поллард. А, акриды и мед.
Хаусмен. Мы втроем часто спускались на лодке в Аид, на пикник, – где Мо?
Поллард. Это было всего один раз.
Хаусмен. Мы были неразлучны в Сент-Джоне…
Чемберлен. Аид?…
Хаусмен. Ах да! Чемберлен ведь специалист по Крестителю, известному мифологическому герою.
Поллард. Вот как?
Чемберлен. Он угодил на обертку для бисквитов. Я знаю, в это непросто поверить, но у нас, в Реестре торговых марок, предубеждений нет.
Хаусмен. Вот и он – victorludorum [149]
Джексон присоединяется к ним.
Поллард. Ave Ligurine [150].
Хаусмен. Молодчина, Мо!
Чемберлен. Браво! Какое у вас время?
Джексон. Ох, я не знаю, это всего лишь забег, не подымайте шума. Наверное, пятьдесят четыре. Приветствую, Поллард. (Принимает бутылку пива от Хаусмена.) Спасибо. Это по-спортивному. И сэндвичи!
Чемберлен (предлагая сэндвичи). Дань старости – красоте.
Джексон (отказывается). Сперва переоденусь. (Полларду.) Принес «Пинк уан»? Настоящий друг. (Берет газету.) Как там австралийцы [151]?
Поллард. Где?
Джексон Ну, право слово, Поллард! (Смеясь, уходит с пивом и газетой.)
Поллард. В сегодняшней газете все о белых рабах. Очевидно, мы держим первое место в мире по экспорту молодых женщин в Бельгию.
Чемберлен. Пресса отвратительно раздувает этот скандал.
Роллард. Задувает?
Чемберлен. Не задувает. Раздувает.
Поллард. О!
Поллард и Хаусмен встречаются взглядами и улыбаются одной и той же мысли.
Чемберлен (после паузы). М-да, верно, так и не догадаешься.
Хаусмен. Догадываться не о чем. Прежде чем начали печатать книги, зачастую один человек диктовал двум или трем переписчикам…
Поллард. Затем, сотни лет спустя, в одном месте обнаруживался манускрипт, где значилось «раздували», а в другом месте – второй манускрипт, где было написано «задували», только, естественно, на латыни. А люди вроде Хаусмена теперь спорят, что же автор в самом деле написал. Здесь, в журнале, есть что-то твое?
Чемберлен. Для чего?
Хаусмен. Нет.
Поллард. А потом и копии перебеляли, и теперь вдосталь можно спорить, которая из них возникла раньше и у кого из писцов были вредные привычки, – развлечению нет предела.
Чемберлен. Но как определить правильное слово, если они оба подходят по смыслу?
Хаусмен. Одно из них всегда будет подходить лучше, если проникнуть в разум писателя без предубеждений.
Поллард. А потом ты напечатаешь в статье, что на деле это было «обдувать».
Чемберлен. Для чего?
Поллард. Для чего? Чтобы другие могли написать статьи о том, что там написано «подавать» или «радовать».
Чемберлен. Бросили бы монетку. Я бы так и сделал.
Поллард. Еще один недурной метод. Я дурачусь, Хаусмен, перестань дуться.
Чемберлен (встает). Мне пора, извинитесь за меня перед Джексоном. У меня встреча в Вест-Энде, в пять.
Поллард. Поездов еще много.
Чемберлен. Я приехал на велосипеде.
Поллард. Боже!
Чемберлен. Было приятно с вами познакомиться.
Поллард. Взаимно. Что ж, не заставляйте даму ждать!
Чемберлен. О, вы разгадали мою тайну. Спасибо, Хаусмен. Увидимся в понедельник.
Хаусмен. Жаль, что тебе нужно уходить. Спасибо.
Чемберлен. Ну, этого бы я не пропустил.
Поллард. И я тоже.
Чемберлен. Но вы-то как раз опоздали.
Поллард. Ах, вы о забеге.
Чемберлен уходит.
Хаусмен. Нет нужды говорить о нем Джексону – расстроится. Почему ты назвал его Лигурином?
Поллард. Разве он не Лигурин? Разве не так же бежит по Марсову полю? (Достает из кармана двадцать рукописных страниц.) Спасибо за статью [152].
Хаусмен. Что ты думаешь?
Поллард. Ты ведь не ожидаешь, что я смогу судить об этом. Я не изучал Проперция.
Хаусмен. Но ты читал его.
Поллард. Читал несколько элегий на третьем году, но, на мой вкус, Проперций слишком шероховат.
Хаусмен. Да, на мой тоже.
Поллард. Но…
Хаусмен. Чтобы стать ученым, тебе в первую очередь нужно усвоить, что наука не имеет ничего общего со вкусом; говорю тебе это как чиновник высшего разряда на патентной службе Ее Величества. Проперций показался мне садом, садом запущенным, не особенно интересным, но – какие перспективы! – он просто умолял, чтобы в нем навели порядок. Всякие простофили считали, что они уже справились с работой… повалили деревья, чтобы рассадить свои одуванчики. На сегодня я исправил вульгату [153] в двухстах местах.
Поллард смеется.
Правда, исправил.
Поллард. Я верю.
Хаусмен. Что же тебя смущает?
Поллард. Знаешь, тон твоих замечаний – от него просто дух замирает. Пока я читаю твою статью, это не страшно, потому что я знаю, старина, какой ты мягкий и славный, но ведь между учеными не принято такое обхождение?
Хаусмен (с легкостью). А! Бентли и Скалигер [154] были куда грубее.
Поллард. Но они жили сотни лет назад, а ты пока еще не Бентли. Кто такой этот Постгейт [155]?
Хаусмен. Хороший человек, один из лучших молодых критиков Проперция…
Поллард. Как?! (Ищет на последней странице.)
Хаусмен…он – профессор в Лондонском университетском колледже.
Поллард (зачитывает), «…лишает смысла всю элегию от начала до конца…»
Хаусмен. Но так и есть. Этими его voces [156]в тридцать третьей строке впору детей пугать.
Поллард. «…впрочем, мне представляется, что эти соображения к настоящему моменту уже пришли на ум мистеру Постгейту или были подсказаны ему одним из друзей…» Как это неуважительно!
Xаусмен. Ты намекаешь, что я всего лишь клерк в Бюро патентов?
Поллард (горячо). Нет! Я не это говорил!
Xаусмен. Извини. Давай не будем ссориться. Выпей еще библейского напитка.
Открывают две бутылки пива.
Поллард (объясняет). Я что говорю: предположим, однажды ты выставишь свою кандидатуру на место лектора в Университетском колледже, а мистер Постгейт будет в отборочной комиссии.
Хаусмен. В Университетский колледж я подам только на место главы кафедры.
Поллард (смеется). О… Хаусмен, что из тебя выйдет?
Хаусмен. Ты – единственный мой друг, который в этих материях понимает, так не разочаровывай меня. Если я и веду себя неуважительно, то лишь оттого, что ставки высоки. В эту игру не всякий способен играть. Я только сейчас понял, что мне сказать Чемберлену, – науке не пристало уклоняться от нападок. Наука ближе всего подступает к нашей человеческой сути. Наука – это бесполезное знание, накопленное ради знания. И полезное знание – тоже благо, но им довольствуются малодушные. Наука есть совершенствование того, что истинно; ее удел – проливать свет, не важно на что, не важно где; наука и есть свет – против тьмы; наука – это то, что остается от замысла Божьего, если из него изъять Бога. Не сочти, что я равнодушен к поэзии. Это не так. Diffugerenivesпронзает меня как копье. Никто не сумел лучше Горация облечь в слова то, что ты умрешь, станешь прах и тень, и никакие добрые дела и красноречие не вернут тебя обратно. Я думаю, это самый прекрасный стих из всех, написанных на латинском или греческом; но в пятнадцатой строке Гораций не писал dives [157], как значится во всех книгах, и я уверен, я знаю, что он написал. Каждый, кто спрашивает: «И что с того?» – упраздняет те пять веков, которые сделали нас людьми; не зря наше время называется гуманизмом. Восстановление античных текстов – величайшая задача для человечества, благослови господи Эразма [158]. Эта работа необходима. Будущее скоро расправляется с рукописями: наука – лишь скудное возмещение того, что нелепо отнято у нас. Погибают не одни никчемные. Иисус никого не спасет и не сохранит.
Поллард. Хватит, хватит, Хаусмен! Солнышко сияет, сегодня суббота! Я счастлив! Лучшие выживают потому, что они лучшие.
Хаусмен. Ох… Поллард! Тебе приходилось видеть поле после жатвы? Стерня, на которой тут и там беспорядочно колышутся стебельки, спасшиеся чудом, непостижимо. Почему именно эти? Причины не отыскать. «Медея» Овидия [159], «Фиест» Вария [160], который был другом Вергилия и, говорят, не уступал ему, потерянная трилогия Эсхила о Троянской войне… колосья, сжатые для забвения, вместе с сотнями греческих и римских авторов, ныне известных лишь по фрагментам или именам… вот они топорщатся то тут, то там, злак, мак, чертополох, – но умысла за этим нет.
Поллард. Я знаю, чего ты хочешь.
Хаусмен. Чего же я хочу?
Поллард. Монумент. Здесь был Хаусмен.
Хаусмен. О, ты разгадал мою тайну.
Поллард. Куличик из песка против приливной волны.
Хаусмен. Мило ты отзываешься о моем
издании Проперция.
Поллард (поднимая тост). За тебя и твоего Проперция. Кто это с Джексоном? Ты знаком с ней?
Хаусмен. Нет. Да. Она заходила в контору.
Поллард. Ну хорошо, не пялься так.
Хаусмен. Я и не пялюсь.
Поллард (поднимая тост). За тебя совокупно с библиотекой Британского музея! Накопленная сумма достижений человечества!
Хаусмен (поднимая тост). Держать оборону против естественного и милосердного отмирания нечитаемого! Сколь это по-британски. Возвращать рукопись…
Поллард. Все закончилось? Люди, кажется, уходят.
Хаусмен начинает паковать припасы.
Хаусмен. Когда представишь то затхлое море, которое люди напрудили за историю книгопечатания, поневоле задумаешься, такое ли это благодеяние для цивилизации. Я размышляю об этом всякий раз, когда открываю «Филологический журнал».
Нет. Они собираются… О, призы раздают! Пойдем!
Уходят. Хаусмен подбирает сумку с остатками пиршества.
Ночь.
Джексон в пижаме и халате читает вслух с рукописной страницы; в поле зрения может находиться серебряный призовой кубок.
Джексон.
Слушает голос
М-м… Это ты написал?
Входит Хаусмен с двумя чашками какао. Он одет по-домашнему.
Хаусмен. Это более или менее Сафо.
Джексон (раздумывает). М-м… А как звали того, который писал про поцелуи?
Хаусмен. Катулл. «Дай мне тысячу поцелуев, а затем еще сто».
Джексон. Да. Она, правда, может подумать, что это слишком смело. Мне надо, чтобы в стихе было, какой я несчастный и как я корю ее за неверность, но при этом готов простить. Как там было, что я вырезаю ее имя на деревьях? [162]
Хаусмен. Проперций. Но если говорить всерьез, то ты чересчур буянишь. Она всего-то сказала, что останется дома вымыть голову.
Джексон. Но у меня уже билеты были и все прочее! После того как я был у нее под каблуком…
Хаусмен. Quinque tibi potui servire (fideliter annos). [163]
Джексон. Что?
Хаусмен. Пять лет был верный твой раб.
Джексон. Точно. По крайней мере, две недели.
Хаусмен. Наше затруднение в том, что в стихах, где ее упрекают, она выглядит как шлюха, а в счастливых стихах она выглядит… гм… как твоя шлюха… так что я думаю, лучше выбрать какой-нибудь carpe diem [164], собирай розовые бутоны, пока можешь [165]. «В могиле жить укромно и прелестно, но в ней, увы, объятьям нету места». [166]
Джексон. Она ни за что не поверит, что я это написал.
Xаусмен. Старина Мо, что из тебя выйдет?
Джексон. Прямо в партере.
Хаусмен. Ну, если так! «И если такова цена за поцелуй, то этот я приму последним от тебя» – посвящено, естественно, мальчику, но это несущественно, – кстати, любопытная поэма: vester вместо tuns…
Джексон. Она думает, что ты на меня глаз положил.
Хаусмен…множественное число вместо единственного, первое употребление. Что?
Джексон. Роза говорит, ты на меня глаз положил.
Хаусмен. В каком смысле?
Джексон. Ну, сам понимаешь.
Хаусмен. А ты что сказал?
Джексон. Что это ерунда. Мы – товарищи. Мы с оксфордской поры товарищи: ты, я и Поллард.
Хаусмен. А про Полларда она тоже думает, что он на тебя глаз положил?
Джексон. О Полларде она не говорила. Хаус, ты ведь ничего такого… правда?
Хаусмен. Ты мой лучший друг.
Джексон. Я и сказал ей, как…
Хаусмен. Тезей и Пирифой.
Джексон. Три мушкетера.
Хаусмен. А она что ответила?
Джексон. Что не читала.
Хаусмен. Я не понимаю. Ты хочешь сказать, что она это решила в субботу, когда мы вместе возвращались на поезде из Илинга?
Джексон. Похоже на то. Да. Странно, что Чемберлен приходил в тот день.
Хаусмен. Почему?
Джексон. Ну, просто странно. Странное совпадение. Я как раз собирался об этом упомянуть.
Хаусмен. О чем упомянуть?
Джексон. Что тебе, может быть, не стоит с ним особенно сближаться, это могут неверно понять.
Хаусмен. Ты думаешь, Чемберлен на меня глаз положил?
Джексон. Нет, конечно нет. Но о нем всякое поговаривают в конторе. Извини, что я вспомнил о нем. Ох, какой я чурбан неотесанный, – но ведь ты в порядке по этой части, правда, Хаус? Видишь, у меня все серьезно с Розой, она не такая, как все девушки, ее даже девушкой не назовешь, да ты сам видел, она – женщина, и мы любим друг друга.
Хаусмен. Я рад за тебя, Мо. Она мне очень понравилась.
Джексон (обрадованно). Правда? Я знал, что она тебе понравится. Ты – добрый мой друг, и я, надеюсь, тоже тебе друг. Я знал, что стоит мне тебя спросить – и на этом все закончится. Я ей скажу, что она просто с ума сошла. Дашь мне руку?
Джексон протягивает руку, Хаусмен пожимает.
Хаусмен. С радостью.
Джексон. Друзья.
Хаусмен. Соратники.
Джексон. Как эти… как их там…
Xауcмен. Тезей и Пирифой. Они были царями. Они встретились на бранном поле, чтобы сражаться насмерть. Но, увидев друг друга, оба были поражены и восхищены соперником, так что стали соратниками и вместе прошли через множество испытаний. Тезей нигде не был так счастлив, как со своим другом. Они не положили глаз друг на друга. Они любили друг друга, как мужчины любили в тот героический век, добродетельно, соединенные легендой и поэзией и ставшие образцом товарищества, рыцарским идеалом добродетели античного мира. Добродетель! Что с ней стало? Долго – столетиями – еще у Сократа – считалось добродетельным восхищаться прекрасным юношей; добродетель видели в том, чтобы быть прекрасным и вызывать восхищение; эта же добродетель, пусть грубее и бледнее, все еще сохранялась у моих поэтических римлян, которые боролись за женщин или мальчиков, по выбору; для Горация было благовидным занятием проливать слезы о Лигурине на атлетическом поле. Теперь уж нет, а, Мо? Добродетель – это то, что назначено терять женщинам, все прочее – порок. Поллард тоже чувствует, что я на тебя глаз положил, хотя едва ли об этом задумывается. Ты не будешь против, если я найду жилье поближе к тебе?
Джексон. Зачем тебе? Ох…
Хаусмен. Мы ведь останемся друзьями, правда?
Джексон. Ох!
Хау смен. Конечно, Роза догадалась! Конечно, она должна была догадаться!
Джексон. Ох!
Хаусмен. Неужели ты даже на минуту не догадался?
Джексон. Как я мог догадаться? Ты выглядишь совершенно… ну, нормальным. Ты ведь не из этих эстетов… (гневно) как я мог догадаться?!
Хаусмен. А если бы я одевался как три мушкетера, ты бы тогда заподозрил? Ты – половина моей жизни. Мы устраивали пикник в Аиде. Там, на острове, была собака, дружелюбная потерявшаяся собака, даже не мокрая – вот ведь чудеса, – она впрыгнула к нам в лодку, чтобы мы ее спасли. Помнишь собаку? Мы с Поллардом спорили о том, что лучше для поэзии – английский или латынь, и склоняли собаку на разные лады: потерянный пес любит молодого человека – пес молодого потерянный человека любит, любит потерянный молодого человека пес. В этом латынь не переплюнешь: перетасуй слова по желанию, и окончания подскажут тебе, кто кого любит, кто молодой, кто потерялся; если не читаешь на латыни, в этой беседе тебе делать нечего, сиди дома. Ты поцеловал собаку. После того дня все прочее казалось мне тщетным и смехотворным: смехотворная мысль, что жизнь равна учебному курсу…
Джексон (озадаченно). Собака?
Хаусмен (выкрикивает). Если бы ты ничего не сказал! Мы бы так и жили дальше!
Джексон (объявляет). Это не твоя вина. Вот что я тебе скажу. Это ужасно, но это не твоя вина. Я не брошу в тебя первым камень. [167](Пауза.) Мы будем как прежде.
Хаусмен. Ты это серьезно?
Джексон. От меня никто ни о чем не узнает. Мы так долго были друзьями.
Хаусмен. Спасибо.
Джексон. Какая беда… но это будет наша тайна. Ты легко найдешь приличное жилье в этой округе. Мы будем ездить одним поездом на работу, как раньше, и, держу пари, ты сам не заметишь, как встретишь хорошую девушку, и мы втроем – с Розой – еще похихикаем над этой историей. Как тебе план? Кажется, я тебя удивил! Идет? Дай руку.
Джексон протягивает руку. Темнота, свет на Хаусмена.
Хаусмен.
Свет на АЭХ.
АЭХ.
Полжизни – прочь, и я продолжил путь [169].
Хаусмен погружается в темноту.
АЭХ сидит за столом, на столе книги, чернильница, перо. В то же время в другом месте – встреча отборочной комиссии [170]. Среди них Председатель, двое или более участников, называемых «комиссией», и Постгейт.
Все – в академических мантиях.
АЭХ. Сплю я или бодрствую? [171] Мы прибываем вечером на поле сражения, где лежат двести трупов. Сто девяносто семь из них безбороды, у сто девяносто восьмого пушок на подбородке, у сто девяносто девятого – фальшивая борода сбилась под левое ухо, двухсотый обезглавлен, и головы не найти. Вопрос: была на последней голове борода обычная, борода фальшивая или никакая? Мистер Бюхелер [172] вам ответит. Была борода, борода на подбородке, логика тут простая. Поскольку рукопись понесла ущерб, то, по-видимому, утерянная часть заключала в себе то, что желательно мистеру Бюхелеру: а ученые так и не сумели обнаружить ошибку в его выкладках.
Председатель (читает из письма). «На протяжении последних десяти лет изучение классической науки занимало преимущественную долю моего досуга…»
АЭХ. Но я долго жил среди людей.
Председатель. Копии рекомендаций мистера Хаусмена прилагаются.
АЭХ. Конъектуры, в разумении мистера Маркса [173], делятся на три сорта: во-первых, конъектуры самого мистера Маркса, во-вторых, конъектуры человечества вообще и, в-третьих, конъектуры отдельных одиозных персон.
Комиссия. Чиновник Почтовой службы?
Председатель. Патентной службы… вот поощрительные письма от профессоров латыни из Оксфорда и Кембриджа, латыни и греческого из Дублина, вот редактор ClassicalReview… Уоррен, президент Магдалины…
АЭХ. Широта и разнообразие невежества Фрэнкена [174] восхитительны. По глупости замысла и неряшливости исполнения его apparatusmucusпревосходит apparatusБрейтера [175] в издании Манилия, и я еще не видывал другого, о котором бы можно было сказать подобное.
Председатель (Постгейту). Он пользуется расположением коллег?
АЭX. При очной ставке с двумя рукописями равного достоинства он начинает уподобляться ослу меж двух охапок сена и смятенно воображать, что, если одну охапку отнимут, он перестанет быть ослом.
Постгейт. Он… широко известен.
АЭX. Его заметки порочны настолько, таким клубком спутаны в них всевозможные бессмыслицы, что любые опровержения словно бы неуместны; главную же цель автор видит в замалчивании полезных сведений, с тем чтобы освободить место для долгого перечня своих конъектур, которые бесчестят человеческий интеллект.
Комиссия (читают). «Когда мистер Хаусмен принял мой шестой класс, он показал себя внимательным и благожелательным учителем…»
АЭX. Обладая низкой литературной культурой, он не отвратится от безграмотного, не смутится оскорбительным и посмакует шероховатое; при этом он готов защищать pronosпротив privos [176]Бентли как крайне поэтичную конъектуру; Бентли, однако, никогда не отрицал, что эта фраза поэтична, он лишь отрицал, что это – латынь.
Комиссия (читают). «Проницательность и тщательность, недостающие Бентли…» Это
Уоррен. «…Один из наиболее интересных и привлекательных учеников на моей памяти…»
Председатель…и Робинсон Эллис из Тринити… «Лично я всегда находил мистера Хаусмена приятным и скромным человеком».
АЭX. Ни одному слову не уберечься от Эл-лиса, если ему на ум придет другое, не хуже прежнего. Пытаться следовать за его мыслью – все равно как быть в постоянном общении с ребенком-идиотом. Он – прирожденный ненавистник науки, который наполняет страницы до половины отстоями итальянского Ренессанса и, взывая к читательским суевериям, пытается убедить их, что собирает с терновника виноград и с репейника смоквы [177].
Председатель. Что ж… Профессор Постгейт?
Постгейт. М-м-м.
АЭХ. Глубокий сон охватывает болезненную чуткость мистера Постгейта, когда дело доходит до modo [178]в строке одиннадцать, и здесь грамматике можно лишь пожелать доброго сна.
Комиссия. Да. Что вы скажете, Постгейт?
АЭX. Когда дело доходит до Постгейтовых vocesвместо noctes [179]в тридцать третьей, я положительно теряю дар речи.
Постгейт. Я вынужден заявить личный интерес.
АЭX (продолжает). Этой поправкой Постгейт лишает смысла всю элегию от начала до конца.
Постгейт. Мистер Хаусмен подал прошение на этот пост по моему настоянию. Я думаю, весьма вероятно, что он – ведущий ученый-классик в Англии. Хотя он не всегда прав насчет Проперция.
Председатель (закрывает собрание). Тетpusfugit. Nunc est bibendum! [180]
Комиссия удаляется.
АЭХ. Только я, не без раздумий и труда, привел этот малолюбопытный сад в приличествующий порядок, мистер Постгейт принялся прорубать дыру в заборе с вдохновенной целью восстановить в рукописях Проперция хаос. Все орудия, им используемые, обоюдоостры, хотя каждое из лезвий затупилось. Не без тягостных чувств, я все же считаю своим долгом…
Свет на Постгейта.
Постгейт (сердито). Ваша stemma codicum [181]порочна до самого основания, а если не выбирать выражений, она целиком ложна. Ваш просчет в том, что вы полагаетесь на датировку Неаполитануса [182] по Беренсу.
АЭХ. Вы видели статью?
Постгейт. Я приступаю к написанию ответа. Я намереваюсь вас осрамить.
АЭХ. Статью.
Постгейт. О…
АЭX. Оскар Уайльд арестован.
Постгейт. О…
АЭX. Я и понятия не имел, что задену вас, Постгейт.
Постгейт уходит.
Свет на Стэда, Лябушера и Гарриса – все с открытыми газетами. Возможно, в вагоне поезда.
Стэд. Признан виновным и приговорен к двум годам тяжелых работ!
Лябушер (читает). «Культ эстетизма в его отвратительной форме пресечен».
Гаррис (читает). «Откройте окна! Впустите свежий воздух!… от нашего Театрального Критика».
Лябушер. Осужден по статье из поправки Лябушера!
АЭХ.
Гаррис. Я умолял его покинуть страну. Я ждал его с закрытым кэбом на Гайд Парк Корнер и с яхтой в Грейвсенде, чтобы забрать во Францию…
Лябушер (Стэду). Два года совершенно несоразмерны. (Гаррису.) Нет, Фрэнк. Ты пригласил его пировать в CaféRoyal. (Стэду.) Я добивался максимального приговора в семь лет.
Гаррис…с ужином из омаров на борту и бутылкой «Поммери», а также с маленьким собранием французских и английских книг.
Лябушер. Послушай, никакая не яхта, а столик в CaféRoyal. (Стэду.) Генеральный прокурор убедил меня, что нерешительные присяжные скорее утвердят приговор в два года.
Гаррис. Ты ведь выступил с поправкой, чтобы провалить законопроект, – ты сам мне это рассказывал.
Лябушер. Кто же поверит тебе!
Стэд. Если бы вкусы Оскара Уайльда касались свежих невинных девиц лет, скажем, шестнадцати, никто бы его и пальцем не тронул.
Лябушер. Я провел эту поправку, потому что Стэд известил меня прямо перед прениями, что в некоторых районах Лондона проблема непристойного поведения среди мужчин столь же серьезна, как проблема с девицами.
Гаррис. В некоторых районах Лондона нет ни малейшей проблемы с девицами.
Стэд. Что касается девиц, то просвещенному языку лучше умолчать о страстях, царящих в некоторых районах.
Гаррис. Я именно об этом.
Темнота.
АЭХ.
Вплывают трое в лодке. Джером на веслах, Чемберлен (Джордж) пытается играть на банджо, (Фрэнк) Гаррис читает первое издание «Шропширского парня» [185].
Чемберлен, одиннадцатью годами старше, усатый, в полосатом пиджаке ядовитых цветов Джером и Гаррис – в твидовых жилетах и легких брюках с отворотом.
Чемберлен. Та-ра-ра… держи правее, Джей. Та-ра-ра-бум…
Джером. Хочешь взять весла?
Чемберлен. Нет, у тебя прекрасно получается… бум-ди-эй…
Гаррис / Джером. Джордж, заткнись!
Гаррис. Кто-нибудь проголодался?
Чемберлен. Гаррис бездельничает с самого Хенли.
Гаррис. Когда Чемберлен сказал, что мы пойдем вверх по реке, я решил, что речь идет о лодке, которая перевезет людей из одного места в другое. Обратный распорядок мне в голову не приходил. Лично мне не было никакого резона перемещать лодку оттуда, где она была; по мне…
Чемберлен / Джером. Гаррис, заткнись!
Чемберлен. Где мы, Джей?
Джером. Подходим к Редингу.
Чемберлен. Рединг!
Смотрят вперед.
Мы минуем тюрьму?
Джером. Может быть, Оскар увидит, как мы проплываем… В «Савое» он всегда просил комнату с видом на реку.
Гаррис (торжественно). Проститутки плясали на улицах.
Чемберлен. Джей тоже плясал.
Джером. Ничего подобного. Это правда, что в качестве редактора популярной газеты я счел своим долгом выразить протест, но я не испытываю гордости от того факта, что я, как, по-видимому, и все прочие, кто косвенным образом нес ответственность за трагически развернувшееся…
Чемберлен / Гаррис. Заткнись, Джей!
Джером. Я не раскаиваюсь. Я бы, может быть, раскаялся, если бы он утаивал свой злосчастный порок как джентльмен.
Чемберлен. Например, позируя в роли джентльмена.
Джером. Именно. Его труды тоже не будут долговечны. Декаданс – это тупиковый путь в английской жизни и словесности. Здоровый юмор и дивные добрые небылицы. Загляните в Шекспира.
Чемберлен. Или в твои книги.
Джером. Об этом не мне судить.
Чемберлен. Верно, Гаррис, хватай его за ноги.
Джером. Эти стихи мне дал Робби Росс [186]. Робби заучил несколько наизусть, чтобы прочесть Оскару на свидании в тюрьме.
Джером. Ах да, Госси [187] как-то рассказывал мне, кто этот Хаусбот, которого Робби так любит.
Гаррис. Не Хаусбот. А. Э. Хаусмен.
Чемберлен. Альфред Хаусмен?
Гаррис. Похоже, он сошелся с дурными людьми в Шропшире. Никогда еще не читал книг о том, что мертвым быть лучше, чем живым.
Чемберлен. Это он!
Гаррис. Никакого спасу нет: если тебя не застрелили, не повесили и не зарезали, иди и убей себя сам. Жизнь – вот проклятие, жизнь – вот беда, Бог – недотепа, вишневый цвет – мил весьма.
Чемберлен. Он профессор латыни.
Джером. Но повадки у него греческие, а, Джордж?
Чемберлен. Года три или четыре назад он был простым клерком в нашей конторе.
Джером. В смысле, уранические повадки.
Чемберлен. Как это определить?
Джером. Я бы смог. Есть ли что-то необычное в том, как он одевается?
Гаррис. В отличие, например, от Джорджа?
Джером. Ловко он подметил, а, Джордж?
Чемберлен. Подтяни-ка весло, Джей.
Джером. Хочешь взять весла?
Лодка уплывает.
Одинокий АЭХ стоит под звездным небом. В отдалении – фейерверк. Юбилейная ночь [188], июнь 1897 года.
АЭХ.
Чемберлен, того же возраста, что на лодке, но в обычной одежде, присоединяется к АЭХ на вершине холма.
Чемберлен (одновременно с АЭХ).
АЭХ (обрадованно). Чемберлен! Я не вспоминал о тебе много лет! У тебя усы!
Чемберлен. Привет, старина. Насчет усов не уверен, но что-то эдакое на мне растет.
АЭХ. Растет, и недурно.
Чемберлен. Только подумать, ты дожил до пожилых лет. Я бы на тебя и шестипенсовика не поставил, такой уж у тебя был вид тогда.
АЭХ. Когда?
Чемберлен. Да почти постоянно. Ну то есть не в счастливые дни. А когда Джексон уехал учителем в Индию. Нет – еще раньше. Нет – позже, когда он вернулся домой, чтобы жениться. Нет – раньше; тогда тебя не могли найти неделю. Я еще подумал: ищите в реке, тут и гадать не надо. Но ты вернулся даже не промокнув. Я ведь говорил тебе, правда?
АЭХ. Говорил? Ах да, ты говорил мне.
Чемберлен. Впрочем, иначе ты бы, наверное, не написал стихов.
АЭХ. Это правда.
Чемберлен. «Злой ветер из той далекой страны пронзает дубравы и рощи» [190].
АЭХ. Если позволишь, я дам тебе совет, Чемберлен; не перевирай стихи, когда хочешь показать автору, что ты их читал.
Чемберлен. Я цитирую слово в слово. «О, быть бы нам вместе, спиною к спине, плыть через лето…» [191] Что сталось с Джексоном?
АЭХ. Он вышел в отставку, поселился в Британской Колумбии, умер от рака.
Чемберлен. «Пусть лавр и расцветает раньше, быстрее розы вянет он». [192]
АЭХ. Это отвратная привычка, Чемберлен, – я запрещаю тебе.
Чемберлен. Но мне нравятся эти стихи, честное слово. Дубравы и рощи. Препоны. Сукровица. Старые добрые словеса. Никогда не знал, что они значат. Но – настоящая поэзия, ничего не скажешь. А ты – изрядный плут. Ты, должно быть, все время писал стихи в Торговых марках.
АЭХ. Не особенно. На меня что-то нашло двумя годами позже, в начале девяносто пятого, какой-то зуд. За пять месяцев того года я написал половину книги, пока не начал остывать. Это было время странного возбуждения.
Чемберлен. Процесс Оскара Уайльда.
АЭХ. Право слово, Чемберлен. Тебе бы биографией заняться.
Чемберлен. А что это за крестьянские сынки и пахари из Шропшира, которые мрут как мухи? Те, что не пошли служить королеве и не сгинули в чужих краях.
АЭХ. Ландшафт моего воображения.
Чемберлен. «Поскольку любил тебя больше, чем достойно мужчине любить…» [193]
АЭХ. Ты не мог бы утихомириться?
Чемберлен.
Ты посылал их Джексону – те, что не вошли в книгу?
АЭХ. Нет.
Чемберлен. Ждал, пока умрешь?
АЭX. Я делал это из учтивости. Исповедь – не что иное, как насилие над невинным. Видишь фейерверк? Бриллиантовый юбилей старой королевы. Я ведь был викторианским поэтом, не забывай.
Те же и Кэтрин. Ей – тридцать пять.
Чемберлен остается.
Кейт. От Кли костер до небес горит! [195]
АЭХ. Грандиозное зрелище. Я насчитал пятьдесят два костра на юге и на западе. В Малверне был самый большой, но он прогорел за час.
Кейт. Хороший костер в Кленте. Мальчики там.
АЭ X. Я их знаю?
Кейт. Твои племянники, Альфред!
АЭ X. Ах, твои мальчики, их я определенно знаю.
Кейт. И Миллингтоны с ними. Миссис
М. говорит, что гид по Шропширу из тебя никакой, – она поехала, чтобы взглянуть на церковь Хали, и у здания даже шпиля не оказалось, не говоря уж о кладбище самоубийц.
АЭХ. Последнее легко поправить. Я никак не ожидал, что книжка за два шиллинга и шесть пенсов, у которой едва разошелся первый тираж в пятьсот экземпляров, привлечет в Хали паломников. Я там даже не бывал, мне просто понравилось название.
Кейт. Лоренс считал, что он у нас в семье поэт, а теперь он знает «Шропширского парня» наизусть и декламирует любимые строки. В разговоре с ним кто-то назвал твою книгу любимой.
АЭX. Я только надеюсь, что никто не приписывает стихов Лоренса мне.
Кейт. Это так мило, что он гордится тобой.
АЭХ. Да-да, мило.
Кейт. Мы все гордимся и восхищаемся. Клэм сказала: «У Альфреда есть сердце!»
АЭX. Ничего подобного. Я был подавлен… из-за больного горла [196], которое все не хотело проходить. В таком виде я мог писать стихи годами, но, по счастью, вспомнил сорт пилюль от кашля и излечился.
Кейт. Больное горло?!
АЭХ. В наказание за несдержанность в журнальной полемике. Ты умно поступила, Кейт, что прикинулась дурочкой, прежде чем тебя смогли раскусить.
Кейт. О, послушай! Жаворонки решили,
что уже заря.
АЭХ. Или конец света.
Кейт. Эх ты! Все тот же старина Альфред.
(Уходит.)
АЭX. Но я намереваюсь перемениться. Еще порадую дневную сиделку тем, что начну развлекать всю больницу Эвелин. Я ввел в практику популярный стиль лекционного чтения; основа стиля в том, чтобы, читая, замечать присутствие студентов. Я еще вызову сенсацию тем, что обращусь с репликой к своему соседу за обедом в Холле. Пока что я размышляю над репликой. В Тринити у меня репутация придиры и мизантропа. Некоторые говорят, что это всего лишь застенчивость, – грубияны и дураки. Тем не менее я полон решимости. Дружелюбие – это способность терпеть дураков с радостью, и Кембридж предоставляет неограниченные просторы, чтобы упражняться в этом удовольствии. Я учредил в Тринити crиme brыlйe, но если этого окажется недостаточно, то примусь беседовать с людьми. Ты все еще ездишь на велосипеде?
Чемберлен. Да, у меня «робертсон». Я знаком с твоим братом Лоренсом. Мы принадлежим к своего рода тайному обществу, «Орден Херо-неи», вроде Священного отряда Фив. У нас это скорее дискуссионная группа. Мы обсуждаем, как нам себя именовать. Недавно предложили имя – «гомосексуалисты».
АЭХ. Гомосексуалисты?
Чемберлен. Пока мы безымянны – нас будто нет.
АЭХ. Гомосексуалисты? Кто в ответе за это варварство?
Чемберлен. А что здесь плохого?
АЭX. Это наполовину латынь, наполовину греческий!
Чемберлен. Похоже, ты прав. Кстати, что случилось со мной?
АЭХ. Откуда мне знать? Верно, превратился в постраничную сноску. (Прислушивается.) Слушай!
Слабо играет «Марсельеза».
Чемберлен. «Марсельеза». Необычно, правда? Для юбилея королевы.
АЭХ. Оскар Уайльд жил во Франции, на побережье у Дьепа. Я послал ему книгу, когда он вышел из тюрьмы.
Чемберлен погружается в темноту.
Слабый отзвук детских голосов, поющих «Марсельезу», перебивает сильный звучный голос Оскара Уайльда. Он декламирует.
Уайльд, сорока одного года, читает из собственного экземпляра «Шропширского парня». Он пьет бренди и курит сигарету.
Вокруг него следы детского праздника в честь бриллиантового юбилея: гирлянды, Юнион Джеки [197] и триколоры [198], остатки большого разукрашенного торта.
Уайльд.
Этот стих Робби не заучивал [200], но не все ваши поэмы были мне в новинку, когда я вскрыл ваш пакет.
АЭХ. Мои стихи – стоит им зазвучать – словно докучливые друзья.
Уайльд.
АЭХ. Я читал отчет о разбирательстве в «Ивнинг стандард».
Уайльд. О, хвала небесам! Вот почему я не поверил ни единому слову в вашей поэме.
АЭХ. Но это правда.
Уайльд. Отнюдь, это лишь факт. Правда – совершенно другая материя; это работа воображения.
АЭХ. Я уверяю вас. Это случилось вскоре после вашего процесса. Он был кадетом из Вулича [201]. Вышиб себе мозги, чтобы не жить в позоре и не навлечь позор на других. Он оставил письмо для следователя.
Уайльд. Само собой, оставил, и вам стоило бы отправить свою поэму следователю. Искусство занимается исключениями, не типами. Типы – это материал для фактов. Вот тип молодого человека, который застрелился. Он прочел об одном самоубийце в «Ивнинг ньюс» и сам застрелился в «Ивнинг стандард».
АЭХ. Но, позвольте!
Уайльд.
Опять-таки, если бы он не застрелился до чтения вашей поэмы, застрелился бы после. Я не лишен сантиментов. Я даже осмелюсь предположить, что разрыдался бы, прочти я ту газету. Но от этого газета не становится поэзией. Искусство не может быть подчинено своему объекту, иначе это не искусство, но биография, а биография – это сито, которым нашу настоящую жизнь не уловить. Обо мне говорили, будто я ходил по Пикадилли с лилией в руке. Мне даже не пришлось этого делать. Сделать нечто – пустяк; заставить говорить, что ты сделал нечто, – вот что важно. Теперь это правда обо мне. У шекспировской Смуглой Леди, вероятно, было зловонное дыхание, – почти у всех пахло изо рта, пока я не дошел до третьего года в Оксфорде, – но искренность – это враг искусства. Вот чему научил меня Пейтер и что Рёскин так и не смог усвоить. Рёскин обращал добродетель в грех. Бедный Пейтер, может, и обратил бы грех в добродетель, но, как и вашему кадету, ему не хватало мужества, чтобы действовать. Я завтракал с Рёскином. На чай пришел Пейтер. Один – импотент, другой – трус: оба они боролись за мою артистическую душу. Но я подхватил сифилис у проститутки, и мои зубы почернели [203] от лечения ртутью. Мы встречались в Оксфорде?
АЭХ. Нет. Однажды мы напечатали стихи в одном журнале. Мое посвящалось умершей матушке. Ваше было о зверствах турок в Болгарии.
Уайльд. О да, я поклялся не прикасаться к турецкому шампанскому и есть исключительно болгарский рахат-лукум. Вы любите торт? Я пригласил пятнадцать детей из деревни, чтобы отпраздновать юбилей. Мы поднимали тосты за королеву и президента Республики, а дети кричали: «Vive Monsieur Melmoth». Месье Мельмот [204] – это я. Мы ели клубнику, и шоколад с гранатовым сиропом, и торт, и каждый ушел с подарком. Это была одна из самых удачных пирушек. Вы бывали на моих пирушках в Лондоне? Нет? Но у нас должны быть общие друзья. Бернард Шоу? Фрэнк Гаррис? Бердслей [205]? Лябушер? Уистлер [206]? У. Т. Стэд? Вы знали Генри Ирвинга [207]? Лили Лэнгтри [208]? Нет? Принца Уэльского? У вас были друзья?
АЭХ. У меня были коллеги.
Уайльд. Однажды я купил ворох лилий в Ковент-Гардене, чтобы подарить мисс Лэнгтри, и пока я ждал кэб, какой-то мальчик сказал мне: «Ох, какой вы богатый!…» «Ох, какой вы богатый!» (Плачет.) О… простите меня. Меня несколько расстроил… торт. Я старался отказаться от него; всякий раз, слабея, я выпивал стакан коньяку; часто я по целым дням не ем торта; но юбилей сломил мою волю, я позволил себе светский эклер и не помнил более ничего, пока не очнулся в груде печений. О, Бози [209]! (Плачет.) Я должен вернуться к нему, понимаете? Робби будет в бешенстве, но тут ничего не поделать. Измена другу – как пушок на весах любви, но об измене самому себе сожалеешь всю жизнь. Бози – вот что из меня вышло. Он испорчен, мстителен, крайне эгоистичен и не слишком одарен, но это лишь факты. Правда в том, что он был Гиацинтом, когда Аполлон полюбил Гиацинта, он весь – слоновая кость и золото, с его губ, подобных розовым лепесткам, исходит музыка, которая наполняет меня восторгом, он единственный, кто меня понимает. «Когда прорезываются зубы, бывает зуд; так же раздражена душа того, кто взирает на красоту юноши; он не может ни спать ночью, ни днем оставаться на одном месте» [210], и еще много тому подобного, но прежде чем Платон смог описать любовь, нужно было изобрести возлюбленного. Мы бы не знали любви, если б могли видеть дальше собственного изобретения. Бози – мое творение, моя поэма. Любовь открыла себя в зеркале изобретения. Тогда лишь мы увидели, что творили, – сжимали кусок льда в кулаке, который не удержать и не выпустить. (Плачет.) Вы так добры, что слушаете меня.
АЭХ. Нет. Моя жизнь отмечена долгими молчаньями. Первая конъектура, которую я опубликовал, была из Горация. Шестью годами позже я от нее отказался. Проперция я отложил в сторону чуть ли не пятьдесят лет назад в надежде, что обнаружится лучший список. Мне казалось важным переждать, если есть хоть малейшая надежда на восстановление текста. Пока – тишина. Тем временем я защищал классических авторов от поправок идиотов и издал Овидия, Ювенала, Лукана и, наконец, Манилия, которого посвятил моему товарищу Мозесу Джексону, – это и все, вот мой песочный замок близ разрушительного моря. Не считая классики, моя жизнь оказалась не настолько короткой, чтобы избежать ошибок, которых я хотел избежать; но ошибок было не много, и шакалы раскопают их с трудом. Я несколько раз переезжал; однажды, как говорят, из-за того, что во время обычной поездки в университет со мной заговорил незнакомец. Это не так, но это правда обо мне. В год бриллиантового юбилея я впервые отправился за границу.
Уайльд. Вот и мой лодочник. От него я узнал, что вы профессор латыни. Впрочем, он щедр на титулы и частенько жалует профессорским званием весьма неподходящих особ. Хотя многие из них и правда оказываются главами кафедр в наших старейших университетах.
АЭX. Я сожалею о вас. Ваша жизнь – ужасна. Хронологическая ошибка. Выбор не всегда находился между самоотречением и безрассудством. Вам нужно было родиться в Мегаре, где творил Феогнид [211], – он даровал любовнику песнь, пропетую на все века, – но не сегодня, когда в цене жертвенность и воздержность, когда дурная слава стала памятником вашей безымянной злосчастной любви.
Уайльд. Мой дорогой коллега, сто франков помогли бы мне больше ваших утешений. Лучше быть павшей ракетой, чем жить без вспышек. В своем Аду Данте отвел место для тех, кто по своей воле пребывает в унынии, – как он говорит, печалится в эфирной сладости [212]. «Честь» ваша – это один лишь стыд, и боязливость, и потворство. Незапятнанность! Художник всегда тайный преступник среди людей. Он – ходатай прогресса перед властью. Вы были правы, став ученым. Ученый весь в колебаниях, у художника их нет. Художник должен лгать, мошенничать, обманывать, быть неверным природе и непочтительным к истории. Я превратил жизнь в искусство и в этом безоговорочно преуспел. Пламя моей жертвы осветило каждый уголок страны, где бесчисленные молодые люди прозябали поодиночке во мраке. Что бы я делал в Мегаре?! Подумайте, сколько бы я упустил! Я разбудил воображение эпохи. Я столкнул Рёскина и Пейтера лбами; из суровой морали одного и эстетской души другого я сделал искусство философией, которой не стыдно заглянуть в глаза двадцатому веку. У меня был гений, блеск, дерзание, я взял собственный миф в свои руки. Я погрузил посох в улей с диким медом. Я вкусил запретной сладости и испил от похищенных вод [213]. Я жил в поворотной точке, когда все в мире просыпалось заново: Новая драма, Новый роман, Новая журналистика, Новый гедонизм, Новое язычество, даже – Новая женщина. Где были вы, когда все это происходило?
АЭХ. Дома.
Уайльд. Не могли бы вы хотя бы обзавестись Новым портным? Мы плывем вместе?
АЭХ. Нет, я подъеду позже.
Уайльд. Вы не вспомнили о своих стихах. Как можете вы быть несчастливы, зная, что вы их написали? Они единственные имеют значение.
Перевозчик помогает Уайльду взойти на борт.
Но вы не мой лодочник! Себастьян Мель-мот a votre service.
Лодочник. Садитесь посредине.
Уайльд. Разумеется.
Лодочник отплывает с Уайльдом.
Хаусмен сидит на скамье у реки, рядом на скамье несколько книг.
АЭX. Могу я спросить, чем вы здесь занимаетесь?
Хаусмен. Классикой, сэр.
АЭX. А, разумеется. На каком вы году сейчас?
Хаусмен. Это мой последний год.
АЭХ. Мой тоже; на деле я уже почти мертв. А как вы себя чувствуете? (Берет у Хаусмена книгу.)
Хаусмен. Неплохо, благодарю вас, сэр.
АЭХ. Проперций!
Хаусмен. Первый из римских элегиков. Вообще, Проперция не задавали для экзаменов. Мне стоило бы подучиться, все ожидают, что я получу высший балл. И моя семья тоже. Я старший, и я всегда был… отличником… Мне бы отложить Проперция, но мы и так уже опаздываем! В следующем году кое-кто выпускает Проперция, его имя Постгейт. Кто знает, сколько моих конъектур он предвосхитит?
АЭX. Да, кто знает. Кстати, прежде чем вы это напечатаете, – первым из римских элегиков был, строго говоря, не Проперций. Корнелий Галл [214].
Хаусмен. Галл?
АЭХ. Истинно и непреложно.
Хаусмен. Но я не читал его.
АЭX. Я тоже. От Галла осталась одна строка. Остальное погибло.
Хаусмен. О!
АЭХ. Но, строго говоря – что я и делаю во сне, – он был первым.
Хаусмен. Памятник из одной строки!
АЭX. Вергилий посвятил ему поэму: сколько бессмертия требуется человеку? Поэзии Галла, всей, кроме единой строки, словно и не бывало, но его память живет в саду в гиперборейской провинции империи, которая исчезла пятнадцать веков назад. Сделать такое для друга – не так уж мало.
Хаусмен. Да. (Пауза.) Хорошая строка?
АЭX. С большим подтекстом, как водится. Насчет его смерти от любви я не уверен. Он сражался на победившей стороне против Антония и Клеопатры, а затем был поставлен управлять Египтом – недурное выдвижение для поэта. Но он чересчур занесся, и император пожурил его, отчего Галл совершил самоубийство. Но к тому времени он изобрел любовную элегию.
Хаусмен. Его упоминает Проперций. «Недавно, сколь много ран омыл Галл в водах Преисподней, умерший от любви к прекрасной Ликориде!» [215] Недавно. Modo. Только что. Они были живыми людьми друг для друга, вот в чем дело. Знали поэмы друг друга. Знали девушек друг друга. Вергилий все это помещает в золотой век, с флейтами Пана и козопасами, и даже с Аполлоном, – но Вергилию веришь. Живые люди с живой любовью обнажают свои души в поэзии, которая дает бессмертие их любовницам! Все это случилось в такой короткий срок. Как будто при них вся прежняя поэзия сочилась через узкую протоку, где горстка поэтов выжидающе решала, какой быть поэзии впредь. А затем всему пришел конец, и был сотворен любовный стих, любовь, какой она предстает в жизни.
АЭХ. О да, прежде слагали песни… Валентины – в основном на греческом, часто очаровательные… но самовоспевание любви как фарса и бессмыслицы, как омерзительного рабства и всеохватной войны – как сумасшествия, немочи, катастрофы, безропотно принятой и метрически изложенной, – нет; это было в новинку.
Хаусмен. О!
Джексон (за сценой). Хаусмен!
Поллард (за сценой). Хаусмен!
Хаусмен. Извините, меня зовут.
Поллард (за сценой). Хаус! Пикник!
Джексон (за сценой). Акриды! Мед!
Джексон и Поллард подплывают на лодке.
Хаусмен (в сторону лодки). Я здесь.
АЭХ. Мо!
Поллард. Пора.
Хаусмен подходит к лодке и перебирается в нее.
АЭХ. Я бы умер за тебя, но счастье меня обошло!
Хаусмен. Куда мы плывем?
Поллард. В Аид. Держи правее, Джексон.
Джексон. Хочешь взять весла?
Хаусмен. Tendebantque manus ripae ulteri-oris amore [216].
Лодка уплывает.
АЭХ. «И они тянули руки, стремясь к другому берегу». Умника Вергилия удобно превратить в клише. И вот, Вергилий, Эней в Преисподней, души мертвых тянутся через реку ripaeulteriorisamove, лучшей картинки и «Кодаком» не сделать, а непогребенные задержались на столетие в ожидании своей очереди. Я мог бы переждать сотню лет, если бы пришлось. Семьдесят семь проходят слишком быстро. Не то чтобы я их четко запомнил, пока возился в лодке с Мозесом и старым добрым Поллардом летним днем семьдесят девятого, или восьмидесятого, или восемьдесят первого; хотя и нет в этом ничего невозможного, ничего настолько нелепого, что не сошло бы за дневной морок в больничной палате, правда, собака остается под вопросом. И в то же время я недреманный, чуткий ко всем опасностям – архаизмам, анахронизмам, своенравным непоследовательностям, в которых одним только задним умом и устранишь non se-quitur, quietusinterruptus [217]с помощью монолога, изливающегося из ослиных мозгов низшего класса (благодарю покорно, я к нему пока еще не принадлежу); все союзы покатились под откос, хотя и откоса как такового не нашлось, – я все еще дрожу от того первого отвесного падения в bathos, «глубина» на греческом, а в риторике – шутливый спуск от возвышенного к общим местам, как, скажем, от Вергилия к Джерому К. Джерому, пусть даже речь идет о горизонтальном уклоне, а когда это случилось? Ведь среди моих шалостей не найти прогулок по воде, как и отдельно взятых воды и прогулок. Не умерший, не уснувший, где-то посредине, имущий факты и небылицы, удобно обряженный в кожаные ботинки, для которых я был слишком умен и которые – внимание, факт – я отписал в завещании своему слуге в колледже. Они ему были малы, но важен не подарок, а внимание, и вот на что теперь перейдет наше внимание: в декабре тысяча восемьсот девяносто четвертого Джером К. Джером, прославленный автор книги «Трое в одной лодке (не считая собаки)», пошел штурмом на оксфордский журнал «Хамелеон», – который, как писал Джером, был не чем иным, как пропагандой попустительства в отношении противоестественного недуга. За ними, говорил он, должно установить полицейский надзор. Оскар Уайльд поместил в журнале страницу или две эпиграмм, чтобы ублажить одного оксфордского студента, ставшего ему другом, лорда Альфреда Дугласа. Дуглас и сам напечатал поэму – она заканчивалась так: «Я – та любовь, которая назвать себя не смеет» [218]. Статья Джерома подвигнула отца Дугласа на то, чтобы оставить визитку в Албермарл-клаб – «Оскару Уайльду в роли Содомита» [219]. Из этого последовало все, что последовало. Чем я и демонстрирую, что знаю, что делаю, даже когда не знаю, что я это делаю, в часы между подтыканием одеяла и – подъем-подъем – слегка антисептический термометр под язык из закупоренной марлей прелестной вазочки на прикроватной тумбе.
Свет на Джексона, потом на Хаусмена.
Джексон. Что же из тебя выйдет, Хаус?
Хаусмен. [220]
Джексон. Ты же знаешь, мне они никогда не давались – все эти veni, vidi, via…
Хаусмен. Когда ты любезен, я провожу день как бог; когда ты отворачиваешь лицо, мне все темно. Я дам тебе крылья. Ты будешь песней, пропетой в вечность, пока есть земля и солнце. А спустишься в скорбный чертог Аида, никогда – пусть ты и умрешь – не утратить тебе твоей славы.
Хаусмен и Джексон погружаются в темноту. В дымке видно, как Харон перевозит Уайльда через Стикс.
Уайльд. Порочность – это миф, выдуманный одними людьми для объяснения курьезной притягательности других.
Всегда нужно быть несколько неправдоподобным.
Ничто из действительно происходящего не имеет ни малейшей важности.
АЭХ. Золотой век Оксфорда! Власяницы против эстетов; неохристиане против неоязычников, изучение классики ради утверждения прекрасного против изучения классики ради утверждения классических наук – какие страстные бури и – ох! – в каком мелком стакане! Вам нужно было прийти сюда вчера, когда я разыгрывал Аид как положено – с Фуриями, Гарпиями, Горгонами, не считая собаки. Но сейчас мне пора идти. Какое счастье обнаружить себя на этом пустом берегу, с безразличными водами у ног!
Погружается в темноту.
Послесловие
В теле едином моем, что
дивишься ты образам многим?
Проперций, IV, 2
Пьеса британского драматурга Тома Стоппарда «Изобретение любви» была опубликована в 1997 г. и после премьеры в Лондонском Королевском театре вошла в репертуары многих театров англоязычного мира. Герой пьесы – Альфред Эдвард Хаусмен (1859 – 1936), кембриджский профессор латыни и викторианский поэт. Мы предваряем комментарий к пьесе кратким биографическим очерком о Хаусмене.
Альфред Хаусмен родился в семье юриста в британском графстве Вустершир. Хаусмен увлекается классическими языками и поэзией еще в школьные годы: его переводы с латыни, как и собственные стихи, публикуются в местных газетах (позднее Хаусмен запретит перепечатку своих юношеских работ). По окончании школы Кинг Эдвард в Бромсгроуве Хаусмен выиграл конкурс на открытую стипендию в Оксфордский университет и в 1877 г. был принят на классическое отделение в колледж Сент-Джон.
В число оксфордских преподавателей классических языков входили видные филологи, чей вклад в изучение античности ощутим по сей день. Сам предмет и метод классической филологии претерпевают в те годы изменения: на смену литературоведческой критике античных текстов все чаще приходит текстологический анализ, призванный приблизить искаженный временем текст к оригинальному, авторскому. В университете Хаусмен приобретает репутацию блестящего студента, легко проходит промежуточные испытания. В 1887 г. Хаусмен знакомится с Альфредом Поллардом и Мозесом Джексоном; они остаются едва ли не единственными его друзьями в течение всей жизни. Привязанность к Джексону переходит в страсть, которая не встречает взаимности, но не ослабевает. В 1881 г. Хаусмен, которому прочат академическую стезю, проваливает выпускной экзамен. Причины неудачи до сих пор туманны: биографы Хаусмена объясняют ее то излишними занятиями Проперцием, не входившим в экзаменационную программу, то охлаждением в отношениях с Джексоном. Хаусмен возвращается к семье в Бромс-гроув, где в течение года преподает латынь в школе. В следующем году Хаусмен проходит экзамены в Оксфорде, получая низший балл.
Джексон оканчивает Оксфорд с отличием и поступает на службу в Королевское патентное бюро в Лондоне. В 1882 г. Хаусмена принимают в то же учреждение, где он работает в течение десяти лет, одновременно штудируя античных авторов. В 1882 г. JournalofPhilologyпубликует первую научную работу Хаусмена Horatiana. В 1883 – 1885 гг. Хаусмен живет на квартире вместе с Мозесом Джексоном и его братом Адальбертом. После отъезда Мозеса в Индию в 1887 г. Хаусмен живет затворником. Его статьи о текстах Горация, Эсхила, Проперция и Овидия выходят в ведущих филологических журналах; он переводит на английский Горация и Овидия. Критикуя работы коллег, Хаусмен выбирает личный, предельно ядовитый и беспощадный тон; исключения редки и относятся, как правило, к ученым прошлого. Пьеса Стоппарда щедро цитирует полемику Хаусмена. Отметим, что в ряду жертв Хаусмена – элита английской классической филологии: Джоуитт, Джебб, Эллис, Лидделл, Постгейт. Несмотря на свирепость оценок, охват материала и точность наблюдений в работах Хаусмена приносят ему славу лучшего британского ученого-классика. В 1892 г. Хаусмен участвует в конкурсе на место профессора латыни в Лондонском университетском колледже. Академическая репутация Хаусмена перевешивает недостатки его кандидатуры – отсутствие ученых степеней и преподавательского опыта, и после десятилетнего перерыва Хаусмен возвращается в академическую среду.
В 1895 г. Оскару Уайльду, не скрывавшему своих гомосексуальных связей, было предъявлено обвинение в «непристойных деяниях». Рассчитывая отстоять в суде свои убеждения, Уайльд отказывается бежать из страны, и в результате громкого процесса суд приговаривает его к двум годам каторжных работ. Хаусмен, обозначивший свое возмущение судом в дневниковых записях, отреагировал на события своим первым поэтическим сборником «Шропширский парень» (AShropshireLad, 1896). Изданная на средства автора, книга вскоре получила широкое признание: стихи Хаусмена заучивали наизусть, переписывали в альбомы, а графство Шропшир, избранное Хаусменом в качестве места действия, стало объектом массового паломничества.
Популярность поэзии Хаусмена была особенно высока в период Первой мировой войны; многие из его произведений и сегодня считаются хрестоматийными. Позднее вышли поэтические сборники Хаусмена LastPoems(1922), MorePoems(1936).
В годы работы в Лондонском университетском колледже и – с 1911 г. – в Кембридже Хаусмен публикует пятитомное издание поэмы AstronomicaMaнилия (1903-1930), издания Ювенала (1905), Овидия (1920) и Лукана (1926), пишет статьи о текстах Катулла, Овидия, Платона, Марциала, Цицерона, Лукреция и др., рецензирует труды других ученых. По воспоминаниям студентов, в роли преподавателя Хаусмен устрашал студентов жесткостью характеристик и оценок, но «пылкостью вдохновлял интерес к изучаемому предмету». Его авторитет в области классической филологии становится непререкаемым и, подобно Виламовицу в XIX в., Хаусмена называют лучшим филологом-классиком ХХ века. Инаугура-ционная лекция Хаусмена по случаю избрания профессором латинского языка в Кембриджском университете (1911) суммирует взгляды ученого на изучение классических текстов. Хаусмен предостерегает от двух методологических опасностей – слияния филологии с литературной критикой и слияния филологии с точными науками. О первом он говорит:
«Литература настолько чужда науке, что литературный пыл несет в себе угрозу, которую ученый должен быть готов предотвратить. Цель науки – открывать истину, в то время как цель литературы – приносить наслаждение; и две эти цели не только различны, но и несовместимы ‹…›»
Противоположную крайность – формализацию филологии по образцу математики – Хаусмен считает пороком академической среды в Германии.
«‹…› Но анализ и интерпретация классических текстов – не точная наука; и принимать их за таковую было бы ошибкой. Предмет филологии – в последовательности явлений, порожденных игрой человеческого разума; и если вы желаете собрать эти явления воедино и воссоздать прежние условия, которыми они были вызваны к жизни, то вам в последнюю очередь следует обращаться к математику; обратитесь уж лучше к крысолову. Имея дело с изменчивым и ускользающим, вы не сможете воспользоваться избитым методом; для текучей материи жесткие правила суть неверные правила».
В 1897 г. Хаусмен путешествует по Италии, впервые покинув пределы Великобритании. Позже поездки в Европу становятся ежегодными. Мозес Джексон, переехавший с семьей из Индии в Канаду, умер в 1922 г. В преддверии этой смерти Хаусмен ускорил издание сборника LastPoems, чтобы Джексон успел прочесть книгу.
Достигнув высшего признания в двух различных качествах – ученого и литератора, Хаусмен решительно отказывается от почестей и наград. Его жизнь на протяжении многих десятилетий одинока и несчастлива, о чем свидетельствуют его редкие письма родственникам и друзьям. Хаусмен умирает в кембриджской лечебнице от пневмонии в 1936 г. Два собрания неопубликованных стихотворений AdditionalPoems(1937) и CollectedPoems(1939) были изданы посмертно при содействии брата, известного писателя и иллюстратора Лоренса Хаусмена. Статьи по классической филологии собраны в трехтомнике The ClassicalPapersof А. Е. Housman(1972).
Комментарий, прилагаемый к переводу «Изобретения любви», основывается на Драматургическом глоссарии Риан и Шульц (Carrie Ryan, Emily Viscardi Shooltz, InventionofLove: DramaturgicalGlossary). За содействие в работе над комментарием мы благодарим Анастасию Архипову, Александра Потемкина, Андрея Устинова и анонимного рецензента, предоставленного издательским домом Peters Fraser amp; Dunlop Group. Неоценимая помощь в подготовке перевода и комментария оказана Михаилом Гаспаровым.
Переводчик посвящает работу памяти отца, Бориса Купермана (1933 – 2002).
Виктор Куперман,
Екатерина Неклюдова