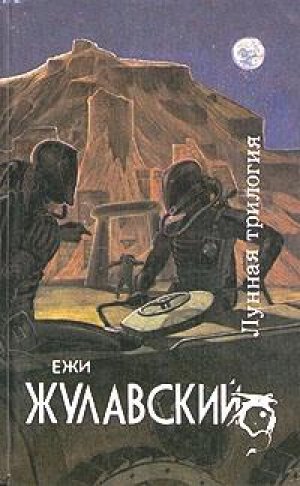
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Они даже не могли определить, сколько прошло времени. Бесконечные часы текли, не отраженные ни на одном циферблате. А снаряд, мчась в межзвездном пространстве, попадал из бездны солнечного света в огромную тень Земли, и тотчас внезапная ночь и холод окружали замкнутых в стальной скорлупке нечаянных путешественников… И вновь во мгновение ока, без всякого перехода путешественники, коченевшие от стужи, охваченные безумным ужасом перед кажущейся вечной ночью, оказывались среди света, который слепил им глаза и чуть ли не докрасна раскалял стены их корабля.
Не было ощущения движения. Только Луна позади делалась все меньше, горела все ярче и постепенно становилась похожа на изменчивое светило, что озаряет земные ночи. Они видели, как с одной стороны ее медленно накрывает тень, врезаясь щербатым полукругом во впервые открывшуюся их глазам Великую пустыню… Зато на черном, усеянном звездами небе росла Земля, раздуваясь до чудовищных размеров. Ее яркий серебряный свет бледнел, как бы расплывался, и когда она своим гигантским серпом закрыла половину небесной бездны, то показалось, будто сделана она из опала, сквозь молочный блеск которого просвечивают разнообразнейшие краски морей, нив, песков. Лишь кое-где на фоне бархатно-черного неба неизменным серебряным светом, от которого резало глаза, сверкали снега.
И вот так, не ощущая движения, они неслись в пространстве между двумя светлыми серпами Земли и Луны; один из них — вогнутый — все разрастался внизу, а другой — выпуклый, — висящий над ними, становился все меньше и меньше.
Ученый Рода за все время этого непостижимого полета почти не произнес ни слова. Вжавшись в угол, он сидел пришибленный, словно полуживой; лицо у него стало желтее обычного, широко раскрытые испуганные глаза под лохматыми насупленными бровями ввалились. А Матарет сразу стал хозяйничать в этом на беду захваченном корабле Победоносца. Он нашел воду и запасы разных экстрактов, сам их отведал и заставлял своего спутника хоть немного подкрепиться.
Рода ел неохотно, со страхом и ненавистью поглядывая на увеличивающуюся Землю. В голове у него кружился вихрь мыслей, и он тщетно пытался упорядочить их. Все ему теперь казалось непонятным, странным и безумным. Он размышлял, с чего все это началось и как произошло, и неизменно запутывался в хаосе противоречий, опровергающих все то, во что он верил как в очевидную и несомненную истину.
И впрямь, была во всем этом какая-то поразительная и прямо-таки смехотворная неправдоподобность… Он родился и вырос на Луне среди народа, хранящего предание, что будто бы много веков назад первая пара его прародителей прилетела под водительством легендарного Старого Человека с Земли на Луну и дала здесь начало новым поколениям. И еще предание гласило, что когда люди, подвергающиеся постоянным нападениям страшных лунных первожителей кровожадных шернов, окажутся у последнего предела отчаяния, вновь с Земли на Луну явится Победоносец, дабы избавить народ от врага. Роду кормили этими сказками с младенчества, однако, войдя в разумный возраст, он очень скоро перестал в них верить. Более того, он дошел до убеждения, что Луна является извечной колыбелью людей, а Земля, огромная яркая звезда, что сияет над мертвым и пустынным, лишенным воздуха полушарием Луны, точно так же мертва и пуста, и никакой жизни на ее сверкающей поверхности нет и быть не может.
Рода так яро верил в эту истину, которую сам и открыл и которую священнослужители ради собственных корыстных интересов стараются сокрыть золотыми сказочками о якобы земном происхождении людей, что даже стал основателем братства, поставившего целью распространение и развитие этого убеждения. И вот когда организованное им Братство Истины начало приобретать силу и значение, объединяя все большее число сторонников, на Луну прилетает таинственный человек гигантского роста, которого народ тут же стал звать именем столь поджидаемого с Земли Победоносца.
Роде припомнились все его борения и кровавые усилия ради защиты Истины от растущего влияния странного пришельца…
Нет, ни единой секунды Рода не сомневался, что этот огромный человек свалился вовсе не с Земли, а просто-напросто прилетел в своем летающем корабле с обратной стороны Луны, якобы пустынной, но на самом деле укрывающей в своих глубоких укрепленных ущельях чудесную плодородную страну, праотчизну людей, которую живущее там счастливое племя ревниво прячет от изгнанников.
Было решено захватить корабль Победоносца, занятого за морем войной с шернами, и тем самым принудить его открыть дорогу в таинственные недра утраченной отчизны. Корабль захватили, и он, Рода, вне всяких сомнений, достиг бы своей возвышенной цели, если бы не этот проклятый плешивец Матарет, который оказался замкнутым вместе с ним в металлической скорлупке и мчится теперь сквозь бездны межзвездного пространства, насмешливо пялясь на него лупоглазыми буркалами.
А ведь он же прекрасно знал, так как Роде удалось вытянуть эти сведения у Победоносца и он сообщил их Матарету, что корабль подготовлен к полету, и все-таки, когда они оказались внутри, уже уверенные в своем торжестве над ненавистным пришельцем, этот плешивец то ли нечаянно, то ли намеренно нажал на роковую кнопку, и родимая Луна как-то нелепо исчезла у них из-под ног, словно провалилась в бездну, и вот они оба летят в пространстве, беспомощные, бессильные, не ведающие, что уготовит им судьба в следующую минуту.
И такая безумная ярость охватила Рода, такой стыд, такое отчаяние, что еще немного и он в бессильном гневе завыл бы и впился себе в руку зубами. Однако от подобного взрыва чувств его удерживал спокойный и, как ему чудилось, издевательский взгляд Матарета. Потому ученейший и столь чтимый своими приверженцами Рода еще глубже забивался, словно пойманный лесной зверь, в самый дальний угол и терзался от стыда и мучительных мыслей, не находя никакого разумного выхода.
И сейчас, когда он сидел, быть может, в тысячный раз оценивая безвыходное положение, в каком оказался, к нему подошел Матарет, указал рукой на окно в полу, за которым с ужасающей быстротой росла Земля, и сообщил:
— Падаем на Землю!
В его голосе и в немудрящих коротких словах Роде почудилась издевка над его ученостью, знаниями, достоинствами, над всей его наукой и всеми теориями, в соответствии с которыми этот пресловутый Победоносец не имеет никакого отношения к Земле, и кровь мгновенно ударила ему в голову.
В эту минуту ему было совершенно все равно, что станется с ними через час или два; сейчас он с радостью отдал бы жизнь, лишь бы втоптать в грязь, унизить ставшего вдруг ненавистным спутника.
— Ну, разумеется, болван! — закричал он. — Разумеется, мы падаем на Землю!
На сей раз Матарет действительно улыбнулся.
— Учитель, ты говоришь, разумеется, а значит…
— А значит, ты дурак, полный дурак! — уже не в силах владеть собой кричал Рода. — Дурак, раз не понимаешь, что в том-то и состоит коварство этого проклятого пришельца!
— Коварство?
— Да! Да! И только такой тупой, безмозглый кретин, как ты, мог попасться на него! Если бы ты послушался меня…
— Но ты же ничего не говорил, учитель.
Слово «учитель» Матарет произнес с некоторым, возможно, непроизвольным ударением.
— Да нет, говорил, говорил я тебе, чтобы ты не прикасался к кнопке! Неужели ты думаешь, что этот Победоносец до такой степени глуп, чтобы оставить готовый к полету корабль, который любого дурака, нажавшего проклятую кнопку, повезет в страну, откуда он прибыл, в благодатные города на той стороне Луны? Смех да и только! Нет никакого сомнения, что он намеренно так настроил корабль, чтобы зашвырнуть непрошеных гостей на Землю.
— Ты так думаешь? — прошептал Матарет, вынужденный признать за этим предположением определенную правдоподобность.
— Думаю, убежден, знаю! Благодаря твоей дурости он избавился от самого опасного противника, от меня! Сам он, когда захочет, доберется к себе на родину каким-нибудь другим способом, а вот мы погибнем. Ведь мы же, как два червяка в брошенном в реку орехе, несемся без воли, без смысла, без цели и рано или поздно рухнем на Землю, проклятую, безжизненную, пустую звезду, где попусту, зазря вскоре сдохнем, даже если уцелеем при падении. Ох, как он, должно быть, сейчас насмехается над нами, как издевается!
При этой мысли его вновь обуяло бешенство. Он поднял кулаки к уменьшающейся над ними Луне и самыми грубыми, самыми простонародными словами принялся клясть победителя-пришельца, грозить ему, словно когда-нибудь надеялся увидеть его и отомстить.
Матарет не слушал его воплей. Он задумался, а через несколько секунд поинтересовался:
— Ты по-прежнему убежден, что Земля необитаема и жизнь на ней невозможна?
Рода уставился на Матарета, не веря собственным ушам. Да неужто у него хватило наглости высказать столь кощунственное сомнение? Наконец Рода язвительно рассмеялся.
— Убежден ли я? Да ты сам посмотри!
И теперь уже он указал на иллюминатор, находящийся у их ног. Выброшенные в пространство силою взрыва сжатых газов и медленным относительно вращения Земли поступательным движением Луны, они, пролетев по гигантской параболе, все более приближающейся к прямой, сейчас падали на Землю, которая, вращаясь с запада на восток, открывала их взорам все новые и новые моря и континенты. Они были еще достаточно далеко от нее, и вращение это им казалось довольно медленным. Однако какие-то материки, которые они совсем недавно видели, исчезли, наклонясь за край горизонта; теперь они пролетали над Индийским океаном, заполнившим почти все поле зрения вплоть до дугообразной линии тени на западе, которой уходящая ночь отсекла светлый дневной серп Земли.
Матарет, следуя взглядом за рукой учителя, всматривался в безнадежно пустынную серебристо-синюю поверхность. Неизменная улыбка исчезла с его мясистых губ, лоб перерезали мелкие вертикальные морщинки. Смотрел он долго, наконец обратил к Роде мрачный, но тем не менее спокойный взгляд и коротко бросил:
— Да, ты прав. Мы погибнем.
С Родой же произошло что-то необъяснимое. Он совершенно забыл, что слово «погибнем» означает смерть, неминуемую смерть для них обоих, и испытывал одно лишь ликование, оттого что все-таки оказался прав, считая Землю зловещей безжизненной звездой. Глаза у него просветлели, он встряхнул большой лохматой головой и громко, как совсем недавно, когда, уверенный в себе, наставлял на Луне толпу сторонников, заговорил:
— Да, да! Погибнем! Я был прав, и только такой глупец, как ты, мог хотя бы на секунду допустить, что эта мордастая сияющая звезда, что брюхатится перед нами, словно щенная сука, может быть обителью хоть какой-то жизни! Я рад! И ты, и все остальные наконец убедитесь: то, что я всегда утверждал…
— Все не убедятся, — передернув плечами, заметил Матарет. — Мы умрем…
Он оборвал фразу и взглянул на своего спутника, в котором под влиянием этих страшных слов вдруг пробудилось ужасающее понимание их безнадежного положения. Рода сорвался с места и, ярясь от злобы, размахивая кулаками, подбежал к нему и стал осыпать оскорблениями и ругательствами.
— Что же ты наделал, дурак! — без конца повторял он, а потом, схватившись руками за голову, упал на пол и со стенаниями и причитаниями стал проклинать тот день и час, когда принял этого кретина и безумца в почтенное Братство Истины, которое осталось на Луне, навеки лишившись своего учителя и главы.
Матарет некоторое время смотрел на содрагающегося от спазматических, непристойных для мужчины рыданий учителя, но, так и не найдя нужных слов, чтобы успокоить его, скривил губы и с презрением отвернулся.
Время тянулось бесконечно. Матарет не знал, что делать, да, впрочем, и работы тут никакой для него не было. Они мчались к Земле, а верней, падали на нее со скоростью, какую Матарет и представить себе не мог. Ему захотелось глянуть в иллюминатор, но невольный страх удерживал его. Он заложил руки за спину и принялся осматривать стены — без мыслей, без чувств, с одним только холодным и упорным сознанием, что скоро, быть может, всего через несколько минут, наступит нечто ужасное, помешать чему никто не в силах.
Близость Земли ощущалась уже в росте силы притяжения, проявляющейся в увеличении тяжести всех предметов. Низкорослый, малосильный Матарет, представитель выродившегося на Луне людского рода, чувствовал, что с каждой минутой его собственное тело весит все больше и больше: вещи, которые на Луне были в шесть раз легче и которые он поднимал без всякого труда, становились для него непосильными; ему казалось, что некие незримые провода связывают все в единую и неразделимую массу, гибельно устремляющуюся уже только по причине своего веса к Земле. Еще несколько минут, и он стал сгибаться под собственной тяжестью. Руки его бессильно свесились, колени дрожали под гнетом тела.
Он опустился на пол возле округлого иллюминатора и глянул вниз…
То, что он увидел, было настолько страшно, что лишь неодолимая неповоротливость не позволила ему отпрянуть от иллюминатора после первого же взгляда. Теперь Земля росла перед глазами с невероятной, неправдоподобной быстротой, и притом у него было ощущение, будто он попал в какой-то вихрь, от которого кружилась голова и подступала тошнота.
Сейчас перед снарядом, отброшенным относительно не слишком стремительным поступательным движением Луны с запада на восток, поверхность Земли вращалась с головокружительной скоростью четыреста с лишним метров в секунду, и с каждым мгновением по мере приближения к ней падающего снаряда это чудовищное вращение, казалось, возрастало; поэтому через несколько минут то, что видел Матарет, перестало походить на твердое тело, а выглядело чем-то наподобие проносящихся вихрем смутных, смазанных контуров.
Этот обезумевший диск, в который по причине увеличившегося благодаря близкому расстоянию угла зрения превратился еще недавно сверкавший у них под ногами серп, заполнил весь окоем. Океан уже перевалил за внезапно ограничившийся горизонт, внизу мелькали какие-то острова, но их невозможно было разглядеть, и вдруг снаряд словно попал в космический смерч! Они вошли во вращающуюся земную атмосферу; корабль, до сих пор казавшийся неподвижным, затрясся, закрутился; под давлением воздуха по бокам у него автоматически развернулись предохранительные крылья и в тот же миг лопнули… Матарет чувствовал уже только жар от мгновенно раскалившихся вследствие атмосферного трения стен корабля и нечеловеческий страх. Он попытался крикнуть…
Внезапно его объяла ночь.
II
«Неслыханные, невероятные изобретения и открытия уходящего столетия ставят перед нами проблему, которая способна наполнить человека гордостью, но в то же время и страхом. Мы устремляемся к прогрессу столь стремительным шагом, что утратили всякую меру скорости этого продвижения вперед; уже ничто не кажется нам невероятным, неслыханным. Одним, поскольку они знают столь много и проникли в столь сокровенные тайны бытия, что все новое воспринимают как естественное и необходимое следствие уже существующего, как одно из поочередно овеществляющихся в человеческом мозгу применении извечных и неизменных сил природы…
А для других ничего удивительного в этом нет всего-навсего потому, что они ничего не знают и знать не хотят и лишь привычно ожидают ежедневно нового чуда, которого не понимают и заранее считают простым так же, как высшее чудо, до сих пор непостижимое для человеческого мозга — развитие организмов, возникновение звезд и вообще сам факт жизни, чему никогда никто не поражался, за исключением самых мудрых.
Неизвестно, докуда мы дойдем, но уж совершенно точно, очень высоко — до самого предела людских возможностей, если таковой вообще существует. Ибо есть люди, утверждающие, что постижение сил природы и многообразного их использования для потребностей человека является не чем иным, как сотворением их в новой форме в соответствии с человеческим духом, а процессу творения конца нет и быть не может, пока существуют элементы, которые можно соединять и сочетать друг с другом.
Однако в любом случае можно не сомневаться, что через несколько десятков или же сотен лет человечество сумеет достичь столь полной власти над природой, что все возможное ныне для нас покажется будущим поколениям совершенно ничтожным.
Гордость охватывает, когда думаешь об этом развитии, но одновременно, как я уже говорил, и страх. В умственной жизни человека существуют странные противоречия, необходимые, неизбежные, но роковые по своим последствиям. Кто через несколько веков, не говоря уже о тысячелетиях способен будет охватить умом всю сумму знаний, добытых человеческим мозгом? Не произойдет ли внезапный и страшный кризис этой все возрастающей мощи человеческого духа?
Некогда, тысячелетия назад, прогресс шел куда более размеренным шагом, и разница в духовном уровне величайшего ученого и полудикого крестьянина даже в малой степени не была схожа с той, что существует ныне между людьми, идущими во главе прогресса, и толпой, которая повсеместно и беззаботно пользуется их изобретениями и открытиями и внешне выглядит вполне культурной.
Римский цезарь, живший в мраморном дворце в роскоши и разврате, при всем том по знаниям немногим отличался от грязного оборванца, закусывающего луковицей в тени колонн амфитеатра, под которыми он прятался от полуденного зноя. Сейчас мой сапожник живет точно так же, как я, а может, даже и куда зажиточней, вместе со мной пользуется всеми устройствами и усовершенствованиями, пользуется защитой тех же самых законов и установлений, придающих его личности общественную значимость, а между тем он не знает ничего, а я знаю все.
Тяжелее и тяжелее становится труд знать все или хотя бы много и то бремя, которое способна нести все уменьшающаяся горстка избранных. Мы несем просвещение всем, учим людей всему, но чем же может быть это «все» при той огромности знаний, которое уже почти не под силу объять человеческим умом и памятью? Кроме действительно знающих, которые единственно и являются творцами науки, искусства и жизни и которые невольно отделены безмерной пропастью от остальных людей, формируются два типа, и неизвестно, какой из них хуже. Первый — это поверхностные люди, знающие название произведений и изобретений, с удовольствием говорящие обо всем, и потому их нередко, а кто и преимущественно считают умными, хотя они не знают ничего. Второй — те, кто посвятил себя какой-то одной ветви, трудится в одном направлении и с косным презрением отбрасывает все остальное, не относящееся к их сфере, словно оно ничего не стоит. Их тоже почитают умными, хотя они точно так же не знают ничего.
Пока что они делают много, и, видимо, так будет продолжаться еще долго. Но не всегда. Ибо уже подходит предел, и им все неуютней в узких колодцах, которые они с чрезмерным самомнением копали вглубь, и все явственней они ощущают, что им не хватает воздуха для дыхания.
Постепенно они приближаются к сердцу бытия, где сходятся все сосуды, и тот, кто не знает их все, путается в непонятной их сети, неспособный продвинуться далее, разве что на ощупь. И тогда они выходят на поверхность и стоят там в растерянности.
И без того ничтожен отряд всеведущих, что движут на согбенных плечах прогресс и судьбу человечества, а что будет, когда их не станет? Что если и их сверхчеловеческие силы не вынесут огромности бремени?»
Яцек отложил книжку. Тонкой белой ладонью провел по высокому лбу, и еле заметная улыбка тронула его бескровные губы; черные сверкающие глаза заволоклись дымкой задумчивости.
Это было написано в конце двадцатого века, а сколько столетий прошло с тех пор! После периода неслыханных, невероятных изобретений, когда одно открытие порождало десять новых и действительно казалось, что человечество находится на пути какого-то сказочного развития, которому нет конца и который даже пугал своей грандиозностью, внезапно наступил застой, как будто таинственные силы природы, способные служить человеку, наконец исчерпали свои комбинации, все уже впряжены в колесницу людского благосостояния и больше ничего не в силах приоткрыть. Настал период всестороннего использования и применения прошлых завоеваний человеческой мысли, которая достигла уже вершин знания.
А тем временем те, кто обладал знанием, те и вправду уменьшавшиеся в числе всеведущие с каждым днем все ясней и наглядней убеждались, что действительно ничего не знают, в точности как некогда, в самом начале, когда человеческий дух только раскрывал крылья для полета.
В ту же самую эпоху, когда череда изобретений, прежде чем внезапно прерваться, казалось, умножалась с какой-то головокружительной быстротой, знание, подлинное знание о сущем, стало, напротив, продвигаться все медленней. Происходило это так, словно к уже добытому за многие века знанию постоянно прибавлялась лишь половина того, что осталось еще неизведанным, указывая вдали четкую, но недостижимую границу возможностей; к ней можно приближаться — все медленней, но всегда впереди будет оставаться половина того, что еще не постигнуто, оставаться осененное тайной, и в конце концов человек столкнется с теми же самыми неразрешимыми загадками, перед которыми останавливались в раздумье еще древнегреческие мудрецы.
Чем в глубинной своей сути является то, что существует, и почему оно вообще существует? Что есть человеческая мысль и сам дух познания? Какие нити связывают человеческий разум с миром, и на каких дорогах и каким образом бытие претворяется в сознание? И наконец, что происходит в миг смерти?
И опять легкая улыбка тронула красивые, почти женственные губы Яцека.
Да, было время — как раз тогда и была написана книжка, которую он только что отложил, — когда люди, не в силах разрешить эти вопросы, пытались их попросту отринуть, утверждая, что они не имеют никакого значения и даже смысла В эту эпоху человеку, ошеломленному прогрессом науки, казалось, что действительный смысл имеют только те проблемы, на которые можно ответить немедленно, либо, по крайности, существует уверенность или хотя бы надежда, что рано или поздно ответ на них будет найден. А по поводу всех прочих только пожимали плечами, именуя их «метафизикой».
Но эта «метафизика» вновь и вновь возвращается и опять встает с неизменно сокрытым ликом перед человеком и не дает ему покоя, ибо пока не знаешь этого, в сущности, не знаешь ничего!
И вновь, как века и тысячелетия назад, появляются пророки и несут людям, жаждущим и способным верить, Откровение, которое должно прояснить мысли, успокоить сердца и дать на все вопросы окончательный ответ. Религии существуют и сейчас, как существовали всегда, хотя им столько раз предсказывали конец и исчезновение, и сейчас они, быть может, даже могущественней, чем прежде, разве что сменились их сфера и значение. Толпа, ослепленная наукой, которой она не понимает, и блеском сокровищ, добытых высочайшими умами, сокровищ, которыми она пользуется, не приложив даже крохотного усилия мысли, чтобы собрать их, перестает верить и искать божество за небесной синью.
Зато мудрейшие, те самые, кто некогда, в пору чрезмерной веры в свои силы первыми начали сокрушать религию как «суеверие», как вещь ненужную и непонятную, один за другим с каким-то страхом в глазах, что слишком близко вглядывались в непостижимые тайны, и с жаждой умиротворения в истощенных мудростью сердцах, теперь прячутся под ее крыло.
А наряду со всем этим по-прежнему откуда-то с гор, уходящих в небо, из непроходимых джунглей, еще сохранившихся в Азии, приходят странные люди, которые не пытаются дотошно исследовать тайны природы, но имеют над нею прямо-таки магическую власть, хотя и не пользуются ею, потому что им ничего не нужно, и они в невозмутимости духа с загадочной улыбкой на устах смотрят с жалостью на «всезнающих», открывших ничтожность своего знания…
Яцек машинально, не отдавая себе отчета, стал переворачивать ножом из слоновой кости, который держал в руке, страницы лежащей перед ним книги. В безмолвии комнаты, двери которой не пропускали звуков извне, слышался только шелест пожелтевших страниц да тиканье электрических часов, и ему вторил в углу жучок, прогрызающий ходы в старинной деревянной мебели.
Да, он, Яцек, является одним из немногих «всезнающих»… Но он даже толком не знает, когда и каким чудом сумел объять всю огромность знаний, добытых в течение десятков веков, а порой даже сам себя спрашивает: стоили ли того эти сверхчеловеческие усилия? Природа вроде бы раскрыла перед ним все свои тайны и покорна ему, как властелину, но ему-то слишком хорошо известно, что это не более чем иллюзия, и даже не его, а тех, что смотрят на него и восхищаются его мудростью и могуществом.
Но он-то знает, что его власть над миром столь же смешна и нелепа, как власть вождя давно исчезнувших и забытых ирокезов, который каждую ночь перед восходом вставал на вершине холма и, указывая рукой на восток, велел солнцу взойти именно там, а затем пальцем прочерчивал ему по небу дневной путь до самого заката. И солнце слушалось его. Видимо, познать предметы и явления означает обладать властью над ними, и он, Яцек, обладает ею, но вся его власть, которой человечество обязано столькими чудесными, благословенными изобретениями, если рассматривать ее как силу личности, не стоит одного взгляда того неделю назад встреченного азиата, что на его глазах силой воли и взора опрокинул бокал, полный воды, хотя и сам не понимал, как он это делает, не говоря уже о том, что этим нелепым своим деянием он никому не принес никакой пользы.
А впрочем, многим ли больше этого чудотворца знает он о том, что делает сам, и о характере сил, которым велит повиноваться с куда меньшим напряжением воли, просто благодаря знанию того, как они действуют? Скоро уже будет три года, как в этой самой комнате он, не сходя с места, начертил для своего друга Марка проект корабля, чтобы тот смог долететь на нем до Луны, и установил кораблю дорогу сквозь пространство, столь же точную, как орбиты звезд, а потом, не выходя из этой комнаты, с места даже не стронувшись, одним нажатием кнопки в точно назначенную долю секунды отправил корабль с сидящим в нем путешественником в путь и абсолютно уверен, что в точно определенный момент корабль в целости и сохранности упал в точно назначенной точке на поверхности древнего спутника Земли. И все-таки, что он в действительности знает о самом движении, которое здесь с такой точностью рассчитал и определил?
Разве в этом смысле не находится он примерно там же, где тысячелетия назад остановился Зенон Элейский[1], пытавшийся на наивных примерах продемонстрировать в самом понятии движения поразившую его противоречивость? Зенон утверждал, что быстроногий Ахиллес никогда не догонит черепаху, поскольку за то время, какое он затратит на преодоление разделяющего их расстояния, черепаха еще немножко продвинется вперед… А он, Яцек, после нескольких десятков веков, отделяющих его от Зенона, к тому же еще и знает: все, что движется, в то же время неподвижно, а то, что неподвижно, движется, так как любое движение и покой относительны; хуже того, движение, эта единственная и неуловимая реальность, является сменой положения в пространстве, которое вообще нереально…
Яцек встал и, чтобы прервать поток гнетущих мыслей, подошел к окну. Чуть притронувшись к кнопке в стене, он раздвинул занавеси и открыл сверкающие створки окна. Комнату, освещенную без всяких ламп перебегающими по потолку световыми полосами, залил серебристый свет Луны. Яцек легким движением пальца погасил искусственное освещение и стал смотреть на почти полную Луну.
Он думал о Марке, об этом мужественном человеке, принадлежащем словно другому веку, необузданном, веселом, всегда готовом совершить что-нибудь непредсказуемое… Дальние родственники, они вместе росли, но какими разными путями пошли по жизни! Пока он лихорадочно, с самозабвением, какого сейчас уже и сам не может понять, накапливал знания, Марк безумствовал и совершал поступки, искал невероятных приключений, от любовных интриг бросался в вихрь общественной жизни, принимал участие в гигантских народных сборищах, кидался на защиту каких-то дел, оставлявших Яцека совершенно безразличным, а потом вдруг неожиданно исчезал, только ради того, чтобы удовлетворить свою фантазию и взобраться на недоступную гималайскую вершину или предаться на несколько недель любовному дурману.
И вдруг этот сумасброд, которого Яцек любил всей душой и который смотрел на мир сквозь розовые очки, приходит и объявляет, что желает не больше и не меньше как слетать на Луну.
— Яцек, я знаю, ты все можешь и умеешь, — точно ребенок умолял Марк. — Сделай корабль, чтобы мне слетать туда и вернуться.
Яцек рассмеялся: всего-навсего?.. Ну, такой пустяк он, разумеется, способен сделать и чрезвычайно благодарен Марку, что тому взбрело в голову отправиться на Луну, а не, скажем, на какую-нибудь планету солнечной системы, потому что в этом случае удовлетворить его желание было бы несколько трудней.
Оба они смеялись и шутили.
— А с чего тебе вздумалось полететь на Луну? — поинтересовался Яцек. — Тебе что, Земля уже не по нраву?
— Да нет, просто мне любопытно, что случилось с экспедицией О'Теймора, который несколько столетий назад, кажется, вместе с двумя мужчинами и женщиной дал забросить себя в снаряде на Луну, чтобы основать там новое людское общество.
— С О'Теймором полетели трое мужчин и одна женщина.
— Это значения не имеет. Впрочем, у меня есть еще одна причина. Мне надоела Аза.
— Аза? А кто она такая?
— Как! Ты не знаешь Азу?
— Это что, твоя новая охотничья собака или кобыла?
— Ха-ха-ха! Аза! Это же чудо! Певица, танцовщица, которой восхищаются оба полушария! Позаботься, пожалуйста, о ней, пока меня не будет.
Так говорил ему веселый, смеющийся, полный буйной радости жизни Марк.
Яцек нахмурил брови и потер лоб, словно желая отогнать некое неприятное воспоминание.
«Аза… Да, Аза, которой восхищаются оба полушария… »
Яцек опять поднял глаза на Луну.
— Где ты теперь и когда возвратишься? Что расскажешь? Что ты там увидел и что с тобой произошло? — прошептал он, несколько секунд молчал и громко произнес: — Тебе везде хорошо.
«Да, ему будет везде хорошо, — подумал Яцек, — потому что он еще сохранил в себе то первобытное, неудержимое, творческое стремление к жизни, которое способно создать вокруг себя желаемые условия и даже в самом худшем найти добрые стороны.
Ведь Марк и здесь чувствовал себя свободно и непринужденно и не жаловался, хотя это и безмерно трудно при том, что их окружает. Он совершенно не похож на остальных, довольных… »
Яцек закрыл окно и, не зажигая света, вернулся к столу, стоящему посередине овальной комнаты. Он неслышно прошел по мягкому ковру, нащупал в темноте высокую спинку кресла и опустился в него. Он вспомнил происходившие в течение нескольких последних столетий перемены, которые должны были осчастливить, освободить, возвысить человечество…
Как бы поразился автор этой книги, живший в далеком двадцатом столетии, имей он возможность взглянуть на карту нынешних Соединенных Штатов Европы1 В ту эпоху это казалось далеким и недостижимым идеалом, а ведь осуществилось сравнительно легко и без особых препятствий.
Правда, для этого потребовалось, чтобы произошли все те потрясшие человечество перевороты, о которых сообщает история страшный, неслыханный, беспримерный разгром Германского рейха Восточной империей, в которую преобразовалась бывшая Австро-Венгрия после захвата принадлежавшей России части Польши и объединения с южнославянскими государствами; неожиданная для всех трехлетняя война могучей Англии, владычицы полумира, с Федерацией Латинских Государств, из которой Британская империя вышла непобежденной, но и не победительницей, после чего рассыпалась, словно зрелый стручок гороха, на несколько самостоятельных государств. А сколько еще было других потрясений, войн, революций!
И вот наконец пришло ясное и очевидное понимание, что, собственно говоря, бороться больше нет причин, и все стали поражаться, для чего с такой яростью было пролито столько крови. Народы Европы после многовекового исторического развития дозрели до объединения и объединились на основе самостоятельных национальных общностей, сохраняющих максимум свободы.
За этими переменами шаг за шагом следовало развитие общественных и экономических отношений Поначалу опасались резких переворотов в этой сфере, и, более того, все вроде бы свидетельствовало о неизбежности катастрофы, однако процесс этот прошел на удивление гладко и… скучно прямо-таки до тошноты. Возникновение всякого рода компаний и кооперативных сообществ облегчило переход и сделало его практически незаметным. Использование новых изобретений потребовало, с одной стороны, объединения все больших сил, а с другой, неожиданно быстро повысило уровень всеобщего благосостояния Вскоре уже не имело никакого смысла прибавлять себе забот обладанием личного капитала.
Однако это не привело к предсказывавшемуся некоторыми утопистами равенству. Да, все были уравнены в правах, было поднято человеческое достоинство, благосостояние и просвещение стали общим достоянием, но души людей уравнять не удалось, а равно и то, что является следствием подобного неравенства — значимость отдельной личности и объем власти, которой она обладает. О, как же все это далеко от рая, о котором некогда так мечтали!
По-прежнему оставались богатые и относительно бедные люди, занимавшие «полезные» и важные для общества посты, получали иногда прямо-таки колоссальное вознаграждение, а после относительно недолгой службы пожизненную пенсию, позволявшую им проводить остаток жизни в развлечениях, не занимаясь никаким обязательным трудом. Редко случалось, чтобы эти «выслужившие отставку» добровольно посвятили себя какому-нибудь общественно полезному занятию.
Единственным собственником всего было правительство, однако о своих интересах оно пеклось ничуть не меньше, чем в прежние времена частные владельцы. В огромных городах было множество роскошных отелей; в театрах, цирках и залах развлечений золото текло рекой; певцам и всевозможным лицедеям платили суммы, в былые времена показавшиеся бы просто невероятными. Таким способом деньги из карманов сановников и «отставников» вновь перекачивались в государственные кассы.
А сколько людей «непроизводительных» не умирали с голоду только потому, что принуждены были заниматься обязательным трудом, а если оказывались не способны распорядиться тем немногим, что им платили за принудительную работу, их брали под государственную опеку. А ведь среди этих молодых людей, вынужденных губить себя на физической работе, нередко оказывались будущие изобретатели и ученые, писатели и художники; часто случалось, что они становились известными лишь после смерти, а при жизни их оттесняли в тень удачливые и модные коллеги, льстившие самомнению толпы.
Яцек размышлял обо всем этом, взвешивая на руке книжку, которую читал несколько минут назад.
Нет, не на две части делится человечество, как утверждал этот писатель двадцатого века, преданный в свое время анафеме за свой якобы пессимизм, а на три. Посередине — толпа. Огромное большинство. Сытое множество, в меру пользующееся правом на отдых и по возможности старающееся думать как можно меньше. Да, они обладают правом на благополучие и образование, то есть изучают в школах все, что сделано для них. Им присуще чувство долга, по преимуществу они честны и добродетельны. Они делятся на нации, и каждый горд, что принадлежит к своей нации, хотя принадлежи он к другой, гордился бы этим ничуть не меньше. Некогда нация была святыней, ей приносились жертвы кровью, но постепенно нации выродились, и все их различие ныне сводится к отличающимся друг от друга национальным нарядам, никакого существенного значения не представляющим. Духовная разница стерлась. И несмотря на разные языки, уровни доходов, системы управления, в глубине своих ничтожных душ толпа повсюду до отчаяния одинакова.
Расовые и племенные различия, возможно, живы еще только для «хранителей знания», стоящих над европейской толпой и отделенных от нее непреодолимой пропастью духовного развития. Но они как раз меньше всего говорят о национальностях, объединенные своею судьбой в общее братство знания и духа.
А еще ниже сытой, довольной толпы находится интернациональный плебс, и между ними тоже неодолимая пропасть. Это неизменно и громогласно опровергается, но тем не менее это так. И тут не помогут самые красивые и даже искренние слова о равенстве, о праве каждого на жизнь и благополучие, об отсутствии угнетенных. Кстати, они вовсе не ощущают себя угнетенными.
Для обслуживания миллионов машин, нужных людям, необходима неисчислимая масса подготовленных, умелых рабочих, в сущности, отданных в рабство безжалостным металлическим чудищам и ни о чем больше не думающих, кроме того, что сейчас нужно нажать на эту кнопку или передвинуть этот рычаг. Рабочий день у них относительно короток, платят им хорошо, но их ум, неизменно направленный на одни и те же операции, странно тупеет и постепенно становится невосприимчивым ко всему, что происходит вне фабрики или мастерской и семьи.
Знаменательно, что они не бунтуют, не восстают, как рабочие прошлых эпох. Им мудро предоставляется все, чего они хотят, так что в конце концов они перестают хотеть чего бы то ни было, даже того, что могло бы им быть доступно без всяких затруднений. Они не имеют родины, поскольку в связи с потребностью в рабочей силе их вечно перебрасывают с места на место, и даже наречие себе они создали особое, интернациональное, слепленное из обрывков разных языков.
В сущности, все остается так же, как было! Разве что неявные границы, за сохранение которых некогда боролись верхи, а за уничтожение низы, теперь стали отчетливей, расширились и с той минуты, когда начали решительно отрицать их существование, преодолеть их стало куда трудней. Прекратилось обустороннее стремление вырваться за их пределы, и силой фактов общественные слои стали сплачиваться и обособляться, вопреки собственным желаниям и распространению знаний все более отделяясь друг от друга.
Да, все так, как было. И невзирая на благосостояние, развитие науки, невзирая на свободы и вроде бы совершенные законы, сейчас, как и столетия назад, неуютно на Земле и сумрачно, и все так же душно в этой жизни, в конце которой ждет Смерть со все так же сокрытым непостижимым ликом.
А счастье? Личное счастье человека?
О неисправимая и вечно несытая человеческая душа! Ни наука, ни знание, ни мудрость не искоренят в твоих глубинах неразумных и нелепых желаний, что сжигают тебя, как неугасающее пламя!
Тучи закрыли Луну, и в комнате стало совсем темно. Яцек непроизвольно протянул руку и по памяти нажал на кнопку, скрытую среди резных украшений стола. На овальном диске матового стекла, заключенном в бронзовую раму, замерцала красочная картина: некрупное, кажущееся детским лицо, пышные волосы цвета соломы и темно-синие огромные, широко распахнутые глаза…
— Аза… — прошептал Яцек, пожирая взглядом изображение.
III
Придя в сознание, Матарет долго не мог сообразить, что произошло и где он находится. Несколько раз он принимался протирать глаза, не понимая, то ли действительно его окружает непроницаемая тьма, то ли веки у него все еще сомкнуты. Наконец, вспомнив, что находится в снаряде, который мчался с Луны на Землю, он безуспешно попытался зажечь электричество. Сперва ему никак не удавалось найти кнопку — в корабле все как-то странно перевернулось, а когда он все-таки нашел ее, то долго и безрезультатно жал на нее пальцем. Тьма не уходила; видимо, что-то повредилось в проводах.
Матарет стал в темноте звать Роду. Тот долго не откликался, наконец раздался стон, и Матарет хотя бы убедился, что его товарищ жив. На ощупь полез он туда, откуда донесся голос. Ориентироваться было страшно трудно. Все время полета корабль под действием собственной тяжести и притяжения сперва Луны, а потом Земли летел так, что под ногами у них всегда был пол; сейчас же Матарет чувствовал, что ползет по вогнутой стенке корабля.
Он нашел учителя и потряс его за плечо.
— Живой?
— Пока живой.
— Не ранен?
— Не знаю. Голова кружится, и все тело болит. И такая тяжесть, так страшно давит…
Матарет ощущал точно такую же тяжесть, он передвигался с огромным трудом.
— Что случилось? — спросил он.
— Не знаю.
— Мы были уже у самой Земли. Я видел, как она вращается. Где мы сейчас?
— Не знаю. А вдруг мы пролетели над ней? Пролетели мимо Земли и опять несемся в пространстве, сокрытые ее тенью?
— Ты заметил, что положение корабля непонятно изменилось. Мы теперь ходим по его стене.
— Да что мне с того! На стене или на полу, нас все равно ждет неминуемая смерть!
Матарет замолчал, признавая в душе правоту учителя. Он лег на спину, вытянулся и закрыл глаза, покоряясь охватившей его неодолимой сонливости, что, видимо, являлось предвестием надвигающейся смерти.
И все-таки он не заснул. Просто в каком-то полубессознательном состоянии перед ним вставали видения широкой лунной равнины и города на Теплых Прудах у берега моря. Виделись ему люди, вроде бы возвращающиеся с какого-то торжества от храма, а на его ступенях стоял человек огромного роста, которого на Луне прозвали Победоносцем и насмешливо смотрел на Матарета. И даже позвал его по имени. Раз и еще раз.
Матарет открыл глаза. Его и вправду звали.
— Рода?
— Ты что, спишь?
— Нет, не сплю. Победоносец…
— Да плевать мне на Победоносца! Я уже с полчаса кричу тебя. Раскрой глаза!
— Свет!
— Точно. Становится светлей. Что это?
Матарет приподнялся и сел, задрав голову вверх. Боковой иллюминатор, который теперь стал потолочным, на черном фоне тьмы казался чуть посветлевшим серым пятном.
— Светает, — прошептал Матарет.
— Ничего не понимаю, — буркнул Рода. — Раньше мы переходили из света в тень и наоборот в один миг, резко…
А иллюминатор становился все светлее, и тут же они услышали какой-то сухой шорох — первый звук, долетевший до них после отлета с Луны.
— Мы на Земле! — крикнул Матарет.
— Не понимаю, чему ты радуешься?
Но Матарет уже не слушал Роду. Борясь с невыносимой тяжестью собственного тела, он подтащился поближе к иллюминатору, над которым словно бы неслись тучи песка, порой становившиеся такими густыми, что внутри корабля опять заметно темнело. Матарет смотрел, ничего не понимая. Вдруг он зажмурил глаза, в которые внезапно ударил яркий свет. Песка уже не было, в иллюминатор заглядывало слепящее солнце. Явственно слышался свист ветра.
Когда он снова открыл глаза, было светло, вверху над иллюминатором висело небо — темно-синее, не черное, как тогда, когда они летели в межзвездном пространстве.
— Мы на Земле, — убежденно повторил Матарет и принялся отворачивать гайки, которыми запирался выход из их долговременного узилища.
Нелегко давалась ему эта работа. Все казалось безмерно тяжелым, а скованные собственным весом обессилевшие руки уставали так быстро, что чуть ли не каждую минуту приходилось давать им отдых. Когда же со звоном упала последняя отвернутая гайка и из открытого иллюминатора в лицо ударила струя свежего воздуха, измученный работой Матарет, опьянев от него, пошатнулся; у него не было сил выбраться наружу.
Лишь после долгой передышки он пришел в себя, ухватился обеими руками за закраину иллюминатора, сперва высунул голову, а потом наполовину перевалился наружу. Подошел Рода и тоже выглянул из корабля.
Они долго молча осматривались.
— Ну разве я не говорил, что Земля необитаема? — наконец отозвался Рода.
Вокруг, куда ни кинь взгляд, расстилалась желтая песчаная равнина, покрытая, словно застывшими волнами, барханами и опаленная ярким солнцем. Их корабль, упав на Землю, зарылся в песчаный бархан, из которого его выкопал только что прекратившийся ветер.
Матарет ничего не ответил Роде. Он смотрел на открывшуюся картину широко распахнутыми глазами и мысленно пытался упорядочить впечатления. Вокруг все было тихо, безжизненно, недвижно; трудно было поверить, что это та же Земля, несущаяся в безумном вращении, которую, казалось, всего минуту назад он видел у себя под ногами… Он протер глаза и постарался собрать разбегающиеся мысли, пытаясь понять: спит ли он или, напротив, пробудился от причудливого сна.
Временами его охватывал нервический страх, причин которого он не мог определить. И тогда от головы до ног его сотрясала лихорадочная дрожь, а в сердце возникало безумное желание, чтобы и этот их полет, и Земля оказались просто сонным бредом. И все-таки Матарет старался овладеть собой и мыслить здраво.
В конце концов он почувствовал голод. Он вернулся на корабль, достал остатки воды в мешке из непроницаемой пленки, скудный запас еще не съеденной провизии и обратился к Роде:
— Поешь!
Учитель пожал плечами.
— Ради чего нам есть? Чтобы продлить жизнь еще на несколько часов?
Тем не менее он набросился на еду с такой жадностью, что Матарету пришлось остановить его, заметив, что надо бы экономить провиант.
— Зачем? — рявкнул Рода. — Я голоден. Вот съем все, что можно, и повешусь на носу этого проклятого корабля!
Матарет, не слушая его, собрал в мешок остаток еды и стал выносить из корабля разные мелкие вещи, которые в дальнейшем смогут им пригодиться. Но когда связал все вместе в узелок и попытался забросить его на спину, оказалось, что он переоценил свои силы, позабыв о шестикратно возросшей по сравнению с Луной силе тяжести. Пришлось выбросить все, без чего можно обойтись, а остальное разделить на два узелка.
— Возьми, — указал он Роде на один из них, — и пошли.
— Куда?
— Куда глаза глядят. Пойдем прямо.
— Да какой смысл! Мне все равно, в какой точке этого плоского пространства умирать.
— Когда Земля вращалась под нами, я видел моря и места, которые мне показались покрытыми зеленью. Может, доберемся до таких мест, где можно жить.
Рода, недовольно бурча, взвалил на плечо узелок и поплелся за Матаретом. Увязая в песке, они брели на восток, обессиленные жарой и слишком плотным для их лунных легких воздухом, но более всего весом собственного тела; оно теперь казалось налитым свинцом. Через каждые несколько десятков шагов они садились передохнуть.
Во время остановок Рода продолжал, пользуясь каждой замеченной подробностью, доказывать, что Земля необитаема и вообще никакое живое существо не может жить на ней.
— Ты только подумай! — говорил он. — Эта чудовищная тяжесть! Какое существо сможет долго выдерживать ее!
— Ну, а если тут люди больше и сильней нас, как, например, Победоносец?
— Не говори глупостей! Если бы здешние люди были больше, то больше бы и весили и тогда не смогли бы двигаться.
— Но все-таки…
— Не смей прерывать меня, когда я говорю! — разозлился Рода. — Я не собираюсь спорить с тобой, а просто рассказываю вещи, о которых знаю. А ты слушай и набирайся ума.
Матарет пожал плечами и, подхватив свой узелок, молча двинулся вперед. Учитель плелся за ним, не переставая доказывать прерывающимся голосом, что он прав.
— Сдохнем, как псы, — повторял он. — Говорю тебе, здесь нет ни одного живого существа.
— Значит, мы будем первыми, — отрезал Матарет, — и вся Земля будет принадлежать нам.
— Много тебе от этого будет пользы! Песок и вода, которую мы видели сверху, если это только вода, а не сплавившийся в стекловидную массу камень.
Матарет, не обращая на него внимания, остановился и с интересом глядел куда-то вдаль.
— Видишь? — указывая рукой, спросил он.
— Что?
— Не знаю, что это. Подойдем поближе.
Через несколько десятков шагов они ступили на твердый, скалистый грунт и могли уже ясно различить впереди какую-то линию, пересекающую их дорогу и тянущуюся до бесконечности в обе стороны. Когда они подошли поближе, то увидели металлический брус, приподнятый над землею и опирающийся на металлические козлы; брус этот тянулся из конца в конец пустыни, докуда достигал взгляд.
— Что это? — прошептал изумленный Рода.
— Видимо, тут все-таки кто-то живет, — заметил Матарет — Похоже, эта странная вещь сделана руками человека.
— Не человека! Не человека! Быть может, какая-то жизнь тут и существует, но людей на Земле нету! Это бесспорно, и ты сам убедишься… Да разве стал бы разумный человек переводить столько железа неизвестно на что?
— Кто же тогда живет на Земле?
— Не знаю. Какие-нибудь существа…
— Шерны, — пробормотал Матарет, и оба почувствовали, как при одном упоминании о страшных первожителях Луны по телу у них пробежала дрожь.
Рода и Матарет с любопытством рассматривали рельс, который вдруг начал легонько гудеть.
Они с ужасом отскочили от него. Огромное сверкающее чудовище с плоской головой промчалось с ревом по рельсу с такой стремительностью, что когда они пришли в себя, оно уже было далеко. Перепуганные, ошеломленные, они стояли, не решаясь даже задать себе вопрос, что же это такое было.
Первым прервал молчание Матарет. Недоверчиво глядя в ту сторону, где скрылось чудовище, он пробормотал:
— Какой-нибудь земной зверь…
— Ну, если тут водятся такие страшилища… — пробурчал Рода. — Оно же длиной шагов сто, если не больше. И неслось, как вихрь. Ты заметил, какие у него ноги?
— Нет Я только заметил, что у него вдоль тела до самого хвоста множество глаз, которые очень похожи на окна. И еще мне показалось, что оно катилось на колесах. Может, это вовсе не чудище, а какая-нибудь повозка?
— Не говори глупостей. Да разве может повозка мчаться с такой скоростью, если ее ничто не тянет?
— А кто тянул наш корабль сквозь пространство? — заметил Матарет. — Может, на Земле так устроено?
Рода на мгновение задумался.
— Нет, это невозможно. По одному единственному и притом такому гладкому брусу никакая повозка не могла бы ехать, она тут же перевернулась бы.
— Да, ты прав, — согласился Матарет.
Они пролезли между козлами под рельсом, недоверчиво поглядывая на него, и вновь пошли вперед с тоской и тревогой в сердцах. Они чувствовали себя чужими здесь; по легенде, которую они опровергали на Луне, Земля — колыбель людей, но им она показалась страшной и пустынной. Рода уставал быстрее Матарета и то и дело останавливался, жалуясь на невыносимую жару, которую, хотя она и не могла сравниться с жарой в лунный полдень, они в плотной земной атмосфере переносили куда тяжелей. Вокруг же среди желтой песчаной равнины нигде не было и намека на тень Только далеко впереди виднелись странной формы скалы, казавшиеся в ослепительном сиянии почти белыми, а среди них нечто наподобие огромных растрепанных султанов на высоких чуть изогнутых столбах.
Из последних сил они брели к этим скалам в надежде найти под ними хоть немного прохлады и неожиданно обратили внимание на стремительно бегущие по песку тени. Рода первым поднял голову и увидел в небе стаю чудовищных птиц с широкими белыми крыльями и уплощенными хвостами. Матарет заметил, что у некоторых, летевших ниже, вместо ног колеса, и хотя птицы летели очень быстро, крыльями они не махали. Зато у них впереди головы, почти не разделявшейся с туловом, кружился какой-то вихрь, правда, едва заметный взгляду.
Очень быстро птицы улетели в ту же сторону, куда мчалось сверкающее чудовище.
— На Земле все ужасно, — онемевшими губами прошептал Рода.
Матарет молчал. Когда он наблюдал за птицами, его поразило положение солнца на небосклоне. Оно стояло низко и начало краснеть, скрываясь за какой-то желтоватой дымкой.
— Сколько времени прошло, как мы вышли из корабля? — поинтересовался он.
— Не знаю. Часов пять, может, шесть.
— Солнце тогда стояло в зените?
— Да
Матарет указал на запад
— Посмотри, оно уже садится Совершенно непонятно Неужели оно так быстро прошло по небу?
В первый момент и учитель был ошеломлен этим непонятным явлением. Он ужасно перепугался и остолбенело смотрел на солнце, которое точно сошло с ума, пробежав за шесть часов почти половину небосвода, тогда как на Луне ему потребовалось бы на это несколько десятков часов. Но тут же на его пухлых губах заиграла улыбка.
— Матарет! — воскликнул он — Неужели ты не запомнил ничего из того, чему я учил вас в Братстве Истины?
Лысый ученик вопросительно взглянул на учителя.
— На Земле сутки короче, — продолжал Рода, — и длятся всего двадцать четыре наших часа, а потому…
— Ой, верно!
И все же, несмотря на это объяснение, оба с тревогой следили за солнцем, которое, как им казалось, прямо-таки стремительно катилось по небосклону.
— Через час наступит ночь, — прошептал Матарет.
— Проклятие! — выругался учитель, забыв обо всем, что только что сам объяснял. — Триста пятьдесят часов тьмы и мороза. Что будем делать?" Не надо было выходить из корабля.
На этот раз Матарет первым сориентировался в новых условиях
— Если сутки двадцать четыре, то ночь будет длиться всего двенадцать часов Ведь это Земля.
— Ну да, конечно, — спохватился Рода, а через несколько секунд добавил. — И все равно непонятно. Мороз, конечно, даст нам знать, пока не взойдет солнце, но вот как будет со снегом? У нас на Луне он начинает идти часов через двадцать-тридцать после захода солнца, но тут же через двенадцать часов начнется новый день.
— Может, снегопад тут начинается быстрее?
За разговорами они продолжали идти вперед. Дневная жара немножко спала; они начали привыкать к увеличившемуся собственному весу, так что чувствовали себя несколько терпимей.
До скал уже было рукой подать. Под ногами из-под песка кое-где выглядывала гранитная порода, и в ее трещинах местами росла какая-то хилая пожелтевшая трава.
Рода и Матарет останавливались у каждой травинки и внимательно рассматривали ее, пытаясь по ее виду представить, как может выглядеть земная растительность, если таковая вообще существует.
Солнце зашло, и жители Луны, добравшиеся наконец до скал, стали искать, где бы укрыться на ночь, и вдруг в быстро сгущающейся темноте обратили внимание на огромное каменное изваяние получеловека-полузверя. Телом это чудовище более всего напоминало им собаку, единственное четвероногое животное, жившее с людьми на Луне, только выглядело оно округлей и мускулистей, а на поднятой шее у него была человеческая голова.
— Раз на Земле могут создавать из камня такие вещи, значит, тут есть разумные существа — либо люди, как мы, либо шерны, — после недолгого изумленного созерцания заключил Матарет.
— Но если они так выглядят… — кивнув на чудовище, пробормотал Рода.
Их переполнял страх и невыразимое уныние. Отыскав в расщелине скалы, как можно подальше от этого противоестественного изваяния, укрытие, они стали готовить себе лежбище, чтобы хоть как-то уберечься от надвигающейся ночной стужи, но тут восточная часть неба вновь стала золотиться, и по ней разлилось светлое зарево, от которого поблекли яркие звезды, а затем на небосклон выплыл огромный красный сияющий шар.
Это было странно и непонятно, как все, что они видели здесь за этот самый короткий в их жизни день. Тем временем шар, словно бы наполненный светом, поднимался все выше, и хотя, казалось, уменьшался в размерах, но светил все ярче. Тьма отступила; ласковым серебряным отсветом сияли песок и скалы, и отсвет этот придавал видимость жизни каменному чудовищу.
— Что же это может быть за звезда?
Рода долго думал и вспоминал, наконец покачал головой и промолвил.
— Я такой не знаю.
Он не узнал Луну, с которой они прилетели всего несколько часов назад.
Но Матарету припомнилась картина, которую он наблюдал из иллюминатора летящего в пространстве корабля, и хотя то, что он видел тогда, было куда больше и не такое отчетливое, но все-таки некоторое сходство сохранилось.
— Луна! — воскликнул он.
— Луна…
С невыносимой жгучей тоской в несчастных сердцах они смотрели, как равнодушно проплывает по небу их родная планета, которую они утратили навсегда.
IV
Из сверхскоростного экспресса Стокгольм — Асуан вышла молодая светловолосая девушка с огромными темно-синими глазами, смотревшими на мир с каким-то полудетским изумлением. За нею, неся маленький чемоданчик, следовал седовласый, но еще крепкий господин с лицом в одно и то же время простоватым, хитрым, слегка туповатым и добродушным. Он чувствовал себя явно не слишком удобно в костюме, сшитом по последней моде, к которой никак не мог привыкнуть, и к тому же несколько утомился, упорно разыгрывая роль человека вполне еще не старого, хотя старался этого не показывать.
Едва девушка вышла из вагона, к ней устремился директор самого большого отеля «Олд-Грейт-Катаракт-Палас и, с достоинством поклонившись, указал на ожидающее ее электрическое авто.
— Номер вам был готов еще вчера, — сообщил он с легкой укоризной в голосе.
Девушка улыбнулась.
— Дорогой господин директор, я крайне благодарна вам за то, что вы затруднились лично встретить меня, но я, право же, не могла вчера приехать. Кстати, я ведь телеграфировала.
Директор вновь поклонился.
— Вчерашний концерт отменили.
И он вновь указал на ожидающее авто.
— Нет, нет. Получите только мой багаж. У вас должны быть квитанции, — обратилась девушка к своему спутнику. — Я пройдусь пешком. Вы не против, господин Бенедикт? Это же совсем недалеко.
Бодрый старичок что-то пробурчал под нос, разыскивая по карманам квитанции, а директор тактично постарался не выказать неудовольствия. В конце концов знаменитая Аза имеет право на любые прихоти, даже на такие невероятные, как, скажем, ходить пешком.
Выйдя из вокзала, певица стремительно пошла по аллее, обсаженной низкими пальмами. Она с наслаждением вдыхала воздух весеннего вечера. Сегодня утром, закутанная в теплые меха, она в Стокгольме села в вагон, промчалась туннелем под Балтийским морем, пронеслась через всю Европу, затем вновь проехала туннелем под водами Средиземного моря, затем по восточной кромке Сахары и вот спустя несколько часов, еще до захода солнца любуется берегами Нила и с наслаждением расправляет молодое гибкое тело, немножко занемевшее после долгого сидения.
Она быстро шагала, забыв о своем спутнике, который едва поспевал за ней, и совершенно незаметно для себя дошла до огромного отеля. Номер ей приготовили на привилегированном верхнем этаже, откуда открывался вид на разлив Нила, который когда-то, тысячелетия назад, в пору своей юности, низвергался здесь водопадами со скал, скрытых теперь под водой, поднявшейся после возведения плотины и орошающей некогда пустынные земли.
Войдя в лифт, Аза спросила про ванну — та, естественно, была уже приготовлена. Не желая спускаться в ресторан, она распорядилась через два часа подать обед в номер.
Поручив г-ну Бенедикту проследить за прислугой, вносящей в номер вещи, Аза заперлась в спальне и даже отослала горничную. Около кровати была дверь в ванную, Аза настежь распахнула ее и стала быстро раздеваться. Оставшись в одном белье, она села на софу и подперла подбородок рукой. Ее огромные глаза утратили выражение детского удивления, в них появилось какое-то несгибаемое упрямство, холодный, жесткий свет; пурпурные губы сжались. Аза на минутку задумалась.
Сорвавшись с софы, она подбежала к телефонному аппарату, стоящему по другую сторону кровати, сняла трубки.
— Прошу соединить меня с центральной станцией европейских телефонов.
Некоторое время она молча слушала.
— Да… Хорошо… Это Аза. Скажите, где доктор Яцек? Узнайте, пожалуйста.
Через несколько секунд ей ответили:
— Его превосходительство генеральный инспектор телеграфной сети Соединенных Штатов Европы сейчас находится в своей квартире в Варшаве.
— Соедините меня с ним.
Аза повесила трубки, вернулась на софу и вытянулась на мягких подушках, положив руки под голову. Странная улыбка блуждала на ее устах, глаза, устремленные к потолку, блестели.
Зазвенел негромкий звонок, и она вновь подошла к аппарату.
— Это ты, Яцек?
— Я.
— Я в Асуане.
— Знаю. Ты должна была быть там еще вчера.
— Я не поехала. Не хотела, чтобы вчерашний концерт состоялся.
— Вот как?
— И ты даже не спросишь, почему?
— Гм…
— Ведь у тебя вчера было ежегодное собрание Академии…
Аза схватила записную книжечку из слоновой кости, которую, раздеваясь, бросила на кресло, и, взглянув на запись — она переписала эти сведения по дороге из какой-то газеты, — продолжала:
— В восемь вечера в Вене. Ты докладывал там о…
Не разобрав нечетко написанное слово, Аза отбросила записную книжку и закончила с легкой укоризной в голосе:
— Вот видишь, я знаю!
— И что же?
— Ты не смог бы присутствовать на концерте. Он состоится завтра.
— Завтра меня тоже не будет.
— Будешь!
— Не могу.
— Но самолетом же это всего два-три часа…
— Значит не хочу.
Аза громко рассмеялась.
— Хочешь! И еще как хочешь! И будешь! До свидания. Нет, погоди! Ты слушаешь?.. Знаешь, что я делаю сейчас?
— Время обеденное. Скоро сядешь за стол.
— Нет, я собираюсь принять ванну! И сейчас на мне почти ничего нет.
Аза со смехом повесила трубки, сорвала с себя рубашку и бросилась в мраморную ванну.
А тем временем г-н Бенедикт, отпустив прислугу, еще раз пересчитал взглядом веши. Все было в полном порядке. Он перешел в свой номер, вид которого сразу же вызвал у него беспокойство. Номер показался ему слишком большим и роскошным. Поискав взглядом на стенах ценник и не обнаружив его, Бенедикт позвонил.
Он спросил у вошедшего лакея, сколько стоит номер. Лакей изумленно воззрился на него: подобные вопросы были не в обычае «Олд-Грейт-Катаракт-Паласа», однако почтительно ответил, назвав весьма внушительную сумму.
Глаза г-на Бенедикта, светившиеся добродушием и хитростью, стали круглыми. С таинственно-доверительной миной он обратился к лакею:
— Голубчик, а не найдется ли у вас номера подешевле? Понимаешь, этот для меня слишком дорог.
Отлично вымуштрованный лакей все-таки сумел сохранить невозмутимое выражение на физиономии.
— На этом этаже других номеров нет.
— Почему же меня не спросили?
— Мы полагали, раз вы с госпожой Азой…
— Все верно, дорогуша моя, но я всю жизнь работал, как вол, не для того, чтобы теперь набивать вам карманы.
— Может быть, этажом ниже?
— Что поделаешь! Распорядись, голубчик, перенести мои вещи
Бенедикт спустился вниз и осмотрелся в отведенном ему мстительным лакеем номере; по правде сказать, он был немногим дешевле, чем предыдущий, но зато совершенно темный, и к тому же в нем омерзительно воняло бензином от какого-то мотора, находящегося внизу во дворе. Г-н Бенедикт, грустно вздохнув, разложил вещи, после чего отправился на прогулку, не забыв тщательно запереть дверь на ключ.
Напротив отеля находился огромный игорный дом. Г-н Бенедикт неспешным шагом направился к нему. Нет, сам он никогда не рискнул бы поставить ни одного золотого в столь непредсказуемой игре, как рулетка, но любил смотреть, как другие проигрывают деньги. При этом он испытывал какое-то странное ощущение. Сравнивая себя с легкомысленными и алчными игроками, он чувствовал душевный подъем и даже нечто, смахивающее на умиление, при мысли о собственной бережливости. И в то же время г-н Бенедикт отнюдь не был жаден или скуп. Он страстно любил пение и с удовольствием мотался по всему свету в дорогих поездах, лишь бы побыть в обществе восхищавших его певиц. Весьма серьезно он подумывал, не броситься ли ему в какое-нибудь любовное приключение, но поскольку опыта в подобных делах у него не было, он неизменно откладывал это на «потом».
В дверях игорного зала его остановил изысканно одетый лакей.
— Сударь, вы не во фраке? — полуутвердительно, полувопросительно бросил он, окинув критическим взором г-на Бенедикта.
Почему-то вопрос привел Бенедикта в ярость.
— Да, не во фраке, болван! — рявкнул он, стараясь при этом сохранять максимальное достоинство, отодвинул загородившего дорогу лакея и вошел в зал.
Однако это незначительное происшествие испортило ему настроение. Некоторое время он бродил по залу, раздражаясь от того, что люди, на которых он смотрит, преимущественно выигрывают, без труда, словно назло ему, получая деньги, а когда какая-то размалеванная кокотка попросила его одолжить сто золотых, он молча развернулся и отправился назад в отель.
Аза уже ожидала его в столовой.
После обеда вдвоем г-н Бенедикт протянул певице раскрытый портсигар, но она легонько отвела его рукой.
— Нет, спасибо. Я не буду курить. И вас попрошу сегодня не курить у меня. Мне надо беречь горло перед завтрашним концертом.
Не без грусти на добродушной физиономии старик поспешно спрятал портсигар.
— А вы ступайте к себе в номер и покурите, — предложила Аза. — Он же рядом.
— Я переехал этажом ниже.
— Почему?
— Здесь мне слишком дорого!
Аза расхохоталась.
— Нет, старичок, вы просто прелесть! У вас же куча денег.
Г-н Бенедикт почувствовал себя уязвленным. По-отечески снисходительно он глянул на смеющуюся девушку и с легким упреком в голосе изрек глубокомысленную сентенцию:
— Милостивая государыня, кто не бережет денег, у того они и не держатся. У меня есть деньги, потому что я их не швыряю понапрасну.
— А зачем же они тогда вам?
— Это мое дело. Да хотя бы для того, чтобы засыпать вас цветами после каждого выступления. Полжизни я трудился, как проклятый. И если бы я поступал, как вы…
— Как я?
— Разумеется. Вы телеграфом отменили вчерашний концерт, и теперь вам придется заплатить огромную неустойку компании..
— Но мне так захотелось!
— Ах, если бы вам действительно так захотелось! Но на самом-то деле вы опоздали по легкомыслию — засидевшись на приеме в клубе, пропустили последний поезд.
Певица внезапно вскочила. Ее детские глаза вспыхнули гневом.
— Сударь, никому об этом ни слова! Ни слова! И вообще это неправда. Я не приехала вчера, потому что мне так заблагорассудилось.
— Дорогая моя, ну зачем же так сердиться? — успокаивал ее перепугавшийся г-н Бенедикт. — Я, право же, вовсе не собирался обидеть вас и не думал…
Аза уже смеялась.
— Ничего страшного. Ой, какое у вас испуганное лицо! — воскликнула она и совершенно неожиданно вдруг спросила: — Господин Бенедикт, я хороша собой?
Вытянувшись, она стояла перед ним в легком цветастом домашнем платье с широкими рукавами и клинообразным вырезом на шее. Откинутая голова с короной светлых волос, руки сплетены на затылке, из опавших рукавов выглядывают округлые белые локти. На устах дрожит манящая улыбка, чуть-чуть выпяченные губы набухли, словно боятся слишком широко раскрыться и выпустить на волю поцелуи.
— Хороша! Хороша! — прошептал г-н Бенедикт, восторженно глядя на нее.
— Очень хороша?
— Очень!
— Я красивая?
— Прекрасная! Чудная! Несравненная!
— Я устала, — опять сменив внезапно тон, бросила Аза. — Ступайте к себе.
Однако после его ухода она не пошла отдыхать. Опершись белыми локтями на стол и обхватив ладонями подбородок, она долго сидела, нахмурив брови и сжав губы. Недопитый бокал шампанского стоял перед ней, сияя в свете электрических свечей всеми оттенками топазовой радуги. То был старинный, бесценный венецианский бокал, тонкий, как лепесток розы, чуть-чуть зеленоватого оттенка, словно бы подернутый легкой опалово-золотистой дымкой. Рядом на белоснежной скатерти лежали виноградные гроздья: огромные, почти белые из Алжира и маленькие, цветом похожие на запекшуюся кровь — со счастливых греческих островов.
В дверях встал лакей.
— Можно убрать со стола?
Аза вздрогнула и поднялась.
— Да. И, пожалуйста, пошлите мне с горничной еще бутылку шампанского в спальню. Только не очень охлажденного.
Она прошла в будуар, достала дорожную стальную шкатулку и открыла ее золотым ключиком, который висел у нее на поясе вместе с брелоками. Высыпала на стол связку записок и счетов. Долго подсчитывала какие-то суммы, выводя карандашом цифры на пластинках слоновой кости, а затем вынула пачку телеграмм. Аза торопливо проглядела их, выписывая из некоторых имена и даты. В основном то были приглашения из разных городов со всех сторон света удостоить их посещением и дать один-два концерта в самом большом театре. Телеграммы были короткие, составлены почти в одних и тех выражениях, вся их красноречивость заключалась в цифре, названной в конце, как правило, очень большой.
Некоторые из них Аза откладывала с презрительным или безразличным видом, над некоторыми надолго задумывалась, прежде чем записать на табличке дату.
Из пачки телеграмм выпал случайно попавший в них листок. На нем было написано только одно слово: «Люблю!» — и имя. Певица улыбнулась. Красным карандашом она дважды подчеркнула имя, несколько секунд думала, приписала дату двухнедельной давности и стала искать в шкатулке место для этого листка.
У нее из рук посыпались записки и листки, нередко вырванные из записных книжек: на некоторых было второпях написано всего несколько слов. На иных ее рукой были сделаны короткие приписки — дата, цифры, иногда просто какой-нибудь значок. Аза перебирала их, то улыбаясь, то хмуря брови, словно с трудом припоминая писавшего. Один листок она поднесла к свету, чтобы прочесть нечетко написанное имя.
— Ах, это он, — прошептала Аза. — Уже умер.
Она порвала бумажку и бросила в угол.
Теперь в руках у нее был листок старинной черпальной бумаги, несколько уже пожелтевший и словно выглаженный частыми прикосновениями пальцев. Он источал аромат ее платья и тела: видно, она долго носила его при себе, прежде чем он попал в эту стальную шкатулку к другим бумагам.
Губы ее дрогнули; она пристально всматривалась в написанные карандашом несколько слов, почти уже стершихся.
Чуть отчетливей выделялись только два фрагмента, где рука писавшего сильней нажимала на карандаш: «ты прекрасна» и подпись внизу — «Марк».
Аза долго сидела, не отрывая глаз от этих слов, вспоминая человека, который написал их, день и час, когда они были написаны, а потом, углубляясь все дальше в прошлое, перешла к воспоминаниям о своей жизни, начиная с ранней юности, с затерявшегося где-то в памяти детства.
Нищета, вечно пьяный отец, вечно плачущая мать, работа в кружевной мастерской и первые взгляды мужчин, оглядывавшихся на улице на совсем еще маленькую девочку.
Аза с отвращением содрогнулась.
А перед глазами вставал цирк, танец на проволоке и аплодисменты… Аплодисменты, когда в финале бесстыдной любовной пантомимы она, отклонясь, держась на проволоке одной ногой, на пуанте, а вторую откинув назад, позволяла себя целовать гнусному шуту, стоявшему у нее за спиной.
Цирк содрогался от рукоплесканий, а у нее сердце сжималось от ужаса, потому что всякий раз шут, глядя на нее налитыми кровью глазами, шептал сдавленным голосом:
— Если не согласишься, макака, столкну, и свернешь шею.
Ужины в роскошных ресторанах и все те же взгляды и похотливые улыбки почтенных отставных сановников; улыбки, которые она уже умела обращать в золото…
Ненавистный омерзительный благодетель, имя которого она почти забыла; учеба пению и первое выступление, ну, а потом цветы, слава, богатство… Люди, которыми она научилась помыкать, прельщать, оставаясь совершенно холодной, а после, когда они надоедят или разорятся, равнодушно отбрасывать…
Аза вновь взглянула на записку, которую не выпускала из рук. Только от этого человека она бегала, только его боялась. Она помнит свои письма ему — письма, какие писали много веков назад, в прадавние смешные времена:
«О, если бы за мной не было всей этой жизни, если бы, целуя тебя, я могла бы сказать, что ты первый, кому я дарю поцелуй!.. »
Аза внезапно вскочила и, побросав все бумажки в шкатулку, побросав в беспорядке, нервным движением захлопнула ее. Некоторое время она расхаживала по комнате, и глаза ее сверкали под нахмуренными бровями. Красивый маленький рот искривился в усмешке, которая должна была бы выражать презрение, но приподнятые, чуть подрагивающие уголки губ создавали ощущение, что прославленная певица Аза готова вот-вот расплакаться.
Она потянулась к бутылке шампанского, уже несколько минут ожидавшей ее на столе. Налила до краев бокал и залпом выпила чуть охлажденное жемчужного цвета вино, стекающее белой пеной по пальцам.
И вдруг ей захотелось свежего воздуха. Она вошла в лифт, находящийся в номере, и поднялась на крышу.
Здесь на плоской кровле огромного здания был разбит сад с карликовыми пальмами, экзотическими кустами, редкими кактусами и цветами, источающими терпкий, удушливый аромат. Аза стремительно прошла по устланным тростниковыми циновками дорожкам и остановилась у ограждающей сад балюстрады.
Из пустыни дул освежающий ночной ветерок. Сухо шелестели карликовые пальмы, дрожали пергаментные листья смоковниц. Аза стояла и с наслаждением дышала. За спиной у нее находилась бескрайняя непроницаемая пустыня, до сих пор не покорившаяся трудолюбивым человеческим рукам, а перед ней внизу широко разлился Нил, над которым откуда-то со стороны Счастливой Аравии, со стороны Красного моря вставала огненная Луна.
Вода заблестела, засеребрилась, и где-то вдали над ее поверхностью можно было различить темные очертания словно бы скал и стволов, возносящихся из глубины; с каждой минутой в сиянии лунного диска они становились все отчетливей и резче… То были развалины храма, посвященного в древности Исиде, на давно уже затопленном острове.
Блуждающий взор певицы остановился на этих руинах, и ее прекрасные уста раскрылись в торжествующей улыбке.
V
В глубине души Хафид презирал и цивилизацию, и все ее выдумки. Он возил на базар финики по старинке, на верблюдах, как его отец, прадед и прапрадед в те давние времена, когда Ливийскую пустыню еще не пересекали одно — и двухрельсовые дороги и над нею не летали птицы из полотна и металла, внутри которых сидят люди.
Быть может, он был единственным человеком на свете, который всем сердцем радовался, что несмотря на колоссальнейшие усилия, затопление Сахары не удалось. Ему вполне хватало родного оазиса, в котором растут финиковые пальмы, и многолюдного базара в городе над Нилом.
Было раннее утро. Сидя на старом дромадере, он вместе с двумя работниками вел караван из восьми тяжело навьюченных верблюдов и заранее радовался, предвкушая, как продаст груз в лавки, а на вырученные деньги вместе с друзьями напьется до бесчувствия. Хмельное было единственным из даров цивилизации, который он принимал и ценил. Под старость Аллах тоже стал снисходительней и, чтобы не оттолкнуть от себя и без того не слишком верящих в него почитателей, уже не так строго запрещал им огненные напитки.
И Хафид в простоте своего сердца радовался, что в оазисе растут пальмы и на них созревают финики, что он возит эти финики в Асуан, а там люди охотно их покупают и что единый и всемилостивый Бог дозволил неверным собакам настроить кабаков и закрывает глаза, когда правоверные напиваются в них. Он как раз размышлял над столь совершенным и справедливым устройством мира, когда его работник Азис, которому надоело долгое молчание, заговорил, указав пальцем на запад:
— Люди говорят, что вчера где-то за дорогой упал с неба огромный камень.
Хафид философски пожал плечами.
— Может, звезда какая-нибудь сорвалась, а может, одна из этих проклятых искусственных птиц сломала крылья.
Помолчав, он улыбнулся.
— Приятно видеть, как падает человек, который ни с того ни с сего летает по воздуху, вместо того чтобы ездить на верблюде, сотворенном Аллахом нам для удобства.
Но поскольку человек он был практичный, то, подумав, спросил с интересом:
— А не знаешь, куда он упал?
— Не знаю. Говорят, за дорогой, но, может, врут.
— Может, врут, а может, и нет. В любом случае, когда будем возвращаться, надо будет поискать. Ежели кто упал, так убился, а тому, кто убился, уже не нужны деньги, которые у него могли быть при себе. Жаль будет, если их приберет к рукам какой-нибудь недостойный человек.
Еще с час они проехали в молчании. Солнце уже припекало, когда они доехали до скал, за которыми виднелись стены города над Нилом. Хафид чрезвычайно дружелюбно посматривал на скалы: они были важным звеном в божественной гармонии мира. Когда, пьяный, он возвращался домой, гонимый, невзирая на усталость, к родному очагу героическим чувством долга, его дромадер, лишенный, как и всякий скот, души, опускался здесь в известном месте на колени и сбрасывал хозяина на скудную травку, растущую в тени скалы. Таким образом Хафид с чистой совестью, ни в чем не укоряя себя, мог проспаться и прийти в чувство.
Хафид как раз размышлял о столь мудром установлении Провидения, и тут вдруг верблюды начали фыркать и тянуть длинные шеи к торчащей из песка потрескавшейся скале. Азис забеспокоился и вместе со вторым работником Селимом пошел взглянуть, что там встревожило верблюдов. Через минуту они принялись звать Хафида.
Дело в том, что там они обнаружили дрожащих от страха пришельцев с Луны.
Когда Рода открыл глаза, у него было ощущение, будто заснул он всего несколько минут назад, и еще он был безмерно поражен, увидев, что на горизонте уже взошло солнце и довольно сильно пригревает. Не сразу он вспомнил, что находится на Земле и что тут так заведено. Спутник его спал чутко и тоже вскочил, едва Рода зашевелился.
— Что случилось? — бросил он, протирая глаза.
— Ничего. Солнце светит.
Они оба вылезли из укрытия, удивляясь, что ночь прошла без снега и мороза. При этом они убедились, что Земля все же не лишена растительности покрупней и обильней, чем та, какую они видели вчера: в нескольких десятках шагов от них раскачивались чудные высокоствольные деревья с зелеными венцами огромных листьев на макушках. Это вдохнуло в них надежду, что, быть может, удастся сохранить здесь жизнь, и только воспоминание о виденных вчера чудовищах отравляло их души тревогой.
Боязливо оглядываясь, они стали красться к деревьям, но, завернув за скалу, застыли, потрясенные открывшейся картиной. Перед ними возносилось нечто, что можно было бы назвать развалинами дома великанов. Остолбенело взирали они на невероятной толщины колонны, на гигантские каменные блоки, которые опирались на эти колонны и, видимо, служили крышей.
— Существа, которые здесь жили, были больше Победоносца раз в шесть, а то и в десять, — задрав голову, пробормотал Матарет.
Рода, заложив руки за спину, рассматривал руины.
— Они уже давно покинуты и разрушились, — изрек он. — Посмотри, какие колючие кусты выросли в трещинах.
— Да. И все же, учитель, это доказывает, что Земля вовсе не необитаема, как ты неизменно втолковывал нам. Тут, наверное, есть люди, только огромные. Взгляни-ка! Какие изображения на стенах! Посмотри, они точь-в-точь похожи на людей, только у некоторых собачьи, а у некоторых птичьи головы.
Рода недовольно поморщился.
— Дорогой мой, — наставительно произнес он, — я всегда утверждал, что сейчас на Земле людей нет, но когда-то они вполне могли жить на ней. И против этого я никогда ничего не говорил. Да, весьма вероятно, что раньше на Земле были другие условия и прежде чем она стала бесплодной пустыней, на ней могли жить люди или какие-нибудь подобные людям существа. Теперь же, как сам видишь, их бывшие жилища лежат в развалинах, жизнь здесь угасла, и…
Он умолк, обеспокоенный каким-то звуком, долетевшим до них из пустыни. К ним приближались неправдоподобные и страшные существа о четырех ногах и двух головах, из которых одна покачивалась впереди, а вторая, очень смахивающая на человеческую, торчала над спиною зверя.
— Бежим! — крикнул мудрец, и оба потрусили к укрытию, в котором провели ночь. Там, зарывшись в сухие пальмовые листья, они в смертельном страхе ожидали, когда ужасные эти твари пройдут мимо.
Однако их надежде не суждено было сбыться. Верблюды их учуяли, а работники Хафида вскоре вытащили из-под пальмовых листьев и, пораженные своей находкой, стали призывать хозяина.
Араб неспешно — работники были черными, и чрезмерно торопиться на их зов было бы ниже его достоинства — приблизился, и глазам его открылось поистине поразительное зрелище.
Возле разметанного логова из камней и сухих листьев стояли два страшно перепуганных существа, имеющих человеческий облик, но до смешного маленьких. Один из этих человечков был лысый и лупоглазый, а второй вертел слишком большой для своего росточка головой с торчащими патлами и лопотал что-то, чего ни один порядочный человек понять не смог бы. Работники с наигранной угрозой тыкали в их сторону палками и взахлеб хохотали над их безумным страхом.
— Что это такое? — осведомился Хафид.
— Не знаем. Может, ученые обезьяны, а может, люди. Ишь, говорят чего-то.
— Да где вы видели, чтобы люди так выглядели? Таких людей не бывает.
Хафид слез с дромадера, схватил лохматого человечка за шиворот и поднял, чтобы получше рассмотреть. Тот отчаянно заверещал и задрыгал ногами. Это привело работников в неописуемый восторг, они чуть не лопались от хохота.
— Заберем их с собой в город?
— Может, кто купит…
Хафид затряс головой.
— Нет, продавать не стоит. Куда больше можно будет заработать, если показывать их в клетке или водить на веревке. А что они тут делали, когда вы пришли?
— Лежали, прятались, — отвечал Азис. — Я едва их вытащил. Они страшно перепугались, смотрели то на меня, то на верблюдов и что-то лопотали по-своему.
А тем временем лысый человечек взобрался, чтобы казаться повыше, на камень и принялся что-то говорить, размахивая руками. Хафид и оба его работника смотрели на него, а когда он кончил, весело рассмеялись, решив, что это одна из шуточек, которой карлика выучили в цирке.
— Может, он голодный? — заметил Хафид.
Селим вынул из вьюка горсть фиников и на ладони подал их карликам. Те недоверчиво смотрели, не решаясь протянуть руку к предложенным плодам. Тогда подстрекаемый сострадательностью Селим левой схватил лохматого за шиворот, а правой попытался засунуть ему в рот финик, но тут же вскрикнул и выругался. Человечек впился ему в палец зубами.
— Ишь ты, кусается, — удивился Азис и, отодрав от бурнуса кусок грязной тряпки, крепко обмотал ею голову опасного уродца. После этого обоих привязали веревками из пальмового волокна к вьюкам и поспешили с неожиданной добычей в город.
— Первым делом нужно будет купить клетку, — рассуждал Хафид. — Так их показывать нельзя. Еще сбегут. — И, подумав, добавил: — Не надо, чтобы люди прежде времени их увидели. Лучше, если мы пока спрячем их в мешки.
Перед въездом в город он засунул сопротивляющихся карликов в пальмовые мешки и крепко их завязал.
Днем, занятый куплей-продажей, Хафид начисто забыл про них, тем паче, что день был особенный и поглазеть было на что. Вроде какая-то певица вечером должна была давать представление, и на него со всех сторон света съехалась тьма народу. Из каждого поезда, приходившего на вокзал, высыпали толпы, а самолеты садились целыми стаями, точь-в-точь как осенью ласточки, прилетающие с европейских берегов. Было множество нарядных дам и господ, у которых, видать, нет другой заботы, кроме как по нескольку раз в день переодеваться и показываться людям в новых нарядах, точно на маскараде.
Хафид, сгрузив с верблюдов финики, бродил по городу, глазел, дивился. Только вечером в кабаке он вспомнил про найденных уродцев и велел работникам привести их. Селим побежал к верблюдам за добычей, Азис же принялся рассказывать, с каким огромным трудом ему удалось добиться доверия этих странных существ и накормить их кокосовым молоком.
— Они вовсе не глупые, — доказывал он, — у них даже имена есть! Они все показывали друг на друга и повторяли: «Рода! Матарет!»
— Ага! Так их, наверное, называли в цирке, откуда они сбежали. Это, видать, ученые обезьяны, — сделал вывод Хафид.
И в предвкушении больших денег, которые он соберет, показывая их, Хафид велел принести большую бутылку водки. При этом он ощутил в своем благородном сердце прилив щедрости и пригласил в отдельную комнату нескольких друзей, желая угостить их и для почина показать задаром карликов, которых уже привел Селим.
Первым делом со стола все убрали и вытащили его на середину комнаты. Погонщики верблюдов и ослов, возчики, носильщики с любопытством разглядывали карликов, вертели их во все стороны, щупали лица, проверяя, похожа ли их кожа на человеческую. Хафид принялся хвастать, какие они сообразительные.
— Рода, Матарет, — говорил он, показывал пальцем то на одного, то на другого.
Человечки кивали, явно довольные, что наконец-то их поняли. После этого все наперебой стали задавать им вопросы, естественно, не получая вразумительного ответа. Но спустя некоторое время карлики, видимо, сообразили, чего от них добиваются собравшиеся, один из них, который откликался на кличку Рода, наклонился к окну, сквозь которое в комнату заглядывала Луна, и принялся упорно тыкать в нее рукой, лопоча что-то на непонятном языке.
— Они с Луны свалились, — пошутил Хафид.
Ответом ему был громовой хохот. Все ради забавы стали показывать на Луну и жестами изображать малышам, как они упали с нее. И всякий раз, когда те утвердительно кивали, гости, большинство из которых уже изрядно захмелело, заходились неудержимым пьяным смехом.
Кто-то подсунул плешивому уродцу по кличке Матарет плошку с водкой. Тот, должно быть, страдал от жажды и, ничего не подозревая, отхлебнул большой глоток, но тут же ко всеобщей радости поперхнулся и страшно закашлялся. Второй страшно разозлился, стал что-то верещать, топая ногой и размахивая руками. Это было до того смешно, что когда он немножко приутих и перестал яриться, один возчик взял индюшачье перо и принялся щекотать человечку в носу, чтобы вызвать у него новый приступ гнева.
А отравившийся водкой Матарет лежал на столе и стонал, сжимая руками плешивую голову.
V
Плавно, медлительно, как птица, что, паря на широких крылах, сплывает к земле, белый самолет спускался на спокойное в вечерний час Нильское водохранилище. Яцек летел один, без пилота. Уже с минуту как он остановил вращавшийся пропеллер, и теперь самолет скользил вниз на распростертых крыльях, словно воздушный змей, лишь иногда легонько покачиваясь при дуновении ветра. Далеко впереди, там, где когда-то был священный остров Фила, над освещенными огнями развалинами сияло зарево.
Уже почти коснувшись воды, Яцек снял руки со штурвала и резко потянул два находившихся по бокам рычага. Под самолетом в тот же миг развернулась парусиновая лодка и острым днищем коснулась нильской волны, взбив тучу брызг, напоенных лунным серебром.
Двумя другими рычагами Яцек поднял вверх белые крылья, и они образовали два соединенных накрест паруса, подобных парусам лодок, что плавают у подножья Альп по озеру Леман.
Откуда-то от Аравии дул легкий ветерок, гоня по воде мелкую серебристую волну. Яцек позволил нести себя волнам и ветру, слушая журчанье струй, обтекающих нос лодки. И только когда перед ним замаячил близкий берег, он очнулся от задумчивости и стал ловить парусом ветер, направляя лодку к виднеющимся в отдалении руинам.
Некоторое время он плыл в лунном свете один, но по мере приближения к бывшему храму Исиды ему стали чаще встречаться самые разные лодки, и в конце концов вокруг оказалось их столько, что под ними уже и воды не было видно. Все они направлялись к храму, теснясь и стараясь обогнать друг друга; то и дело слышались ругательства лодочников или крики женщин, перепуганных креном утлого суденышка, получившего удар веслом в борт. Многочисленные моторные лодки, движителем которых было электричество, едва продвигались в этой сутолоке, с трудом пробивая себе дорогу сверкающими носами.
К счастью, перед Яцеком открылось несколько метров свободного пространства, и он вновь раскинул крылья самолета и включил воздушный пропеллер.
Легко, как чайка, срывающаяся с водной глади в полет, самолет Яцека взмыл вверх и закружил над теснящимися лодками. Они сверкали под ним разноцветными огоньками, словно фонарики, пущенные по реке. Где оказывалось чуть побольше свободного места, вода тут же воспроизводила огни, горящие на лодках, дробя мелкой набегающей волной их отражения и превращая в продолговатые переливающиеся золотом пятна.
Храм Исиды сиял изнутри, словно в нем под пурпурными тентами, натянутыми между колоннами без капителей, укрывалось солнце.
При входе у остатков пилонов находились бдительные контролеры; они принимали у зрителей билеты и назначали им провожатых, которые указывали лодкам места в залитом водой храме. Яцек бросил сверху билет, завернутый в носовой платок, и опустился на своем крылатом челне в ненакрытом тентом преддверии храма.
Тут высились колонны исполинских размеров, затопленные на половину своей высоты и уже покрывшиеся плесенью на границе с водой, но выше сияющие неуничтожимой красотой красок, которые пережили столько веков, что даже мысль, желая счесть их, путается и сбивается. У входа в анфиладу гигантских нефов, накрытых покровом из пурпурной ткани и залитых ярким светом, на двух балкончиках, подвешенных над самой водой на пилонах, тоже стояли контролеры и зорко следили, чтобы внутрь не проник кто-нибудь, не имеющий на то права. Здесь Яцек свернул крылья самолета, снял их, закрепил по бокам и дальше поплыл в ничем не примечательном челноке, в какой превратился его воздушный аппарат.
Храм весьма смахивал на ярмарочный балаган; его заполняли цивилизованные и богатые варвары со всех концов света. Они плавали в неаполитанских барках, моторных лодках, черных венецианских гондолах, сновали по святотатственно подвешенным к стенам и колоннам металлическим галереям, отираясь локтями о древние иероглифы и изображения богов, которых много десятков столетий назад вырезали в камне и которые теперь стояли по колено в воде, что затопила их священный остров.
Яцек в неприметном дорожном костюме, не привлекая ничьего внимания, лавировал между лодками, направляясь вглубь сквозь становившийся все более густым лес колонн, покрытых резьбой и увитых у верхушек венками искусственных электрических огней.
В последнем зале ламп не было. Под сохранившимся с древних времен перекрытием — гранитными блоками, лежащими на лотосах, которыми завершались колонны, — струился голубоватый переливающийся полусвет, словно застывшая и плененная летняя зарница, разливаясь во все стороны от головы таинственной богини. В этой части храма у пьедестала изваяния вода была не так глубока и тоже насыщена волнами голубого света; она казалась каким-то сказочным водоемом, где бьет волшебный источник.
И в этом свете высилось огромное черное изваяние Исиды с поднятой рукой, с замершими приоткрытыми устами, на которых словно застыло тысячелетия назад слово неизреченной, до сих пор остающейся непостижимой тайны.
А у ног статуи на огромном искусственном листе лотоса стояла женщина. Ее светлые волосы были спрятаны под полосатым, как у египетской богини, платом; голову венчала тиара, украшенная в навершии птичьей головой и солнечным диском. Тонкие плечи были закутаны в серебристый газ, бедра завернуты в тяжелую жесткую ткань, стянутую поясом, который скреплял громадный бесценный опал. Из-под ткани выступали белые обнаженные ноги с золотыми браслетами на лодыжках, точно такими же, какие были на запястьях воздетых рук.
Увидев, с каким вожделением пялится на нее толпа, Яцек опустил глаза и стиснул зубы.
Аза пела, сопровождая пение чуть заметными волнообразными движениями плеч и бедер. Пела странную ритмичную песню о богах, которых уже много тысячелетий никто не почитает.
Пела о борьбе света и тьмы, о высшей мудрости, сокрытой непроницаемой тайной, о Жизни и Смерти.
Пела о героях, о крови, о любви…
Скрытый оркестр, казалось, звучал где-то в истекающей светом глубине, и гармоническая музыка послушно следовала за голосом певицы, дрожа, словно в священном ужасе, когда та повествовала о таинстве возрождения к жизни, вторила ей бурей звуков, когда она славила победоносных светозарных героев, шептала тихо, пламенно, самозабвенно, когда Аза пела о блаженстве и сладости любви.
Она пела в полуразрушенном, подмытом водой храме Исиды, окруженная блистательной толпой, которая не верила ни в богов, ни в героев, ни в жизнь, ни в смерть, ни в любовь, а пришла сюда только потому, что то было неслыханное, небывалое событие — концерт в древнем храме, и его давала знаменитейшая, прославленная Аза, а еще потому, что за вход нужно было выложить сумму, которой бедняку хватило бы на год жизни.
Немного здесь было таких, кто пришел ради великого искусства артистки и теперь наслаждался ее дивным выразительным голосом, колдовски воссоздающим то великое, что было, но минуло и теперь почти забыто. Зрители, в основном, глазели на ее лицо, на обнаженные колени и плечи, мысленно подсчитывали стоимость немногих, но безмерно дорогих украшений и с нетерпением ждали, когда она кончит петь священные гимны и начнет танцевать перед толпой.
Но понемногу начало свершаться чудо. Певица трогала голосом людские души, сокрытые глубоко в утробах, и пробуждала их. Раскрывались доселе незрячие глаза, и души, потрясенные тем, что они существуют, что живы, начинали вибрировать в такт собственного напева… То один зритель, то другой вдруг прижимал руки к груди и словно бы впервые разверзшимися очами ловил странные, спавшие в мозгу воспоминания, полученные в наследство от многих и многих поколений, и под воздействием певицы ему краткий миг мнилось, будто он и впрямь предан богине и готов идти на битву за свет, как только призовут его эти уста — царственные, обольстительные, властные. И тогда обострившимся слухом человек ловил каждый звук ее голоса, самозабвенно следил взглядом за каждым движением ее почти нагого тела. В короткие перерывы, когда она прекращала петь и только кружилась в священном танце, колышась в такт ритму, который подавала ей откуда-то из глубин умолкающая музыка, такая тишина наполняла бывший храм, что был слышен легкий-легкий плеск волн, что долгими десятилетиями неутомимо подмывали колонны и слизывали вырезанные в граните таинственные знаки.
Яцек медленно поднял глаза. Свет незаметно переходил из голубоватого в фиолетовый и почти сразу же в кроваво-пламенный; яркие лучи, блуждавшие под потолком, неизвестно когда погасли; только вода пылала — как море холодного огня, да какие-то застывшие молнии вспыхивали за изваянием Исиды, которое на этом фоне стало еще черней и, казалось, увеличилось, выросло. В темноте уже была неразличима таинственная улыбка прекрасных уст богини; только рука, поднятая на высоту лица, все тем же мягким, сдержанным жестом то ли тщетно призывала к молчанию, то ли подавала некий знак, который уже многие тысячелетия никто не был способен ни понять, ни истолковать.
На какое-то мгновение Яцеку почудилось, будто на темном лице богини он видит живые глаза, обращенные к нему. И не было в них ни гнева, ни возмущения этими людьми, что устраивают развлечения в месте, которое некогда соорудили для свершения величайших таинств, не было сожаления по давнему поклонению, не было печали, что храм разрушается; в этом взгляде читалось лишь непостижимое, уже десятки веков длящееся ожидание человека, который придет сегодня… завтра… через столетие… через тысячу лет, покорится жесту богини, требующему молчания, и воспримет из ее уст высшую тайну.
Исида с высокого трона не видит разрушения, постигшего все вокруг, не видит толпы, не слышит шума, криков, пения, как, наверное, некогда не видела смиренных паломников, молчаливых жрецов, не слышала молитв, просьб, гимнов. Она смотрит вдаль, жестом велит молчать и ждет…
Идет ли? Близок ли тот, долгожданный?
И придет ли он когда-нибудь?
Но в этот миг Яцек вздрогнул от вдруг вспыхнувшего яркого света и голоса вновь запевшей Азы. Аза пела теперь об утраченном божественном возлюбленном Осирисе, передавая голосом и движениями самозабвенного танца сладость и упоение любви, страсть, тоску и отчаяние.
Яцек вздрогнул; он отвернулся, чувствуя, как лицо его заливает краска непонятного стыда. Он хотел вспомнить улыбку и только что виденные мысленным взором глаза богини, но вместо этого в воображении упрямо оставалось пойманное боковым зрением движение грудей танцовщицы и ее по-детски маленькие полуоткрытые влажные губы. Жаркая волна ударила ему в голову; он поднял веки и вызывающе, страстно, забыв обо всем, всматривался в Азу.
А ее белые плечи трепетали, и трепет пробегал по всему телу от головы до ног, когда с уст, словно набухших от желания и еще болящих после поцелуев, лилась песнь о божественном Осирисе, о сладости его объятий и о пламенном, жизнь отнимающем обладании. Рухнули чары, державшие людей в заколдованном круге. Души, наполовину выглянувшие из тел, мгновенно укрылись в них, как прячутся в дупла деревьев малые лесные зверьки; люди уже не могли слушать иначе, как сладострастными нервами, возбуждающими застывшую кровь. Глаза их мутнели, кривились губы в похотливой улыбке, в горле щекотало от вожделения.
Теперь толпа стала хозяином, а певица — купленной ею рабыней, которая за деньги обнажает плечи и грудь, под видом искусства за деньги позволяет прикасаться к себе липкими, нечистыми мыслями и выставляет на всеобщее обозрение тайны своих чувств.
Яцек невольно поднял глаза на лицо богини; как прежде, оно было невозмутимо, в нем чувствовалось ожидание, и непостижимая улыбка таилась на устах.
Вновь — мгновение полнейшей тишины, и весь храм взорвался громом рукоплесканий, несущихся, подобно лавине, отовсюду. Вода под раскачивающимися лодками заплескалась, заволновалась.
Аза кончила петь и, усталая, оперлась о колени изваяния Исиды. Две служанки набросили ей на плечи белый плащ, но она не уходила, взглядом и улыбкой благодаря за безумную, все не утихающую овацию. Люди без конца выкрикивали ее имя и бросали ей под ноги цветы, так что вскоре она стояла словно в плавучем саду — царственная, торжествующая. А над ней все так же возносилась рука Исиды, тщетно призывая мистическим жестом к безмолвию…
Вдруг Аза, словно что-то припомнив, стала осматриваться и наконец ее взгляд встретился со взглядом Яцека. Уста ее на миг тронула едва уловимая улыбка, и тут же она отвела глаза. Яцек увидел, что к ней приблизился небезызвестный господин Бенедикт, который ездит за ней по всему свету. Аза что-то сказала ему, потом говорила с другими людьми, теснившимися вокруг, — улыбающаяся, кокетливая и одновременно царственная. Чувствовалось, она убедилась, что Яцек здесь, и теперь намеренно избегает смотреть на него.
Яцек отплыл к гигантским колоннам и направился между ними к выходу. Его гнело непонятное чувство стыда, раздражали взгляды людей, удивленных, что какой-то чудак покидает «театр» именно сейчас, когда Аза, кончив первый номер программы, выступит в самой знаменитой своей роли — нагая будет исполнять танец Саламбо[2] со змеями, а потом со священным покрывалом богини.
Яцеку было душно в огромном зале и тесно. Хотелось поскорей выбраться на простор, увидеть звезды и водную ширь, посеребренную лунным светом.
Столпотворение перед храмом прекратилось. Часть лодок была внутри, часть, не нашедшая там места, вернулась в город. Только несколько пароходиков ожидали зрителей, что занимали места на галереях. Яцек проплыл мимо них и повернул к берегу. Ему не захотелось ни поднимать парус, ни включать мотор, и он поплыл, подгоняемый ветерком, дующим от Аравии, чуть покачиваясь на слабой волне.
Недалеко от берега ему почудилось, будто кто-то позвал его по имени. Удивленный, он глянул на берег — там было тихо и пусто, лишь в лунном свете на фоне неба вырисовывались тонкие силуэты трех пальм. Он уже собрался плыть дальше, но снова услышал, а верней, почувствовал голос, который звал его.
Яцек пристал и вышел на берег. Под пальмами сидел полунагой человек с непокрытой головой, одетый в рваный бурнус; длинные черные волосы опадали ему на плечи. Он сидел неподвижно, скрестив на груди руки и устремив взгляд к звездам.
Яцек наклонился и заглянул ему в лицо.
— Нианатилока!
Человек неторопливо повернулся к нему и ответил дружеской улыбкой, не выказав ни малейшего удивления.
— Да, я.
— Что ты тут делаешь? Откуда ты взялся? — изумился Яцек.
— Сижу здесь. А ты?
Молодой ученый не ответил, а может, не захотел. После недолгого молчания он снова спросил:
— Откуда ты узнал, что я здесь?
— Я не знал.
— Но ты же звал меня. Дважды позвал.
— Я не звал. Просто в этот миг я думал о тебе.
— Но я же слышал твой голос.
— Ты услышал мою мысль.
— Странно, — прошептал Яцек.
Индус усмехнулся.
— А разве не странно все, что нас окружает? — заметил он.
Яцек молча сел на прохладный песок. Буддист не смотрел на него, но у Яцека было ощущение, что невзирая на это, тот видит его, более того, проникает в его мысли. Ощущение было гнетущее. Совсем недавно во время одного из многочисленных своих путешествий Яцек познакомился с этим непонятным человеком, и вот, объявший и постигший всю современную науку, обладающий могуществом, какое мало кто имел на Земле, с невольным презрением взирающий с одинокой башни духа на людскую толпу, он испытывает странную робость в присутствии этого «посвященного», отшельника с душой бездонной и, на первый взгляд, примитивной, как у ребенка. Но что-то неодолимо влекло Яцека к нему.
После знакомства Яцек часто встречал его в разных концах света, и всякий раз встречи эти были совершенно неожиданны. Вот и сегодня необъяснимая встреча на берегу Нила…
Нианатилока улыбнулся и, не поворачивая головы, заметил, словно чувствуя недоумение Яцека:
— Я вижу ты прилетел сюда самолетом.
— Да.
— Зачем?
— Так мне захотелось.
— Почему же ты удивляешься, что я здесь. Мне ведь тоже могло захотеться.
— Да, но…
— У меня нет самолета, да?
— Да.
— А что такое эта твоя машина? Не средство ли, с помощью которого ты по своей воле меняешь местоположение собственного тела и картины, что видят твои глаза?
— Ну разумеется.
— А ты не допускаешь, что непосредственным усилием воли можно проделать то же самое без помощи всяких искусственных и сложных устройств?
Ученый опустил голову.
— Все, что я знаю, велит мне ответить: нет! И однако с тех пор, как я познакомился с тобой и такими, как ты…
— Почему же ты не хочешь непосредственно изведать силу собственной воли?
— Мне неизвестны ее пределы.
— У нее нет пределов.
Некоторое время оба молчали, любуясь Луной, которая плыла в небе, становясь все ярче. Наконец Яцек прервал молчание:
— Я уже видел необъяснимые вещи, которые ты делал. Взглядом ты опрокинул стакан с водой и проходил сквозь запертые двери. Если могущество воли безгранично, смог бы ты точно так же вот эту Луну, что движется по небосводу, направить в противоположную сторону или преодолеть без всяких защитных и вспомогательных средств пространство, что отделяет нас от нее?
— Да, — спокойно, с неизменной улыбкой на устах подтвердил индус.
— Почему же ты этого не делаешь?
Вместо ответа Нианатилока поинтересовался:
— Над чем ты сейчас работаешь?
Ученый нахмурил брови.
— Сейчас в моей лаборатории находится поразительное, страшное изобретение. Я ослабляю то сцепление сил, которое именуют материей. Я открыл ток, который будучи пропущен через любое тело, разделяет его атомы на первичные составные частицы и попросту уничтожает их.
— Ты уже производил опыты?
— Да, с мельчайшими пылинками материи в долю миллиграмма. Сила взрыва такой пылинки равна силе взрыва динамитной шашки.
— И ты так же легко мог бы ослабить связи и в более крупных массах? Скажем, взорвать и уничтожить дом, город, целый континент?
— Да. И что самое поразительное, с такой же легкостью. Мне достаточно пропустить ток…
— Почему же ты этого не делаешь?
Яцек вскочил и принялся расхаживать под пальмами.
— Ты отвечаешь вопросом на вопрос, — наконец промолвил он, — и притом это совершенно разные вещи. Тем самым я причинил бы неизмеримое зло, совершил бы акт уничтожения…
— А разве я не произвел бы сумятицу и замешательство во вселенной, которая должна быть такой, какова она есть, если бы стал перебрасывать звезды на другие орбиты? — заметил Нианатилока и через несколько секунд добавил: — Я знаю, вы смеетесь над «освободившимися», мол, они только и умеют, что делать мелкие фокусы. Не спорь! Если ты и не смеешься, то другие ученые потешаются, как потешаются и над нашими упражнениями по движению и дыханию, внешне кажущимися детски простыми, но на самом деле долгими и кропотливыми. Ведь нужно стать властелином над собой, узнать возможности собственной воли. Посты, упражнения, самоотречение, отшельничество именно к этому и ведут. А когда воля обретет свободу и научится сосредотачивать свою силу, разве не безразлично, в чем она будет проявляться?
— Думаю, нет. Вы могли бы действовать во благо…
— Чье? Только сам человек может действовать себе во благо. Благо для человека — очищение души. Иного блага освобожденная воля не видит и не стремится к иной цели. Почему же ты хочешь, чтобы я делал вещи, которые мне безразличны и которые, быть может, снова затянут меня в грубые формы жизни, из которых я как раз высвободился?
— Поразительно все окружающее нас, — заметил после некоторого молчания Яцек, — стократ поразительней, чем могло бы даже пригрезиться людям, не привычным смотреть вглубь. И однако же у меня ощущение, что поразительней всего именно то, что делаешь ты.
— Почему?
— Я не знаю, как ты это делаешь.
— А ты знаешь, как двигаешь рукой или что происходит, когда выпускаешь из руки камень и он падает на землю? Ты слишком мудр, чтобы ответить мне ничего не значащим словом, которое укрывает за собой новое незнание.
Молодой ученый задумался, а индус продолжал:
— Растолкуй мне, как происходит, что твоя воля велит подняться веку на твоем глазу, а я объясню тебе, как можно волей двигать звезды. И тут, и там — и равное чудо, и равная тайна. Воля больше, чем знание, но она узница тела, и тело обычно ограничивает ее. Она должна решиться выйти вне тела, должна ничего не желать для тела и тогда овладеет всей полнотой бытия, потому что для нее уже не будет разницы между «я» и «не я».
— И тогда уже не будет пределов?
— Их и не может быть. Существуют пределы для движения, для желаний, для знания, наконец, но для воли их быть не может уже через одно то, что она возвысилась над телом, над любой формой, над любой жизнью. Ведь это же ваш поэт много веков назад воскликнул:
И он был прав. Вот только слова «быть может» были лишними. Они были выражением сомнения, и потому у него ничего не получилось.
Яцек с изумлением глянул на Нианатилоку.
— Откуда ты знаешь наших поэтов?
Отшельник молчал.
— Я не всегда был бикху, — наконец нерешительно промолвил он.
— Ты по крови не индус?
— Нет.
— А твое имя?
— Я взял себе имя Нианатилока — «Познавший три мира», потому что познал тайны трех миров: материи, форм и духа.
Нианатилока умолк, и Яцек не стал его расспрашивать, так как видел, что тот отвечает с явной неохотой. Он снова сел под пальму и стал смотреть на водохранилище, где в отдалении поблескивали слабые огоньки лодок и сверкал между огромными пилонами вход в храм, похожий на горящую печь.
Внезапно, словно очнувшись от задумчивости, Яцек вскинул голову и взглянул в глаза Познавшему три мира.
— Почему ты искал меня? — спросил он.
Отшельник обратил к нему спокойный взор.
— Мне жаль тебя, — ответил он. — Ты чистый, но вот высвободиться из трясины материи не можешь, хотя уже и сам знаешь, что она всего-навсего иллюзия и значит даже меньше, чем слово, определяющее ее.
— Ну что ж, ты поможешь мне, — опустив голову, прошептал Яцек.
— Да, я подстерегаю миг, когда ты пожелаешь отправиться со мной в девственный лес.
Яцек собрался что-то сказать, но его внимание отвлекло движение на воде и долетевшие издали голоса. Лодочные фонари зароились у ворот древнего храма и постепенно сформировали длинную вереницу, направляющуюся в сторону города к берегу.
Возгласы, перекличка гребцов, женский смех в ночной тишине рассыпались, словно жемчуга, по глади искусственного озера.
Представление закончилось.
Яцек порывисто обернулся к буддисту, не в силах скрыть замешательства.
— Нет, в лес… я не пойду, — сказал он, — но хочу просить тебя навестить меня в Варшаве.
Нианатилока отступил на шаг и с умиротворенной улыбкой взирал на Яцека.
— Я приду.
— Боюсь только, — улыбнулся Яцек, — что тебе, привыкшему к одиночеству, будет чужд гул городской жизни.
— Мне он безразличен. Сейчас я уже способен быть один в толпе, меж тем как ты даже в одиночестве не можешь быть один.
Произнеся это, Нианатилока кивнул головой и скрылся в тени прибрежных пальм.
Триумфальный кортеж Азы приближался; Яцеку даже почудилось, что он различает ее серебристый голос.
VII
Клетка, установленная на спине осла, была даже просторной для двух человек их роста, но в ней не на чем было сидеть. Правда, висели в клетке двое качелей, но и Рода, и Матарет сочли ниже своего достоинства пользоваться этими нелепыми приспособлениями.
Осел шагал как-то валко, клетка раскачивалась, удержаться на ногах было трудно, и им пришлось усесться на застланный пальмовой циновкой пол клетки. Они сидели, пряча друг от друга глаза.
От стыда и отчаяния им не хотелось жить. Они не понимали, что с ними происходит. Злые огромные люди Земли посадили их, красу и гордость достойнейшего Лунного Братства Истины, в клетку, словно неразумных зверей, и теперь непонятно зачем возят от площади к площади. К тому же к ним подсадили третьего товарища, по поводу которого они никак не могли прийти к решению, зверь это или человек. Роста он был примерно такого же, как они, и лицо у него было вроде человеческое, однако все его тело покрывали волосы и вдобавок там, где у людей ноги, у него была вторая пара рук.
Этот их третий товарищ чувствовал себя в клетке вполне довольным и даже завладел обоими качелями, все время перепрыгивал с одних на другие. Рода попытался объясниться с ним и словами, и жестами, но тот, слушая его, корчил непристойные гримасы, а потом вдруг вспрыгнул мудрецу на плечи и стал быстро-быстро перебирать его лохматые волосы.
Поэтому они сочли его представителем животного мира, невзирая на определенное сходство с человеком. Его присутствие в клетке еще более унижало их, тем паче что приходилось утолять голод из одной плошки вместе с этой непонятной тварью.
Наконец около полудня Матарет после длительного молчания чуть скосил глаза на учителя и поинтересовался:
— Ну как? Обитаема Земля или нет?
Рода опустил голову.
— Нашел время насмехаться! Тем более что во всем виноват ты. Это из-за тебя мы тут оказались.
— Не уверен. Если бы ты не упорствовал так, доказывая, что Победоносец прилетел не с Земли…
— Ну, достоверных доказательств этому пока еще нет, — бросил Рода, спасая остатки достоинства.
Матарет хмуро рассмеялся.
— Ладно, не будем об этом, — сказал он. — Ты виноват, или оба мы виноваты, теперь все равно. Временами я и сам готов допустить, что Победоносец прилетел не с Земли, а откуда-то из другого места, потому что он разумный человек, а со здешними объясниться нет никакой возможности. За кого они нас принимают?
— Если бы я знал.
— Мне кажется, я догадываюсь. Они считают нас животными или чем-то в этом роде. Да ты посмотри, как они на нас пялятся!
Рода, потрясая буйной гривой, метался по клетке, точь-в-точь как крохотный лев, попавший в неволю. Гнев, отчаяние, стыд, ярость душили его до такой степени, что он был не в состоянии выдавить хоть бы слово. А Матарет все подшучивал, словно хотел побольнее его уязвить.
— Попробуй запрыгнуть на качели да перекувыркнись, как этот косматый зверек, и увидишь: эти люди придут в восторг! Они же только этого и дожидаются. А если ты еще как следует зарычишь да высунешь язык, глядишь, они тебе и горстку плодов дадут, а плоды нам, ой, как пригодились бы, потому что страшно хочется есть. Эта четырехрукая скотина все сожрала.
Рода вдруг остановился.
— Знаешь, а мне кажется…
Однако он тотчас же умолк.
— Что кажется?
— Может, это нам наказание? Может, они догадались, что мы украли у Победоносца корабль? Вполне вероятно, они нашли его там в песках…
Матарет наморщил лоб.
— Да, пожалуй, это было бы самое худшее. В таком случае наше положение безнадежно.
— И ты виноват во всем этом! Как всегда, ты! Зачем ты показывал этим людям, что мы прилетели с Луны? Надо было притвориться…
— Чем притвориться? Кем?
— Силы Земные! — возопил Рода, по сохранившейся с детства привычке взывая к силе, которую жители Луны почитали божественной. — Что же нам теперь делать?
Матарет пожал плечами Он и вправду не имел ни малейшего понятия, как выбраться из этого безнадежного отчаянного положения.
Полные уныния, они стояли, пытаясь придумать выход. Обезьяна, их сотоварищ по клетке, приблизилась к ним и, передразнивая, замерла в такой же позе. Однако неподвижность странных существ надоела одному из зрителей, и он бросил Роде в нос финиковую косточку, а когда это не помогло, стал тыкать его палкой в то место, где у настоящих обезьян обычно растет хвост.
Хафид разрешал подобную фамильярность только тем, кто отдельно за это заплатил, но на сей раз ее позволил себе человек, заплативший совершенно ничтожные деньги за то, чтобы полюбоваться обитателями клетки, и потому Хафид ужасно рассердился и прогнал наглеца, отхлестав обрывком веревки.
Вообще настроение у него было не слишком радужным. Нет, дела шли великолепно, за полдня он не только вернул деньги, потраченные на покупку клетки и наем осла, но и оказался с изрядным барышом. Так что в этом отношении причин для огорчения не было. Речь шла совсем о другом.
У Хафида было врожденное и непреодолимое отвращение к общению с властями и, в частности, с людьми, охраняющими общественный порядок, а какое-то неясное предчувствие ему нашептывало, что рано или поздно его призовут и начнут допытываться, откуда он взял этих гномов и по какому праву возит их напоказ по городу. Сразу-то он об этом не подумал, а сейчас прямо-таки чувствовал: надвигается неладное. Недаром же его друг, возчик, человек весьма рассудительный, утром, когда Хафид отправлялся на базар, покачал головой, а полицейский, который стоит на углу площади, слишком уж долго смотрел в его сторону.
Потому по зрелом размышлении Хафид решил как можно скорее избавиться от добычи и от неприятностей, то есть продать карликов, но покупатель как назло не подворачивался. В кварталах, по которым он возил клетку, жили люди, с трудом сводившие концы с концами, а забредать туда, где стоят большие роскошные отели и живут богатые чужеземцы, Хафид не отваживался.
Он уже стал даже подумывать, не подарить ли кому-нибудь этих полуобезьян, а то, может, тихонько утопить вечером в Ниле, потому что везти их в оазис никакого смысла не было, как вдруг заметил важного седого господина, что в задумчивости неторопливо брел по площади. То был г-н Бенедикт, который решил купить для уезжающей послезавтра Азы большую корзину фруктов и подсчитал, что куда дешевле выйдет, если он сам отправится на базар, а не поручит покупку жуликоватой прислуге из отеля.
Завидев г-на Бенедикта, Хафид стал призывать его на всех неизвестных ему языках, то есть издавать разные звуки, которые, по его мнению, соответствовали на этих языках почтительному обращению. Г-н Бенедикт заметил старания араба и направился к нему, решив, что тот хочет предложить ему бананы.
Однако, увидев клетку с сидящими там людьми и обезьяной, он крайне удивился.
— Что это? — осведомился он.
— Господин, это… это такие твари…
— Что за твари?
— Очень редкие.
— Откуда они у тебя?
— О господин, если бы я начал рассказывать тебе, с какими трудами мне удалось добыть этих двух похожих на людей, вокруг нас выросла бы свежая трава, а мы еще не сдвинулись бы с места — ты, слушая, а я, повествуя.
— Тогда отвечай коротко, где они водятся?
— В сердце Сахары, господин, среди песков, по которым носится один лишь самум, есть оазис, до сих пор не открытый людьми. Я и верный мой дромадер были первыми, кто добрался туда…
— Не лги. Где ты нашел этих карликов?
— Купи их у меня, господин.
— Да ты взбесился!
— Они очень забавные, знают множество разных штучек, но сейчас немножко устали, вот и не хотят показывать их. Этот, с длинными волосами, кувыркается на качелях, а плешивый делает вид, будто умеет читать, ну совсем как человек. Даже обезьяна, которая живет с ними в большой дружбе, помирает от смеха.
У г-на Бенедикта мелькнула идея.
— Как думаешь, они могли бы научиться прислуживать в доме?
— Еще бы нет! У меня в доме они подметают комнаты, а моей бабушке чистят туфли, хотя она ходит только босиком, но лишь из упрямства, потому что я для нее ничего не жалею. Старая она…
— Хватит молоть чепуху!
— Господин, если ты прикажешь, я буду нем, как могила.
— А при столе они смогут прислуживать?
— Не хуже лучшего лакея из Олд-Грейт-Катаракт-Паласа, который является моим другом и может засвидетельствовать…
— Сколько ты хочешь за этих обезьяно-людей?
Хафид назвал цену и после получасового торга отдал свою добычу в десять раз дешевле, чем запросил. Г-н Бенедикт уплатил, и араб, первым делом спрятав деньги, приготовил две веревочные петли, открыл клетку и стал ловить перепуганных жителей Луны. В конце концов это ему удалось. Он привязал каждому на ногу веревку, после чего извлек их из клетки, поставил на землю и концы веревок сунул г-ну Бенедикту.
— Да благословит тебя Аллах, господин! — сказал он на прощание.
— Постой! Постой! Не поведу же я их так. Ты должен доставить их мне в отель.
Хафид покачал головой.
— Э, нет, господин! Такого уговора не было. Да у меня уже и времени нету.
С этими словами он хлестнул осла и исчез в толпе, радуясь, что сумел да еще и за неплохие деньги избавиться от опасной находки.
Уличный сброд, зеваки мигом окружили озабоченного г-на Бенедикта. Он стоял в полной растерянности. Толпа со всех сторон дергала и дразнила карликов, напуганных новой переменой своей судьбы, и громко смеялась, когда их новый владелец грозил пристающим тростью. Началась такая давка и столпотворение, что бедный г-н Бенедикт не мог ступить и шагу вперед.
Осознав свое беспомощное положение, он стал предлагать мальчишкам, скачущим вокруг него, деньги, чтобы они отвели карликов в отель. Но те притворялись, будто боятся их, и с криком отскакивали, чуть только г-н Бенедикт пытался сунуть кому-нибудь из них в руки веревку.
Хочешь не хочешь, пришлось ему самому вести человечков в отель в сопровождении мальчишек, зевак и приехавших в город феллахов.
По пути он заглянул в магазин детской одежды, выбрал для новообретенных питомцев бархатные штанишки и матроски с золотыми галунами и велел их тут же переодеть. Когда он вновь появился на улице с обряженными таким образом членами Братства Истины, ликованию толпы, терпеливо ожидавшей у дверей магазина, не было предела Особенный восторг вызвал лысый Матарет с широким белым матросским воротником. Но и Рода, бросающий вокруг полные ярости взгляды, тоже изрядно веселил толпу.
С такой вот свитой г-н Бенедикт добрался до отеля, в котором жила Аза.
VIII
Держа во рту погасшую сигару, Грабец поглядывал поверх развернутой газеты в окно на толпу возле кафе. Перед ним стояла недопитая чашка уже остывшего кофе; в руке, лежащей на мраморной столешнице, он машинально вертел пустую рюмку из-под коньяка. Его высокий лоб, переходящий в обширную лысину, был изрезан неглубокими подвижными морщинами, нижнюю часть поразительно помятого лица укрывала длинная светлая борода, а полные, подвижные юношеские губы под скудными усами составляли кричащий контраст с казалось бы погасшими глазами, хотя в их стальном холодном блеске иногда можно было уловить прорывающуюся сквозь усталость и скуку неиссякшую, как бы до времени спящую упрямую силу.
Газету он уже давно не читал, но продолжал держать ее в руке, возможно, чтобы укрыться от взглядов, а возможно, чтобы отделиться бумажной стеной от сидящего за столиком человека Его безразличный взор скользил по нарядным смеющимся дамам, которые сидели со своими кавалерами за столиками, расставленными перед кафе, а временами переходил на другую сторону засеянной зеленой травой площадки, где у огромного и уродливо пышного игорного дома началась обычная послеполуденная суета. По широкому крыльцу, разделенному на несколько проходов блестящими латунными перилами и устланному ярким ковром, торопливо поднимались мелкие игроки с небольшими деньгами в карманах, которые намеренно выбирали эту раннюю пору, когда их не будет смущать присутствие набобов, швыряющих на зеленое сукно целые состояния. Сквозь поток гуляющих протискивались, не глядя по сторонам, профессиональные игроки, маньяки, которые наспех, давясь, перекусили, чтобы не тратить драгоценного времени: а вдруг в этот миг может прийти везение. У портала затормозили несколько автомобилей; среди тех, кто вышел из них, Грабец узнал некоторых постоянных солидных посетителей казино; они приезжали пораньше, чтобы никто не занял их любимые места. Лакеи, скучая, стояли на ступеньках и лишь время от времени обменивались какими-то полуфразами.
Ежеминутно из-за столиков у кафе кто-то поднимался и направлялся к широким дверям казино — иногда лощеный, щеголеватый молодой человек, чаще солидный отставник, а порой одна из дам, что внимательным взглядом следят за теми, у кого карманы набиты золотом. От дам иного рода, что торопились попытать счастья при волшебном столе, этих ловительниц выигранного презренного металла можно было отличить с первого взгляда: они шли неспешно, как бы прогуливаясь, и хотя слишком хорошо знали себе цену, чтобы завлекать ласковыми взглядами прохожих, тем не менее и выражение их лиц, и походка давали понять, что они вовсе не являются пугливой дичью особенно для охотников, желающих и имеющих возможность сорить золотом.
Грабец поглядывал на прохожих рассеянным взором, который, казалось, мимолетно скользил по лицам, словно то были деревья или катящиеся с горы камни. Лишь порой он на миг задерживал взгляд на физиономии, которая могла бы сойти за вельможную, или на псевдорыцарственной фигуре, но тут же разочарованно отводил и продолжал осмотр толпы нарядных, громко смеющихся женщин, всего этого людского муравейника, непонятно почему безмерно довольного собой и жизнью, и только рот его чуть заметно кривился в презрительной усмешке, которая мало-помалу настолько приросла к его губам, что в конце концов стало казаться, будто они так искривлены от рождения.
— А что вы думаете о современной литературе?
Грабец чуть вздрогнул, словно на лицо ему села назойливая муха. Занятый своими мыслями, он почти совершенно забыл о человеке, что, непрошеный, уселся к нему за столик. Среднего роста, пузатый, с уродливой головой на тоненькой шее, тот держал в усыпанных веснушками и бриллиантами пальцах какой-то еженедельник и, бесцеремонно наклонясь над столом, важно смотрел на Грабеца выпуклыми, смахивающими на рыбьи глазами сквозь толстые стекла очков, кривовато сидящих на красном горбатом носу. Редкие жирные волосы его были зачесаны на лоб с явной целью укрыть прыщавую лысину, а вытянутые вперед мясистые, хотя и тонкие губы еще шевелились, как будто он безмолвно повторял и пережевывал только что заданный вопрос.
— Ничего не думаю, господин Хальсбанд, — ответил Грабец, принудив себя произнести эту фразу вежливым светским тоном.
Хальсбанд отбросил еженедельник и, энергично жестикулируя, произнес гортанным голосом с характерным, пережившим тысячелетия акцентом:
— Вы всегда как-то странно отвечаете. Можно подумать, вы не хотите разговаривать. Так вот, я вас спросил, а если я спрашиваю…
— Да я слышал, слышал, — улыбнулся Грабец. — Но вопрос ваш несколько неопределенный.
— А как я еще мог вам его задать? Меня интересует не какое-то отдельное произведение, а ваше обобщенное мнение, синтез вашего суждения. Вот тут я прочел в «Обозрении»… — И Хальсбанд хлопнул ладонью по еженедельнику.
Грабец чуть пожал плечами.
— Я в этом не специалист, — бросил он, с притворным интересом всматриваясь в проходящих мимо кафе людей.
Хальсбанд раздражился.
— Это не ответ, это увертка! Ведь вы же сами литератор. Как же можно…
— Можно. То, что, по случайности, я сам пишу, вовсе не дает мне оснований высказывать суждения, особенно такие, которые могли бы быть вам полезными. Скорей наоборот. Для болтовни, вынесения суждений, для бесконечного и бесцельного обсасывания того, что создано или хотя бы только написано, существуете вы — редакторы крупных газет, критики, пережевыватели, историки литературы и искусства. Я даже не знаю названий произведений, о которых вы можете говорить часами.
— Смирение паче гордыни, — язвительно усмехнулся Хальсбанд. — Всем известно, что вы эрудит. Но вы ошибаетесь, полагая, будто мне для чего-то там нужно ваше мнение. Я спрашиваю только потому, что мне интересно, в каком синтезе сливаются определенные факты в фокусе вашей индивидуальности. Вы сами по себе интересуете меня, — добавил он со снисходительно-доброжелательной интонацией.
Однако Грабец его не слушал. Что-то на площади перед кафе по-настоящему заинтересовало его; он пристально всматривался в открытое окно туда, где за столиком сидел в одиночестве человек странного вида. Он не был горбуном, но производил именно такое впечатление по причине длинных рук и огромной головы, вдавленной в плечи. Одет этот человек был старательно, но неумело; он только что снял шляпу, и волосы на голове у него торчали во все стороны. Человек этот был бы смешон, если бы не глаза — огромные, бездонные глаза, настолько притягивающие к себе внимание, что стоило взглянуть на них, и совершенно забывалось уродство его тела.
— Кто это? — спросил Грабец, прерывая поток слов своего собеседника. — Вы случайно не знаете его?
Хальсбанд без всякой охоты глянул туда, куда указал Грабец.
— Вы что же, не знакомы с ним? Это Лахеч.
— Лахеч?
— Да, тот самый, что сочинил музыку к вашему гимну, который Аза вчера вечером пела в храме Исиды. Он служит у меня. Я пригрел его…
Грабец вскочил, бросил на стол деньги и поспешил к выходу. Но когда он протиснулся в двери сквозь поток посетителей, входящих в кафе, странный человек исчез, словно сквозь землю провалился. Напрасно Грабец искал его глазами в толпе. То ли из-за маленького роста тот затерялся среди прохожих, то ли успел войти в игорный дом, на широких ступенях которого становилось все многолюдней. Многие, правда, теперь уже выходили, сталкиваясь со входившими. Иным удавалось сохранять на лицах маску равнодушия, однако по движениям большинства, по их походке, выражению глаз, гримасе губ легко можно было определить, какая судьба ждала их там, у зеленых столов: бегут ли они, спустив за несколько минут все до последнего гроша, или же на сей раз уносят вожделенную добычу, чтобы завтра, прежде чем настанет вечер, вновь прийти сюда и проиграть ее.
Какое-то время, стоя перед кафе, Грабец раздумывал, а не пойти ли в казино и не поискать ли Лахеча в залах. До вчерашнего вечера он не знал его музыки: Лахеч был молодым, начинающим композитором, и фамилию его Грабец слышал всего раза два-три, да и то упоминали ее не в связи с его талантом, а скорей с чудаковатостью. Правда, Аза, как-то попросив у Грабеца позволения исполнить на концерте его гимн к Исиде, говорила, что «поразительный, феноменальный Лахеч» переливает его слова в звуки, но Грабец как-то пропустил это мимо ушей. Впрочем, ему это было безразлично. Без всякой охоты согласился он (и то только после настойчивых просьб певицы) на свое участие в этом фарсе превращения руин древнего храма в театр и пародирования там — так он выразился — стародавних наивных обрядов и посему ни во что не желал вмешиваться.
И только вчера… Опять же сдался он лишь после долгих и неотступных упрашиваний Азы (кстати, он принадлежал к тем немногим, кому она не смела приказывать) и вечером прибыл в храм на бывшем острове Фила, прибыл с язвительной и горькой уверенностью, что будет слушать собственные слова как некие чуждые звуки и что в оскверненных руинах звучать они будут нелепо, никто их не прочувствует, не поймет, и потому выглядеть все это будет чистейшим святотатством. Ведь в своем гимне Грабец воспевал величие, героизм, тайну, могущество страсти, то есть все то, чему эта почтенная толпа была бы враждебна с самого рождения, если бы смогла понять это до такой степени, чтобы возненавидеть и устрашиться.
Еще вчера он, презрительно улыбаясь, так и думал. Но вот, прислонясь спиной к гранитной колонне с изъеденными плесенью иероглифами, он услышал, как зазвучал голос Азы, поначалу вроде бы затерявшийся в могучих волнах какого-то непонятного, странного оркестра. До сих пор Грабец не слышал исполнения своего гимна, не слышал этих звуков, так как намеренно не бывал на репетициях, и потому сейчас у него возникло ощущение неожиданного, ослепляющего откровения.
Словно бы некто, во сто крат сильнее, чем он, схватил его орлиными когтями и вознес над землей и наяву показал миры, которые ему только лишь грезились… Словно бы его собственные слова ожили, мысли обрели крылья, стали способны метать молнии и, подобно богам, убивать и воскрешать. Грабец узрел сонм херувимов, танцующих в воздухе, который был огнем, и даже не поверил, что это он сам сотворил их, такими огромными и пламенными показались они ему. Увидел бушующее море, бьющее разъяренными белопенными волнами в берег…
Невольно он скользнул взглядом по слушателям. Песок на морском берегу. Мелкий, сыпучий, не оказывающий сопротивления морской волне, не отвечающий ей эхом. С певицы не сводили глаз, рассматривали ее ноги, обнаженные колени, с видом знатоков кивали, когда оркестр швырял какой-нибудь необыкновенный сноп молний, и — не багровели под ударами бича, хлещущего ничтожность, не протягивали рук к явленному им среди золотых туч величию, к приоткрывающей свой лик тайне…
Вчера он бежал из древнего храма от собственного вотще воплощенного и понапрасну гибнущего крика, однако шум крыл, которые музыка подарила его мыслям, продолжал звучать у него в ушах и в мозгу. Этот шум звучал, несмотря на мелкие дела, которыми он занимался днем, несмотря на пустую болтовню всевозможных докучных Хальсбандов.
И в этот миг безумным воспоминанием расплясался в его памяти оркестр бурь, моря и солнца, освещающего клубящиеся тучи и белопенные валы.
— Это должно, должно, должно произойти! — чуть ли не в полный голос сказал он себе, отвечая тайным своим мыслям.
Что-то возмутилось в нем, закипело. Он сорвал с головы широкополую шляпу и, не замечая, что люди с удивлением поглядывают на него, широкими шагами принялся расхаживать вокруг газона, лишь кое-где затененного пальмами. Он уже забыл, что собирался поискать Лахеча в казино; впрочем, его охватило отвращение при одной мысли, что он мог бы оказаться там в толпе, в давке, среди людей, которые столь же внимательно, как вчера за движениями артистки, но только куда напряженней и с корыстным интересом будут следить за вращением шарика рулетки. Сам не зная почему, он повернул налево, к садам, тянувшимся от здания казино и позолоченных отелей до желтого берега Нила.
Палило весеннее солнце, но под пальмами ощущалась благоуханная свежесть только что политых газонов и цветущих кустов, что росли на огромном пространстве. Оросительные ручейки дарили жизненосную влагу экзотическим деревьям, привезенным сюда со всех концов света; над маленькими прудами, заросшими лотосами, стояли громадные фикусы с блестящими листьями и висящей в воздухе сетью корней. На невысоких холмах, творении человеческих рук, среди искусно разбросанных обломков скал торчали кактусы самой разной формы и происхождения, похожие на столбы, шары и причудливо свившихся змей, опунции с одеревеневшими стволами, серебристо-зеленые агавы, взметнувшие из розетки мясистых листьев огромные подсвечники соцветий. В гротах, укрытые от жгучего солнца, в воздухе, охлажденном водой, что протекает сквозь искусственные ледники, прятались папоротники и северные растения, изумленные соседством пальм, которые раскачивались у входа на фоне темно-лазурного неба.
Пройдя по главным широким аллеям, Грабец стал блуждать по боковым дорожкам среди разнообразных рощиц и лесков, над крохотными ручейками, берега которых заросли бамбуком и широколиственным тростником. Люди встречались тут все реже; дневная жара усиливалась и тяжело висела в недвижном воздухе, перенасыщенном душной, парной влагой. Занятый своими мыслями, Грабец шел, не поднимая головы. Он даже не заметил, как дошел до большого зверинца, расположенного на возвышенности за садами. Не глядя, он проходил мимо огражденных полян, где между разбросанных камней паслись антилопы, огромными печальными глазами глядящие сквозь решетки в сторону далекой родимой саванны; мимо водоемов, в которых, выставив на воздух только ноздри, лежали на теплом мелководье крокодилы; мимо прочных клеток, где дремали поникшие в неволе львы с угасшими глазами, с грязными всклокоченными гривами.
На самом возвышении в тени нескольких финиковых пальм стояла высокая клетка. В средней узкой ее части, отделенной блестящими решетками от боковых крыльев, на ветвях засохшего дерева сидели четыре поразительно громадных королевских грифа. Вжав головы с огромными крючковатыми клювами между повисшими крыльями, встопорщив перья у основания коротких мускулистых шей, они обратили к солнцу круглые глаза и недвижно застыли, замерли, словно четыре египетских божества, ожидающие чудовищного, таинственного жертвоприношения.
Однако вокруг них царил непристойный, бессмысленный гам. Надо думать, по неумышленной, но оттого не менее вредоносной глупости в обоих крыльях клетки поместили по громадной стае попугаев и обезьян, которые все время переносились с места на место, мелькали перед глазами, верещали. Ежеминутно то гиббон, то павиан с омерзительно голым красным задом протягивал сквозь решетку косматую лапу, пытаясь из озорства вырвать хотя бы одно перо из хвоста царственной птицы; попугаи галдели, повиснув на прутьях и разевая клювы, карикатурно смахивающие на орлиные, вторили хриплыми криками воплям кривляющихся обезьян.
Но грифы в каменной своей невозмутимости, казалось, были слепы и глухи. Ни один из них ни разу голову не повернул, ни один даже не захлопал крыльями, чтобы напугать наглецов. Когда уродливый гамадрил дотянулся длинной лапой до обвисших маховых перьев одного грифа и выдернул целый пук, тот только подвинулся на полшага на ветке, даже не взглянув на обезьяну; вот так же когда-то в горах он отодвигался от сломленной ветром ветки.
Сперва Грабец глядел на птиц чисто машинально; мыслями он был далеко, но вскоре с растущим интересом стал наблюдать за ними. Он осторожно просунул руку между прутьями и попробовал перегородку.
— Прочная, — шепнул он. — Жаль.
Одна обезьяна, больше и злобнее других, опять протянула мохнатую лапу с длинными, плоскими на концах пальцами и пыталась вцепиться в перья на груди грифа. Птица подняла и откинула назад голову, чуть-чуть наклонившись вбок. Ее красно-кровавые глаза всматривались в обезьянью ладонь, перебирающую перед нею пальцами. Она еще чуть откинула голову, словно перед ударом, слегка приоткрыла клюв.
— Бей! — прошептал Грабец.
Но гриф, видя, что несмотря на все старания, обезьяна не может дотянуться до него, перестал обращать на нее внимание и вновь спрятал голову под крыло.
— Глупец! — вполголоса пробормотал Грабец. — Неужели ты думаешь, что это и есть величие?
— Да, это величие, — раздался голос за его спиной.
Нахмурясь, Грабец оглянулся, раздосадованный, что кто-то следит за ним и подслушивает.
Сзади под балдахином огромных листьев банана стоял молодой стройный человек в облегающем костюме авиатора; из-под чуть сдвинутого на затылок шлема выбивались пряди кудрявых волос.
— Доктор Яцек!
В голосе Грабеца кроме удивления прозвучала нотка невольной почтительности, но без какой-либо униженности.
Ученый протянул писателю руку. Они молча обменялись рукопожатиями.
Еще какое-то время они стояли рядом, не произнося ни слова; Яцек смотрел на клетку, где перескакивали с места на место обезьяны, с обычной пренебрежительной улыбкой в печальных глазах; Грабец отвернулся и глядел туда, где между перистыми кронами растущих чуть ниже пальм огромным, стеклянисто-тусклым зеркалом блестел далекий разлив Нила. В центре его плавало только солнце, уже пригасшее, словно разлитое по поверхности воды, но у берегов в пополуденной жаре дремало множество барок с повисшими на изогнутых реях парусами. Блестящие моторные лодки куда-то подевались, а может, их не было видно за черными корпусами барок. Милосердные листья пальм укрывали от взгляда новый город, выстроенный в пышном и уродливом современном стиле. У Грабеца на миг возникло ощущение, что время пошло вспять и он оказался в давнем, известном только по преданиям тысячелетии, когда еще были живы фараоны и боги.
— Я вчера слышал ваш гимн Исиде…
Грабец обернулся. Произнося эти слова, Яцек не смотрел на него; взгляд его был обращен к Нилу, туда, где из залитой солнцем воды поднимались руины храма.
— Значит, слышали…
— Да. И даже не знай я, что вы его автор, я все равно бы узнал вас. Этот крик, этот призыв…
Яцек говорил неспешно, все так же не глядя на Грабеца. Писатель чуть заметно пожал плечами. В задумчивости он поднял руку и дотронулся до прутьев клетки.
— Вот вы только что укорили меня, — начал он, — за то, что мне захотелось увидеть, как гриф раздробит клювом бесстыдную лапу досаждающей ему обезьяны. Признаюсь, я с огромным удовольствием открыл бы этим птицам клетку, чтобы они тут устроили побоище. Но что бы вы сказали, если бы эти королевские грифы, не имея возможности бороться, но и не будучи способны спокойно переносить неволю, стали бы устраивать представление перед попугайной сволочью? Если бы стали биться головами о прутья и размахивать крыльями? Призывать бурю, призывать горные вершины и морские валы, которым никаким способом сюда не добраться? И все это только для того, чтобы показать, что им ведомо и величие, и свобода, и что они безумно тоскуют по ней… Чтобы об этом узнали и попугаи, и обезьяны…
— Мы этак запутаемся в сравнениях, — заметил Яцек. — Потому оставим в стороне животных и птиц, пусть даже королевских. Возможно, сравнение звучит красиво, но оно всегда неточно и приводит к ошибочным выводам. Все-таки, невзирая на то, что вас окружает, вы, как монарх, стоите над толпой, и она слушает вас.
В ответ раздался резкий, язвительный смех.
— Ха-ха-ха! Знаем, слышали эти прекрасные теории, которые, кстати, сами же мы и придумали в утешение себе! Я понимаю, вы думаете: всякое подлинное искусство является властью над душами, внушением другим людям собственных чувств, представлений, мыслей. И вы действительно верите, что это так?
— Да, это так.
— Было. Но в столь давние времена, что сейчас они кажутся легендой, да к тому же и неправдоподобной. Но так действительно было. Здесь, где мы сейчас с вами стоим, когда-то возносились исполинские храмы и стояли гранитные боги — таинственные, внушавшие ужас. Да, да, здесь — вместо этих отелей и заурядных домов, сделавших весь мир одинаковым. Но тогда не только искусство, но и мудрость, и знание были царями, а не наемными слугами, как сейчас.
Яцек молча слушал. По выражению его лица невозможно было понять, согласен ли он с Грабецом или просто не хочет с ним спорить. А тот, прислонясь спиной к стволу пальмы, задумчиво говорил, и казалось, его даже не интересует, слушают его или нет: он просто развивал перед самим собой давно выношенные, наболевшие мысли.
— Так было в Греции, в Аравии, в Италии, в Европе примерно до середины девятнадцатого века. Великие художники прошлого, порой даже умиравшие с голоду, были самодержавными властителями народов, вели их за собой, возносили, низвергали в прах. Зажигали пожар или превращали диких зверей в задумчивых ангелов. У них были подданные, которые были готовы и хотели повиноваться им, но как только художники поддались под власть своих подданных, тут же утратили их. Теперь мы наемники, которых держат, чтобы они поставляли умиление, высокие слова, звуки, краски, точно так же, как вас, мудрецов, держат ради знаний, а коров ради молока.
Яцек безразличным тоном бросил:
— И чья же это вина?
— Наша. С той минуты, когда искусство перестало быть самодержавным властелином, перестало формировать жизнь людей, призывать их к действию — ведь вся суть только в действии! — надо было отбросить его, как вещь, пришедшую в негодность, и искать новые средства власти над душами или создать новый мир, в котором опять появлялись бы люди, способные покоряться ему. Искусство было средоточием жизни и силы, а из него сделали, верней, из его формы — цель: фокус, ремесленническую подделку, игрушку. И речь теперь уже идет не о том, что оно обрушит на головы людям, с какой стороны пронесется вихрем над равниной, где велит взойти над ней солнцу или месяцу, а о том, как будут звучать слова, искусно ли сопрягутся звуки или краски. Из волшебства возникло жалкое шарлатанство, ибо только оно ныне доступно глазам и ушам. Сейчас уже поздно метать в песок перуны. На него надо бы направить океан, чтобы тот его затопил, размыл, поглотил! Но искусству нынче таким океаном не стать.
— И все же, — задумчиво промолвил Яцек, — и сейчас, как и прежде, существуют великие творцы и поистине в устах у них порою пылает солнце.
Грабец кивнул.
— Да, существуют. Только значение их в обществе в корне переменилось. Они уже не ведут за собою словом, потому что некого вести, и потому разговаривают сами с собой, чтобы выговориться. Они даже лоскуток придумали, чтобы прикрыть нынешнюю свою наготу: искусство для искусства. Как красиво звучит! Я не имею в виду жонглеров словами, красками, звуками, равно как и канатоходцев и глотателей живых лягушек, — я говорю о творцах! Сейчас искусство для них (искусство для искусства, милостивый государь!) это род предохранительного клапана, чтобы миры, родившиеся у них в душах, не разорвали грудную клетку, поскольку у них нет силы выплеснуть их наружу в действии, возвещая истину Вы только подумайте: творец, художник всегда обнажается до самой сердцевины своего существа, но когда в древности Фрина представала перед народом на залитом солнцем морском берегу нагая, никто сладострастно не причмокивал, никто не пялился на нее, нет, все опускали головы перед откровением, и она наперед знала, что так и будет, ибо в ее красоте была священная энергия. Мы же теперь бесстыдно обнажаемся, точно продажные девки в публичном доме, который внешне смахивает на дворец, да нет! даже на храм — столько там золота, мрамора, огней! Но это только внешнее, а в сущности, он был и остается грязным торжищем!
Грабец поднял руку и раскрыл ладонь, словно демонстрируя, что в ней одна лишь пустота.
Яцек слушал его, сидя на каменной скамье и подперев подбородок кулаком. Слушал, не сводя с него спокойных, голубых глаз, потом едва заметно улыбнулся и бросил:
— И все-таки наберитесь смелости сказать, что только от нашей мысли и нашего намерения зависит, чтобы любое место, где мы находимся, превратилось в подлинный храм.
Грабец сделал вид, что не слышит его слов, а может, и вправду не слышал, занятый собственными мыслями. Некоторое время он молчал, глядя вниз на город, а потом вновь заговорил сдавленным, полным ненависти и презрения голосом:
— Слишком хорошо живется на свете обезьянам, попугаям и всякой бездумной мрази, которая одна только и имеет власть благодаря организованности и многочисленности! О бунтах мы знаем только из романов. Когда-то бунтовали угнетенные, нищие, униженные, но трудом рук своих вращавшие мировую машину. Они кричали: хлеба! Для приличия их вожди велели им добавить: и прав! Да только это чушь, потому что в действительности они требовали одного хлеба. Сейчас у них его вдосталь, и потому они тихо сидят: ведь больше им нечего желать. Слишком даже много на свете равенства, слишком много хлеба, всеобщих прав и обыденного счастья!
Теперь Грабец обращался прямо к Яцеку, глядя ему в лицо.
— Не кажется ли вам, — спросил он, внезапно переменив тон, — что пришла пора бунтовать обладателям высочайшего духа, которые внешне ни в чем не терпят недостатка? Не пора ли им действием воспротивиться навязанному равенству, которое стало для них оскорбительным?
Яцек встал, лицо его неожиданно посерьезнело.
— Поверьте мне, нет никакой необходимости протестовать против того, чего не существует. Мы все вовсе не равны. И вы прекрасно сами знаете это. А то, что мы на равных получаем от общества, как и оно от нас…
Грабец расхохотался.
— Вот вам еще одна сказочка, навязанная толпой! Я как раз и говорю, что настала пора всем высоким духом перестать верить в мнимую благосклонность общества обезьян, которое якобы обеспечивает им возможность мыслить и творить, обильно одаряя средствами жизни, облегчая исследования… Оставим в стороне, что счастье это выпадает не всем, что половина людей высоких духом по-прежнему умирает с голоду, так ничего и не сумев совершить, но, повторяю, оставим это в стороне. Ведь для меня, для вас, для нас всех позорно получать, словно из милости и по установленной мере, то, чем мы сами должны распоряжаться, причем без всяких ограничений! Все блага и все чудеса жизни принадлежат нам, ибо сотворены они нами, а одаряется ими лишь толпа. Мир нынче похож на чудовищного зверя, у которого в ущерб ногам и голове выросло огромное, неимоверных размеров брюхо. Вместо того, чтобы заставить толпу, как оно и должно быть, работать на себя, мы все трудимся на эту гнусную, безмозглую, ленивую массу, у которой нет иного занятия, кроме назначенной ей службы. На толпу трудятся рабочие, мудрецы, а она только жрет и…
Грабец остановился, недоговорив.
— Так и лезет на язык грязное слово, — через несколько секунд произнес он, — но что тут поделать: грязно все, что окружает нас. Нужно либо вырваться из этого, либо подохнуть. Сейчас должно начаться обратное движение — прилив уже много веков отступающего моря. Начнется новая священная война и завоевание, а верней, осуществление высочайших, но отнюдь не всеобщих прав. Нам сейчас нужны не свобода, но власть и рабство, не равенство, но различия, не братство, но борьба! Мир принадлежит людям высочайшего духа!
— И какие же силы вы видите своими союзниками в этой борьбе? — поинтересовался Яцек, поднимая на него глаза. — С одной стороны, общество с совершенной организацией, довольное нынешним своим состоянием и готовое защищать его всеми средствами, а с другой?
— Мы.
— То есть?
— Творцы, мыслители, обладающие знанием, — одним словом, те, кто жив.
— Похоже, вы сочиняете драму.
— Нет, я хочу жизни. Творю жизнь. Можно возмутить рабочих, огромную массу, которая, как Атлас, держит мир на своих плечах. Пусть-ка они тряхнут его! Они предпочтут служить великим, а не чиновничьей сволочи, всем этим отставникам, бессмысленным бездельникам и дармоедам.
— Это иллюзия.
— Впрочем…
— Да?
— Вы сами являетесь силой. У вас — знание, у вас — могущество.
Яцек медленно, но решительно покачал головой и произнес с какой-то внутренней гордостью:
— Нет, сударь. Только знание. Могущество, которое оно несет с собой, все изобретения и практическое их применение мы отдаем человечеству для совместного использования. И это как раз то, что вы называете нашим прислуживанием. Себе мы оставляем знание, потому что из толпы никто не сможет воспринять его. Более ничего.
Грабец с любопытством глянул на Яцека, словно у него были основания не вполне верить, что все свое страшное, безмерное могущество, основой которого является знание, тот отдает толпе, однако он сдержался и невозмутимо осведомился:
— Что же, и так должно быть всегда?
— Я не вижу выхода. Подчиняясь закону всемирного тяготения, вода, плодотворящая поля, устремляется с поднебесных ледников вниз, в долины.
— Красивое сравнение. А вам известно, что эта вода разрушает горы и смывает их с поверхности Земли, чтобы поднять общий уровень на толщину пальца, чтобы еле заметно изменить морское дно? В конце концов все станет плоским. Гор и ледников не станет, но равнины к небу не поднимутся.
— Но гаснут ведь и звезды, исчерпав на обогревание бесплодного пространства свою энергию. Это закон природы, которому подчиняется и Земля, и вселенная, и человеческое общество.
— Так, но не совсем. По законам природы погасшие солнца сталкиваются, чтобы из них родились новые туманности, беременные будущими мирами; по законам природы внутренний огонь из глубин Земли выталкивает новые горные цепи. Но прежде возрождения всегда приходит гибель! И нам тоже необходимо землетрясение, что превратит города в развалины и наизнанку вывернет целые материки.
— А если после него не расцветет жизнь?
— Расцветет, иначе быть не может.
Яцек в задумчивости склонил голову.
— Власть, действие, битва, жизнь… А не переоцениваете ли вы людей, которые целиком посвятили себя мысли? Я уж не говорю о борьбе, но допустим невероятное: восстанут люди высокого духа и с помощью, уж не знаю даже чего, может быть, своего знания и гения, может быть, рабочих масс, ныне спокойно дремлющих, масс, неизменно обманываемых и используемых ради чужих целей и интересов, одержат победу. И что дальше? Вы говорите, что подлинное, великое искусство сейчас стало всего-навсего бессмысленным и жалким выходом энергии духа, которая могла бы проявиться в действии. Так вот — это заблуждение. Не сможет. Наша мысль отделилась от наших поступков, и нам только кажется, что она сможет вернуться и соединиться с ними. Оставайтесь, сударь, с театром и со своими пьесами, что играются в нем, а нам позвольте остаться в бескрайнем мире мысли, куда не способен вторгнуться непосвященный. Не имеет смысла сходить вниз.
— А лорд Тедуин? — бросил Грабец.
На миг воцарилось молчание.
— Лорд Тедуин, — промолвил Яцек, — оставил власть и сейчас является только мудрецом. И это доказывает, что сейчас сочетать жизнь и мысль невозможно. Так что оставьте нас в покое.
— Это ваше последнее слово? — угрюмо насупив брови, поинтересовался Грабец.
То ли в его голосе, то ли в выражении лица что-то поразило Яцека, и он посмотрел Грабецу в глаза.
— Почему вы так спрашиваете?
Грабец наклонился к Яцеку.
— А если бы я вам сказал, что Земля уже дрожит, что под ее застывшей скорлупой уже вздымается волна огненной лавы, то и тогда?
Яцек вскинул голову. Некоторое время они молча смотрели друг другу в глаза.
— То и тогда?.. — повторил Грабец.
Яцек долго не отвечал. Наконец поднялся и спокойно, но твердо произнес:
— Да. Даже и тогда я не дам другого ответа. Я не верю в движение в толпе и вместе с нею. А теперь послушайте меня: то, что существует, мерзко, но когда отвращение пересилит во мне все остальные чувства, когда я окончательно усомнюсь и решу, что лучше гибель, чем такая жизнь, что гибель — последнее средство остановить надвигающийся на нас потоп ничтожности, все необходимое я сделаю сам.
После этих слов Яцек кивнул Грабецу и направился в сторону города.
IX
— Иду срывать банк, — сказал себе Лахеч, пересчитывая деньги, еще оставшиеся от гонорара, уплаченного Товариществом Международных Театров.
Было их немного; не считая серебра, которое за игорным столом не принимали, чуть больше двадцати золотых монет. Лахеч улыбнулся.
— Тем лучше. Больше не смогу проиграть.
И все же он испытывал непонятную грусть. У него вызывали робость заполняющие роскошный вестибюль казино нарядные, элегантные мужчины, смеющиеся женщины с обнаженными плечами, овеянные ароматами дорогих духов. Ему чудилось, что, проходя мимо, они мельком бросают на него насмешливые взгляды, мысленно издеваются над его дурно сшитым костюмом, несуразной фигурой. Тщетно пытался он принять независимый, самоуверенный вид. Он уже забыл, что еще вчера все эти люди сходили с ума, слушая его музыку, и чувствовал себя рядом с ними маленьким, запуганным, нелепым и ничтожным.
Ему хотелось как можно скорей затеряться в толпе. У дверей Лахеч отдал входной билет и вошел в зал. До слуха долетел такой знакомый, щекочущий, дробный звон пересыпаемых золотых монет. Все столы были плотно окружены. Позади сидящих в креслах стоял еще ряд, а то и два, и эти люди бросали свои ставки через плечи тех, кто сидел. Раньше Лахечу нравилось, прежде чем начать игру, побродить по залу, наблюдать за лицами и жестами, ловить разговоры, немногословные, отрывистые, но такие красноречивые. Но теперь он испытывал какое-то внутреннее беспокойство, ему не терпелось поскорее самому вступить в игру. Он стремительно прошел через первый и второй залы, даже не глянув на игроков, и только в третьем осмотрелся, нет ли где свободного места.
Один из игроков поднялся и стал пробираться через ряды людей, стоящих за спинками кресел. Лахеч воспользовался тем, что на миг образовался проход, и бочком протиснулся к самому столу.
— Messieurs, laites vos jeux![3]
На зеленом сукне лежали столбики золотых монет и продолговатые билетики со штампом казино, которые выдавали игрокам в особой кассе в обмен на крупные суммы денег. Со всех сторон еще бросали на стол пригоршни монет, старший крупье с колодой карт в руке ждал, когда сделают последние ставки.
— Rien ne va plus![4] — объявил он и бросил первую карту.
Кто-то попытался поставить еще несколько монет на «красное», но сидящий рядом помощник крупье отодвинул их лопаткой.
— Тrор tard, monsieur, rien ne va plus![5] — повторил он. В напряженной, исполненной ожидания тишине шелестели карты, падающие на кожаный квадрат.
С безучастным выражением гладко выбритого лица крупье стремительными и изящными движениями белых пальцев метал красные и черные карты, подсчитывая очки.
— Trente neuf![6] — объявил он, закончив первый ряд.
Радостно заблестели глаза у тех, кто ставил на «красное»: вряд ли на второй сдаче будет выброшено такое же количество очков, притом всего на одно меньше максимума.
— Quarante! — прозвучало неожиданно. — Rouge perd et couleur![7]
Кто-то тихо охнул, какая-то женщина нервно смяла последний лежащий перед нею на столе банкнот, с другой стороны стола донесся сдавленный смешок. Лопатки крупье алчно набросились на золото, сгребая его с одной половины стола; вновь послышался дробный, рассыпчатый приторный звон. На оставшиеся, выигравшие ставки полился золотой дождь: один из крупье виртуозно бросал сверху монеты, покрывая ими лежащее на столе золото и бумажки. Отовсюду протянулись руки игроков. Кто-то забирал выигрыш или передвигал его на другое поле, кто-то на место проигранного бросал новые пригоршни золота.
— Messieurs, faites vos jeux! — повторял крупье освященные традицией слова, вновь держа наготове карты.
Лахеч пока не ставил. Стоя за креслом толстой матроны, он оглядывал игроков, что теснились вокруг стола. Некоторых из них он знал. Эти приходили сюда каждый день и всегда играли; в какую пору дня ни войди, их неизменно можно было увидеть здесь, если не за тем, так за другим столом — с неизменно сосредоточенными лицами; перед ними лежали кучки золота и банкнотов и листки бумаги, на которых они тщательно отмечали каждую игру.
Казалось, для них не имело никакого значения, выигрывают они или проигрывают. Лахеч догадывался, что эти люди играли только для того, чтобы играть; иной цели, иных намерений у них попросту не было. Он чуть ли не с завистью смотрел на них: ведь их радует и занимает то, что для него было тяжким трудом, — сама игра, наблюдение за картами, падающими из рук крупье, вид передвигаемого золота. Проигрыш мог стать для них катастрофой только потому, что не позволил бы продолжить игру, а выигрыш радовал, так как увеличивал капитал, который они опять смогут бросить на зеленое сукно.
Было заметно, что они с удивлением, не лишенным изрядной доли презрения, смотрят на тех, кто прибегал к столу, чтобы выиграть несколько золотых монет и уйти, унося в кармане добычу, словно там, за дверями игорного дома, ее можно было использовать с большей пользой, чем здесь, вновь поставив на кон.
А таких алчных игроков было немало. Это они стояли тесными рядами за креслами, они протискивались на каждое освободившееся место, и они… обогащали банк. Одни из них играли, ставя по одной монете и с тревогой следили за каждой картой, падающей из рук крупье, от которой зависела судьба их мизерных ставок, другие швыряли порой целые состояния, горы золота и банкнотов, стараясь сохранить безразличное выражение на лице, которое, впрочем, передергивалось судорожной гримасой, как только крупье начинал метать карты.
После каждой игры по столу перемещались просто неправдоподобные суммы. Лахеч смотрел на периодический приток и отток, на золотую волну, вновь и вновь переливающуюся по зеленому сукну, и пальцами пересчитывал в кармане свои жалкие несколько монет, которые ему предстояло швырнуть в этот потоп. Его разбирал горький смех.
Уже давно он ежедневно играл здесь — без пыла, без страсти, даже без особого желания, словно по обязанности ежедневно отрабатывал тут по нескольку часов. Ему было скучно и даже противно, но он поставил себе задачу вытерпеть.
Лахеч хотел выиграть. Хотел избавиться от той тягостной зависимости, что подобно кошмару душила его всю жизнь. И ему было все равно, каким способом будет достигнута цель; этот показался ему самым простым и — последним.
Когда-то, когда Лахеч был еще мальчишкой, ему казалось, что он очень скоро пробьется наверх благодаря таланту, в который он неколебимо верил, благодаря своим произведениям, что являлись ему в снах в виде птиц, широко распростерших крылья, сжимающих в когтях пучки молний и летящих в солнечном ореоле к людям. Снилось ему обретенное царственное величие, перед которым люди будут склонять головы, снился лучезарный, священный восторг, но его очень рано пробудили от этих сновидений.
По причине телесного уродства и боязливости он был посмешищем для однокашников уже в средней школе, которую, как и все, должен был обязательно закончить. Учителя не любили его за постоянную рассеянность, из-за которой он не мог сосредоточиться надолго на одном предмете; они обзывали его дураком и бестолочью и предсказывали, что пользы обществу от него не будет никакой.
А он ждал окончания школы, как освобождения. Положение его родителей было весьма невысоким, а потому были они небогаты, так что Лахеч не мог и мечтать о том, чтобы учиться за собственный кошт музыке, которая одна занимала и притягивала его. Но в кодексе законов их совершенного общества имелся параграф, предусматривавший право на обучение на государственный счет для всякого, выказавшего способности в какой-либо области.
Закончив среднюю школу, Лахеч надеялся, что ему удастся попасть под крыло этого благодетельного закона, но на экзамене, где он должен был продемонстрировать свои музыкальные способности, с треском провалился. Профессиональные музыканты, получающие большие жалованья от государственной казны, безоговорочно и в один голос заявили, что ему кастрюли надо чистить, а не музыкой заниматься и что он чудак.
В законах был и другой параграф, по которому каждому вменялся в обязанность труд на благо общества. Ну, а если кто-то решил бы не подчиниться этому закону, пусть даже временно, то ему оставалось одно — умирать с голоду.
Лахеча назначили на мелкую должность в Управление международных путей сообщения, где он в течение нескольких лет считался бестолочью, понапрасну получающей жалованье. Он прикладывал прямо-таки сверхъестественные усилия, чтобы учиться и из своего более чем скромного жалованья платить частным учителям, которые должны были открыть перед ним царство звуков. Он буквально умирал с голоду и одевался чуть ли не в лохмотья. Отбыв положенное число лет на «общественно полезной службе» все в том же Управлении путей сообщения и на той же самой низкой должности, он, как только наступил день, когда по закону дозволялось бросить службу, без раздумий и, скорей, крайне легкомысленно бросил ее и ушел в отставку с пенсией, до такой степени смехотворно крохотной, что ему, чтобы прожить на нее, пришлось бы есть раз в три дня да и то не досыта. Зато у него была папка, битком набитая оркестровыми произведениями, которые никто не хотел исполнять.
Сам же он, творец, не обладающий исполнительским, нет, не даром, а умением, лишь смотрел на написанные ноты, с жадностью мечтая о дне, когда они воскреснут в его ушах живыми звуками, и дрожал от возбуждения и нетерпения при одной мысли, что наконец услышит их, однако день этот все не наступал.
Он ходил по музыкальным авторитетам, толкался в театры и концертные залы, вел переговоры с виртуозами, но все безрезультатно. Услышав, что он самоучка, все только пожимали плечами; у него не было диплома об окончании государственной музыкальной школы, он даже не был принят туда, значит, у него не могло быть таланта. С ним просто не желали разговаривать.
Лишь однажды директор некоего театра в приступе благодушного настроения согласился прослушать его концерт. Лахеч несколько недель дожидался, когда будет допущен пред светлые очи театрального сановника. Наконец великий день настал. Лахеч, робея, сжимая в руках нотные тетради, вступил в изысканный кабинет, и выглядел он еще диковатей и неуклюжей, чем всегда. Директор небрежным мановением руки указал ему на фортепьяно.
— Сыграйте, — сказал он, — у меня всего пятнадцать минут свободного времени.
Лахеч залился краской и промямлил что-то невразумительное.
— Поторопитесь же, — проглядывая какие-то бумаги, бросил сановник, — время идет.
— Я не умею.
— Что?
— Я не умею играть, — объяснил Лахеч. — Я только пишу и дирижирую.
Директор позвонил.
— Следующий, — приказал он вставшему в дверях театральному служителю.
Так завершилось то незабываемое прослушивание.
В конце концов пришлось Лахечу обратиться с просьбой о помощи к г-ну Бенедикту, дальнеюродному дядюшке с материнской стороны. Г-н Бенедикт почитал себя человеком милосердным и с удовольствием доказывал это самому себе, потому в помощи не отказал и несколько раз уделял ему небольшие суммы в виде займа, однако был не слишком щедр, тем паче что не верил в талант этого странного музыканта, не умеющего даже играть.
А потом Лахеч попал в лапы Хальсбанда, по заказу которого за ничтожную плату писал, чтобы выжить, музыку к чудовищным виршам на заданные темы.
Хальсбанд, побывавший поочередно комиссионером, репортером, журналистом и владельцем крупной ежедневной газеты, сейчас занялся историей искусства и литературы и одновременно стоял во главе огромной «Компании по распространению современных шедевров посредством усовершенствованных граммофонов». Этим-то усовершенствованным ревущим чудовищам и служил музыкальный дар Лахеча. Иногда он писал для них даже «вновь найденные» произведения умерших великих композиторов прошлого. И тут он в ярости мстил, как умел, слушающей эти мерзости публике, ядовито пародируя знаменитейшие мелодии, но никто этого почему-то так и не заметил.
Ко всему прочему у Хальсбанда как теоретика истории литературы и искусства и притом бывшего журналиста имелись собственные претензии. Он считал прекрасным и всегда прославлял перед другими то, чего не понимал, видимо, в убеждении, что это вернейший способ выглядеть умным и глубокомысленным. А поскольку он весьма предусмотрительно угождал так называемым вкусам публики, делая ради них «уступки», Лахеч получал от него для «художественной обработки» чудовищный материал, являющий собой чистейшей воды хаос, где вещи по случайности поистине гениальные были перемешаны с модными кошмарами, а то и с совершеннейшей дилетантской чушью, в которой, кроме бессмысленных звуков и напыщенных слов, ничего не было.
Он уже думал, что погибнет в этой удушающей атмосфере, но тут то ли случайно, то ли по какому-то стечению обстоятельств на него обратила внимание знаменитая Аза. Из шутливых рассказов г-на Бенедикта она узнала, что Лахеч бессонными ночами написал музыку на известный «Гимн Исиде» прославленного Грабеца, и захотела спеть его в разрушенном храме на Ниле, который до сих пор никому не пришло в голову использовать как театр.
Замысел поначалу представлялся невыполнимым, но Аза преодолела все препятствия и добилась своего. Древние руины на Нильском водохранилище превратили на одну ночь в концертный зал. Со всего света понаехали люди, чтобы стать свидетелями этого невероятного представления, причем влекла их, разумеется, слава певицы и необычайность замысла, а отнюдь не имя знаменитого Грабеца и уж тем паче совсем им ничего не говорящее имя начинающего композитора.
Тем не менее Лахечу заплатили весьма неплохо. Он долго пересчитывал и вертел в руках впервые выписанные на его имя чеки. И внезапно почувствовал, что в золоте, на которое он сможет их обменять, огромная сила. Непонятная сила, вкованная в драгоценный металл тяжелыми молотами на монетном дворе, сила, которая дает ее обладателю свободу делать, что ему хочется, свободу повелевать людьми, свободу жизни, творчества.
Лахеч сжал руку в кулак. Какая-то яростная, непостижимая мстительность судорожно передернула мышцы его лица, заставила стиснуть зубы. Месть за все унижения, за голод, за нищету, за грязные лохмотья, которые ему приходилось носить, за поклоны Хальсбанду, за граммофонное рабство, за даром потраченную половину жизни!..
В ушах у него зазвучали неизвестно откуда налетевшие голоса, бессловесные песни, буря звуков и ветер, веющий над сухими травами замершей степи… Он широко раскрыл глаза, положил подбородок на сплетенные пальцы рук. Лицо его постепенно разгладилось; он вглядывался в глубины своей души, в сокровища, сокрытые в ней и готовые в любой миг явиться на свет.
И вдруг он осознал: ему, в сущности, совершенно безразлично все, что он пережил до сих пор, нет у него ни к кому претензий, ему Даже не очень и хочется, чтобы его слушали; единственно, он жаждет жить и творить, жить в звуках песен, что зарождаются у него в душе. Тихая, доверчивая, детская радость наполнила до краев его сердце и разлилась на устах безмятежной улыбкой.
Лахеч долго сидел, погруженный в раздумье. Потом вдруг сорвался и вновь пересчитал деньги. Да, такой большой суммы он еще ни разу в жизни не держал в руках, и все же она мала, отчаянно мала, чтобы купить свободу, покой и право на творчество. Ну, на год ее хватит, может, на два. А потом снова возвращение в нищету, в грязь, унижения или, в лучшем случае, придется хлопотать, торговаться, продавать, думать об успехе, стараться понравиться отвратительной зрительской черни, добиваться благосклонности виртуозов, комедиантов, лицедеев, поддержки певичек.
Внезапно кровь ударила ему в голову. В первую минуту он не мог понять, что это — стыд или какое-то другое, новое и неизвестное чувство. Лахеч понимал только одно: он не желает, не может согласиться на то, чтобы хоть чем-то быть обязанным Азе как благодетельнице. В первом порыве он хотел схватить эти деньги, помчаться к ней и швырнуть их ей под ноги.
Но он мгновенно опомнился. Аза расхохочется, презрительно глянет и на него, и на эту жалкую сумму, которая ему кажется целым состоянием.
Состоянием, заработанным благодаря ей! По необъяснимому капризу ей захотелось, чтобы он получил деньги, и она их ему просто-напросто подарила.
Лахеч прикрыл глаза, уткнулся лицом в стиснутые ладони. Как живая, Аза стояла у него в памяти — такая, какой он видел ее на репетициях, когда дирижировал своим произведением: горделивая, царственная, прекрасная.
И сладостная! Сладостная — как жизнь, как безумие, как смерть!
Нет, нет, по-другому надо предстать перед ней когда-нибудь, хотя бы раз в жизни! Предстать властелином, владыкой, богом — несмотря на это уродливое тело, на эту отвратительную всклокоченную голову, предстать прекрасным воплощением силы и величия!
Надо работать, творить!
С невольным презрением Лахеч смял чеки, еще недавно так поразившие его, и сунул в карман. В ближайшей государственной кассе он разменял их на золото и направился прямиком в казино.
Играл он упорно, ожесточенно и в то же время хладнокровно. Он поставил себе целью выиграть некую невероятную сумму, которая дала бы ему полную независимость до конца жизни. Он не рисковал, не безумствовал. Попросту тяжело работал, добывал за зеленым столом монету за монетой или же… терял их.
После нескольких часов он выходил, чтобы глотнуть воздуха, и результат оказывался так ничтожен, что временами его охватывало отчаяние, поскольку он видел, что не способен даже проиграть имеющихся у него денег и тем самым хотя бы избавиться от гнетущей и в то же время иллюзорной надежды. Бывали моменты, когда ему яростно хотелось поскорей лишиться всего, лишь бы только не чувствовать себя обязанным снова бросаться в невыносимый круговорот игры.
Но такое настроение быстро проходило.
— Я должен выиграть! — вновь говорил он себе и возвращался в игорные залы, чтобы опять «трудиться» в поте лица своего.
Играл он осторожно, можно сказать, по-крестьянски. Начинал с маленьких ставок и повышал их только после того, как позволял выигрыш. А тем временем судьба играла с ним, словно кот с мышью. Когда он после часовой борьбы, во время которой добывал монету за монетой, переходил в атаку и бросал на кон крупную сумму, ему неизменно выпадала проигрышная карта.
Порой, видя, как золото перетекает перед ним целыми потоками, как люди в течение нескольких минут выигрывают совершенно умопомрачительные суммы, его охватывало желание враз рискнуть всем, что у него есть. Ведь выиграть так легко: достаточно поставить на счастливый цвет и удвоить сумму, во второй раз она учетверится, в третий — уже станет в восемь раз больше…
Да, но только надо поймать такой счастливый момент, попасть на него.
Лахеч поставил монету — на пробу — и выиграл. Рука у него задрожала, и он бросил на кон с десяток золотых; хищная лопатка крупье смела их в кассу. Он опять начал с одного золотого.
И вот так до сих пор все и шло. Лахеч опасался, что и сейчас пойдет по-прежнему. Он начал ставить несмело, стыдливо, протягивая руку с блестящим золотым кружком над плечом сидевшей перед ним дамы; всякий раз она зло оборачивалась к нему, опасаясь, что он заденет ее фантастическую шляпку. Лахеч после каждого ее такого взгляда смиренно шептал: «Прошу прощения», — и пятился назад, с трудом заставляя себя протянуть руку за выигрышем.
А судьба как раз начала улыбаться ему. Теперь он постоянно выигрывал, поначалу по две монеты, потом, когда осмелел, целыми пригоршнями. Через некоторое время он почувствовал, что карман, куда он ссыпал выигранные деньги, отяжелел. Он сунул в него руку и испугался. Карман был полон; среди монет под пальцами шелестели банкноты, которые выдавались только на крупные суммы.
«Пришел мой час», — подумал Лахеч.
Он героически зачерпнул из кармана столько, сколько поместилось в руке, и на секунду заколебался.
«Пять раз подряд ставлю на красное!»
Не считая, он бросил деньги на стол.
— Trente deux![8] — прозвучал безразличный голос крупье.
Лахеч слегка побледнел.
«Проиграю!» — подумал он.
Еще секунда…
— Trente un![9]
Как ни странно, Лахеч выиграл. В ушах у него зашумело.
Крупье быстро пересчитал его ставку и добавил столько же с таким безразличным видом, словно передвигал от нечего делать по зеленому сукну горстку гороха.
У Лахеча дрогнула рука: ему захотелось забрать выигрыш.
«Я сказал себе, что пять раз подряд поставлю на красное», — подумал он и оставил все на столе.
И опять красное выиграло. На сей раз крупье, пересчитав его ставку убрал все золото и положил несколько продолговатых бумажных билетов.
«Ставлю пять раз подряд», — мысленно повторил Лахеч, усилием воли удерживая руку, которая тянулась сунуть банкноты в карман.
И снова вышло красное. И опять. Четыре раза подряд. На Лахеча начали уже поглядывать с завистью: как же, ведь он попал в полосу везения; сумма, лежащая на столе и, вне всяких сомнений, принадлежащая ему, и вправду была огромна. Он задыхался, чувствуя, как на шее бешено пульсирует артерия; хотелось схватить деньги и убежать.
«Пять раз!»
На висках выступили крупные капли пота. Если еще раз сумма удвоится…
Крупье-банкомет, держа в руках колоду, осматривался, спрашивая взглядом, все ли сделали ставки.
«Нет, это просто невозможно, чтобы еще раз вышло красное!» — гудело в мозгу у Лахеча.
— Rien ne va plus!
Судорожным движением Лахеч схватил лопатку и передвинул груду банкнотов на соседнее поле в центре стола — в последний миг, когда уже падала первая карта.
Затаив дыхание, Лахеч ждал.
— Rouge gagne, couleur perd!
А он как раз передвинул ставку с красного поля на couleur и — проиграл.
Странное дело, но это его не огорчило. Он даже сам удивился. Единственно он ощутил только небывалый азарт.
«Так мне и надо, — подумал он. — Нужно было оставить. Ничего, сейчас отыграюсь».
Он зачерпнул из кармана, сколько вместилось в руку, и поставил на красное.
Дразняще шелестя, карты из рук крупье ложились на кожаный квадрат. Лахечу каждая секунда казалась бесконечно долгой. С притворным безразличием он оторвал взгляд от карт и стал присматриваться к окружающим стол игрокам. Его внимание привлек стоящий напротив за креслом бородатый еврей, который хоть сам ничего не поставил, с безмерным возбуждением следил, как крупье мечет карты; при этом он нервно вертел головой и шумно причмокивал языком: видимо, во рту у него совсем пересохло.
— Rouge perd, couleur gagne!
«Ага, — подумал Лахеч, глядя, как поставленные им деньги сбрасывают в кассу, — надо было в тот раз оставить, как я и решил, на красном, а сейчас поставить на черное».
Неслыханная простота этого вывода потрясла его.
«Это же так элементарно», — мысленно повторял он, не соображая, на что же ему теперь ставить.
Он даже не заметил, что пропустил несколько игр. Сейчас он пытался вспомнить, чем они закончились; ему показалось, будто он слышал, что выигрыш все время падал на черное.
«Значит, надо ставить на черное».
И он протянул к столу руку с полной горстью золота.
Однако крупье вежливым жестом остановил его. В центре стола заново тасовали карты, и пока исполнялся церемониал этого торжественного обряда, все ставки полагалось убирать.
«Это хорошо, просто прекрасно! — мысленно возликовал Лахеч. — А то я опять бы свалял дурака. Ведь совершенно очевидно, что если черное выигрывало несколько раз подряд, то сейчас все должно перемениться, а значит, ставить нужно на красное».
— Faites vos jeux, messieurs!
Лахеч поставил на красное и проиграл. Семнадцать раз подряд он ставил на красное, и семнадцать раз подряд выходило черное.
А он все смотрел на крутящего головой еврея. Заметил, что тот держит в руке золотую монету и вот уже с час, наверное, не может решить, на что поставить. Глаза у него чуть ли не вылезали из орбит, чмокал он все громче и противнее
Лахеч улыбнулся.
«Вот уж кто, наверно, терзается!»
Он полез в карман, чтобы сделать новую ставку; пальцы, загребая последние монеты, наткнулись на полотно. Он мгновенно опомнился, словно очнулся после глубокого сна, во время которого потерял себя. Его охватил страх.
«Как! — промелькнуло у него в голове. — Ведь у меня же было столько… »
Ему казалось, что все смотрят на него и посмеиваются. Быстро, точно убегая, он отошел от стола. Кровь стучала у него в висках, по всему телу бегали мурашки. Только теперь он обрел способность трезво судить о своей игре: все моменты, на которые у стола он не обращал внимания, четко возникали в его сознании.
«Да, надо было перейти на черный, потому что явно пошла „полоса“, — размышлял он. — Достаточно было ставить по монете на черное и спокойно ждать. И я имел бы целое состояние». А уж если нет, то следовало прекратить играть, как только он заметил, что ему не везет. Ведь до сих пор он так всегда и поступал. Если бы он ушел пятнадцатью минутами раньше, у него было бы…
Лахеч принялся прикидывать, сколько же у него было четверть часа назад.
А сейчас?
Он сунул руку в карман и, расхаживая с опущенной головой по залу, стал пересчитывать оставшиеся монеты. При этом он кого-то толкал, кому-то неловко уступал дорогу, наступая на ноги другим. Один из задетых что-то прошипел сквозь зубы, другой одарил его не слишком лестным эпитетом. Но Лахеч не обращал на это внимания, похоже, он ничего не слышал.
Пересчитанные монеты смешивались в кармане с непересчитанными; сосчитав, он тут же забывал итог, и приходилось начинать счет заново.
В конце концов он встал и, не смущаясь присутствием пялящихся на него людей, высыпал на ладонь последнюю горстку золота и сосчитал ее. У него оказалось почти столько же, сколько было, когда он начал игру; одним словом, он не потерял ничего, кроме того, что выиграл.
Словно бы утешая себя, он чуть ли не в полный голос произнес это и тем не менее не мог избавиться от охватившего его чувства угнетенности, которое с каждой секундой все больше походило на отчаяние.
Совсем недавно он был богат. Да, ведь то, что он выиграл, было, вне всяких сомнений, его собственностью, а это было целое состояние, которое могло бы наконец дать ему покой, свободу, жизнь, о какой он мечтал. Судьба улыбнулась ему, наполнила его карманы золотом, но так ненадолго, что он даже не успел насладиться обретенным богатством, и тут же унесла, как уносит ветер сухие листья.
И только для того, чтобы теперь он испытал чувство утраты.
А что же дальше?
Придется либо снова начинать на оставшиеся деньги осторожную, изнурительную, мелочную игру, либо отказаться от нее и, истратив эти гроши, доставшиеся ему по милости певицы, опять вернуться к Хальсбанду, к граммофонам, к высиживанию в приемных директоров театров, к работе для заработка, убивающей все, что нарождается в душе.
Но он понимал, что ни на то, ни на другое сил у него больше не осталось, и ему вдруг захотелось по-детски расплакаться.
И тут же пришло какое-то странное равнодушие.
— Все едино, — прошептал он с чувством неожиданного облегчения. — В сущности, это такая чепуха, что там станется завтра! А сейчас… Сейчас я могу еще выпить бутылку шампанского! Денег хватит.
Лахеч прошел в буфет, рухнул на угловой полукруглый диванчик и велел подать бутылку вина.
— Маленькую бутылку? — с едва уловимым пренебрежением осведомился важный лакей, бросив мгновенный и привычно оценивающий взгляд на невзрачную фигуру Лахеча.
— Большую. Самого сухого.
— Слушаюсь.
Лахеч раскинул длинные руки по спинке диванчика, положил ногу на ногу. Его охватило божественное и сладостное чувство, какое бывает у человека, когда он осознает, что ему терять нечего. Он мысленно улыбнулся, подумав об игре и о проигрыше, о том, что он, в сущности говоря, нищий, а между тем швыряет тут деньги и пьет шампанское, потому что ему так захотелось.
Он налил бокал до краев и, откинув голову на спинку диванчика, поднес его ко рту. Почувствовал на губах вкус микроскопических брызг, вырывающихся из бокала; в ноздри ему ударил бодрящий, возбуждающий запах.
Чуть пригубив вино, он следил из-под полуопущенных век за проходящими мимо людьми. Первый же глоток ударил ему в голову.
«Я сам себе господин, — убеждал он себя. — Проиграл, потому что мне так захотелось, так взбрело в голову. А сейчас пью превосходное вино, посиживая на бархатном диванчике, потому что мне так нравится, а захочу — завтра плюну музыкой в рожу всей этой разряженной швали, что смотрит на меня, как на волка. А захочу — повешусь, и конец всему! Что захочу, то и сделаю».
Ему было безумно приятно от этого ощущения абсолютной и бесспорной свободы, доведенной до последней границы. Он мысленно несколько раз повторил это определение, радуясь в глубине ликующего сердца тому, что оно так просто и ясно, и удивляясь, почему оно раньше не пришло ему в голову.
В поле его зрения вдруг возникла стройная фигура женщины, которая с кем-то разговаривала. Она стояла к Лахечу спиной, но он узнал ее с первого взгляда, узнал еще прежде, чем уловил ее движение, чем определил цвет ее волос.
Что-то оборвалось у него в груди, стиснуло горло. Он вскочил, задев за стол, и тотчас же снова уселся, не понимая, зачем вставал.
А женщина обернулась на шум, увидела Лахеча и стояла с приветливой улыбкой, ожидая, что он поздоровается с нею.
— Аза…
Лахеч вновь неуклюже поднялся и подошел к ней. Руки у него дрожали, на лбу выступил пот, а когда он подал ей руку, ему пришло в голову: а ведь она, видя его здесь, решила, что он играет на деньги, которые она для него заработала. Его охватил жгучий стыд и ярость, такая ярость, что он едва не потерял остатки соображения. Мимо него прошло, что Аза представляет его своему собеседнику; он только уловил «мой композитор», и это определение непонятно почему уязвило его.
— Я бросаю музыку, сударыня, — неожиданно и глупо вырвалось у него.
— Да что вы? — засмеялась певица. — Неужели вы так много выиграли?
Она тут же пожалела, что сказала это. Лахеч побагровел и улыбнулся странной улыбкой, скорей похожей на гримасу приближающего плача. Аза дотронулась до его руки.
— Господин Хенрик, — обратилась она к нему по имени и с чуть заметной укоризненной интонацией, — вы не должны так говорить даже в шутку. Вы — великий композитор, и было бы безмерно жаль, если бы вы загубили огромный талант, которому сейчас настало самое время пробиться.
Лицо у великого композитора стало ярко-алого цвета; ему казалось, что сейчас из всех пор у него брызнет кровь. А развеселившаяся Аза продолжала болтать, с очаровательной кокетливостью, чуть склонив голову набок:
— Почему вы не были у меня после концерта? Я ждала вас. Хотела еще раз поблагодарить за чудесную музыку. Это был ваш триумф, а не мой и даже не Грабеца.
«Из жалости хочет сделать мне приятное», — пронеслось в голове у Лахеча.
Ему казалось, что спутник Азы, потрясающе элегантный молодой человек, именно так и понимает ее слова и смотрит на него с насмешкой, как на нищего.
В нем вдруг вспыхнула гордость, и он вскинул голову. Лицо у него залилось бледностью, и, обойдя взглядом молодого человека, который как раз открыл рот, чтобы добавить к словам Азы и свой разменный комплимент, Лахеч взглянул ей в глаза и произнес, медленно цедя слова:
— Это я вас благодарю. Вы великолепно исполнили мое произведение. Лучшей исполнительницы и желать невозможно. Я весьма доволен и еще раз благодарю вас.
С неожиданной даже для самого себя ловкостью он отвесил стремительный поклон и вышел. Но в дверях вспомнил, что не заплатил за вино. Вернувшись, Лахеч небрежно бросил официанту несколько золотых, чуть ли не половину того, что у него осталось, и, не оглядываясь, выбежал на лестницу.
И тут его покинула минутная уверенность в себе, напряженные нервы отказали в послушании.
«Экий же я идиот! — сокрушался он, пробираясь в толпе к выходу в парк. — Идиот, шут гороховый, ничтожество и хам! Что она подумает обо мне? Небось разговаривает сейчас со своим красавцем, и оба хохочут надо мной».
Его охватило безумное, нервическое отчаяние. Он бежал по пальмовым аллеям, из которых жара выгнала гуляющих, и грыз, и грыз себя.
— Дальше! Дальше! Надо бежать!
Лахеч чувствовал, что его душат рыдания, чувствовал, что отдал бы все — жизнь, душу, — лишь бы суметь разговаривать с нею иначе — как тот франт, и чтобы она смотрела на него так же, как на того.
«Повеситься!» — вспыхнуло у него в мозгу. Он сжал зубы и стал искать, захваченный этой мыслью, укромное дерево с подходящими ветвями.
«Да, повеситься! — безмолвно повторил он. — Все это не имеет никакого смысла. Слишком я никчемен и глуп».
Он заметил смоковницу с разлапистыми кривыми ветками. Выбрал одну из них, проверил рукой, достаточно ли они прочна. Швырнул на землю шляпу, сорвал воротничок. Все было готово.
И тут он вспомнил, что ему не из чего сделать петлю. Подтяжки слишком слабы и, без сомнения, оборвутся. И внезапно ему стала отчетливо видна вся стыдная и трагическая комичность ситуации. Лахеч опустился на землю, у него случился приступ спазматического, судорожного смеха, а из глаз потекли крупные жаркие слезы.
X
Яцек решил уехать из Асуана, не повидавшись с Азой. Он был зол на себя, что поддался ее уговорам, а точней, ответил на мимоходом брошенное приглашение, поскольку она вовсе не уговаривала его, и вопреки своему твердому решению приехал только для того, чтобы вновь убедиться, что находится в рабской зависимости от нее. К тому же его раздражила беседа с Грабецом. Теперь он совершенно уверен, что этот незаурядный человек, гениальный писатель одержим идеей возвысить роль творцов и действительно подготавливает некий переворот. Яцек думал об этом с огорчением, так как совершенно не верил в успех. По правде сказать, и в нем часто вскипало возмущение против самовластия посредственностей, которые, если здраво рассудить, эксплуатировали мыслителей и творцов ради собственного благополучия, оставляя им мнимую и якобы заслуженную свободу, но усилием воли он тут же подавлял негодование как чувство, недостойное высокого духа, величие которого в самом себе, и лишь с еще большим презрением, но и снисходительностью смотрел на окружающих. Вмешиваться в хаос борьбы без особой необходимости у него не было никакой охоты: слишком многое могли потерять высокие духом, чтобы все поставить на одну карту ради не слишком ценного выигрыша, каким оказалась бы власть над толпой.
Тем не менее удерживать Грабеца Яцек не мог и не хотел. Во-первых, потому что, честно говоря, чувствовал в его словах правоту, а во-вторых, потому что знал: никакого толка от уговоров не будет.
Об этом Яцек и думал в отеле, укладывая дорожную сумку, которую брал с собой в самолет.
В дверь постучали. Яцек обернулся.
— Кто там?
Ему пришло в голову, что это может быть посыльный от Азы, и хоть он решил улететь, не повидавшись с ней, сердце его забилось от радостной надежды.
С нескрываемым разочарованием он увидел в дверях лакея, которого назначили прислуживать ему.
— Ваше превосходительство, самолет, как вы распорядились, готов к полету.
— Хорошо. Сейчас выхожу. Кто-нибудь спрашивал меня?
— Ваше превосходительство распорядились никого не принимать.
— Кто был?
— Рассыльный.
— Откуда? От кого?
Яцек почти выкрикнул этот вопрос, и сразу же ему стало неловко, тем паче что он заметил на тонких губах лакея сдержанную улыбку, которая, правда, мгновенно исчезла.
— Из «Олд-Грейт-Катаракт-Паласа». Он оставил письмо. Лакей подал Яцеку узкий длинный конверт.
Яцек бросил взгляд на листок бумаги.
— Когда его принесли?
— Только что.
— Так… хорошо… — пробормотал Яцек, пробегая глазами несколько строчек, написанных крупным, четким почерком. — Распорядитесь вкатить самолет обратно в ангар, я полечу позже.
Как был, в дорожном костюме Яцек вскочил в лифт и через две минуты вышел из него на первом этаже. «Олд-Грейт-Катаракт-Палас», где остановилась Аза, был довольно далеко, и сейчас, в жару, идти по улицам было не слишком приятно, но тем не менее Яцек не сел в подкативший автомобиль, а отправился туда пешком. Хотя сегодня он уже много ходил, Яцек испытывал потребность в движении, которое всегда успокоительно действовало на него.
По пути у него скользнула мысль, что, может быть, лучше было бы вернуться и улететь, послав Азе письмо с извинениями.
Но он лишь посмеялся над собой. К чему эти детские штучки? Ведь было же ясно с самого начала, что он повидается с нею. Даже если бы она не прислала ему записку, он в последний момент нашел бы какой-нибудь повод, чтобы оправдаться перед собой, и помчался бы к ней.
Странным было его отношение к этой женщине. Он знал, что она его не любит и никогда не полюбит, понимал: она намеренно удерживает его при себе неодолимым своим очарованием, так как ей лестно видеть у своих ног среди множества позолоченных дураков мудреца, а также еще и потому, что ее забавляет, до какой степени он неловок и слаб перед ней. Кроме того, у нее могли быть и какие-то скрытые причины, по которым она не хотела упускать его из рук; как-никак при его положении, знаниях и имени он мог быть ей полезен при решении важных для нее вопросов в тех кругах, на которые ее безмерная женская власть все-таки не распространялась.
Яцек знал все это и, более того, знал, что она сознательно избрала для их взаимоотношений фальшивую видимость дружбы, чтобы еще сильнее мучить его и еще надежней привязать к себе, однако не возмущался и не обижался на Азу. Если порой ему и хотелось вырваться из-под ее власти, то только для того, чтобы избавиться от мук безответной любви и спасти мысль от ее чар, из-за которых та все чаще путалась и туманилась.
Но ему недоставало на это сил, и тогда он думал, что эти муки и наслаждение, какое он испытывает, любуясь ее дивным, прекрасным телом, пожалуй, единственное, что он получает от жизни, как бы возносясь частью своего существа над ее кругами.
Порой, когда в нем вскипала кровь и приходило безумное желание поцеловать, стиснуть Азу в объятиях, он извивался, как червяк, от невыразимой боли и думал, что она, должно быть, расточает и продает безмерное сокровище своей красоты не только на театральных подмостках в ярком свете рампы, но и в благоуханной тишине своей спальни, когда лишь свет пригашенных ламп указывает святотатственным устам путь к белоснежной груди.
Так считали все, и он, не смея думать иначе, старался вообще не вспоминать об этом. Но когда к нему приходили подобные мысли, он боролся с ними, подавлял их, пока они не растворялись в каком-то бесконечном море печальной нежности, готовой все простить, со всем смириться.
— Ты моя, — шептал он тогда, — моя, хоть тысячи глядят на тебя и тянут к тебе руки, потому что я, быть может, единственный способен понять красоту твоего тела и почувствовать твою бедную светлую душу, прячущуюся где-то в самой глубине сердца, куда едва доходит эхо твоей жизни.
И он снова смотрел на нее с доброй, хотя и грустной снисходительностью и спокойно воспринимал свою слабость перед ней и то, что другие назвали бы унижением; так взрослый человек иногда подчиняется капризам любимого ребенка и по его приказу бегает на четвереньках вокруг стола.
Такое же чувство он испытывал и сейчас, спеша по ее приглашению к ней в гостиницу, хотя у него и не было полной уверенности, что его примут и встретят с радостью. Яцек знал: все будет зависеть от минутного настроения Азы, и тем не менее торопился, потому что сам хотел увидеть ее. Шел и с тихой нежностью думал о ней.
На повороте пальмовой аллеи, где та близко подходила к пустыне, Яцек непроизвольно остановился. Он смежил веки, оставив лишь крохотные щелочки, чтобы с солнечным светом, падающим на лицо, в них проникала и желтизна песков, что уходили за границу клеверных полей в бескрайность.
Постепенно в сознании у него все стало расплываться и смазываться. Он уже почти забыл, где находится, зачем вышел из гостиницы и куда идет. Ощущение несказанного сладостного облегчения, несказанного успокоения проливалось на него с лучами солнца. В памяти промелькнуло: Аза, Грабец, взлеты и тяжелый духовный труд, мудрец Нианатилока, но все тут же таяло, как тает у него на родине весенний снег, когда теплом дышат и небо, и набухшая земля, и разлившиеся воды.
Солнце! Солнце!
Был момент, когда он думал только о солнце да о жарком ветре, отраженном розовыми скалами, пролетевшем через пустыню с лазурного моря от теплых волн, что набегают на песок со сладострастностью кошки, которая пронзительно мурлыкает и трется о гладящую руку. Он упивался благоуханной, звенящей в ушах предвечерней тишиной и прикосновениями ласкового ветра, которые ощущал на лице, на волосах, на приоткрытых губах.
Странное, тревожащее чувство прямо-таки физического наслаждения растекалось по всему телу.
— Таковы же, должно быть, поцелуи ее уст, так же ласкают ее мягкие, нежные, сладостные руки…
Свое сознание и чувства он удерживал на одном-единственном ощущении, точно хрустальный шар на острие ножа — вне времени и пространства.
— Вот таковы же, наверно, ее поцелуи…
И вдруг он открыл глаза, словно пробудился после длившегося целую вечность летаргического сна. Несмотря на жару, дрожь пробежала по его телу, залитая светом пустыня потемнела в глазах. Он вспомнил, что потерял все утро, непонятно зачем сидя в отеле и теша, как мальчишка, «мужскую гордость», хотя мог быть рядом с ней, смотреть ей в глаза, чувствовать прикосновение руки, слушать ее мелодичный голос. И даже сейчас, когда она позвала его, он тратит попусту время.
С нервической торопливостью он махнул проезжавшему мимо электрическому экипажу и велел отвезти себя в отель.
Аза ждала его у себя в номере. Радостно и с видимым удовлетворением, оттого что он пришел, она поздоровалась с ним, но очень скоро не выдержала и стала выговаривать за то, что он явился так поздно и только после того, как она пригласила его.
— Тебе что, вчера не понравилось? — Они уже некоторое время как были на «ты». — Сбежал, не дождавшись конца концерта, а сегодня я едва дождалась тебя.
Яцек не вышел еще из того мечтательного настроения, какое охватило его на солнце, и, не отвечая, смотрел на нее с улыбкой, словно его сон вдруг превратился в явь. Всякий разговор был для него ненужной докукой; ему хотелось только смотреть на нее и чувствовать, что она рядом.
Но Аза требовала, чтобы он ответил. Он протянул руку и кончиками пальцев прикоснулся к ее ладони.
— Ты была чудесна, — шепнул он, — но я, право же, предпочел бы не видеть тебя там вчера и не слушать вместе с другими твое пение.
— Почему?
— Потому что ты прекрасна Яцек пожирал ее взглядом.
— Ну и что? — недоумевала Аза. — Раз я прекрасна, мною нужно любоваться и любить меня, а не убегать.
Яцек покачал головой.
— Когда я смотрю на тебя в театре, то не могу избавиться от впечатления, будто ты измываешься над своей красотой и швыряешь ее в добычу толпе. И тогда мне становится до боли жалко, что ты так божественно прекрасна.
Аза улыбнулась.
— Значит, я все-таки божественно прекрасна?
— Ты сама знаешь это, и даже слишком хорошо. Меня только порой удивляет, что тебе недостаточно сознания собственной красоты и ты испытываешь, так ли сильна она, улавливая ею людей, которые даже смотреть на тебя недостойны.
— Искусство принадлежит всем, кто его пожелает, — неискренне и заученно промолвила Аза. — Я — артистка, то, что есть во мне, я должна выразить перед людьми движением, голосом. И когда я творю, я вовсе не спрашиваю…
Улыбнувшись, Яцек прервал ее:
— Нет, Аза. Это заблуждение. Ведь ты же ничего не творишь. Ты просто делаешь чудо из того, что сотворено мыслью других, и только потому, что ты сама чудо. Тебя и хотят видеть — чудом! Тебе только за одно это и платят, и ты обязуешься быть прекрасной для каждого, кто заплатит за вход. Ты теряешь свободу красоты и в театре отказываешься от себя для всех тех, кто любит говорить об искусстве, но при этом похотливым взглядом следит каждое твое движение. Вчера именно такое я и видел, да ты и сама не можешь этого не чувствовать. По мне, ты слишком хороша для подобной службы.
Аза рассмеялась — громко, презрительно.
— Ну, я лучше знаю, для чего я хороша! И не служу я, а властвую. Для меня построены театры, написаны оперы, изобретены музыкальные инструменты. Для меня трудился тот, кто тысячелетия назад возвел на острове этот храм, и те, кто века назад затопил его водой, чтобы ныне я могла смотреться в эту водную гладь, когда танцую и пою. Я прекрасна и могущественна. Я могу и желаю властвовать и потому…
— Продаешь красоту своего тела.
— Точно так же, как ты могущество своего духа, — вызывающе бросила она ему в лицо.
Яцеку припомнился недавний разговор с Грабецом. Он склонил голову и потер ладонью лоб.
— Как я могущество духа… — повторил он. — Да, быть может, быть может… Все мы в одинаковом положении. Человеку кажется, будто он властвует, приказывает, предводительствует, берет себе, что заблагорассудится, а на самом деле он является наемником, купленным уже при рождении, и служит толпе за установленную без его участия плату. Толпа покупает себе и рабочих, и мудрецов, и изобретателей, и вождей, и шутов, и актеров, и холопов, а когда были короли, она их покупала за то, что они являются королями, хотя тем казалось, как и тебе, будто они царствуют милостью Божьей. Толпа покупает даже погромщиков, разрушителей и собственных врагов, потому что ей и эти нужны, — добавил Яцек, думая о Грабеце.
Но Аза не обращала внимания на то, что он говорит. Она встала и, чтобы прервать досаждающий ей разговор, бросила с деланным безразличием:
— Что ж, смиримся с этим.
— Разумеется. Мы всегда, постоянно и неизменно смиряемся со всем, как будто то, что окружает нас, и впрямь чего-то стоит и действительно необходимо. Ведь ты и в диких дебрях, одинокая, как цветок, была бы так же прекрасна.
— И какой был бы мне прок от этого?
— Вот, вот. Человек всегда думает, какой ему будет прок. Ты, я, они — все. Мы не умеем ценить того, что в нас есть, и потому ищем у других подтверждения нашего представления о себе, строим на их мнении. Мы так мало верим, что мы вечны, и потому ищем у других, столь же бренных, как и мы сами, мнимого бессмертия (славы, славы!) и пытаемся делами или хотя бы деятельностью обеспечить своим мыслям долговечность, какой жаждем для себя.
Яцек говорил, подперев лоб ладонью, словно разговаривая с самим собой, но в то же время задумчиво смотрел на стоящую перед ним женщину.
А она слушала его с внутренней враждебностью. Ей скучны были не слишком понятные слова, и она воспринимала только их звучание да простейший смысл, но задумываться над ними у нее не было ни малейшей охоты. Более того, когда Яцек при ней развивал для себя самого свои мысли, она испытывала к нему глухую неприязнь, потому что чувствовала: в такие минуты он уходит из-под ее колдовской власти.
Аза вдруг положила ему на плечи руки.
— Я хочу, чтобы со мной ты думал обо мне, только обо мне.
Яцек улыбнулся.
— А я о тебе и думаю, Аза. Ах, если бы я верил в бессмертие души так же сильно, как жажду его, и верил в извечное, ни от чего не зависящее совершенствование ее!
— И что тогда?
Аза прервала его этим бездумно брошенным вопросом, не требующим иного ответа, кроме улыбки. Длинные ресницы наполовину затеняли ее огромные детские глаза, она чуть надула губы, легонько подрагивающие то ли от таящейся в их уголках улыбки, то ли от предчувствия поцелуев. Ее восхитительная грудь, чистые линии которой обрисовывались под легкой тканью платья, высоко поднималась от глубокого дыхания.
Яцек смотрел ей в лицо так безмятежно и спокойно, словно перед ним и вправду был цветок, а не прекрасная, желанная женщина.
— Тогда я взял бы тебя за руку и сказал бы так: пойдем со мной и попробуем быть одиноки даже вместе, вдвоем. Цвети, как цветок, потому что твоей красоте не нужны ничьи глаза; объемли душою мир, сколько сможешь, точь-в-точь как это делает солнце, и не думай о большем. Не пропадет вотще сладость твоих уст, хотя ничьи губы и не выпьют ее; не пропадет ни одно движение твоего тела, не погибнет ни одна улыбка, хотя и не запечатлится даже на краткий миг в чужих глазах и чужом вожделении.
Аза смотрела на него с неподдельным изумлением, не в силах взять в толк, серьезно он говорит или просто посмеивается над ней. Яцек поймал неуверенность в ее взгляде и внезапно умолк. Ему стало грустно и стыдно, оттого что он говорит ей о вещах, кажущихся смешными и нелепыми; ведь, оторвавшись от мысли, которая была их основой и из которой они выросли, они превратились в разбредшиеся слова, едва-едва выражающие породившую их мысль.
Он встал и потянулся за лежащими на столе перчатками. Аза бросилась к нему.
— Останься!
— Не хочу. Да мне и пора. До заката солнца я должен уже лететь над Средиземным морем.
— Зачем ты мне это рассказываешь? Ведь ты же прекрасно знаешь, что останешься.
И Яцек послушно уселся.
Разумеется, он останется. Еще на минутку или на час.
Он чувствовал, что стоит ей пожелать, и он останется с нею навсегда. И в то же время понимал, что она никогда этого не пожелает, потому что он сам не умеет желать, нелепо выйдя за скобки жизни, и вот теперь разливается перед нею соловьем, толкуя об одиночестве красоты, вместо того чтобы протянуть к ней руки, прижать к груди, прильнуть губами к ее губам, преодолев сопротивление, если она окажет его.
Яцек видел, до чего она красива, обольстительна, прелестна, неповторима. Предугадывал, что вся она — счастье и наслаждение. Жаркий туман окутал его мозг; он впивался в нее глазами, в которых постепенно стало загораться любовное исступление, бездонное и скорбное, как смерть.
В крови, что для его разгоряченных мыслей была тем же, чем было масло для древних лампад, пробегало какое-то волнение и дрожь — из прадавних воспоминаний, быть может, еще из тех времен, когда его предки готовы были весь мир взять на шпагу ради одного только взгляда прекрасных глаз. И как море, вздымающее свои воды к Луне, кровь его неудержимым приливом устремлялась к величайшему таинству жизни, каким является любовь; к таинству, вроде бы утраченному на вершинах, но тем не менее живому и неизменно напоминающему о себе дыханием уст, биением сердца, пульсацией крови в жилах.
— Аза… — прошептал Яцек.
Она подошла к нему.
— Что?
Она смотрела на него из-под приопущенных век взглядом, который казался уже полубессознательным (вот так смотрит загипнотизированная удавом газель), однако губы ее хищно подрагивали, свидетельствуя, что жертвою здесь является вовсе не она. Протянув руку, Аза коснулась его лба. Легонько, легонько — словно напоенный солнцем ветер, что ему откидывал упавшие волосы со лба.
Как там — на границе пустыни…
Он ощутил солнце в воздухе, втекающем в грудь, в крови, что, становясь все жарче, распирала артерии, заволакивала глаза туманом, увлекала за собой мысли в странный танец… И волна непередаваемо сладостного, лишающего воли блаженства затопила все его существо.
Как там — на границе пустыни…
Яцек потянулся лбом к ее рукам, а она чуть приподняла его голову.
— Любишь меня?
Аза выдохнула эти слова ему прямо в лицо, ее губы были рядом с его губами.
— Да.
Она стояла над ним, сознавая свою безмерную, неодолимую силу: в этом человеке, что словно младенец, затих в ее ладонях, к ее ногам склонилось все бездонное знание, высочайшая мудрость мира. Потому что она женщина, потому что она прекрасна, она теперь могла повелевать ею, как повелевает всеми творцами, поэтами, живописцами, композиторами, хоть те и почитают себя выше ее, как повелевает толпой, богачами, сановниками, стариками и юнцами.
В памяти у нее промелькнуло то, что недавно ей говорил Грабец:
«Яцек сделал таинственное и страшное изобретение. Сам он никогда его не использует, но тот, в чьих руках оно окажется, станет самодержавным владыкой мира».
Владыкой мира!
Аза еще ближе склонилась к Яцеку. Прядки волос, упавшие у нее с висков, щекотали ему лоб.
— Ты знаешь, что я прекрасна? Прекрасней, чем жизнь, чем счастье, чем сон?
— Знаю…
— А ведь ты еще ни разу не целовал меня.
Слова ее были тихи, почти беззвучны, как дыхание.
— Хочешь?
— Аза!
— Скажи мне свою тайну, отдай мне свое могущество, и я стану твоей.
Яцек вскочил и попятился от Азы. Он был смертельно бледен. Стиснув зубы, он молча смотрел на удивленную его реакцией артистку.
— Аза, — с трудом выговаривая слова, наконец произнес он. — Неважно, люблю я тебя или только желаю, неважно, в чем моя тайна и мое могущество, но я не хочу… покупать тебя, как другие.
Аза гордо вскинулась.
— Как другие? Кто может похвастаться, будто видел в одиночку чудо моего тела? Кто обладал мною?
Яцек бросил на нее быстрый изумленный взгляд. Но она поймала его и рассмеялась.
— Ради одной только… нет, даже меньше, чем улыбки, даже меньше, чем снисходительного взгляда, люди ползают у моих ног и идут на гибель, если мне захочется! Никто не способен дать цену, за которую можно меня купить. Теперь за меня нужно отдать весь мир!
Онемев, затаив дыхание, Яцек смотрел на нее и чувствовал, что сейчас она говорит правду. А она, склонив голову и нахмурив брови, словно под влиянием какого-то воспоминания, бросила ему:
— Слишком много грязи пришлось мне повидать в детстве, чтобы и сейчас еще пачкаться в ней. Когда я была беззащитна, мною помыкали, пытались овладеть, но я никому не отдалась, кроме одного человека, которого ты услал на Луну!
— Аза!
Она уловила в его голосе странную ноту, вырвавшуюся из самой сокровенной глубины сердца, и тут же в ней взыграла женская жестокость. Она поняла, что теперь у нее в руках есть орудие пытки для него, цепь, дергая за которую и раня ею, она еще сильней прикует его к себе. Широко раскрытыми глазами она всматривалась в Яцека; на губах у нее заиграла улыбка, с какой, наверное, римские матроны слушали стоны гладиаторов, умирающих на арене.
— Он, твой друг, единственный, кто познал меня, — говорила она. — Он единственный во всей вселенной, кто знает, какого вкуса мои поцелуи, как благоуханна моя грудь, как умеют ласкать мои руки. Но теперь его нет на Земле. Туда, на Луну, к звездам, в бескрайнее синее небо он унес тайну моей любви, которая кого-нибудь другого могла бы убить несказанным наслаждением. Не веришь? Спроси его, когда он вернется ко мне. Он расскажет тебе, ведь ты же его друг и мой благородный друг, единственный, кто от меня ничего не хочет.
Яцек покачнулся, как пьяный.
Внезапно за стеной раздался громкий многоголосый смех. Послышался топот ног бегущей прислуги, тонкие голоса мальчиков-боев и бас управляющего, который тщетно пытался восстановить порядок.
Но Яцек совершенно не обращал на это внимания. Не отрывая глаз от певицы, он что-то пытался ей сказать.
Аза же, только раздался шум, направилась к двери и открыла ее, поскольку ей показалось, что она различает в этой сумятице голос г-на Бенедикта.
Ее взору предстала, можно сказать, единственная в своем роде картина. В передней, набитой прислугой, стоял г-н Бенедикт и правой рукой отбивался от какого-то крохотного лохматого человечка, который, вцепившись, как кот, ему в грудь, лупил его кулачком по физиономии. В правой руке почтенный отставник сжимал веревку, привязанную к ноге второго карлика, который словами и жестами напрасно пытался утихомирить своего сотоварища. Слуги были беспомощны, потому что стоило кому-нибудь из них протянуть руку, чтобы схватить разъяренного малыша, как г-н Бенедикт начинал кричать:
— Не смейте его трогать! Это для госпожи Азы!
Певица нахмурилась.
— Что здесь происходит? Вы что, с ума все посходили?
Г-н Бенедикт сумел наконец избавиться от агрессора и прямо-таки с юношеской прытью подбежал к Азе.
— Сударыня, — чуть задыхаясь и состроив на покрытом синяками лице улыбку, проблеял он, — я тут вам кое-кого привел…
С этими словами он подтянул за веревки наряженных в детские матросские костюмчики карликов.
— Это что такое?
— Гномики, сударыня, очень смирные. Их легко научить прислуживать…
Аза уже достаточно раздраженная разговором с Яцеком, к тому же прерванным так не вовремя и неожиданно, пребывала не в самом лучшем настроении.
— Убирайся отсюда, глупый старик, вместе со своими обезьянами! Убирайся, пока цел! — топнув дивной ножкой, грубо закричала она, точь-в-точь как в те времена, когда служила в цирке.
Прислуга, давясь от сдерживаемого смеха, моментально вылетела из передней, г-н же Бенедикт онемел. Он никак не ожидал подобного приема. Ухватив Азу за широкий рукав, он стал извиняться, уверять, что надеялся доставить ей удовольствие, подарив столь редкостных уродцев.
Привлеченный чрезмерно громким разговором, в дверях появился Яцек. Он уже полностью пришел в себя, только лицо у него было чуть бледнее, чем обычно. Певица тут же принялась жаловаться ему.
— Ты только погляди, — жалобным голосом говорила она, — мне же не дают ни минуты покоя. А этот — старик, и ни капли ума! Притаскивает ко мне каких-то не то людей, не то мартышек, и еще к тому же злобных.
Яцек глянул на карликов, и что-то дрогнуло у него внутри. Несмотря на идиотский наряд, в них чувствовался незаурядный ум, не свойственный ни обезьянам, ни даже обычным дюжинным людям. В нем зародилось неожиданное предчувствие.
— Кто вы такие? — задал он вопрос, причем совершенно случайно произнес его на родном польском языке.
Результат был самый неожиданный. Лунные жители поняли его слова, произнесенные на священном языке их древнейших книг, и оба вместе, перебивая друг друга, принялись рассказывать о себе в радостной надежде, что наконец-то кончится это затянувшееся роковое недоразумение.
Яцек с трудом угадывал значение обрушенных на него исковерканных выражений и слов. Он задал еще несколько вопросов и наконец обратился к Азе. Лицо у него было серьезно, только слегка подергивались губы.
— Они прилетели с Луны, — сообщил он.
— От Марка? — вскрикнула Аза.
— Да, от Марка.
Г-н Бенедикт вытаращил глаза. Он никак не мог взять в толк, что происходит.
— Да нет же, мне их продал араб, — принялся он объяснять. — Кажется, они живут в пустыне, в отдаленном оазисе…
XI
— Послушайся меня хоть на этот раз, — уговаривал Рода Матарета, — и поверь, я все делаю правильно, иначе нельзя.
— Вот увидишь, нам еще отольется твоя ложь, — хмуро бросил Матарет и, повернувшись спиной к учителю, влез на стул, а с него на стол, стоящий у окна гостиничного номера. Взобравшись, он высунул голову в окошко и стал с интересом смотреть на уличное движение, притворяясь, будто не слышит, что говорит ему Рода.
Но отвязаться от Роды было не так-то просто. Сидя в уголке мягкого кресла, он откинул упавшие на глаза волосы и продолжал доказывать, что все беды, обрушившиеся на них, произошли по вине Матарета, но если тот не будет мешать ему, Роде, действовать, их судьба мигом улучшится.
— Никак нельзя признаваться, — продолжал он, — что мы враждовали с этим Марком, потому что люди могут нам за это отомстить.
В конце концов Матарет не выдержал. Он повернулся и сердито бросил:
— Но это вовсе не означает, что мы должны представлять себя его лучшими, самыми доверенными друзьями, как это постоянно делаешь ты.
— Дорогой мой, но, утверждая так, я не слишком грешу против истины.
— Что? И это говоришь ты?
— Разумеется. Он доверял нам, когда рассказывал все о себе и своем корабле. Ну, а дружба… Что такое дружба? Это когда один человек желает добра другому. Наивысшим благом человека является истинное понимание своей жизни. А вся наша деятельность была направлена на то, чтобы вывести Победоносца из ошибочного представления о его якобы земном происхождении, а следовательно, мы желали ему добра, то есть…
— Да ты с ума сошел! Ведь этот Марк вправду прилетел к нам с Земли! — прервал Матарет стремительный поток слов главы Братства Истины.
Рода даже поперхнулся от негодования.
— Ты как всегда страшно туго соображаешь. Ну и что с того, что он прилетел с Земли? Да хоть бы даже с Солнца! Мы вовсе не обязаны были знать это. Лучше всего будет, если ты станешь помалкивать и предоставишь говорить мне.
— И ты опять будешь врать про дружбу с ним.
— Я уже доказал тебе, что это вовсе не ложь. Мы в таком положении, в каком могут быть только его лучшие друзья. Мы прилетели на Землю в его корабле и прямиком от него, значит, мы как бы его посланцы. А отсюда следует вывод, что мы — его друзья. В некоторых случаях следствия определяют причину. Не морщись, я говорю совершенно серьезно. Быть может, мы и сами не знали, что он испытывает к нам дружеские чувства.
Матарет сплюнул и слез со стола.
— Я не желаю иметь к этому никакого отношения. Делай, что хочешь, а я умываю руки.
— Да я ведь только и прошу тебя, чтобы ты мне не мешал. А я справлюсь, не беспокойся. Если бы не мое энергичное обращение с этим старым дураком, что таскал нас на веревке, мы, быть может, опять сидели бы в клетке, а теперь сам видишь: благодаря мне к нам начинают относиться с уважением. Я по натуре добр, снисходителен и не злопамятен, но как только займу тут высокое положение, тотчас же прикажу содрать с того негодяя, что возил нас в клетке, заживо кожу или закопать вниз головой в песок.
Приход Яцека положил конец выступлению главы Лунного Братства Истины. Он стремительно вскочил, дабы приветствовать вошедшего, а так как слезть с высокого кресла у него уже не было времени, то он встал на мягком сиденьи и, держась одной рукой для сохранения устойчивости за подлокотник, отвесил низкий поклон.
— Приветствую тебя, достопочтенный господин!
Яцек дружески улыбнулся.
— Господа, — сказал он, — я больше не могу задерживаться здесь, но в пути у нас будет достаточно времени, чтобы побеседовать. Надеюсь, вы согласитесь сопутствовать мне и стать гостями в моем доме?
Рода вновь склонился с высоты кресла в глубоком поклоне, а Матарет, чуть кивнув, ответил:
— Мы благодарим тебя, господин. Впрочем, ты зря спрашиваешь нас: у нас нет выбора, и мы полностью зависим от тебя.
— Нет, нет, — возразил Яцек, — это мой долг, причем приятный, принять вас, посланцев моего друга, и постараться, чтобы вы позабыли о тех злоключениях, что произошли с вами по прилете на нашу планету. Мне очень стыдно. Простите Земле ее варварство и глупость.
После этого он с озабоченным видом обратился к Роде.
— Сударь, мы не нашли писем. Я сам ездил в пустыню к кораблю Марка, но писем там нет. Мы все обыскали.
Рода изобразил глубочайшее огорчение.
— Ах, как скверно! Впрочем, содержание писем, которые вам написал наш друг Марк, я помню почти наизусть и могу вам повторить.
— В таком случае большой беды нет.
— Я только опасаюсь… Все-таки они — единственное подтверждение, что мы…
— Не беспокойтесь, я верю вам на слово.
Рода хлопнул себя по лбу.
— Вспомнил! Конечно же, писем в корабле нет и не может быть. Их отобрал этот скот, что возил нас в клетке.
— Прошу вас, не надо больше вспоминать об этом злосчастном недоразумении. Я велел отыскать Хафида. Если он не выбросил письма, их у него заберут. Однако меня призывают мои обязанности, и я не могу дожидаться здесь результатов поисков. Я хотел бы вылететь немедленно, если вы не против сопровождать меня.
— Мы вполне готовы, — ответил Рода и еще раз поклонился.
Через несколько минут они уже садились в самолет. Яцек расположился на переднем сиденье, оглянулся, крепко ли держатся его спутники, и положил руку на рычаг, соединяющий воздушный пропеллер с системой аккумуляторов.
Лопасти пропеллера завертелись с умопомрачительной скоростью, и с уплотненной площадки перед отелем взметнулся песок, поднятый воздушным вихрем. Самолет взлетел с места почти вертикально. Рода невольно вскрикнул, закрыл глаза и ухватился за передние металлические поручни, чтобы удержаться и не соскользнуть назад.
Яцек с улыбкой обернулся.
— Не беспокойтесь, господа, все в порядке, — бросил он.
Побледневший Матарет тоже судорожно вцепился в перекладины, но глаз не закрыл, стараясь усилием воли преодолеть головокружение. Он ощущал легкое покачивание и свист ветра, налетающего сверху из-под самых крыльев самолета. Перед глазами у него было небо. А когда он наклонил голову и взглянул вниз, то увидел у себя между коленями стоящий среди пальм отель; тот с поразительной быстротой уменьшался. Ему вспомнился отлет с Луны, и внезапная дрожь страха пробежала по всему его телу. Матарет зажмурил глаза и судорожно стиснул зубы, стараясь не закричать.
Самолет же тем временем принял положение, близкое к горизонтальному, и набирал по спирали высоту, описывая в небе расширяющиеся круги.
Когда Матарет наконец справился со страхом и открыл глаза, Асуан уже казался маленьким пятнышком на желтой равнине, которую перерезал Нил, похожий на голубую ленту с зеленой каймой берегов.
Круговое движение самолета создавало ощущение, будто мир медленно вращается. Когда солнце ударило Матарету в глаза, он обратил внимание, что оно снова стоит высоко на небосклоне, хотя когда они выходили из гостиницы, оно уже садилось. Солнце было золотого цвета, словно исчерпало себя, изливая дневной зной, и золото пробивалось сквозь некий розовый пепел, что медленно оседал на солнечном диске, притемняя его на круто падающем побагровевшем небосводе.
До Матарета донеслись какие-то слова. Это Яцек опять обернулся и обратился к нему. В первый момент Матарет не мог понять, что тот ему говорит. Он инстинктивно глянул вбок. Рода, просунув одну руку между прутьями, ограждающими сиденье, второй быстро-быстро осенял лоб, рот и грудь Знаком Пришествия, над которым на Луне смеялся, и при этом немилосердно выбивал зубами дробь.
— Успокойте своего товарища, — попросил Яцек. — Нам ничего не грозит.
Рода вдруг открыл глаза и, перестав чертить ритуальный знак, принялся кричать. На обиходном лунном языке он ругательски ругал Яцека, угрожая, что если тот немедленно не опустится на Землю, то он собственными руками придушит его, а проклятую машину разнесет в клочья. Яцек, разумеется, не мог его понять, но Матарет испугался, как бы учитель от страха и впрямь не совершил какую-нибудь глупость. Одной рукой он схватил Роду за запястье и прошипел сквозь зубы:
— Если ты сейчас же не заткнешься, я вышвырну тебя отсюда. Все равно ничего другого ты не заслуживаешь.
В голосе его звучала нескрываемая угроза, и Рода моментально замолчал, только зубы его продолжали выбивать дробь, когда он ошалелыми и испуганными глазами смотрел на своего бывшего ученика, который теперь утратил к нему всякое почтение.
Яцек улыбался, приязненно глядя на них.
— Сейчас мы на высоте примерно трех тысяч метров над уровнем моря, — сообщил он. — Теперь летим прямиком к дому.
Говоря это, он развернул машину на север, придал рулям горизонтальное положение и нажатием рычага выключил аккумуляторы. По инерции пропеллер еще некоторое время вращался, но все медленней и медленней — уже можно было различить его лопасти, и наконец остановился. Теперь самолет, словно воздушный змей или огромная птица, благодаря действию силы тяжести скользил на распростертых крыльях по наклонной плоскости, угол наклона которой определялся положением рулей.
Тряска, вызванная вращением пропеллера, прекратилась, а поскольку не было даже слабого ветерка, летящим казалось, будто они неподвижно повисли в небе.
Но иллюзия эта длилась недолго. По мере увеличения скорости воздух, разрезаемый крыльями падающего вниз самолета, начал бить в лицо порывами резкого ветра, а когда Матарет вновь посмотрел вниз, то увидел, что там, глубоко-глубоко, земля стремительно убегает назад и в то же время чуть поднимается к ним. По левую руку огромный багрово-фиолетовый шар солнца почти лег на пески пустыни. С востока на них надвигалась ночь.
Яцек, еще раз проверив положение рулей и крыльев, а также направление полета по магнитной игле, закурил сигару и повернулся лицом к пассажирам.
— До ночи будем над Средиземным морем, — сообщил он. — Ну вот, теперь у нас есть время побеседовать.
Произнес он это дружеским тоном с обычной улыбкой на устах, но Роду его слова повергли в ужас. Ему почудилась в них некая страшная, угрожающая издевка, и он перепугался, что Яцек заподозрил правду и теперь — между небом и землей — потребует от него отчета и, чего доброго, сбросит его в распростершуюся под ногами бездну, которую уже начали покрывать вечерние тени.
— Смилуйся, господин! — закричал он. — Клянусь тебе именем Старого Человека, что Марк действительно Победоносец и король на Луне и мы ничего худого ему не сделали!
Яцек удивленно взглянул на него.
— Успокойтесь, сударь. Вы чрезмерно возбуждены прибытием на Землю, а может, событиями последних дней. Я думаю, мне нет надобности повторять, что никаких злокозненных намерений по отношению к вам у меня нет. Скорей наоборот. Я бесконечно благодарен вам за то, что по желанию моего друга вы совершили героический перелет через межзвездное пространство, хотя и не скрываю, что предпочел бы увидеть его самого. Ведь, прислав вас в своем корабле, он лишился возможности вернуться на Землю.
Эти слова несколько успокоили Роду. Он подумал, что раз у Марка нет возможности возвратиться сюда, то все в порядке: никто не сможет узнать, что все их росказни — ложь от начала до конца. Он мгновенно обрел уверенность в себе и, удобней устроившись на сиденье, принялся заливать Яцеку о своей дружбе с Победоносцем и только старался ненароком не глянуть вниз, потому что всякий раз при этом у него начинала кружиться голова.
— А Марк, — бесстыдно врал он, — вовсе и не собирается возвращаться. Так хорошо, как на Луне, на Земле ему никогда не было. Мы избрали его богом и королем, он купил себе множество молодых жен и взял во владение самые лучшие участки. Много у него и собак. Он как раз и писал в письмах, которые украл у нас Хафид, чтобы его тут не ждали. Он долго не мог найти посланцев, пока мы, решив повидать Землю, не согласились полететь. Нам хотелось сделать для него доброе дело.
Легкий порыв западного ветра качнул самолет и тем прервал излияния Роды. Когда установилось равновесие, Рода осведомился у Яцека, не грозит ли им какая-нибудь опасность, и, получив успокаивающий ответ, продолжил:
— Путешествие было очень неприятным, а посадка, как вы сами знаете, крайне опасной. Я думаю, что за это на Земле нас обязаны достойно вознаградить. Я — великий ученый, да и мой спутник тоже не глупец, хотя и неразговорчив. Тем не менее чрезмерных притязаний у нас нет. Я совершенно удовлетворюсь, если получу какую-нибудь высокую должность.
Яцек прервал его, вновь спросив про Марка, и Рода принялся врать еще отчаянней.
Через некоторое время Яцек окончательно уверился, что имеет дело с обманщиком, сознательно скрывающим правду. Но как выглядит эта правда и каким образом добраться до нее?
Он задумался. Вероятней всего, положение Марка отнюдь не блестяще, раз он прислал сюда в своем корабле посланцев. Может, ему необходима помощь? Но почему он выбрал таких лгунов, и почему они лгут? Действительно ли они потеряли письма Марка или их вообще у них не было? А вдруг Марку грозила такая страшная опасность, что у него просто не оказалось ни времени, ни возможности написать?
И опять у Яцека мелькнула мысль, что, возможно, предположения его слишком уж мрачны. А вдруг этому необузданному искателю приключений и впрямь неплохо на Луне? Ведь это весьма правдоподобно, что он стал королем и самодержавно правит народцем карликов?
Уже спустился вечер. Они пролетели над пирамидами, как всегда освещенными электрическими прожекторами на радость туристам, и теперь проплывали под звездами над широкой дельтой Нила. Самолет изрядно снизился, поскольку Яцек, неоднократно включая пропеллер, только увеличивал скорость, используя все еще набранную в Асуане высоту. И хотя от поверхности Земли их отделяли всего несколько сотен метров, внизу ничего не было видно, кроме внезапно появляющихся и быстро исчезающих во тьме огоньков. То были электрические лампы, указывающие ночным самолетам места посадки, — деревни и города, чьи названия, выведенные светом, при взгляде сверху казались светящимися змейками, извивающимися по черной земле.
Яцек молчал, а у лунных путешественников постепенно стали слипаться веки. Лишь временами, когда вдруг заработавший пропеллер сотрясал легкое воздушное суденышко или дующий из пустыни ветер наклонял его крылья, они испуганно открывали глаза, не сразу понимая, где находятся и что делают, вися в черной ночи.
Спустя некоторое время самолет стал сильней дрожать и раскачиваться. Матарет заметил, что они борются с ветром и поднимаются по крутой спирали вверх. Он глянул вниз: тусклые огоньки исчезли без следа; ему показалось, что он слышит во тьме какой-то равномерный, бескрайний, непрестанный гул.
— Где мы? — спросил он.
— Над морем, — ответил Яцек. — Мы перелетим через него ночью, когда наверху полное безветрие. Сейчас мы выходим из зоны прибрежных ветров.
Вскоре, когда самолет набрал высоту, качка прекратилась, и только металлические связи корпуса тихонько подрагивали от вращения пропеллера, который на бешеной скорости взрезал ночной воздух. Через некоторое время, поднявшись на достаточную высоту, Яцек выключил пропеллер, и самолет поплыл в спокойном, недвижном просторе над морем, над которым справа от путешественников всходила ущербная Луна.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
В дверь кабинета Роберта Тедуина тихонько постучали.
Старец поднял голову от листа бумаги, на котором были написаны какие-то символы и колонки цифр, и прислушался. Стук повторился: семь ударов, четыре с большими промежутками, три быстрых. Ученый нажал кнопку на письменном столе, и двери бесшумно раздвинулись, уйдя в стены. Откинув тяжелую портьеру, вошел Яцек.
Подойдя к сидящему в высоком кресле старику, он молча поклонился. Сэр Роберт протянул ему руку.
— А, это ты… Какое-нибудь важное дело?
Яцек пребывал в нерешительности.
— Нет, — наконец произнес он. — Просто захотелось увидеться с тобой, учитель.
Лорд Тедуин испытующе взглянул на своего бывшего любимого ученика, но не стал задавать вопросов.
Началась беседа. Старик-ученый поинтересовался, что слышно в мире, но когда Яцек стал рассказывать о всевозможных событиях и происшествиях, слушал невнимательно, не придавая никакого значения происходящему там, снаружи, за почти всегда запертыми металлическими дверями его лаборатории.
А ведь некогда он держал в руках судьбы этого беспокойного мира, о существовании которого теперь порою просто-напросто забывал.
Шестьдесят с небольшим лет назад он, которому еще не исполнилось и тридцати, был избран президентом Соединенных Штатов Европы, и тогда казалось, стоит ему захотеть, и он станет пожизненным правителем государства.
Поразительный административный и практический гении сочетался в нем с железной решительностью и несгибаемой волей, умеющей прямым безошибочным путем идти к намеченной цели. Он смело изменял существующие законы, определял судьбы наций и общества, не отступая ни перед чем. Среди огромной чиновничьей массы (а кто в нынешние времена не является чиновником, раз исполняет какую-либо государственную должность?) у него было множество ярых врагов, возмущавшихся его своеволием и упрямством; они роптали и порой даже довольно громко, но стоило Тедуину приказать, ни один недовольный не осмеливался ослушаться. Поговаривали, будто он рвется к неограниченной власти и что его необходимо отрешить не только от поста, но и вообще от всякого участия в управлении, и между тем каждый понимал, что в тот день, когда ему взбредет фантазия возложить себе на голову королевскую корону, откопанную в каком-нибудь музее, все до единого молча склонятся перед ним.
Сэр Роберт Тедуин сам добровольно оставил власть. Причем столь неожиданно и без всякого видимого повода, что люди долго не могли с этим примириться и ломали головы, доискиваясь тайных причин его поступка.
Лорд же Тедуин начал трудиться. Один из величайших ученых-естественников, особенно занимающийся биохимией и притом обладающий гигантским умственным кругозором и просто неслыханными знаниями во всех областях науки, он в течение десятка с небольшим лет после ухода с президентского поста одарил человечество множеством поразительнейших и полезнейших изобретений.
Через некоторое время уже даже не вспоминали, что он был президентом Соединенных Штатов Европы, а помнили только, что благодаря его препаратам, возрождающим организм, исчезли болезни, что это он овладев атмосферным электричеством и управлением погоды и потоками тепла, устанавливает урожаи и кормит человечество, позабывшее про голод, что он дал людям еще множество чудесных, благотворных открытий.
То был второй период жизни Роберта Тедуина. Он покончил с ним, когда ему исполнилось пятьдесят. Так же неожиданно, как некогда покинул президентский пост, он оставил свою «кузницу», откуда ежегодно выходили новые изобретения, и, отказавшись от занятий практической наукой, стал наставником, подготавливая избранных учеников к главнейшему и тяжелейшему труду — приятию на плечи всего достояния человеческой мысли.
Любимым и одним из самых талантливых его учеников был Яцек. Он познакомился с сэром Робертом, когда тот уже был стариком, но почитал его не только как учителя и величайшего мудреца, но и как друга, который невзирая на огромную разницу лет, всегда был готов мыслью и сердцем делить его жизнь.
Но и период, когда этот поразительный старец был воспитателем и как бы отцом «всеведущих», тоже принадлежал к прошлому. С годами он стал принимать все меньше учеников и все скупей делиться с ними своими безграничными знаниями, и вот однажды настал день, когда те немногие, кого он еще допускал к себе, придя, застали дверь его дома закрытой.
Лорд Тедуин прекратил учить будущих мудрецов.
Когда его умоляли поделиться знаниями, он лишь пожимал плечами и отвечал с грустной улыбкой:
— Я сам ничего не знаю. Я растратил почти восемьдесят лет жизни и теперь должен использовать оставшиеся мне дни, чтобы потрудиться для себя.
И он трудился. Его могучая мысль, не слабевшая с возрастом, углублялась в тайны бытия, творила общие всеобъемлющие теории, открывала истины, столь ужасные, что хотя сэр Роберт крайне редко и только перед теми, кому доверял, приподнимал над ними краешек покрова, дрожь охватывала слушателей, и даже у самых мудрых начинала кружиться голова, словно они вдруг заглянули в пропасть.
Вокруг великого умолкнувшего старца начала рождаться легенда. Люди давно уже не верили в чернокнижие и колдовство, однако с опаской обходили его стороной, точно некоего чернокнижника, когда он, горделивый и задумчивый, совершал ежедневную прогулку по морскому берегу.
В своем доме он не принимал никого, кроме членов великого братства ученых, в котором он был председателем, и то только по настоятельным просьбам бывших учеников.
Яцек, занятый собственными исследованиями и обязательной в его возрасте государственной службой, нечасто навещал сэра Роберта. Но всякий раз, бывая у него, он не мог преодолеть в себе странного ощущения: старик, казалось, неизменно молодел духом, словно его мысль с течением лет обретала все большую ясность и отвагу.
И еще поражал взгляд — спокойный и холодный, который пробегал по делам людей, стараясь притвориться, будто они интересуют его, и исчезал где-то в недальней, неизмеримой бездне, что разверзается сразу же за произнесенным словом, за лучиком света, подвешенным на воздушной пылинке, за колеблющейся частицей так называемой материи, за элементарным стяжением того непостижимого, что получило название энергии, и уносился дальше — за грань любого бытия, охватывая разом и людские души, и скалы, и небытие.
Но никогда лорд Тедуин не давал почувствовать, будто что-то ему безразлично или недостойно его внимания. В свободные от трудов минуты он одинаково охотно беседовал и со случайным прохожим на берегу моря, и с ребенком, собирающим раковины, и с членом братства мудрецов. Порой даже казалось, что в редкие часы отдыха он охотно обращается мыслью к ничтожным, будничным, простым вещам.
И сейчас, сидя с Яцеком в тихом кабинете, он вскоре перевел разговор, который первоначально пошел о событиях в мире, в куда более скромную колею, касающуюся частных происшествий и знакомых.
Сэр Роберт расспрашивал о бывших своих учениках, которые все жили в его поразительной памяти, хотя многие из них уже лежали в могиле, с добродушной улыбкой вспоминал разные забавные случаи с ними и подробности, сопутствовавшие этим случаям.
Яцек, сидевший лицом к окну, слышал только голос мудреца, и у него было впечатление, что того действительно интересует то, что он рассказывает, отвечая на его вопросы. Однако когда он нечаянно обернулся и увидел глаза сэра Роберта, то мгновенно прервал свой пустой, ничего не значащий рассказ. Недвижные глаза старца были подобны двум беспредельным колодцам в бездну, двум лучам света, летящим из бесконечности; не задерживаясь на том, о чем шел разговор и что происходило вокруг, они чего-то искали в безмерности.
Яцеку стало стыдно, и слова замерли у него на устах. Наступило молчание. Лорд Тедуин улыбнулся.
— Ты с чем пришел ко мне, сын мой? — спросил он. — Расскажи о себе. Это меня по-настоящему интересует.
Молодой человек покраснел. Он действительно хотел поговорить о Грабеце и о беспорядках, приближение которых безошибочно предугадывал, попросить у старца, что мог бы стать самодержавным властелином, совета, узнать его мнение, но вдруг понял: все это столь же мало интересует непостижимого сэра Роберта, как и сухой лист, который, быть может, в этот миг сорвался с дерева, растущего у его дома, или столь же много, потому что он увидит за всем этим своими глазами чернокнижника только тайну бытия, проявляющуюся в равной мере как в крупинке песка, несомого морской волной, так и в величайших катастрофах миров и человеческих сообществ или в проблеске гениальной мысли.
Яцек опустил голову.
— Я действительно хотел поговорить с вами о некоторых делах, но сейчас вижу, как, в сущности, они ничтожны…
— Ничтожных вещей не бывает, — возразил сэр Роберт. — Все по-своему значительно и ценно. Говори.
Яцек стал рассказывать о встрече с Грабецом и о том, какое возмущение, какой мятеж тот вознамерился поднять на давно уже умиротворенной Земле, о том, что Грабец хочет втянуть в этот водоворот их, мудрецов и ученых, дабы они обрели как мозг мира достойное их положение.
Старец слушал молча, чуть наклонив голову и глядя из-под высоко поднятых кустистых бровей прямо перед собой. Лишь время от времени на его гладко выбритом изборожденном морщинами лице около узких, плотно сжатых губ появлялась мимолетная улыбка и в тот же миг угасала.
— Отец, — закончив рассказ, промолвил Яцек, — этот человек напрямую предложил мне помогать ему, предложил бросить на чашу весов ту мощь, какой является наше знание.
Лорд Тедуин обратил на Яцека проницательный взгляд.
— И что же ты ему ответил?
— Ответил, что наша мощь принадлежит всем, она вся уже давно передана в руки толпы, и у нас нет ничего, кроме наивысших истин, которые невозможно перековать ни в золото, ни в железо.
На несколько секунд воцарилось молчание. Лорд Тедуин несколько раз покивал головой, прошептав, вероятно, скорей самому себе, чем Яцеку:
— Кроме истин… Наивысших истин… Ну, ну! Вся беда только, что мы уже не знаем, что означает выражение «истина», до того ничтожно и бессмысленно все, что мы определяем этим словом.
Он поднял голову и взглянул на Яцека.
— Прости, я невольно возвращаюсь к собственным мыслям. Но все, что ты мне рассказал, крайне любопытно.
Яцек молчал. Старец внимательно присмотрелся к нему.
— О чем ты думаешь?
— Разговаривая с Грабецом, я солгал ему.
— Вот как?
— Мы обладаем могуществом. Я обладаю, — тут же поправился он.
Лорд Тедуин ничего не ответил. Рассеянным взглядом он скользнул по лицу Яцека и как-то непонятно пошевелил губами.
— Ты обладаешь могуществом… мы обладаем могуществом… — через секунду шепнул он.
По губам его скользнуло некое подобие улыбки.
— Да, — подтвердил задумчиво Яцек.
Он сидел, склонив голову, и не заметил улыбки учителя.
— Да, — повторил он. — Я обладаю страшным могуществом. Я сделал ужасающее открытие. Физически совершаю то, что раньше мы имели возможность проделывать лишь мысленно: разлагаю материю и гашу ее так же легко, как гасят дыханием горящую свечку. И если бы я захотел…
— Если бы захотел?..
— То мог бы страхом принудить к полнейшей покорности себе или тому, кому передал бы свое изобретение. Одним мановением пальца с помощью прибора не больше обычного фотографического аппарата я могу уничтожить города и целые страны, так что от них не останется и следа.
— И что из того? — поинтересовался лорд Тедуин, не спуская с Яцека глаз.
Яцек пожал плечами.
— Не знаю.
— Почему ты не отдал свое изобретение Грабецу?
Яцек стремительным движением вскинул голову. Некоторое время он смотрел на учителя, словно пытаясь по выражению его лица понять значение и смысл этого вопроса, однако глаза и черты сэра Роберта были столь же бесстрастны, как и тон, каким был задан вопрос.
— И этого тоже не знаю, — наконец произнес Яцек. — У меня было ощущение, что я должен оставить его у себя и уничтожить перед смертью или применить… в случае крайней необходимости… один-единственный раз…
— Сегодня же уничтожь свое устройство. К чему прилагать усилия для разрушения фантома, именуемого материей, если раньше или позже он неминуемо развеется сам?
— Но ведь все так скверно и подло…
— И что из того? Неужели поэтому мы должны физически совершать то, что, как ты сам это признаешь, в любую минуту имеем возможность совершить мысленно, не вырывая наших ближних из состояния, которое для них, быть может, является наилучшим? Запомни: когда через так называемую смерть мы высвободимся из материальных пут, деятельность нашей мысли станет для нас единственной реальностью.
— Нужно верить…
— Да, нужно верить, — серьезно подтвердил лорд Тедуин.
— А этот мир, что окружает нас, он что же, пусть идет тем же путем, каким шел до сих пор?
Старец положил руку на плечо Яцеку.
— Твое изобретение не выведет его на истинный путь.
— Но если бы власть получили лучшие…
— Тебе хочется власти?
— Я не заключил союз с Грабецом. Не знаю, смог ли бы я вершить власть. Мне жаль мир, в котором я живу. Но…
— Ну, ну?
— У меня такое ощущение, будто я добровольно и беспомощно стою вне жизни, и порой я испытываю от этого стыд.
Несколько секунд лорд Тедуин молчал. Его взгляд, казалось, блуждал в далеком прошлом, встававшем в памяти. Внезапно он чуть тряхнул головой и обратился к Яцеку:
— Что можно сделать для этой жизни, верней, для сосуществования людей? Ты ведь знаешь, когда-то у меня была власть, какой, быть может, не обладал никто другой.
— Да.
— И я отказался от нее. А знаешь почему?
— Она не давала тебе, учитель, удовлетворения, ты предпочел работу духа.
Мудрец медленно, но решительно покачал головой.
— Нет. Дело вовсе не в этом. Я просто убедился, что невозможно ничего сделать для общественной системы. Общество не является разумным творением и потому никогда не станет совершенным Всякая утопия — начиная с древнейшей, платоновской, вплоть до нынешних дней, до мечтаний твоего Грабеца — навсегда останется утопией: покуда она переходит из книжки в книжку, она похожа на карточный домик, построенный без всякого соотнесения с законом тяготения, но стоит по-настоящему приложить к ней руки, утопия порождает новое зло, возникшее на месте былого, ликвидированного. Идеальное сосуществование людей, идеальный общественный строй — это задачи, по природе своей не имеющие решения. Согласие является понятием искусственным, придуманным; в природе, во вселенной, в человеческом обществе существует только борьба и временное, иллюзорное равновесие борющихся друг с другом противоположных сил Справедливость — крайне соблазнительное и популярное требование, поскольку как раз с человеческой точки зрения оно ничего определенного не значит и каждый может трактовать его по-своему. И это совершенно естественно, так как у каждого должно быть свое, особое понимание справедливости, а общество между тем едино или, по крайней мере, стремится быть таковым. В конце концов, абсолютно безразлично, кто правит — народ или тиран, избранные мудрецы или бешеная свора крикунов; всегда кто-то оказывается угнетенным, всегда кому-то будет плохо, всегда свершается какая-нибудь несправедливость.
Кому-то всегда приходится страдать. В одном случае страдает большинство, в другом — немногие, но, может быть, самые лучшие, а то просто один-единственный, терпящий несправедливость — тот, кому вменено быть «равным», меж тем как он по случайности родился самодержцем. Кто оценит, когда свершается большая несправедливость, и кто соизмерит право, какое приносит с собой на свет всякий родившийся человек? Признание верным одного принципа оказывается попранием другого, не менее «справедливого», и так всегда — без конца.
Сэр Роберт на миг умолк и провел рукой по высокому изборожденному морщинами лбу.
— Это вовсе не значит, — продолжал он, обратив взор на молчащего Яцека, — будто я считаю, что не стоит стараться исправить существующие в каждую эпоху отношения. Но делать это могут — более того, должны — люди, у которых есть иллюзии, то есть верящие, что созданное ими будет лучше существующего. В таких недостатка никогда не бывает — верить подобному в свойствах человеческой натуры
— Ты и сам так считал, учитель, — заметил Яцек.
— Да, я и сам так считал больше чем полвека назад, когда был молод. А позже, утратив эту веру, считал, что раз невозможно удовлетворить всех и создать идеальные, «справедливые» условия, то пусть хотя бы будет много, как можно больше благ, чтобы разделить их между всеми. Ты ведь знаешь, много лет я «осчастливливал человечество» изобретениями, но в конце концов убедился, что и это пустое. Hawel hawolim, omar kohelet, hawel hawolim, hakol hawel… «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует — все суета». Нет, это не тот путь. Изобретениями, открытиями, всевозможными благодетельными улучшениями пользуются прежде всего те, кто и без того сыт и представляет наименьшую ценность для общества: подавляющее большинство, праздное и ленивое. Изобретения лишь усиливают эти «достоинства» толпы…
— И ты считаешь, что делать изобретения не нужно, не имеет смысла?
— Неужто же их появилось бы меньше, если бы я сказал, что их не нужно и не имеет смысла делать? Всегда будут люди, чья мысль соперничает с природой и вынуждает их служить человечеству. Они полезны и более того — они единственные и являются людьми. И я счел, что главное — думать прежде всего о них, о тех, кто представляет собой мозг и душу человеческого общества. Я уже был стар, когда принял на себя труд наставничества. Я хотел, чтобы на Земле стало как можно больше истинных, мыслящих людей. Ты знал меня в тот период и слушал мои слова.
— Мы все благословляем тебя, учитель.
— И напрасно. Мне вновь придется привести слова Екклесиаста: «Кто умножает познания, умножает скорбь». Смотрю я на вас, цвет человечества и хранителей земных знаний, и вижу, как вы горды, но и печальны, как запутаны в круговорот мирских событий, как напрягаете дух ради так называемой пользы толпы, от которой вас отделяет пропасть. Моя вина, что вы видите и ощущаете эту пропасть, что вы так печальны и одиноки, моя вина, что ваша утомленная мысль витает над крайней предельной пустотой, не находя отдохновения, словно орел, заплутавший над океанским простором.
И что же я дал вам взамен? Какую несомненную истину? Какое знание? Какую силу? Подлинно, слишком мало я знаю сам, чтобы быть учителем. Все, что я вам говорил о вселенной и жизни, было лишь неумелым анатомированием действительности, которую видят ваши глаза, но, увы, ни на одно «почему?» я так и не сумел дать вам исчерпывающего ответа.
Потому-то однажды я и замкнул двери перед своими учениками, желая прежде отыскать мудрость для себя за те немногие годы, что еще остались мне до вечной жизни… Ведь мне уже без малого сто лет, и почти двадцать из них я тружусь в одиночестве и сосредоточении.
— И что же ты теперь можешь поведать нам, учитель? — спросил Яцек.
Казалось, лорд Тедуин не слышал вопроса. Подперев руками голову и глядя в окно на бескрайнее взволнованное летним ветром море, он продолжал говорить, и временами голос его сходил почти до шепота.
— И труд жизни, и все усилия, какие способна предпринять человеческая мысль, для меня остались позади. Я всходил на высочайшие вершины, откуда зрению уже неразличим дольный мир и вокруг одна пустота, и опускался в такие глубины, где опять же одна только пустота. Я не пугался никакой мысли и никакую сущность не почитал неприкасаемой, исследуя ее до глубочайших корней, расчленяя на первичные волокна…
— И что же ты нам поведаешь, учитель? — настойчиво повторил Яцек.
Старец обратил к нему безмятежный взор.
— Ничего.
— То есть как, ничего?
— Все, что я открыл, это всего лишь взгляд на известный нам мир с близкого расстояния, изнутри капли воды, изнутри атома или колеблющегося электрона либо из такой уже дали, когда исчезают все подробности и различия, а бытие сливается в единое однообразное море. Нигде я не вышел за пределы опыта, не ответил себе ни на одно «почему?», а следовательно, мне и вам нечего сегодня сказать.
— Но что же ты открыл? Ответь!
В голосе Яцека звучало настоятельное любопытство человека, который, поднимаясь на высокую недоступную гору, вдруг встречает на дороге путника, как раз возвращающегося с ее вершины.
Сэр Роберт какое-то время пребывал в нерешительности. Он протянул руку и взял лежавшие перед ним листки, пробежал глазами колонки цифр, математические знаки и поспешно набросанные на полях замечания.
— Nihil ex nihilo[10] — прошептал он. — Воспринимаемый нами чувственный мир поистине и дословно есть ничто.
Он поднял голову. В нем пробуждался гениальный открыватель, пробуждался учитель.
— Давняя, много веков назад выдвинутая теория так называемого эфира, — начал он, — рухнула, низвергнутая принципом относительности движения, не будучи способна согласоваться и с другим фантомом человеческой мысли — материей. Сейчас даже дети в школах знают, что свет расходится во всех направлениях с одинаковой скоростью, неважно, в покое находится источник света или в движении. Если бы мы захотели согласовать этот факт с существованием эфира как проводника колебаний, нам пришлось бы принять не одну, а столько разновидностей эфира, всеобъемлющих, неделимых и безграничных, сколько существует тел во вселенной, меняющих положение относительно друг друга. И все-таки должна быть какая-то среда, через которую со звезды на звезду летят волнообразно лучи света, тепла и электричества, через которую передается тяготение от одного небесного тела другому.
Сэр Роберт встал и принялся расхаживать по кабинету, заложив за спину руки. Внезапно он остановился перед Яцеком и положил ему ладонь на плечо.
— Эфир существует, — произнес он, — и не имеет значения, как мы его назовем, не существует лишь материи. То, что наши органы чувств извечно воспринимают как единственную реальность, не является даже сосредоточением сил, не является постоянным сгущением или разрежением эфира, но всего лишь нелепой видимостью, всего лишь волнами, которые распространяются сквозь эфир, подобно тому как голос распространяется в воздухе. Нет ни одного постоянного и действительного объекта; как солнце и системы солнц, так и каждая частица, каждый атом и электрон представляют собой лишь колебания, являются производными призраками, мчащимися в эфире, который перед исследовательской мыслью развеивается во всеобъемлющее и бесконечное ничто. Материя же еще менее, чем ничто.
Сэр Роберт сел и подпер руками лоб.
— Все течет: panta rei. Как огонь, который для нас существует и длится, хотя его образуют все новые частицы углерода, соединяющиеся с кислородом. Но после огня остается какой-то след в виде нового соединения тел, волна же материи бесследно проносится в эфире. Солнце, что мчится в пространстве, каждую минуту, каждую секунду, каждую сотую долю секунды создается из все новых колеблющихся частиц эфира, творящих его облик, и если прекратить эти колебания, оно исчезнет без остатка и следа, как радуга, когда гаснет луч света. Принцип неуничтожимости материи и энергии — иллюзия человеческой мысли, гонящейся за постоянством, ибо все обращается в ничто и все возникает из ничего.
— Но где же истина? Где незыблемое бытие? — прошептал побелевшими губами Яцек.
Роберт Тедуин положил руку на раскрытую старинную книгу, что лежала на столе.
— Здесь. Возьми и прочти.
Яцек склонился над ней и в сгущающихся вечерних сумерках стал читать.
Старинные, много веков назад вручную вырезанные из букового дерева литеры, отпечатанные на пожелтевшей, неистлевающей бумаге…
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог.
Оно было вначале у Бога.
Все через Него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть.
В Нем была жизнь, и жизнь стала свет человеков.
А свет во тьме светит, и тьма не объяла его».[11]
Яцек оторвал взгляд от страницы и с удивлением взглянул на седовласого мудреца.
Губы сэра Роберта медленно шевелились, словно он беззвучно повторял:
«Вначале было Слово… »
— Учитель?
Сэр Роберт повернулся к Яцеку.
— Да, да. Все мое знание, которому я посвятил жизнь, смогло доказать мне только одно: не существует препятствий для веры. Все это смешные призраки, все «очевидности», что якобы опровергают Откровение, развеялись перед моей мыслью, как горячечный сон, который снится душной ночью, и я встал перед пустотой, непостижимой и всетворящей пустотой, какую только слово способно заполнить и оплодотворить.
Единственной истиной и реальностью среди несущихся волн является дух. Все сущее — из него, для него и через него. Слово стало плотью.
— Аминь! — произнес чей-то голос с порога.
Яцек оглянулся.
У тяжелого занавеса, закрывающего дверь в другие комнаты, стоял молодой священник с сухим невыразительным лицом, одетый в черную сутану. Он держал в руках небольшую книжку с крестом и серебряными уголками на переплете.
Священник кивком указал на открытое окно, из которого доносился звон дальнего колокола.
Лорд Тедуин встал.
— Вот мой учитель, — представил он вошедшего. — В старости я нашел источник мудрости и истины, которые Бог ниспосылает в этот мир через уста кротких.
Яцек глянул на священника и, хотя ему отнюдь не показалось, что этот человек с тупыми резкими чертами способен быть кротким служителем Истины, промолчал.
Сэр Роберт торопливо прощался с ним.
— Извини, но проводить тебя я не могу: подошло время ежедневной вечерней молитвы.
Уже темнело, когда Яцек в задумчивости возвращался берегом моря к своему самолету. Только сейчас он спохватился, что старый учитель, в сущности, не дал ему никакого ответа и не разрешил его сомнений, как относиться к движению, которое при подстрекательстве Грабеца вот-вот начнет разворачиваться. И еще он вспомнил, что собирался задать множество вопросов, хотел рассказать о пришельцах с Луны, о том, что они сообщили про Марка, поведать про удивительного чудотворца Нианатилоку, но ему не хватило на это времени. Впрочем, беседуя с сэром Робертом, он забыл обо всем.
Яцек подумал было, не вернуться ли к сэру Роберту, а то, может, подождать до завтра и продолжить беседу…
Но он только усмехнулся и пожал плечами.
«К чему? Все равно он ничего мне не ответит. Он стар, его гнетут годы».
Неприятно кольнуло его воспоминание о молодом священнике, появившемся в дверях кабинета ученого, тем паче что было ясно: тот всецело и безраздельно завладел душой сэра Роберта.
— Да, состарился он, и мысль его ослабла, — прошептал Яцек.
Но в тот же миг он припомнил, что рассказывал ему старец о своих открытиях, припомнил исписанные цифрами листки бумаги, которые держал сэр Роберт; подумал, каким духовным мужеством нужно обладать, чтобы не побояться выдвинуть, на первый взгляд, безумную и неправдоподобную теорию, и какую нужно иметь остроту и ясность мысли, чтобы до конца развить ее, подкрепить доказательствами и неопровержимыми расчетами, и почувствовал, что вконец запутался.
Яцек уселся на каменную скамью, стоящую у самого моря, подпер рукой голову и поднял глаза к темному небу, на котором уже зажглись первые звезды.
Его мысли упорно кружили вокруг одного и того же:
«Как, почему этот священник, молодой, засушенный, никому не ведомый священник, завладел разумом величайшего мудреца?»
Он долго ломал голову над этой непостижимой загадкой, и вдруг его словно осенило — нет, возникло предчувствие.
Дело вовсе не в священнике и вообще не в каком-то ничтожном и несовершенном человеке, но в чем-то огромном, невыразимом, с чем никак не желает согласиться человеческий разум, но что живет в людских душах, мечтах, устремлениях, — в Откровении!
В каком? Чьем? Кому явленном? И почему именно в этом, а не в ином?
А может, это и безразлично?
Седовласый мудрец признался, что вся наука и все его знания смогли только — и это было их наивысшее деяние — разрушить мнимые очевидности, которые якобы стоят преградой к принятию Откровения и веры.
Может, в сущности, наука ничего иного и не совершает, кроме как раздвигает свитые нашими органами чувств сети мнимостей, чтобы сквозь них мог проникнуть свет? Творящая сила пребывает где-то в ином месте, и то, что она — творящая, знать нельзя, в это можно только верить.
Творит человеческий дух, и творит дух вселенной…
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… »
И под тяжестью Слова неуловимый эфир расколыхался силами, рассиялся светом и теплом, завибрировал электричеством, и сквозь него пошли судороги материи: электроны, атомы, частицы, сливающиеся в космическую пыль, в звезды, в солнца, в солнечные системы… и в громады систем, в млечные пути, во вселенную…
Слово!
И благословенны те, кто не видел, но уверовал!
Как пробудить в себе этот огонь, неизменно говорящий: да! — единственно творческий и дающий подлинную силу и спокойствие?
Вера и действие превыше мысли и знания, но как трудно — как трудно! — дотянуться до них руками, если они сами не пробудились в душе!
Но, может, все это смешные нелепицы, всего-навсего тоска проснувшейся фантазии, которую просто нужно гнать от себя?
Яцек поднял голову.
Над морем на небе среди звезд вытянулся огромный сноп света, струя белого огня, где-то в зените истаивающая жемчужной мглой, а на западе опирающаяся световой головой почти на горизонт.
То была комета, которая неожиданно появилась несколько дней назад и через несколько дней, почти коснувшись Солнца, исчезнет из его окрестностей на веки вечные. На веки вечные… Навсегда!
Светящееся ничто, растянувшееся в пространстве на миллионы километров, символ и живой образ вселенной…
Яцеку невольно припомнилось, что давным-давно комет боялись, почитая их за предвестников несчастья или войны, и тут же на мысль ему пришел Грабец.
Может, это его комета? Его, который хочет привнести в мир действие, презрительно отринув все, что является чистым мышлением? Ведь некогда комета вела Александра Македонского и Цезаря, Аттилу, Вильгельма Завоевателя, Наполеона…
Игры теней, битвы теней, победы теней…
Единственная истина — дух!
Яцек задумался, укрыв лицо в ладонях.
II
Г-н Бенедикт сидел у себя в кабинете за письменным столом, на котором лежали фотографии Азы, и тут автоматическое устройство, давно уже заменившее неловких и недешево обходившихся лакеев, дало ему знать, что кто-то хочет видеть его.
Достойный старик не слишком обрадовался нежданному гостю. После того неприятного происшествия в Асуане г-ну Бенедикту пришлось порвать все отношения с певицей, которая запретила ему показываться ей на глаза. Некоторое время он пребывал в полнейшем расстройстве. Г-н Бенедикт привык к праздным разъездам по всему миру в свите дивы, которая, по правде сказать, была с ним достаточно резка, но, привыкнув неизменно видеть его рядом с собой, почти всегда заключала колкости и насмешки дружеской улыбкой. Теперь же он просто не представлял, что ему делать и как распорядиться своим временем, которого у него вдруг оказалось в неимоверном излишке. Г-н Бенедикт был весьма высокого мнения о своих достоинствах, хотя спроси его кто, в чем они заключаются, он явно бы затруднился ответить, и потому пребывал в полном убеждении, что рано или поздно Аза заскучает по нему, признает свою вину и, исполненная раскаяния и покорности, вновь призовет его к себе. Однако неделя за неделей проходили в тщетном ожидании, а певица все не подавала признаков жизни.
Наконец терпение его истощилось, и он решил отомстить.
«Женюсь! — сказал он себе. — А о ней знать больше не желаю!»
Непонятно почему, но ему казалось, что его женитьба весьма уязвит Азу.
Г-н Бенедикт довольно потер руки. Правда, подругу жизни он пока еще себе не избрал, но это дело десятое. На свете столько молоденьких бедных девушек, принужденных заниматься тяжелым трудом или выступать на крохотных сценах, и любая из них, несомненно, будет безмерно счастлива, если состоятельный отставник предложит ей делить с ним жизнь.
Г-н Бенедикт сразу же взял быка за рога, то есть поставил уведомить о сроем решении Азу.
Он осведомился в центральном адресном бюро, где сейчас находится певица, и купил почтовой бумаги меланхолического фиалкового цвета. Ему пришло в голову, что вместе с письмом следовало бы возвратить Азе и ее фотографии. Единственно он пребывал в нерешительности, должен ли он отослать вместе с теми немногими фотографическими карточками, что получил из ее рук, и то множество снимков, которые он скупал в лавках и которыми горделиво украшал стены своего кабинета и забивал ящики письменного стола.
По основательном размышлении он решил для вящего эффекта отослать ей все разом.
Ящик был уже приготовлен, и г-н Бенедикт прощался с фотографиями, мысленно составляя фразы письма, которое он собирался написать, но тут-то и явился гость.
Г-н Бенедикт тихо выругался, но, правда, не так чтобы слишком крепко. У него уже не было никакой возможности спрятать разбросанные фотоснимки. Засунуть их обратно в ящик стола? Но это заняло бы слишком много времени, а Г-н Бенедикт не хотел, чтобы нежданный пришелец увидел их. Несколько секунд в состоянии, близком к панике, он лихорадочно осматривал комнату, и вдруг ему пришла гениальная мысль: он сорвал узорчатое покрывало с софы и накрыл им стол вместе с фотографиями. После чего подошел к двери, открыл ее и нажал на кнопку, приводящую в движение электрический лифт.
Минуты через две в дверях прихожей стоял Лахеч.
— Ах, это ты…
— Да, я.
Оба обменялись кислыми улыбками.
— Давненько я тебя не видел.
— И я, дядюшка, тоже давно не видел вас.
Они прошли в кабинет.
Дошедший до отчаяния Лахеч явился к г-ну Бенедикту в надежде вытянуть у него взаймы еще немножко денег. После той неудачной игры в Асуане у него остались жалкие гроши; их хватило только на то, чтобы самым дешевым поездом вернуться в Европу. Возвратясь, он исчез настолько неожиданно, что ни Хальсбанд, не желавший выпускать его из своих когтей, ни разыскивавший его Грабец не сумели доискаться, когда и куда он пропал.
От мыслей о самоубийстве, возникших под влиянием раздражения, его спасла некая внутренняя упрямая мужицкая цельность, но, главным образом, замысел нового музыкального произведения, родившийся в душе в минуты наивысшего отчаяния, — произведения победительного, триумфального, исполненного силы, произведения, в котором будет звучать смех богов. Едва в голове у Лахеча забрезжили первые смутные очертания этого сочинения, ни о чем другом он уже не мог думать. Все куда-то отступило, исчезло, кроме единственного желания: создать, написать, услышать!
Несколько недель, несколько месяцев покоя! Покоя, чтобы иметь возможность сосредоточиться и работать, не думая все время о том, что нужно есть, платить за жилье, зарабатывать на жизнь!
Лахеч знал: у великодушного Хальсбанда он в любой момент может получить взаимообразно небольшую сумму, но при этом прекрасно понимал и то, что с этого момента Хальсбанд не даст ему ни минуты отдыха и будет назойливо выпытывать: что он сочиняет, когда закончит и скоро ли возвратится к прежним своим обязанностям?
Дядя Бенедикт казался последней соломинкой, и Лахеч решил любым способом содрать с него воспомоществование.
Правда, мысль об этой операции не доставляла ему удовольствия. У Лахеча было непреодолимое и прямо-таки болезненное отвращение к любому унижению, просьбам, ко всяческого рода изъявлениям благодарности, а поэтому по причине непостижимого строения человеческой души он уже заранее испытывал ненависть к дядюшке из-за того только, что собирался попросить у него в долг.
И сейчас, сидя по другую сторону накрытого узорчатым покрывалом письменного стола, Лахеч со злобой взирал на г-на Бенедикта, не отказываясь, впрочем, от намерения, приведшего его сюда, и играл желваками, словно испытывал желание перекусить пополам достойного старца.
— Ну, как поживаешь? — после некоторого раздумья поинтересовался дядюшка Бенедикт.
— Хуже некуда, — с ненавистью выдавил Лахеч.
Г-н Бенедикт испытал желание сказать племяннику что-нибудь приятное.
— Мне понравилась музыка, которую ты написал для госпожи Азы.
Лахеч подскочил на стуле.
— Ты, должно быть, получил кучу денег?
— Все проиграл.
— А!
Г-н Бенедикт высоко поднял брови и несколько секунд смотрел на племянника, скорбно и укоризненно покачивая головой. И неожиданно для себя вдруг произнес:
— А я женюсь.
— Вы что, взбеси…
Лахеч прервал себя на полуслове и проскрежетал, пытаясь придать голосу максимально возможную любезность:
— Поздравляю. А можно поинтересоваться: на ком? При этом он опустил голову, чтобы скрыть насмешливую
ухмылку, и взгляд его случайно упал на половину лица Азы, выглядывающую из-под покрывала.
От ужасного подозрения у него перехватило дыхание; он обеими руками ухватился за покрывало, чтобы сорвать его, но г-н Бенедикт был начеку. Старик прижал ткань ладонями, и так они боролись несколько минут, пока победа не досталась музыканту. Вслед за сдернутым покрывалом на пол посыпались фотографические карточки. Г-н Бенедикт покраснел, как мальчишка, и наклонился, собирая их, а Лахеч, напротив, залился бледностью. Он не отрывал взгляда от картонных прямоугольников, на которых было запечатлено одно и то же лицо, и прохрипел сдавленным голосом:
— На ком? Дядя, на ком вы женитесь?
— Еще не знаю! Ты что, спятил? Зачем ты их рассыпал? Я должен их отослать… А женюсь я в ближайшие дни, только еще не знаю, на ком
Лахеч расхохотался.
— Ну, это другое дело!
— Почему другое дело? — просипел побагровевший от усилий отставник. — Да помоги же мне их собирать1 Черт тебя дернул! Мне же нужно отослать их!
Музыкант вдруг смешался и почувствовал робость. Уронив стул, он опустился на колени и принялся неловко собирать рассыпанные фотокарточки, бормоча извинения. Г-н Бенедикт продолжал ворчать. Наконец работа была закончена. Они снова уселись напротив друг друга и повели странную, весьма занимательную беседу, во время которой каждый думал совершенно не то, что говорил. Г-ну Бенедикту не давал покоя вопрос, какого черта приперся к нему племянник, тем паче в столь неподходящее время, а Лахеч, рассказывая какую-то нелепую историю, мысленно играл с собой в чет-нечет: даст в долг или не даст?
В конце концов он не выдержал. Оборвав на полуслове очередную фразу, он выпалил:
— Дядя, у меня ни гроша. Мне необходима твоя помощь.
Г-н Бенедикт молчал. Некоторое время он смотрел на гостя, шевеля седыми бровями и значительно покачивая головой, покуда у Лахеча не лопнуло терпение.
Он вновь пробормотал:
— Дядюшка, не мог бы ты мне… помочь?
Но и на этот раз г-н Бенедикт ответил не сразу. Он встал, прошелся по кабинету туда, сюда, откашлялся.
— Дорогой мой, — наконец произнес он, — в сущности я должен был бы высказать тебе порицание за твое легкомыслие. В Асуане ты ни в коем случае не должен был играть, а неожиданно свалившиеся деньги хорошо поместить…
Лахеч вскочил, собираясь уйти. Г-н Бенедикт угадал его намерение, с самым сердечным видом взял за руку и, можно даже сказать, с ласковой улыбкой промолвил:
— Садись, садись! Ведь я же не отказал тебе. Как я тебе уже сообщил, я женюсь, и мне хочется по сему поводу сделать тебе что-нибудь приятное.
Он подошел к столу, выдвинул один из ящиков, долго рылся в нем и наконец извлек два исписанных листка бумаги, быстро пробежал их взглядом.
— Ты должен мне две тысячи сто шестнадцать золотых. Вот твои долговые расписки.
— Да… Если бы мне сейчас такую же сумму… Или хоть бы половину…
— Переведя это в серебро, получаем…
— Даже если бы четвертую часть…
— Я уже тебе сказал, что женюсь, и мне не хотелось бы, чтобы в такую минуту между нами что-либо… Как-никак твоя мать приходилась мне двоюродной сестрой.
Г-н Бенедикт не на шутку расчувствовался. Он сглотнул слюну, глаза его увлажнились. Самоотверженно, героически он протянул расписки изумленному Лахечу.
— Возьми! С этой минуты ты мне ничего не должен! Я дарю тебе две тысячи сто шестнадцать золотых. Прими это в память о твоей матери.
Голос его дрожал от избытка чувств.
Лахеч онемел, ошеломленный столь непредвиденным поворотом. Он видел, что дядюшка стоит и ждет, когда же он бросится к нему на шею или хотя бы просто поблагодарит, и потому, буркнув что-то невразумительное, сунул расписки в карман, словно они впрямь представляли для него какую-то ценность, и стал явно продвигаться к выходу.
Г-н Бенедикт двинулся ему наперерез. Чувствовалось, он поражен холодной реакцией племянника на свою щедрость и намеревается что-то еще изречь. Он успел перехватить Лахеча у самой двери.
— Послушай, — заговорил он неуместно таинственным тоном, — ведь ты все эти три года не платил мне процентов. Капитал я тебе дарю, но проценты… понимаешь, я женюсь, мне предстоят крупные расходы… Если у тебя при себе нет денег, то в ближайшие дни, уж будь добр, пришли мне, сколько причитается по процентам. Мне хотелось бы, чтобы все расчеты между нами были урегулированы.
Сердечно обняв племянника, г-н Бенедикт вернулся в кабинет. Он никак не мог взять в толк, почему Лахеч не только не обрадовался, но, выходя, так глянул на него, словно хотел испепелить взглядом.
Глубоко вздохнув, он поскорбел над людской неблагодарностью, слезливо улыбнулся при мысли о своем благородстве и, исполненный сознания совершенного доброго дела, уселся за стол писать письмо Азе.
А Лахеч, выйдя из дядюшкиного дома, бесцельно и бездумно побрел по улице.
Большие электрические лампы за голубоватыми стеклами, несколько смягчающими их яркость, заливали светом широкие тротуары, заполненные вечерней прогуливающейся толпой. Уже давно был отменен нелепый древний запрет открывать магазины по ночам. Теперь они закрывались с одиннадцати до пяти дня, но зато до полуночи, а то и позже светились огнями витрин, были полны шума, суеты, звона золота и серебра. Впрочем, золото лилось всюду, текло рекой, то разделяясь на множество мелких рукавов, то сливаясь в одно общее русло. Этот неизменный звон раздавался везде — у входов в многочисленные театры, концертные залы, цирки и биофоноскопы; у дверей кафе, где в перерывах между голосом фонографа (Хальсбанд и компаньоны), выкрикивающего попеременно последние новости и арии в исполнении самых модных певцов, дрыгали ногами в сетчатых черных чулках якобы скромно одетые, а на самом деле бесстыдно раздетые танцовщицы; в банках, у которых в эту пору и была самая интенсивная работа; в домах терпимости, поражающих своей пышностью и тем самым как бы насмехающихся над всеми ограничениями полиции нравов, — одним словом, всюду, куда ни ступи, куда ни глянь.
Лахеч брел, не ведая, куда идет и что с ним будет завтра, брел, куда несли ноги; прохожие толкали его, оттесняли с тротуара, и он отскакивал от автомобилей, мчащихся по мостовой. Он был совершенно не в состоянии думать о положении, в каком оказался. Сквозь гул разговоров, возгласы, крики, вой сирен, кваканье автомобильных клаксонов, мерзкий рев фонографов и визг тормозящих колес до слуха Лахеча доносились обрывки его собственной музыки, что, казалось, вырывалась из самой его души, окутывая благодетельными волнами измученную голову. И тогда он на миг останавливался в уличной толчее, мысленно находясь от нее за тысячи миль, и ловил долетающие звуки, прежде чем они исчезнут, прежде чем их подхватит и заглушит всепобеждающий шум. Но тут вновь кто-нибудь толкал его, кто-нибудь выкрикивал над ухом название только что вышедшей газеты, а то страж общественного порядка велел ему не останавливаться, дабы не препятствовать свободному движению, и он опять торопливо и машинально шагал, как будто и впрямь куда-то спешил в этой толпе.
Наконец он остановился под аркой ворот, толком не понимая, зачем он тут встал У него было ощущение, что это место ему знакомо, даже очень хорошо знакомо. Он поднял голову. Напротив, на другой стороне улицы была огромная надпись, не сказать чтобы уродливая, напротив, даже игривая, составленная из разноцветных лампочек, — «Хальсбанд и компаньоны. Компания усовершенствованных граммофонов».
Лахеч вскинулся, как конь, напуганный внезапно взорвавшейся под ногами петардой. Из окон здания неслась чудовищная какофония, которую издавали сотни инструментов, заведенных, надо полагать, для опробования; каждый из них играл свое: одни пели, другие, в которых были заключены на вечные муки оркестры, отчаянно стенали, словно умоляя сжалиться над их горестной судьбой, а были и такие, которые воспроизводили голоса животных либо перебранку рабочих в предместье.
У Лахеча волосы встали дыбом. Он хотел уже бежать от этого ада, этого своего узилища, как вдруг уловил, подобно чудовищной насмешке, победно рвущийся из трубы какого-то инструмента свой «Гимн Исиде». Он узнал возвышенные, могучие слова Грабеца и бурю собственной музыки, и голос Азы, искаженный, изуродованный жестяной глоткой граммофона.
В глазах у него потемнело, он привалился к стене и впился взглядом в дом с такой беспредельной ненавистью, с такой исступленной враждебностью, что у него даже губы судорожно подергивались, а пальцы машинально — до боли — сжались в кулаки. В голове у него, подобно молнии, вспыхивали всевозможные свирепые, но неисполнимые замыслы: взорвать этот дом, перебить, искалечить все аппараты, перерезать Хальсбанду горло или же привязать ему к ушам две самые громогласные машины и замучить их ревом насмерть.
Но тут же он ощутил свое бессилие и вжал, словно устыдившись, голову во вздернутые плечи. Брови у него сошлись к переносице, и он угрюмо уставился куда-то в пространство тупым, помертвевшим взглядом.
Он долго стоял так в отупелом оцепенении, как вдруг на плечо ему опустилась чья-то рука. Лахеч обернулся. Перед ним был Грабец.
— Я уже давно разыскиваю вас. Идемте со мной.
Лахеч машинально подчинился этому повелительному голосу и, даже не поинтересовавшись, куда его ведут, последовал за Грабецом по запутанным слабо освещенным боковым улочкам.
Они долго шли в молчании. Миновав людные, шумные кварталы, полные сверкающих магазинов, они добрались до окраины, где высились огромные фабрики, за черными стенами которых днем и ночью не прекращалась работа. Здесь почти не было мощеных дорог и площадей, в основном, они были присыпаны гравием да шлаком и прикатаны; вместо светильников, льющих мягкий свет, как в центре города, тут горели дуговые лампы, которые на высоких столбах с перекладинами выглядели точь-в-точь как звезды на виселицах. В их ярком холодном свете тени фабричных труб, снующих людей, катящихся по рельсам вагонов казались еще резче и чернее. Огромные окна фабричных корпусов, разделенных переплетами рам на множество небольших мутных от вековечной пыли стекол, полыхали багровым светом, точно жерла адских печей.
Грабец и Лахеч молча остановились на углу возле одной из фабрик. Там как раз должна была произойти пересменка: после двух часов работы одна смена уступала место другой. В широкие двери потоком вливались молчаливые люди, одетые в серые штаны и серые холщовые блузы. Было хорошо видно, как они разошлись по громадному цеху и встали у машин за спинами работающих. Кто-то засучивал рукава, кто-то растирал мозолистые ладони. Прозвучал первый свисток, на лицах сменяющих появилось какое-то тупое, напряженное выражение.
При втором свистке работающие вдруг отошли от машин, и в тот же самый миг, без секунды перерыва сотни новых рук опустились на рычаги, подхватили рукояти регуляторов, взяли отставленные масленки. Закончившие работу в каком-то замедленном темпе толпились посередине цеха, разминая занемевшие мускулы, потягивались, словно выйдя из каталептического сна; они вновь становились людьми. А возле неутомимых машин стояли новые манекены.
Из распахнутых дверей на обширный двор начал вытекать поток людей. Грабец бросал быстрые взгляды на проходивших мимо рабочих и вдруг окликнул одного из них.
— Юзва!
Тот оглянулся и остановился. Высокий рыжий парень с угрюмой физиономией. Но в глазах у него затаенным огнем тлело упорство и решительность.
— А, это вы, Грабец…
— Да, я.
Рабочий подозрительно покосился на Лахеча.
— Кто это с вами?
— Новый товарищ Пошли.
Отделясь от толпы, они направились к ближнему кабаку, где рабочие ночной порой после смены собирались отдохнуть и повеселиться.
В больших комнатах было людно и душно. Лахеч с любопытством и не без некоторого удивления поглядывал на лица здешних посетителей, на их крепкие, мускулистые, приземистые фигуры, так не похожие на те, что он видел в центре города, в театрах, на улице, в кафе, конторах. За несколько столетий между рабочими и остальной частью общества непостижимым образом разверзлась такая пропасть, что на вершине «цивилизованной» толпы уже и забыли о их существовании.
Они устроились в углу за отдельным столиком. Пользуясь тем, что Юзва отошел то ли чтобы сделать заказ половому, то ли поговорить с приятелями, Грабец, кивнув на сидящих вокруг, спросил у Лахеча:
— Вы знаете, что это такое?
Лахеч вопросительно посмотрел на него.
— Море. Море, которое нужно всколебать, разбушевать, взметнуть и затопить им весь мир.
В голове у ошеломленного Лахеча начало что-то проясняться; ему показалось, будто он начинает понимать.
— И вы хотите?..
Грабец, все так же пристально глядя на него, кивнул.
— Да.
— И позвали меня…
— Да.
— Чтобы не было больше Хальсбандов, граммофонов, старых отставников?
— Да. Да! Чтобы не осталось ничего из того, что существует, а было бы одно только море, поглотившее земные нечистоты, а над ним — повелевающие волнами боги!
Подошел Юзва и тяжело опустился на стул.
Грабец и Юзва разговаривали, склонив друг к другу головы. Поначалу Лахеч, ошарашенный тем, что сообщил ему Грабец, не улавливал смысла долетающих до него слов. Он лишь глядел на эти сблизившиеся головы, такие не похожие, но в то же время объединенные одной общей идеей. Начиная говорить, Юзва тяжело распахивал глаза и не отводил от собеседника пристального, испытующего, неподвижного взгляда. Слова он выговаривал медленно, каждое по отдельности, с полнейшим и, казалось, невозмутимым спокойствием, однако порой вдруг чувствовалось, что где-то глубоко под ними клокочет неумолимая, свирепая ненависть и сила, удерживаемая от взрыва одним только напряжением воли.
Круглый череп, низкий лоб… На первый взгляд, лицо его казалось тупым и неприятным. Но когда через несколько минут Лахеч внимательней присмотрелся к нему, ему пришло в голову, что этот человек не простой рабочий. И он стал прислушиваться к его словам.
— Грабец, — говорил Юзва, положив тяжелые кулаки на стол, — уж не воображаете ли вы, что я ушел в рабочие и потратил десять лет жизни на отупляющую работу на фабрике для того, чтобы сейчас исполнять чьи-то указания? Послушайте меня, Грабец. Мне плевать на благо человечества, утопий я не сочиняю и не мечтаю о светлом будущем для людей. Я знаю лишь одно: временами нужно, чтобы наверху оказалось то, что веками было внизу, чтобы подземное пламя вырвалось наружу. А что станет завтра, завтра и поглядим.
— Однако вы же не отказываетесь идти вместе со мной? — заметил Грабец.
Толстые губы Юзвы скривились в чуть заметной ухмылке.
— Нет причин отказываться, — ответил он. — Пока что цель у нас общая. Только вы хотите использовать нас, варваров, как вы мысленно нас называете, в качестве орудия, а я смеюсь и над этими вашими намерениями, и над вами. Лучше всего будет, если мы объяснимся ясно и откровенно. Вы полагаете, что победой, одержанной с нашей помощью, воспользуетесь вы, мудрецы, ученые, художники, ну и другие того же покроя. А вот я вам скажу, что потом не мы вам, а вы нам будете служить, натурально, если нам еще придет охота воспользоваться тем, что вы сможете нам дать.
— Время покажет. Эксплуатировать вас мы не собираемся.
— Собираетесь. Ладно, хватит об этом. Время все покажет, тут вы правы. А пока спорить нам не о чем. Сейчас у нас с вами интерес общий: уничтожить то, что существует, раздавить распоясавшихся ничтожеств, произвести переворот. Мы идем вместе. И там, где мы пройдем, останутся одни развалины, пожарища и кровь.
Лахеч слушал, затаив дыхание; эти новые идеи ударили ему в голову, словно крепкое вино.
III
Близился полдень, когда самолет Яцека, возвращавшегося от лорда Тедуина, опустился на платформу на крыше его варшавского дома. Яцек стремительно спрыгнул с сиденья, позвонил механику, чтобы тот занялся самолетом, и сбежал по лестнице вниз. Он испытывал непонятную тревогу, хотя не мог объяснить себе ее причину, но чувствовал: нужно немедленно быть в лаборатории; у него было предчувствие, что пока он отсутствовал, там что-то произошло.
Предчувствие это появилось у него во время полета, и он с высоты напряженно всматривался в горизонт, выглядывая, не покажутся ли очертания родного города. Он мчался с головокружительной скоростью, самой стремительной, на какую только был способен его летательный аппарат. Рокот пропеллера, взрезающего яростно вращающимися лопастями воздух, сливался со свистом ветра; Яцеку пришлось надеть на лицо маску, чтобы при такой бешеной скорости иметь возможность дышать. В висках у него пульсировала кровь, сердце колотилось в сумасшедшем ритме.
Некоторое облегчение он почувствовал, когда увидел, что дом, целый и невредимый, стоит на прежнем месте.
В передней, устланной асбестовыми коврами великолепных цветов, у самых дверей лаборатории Яцека встретил слуга, который поспешил сюда из дальних комнат, как только услышал рокот садящегося самолета.
— Что нового?
— Ничего, ваше превосходительство. Ждем вас.
Яцек пошарил в кармане, где лежал ключ от лаборатории.
— Никто меня не спрашивал?
— Нет, ваше превосходительство.
— А как посланцы с Луны?
Слуга усмехнулся.
— Все хорошо. Вот только лохматый…
Недоговорив, он замолчал.
— Что такое?
— Ваше превосходительство распорядились удовлетворять все их требования. И этот лохматый все время приказывает. Просто никакой управы на него нет. Говорит он при этом на языке, который мало смахивает на польский, и гневается, когда мы его не понимаем.
Яцек кивком отпустил лакея и, решив отложить свидание с карликами на позже, вставил ключ в секретный замок. Он нажал на несколько кнопок, сделал несколько оборотов ключом, и внезапно двери бесшумно разъехались в стороны, открыв темный провал. Металлические шторы на окнах были опущены. Яцек на ощупь нашел на косяке кнопку, вставил в отверстие под ней небольшой ключик, повернул. Поток света, слепя глаза, ворвался в мгновенно открывшиеся окна.
Яцек стремительно прошел через овальный кабинет, в котором обыкновенно работал за столом, и, отворив еще одни металлические двери, скрытые в стене, по узкому коридору направился в свою приватную лабораторию, соединенную с остальным домом одним только этим проходом.
Он распахнул дверь и невольно вскрикнул.
У прибора, скрывающего в себе страшную тайну его изобретения, неподвижно сидел какой-то человек. Во мгновение ока Яцек был около него. Человек неспешно встал и обернулся.
— Нианатилока!
Яцек бросил мимолетный взгляд на буддиста и даже не поинтересовался, как он оказался здесь, за запертыми стальными дверями и окнами. Первым делом Яцек склонился над прибором. Один из проводов, подводящих к нему электрический ток, был перерезан. Яцек взглянул на шкалу, регистрирующую напряжение тока, и помертвел. Провод был перерезан именно в тот миг, когда непонятно почему усилившееся напряжение достигло величины, при которой прибор мог самопроизвольно сработать. Еще доля секунды, и не только его дом, но весь город превратился бы в груду дымящихся развалин.
— Опасности больше нет, — с улыбкой сообщил индус. — Я прервал ток.
— Так это ты сделал?
Нианатилока не ответил. Он взял Яцека за руку и повел обратно в кабинет. Ученый, утратив способность что-либо понимать, слушался его, как ребенок. В голове у него было полное затмение; он даже боялся спросить Познавшего три мира, что тут произошло, настолько неправдоподобным и опрокидывающим все его представление о мире казалось ему случившееся.
Лишь через некоторое время, уже сидя в удобном кресле у себя за столом, он немножко пришел в себя и уставился на Нианатилоку округлившимися глазами, точь-в-точь как человек, пробудившийся ото сна. Ему страшно захотелось протянуть руку и дотронуться до бурнуса отшельника, чтобы убедиться, что тот и вправду стоит перед ним, а не привиделся, но непонятный стыд удержал его.
Но то ли Нианатилока уловил этот его порыв, то ли почувствовал мысль…
— Ты полагаешь, что чувство осязания достоверней зрения? — промолвил он. — Ведь ты же видишь меня.
— Откуда ты взялся?
— Не знаю, — совершенно искренне ответил индус.
— Как так, не знаешь? — изумился Яцек. — Нет, это совершенно не умещается в голове! Два дня назад, когда я запирал лабораторию, в ней никого не было. Я это совершенно точно помню.
— Еще вчера я был на острове Цейлон вместе со своими братьями.
— Нианатилока, сжалься же надо мной! Скажи правду!
— Я и говорю правду. Сегодня, час, а может, два назад, я молился и вдруг почувствовал, что у тебя в лаборатории происходит что-то ужасное. Несмотря на огромное напряжение воли, я так и не сумел понять, в чем там дело, и не смог на расстоянии предотвратить катастрофу, но в то же время чувствовал, что нельзя терять ни минуты. Весь лоб у Яцека покрылся капельками пота.
— Продолжай! Продолжай!
— Да мне почти и нечего рассказывать. Я затворил все органы чувств, чтобы не мешала кажущность внешнего мира, и пожелал оказаться здесь. Когда же открыл глаза, увидел провод твоего прибора и перерезал его.
— Если бы ты колебался хотя бы долю секунды, то от взрыва превратился бы вместе с домом попросту в ничто.
Нианатилока улыбнулся.
— Не веришь? — бросил Яцек.
— Но разве взрыв твоей машины способен обратить в ничто то единственное, что действительно существует, — Дух?
Яцек промолчал. Он несколько раз потер ладонью лоб, встал и принялся расхаживать по комнате. И, наверное, только через минуту отозвался:
— Сегодня я не способен беседовать с тобой. Слишком большой хаос у меня в голове, и к тому же я просто устал от мыслей. Вчера вечером у меня был странный разговор, и он все не выходит у меня из головы.
Он замолчал, остановился и вдруг резко повернулся к Нианатилоке.
— Послушай! Ответь мне, что такое дух? Я постоянно слышу это слово… Я многое знаю и только о нем одном не имею ни малейшего представления, хотя он мне ближе всего, ведь, в сущности, он является мною! И никто этого не знает и никогда не знал. Неужели же действительно нужно лишь верить в то, что является самым главным, глубинной сутью человека?
— Верить недостаточно, — шепнул Нианатилока, глядя куда-то вдаль. — Нужно непременно знать.
— И ты знаешь?
— Знаю.
— Откуда? Как?
— Потому что хочу.
Яцек разочарованно пожал плечами.
— Мы опять попадаем в порочный круг. У нас с тобой настолько разный образ мышления, что, видно, мы никогда не поймем друг друга. Разве знание может зависеть от воли?
— Оно всегда зависит от воли.
Опять наступило молчание. Яцек уселся за стол и подпер голову руками.
— Странные вещи ты мне толкуешь. Мне трудно принять результаты твоих совершенно непостижимых для меня рассуждений. И однако меня тянет, влечет к себе твое спокойное и уверенное знание, опирающееся на волевой акт. Ответь мне, чем для тебя является дух?
— Дух является тем, что он есть. Все через него начало быть, а без него ничто не начало быть, что начало быть.
Перед глазами Яцека возникла крупная седая голова лорда Тедуина, склоненная над книгой Евангелия от Иоанна.
— И ты о том же… — прошептал он. Нианатилока, казалось, не слышал его.
— Мир возник из духа, — продолжал он. — Дух является светом жизни и его единственной истиной, а все, что вокруг него, лишь видимость, возникшая из него и притом бренная. Дух стал плотью.
— А если он умрет вместе с плотью? — сам того не ожидая, спросил Яцек.
Восточный мудрец улыбнулся.
— Неужто ты способен хотя бы на миг допустить столь невероятную вещь?
— Не знаю, ничего не знаю. И откровенно признаюсь тебе в своем незнании. А если люди, утверждающие, что так называемая плоть — неважно, в какой форме она существует, — является не началом, но последней фазой духа, который сгущается в нее, чтобы наконец утратить в ней свою живучесть и погибнуть вместе с нею, правы?
— Дух не гибнет. Не может погибнуть то, что действительно существует.
— Тогда какова его судьба после смерти тела? После утраты органов чувств, которыми он видит, осязает, слышит? После утраты мозга, которым он мыслит?
Нианатилока внимательно смотрел на Яцека.
— Он становится свободен.
— И что же с ним происходит дальше?
— Он существует. Черпает единственную истину из самого себя, вместо того чтобы столь часто поддаваться по вине органов чувств истинам других духов или снам.
— Не понимаю.
— И не надо понимать. Надо знать. Что ты делаешь, когда замыкаешь все органы чувств?
— Сплю.
— Вот и дух, оставшись в одиночестве, спит, только сон этот является для него безусловной и единственной реальностью, ибо ей ничто не противостоит извне. На каком основании ты полагаешь, что у жизни, в которой мы с тобой ныне пребываем, иная основа? Что она не воображение духа? Ведь дух превыше всего. Быть может, в какой-то иной жизни, когда мы избавлялись от другой, но тоже по воле духа созданной телесной оболочки, наша последняя мысль стала началом этой вот жизни, в которой мы пребываем ныне.
— Ну, допустим. Но почему тогда мы все мыслим по одним и тем же правилам и посредством духа сотворяем для себя одинаковую действительность, поскольку я вижу то же самое, что ты?
— Потому что, в сущности, дух един и стремится через разнообразье превращения к окончательному единству, которое, видимо, было в самом начале, хотя не знаю, можно ли воспринимать это начало во временных категориях.
— Ну, а будущая жизнь?
— Я знаю, что она будет продолжаться, пока мы не освободимся от последних призраков, от заблуждений воли, от любых различий, вот только не знаю — какая. Быть может, последней мыслью перед отрешением ото всех чувств каждый сотворяет для себя эту новую жизнь и получит в ней то, во что верил, чего жаждал, на что надеялся или, напротив, чего боялся… Подумай только, как это прекрасно и в то же время страшно: сотворить себе из последней мысли новую жизнь, развить ее, наполнить, сделать реальностью! И как нужно готовиться к этой последней мысли, чтобы она не была гнусным страхом или мукой, ибо в какой кромешный ад погрузится тогда человек!
— А освобождение?
— Ничего не желать! Священное и великое слово, которым слишком часто и святотатственно злоупотребляют; всеобъемлющее бытие, неизменное, полное, подлинное; совершенное, окончательное богослияние, завершение круга превращений — Нирвана! Бог есть бездна, бездна есть Бог, и мы возвратимся к Богу!
Яцек на миг задумался, встряхнул головой и встал.
— Зря я заговорил сегодня обо всем этом, — сказал он. — Я просто не способен сейчас мыслить. При попытке напрячь мысль я испытываю страшную усталость и чувствую себя опустошенным. Такое ощущение, словно я на время утратил способность логически рассуждать. Твои речи вызывают у меня странное состояние. Не надо мне больше ничего говорить. Я просто боюсь! В голове страшная путаница, надо заняться чем-нибудь другим.
Индус тоже поднялся.
— Я пойду, — промолвил он. — Навещу тебя как-нибудь в другой раз.
Яцек воспротивился.
— Нет! Нет! Останься. Я очень о многом хотел спросить твоего совета. Сейчас я просто должен прийти в себя.
Он нажал на кнопку звонка, вызывая прислугу.
Вошел лакей. Яцек жестом велел ему остановиться на пороге.
— Приготовь нам поесть и попроси прийти ко мне посланцев с Луны.
Когда лакей вышел, Нианатилока поднял глаза на Яцека.
— Что ты собираешься делать после получения сведений о своем друге Марке?
Яцек уже привык, что этот непостижимый человек читает его мысли, еще прежде того как он выразит их словами, и потому даже не удивился, откуда Нианатилока знает о событиях последних недель. Он лишь пожал плечами.
— Пока не знаю. Очень мне эти карлики подозрительны. Похоже, придется строить новый корабль и лететь на Луну.
И тут его осенило. Он оборвал фразу и пристально посмотрел на Нианатилоку.
— Послушай, ведь ты же мог бы сказать мне, что там с Марком…
Нианатилока отрицательно покачал головой.
— Я не знаю. Я ведь уже как-то говорил тебе, брат, что человеческой воле нет границ, но знание ограничено, и сознание не всюду способно достичь. Оно познает глубинные основы, но множество частностей остаются для него сокрытыми, ибо происходят из чуждых источников.
— Но ведь ты обыкновенно знаешь, о чем я думаю.
— Когда ты мысленно разговариваешь со мной, знаю. Ты непроизвольно направляешь свои мысли моему духу.
Нианатилока положил руку на плечо Яцеку.
— И все-таки сейчас успокойся и отдохни. Ты ведь сам говорил, что устал.
Яцек почувствовал, как под взглядом буддиста мысли у него начали туманиться и какая-то странно сладостная, сковывающая мгла обволакивает все его тело… В сознании у него еще промелькнуло, что Нианатилока своею волей усыпляет его; он попытался внутренне воспротивиться, хотел крикнуть, вскочить на ноги, но тут его накрыла необоримая тень, погасив сознание до крохотной искорки, чуть тлеющей тем единственным чувствованием, какое только и может существовать в тени.
Он полностью утратил ощущение времени и места, в котором находится. И это состояние могло длиться как секунду, так и тысячелетие. Он ничего не хотел, ни о чем не знал, ничего не воспринимал извне.
Медленно, медленно возник какой-то звук, какой-то туман, поначалу густой, серый, почти не отличающийся от тьмы, но мало-помалу он становился все светлей, серебристей, растворялся мглою неопределенно-смутного рассвета.
В Яцеке начало пробуждаться детское, бескорыстное и почти безличное любопытство. Что-то возникло у него перед глазами — словно бы очертания странного пейзажа: зеленые поля, освещенные низким солнцем. Через некоторое время он обнаружил, что хотя не способен определить то место в пространстве, где оказался, тем не менее ясно видит широкую котловину, усеянную небольшими округлыми прудами, по берегам которых растут какие-то неведомые растения. Котловина была замкнута в кольцо высоких гор с иззубренными, покрытыми снегом вершинами.
Он попытался установить, где он находится и что тут делает. И еще его страшно мучило то, что, охватывая всю эту картину зрением, он не видит и, более того, не ощущает себя, своего тела, как будто оно стало невесомым и незримым.
Он как раз задумался над этим и вдруг осознал, что несмотря на собственную нематериальность способен воспринимать внешние события и посредством слуха. До него долетали какие-то звуки, напоминающие шум сражения: выстрелы, стоны, крики. Только теперь он заметил, что посреди котловины на высокой обрывистой скале находится город. А вокруг действительно кипела битва. Горстка людей прорывалась сквозь нападающие со всех сторон, с воздуха и с земли, стаи не то птиц, не то крылатых рептилий.
Четырехглазые чудовища на широких перепончатых крыльях тучами налетали на отстреливающихся людей и разили их сверху.
Яцеку вдруг почудилось, что он слышит знакомый голос. Резким напряжением воли он бросил в ту сторону свое сознание.
— Марк!
Да, он и вправду увидел, причем потрясающе ясно: Марк бежал впереди шеренг, поразительно огромный в сравнении со своими карликового роста товарищами. В руке он сжимал оружие, некое подобие длинного ятагана, и указывал им на стены города, багрово-красные в последних солнечных лучах.
Яцек хотел крикнуть, хотел позвать друга.
Шум, треск, грохот, словно рушился мир, и — все поглотившая черная молния.
Яцек открыл глаза. Он был у себя в кабинете. Перед ним по другую сторону стола сидел Нианатилока, опершись подбородком на сплетенные руки, и внимательно смотрел на него.
— Я спал?
— Да. Заснул на минутку. Что ты видел?
Яцек сразу все понял.
— Я был на Луне?
— Да, я хотел, чтобы ты там побывал. Не знаю, удалось ли мне. Ты ведь не мертвое тело, а сознающий себя дух, как и я. Дух никогда полностью не подчиняется другому духу, но ведет с ним борьбу.
— Да, я побывал на Луне. Видел Марка. Он там отвоевывает какой-то город у странных чудовищ. Возможно, он и вправду стал там королем. Но все равно, мне так мало известно! Слишком быстро я пробудился. Ты не мог бы подольше продержать меня в этом состоянии?
— Мне не удалось. Тем более что мне приходилось быть начеку, следить, чтобы ты не перестал мыслить по-своему, своими, а не моими глазами смотреть на происходящее.
Яцек хотел что-то сказать, но в этот момент отворилась дверь: слуга доложил, что вызванные карлики явились.
Они вошли, недоверчиво поглядывая на Нианатилоку. А Рода, тот вообще страшно перепугался, потому что одежда буддиста, простой белый бурнус, напоминала ему Хафида, который возил их в клетке.
Яцек не дал ему прийти в себя. Стремительно подойдя к жителям Луны, он внезапно задал вопрос:
— Зачем вы говорили неправду, будто Марк спокойно правит лунным народом, тогда как именно в этот миг он сражается с чудовищами в котловине, окруженной кольцевым горным хребтом?
Рода побледнел и затрясся всем телом.
— Светлейший господин, он действительно ведет войну…
Вдруг он замолчал. Ему пришло в голову, что ведь Яцек никоим образом не может знать, что происходит на Луне, а потому нет никакого смысла рассказывать ему об истинном положении дел. Поэтому Рода надулся и гордо вскинул голову.
— Но мне крайне обидно, — промолвил он, как бы продолжая предыдущую фразу, — что ты, господин, ни с того ни с сего обвиняешь меня во лжи. Вести войну — долг и обязанность короля, так что не было бы ничего удивительного, если бы Марк сейчас и вправду был в военном походе, хотя знать это наверное не можем ни ты, ни я.
Яцек несколько секунд молча смотрел на карликов и наконец объявил им:
— Я позвал вас, чтобы сообщить, что решил построить новый корабль и отправиться на Луну за своим другом. Хотите полететь со мной?
От недавней самоуверенности лохматого «мудреца» не осталось и тени. Ноги у него вдруг стали ватными, он снова весь затрясся и пролепетал что-то невразумительное.
Вернуться на Луну! Вернуться, оказаться снова в городе у Теплых прудов, опять быть в окружении учеников и почитающих его членов Братства Истины! Рода мечтал об этом с первой минуты пребывания на Земле, но при мысли, что ему придется возвратиться на Луну вместе с Яцеком, а возможно, и еще с какими-нибудь людьми, и тем вскоре станет известно и про его коварство, и про вранье, у него по спине побежал ледяной холодок.
Рода не знал, как вести себя, какой дать ответ, но тут краешком глаза он заметил, что Матарет, который до сих пор стоял позади него, выдвигается вперед. Страшное предчувствие чего-то ужасного, непоправимого стиснуло ему горло; он хотел рукой подать Матарету знак, удержать его, но было слишком поздно.
— Господин, — с достоинством обратился к Яцеку Матарет, — мне кажется, настало время рассказать тебе всю правду.
— Молчи! Молчи! — отчаянно завизжал Рода. Матарет, не обращая внимания на его вопли, бесстрашно смотрел в глаза Яцеку и говорил:
— Марк вовсе не посылал нас сюда. Мы обманом захватили его корабль и случайно, не желая того, улетели на Землю.
Яцек страшно побледнел.
— А Марк? Он жив?
— Он сражался с шернами, как ты сам, не знаю только, каким образом, догадался.
И Матарет стал рассказывать, как после прилета Марка, которому лунный народ сразу же дал имя предвещенного пророками Победоносца, они, считая его обманщиком, повели борьбу с его влиянием и стали объединять всех, кто не верил ему. Матарет рассказывал о его битвах со страшными лунными первожителями шернами, о поражениях и победах и, наконец, о том, как они завладели кораблем, намереваясь привести помощь с другой, недоступной стороны Луны, откуда, как они были убеждены, и прилетел Марк, а вовсе не для того, чтобы лишить его возможности вернуться на родную планету. Единственно, Матарет не сказал, что таков был только его замысел, а не Роды, который хотел всего лишь унизить ненавистного пришельца.
— И вот мы, сами того не ожидая, упали на Землю, — завершил Матарет свой рассказ, — а что было дальше, ты, господин, знаешь, наверное, не хуже нас. Лгали же мы со страху, боясь, что нам тут станут мстить. Мы же слабее вас, одиноки и беспомощны. Но теперь ты знаешь всю правду. Поступай с нами, как считаешь должным, но если, господин, ты и вправду собираешься лететь на Луну, то поторопись: Марку действительно может потребоваться помощь.
Яцек выслушал длинный рассказ, не прерывая Матарета. Лицо его все сильнее хмурилось, брови сошлись в одну линию. Он сжал губы, взгляд его был устремлен куда-то вдаль.
— Вы оба полетите со мной на Луну, — бросил он, даже не взглянув на карликов.
Матарет согласно кивнул.
— Да, господин, полетим.
Рода тоже кивнул, словно бы соглашаясь, но в душе поклялся, что пойдет на все, лишь бы не отправиться в это путешествие, во время которого он окажется в полной власти человека, могущего отомстить ему. Ему хватило недолгого пребывания на Земле, чтобы понять: здесь его охраняет закон, равный для всех, и сделать ему ничего не смогут, пока его вина не будет доказана. Да и вообще, разве это не глупость, отправляться в полет через межзвездное пространство вместе с другом его смертельного врага?
А в голове у Яцека мысль набегала на мысль. Он оглянулся, ища взглядом Нианатилоку, но того уже не было; очевидно, он тихо вышел из кабинета. Так что посоветоваться было не с кем, и Яцек, сжав голову руками, стал размышлять о судьбе друга, о путешествии, о том, что он оставляет на Земле и что может встретить его на Луне.
Здесь — ураган, который может сорваться в любой момент. Яцек не хотел принимать никакого участия в грядущих событиях, и все же у него было чувство, что, улетая на Луну, он как бы бежит от борьбы, от возможных опасностей, от окончательного решения вопроса «кто кого».
А если он будет необходим здесь? Если потребуется совершить тот последний, страшный акт, исполнение которого он принял на себя, не желая отдавать оружие ни в чьи руки, а его тут не будет — что тогда?
— Какое мне до всего этого дело? — еле слышно прошептал он. — Лечу! Пусть тут происходит что угодно. Меня призывает мой единственный друг.
В дверях вновь появился лакей с письмом на подносе.
— От госпожи Азы, — доложил он, кладя конверт на стол.
Яцек торопливо вскрыл конверт и пробежал глазами письмо, полностью позабыв о присутствии лунных карликов, которые с пристальным вниманием наблюдали, как меняется выражение его лица.
Он медленно опустился в кресло и положил перед собой исписанный листок бумаги. Аза сообщала ему, что вскоре приезжает в Варшаву и довольно долго пробудет здесь, чтобы отдохнуть от выступлений и триумфов.
«Хочу, друг мой, чтобы ты был в это время дома, — писала она, совершенно позабыв о недавней небольшой размолвке, что произошла между ними, — потому что мне хочется о многом поговорить с тобой и провести эти дни в твоем обществе. Возможно, в моей жизни многое изменится, и ты будешь первый, кто об этом узнает».
— У меня еще есть время, — почти в полный голос произнес Яцек, — пока мне построят корабль, а там…
Недоговорив, он знаком отпустил слугу и карликов, подошел к окну и с печальной отрешенностью прижался лбом к стеклу.
IV
— Вы должны любой ценой добыть тайну Яцека. Она позарез необходима нам.
Говоря это, Грабец как бы нечаянно отодвинул руку, к которой прикоснулась ладонь Азы. Певица заметила это и чуть отступила назад. Брови ее были нахмурены. Ее уязвил сухой, чуть ли не повелительный тон Грабеца.
— А если у меня не будет охоты путаться во все это? — вызывающе бросила она.
Грабец пожал плечами.
— Что ж, я найду другой способ и все равно добуду его изобретение. Ну, а вы будете петь дальше.
Он оглянулся, ища шляпу и перчатки. Найдя, он коротко поклонился.
— Честь имею, сударыня!
— Погодите! Останьтесь.
Сверкая глазами, она буквально подбежала к нему.
— Давайте играть с открытыми картами. Что вы мне дадите за эту… тайну?
Грабец, не торопясь, прошел от двери и сел на ближайший к ней стул.
— Ничего определенного. Я ведь уже говорил вам. Я и сам еще не знаю, что получу.
— Ради чего же мне тогда рисковать?
— Да потому что вам самой хочется. Вас манит и притягивает то, что произойдет, что может произойти, иными словами, вам безумно хочется принять участие в этой страшной и, быть может, последней битве, в которой затрещат кости всего человечества.
Аза рассмеялась.
— Только и всего? Этак вы еще докажете мне, что это я умоляю вас позволить оказать вам величайшую услугу!
Она села напротив Грабеца, оперлась локтями о колени и положила подбородок на сплетенные пальцы рук.
— А вам не приходило в голову, что это изобретение Яцека можно было бы… одним словом, я могла бы воспользоваться им в собственных целях?
— Не приходило и не придет. Я слишком хорошего мнения о вас, чтобы допустить, что у вас могут возникнуть столь нелепые и неисполнимые планы. У вас ничего не получится.
— Ну, а если вместе с Яцеком?
Грабец с невольной тревогой глянул на нее, но тут же улыбнулся.
— Попытайтесь. Быть может, он и согласится.
В его голосе звучала скрытая издевка.
Уязвленная в очередной раз, Аза встала и подошла поближе к нему,
— Уж не думаете ли вы, что у меня нет иного способа властвовать над миром и вами, кроме как выманив у кого-то секрет взрывчатого вещества?
Грабец окинул ее холодным оценивающим взором. Некоторое время он молчал, перебегая взглядом с лица на плечи, на бедра, словно и впрямь оценивая ее достоинства.
— Да, — процедил он наконец. — Вы красивы, и потому вам кажется… Нет, милостивая государыня, по крайней мере до сих пор вы не властвовали, а служили людям своей красотой.
У Азы даже дыхание перехватило от возмущения. И тут ей припомнилось, что то же самое ей недавно говорил Яцек. Сдавленный смех заклокотал у нее в горле.
— Однако же все делают то, что я захочу. Да вот и вы пришли ко мне с просьбой…
Грабец жестом остановил ее.
— Дорогая госпожа Аза, давайте попытаемся обойтись без дискуссий. У меня крайне мало времени: меня ждут. Итак, ваш ответ: вы беретесь добыть секретное изобретение Яцека, причем только за то, чтобы получить право встать по одну сторону с нами?
Говоря это, он опять поднялся и уже полуобернулся в сторону двери. Всего один миг Аза пребывала в нерешительности.
— Да! Потому что в конце концов вы все будете служить мне.
Грабец усмехнулся.
— Быть может. И такое вполне возможно. Ну, а пока — благодарю вас. Выбор средств, само собой разумеется, принадлежит вам.
В дверях он снова обернулся и бросил:
— Вам придется поторопиться. Яцек собирается улететь. Аза вопросительно посмотрела на него.
— Вы разве не знаете, что он строит корабль?
— Корабль?
— Да. Чтобы отправиться в нем на Луну за этим Марком, который прислал карликов. Время поджимает его.
Чуть поклонившись, Грабец вышел, оставив Азу в глубокой задумчивости. За все время после прибытия карликов с Луны она только однажды поинтересовалась, какие известия о Марке они привезли. Тогда еще верили лжи мнимых посланцев, и ей ответили, что у него все прекрасно и он не собирается возвращаться на Землю. Ей хотелось спросить, не передал ли Марк для нее письмо или хотя бы что-нибудь на словах, но стыд и гордость удержали ее, и она только стиснула зубы.
В этот миг ей казалось, что она ненавидит Марка так же — и, может, даже еще больше, — как всех тех, кто лебезит перед ней, пожирая похотливыми взглядами ее недоступное тело, как артистов и поэтов, что разливаются соловьями об искусстве, а на самом деле жаждут лишь с ее помощью возвыситься, обрести власть, и, наконец, как Яцека, этого мерзкого человека с могучим мозгом и мягким, как у женщин, сердцем, неспособного желать, добиться и обладать.
Но вот презирать Марка, как тех, она не могла. Негодование поднималось в ней, когда она вспоминала, что по-настоящему любила его, и она язвила себя насмешками и издевалась над ним за то, что ради каких-то глупых звездных фантазий, ради дурацкого королевства на Луне он забыл о ней — о ней, которая есть высочайшее счастье и величайшее наслаждение, называла его шальным глупцом и тем не менее не могла избавиться от удивления, что он сумел решиться и покинул ее — навсегда.
Она чувствовала, как в груди ее рождается глухое желание отомстить.
«Я буду, буду властвовать здесь, на Земле, — думала она, — а ты сиди, как пан Твардовский[12], на Луне!»
Никогда не умиравшая в ней неодолимая жажда власти и всемогущества нашла новую опору в этой мысли. И это стало в каком-то смысле дополнительной причиной примкнуть, хотя поначалу она очень колебалась, к сторонникам Грабеца, поскольку она свято верила, что рано или поздно увидит их всех у своих ног. И хотя вскоре она убедилась, что высокомерный, холодный Грабец не слишком-то подходит для роли подданного, но продолжала оставаться в заговоре, тем паче когда узнала, что Яцек отказался вступить в него. У Азы было ощущение, что, кроме всего прочего, это еще и игра между ней и этим молодым, красивым, как девушка, мудрецом, и хотя тот всегда делал ей только добро, она скорей инстинктивно, чем разумом, стремилась любой ценой унизить его.
По поручению Грабеца она устраивала у себя собрания заговорщиков и по мере возможности участвовала в подготовке переворота, поначалу не особенно задумываясь, с какой целью ее вовлекли в заговор. И только теперь поняла, что ей предназначалось стать орудием, с помощью которого будет выкрадено устройство, составлявшее основу могущества Яцека и так ревниво оберегаемое им. В первое мгновение это страшно возмутило Азу, и она чуть было не отказалась от дальнейшего участия. Она использовала все свои чары, чтобы пленить Грабеца, собираясь, когда он падет к ее ногам, издевательски рассмеяться ему в лицо и с презрением отвернуться, однако Грабец оказался на удивление стоек и не клюнул на ее обольщения. И тогда она начала верить, что этот невозмутимый и самоуверенный человек действительно способен властвовать над миром. Так что порывать с ним было бы преждевременно и неразумно.
Поэтому Аза согласилась обмануть Яцека, вырвать, как она мысленно определила, у него жало, которое этот «бессильный» никогда сам не использует.
«Выбор средств принадлежит вам», — сказал Грабец.
Аза мысленно усмехнулась. Да, драгоценный господин Грабец, можете быть уверены, уж средства-то она найдет, раньше или позже, но найдет. Теперь она поняла, почему Яцек так долго молчал, даже не отвечал на ее письма. Собирается сбежать от нее на Луну, как тот! И хотя ей на него, как, впрочем, и на того, наплевать, тем не менее она хочет, чтобы он остался и служил ей.
На миг ей пришла безумная мысль бросить всю эту пустую, суетную жизнь на Земле и вместе с Яцеком улететь на Луну к единственному царственному возлюбленному. Аза прикрыла глаза, ее губы дрогнули от непритворного сладостного желания: упасть к его ногам, еще раз увидеть его улыбающееся лицо…
Но она мгновенно отринула эту «детскую слабость». Хищная улыбка вновь зазмеилась на ее пунцовых устах, жесткий взгляд был устремлен куда-то вдаль, за грань нынешнего дня, словно опережая сегодняшние события.
Она позвонила горничной и велела подать переодеться, и почти сразу же ей доложили, что пришел Лахеч. Аза глянула на часы: было ровно четыре.
— Совсем забыла, — пробормотала она.
Не завершив наряд, она надела прямо на белье широкое домашнее платье из переливающегося шелка, наспех завязала рассыпавшиеся волосы узлом и так вышла к гостю.
После случайной встречи в игорном доме она не видела Лахеча. Правда, часто и со все возрастающим изумлением выслушивала рассказы о нем. Лахеч, по крайней мере по видимости, бросил музыку. На какое-то время он исчез, и никто не знал, где он укрывается, как вдруг появился на одном из народных митингов, которые последнее время стали все чаще собираться. Он призывал там к уничтожению всего существующего и к установлению на Земле нового порядка. Читая сообщение о том митинге, Аза поначалу подумала, что это какой-то однофамилец композитора, но когда подобные сообщения стали повторяться да еще с разъяснением, что бешеный агитатор — музыкант, до недавних пор занимавший скромную должность в компании Хальсбанда, сомневаться больше не приходилось. Всех участников заговора она не знала (Грабец, невзирая на видимость надменной и презрительной беззаботности, был крайне осторожен) и, однако, догадалась связать эти выступления музыканта с событиями, происходящими в мире.
Власти Соединенных Штатов Европы, издавна привыкшие смотреть со снисходительным пренебрежением на всевозможные волнения и возмущения, которые уже несколько веков не приводили к каким-либо серьезным последствиям, довольно долго не препятствовали Лахечу. И только в последние месяцы на него стали обращать более пристальное внимание. Слишком много людей слушало его и слишком большое влияние он приобрел, ну, а то, с чем он обращался к людям, естественно, никак не могло понравиться властям.
В конце концов полиции был отдан приказ арестовать его. И тут произошло нечто невероятное. Послушный народ, чтивший службу безопасности до такой степени, что ему и в безумном сне не приснилось бы, что можно воспрепятствовать ее действиям, на сей раз оказал сопротивление и вырвал Лахеча из рук полицейских.
Это был тревожный симптом. Правительство уже ради одного сохранения своего достоинства вынуждено было добиваться любой ценой победы. Было решено арестовать опасного музыканта при первой же возможности и примерно наказать, но вынести решение оказалось куда легче, чем его исполнить. Агитатор как сквозь землю провалился, и только иногда внезапно появлялся в самых неожиданных местах, произносил речи, сеял возмущение, возбуждал народ и вновь исчезал, прежде чем его успевала настичь «карающая рука закона».
Аза с увлечением следила по газетам за этой игрой в прятки со всемогущим правительством Соединенных Штатов Европы, и постепенно в ее воображении невзрачный музыкант превратился в некоего сказочного героя. И когда она вчера случайно увидела его на улице, то непроизвольно вздрогнула. Он первым узнал ее и, лавируя в густой толпе, отдал глубокий поклон. Аза тотчас велела остановить свой автомобиль, еле-еле ползший в уличной тесноте. Музыкант заметил это и тоже остановился. На лице его была написана нерешительность, но длилось это не дольше секунды, хотя ему грозил арест, если бы его опознали.
Он быстро подошел к авто.
— Вы хотели мне что-то сказать?
Но Аза уже тоже поняла, какая опасность грозит ему, если он задержится с нею.
— Приходите ко мне завтра в четыре.
Она бросила ему адрес своего дома, не понимая сама, зачем приглашает его и что скажет, когда он придет.
Музыкант исчез в толпе, а она, занятая другими делами, почти мгновенно забыла об этой встрече. И только теперь, когда она направлялась в гостиную, чтобы поздороваться с ним, эта сцена вновь всплыла в ее памяти. Аза пребывала в некотором смущении, не зная, как принимать Лахеча и о чем с ним беседовать. Воображение возносило его на вершины — пусть и не самые высокие — героизма и незаурядности, и Аза опасалась, что этот некогда комичный, хотя и гениальный композитор теперь пожелает говорить с нею именно с этих вершин, и потому уже досадовала на себя, зачем пригласила его, тем паче не имея к нему никакого дела.
С надменным и холодным видом, чуть нахмурив брови, она встала в дверях гостиной. Лахеч сорвался со стула и приблизился к ней с покорно склоненной головой. В его запавших и по-прежнему испуганных глазах читалась немая мольба и одновременно благодарность, что она позволяет смотреть на себя, быть рядом…
— Здравствуйте.
Похоже, Лахеч даже не слышал этого банального до безжалостности приветствия. Он опустился, а верней, бросился перед нею на колени и припал лицом к ее платью. Аза, по-настоящему перепугавшись, отшатнулась.
— Что вы! Что вы делаете?
Лахеч поднял на нее печальные глаза и медленно встал.
— Простите. Я не должен был этого делать. Стоит вам приказать, и я тотчас же уйду.
Он говорил с каким-то горьким смирением; губы у него дрожали, он неловко прижимал к груди руки.
Красивые губы артистки на миг дрогнули в гримасе отвращения. Долго и холодно она смотрела на него.
— Это вы выступаете на митингах?
— Я.
— Вас разыскивают?
— Да.
— Что вам грозит?
Лахеч пожал плечами.
— Не знаю. Думаю, заключение, возможно, пожизненное в каком-нибудь работном доме.
— Придя сюда, днем, вы рискуете, что вас арестуют…
Всего какой-то миг он был в нерешительности, не зная, что ответить.
— Да, разумеется. За мной следят.
— Зачем вы пришли ко мне?
Лахеч вскинул голову, словно этот холодный вопрос оскорбил его. На его лице уже не было и следа былой робости, он вызывающе смотрел на Азу.
— Я мог бы ответить: потому что вы пригласили меня, — неторопливо произнес он, — но это была бы неправда. Я пришел, потому что мне так захотелось, потому что хотел увидеть вас — любой ценой, даже если бы за это пришлось заплатить жизнью.
Аза презрительно усмехнулась.
— Странно вы со мной разговариваете. Я могу попросить вас немедленно покинуть мой дом.
Лахеч мгновенно испугался, и на его лице вновь появилась покорность, и только глаза исступленно сверкали.
— Я люблю вас, — сдавленным голосом прошептал он. — Люблю, толком даже не зная, ни кто вы на самом деле, ни что вы сделаете с моей любовью, которая вам явно ни к чему. Я говорю вам это, потому что мне нужно объясниться. Не знаю, сколько мне еще осталось жить и увижу ли я еще когда-нибудь вас…
— Почему вы меня любите?
— Нелепый вопрос. Я ведь у вас ничего не прошу.
Аза жестом прервала его. В глазах у нее загорелся едва уловимый жестокий огонек. Она медленно опустилась в кресло и из-под чуть опущенных век смотрела на него, на губах у нее блуждала улыбка.
— А если бы я была готова… отдать вам… все?
Музыкант отшатнулся. В первое мгновение в его глазах вспыхнуло величайшее изумление и некий безумный огонек. Но он тут же опустил голову и тихо, тоном, как бы извиняющимся за смысл своих слов, произнес:
— Я тотчас бы ушел от вас.
— Ушли бы? Презирали бы меня?
— Нет. Не презирал. Я знаю, вы задали этот вопрос шутки ради, но я отвечаю совершенно серьезно. Вы позволите мне продолжать?
— Продолжайте, — разрешила Аза, и в голосе ее звучал то ли подлинный, то ли притворный интерес.
Лахеч сел на низкий табурет у ее ног и говорил, не сводя с нее глаз:
— Понимаете, до сих пор моя жизнь была сплошной упорной борьбой ради возможности творить. К чему вам рассказывать, что я вынес, какие пережил падения, поражения, сколько претерпел унижений! Все это уже позади. А сейчас…
— А сейчас музыку вы бросили, — прервала его Аза. Он покачал головой и улыбнулся.
— Нет, музыку я не бросил. Просто мне раскрыли глаза. Хотя я толком даже не знаю, кто — человек ли, протянувший мне руку, или случай. И я понял, что шел неверным путем. Чтобы творить, нужно не трудиться и подыхать с голоду, а жить!
— Жить…
— Да! Лучше я вам объяснить не сумею, не могу, не способен. Знаю только, что для меня та низменная и бесславная борьба, которую я вел, закончена. Я умираю с голоду, валюсь от усталости, я затравлен, как дикий зверь в лесу, не знаю, что будет со мной через день, через час, и однако сердце в груди у меня ликует! Когда-то я карабкался вверх, и меня пинали, а теперь сошел на самое дно и поднимаюсь! Я жил среди «цивилизованных» людей, и они меня не понимали так же, как я не понимал их, а теперь нахожусь среди «варваров» и чувствую каждое биение их сердец, стремящихся к свету, пусть через пожары и развалины, но к свету, и я знаю: они слушают и слышат мой голос. И поверьте, только сейчас в душе моей рождается великая, величайшая песнь! Если я уцелею в надвигающихся событиях, она загремит, словно буря, над смертью и разрушением, загремит таким победным гимном над завываниями людских бед, что сердца людей будут рваться от переизбытка жизни, от безумного наслаждения!
Лахеч вскочил, глаза у него пылали.
— К черту театры! — выкрикнул он. — Долой кулисы, декорации, искусственное освещение! К черту бездушный, выдрессированный и трусливый оркестр! Пусть мой гимн играет море, ветры в скалах, громы на небе, сосновые леса и степи! О, как я хочу дожить до этой моей песни, как я хочу создать ее! Я создаю уже для нее слушателей, очищаю мир, чтобы она могла, когда вырвется из моей груди, широко разгуляться по нему!
Лахеч прижал к груди сжатые кулаки, пухлые губы его приоткрылись в улыбке, обнажив белые зубы.
Аза спокойно смотрела на него из-под полуопущенных век.
— Сударь…
Лахеч опомнился и опустил голову.
— Простите. Я слишком громко говорил…
— Подойдите поближе. Вы странный человек, очень странный. В вас пылает дух. И все-таки скажите же мне наконец, какое отношение это имеет ко мне? Почему вы убежали бы, если бы я… протянула к вам руку?
Прояснившееся было лицо Лахеча вновь стало угрюмым.
— Я люблю вас.
Аза расхохоталась.
— Это я уже знаю.
— Нет, не знаете. Вам даже не представить, что это значит. Когда я думаю о вас, исчезает весь мир. О, как это прекрасно, что у меня нет никакой надежды!
Он спрятал лицо в ладонях и молча стоял так несколько секунд.
Аза смотрела на него с нескрываемым любопытством.
— Продолжайте же Я хочу все знать.
— Хорошо. Вы все узнаете.
Лахеч снова смотрел на нее, глаза его горели самозабвенным, безумным огнем, и он торопливо, лихорадочно говорил:
— Не знаю, так ли бывает всегда, когда любишь, но одновременно я ненавижу вас. Я боюсь — даже не вас, самого себя боюсь! Чувствую, что если бы я хоть раз прильнул губами к вашей руке, это был бы конец всему. Я уже не смог бы оторваться от нее.
— Можете не опасаться. Если бы было нужно, я сама вырвала бы ее у вас.
Лахеч яростно сверкнул глазами.
— Я убил бы вас.
— Это все слова.
Она начала с ним играть, как кот с мышью.
— Нет, если я говорю… Ах, если бы вы только знали, сколько раз я думал об этом, следя за вами из укрытия, пожирая вас глазами!
— Думали убить меня?
— Да. Вас необходимо убить. Вы пришли в этот мир на горе людям!
— Но ведь я умею и давать счастье И какое счастье!
По телу Лахеча пробежала дрожь.
— Да, я знаю, догадываюсь, чувствую. И именно поэтому… Безумное счастье, которое ломает, унижает.. Быть сильным настолько, чтобы решиться обвить пальцами вашу белую шею и сдавливать, сдавливать, пока не отлетит последний вздох! Но перед этим даже не коснуться вас.
Дрожь непонятного болезненного наслаждения пробежала по спине у Азы.
— А почему перед этим… не прильнуть к моим устам? Неужели вы не видите, какие они алые? Неужели не чувствуете, даже на расстоянии, какие они жаркие?
Лахеч, обессилевший от волнения, прислонился к стене и молча смотрел на Азу исступленным взором.
— А что будет, если я вас поцелую?
— Не знаю. Не знаю. Мне надо идти.
Он направился к двери.
— Останься!
— Не хочу.
— Нет, ты останешься!
— Прошу вас… Прошу вас…
— Взгляни на мои уста. Ты говоришь, это гибель? Что ж, пусть будет так. Разве ты не чувствуешь, что один мой поцелуй стоит большего, чем все дурацкие попытки спасения человечества, все битвы, все высокие слова и подвиги, большего, чем искусство и жизнь? Неужели не чувствуешь?
— Чувствую. И потому… мне надо уйти…
— Никуда ты не уйдешь. Останешься, пока я не отпущу тебя.
Лахеч ощутил на себе ее пламенный взгляд, и ноги у него стали словно ватные. У него было ощущение, будто все его мышцы расслабились, в глазах потемнело, в голове был шум и какая-то вялость… он еще успел хрипло выдавить:
— Я пойду…
Аза громко, торжествующе рассмеялась, и прежде чем он успел осознать, что происходит, припала хищными устами, что так умели изображать страсть, к его воспаленным губам.
V
Бледный тихий рассвет поднимался над Татрами. Нианатилока неподвижно, словно застыв, сидел, обратясь лицом к заходящей Луне. Он прикрыл глаза, обвил руками колени. Холодная утренняя роса покрывала его полунагое тело и каплями стекала по длинным черным волосам. Раскидистые ели тихо покачивались над ним под ветром, что временами налетал с горных вершин, уже начавших розоветь от первых лучей встающего за ними солнца. Тишина опустилась на мир; казалось, даже дальняя речушка замерла, не решаясь журчанием нарушить безмолвие этого благословенного часа.
Нианатилока, не поднимая век, чуть шевелил губами, как бы молясь Сущности всетворения.
— Здравствуй, небо, — шептал он, — здравствуй, Земля и душа моя, ибо вы все едины, сотворены помышлением и в помышлении живы…
Спасибо тебе, душа моя, что ощущаешь небо и землю, что постигла свое праначало и знаешь, что конца тебе никогда не будет! Все возвращается в море, в полноту и силу, и ни единая капля не утрачивается, даже если упадет на песок или скалу, но ей предназначается долгий путь и упорный труд.
Не сократится круговорот бренных земных событий, ибо время — ничто и жизнь вознесена над ним; не уменьшится бремя трудов и мук, ибо не на них направляет взор стремящийся к своему праначалу дух.
Будь же благословенна, душа моя, в своей предвечной, неуничтожимой и всеобъемлющей сущности за то, что ты научилась направлять взор свой по-над временем и муками бытия к морю и единому источнику всего!
Где-то с вершины скалы сорвался обломок и рухнул в пропасть, увлекая за собой лавину камней. Прогремело далекое эхо и погасло в ущельях. Солнце поднималось; в его свете уже золотились широкие осыпи над лугами и верхушками кедров, вцепившихся корнями в отвесные склоны. В сине-фиолетовой глади озера отражалось посветлевшее небо и золотящиеся вершины гор.
Нианатилока открыл глаза. Около него возле погасшего костра лежал Яцек, завернувшийся от ночной прохлады в плащ, и спал. Его волнистые волосы рассыпались по сырому мху; рукой он прикрывал глаза, из приоткрытых, чуть побледневших от холода губ вырывалось ровное сонное дыхание. Буддист долго смотрел на него, и его задумчивый взгляд был полон грустной ласки.
— Если бы ты смог выйти за пределы своего тела, — снова прошептал он, — если бы сумел понять, каков твой истинный путь… Мне кажется, что душа твоя, которую я нашел, подобна жемчужине, а я должен сделать ее каплей прозрачной воды, которая под солнцем расплывется туманом во вселенной. И вовсе не потому, что у меня есть какой-то иной долг, кроме собственного совершенствования: мне просто жаль затемненной красоты и погребенного великого могущества…
Высоко над ними чирикали скальные воробьи, клюющие зрелые семянки горных трав, а с противоположного склона донесся резкий, отрывистый свист сурка, прячущегося в траве.
Познавший три мира еще некоторое время беззвучно шевелил губами, словно безмолвно вторя мысленной молитве, потом протянул руку и коснулся плеча спящего.
Яцек мгновенно сел и потянулся. С безмерным изумлением он огляделся.
— Где мы?
— На склоне Жабего. Видишь: Мегушовецкие вершины глядятся в Морское Око.
Яцек уже был на ногах.
— Но как я сюда попал?
Словно сквозь сон забрезжило воспоминание: вчера вечером у себя дома он разговаривал с Нианатилокой о татранских лесах… Яцек потер рукой лоб. Ну да, так все и было. У него возникло ощущение, будто он уснул за рабочим столом, а потом ему снился костер в хвойном лесу и месяц, плывущий над вершинами гор… Значит, это ему снилось, а сейчас…
Яцек оглядел себя. Плащ соскользнул с его плеч. Он был в обычном городском костюме, в котором вернулся вчера вечером домой. Яцек оглянулся: нет ли рядом его самолета, в котором индус мог привезти его, спящего, сюда. Но вокруг было пусто; осенние травы, покрытые обильной росой, стояли непримятые; незаметно было, чтобы по ним ступали, словно они с Нианатилокой прошли сюда, не коснувшись ногами земли.
— Как я здесь оказался? — повторил Яцек.
— Мы вчера разговаривали о Татрах, — несколько уклончиво произнес Нианатилока. — Ты замерз. Пойдем погреемся внизу в хижине.
Яцек не стронулся с места.
— Разве разговора о чем-то достаточно?
— Нет. Нужно думать. Дух сотворяет себе окружение, какое хочет. Воображение является единственной истиной.
— Выходит, ты своей волей перенес меня сюда?
— Не думаю, брат, чтобы это было именно так, как ты говоришь. Мне представляется, если брать в абсолютных категориях, что. мы находимся там, где и были. Изменилась только реальность ощущений.
Говоря это, Нианатилока шел вперед, раздвигая нагими коленями густые травы и стряхивая головой капли росы с веток елей. Яцек в молчании следовал за ним и машинально искал хоть какую-то лазейку для себя, чтобы разумом понять и объяснить это непостижимое перемещение с далекой мазовецкой равнины в самое сердце татранских гор. Он несколько раз ущипнул себя, чтобы убедиться, что не спит, пробовал выстраивать тончайшие логические умозаключения, требующие совершенной трезвости мысли.
Раздался голос Нианатилоки:
— Тебе не хочется остаться здесь? Вчера у себя в кабинете ты говорил, что это единственное место, где ты мог бы жить в ладу с собой и спокойно мыслить.
— Боюсь, я еще не дозрел до этого, — пробормотал Яцек. — Меня охватывает страх при одной мысли…
Все окружающее он видел поразительно четко и ясно, и только одно удивляло его: когда он открывал рот, его голос доносился к нему словно бы издалека. Яцек почувствовал, что Нианатилока остановился и внимательно смотрит на него, и его охватил стыд, как бы своими колдовскими глазами индус не прозрел его затаенную мысль. Укрывая лицо от взгляда Нианатилоки, он наклонился и сорвал растущую у ног веточку горечавки, усыпанную темно-синими цветами.
«Аза написала в письме, что сегодня будет у меня», — думал он.
И ему стало жалко, что он находится не у себя в кабинете, хотя вчера готов был бежать, стоило ему вспомнить про ее визит.
Он выпрямился, держа в руке сорванную веточку, и поднял глаза.
И в тот же миг от изумления, граничащего с ужасом, у него сжалось сердце.
Он был у себя в кабинете среди знакомых книг и картин и стоял около стола.
— Нианатилока!
Никто ему не ответил, он был один. Шторы на окнах были подняты; в комнату лился холодный утренний свет, долетал шум проснувшейся улицы.
— Приснилось! — с облегчением прошептал Яцек и поднял руку ко лбу. — Видимо, вчера за разговором я заснул, сидя в кресле…
Яцек вздрогнул. В поднятой руке он держал свежую веточку горечавки, еще покрытую каплями росы.
От испуга и неожиданности он разжал пальцы, веточка упала на ковер у его ног. Он опустил глаза и обнаружил, что обувь у него мокрая и испачканная. На черной коже отчетливо выделялись прилипшие листики брусники и сухие еловые хвоинки. А от одежды исходил терпкий запах смолистого дыма, словно он провел ночь у костра.
Яцек осторожно подошел к креслу и медленно опустился на него.
«Чем же является все то, что мы видим, — размышлял он, — чем является так называемая реальность жизни, коль я сижу тут с горным цветком в руке и попросту не понимаю, что произошло и как это стало возможно? Нианатилока говорил мне — выходит, это не сон?! — что в подобных случаях не мы перемещаемся с места на место, но дух по своему желанию создает соответствующее окружение. Но ведь несколько минут назад не дух мой был в Татрах, но тело и даже вот эта одежда, влажная от росы, с прилипшими травинками, пахнущая смолистым дымом горевшего всю ночь костра. Существует какая-нибудь теория, способная обосновать всю эту неразбериху, эту путаницу в событиях? Лорд Тедуин доказал, что физический мир существует как иллюзорная видимость, однако он вовсе не отрицает, что все происходящее подчиняется точным законам, не вырывает из глубины людских душ убежденности в нерушимости порядка возникновения и существования… Я же ничегошеньки не понимаю, совершенно ничего!»
Он сжал голову руками и молча сидел, стараясь ни о чем не думать.
У него за спиной в стене звякнуло в металлическом ящике, куда ему направляли из центрального управления утреннюю почту. Яцек встал и, чтобы хоть немного отвлечься от мучительных мыслей, нажал на кнопку, открывающую этот почтовый ящик. На столик выпала пачка бумаг; в основном тут были небольшие карточки, на которых были написаны фамилия, номер и час, когда отправитель желал бы поговорить по телефону с его превосходительством. Яцек быстро перебирал карточки, совершенно не думая о том, что делает. Вопреки его желанию мысли упрямо возвращались к событиям минувшей ночи и никак не могли сосредоточиться на важных и не слишком важных сообщениях, доставленных по почте.
И все-таки одно письмо привлекло его внимание. Это был ежедневный отчет руководителя заводов, которым он поручил построить по собственным чертежам новый «лунный корабль». Директор доносил, что работа идет медленно, но уверенно и что месяца через два-три он надеется передать Яцеку корабль, полностью готовый для путешествия.
Через два-три месяца! Яцек недовольно потряс головой.
Нет, так долго ждать он не может. Если Марк на Луне нуждается в его помощи, задерживаться просто нельзя, и к тому же кто знает, что может произойти здесь за эти два-три месяца. Неужели нет иного средства отправиться на Луну, кроме корабля, выбрасываемого в пространство сжатым газом?
Он оглянулся. В кресле сидел Нианатилока, как всегда молчаливый и невозмутимый. Яцек уже привык к тому, что индус неожиданно появляется непонятным образом в разных местах и чаще всего тогда, когда он о нем думает, и подошел к нему, не выказав ни малейшего удивления.
— Ты как-то говорил, — начал он без всякого вступления, — что для воли нет ни малых, ни больших преград и что если она преодолела хотя бы миллиметр пространства, то преодолеет и тысячи миль.
— Да, я так считаю.
— Сегодня ночью мы были в Татрах, не покидая якобы дома…
— Да, я так полагаю.
— Но мы действительно были там! На столе у меня лежит свежая цветущая веточка горечавки. Я уверен, что сорвал ее сегодня утром на склоне Жабего… Нианатилока!
— Слушаю тебя, брат.
— Я хочу оказаться на Луне — сегодня, через час, немедленно! Хочу оказаться не во сне, но в действительности, как этой ночью в Татрах, и хочу иметь возможность там действовать.
— Не уверен, что тебе удастся это сделать.
— Тогда сделай ты! Помоги мне!
Нианатилока решительно покачал головой.
— Нет.
— Почему? Ну, пожалуйста! Прошу тебя!
— Не сейчас.
— Значит, ты просто не можешь этого сделать! Значит, вся твоя мудрость, все твое могущество ограничивается умением делать фокусы, наводить галлюцинации.
Яцек осекся. Ему стало стыдно за свои слова, и он с опаской взглянул на Нианатилоку. Буддийский мудрец, чуть улыбаясь, снисходительно смотрел на него.
— Прости! — шепнул Яцек.
— Мне не за что тебя прощать.
— Я поддался гневу… — виновато произнес Яцек, опустился в кресло и сказал: — А вообще-то забавно: я так разговариваю с тобой, словно ставлю в вину тебе, что ты не способен творить чудеса.
И он снова осекся, вспомнив, что все, что неоднократно уже проделывал на его глазах Познавший три мира, было чудом и никак не меньше.
— Ничего не понимаю, — вполголоса пробормотал он, хотя говорил сам с собой.
Лицо у Нианатилоки посерьезнело.
— И все-таки, брат, ты легко и просто понял бы это, если бы захотел.
— Ты творишь чудеса!
— Нет, чудес я не творю. И никто не творит чудес по той простой причине, что господство духа над видимостью не является чудом и не выходит за пределы законов предвечного Бытия. И если я отказываю тебе…
— То почему? — прервал его Яцек.
— Выслушай меня.
Нианатилока пересел ближе к Яцеку, положил обе руки на подлокотники кресла и начал говорить, не сводя глаз с молодого ученого.
— Ты хочешь немедленно попасть на Луну, потому что ты получил известия о своем друге. Я однажды уже помог тебе мыслью побывать там и увидеть очами души, чем он занят, но тебе этого недостаточно. Ты хочешь быть там в бренной оболочке, которую называешь своим телом, чтобы иметь возможность производить определенные движения, одним словом, совершать действия в том смысле, в каком ты в настоящий момент понимаешь действие. Не думаю, что все это тебе необходимо и поможет твоей душе, а ни о чем другом речи и не должно идти.
— Напротив, речь должна идти о моем друге, который, возможно, нуждается в помощи.
— Чем же ты ему поможешь? Может, возьмешь с собой свою смертоубийственную машину и уничтожишь Луну, чтобы спасти его, если ему и вправду что-то угрожает? Да и знаешь ли ты, что там в действительности происходит? Ты вчера при мне разговаривал с карликами, и из беседы с ними я заключил, что твой друг Марк то ли намеренно, то ли вопреки своим желаниям вмешался в судьбу лунного народа и своим участием воздействует на историю. Так что же ты собираешься сделать? Прилететь и помочь ему, чтобы на Луне как можно скорей все стало таким же, как на Земле? Неужели ты считаешь, что ваши здешние порядки настолько уж хороши?
— А вдруг Марка нужно спасти от опасности? — уклончиво заметил Яцек.
— Зачем? А если такова его судьба, бремя которой он возложил на себя? Не препятствуй ему погибнуть, потому что, возможно, это и нужно ему. Ты уверен, что твой друг, живой, собственными руками сможет совершить больше, нежели блистательная легенда о нем, которая будет передаваться из поколения в поколение? Или ты хочешь в самом зачатке уничтожить ее? Разрушить? Не дать ей возникнуть? Нианатилока подошел к Яцеку, который сидел, опустив голову, и положил ему сзади обе ладони на плечи.
— Послушай меня. Не думай о Луне, выбрось из головы все эти далекие планеты — ты очень скоро познаешь их все. Не препятствуй тому, что совершается, даже если у тебя есть сила сделать это. Да, даже если у тебя есть сила! Нельзя ничему препятствовать, ибо главное не в том, что творится вокруг, но в том, к чему мы стремимся внутри себя.
Яцек поднял голову. Нианатилока стоял у него за спиной, но он не повернулся к мудрецу, он напряженно смотрел на стену, где висели несколько портретов.
— Откуда ты знаешь, а вдруг дело во мне? — бросил он. — Может, я попросту хочу убежать?
— Ты никуда не убежишь. Всему нужно научиться смотреть в лицо и все пройти, не отворачиваясь. Без принуждения и даже без радости. Нужно быть собой.
Нианатилока еще ниже склонился к Яцеку. И Яцек уже не мог понять, то ли он слышит его голос, то ли шелест собственных мыслей, которым дал толчок этот непостижимый человек.
— Все достигается только тогда, когда ничего не жаждешь, ничего не желаешь. Надо стать бесстрастным, как вселенная, беспечальным, как свет, не исследовать, но знать — как Божество!
Мысли Яцека устремились куда-то в неопределенную, смутную даль.
Знать, а не исследовать!
Стать творцом собственной истины, которая будет одновременно и истиной всей вселенной, что сосредоточилась в человеке.
Творцом, а не искателем чужих истин, которые оказываются ничем, пустотой, видимостью!
А собственная истина — это вера!
Любая вера, лишь бы творческая, прочная, сотворенная в душе и бесспорная — становящаяся тем самым неколебимой истиной!
Это означает: знать, а не исследовать!
Мыслить, а не сомневаться.
Творить, а не искать.
Не покоряться, а чувствовать, не вожделеть, а желать!
Но где путь к подобному чуду?
Нианатилока однажды сказал:
«Нужно научиться быть одиноким среди толпы и суеты, ибо вы еще не умеете быть одинокими в глухих лесах».
Сказал он это над Нилом, когда Аза возвращалась из развалин храма Исиды.
— Ваше превосходительство…
Яцек вскочил с кресла и обернулся. В дверях неподвижно застыл лакей.
— В чем дело?
— Мы беспокоились, потому что ваше превосходительство ночью не спустились в спальню…
Яцек нетерпеливо махнул рукой.
— Какие-нибудь известия?
— Госпожа Аза…
— Приехала?
— Так точно. Сегодня утром экспрессом. Мы хотели разбудить ваше превосходительство, как вы распорядились, но в спальне вас не было, а сюда мы не осмелились войти.
— Где госпожа Аза?
— Ее проводили в приготовленные для нее комнаты. Она велела передать, что через час будет завтракать и надеется увидеть ваше превосходительство.
Лакей вышел, и Яцек взглянул на Нианатилоку. Он пристально всматривался в индийского мудреца, пытаясь понять, какое впечатление произвело на того сообщение о приезде знаменитой певицы, однако лицо Познавшего три мира, как всегда, было спокойно, безмятежно, невозмутимо. Даже обычная улыбка не исчезла с его губ, в глазах не было ни гнева, ни печали, ни даже снисходительности.
— Брат, ты, наверно, спустишься вниз? — осведомился он безразличным тоном.
Аза уже ждала в столовой и чувствовала себя свободно, как в собственном доме. Она сменила дорожный костюм, надела легкое утреннее платье и сидела с ароматной египетской сигареткой в глубоком кожаном кресле с подлокотниками. Перед нею на столе, накрытом старинной цветастой льняной скатертью, сверкала серебряная чайная посуда, стояли тяжелые резные хрустальные вазы с фруктами и сладостями. Отодвинув недопитую чашку китайского чая и откинув голову на спинку кресла, она следила, сощурив глаза, за голубой струйкой табачного дыма, поднимающегося к резному потолку. Она положила ногу на ногу, и из мягких складок светлого шелка выглядывали тонкие, крепкие лодыжки, обтянутые блестящими черными чулками, и маленькие золотые туфельки.
После визита Лахеча и его неожиданной смерти Аза бросила свой дом, в котором, по правде сказать, разъезжая все время по свету, она и без того была нечастой гостьей. Странное все это произвело на нее впечатление. Люди из-за нее умирали неоднократно — и у нее под дверями и далеко, якобы убежав от нее на край света; умирали и тихо, без единого слова, без единой жалобы, без упреков, и оповестив предварительно многостраничным письмом, в котором сообщали день и час, когда они покончат с собой, обвиняли ее или лицемерно, шутовски благословляли за «горькое счастье», какое она им подарила, однако она горевала из-за этого ничуть не больше, чем из-за потерянной шпильки или сломавшейся корсетной пластинки.
А вот о Лахече она не могла думать спокойно. Всякий раз, стоило выйти из дому, ей казалось, будто она видит у дверей на улице его скорчившийся труп с поразительно белым, искаженным предсмертной мукой лицом, который непонятно зачем принесли к ее дому.
При одном воспоминании об этом она вновь содрогнулась. Ведь она знала, что Лахеч погиб ради нее и из-за нее.
Правда, противясь смутным угрызениям совести, Аза всячески отгоняла эти мысли. Ведь она ничего худого ему не сделала, так чего же он от нее хотел? Да, она довела его безумными поцелуями до утраты рассудка, а в последний момент, когда он осмелился покуситься на большее, оттолкнула его, как собаку. Но разве это причина лишать себя жизни или еще хуже — добровольно и неприкрыто нарываться на смерть?
В памяти у Азы встали его глаза — в первый миг полные изумления и страха, а потом ужасающе скорбные и словно погасшие…
Со сложенными руками он лежал на ее коленях и тянул к ее лицу голодные губы, казавшиеся в этот миг почти красивыми. Она велела ему кощунствовать — проклинать свое искусство и то возрождение через действие, которым он так хвалился; он должен был громогласно отречься от всего, что недавно осмелился сказать против нее, и признать, что он перед нею — ничто, и все в мире — ничто в сравнении с одним-единственным ее поцелуем.
Господи, она даже не оттолкнула его, когда он, охваченный любовным безумием, протянул к ней руки, чтобы обнять; она хлестнула его взглядом и ледяными словами: «Ты ничто для меня».
Уходя от нее, он произнес: «Нет, не потому, что я не обладал тобой… Я целовал тебя в уста и оттого потерял веру в себя… »
Смешная история!
Аза бросила докуренную сигаретку в пепельницу и вытянула ноги в золотых туфельках по пушистому ковру. Она злилась на себя за то, что продолжает думать об этом, как она считала, ничтожном и не заслуживающим внимания событии, и тем самым подтверждает свою глубинную душевную слабость, меж тем как должна быть сильной, сильной и безжалостной, словно кроющаяся в ветвях дерева рысь, властительница леса.
Аза обернулась на звук открывавшейся двери. На пороге стоял Яцек, побледневший чуть более, чем обычно; он поклоном приветствовал ее и извинился за опоздание. Не вставая, Аза протянула ему левую руку, холеную, с длинными розовыми ногтями. Яцек склонился к ней и прикоснулся чуть дрожащими жаркими губами; в этот миг Аза подняла глаза, бросила взгляд на дверь и с изумлением увидела стоящего в ней полунагого буддиста. Она широко раскрыла глаза, и холодок необъяснимого страха пробежал у нее по телу. Ей почудилось, что она откуда-то знает это лицо, да, знает и очень хорошо…
Она медленно поднялась; удивленный Яцек чуть отступил в сторону, а она смотрела во все глаза и напрягала память.
Постепенно, постепенно стало возникать смутное воспоминание из давнего детства: огромный наполненный людьми зал, ярко освещенная арена и эти же самые руки с длинными чуткими пальцами, которые она сейчас видит на ручке двери, и это же лицо, обрамленное длинными черными волосами…
И поет волшебная скрипка, превращенная прикосновением этих вот рук в живой ангельский хор. А она, девочка, чувствует, как у нее в груди замирает сердце от игры величайшего музыканта, несравненного скрипача, властелина струн, золота и сердец, обожаемого, прославленного, всемогущего, любимого, богатого, прекрасного, как бог…
— Серато!
Познавший три мира едва заметно склонил голову.
— Да, когда-то я действительно носил это имя, — ничуть не удивясь, подтвердил он обычным ровным голосом.
VI
Днем и ночью Рода размышлял, как бы избежать грозящей опасности. Он не собирался лететь вместе с Яцеком на Луну и поклялся себе сделать все, но не допустить этого путешествия. Правда, он отдавал себе отчет, как ничтожно мало это «все», на которое он способен, как слабы его возможности, и трясся при мысли о своем появлении вместе с Яцеком в городе у Теплых Прудов.
И не столько даже угнетала его вероятность мести за Марка со стороны ученого, которому он, несмотря на всю его снисходительность к себе, не слишком доверял, сколько боязнь позора, какой вне всяких сомнений ждал его на Луне.
Нет, то была бы и впрямь невероятная ирония судьбы! Он, Рода, глава Братства Истины, который всю жизнь опровергал «сказки» о якобы земном происхождении обитателей Луны, теперь возвратится с Земли и должен будет признать, что она не только обитаема, но и бесконечно превосходит Луну по части удобства и совершенства жизни!
Дело в том, что Рода стал страстным поклонником земной культуры, особенно технической. Он уже неплохо ознакомился с нею, по крайней мере в ее внешних проявлениях. Яцек, так и не изменивший своего намерения взять обоих «посланцев» с собой на Луну и обратно, хотел, чтобы до отлета они получили как можно больше пользы от пребывания на Земле, и нанял гидов, с которыми карлики посещали разные страны и города, знакомились с ними и ежедневно узнавали что-то новое.
Поначалу Рода ездил вместе с Матаретом, но потом ему удалось уговорить Яцека избавить его от общества своего соотечественника. С того достопамятного дня, когда Матарет рассказал всю правду, отношения у них ухудшились до такой степени, что они перестали разговаривать друг с другом; исключения составляли оскорбления и попреки, которыми они время от времени перекидывались. В поездках их отношения обострились еще больше, если только такое возможно. Они смотрели на мир разными глазами; Матарет, отдавая должное чудесам земного прогресса, и здесь продолжал оставаться скептиком, не закрывающим глаза и на оборотную сторону медали. Тогда как Рода всем восхищался и все хвалил, Матарет, познавая земные порядки, все чаще иронически усмехался и пожимал плечами, когда его спрашивали, согласен ли он, что жизнь здесь устроена лучше и совершенней, чем на Луне. По этой причине между обоими членами Братства Истины вспыхивали ожесточенные споры, которые в конце концов стали до того невыносимы, что их пришлось разделить.
Лишившись общества Матарета, Рода чувствовал себя немножко одиноко, однако то, что он видел и узнавал, настолько поглощало его, что он все реже и реже вспоминал про своего товарища.
Знания он поглощал с охотой и в огромном количестве. Переимчивый от природы, он на лету схватывал внешние признаки земных порядков и вскоре уже неплохо ориентировался в существующих в обществе отношениях. А поскольку его неизменно тревожила мысль о возможном и совершенно нежелательном возвращении на родную серебряную планету, он и в них искал возможного выхода.
Поначалу четкого плана у него не было, но в голове уже возникали смутные очертания, из которых со временем могло что-то сложиться.
Во время разъездов он узнал, что на Земле все явственней поднимается брожение, что оно усиливается, а дом его опекуна является неким узлом всех этих событий. Ему потребовалось относительно немного времени, чтобы догадаться, что все дело в секрете какого-то страшного и безмерно важного изобретения, обладание которым может обеспечить человеку, получившему его, безнаказанность, могущество и власть.
Рода сообразил, что целью нескольких визитов Грабеца было стремление заполучить тайну и что этим же можно, вне всяких сомнений, объяснить столь длительное пребывание Азы в доме ученого.
Но вопреки давним своим привычкам, Рода молчал, высматривал и выжидал.
«Придет и мой час, — думал он. — Я сумел похитить корабль у Марка, украду и у этого, как только появится возможность, его устройство».
Этот прибор и вправду интересовал всех. После странной, необъяснимой смерти Лахеча Грабец потерял важное орудие для исполнения своих планов и потому все сильней давил на Азу, требуя, чтобы она поторопилась. Ему необходимо было иметь в руках страшную, всеуничтожающую мощь, чтобы ставить условия обществу, всему миру, одним словом, чтобы победить без борьбы.
Дело в том, что когда Грабец в спокойные минуты начинал размышлять, его охватывал страх перед бурей, которую он вызывал. Он расшевелил подземные силы, швырнул головню в огромные массы замкнувшихся в отупляющем труде рабочих и теперь испугался взрыва, увидев, какой поднимается, вздувается, растет девятый вал. Он хотел это море взять как бы на сворку и в интересах хранителей знаний мира напустить его на гнусное цивилизованное стадо, но очень скоро почувствовал, что стоит тому разбушеваться и вырваться, никакой власти оно уже не подчинится, никакая сила не загонит его обратно за разрушенные плотины.
В один из осенних дней, после того как они с Юзвой за несколько часов облетели значительную часть страны, посетив по пути центры движения, кое-где раздув уже занявшийся огонь, а в иных местах разожгли, они опустились на выжженный солнцем холм над вечным городом. Некоторое время они продолжали разговор о насущных делах ширящегося движения, но слова все ленивей срывались с их уст, и наконец оба умолкли, любуясь чудесным городом, распростершимся у них под ногами.
Золотое солнце висело на небе, и даже воздух, казалось, насыщенный световой пылью, слепил глаза. А внизу, окутанный голубовато-золотистым маревом, мерцающим опаловым туманом, что размывал и затирал черту окоема, дремал любимый город Грабеца, единственный, вечный, царственный Рим.
Там, далеко к северу, на востоке и на западе, существовали два центра жизни, два пульсирующих золотой и багряной кровью сердца европейского континента: Париж и Варшава. Два чудовищных узла всевозможных сетей и дорог, два средоточия того, что толпа привычно именовала культурой, гигантские полипы, высасывающие тысячами отростков соки всей земли, столицы правителей и торговцев, центры развлечений, греха, подлости, бездарности. По образцу обоих крупнейших городов развивались, росли, видоизменялись, не поспевая, впрочем, за ними, давние столицы бывших европейских государств, огромные, чудовищные, кишащие толпами и все равно отодвинутые этими двумя «солнцами» в разряд второстепенных.
Рим же остался тем, чем был столетия назад — единственным городом. Каким-то непостижимым чудом он спасся от все нивелирующей варварской руки «прогресса и цивилизации». На Форуме по-прежнему высились руины, над остатками золотых домов на Палатинском холме раскачивались под ветром старые кипарисы, и под апельсиновыми деревьями цвели пунцово-кровавые розы.
В соборе Святого Петра по-прежнему звонили колокола, а в Ватикане седой старец в тройной тиаре, немощной, дрожащей рукой осеняя крестным знамением безлюдную площадь, вспоминал времена, когда отсюда его предшественники одним мановением пальца приводили в движение народы Земли и принуждали к покорности могущественных монархов.
А на Капитолии, на Квиринале, в тысячелетнем Латеранском дворце, в исполинских руинах былых терм, театров, цирков, во внутренних галереях базилик, в зданиях, помнящих зарю Возрождения, в садах, на площадях, на фонтанах стояли белые изваяния давным-давно не чтимых богов, обломки мраморных снов, осколки давно минувшей бурной, творческой юности.
Этот единственный город Грабец мечтал сделать надменной столицей духовно возрожденного мира.
Склонив голову, он смотрел на сотни залитых солнцем вздымающихся куполов, покрытых зелено-золотой патиной столетий, на стройные древние обелиски, на выщербленные стены цирка Флавиев.
В этом городе, пережившем тысячелетия и не посчитавшем нужным меняться по примеру иных городов, ощущалось спокойное и суровое достоинство.
Грабец погрузился в мечты.
Там на севере, на востоке или на западе пусть остаются гигантские современные «метрополии», центры труда, движения, ничтожных будничных забот, пусть они роятся, как ульи, пусть грохочут, как кузницы, лишь бы шум их не долетал до границ раззолоченной солнцем и осенью Кампаньи, лишь бы не нарушал задумчивую тишину под кипарисами на руинах. Здесь будет мозг и душа человечества, непреходящий храм «земных богов», обитель и столица всеведущих, которые одновременно будут и властелинами мира
В давние времена, когда в мраморных дворцах на Палатинском холме жили цезари, со всей ойкумены в этот город везли пшеницу, вино и масло, драгоценные металлы и каменья, рабов, женщин и даже богов; вся ойкумена служила ему, покорялась его воле, смыслом своей жизни почитая существование, расцвет и блеск этого единственного города.
И теперь это должно повториться. Все самое лучшее, что только есть в странах, землях и морях, будет стекаться сюда; здесь вновь будет центр мира, его мысль и воля.
По всем континентам, по дальним морским островам разойдется весть, что существует священный город, вход в который дозволен лишь избранным. Словно старинную восточную сказку, будут рассказывать о нем матери детям, что, дескать, там обитает все могущество, вся красота мира, там средоточие света, мудрости и жизни, а в неприступных его стенах такие высокие ворота, что для того, чтобы войти в них, нужно не сгибаться, а, напротив, вырасти под стать им.
О возлюбленный город, город мечты!
Хриплый отрывистый смешок вырвал Грабеца из задумчивости. Он резко обернулся и взглянул на Юзву.
Тот стоял, опершись стиснутыми кулаками на древний, потрескавшийся и уже вросший в землю саркофаг, нахмуря брови и наклонив голову, словно готовился нанести удар.
— Юзва, это ты смеялся?
Юзва вскинул голову.
— Ну, я. А что?
Он широко повел рукой.
— Уж больно смешно думать, что после нашей бури здесь останутся только бесформенные развалины да камни, которые порастут травой, потом кустарником, а потом лесом. Ух, мы им покажем, покажем этим дворцам, что простояли столетия, этим сводам, залатанным цементом, этим колоннам, скрепленным внутри железными прутьями! Ох, как будут рассыпаться в пыль эти купола! Тут будет землетрясение, какого от сотворения мира еще никто никогда не видел!
Он опять хищно рассмеялся, а потом поворотился лицом к Грабецу и бросил:
— Послушайте, Грабец, что-то вы все виляете. Как там обстоят дела с этой машиной Яцека?
У Грабеца не было никакого желания отвечать ему. Последние лучи заходящего солнца, одарившие город как бы ореолом, похожим на королевскую корону, вдруг сменились в его глазах заревом пожаров; ему почудилось, будто он видит, как рушится вечный Рим и дикая, стократ более страшная, чем давние орды варваров, чернь несется по пожарищам, по руинам — неудержимая, бешеная…
Только когда Юзва вторично и уже настойчивей повторил вопрос, Грабец перевел взгляд на него.
Какой-то миг он был в нерешительности: сказать ли ему правду, что если страшное изобретение Яцека окажется в его, Грабеца, руках, то использовано оно будет как для победы над обществом распоясавшегося человеческого ничтожества, так и для того, чтобы удержать в границах и… ввергнуть в новое рабство разбушевавшиеся на один день массы рабочих. А что, если действительно сказать ему это прямо и откровенно? И еще добавить, что, пока он жив, скорей все погибнет на свете, но ни один камень не упадет с вершин этих древних колонн?
Грабец смотрел на Юзву и прикидывал, какое это произведет впечатление. Скорее всего, услышав его откровенное признание, Юзва даже не возмутится, не впадет в гнев, а лишь расхохочется, показывая белые, крепкие, хищные зубы, всецело уверенный, что неодолимая, могучая сила, которую он ведет, принесет гибель и разрушение.
— Я послал к Яцеку Азу, — внешне спокойно и невозмутимо бросил Грабец, отвернувшись от Юзвы. — Она сделает, что сможет.
— Экая глупость! — пренебрежительно процедил Юзва. — Не понимаю этих полумер. На кой было посылать женщину да еще актриску? Что она сможет? Проще было разгромить его дом в Варшаве и силой взять, что нужно.
— Не следует забывать, что Яцек может защищаться. Одним движением пальца он способен взорвать весь город.
У Юзвы засверкали глаза.
— Вот это было бы здорово! Неплохое начало! Варшава, Париж, а потом и другие, меньшие язвы на зараженном теле Европы.
— На это еще черед не пришел, — как бы самому себе промолвил Грабец. — Если бы это случилось, вместе с Варшавой погибла бы и тайна смертоносной машины Яцека.
— Ну и что?
— Нужно, чтобы он добровольно выдал нам свое изобретение, тем более что без его указаний мы, вероятней всего, не сумеем им воспользоваться.
Юзва махнул сильной жилистой рукой.
— Это в сущности и ни к чему, — произнес он секунду спустя. — Пусть провалятся к дьяволу все мудрецы вместе с их машинами! У меня имеются неисчерпаемые склады самых мощных и живых взрывчатых материалов. Как только все мои люди выйдут да заведут танец, душой клянусь вам, Грабец, от этого прекрасного мира не останется ни следа, ни воспоминания.
Грабец уже открыл рот, чтобы ответить, но в тот же миг понял, что любые слова окажутся бессмысленны и бесполезны. Он посмотрел Юзве в глаза, пылающие яростной, неукротимой ненавистью ко всему, что было и есть — потому только, что оно было и есть, — и впервые в жизни испытал леденящий страх. Какой-то миг он думал, а не вонзить ли безопасности ради нож в эту широкую грудь, но тотчас же возмутился против этой подлой и трусливой мысли. Это было бы все равно, как перед плаванием разбить корабль, направляющийся в новые земли, из опасения, что мудрость и опытность кормчего окажется недостаточной, когда разыграется буря.
Он пристально смотрел на Юзву. Нет, Юзва вовсе не тупой и ослепленный человек, исходящий ненавистью только потому, что родился и жил в тяжелых условиях и был обречен судьбой на тяжкую, отупляющую физическую работу. Юзва получил в общественной школе прекрасное образование, и его по причине больших способностей намеревались отправить за государственный счет в Школу мудрецов, однако он внезапно исчез, как сквозь землю провалился.
О пропавшем человеке в сумятице жизни забывают очень быстро, и вскоре никто уже не помнил, что Юзва существовал, а уж тем более никого не интересовало, куда он подевался. А он, придя к убеждению, что все существующее скверно, в поисках силы сошел в самые низы и копил мощь, обуреваемый единственным безумным желанием все уничтожить.
— И все же странно, что я встретился и познакомился с ним, — прошептал Грабец и обратил взгляд на кроваво-красное закатное солнце, висящее над Римом.
VII
Нианатилока медленно покачал головой и улыбнулся.
— Нет, — говорил он, не глядя на Азу, как будто не ей отвечал на вопрос, — ни от чего я не отрекался, не пережил никаких разочарований, ни из-за чего не ожесточился.
Яцек бросил:
— Тогда почему же?
Он тут же осекся, устыдившись, что спрашивает, хотя сам должен был бы понять.
Нианатилока поднял на него спокойный, ясный взгляд.
— Того мне уже было мало. Я пошел дальше. Я хотел жить.
— Жить… — как эхо, прошептал Яцек.
В одно мгновение в памяти у него воскресло все, что он слышал еще в детстве об этом поразительном человеке, и соединилось с тем, что знал о нем теперь.
«Я хотел жить», — сказал Серато-Нианатилока, чье имя некогда было синонимом самой жизни, буйной силы, счастья, наслаждений, власти.
В ту пору он был всеобщим идолом. Стоило ему появиться со своей волшебной скрипкой, и люди, словно обезумев, падали перед ними на колени, а он делал с ними, что хотел. Если и можно сказать об артисте, что он властвовал над толпой, а не служил ей своим искусством, то, вне всяких сомнений, только о нем. Когда он исполнял свои знаменитые, несравненные, неповторимые импровизации, публика становилась подобна прибрежному тростнику: одним взмахом смычка, одним движением пальца он бросал людей из сумасшедшей радости в печаль и скорбь, нашептывал им волшебные сказки, пугал и повергал в ужас или же превращал ничтожных небокоптителей в буйных, мчащихся с вихрями богов, властелинов жизни.
Припомнилось Яцеку, что говорил о Серато один епископ, ныне покойный:
— Этот человек, захоти только он, мог бы своей скрипкой создать новое откровение, и люди пошли бы за ним, даже если бы он вел их в ад.
Епископ произнес это со страхом и осенил себя крестным знамением, а в глазах Яцека, тогда еще совсем ребенка, скрипач вырастал до размеров фантастических, сверхчеловеческих, став как бы олицетворением величия, властительности, царственности, избранности.
Сказать, что Серато был богат, значит, ничего не сказать, поскольку это слово не дает и слабого представления о тех реках золота, что протекали у него сквозь пальцы. Не было такой фантазии, какую он не смог бы осуществить, такого безумного плана, какой не сумел бы превратить в реальность. Один-единственный концерт приносил ему больше, чем составляли цивильные листы королей и императоров в те времена, когда они еще царствовали в Европе.
Красивый, сильный, беззаботный, пышущий здоровьем и жизнью, он полной чашей пил радость бытия, и поистине не было того, в чем отказала бы ему судьба. Женщины, глядя на него, дрожали, и он мог выбирать среди них, точь-в-точь как султан из «Тысячи и одной ночи», уверенный, как этот султан, что ни одна не отвергнет его призыва, даже зная, что наутро ее ждет смерть от его руки.
Никто никогда не видел Серато грустным или угнетенным; о нем говорили, что он смеется так, как солнце светит на небе. И когда в один прекрасный день разнеслась весть, что Серато внезапно, при загадочных обстоятельствах исчез, все, разумеется, заподозрили преступление и долго искали его следы; никому и в голову не могло прийти, что он сам, добровольно отринул жизнь, которую до сих пор пил жадными устами из полной чаши.
Яцек невольно поднял глаза и бросил взгляд на лицо сидящего перед ним отшельника.
И это он! Серато!
Нианатилока, Познавший три мира…
Полунагой, невозмутимый, живущий хлебом милостыни, но божественный…
«Я хотел жить», — сказал он.
Хотел жить!
Чем же было то прежнее, то безумное буйство искусства, любви, славы? Неужели же это не было жизнью, которая иногда летучим огнем вспыхивает в его, Яцека, мозгу, истомленном мудростью? И возможно ли было, обладая всем этим, так легко и бесповоротно все бросить?
— И тебе не жаль?
Бывший скрипач поднял голову.
— Чего? Неужели, глядя сейчас на меня, ты способен допустить, что я оставил позади что-то такое, о чем сегодня мог бы пожалеть? Я ни от чего не отступился, ничего не отринул, а лишь пошел дальше и выше. Та жизнь могла, конечно, чего-то стоить, но то, чем я обладаю сейчас, стоит несравненно больше. У меня была слава, богатство, власть. Какое имеет значение, что тогда думали обо мне другие, по сравнению с тем, что взамен я без чужой подсказки ныне знаю, кто я такой и чем являюсь в этом мире? Сейчас я тысячекрат богаче, чем был тогда, ибо не желаю ничего, что может быть исполнено другими, а вместо власти над ближними обладаю всецелой властью над самим собой.
— А искусство? — спросил Яцек. — Ты не тоскуешь по нему?
Нианатилока улыбнулся.
— Какая внешняя гармония, пусть даже самая совершенная, может сравниться с той настроенностью души, какой я достиг? Какая творческая сила артиста — с убежденным сознанием, что я сотворил свой мир и, пока хочу, удерживаю его?
Он встал и подошел к Яцеку.
— Впрочем, совершенно незачем об этом говорить, когда есть множество вещей, куда более важных, — заметил он. — Не стоит думать о том, чем был человек, а то не хватит времени подумать, чем он может быть. Причем каждый, каждый без исключения, если только захочет.
Яцек рассмеялся.
— Вот видишь, кто захочет! Кто найдет в себе сил разом отказаться от всего, как ты.
Нианатилока жестом прервал его.
— Сколько же раз мне нужно повторить, — убеждающе проговорил он, — что я ни от чего не отказывался? Ведь отказаться это означает отринуть нечто соблазнительное, представляющее для человека ценность. Я же освободился всего лишь от определенных форм жизни, которые показались мне бесплодными, как только я познал более совершенные. После многих лет духовных трудов, которые с каждым днем давали мне все большее наслаждение, после многих лет отшельничества и совершеннейшего одиночества, что бесконечно умножает жизненную силу, я достиг того, что мы называем «знанием трех миров», которое если и не является последней степенью мудрости, то уж, вне всяких сомнений, первой и основной. Теперь я мог бы вернуться к давним формам жизни, вернуться к людям вашего общества, безумствовать, как они, бессмысленно трудиться, радоваться славе, богатству, успеху и продолжать оставаться в душе тем, чем я есть, но при одной мысли о возврате к вам меня разбирает смех, до такой степени все это потеряло для меня всякую привлекательность.
Нианатилока приподнял согнутые в локтях руки и чуть поднял голову.
— Я обрел наисовершеннейшую форму жизни, — продолжал он, — личную и всеобъемлющую, потому что научился сливаться с миром и его духом в подлинном единстве, какое было вначале, прежде чем возникло человеческое сознание. Мне нет нужды смотреть на цветущие луга, слушать волнующееся море или бурю, затем что я являюсь и плодородной землей, и цветком, и рекой, и деревом, и ветром, и морем. В биении своей крови, в ритме своей мысли я ощущаю гармонию бытия — ту, глубинную, сокрытую под призрачными явлениями, под тем, что человеку, вырванному из мира, может даже показаться дурным, несправедливым или ненужным. Вся моя долгая предыдущая жизнь, хотя она и не была скупа ко мне, не сумела дать мне ни единой минуты счастья, хотя бы в ничтожной степени подобного тому блаженству, в каком я ныне пребываю постоянно, не боясь когда-либо утратить его.
Нианатилока говорил, обращаясь к Яцеку, словно забыв о присутствии Азы, которая, свернувшись клубочком в глубоком кресле и опершись подбородком на переплетенные пальцы рук, молча смотрела на него широко раскрытыми глазами.
Поначалу она слушала, но уже вскоре стала воспринимать его слова как звуки без всякого значения, обращать внимание на которые нет никакого смысла. Она слышала только голос — ровный, спокойный, мягкий, видела сбоку обнаженную мускулистую руку, хотя и несколько худощавую, которая под южным солнцем приобрела цвет зрелого плода. От этого человека исходила сила и молодая свежесть. Черные, блестящие, слегка волнистые волосы падали на открытые крепкие плечи, и Азе чудилось, будто она ощущает их свежий запах, напоминающий терпкий аромат горных трав, что растут над холодным прозрачным ручьем. Его лицо было обращено к ней в полупрофиль, и она видела выпуклую линию соединения скулы и виска, глазное веко, уголок свежих алых губ.
«Юный, светлый, божественный, — мысленно повторяла она, — такой же, каким был тогда… »
Внезапно она в страхе соскочила с кресла.
— Серато!
Он неторопливо обернулся и рассеянно на нее глянул, видимо, недовольный, что она прервала его.
Аза смотрела на Нианатилоку, словно в чем-то была не уверена, словно не доверяла собственным глазам.
— Серато? — вновь произнесла она с оттенком недоумения.
— Да, слушаю вас.
Аза, не спуская с него глаз, что-то высчитывала вполголоса.
— Шесть… десять… восемнадцать… нет, двадцать! Да, верно. Двадцать лет.
Нианатилока понял и улыбнулся.
— Правильно. Двадцать лет назад я покинул Европу и отправился на Цейлон.
— Я была ребенком, девочкой, служила в цирке… Я помню… Тогда говорили, что Серато было сорок лет.
— Сорок четыре, — уточнил Нианатилока.
Яцек, с растущим интересом следивший за их разговором, тоже вскочил с кресла.
— Выходит, тебе сейчас шестьдесят с лишним?
— Да. Тебя это удивляет?
Яцек, вперясь взглядом в невозмутимое лицо пустынника, стоял в совершенной растерянности.
— Но ведь он выглядит молодым человеком лет тридцати, — прошептала как бы самой себе полная безмерного изумления Аза и обратилась к Нианатилоке: — Ты моложе, чем был тогда, двадцать лет назад, когда я тебя увидела. Нет, это невозможно!
— Почему?
Произнося это, он повернулся на миг к Азе и хлестнул ее спокойным взглядом холодных глаз.
Она в ту же секунду умолкла, не понимая, почему ее охватил необъяснимый страх. Ей припомнилась сказка, в которой труп, сохранивший благодаря заклятию колдуна видимость жизни и молодости, чуть только заклятие было снято, в мгновение ока расползся зеленой смрадной жижей вокруг кучи костей.
Аза чуть слышно вскрикнула и отшатнулась.
Нианатилока тем временем объяснял Яцеку:
— Неужели ты не понимаешь, что по достижении определенной степени совершенства можно силою воли управлять всеми функциями организма точно так же, как обычно человек управляет некоторыми движениями? Ведь даже факиры низших степеней, столь же далекие от подлинного знания, как Земля от Солнца, умеют по своему желанию останавливать сердце и деятельность нервов и на некоторое время входить в состояние кажущейся смерти.
— Но тут речь идет о жизни. Меня поражает твоя необъяснимая молодость, — возразил Яцек.
— А разве воле не все равно, в каком направлении действовать? В сущности, речь тут идет об определенном состоянии органов, их функционировании, если пользоваться ученым языком, каким вы изъясняетесь здесь, в Европе, или же, как сказали бы мы, о том, чтобы изъять телесную оболочку из времени и поставить над ним.
Яцек сжимал руками голову.
— У меня путаются мысли, — пробормотал он. — Значит, ты мог бы жить вечно?
Нианатилока усмехнулся.
— Я не могу не жить вечно, ибо дух бессмертен, а я являюсь духом так же, как ты, как мы все. Что же до тела, которое является всего лишь внешней и преходящей оболочкой духа, то не стоит слишком долго держаться за нее. Пока тело необходимо, лучше, если оно будет молодым и здоровым, способным исполнять любые приказания, нежели дряхлым, слабостью своей мешающим духу, но как только тело исполнит свое назначение, человеку, обладающему знанием, достаточно ослабить волю, удерживающую его… — Но тут он прервался и протянул Яцеку руку. — Не понимаю, почему мы сидим в душной комнате. Пойдем. Солнце уже зашло, и мне хотелось бы немножко полюбоваться с крыши на звезды. Там мы оба с тобой погрузимся в медитацию, а потом побеседуем о бытии, о бытии по ту и по эту сторону звезд, как о едином, неизменном и непрерывном процессе.
Аза даже не заметила, как они вышли, хотя ей казалось, что она не спускает с них глаз. Некоторое время она сидела словно в оцепенении, ошеломленная услышанным; история вечно молодого скрипача, представшего перед ней в облике буддийского святого, не укладывалась в категории здравого смысла, противоречила всему, к чему она привыкла.
Ей пришла мысль, что скорей всего она ошиблась; этот человек не является да и не может быть исчезнувшим два десятка лет назад Серато. Видимо, он взял на себя произнесенное ею имя и укрылся под ним; быть может, по какой-то неведомой причине он не хочет, чтобы стало известно, кто он на самом деле.
— Он — обманщик!
Аза вскочила. Сперва она хотела позвонить прислуге, позвать Яцека, потребовать, чтобы этого человека посадили в тюрьму, не позволяли ему называться чужим именем.
Аза стояла в нерешительности.
И все же, возможно ли такое, чтобы она не узнала его, приняла его за другого? Да и может ли кто-то быть так на него похож?
Аза прикрыла глаза, и тотчас же перед нею возникла сцена, произошедшая так давно, что стала уже почти что сном, и однако же бесконечно живая и выразительная…
Некогда — двадцать лет тому — у Серато возникали сумасбродные фантазии. Бывало, ему слали телеграммы, умоляли дать концерт в первоклассном театре, об этом ходатайствовали сановники, артисты, его друзья, но он отказывался, хотя ему сулили золотые горы. А иногда выступал в совершенно неожиданных местах, и никому в голову не могло прийти, что он снизойдет до них; ему приходила шальная мысль, и какая-нибудь придорожная гостиница превращалась в концертный зал. А случалось, он, словно бродячий скрипач, уходил со своей скрипкой по пыльному проселку, увлекая за собой из города толпы почитателей.
Аза, в ту пору еще маленькая девочка, служила в цирке и слышала о нем от циркачей, которые произносили его имя со странным трепетом в голосе, и ей часто снился волшебник-скрипач, что бродит по свету и как воплощение бога, как олицетворение божественного могущества ведет за собой толпы людей. Она даже не стремилась увидеть его, до такой степени живо он стоял перед ней в ее детских мечтаниях. Нередко, уставшая, сидя где-нибудь в темном углу, она рассказывала себе одну и ту же чудесную сказку:
— Вот он придет…
Это будет день, не похожий на другие, светлый и радостный, и он придет, возьмет ее за руку и уведет по дороге под радугами, стоящими на облаках, подобно воротам.
Он придет, обязательно придет! Освободит ее, несчастную маленькую Азу, от страшного клоуна, который хочет делать с ней мерзкое и грязное, уведет ее в луга, в поля, которые, говорят, раскинулись за городом, и там она будет слушать пение его скрипки и навсегда забудет про цирк и проволоку, на которой нужно танцевать, чтобы ее не били и чтобы зрители хлопали.
Аза горько улыбнулась, вспоминая эти наивные детские мечты. Она вовсе не была такой наивной и прекрасно понимала, что означают взгляды старых важных господ, сидевших в первых рядах кресел, взгляды, скользящие по ее худенькому обтянутому трико телу, и понимала, чего хочет от нее клоун.
И все-таки…
И все-таки в эти минуты, когда она предавалась тайным мечтам, преждевременный, жизнью вбиваемый в нее цинизм исчезал, опадал, как черепаший панцирь или лягушачья кожа, которую принуждена была носить в сказке принцесса. И она выходила из нее такой, какой, в сущности, еще оставалась в глубине души: ребенком, глядящим на мир изумленными глазами и мечтающим о светлых чудесах.
И он пришел. Действительно пришел в один прекрасный день, верней, в один прекрасный вечер. Она устала превыше всяких мер. Ей предстояло взбежать по наклонно натянутой проволоке на трамплин, прыгнуть с нее на качающуюся трапецию, потом на другую, на третью, вертеться, плясать в воздухе. Она разбежалась и на полпути сорвалась с проволоки, сильно ударившись боком. В зале раздались несколько испуганных вскриков, но их тут же заглушили голоса недовольных зрителей. Шпрехшталмейстер подбежал к ней, убедился, что она цела, не разбилась, зло сверкнул глазами и шепнул:
— Разбегайся, скотина!
— Я боюсь! — прошептала она, охваченная внезапным страхом.
— Разбегайся! — еще грознее прошипел он.
Дрожа всем телом, она покорно отступила на несколько шагов. Подпрыгнула, и вдруг — словно некая незримая сила остановила ее перед самой проволокой.
— Боюсь, — почти уже плача, прошептала она. — Страшно.
Зал уже начал терять терпение. Афиши обещали в этот вечер «небывалый, единственный в своем роде номер, неподражаемую воздушную принцессу, летающую фею», и вот эта фея стояла перепуганная, растерянная, с покрасневшими веками и дрожащими от сдерживаемого плача детскими губами.
— Жулики! — донеслось с задних рядов. — Гоните назад деньги! Кончай представление!
Безжалостная толпа, требующая за свои жалкие гроши развлечений, издевалась над ней, высмеивала, осыпала обидными прозвищами и непристойными словами.
— Разбегайся!
Словно сквозь сон она услышала полный сдерживаемой ярости голос шпрехшталмейстера. Собрав остатки решимости, отступила для разбега. В глазах у нее было темно, в ушах стоял невыносимый шум, ноги подгибались — она чувствовала, что свалится, не сможет пробежать по проволоке.
Она подпрыгнула, пробежала, зажмурив глаза, несколько шагов, и вдруг кто-то схватил ее за руку как раз тогда, когда она должна была ступить на проволоку.
Она открыла глаза. Перед нею стоял элегантно одетый мужчина с черными волнистыми волосами; он сжимал ее предплечье мягкой, но сильной, как сталь, ладонью.
— Подожди.
Она не успела ни удивиться, ни испугаться — ее переполнило блаженное, покойное ощущение: кто-то пришел защитить ее. Директор, побелевший от злобы, подлетел к спасителю, но не успел даже рта открыть: тот спокойным, не допускающим возражений тоном произнес:
— Дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь скрипку.
— Серато! Серато! — гудело по всему амфитеатру. Серато! Она вскинула голову, жадно, с замиранием сердца вглядываясь в него.
Вот оно, исполнилась сказочная, заветная мечта: он пришел, возьмет ее за руку и уведет.
Нет, в ней происходило что-то иное, в чем в первый момент она не сумела дать себе отчета. Она чувствовала его сильные пальцы на своей обнаженной детской руке, а когда он скользнул мимолетным взглядом по ее лицу, ее бросило в жар, и сердце оборвалось. Ей захотелось заплакать, исчезнуть, растаять; хотелось, чтобы он смял ее своими руками или встал ей ногою на грудь, и одновременно хотелось убежать, спрятаться.
В цирке вдруг стало тихо-тихо. Она услышала какой-то неземной, чудесный звук, словно серебряный плач, и поразилась — откуда он?
Серато играл.
Теперь на нее никто не обращал внимания. Она присела на барьер и смотрела. Шум крови в ушах заглушал музыку; она только видела его белую руку со смычком, бритое лицо, опущенные веки и чуть приоткрытый рот с влажными кроваво-красными губами. Непонятная, странная дрожь пробегала по всему ее телу, и впервые в жизни она телом постигла, что в мире существуют поцелуи, объятья, что она — женщина.
В этот миг она перестала быть ребенком.
У нее закружилась голова, и какое-то мгновение все ее существо стало одним сплошным желанием — чувствовать на себе его глаза, его руки, его губы.
И вдруг она пришла в себя. Спокойно, почти вызывающе осмотрелась. Он — Серато — не глядел на нее. Захваченный потрясающей импровизацией, превративший в орудие чуда ординарную, поданную из оркестра скрипку, он, похоже, совершенно забыл о ее существовании и внезапной жалости, толкнувшей его на арену, чтобы спасти маленькую циркачку.
Он играл для себя, а люди слушали.
В цирке стояла поразительная тишина. Она обегала взглядом ряды — везде слушатели превратились в изваяния; одни пожирают скрипача взглядом, другие сидят, закрыв лицо руками, а кто-то уставился вдаль остекленевшими глазами, из которых бежала душа, чтобы колыхаться вместе с музыкой на воздушных волнах.
И вдруг Азу охватил гнев, что он сжалился над нею, а теперь даже не смотрит, и ревность, что он завладел зрителями, которые всегда аплодировали ей, и инстинктивная обезьянья злость. Даже не сообразив, что делает, она, когда струны скрипки чуть слышно, едва уловимо для слуха запели про какой-то удивительный, святой сон, пронзительно, по-циркачески вскрикнула, стремительно взбежала на проволоку и прыгнула на висящую несколькими метрами ниже трапецию.
Ее безумный прыжок тотчас же заметили и закричали, завопили, захлопали, стали показывать на нее пальцами. Никто уже не слушал скрипку Серато, все смотрели, как она перелетает, словно птица, с трапеции на трапецию.
Горькое, ожесточенное чувство триумфа в груди. Никогда еще она не была такой яростной, такой отчаянной, такой разнузданной, как в этом воздушном танце, где одно неверное движение, ошибка в какой-нибудь миллиметр означала смерть. Она изгибалась и пружинилась, с каким-то болезненным, невесть откуда появившимся в ней наслаждением выставляла свои детские еще формы на обозрение публики, провоцировала похотливые взгляды, скалила зубы в бесстыдной улыбке, и зрители глазами срывали с нее одежду.
Ей удалось бросить взгляд на скрипача — ее толкало болезненное любопытство.
Незаметно, незаметно — так, чтобы он не поймал ее на этом. Поднимая руки, она чуть наклонила голову и — быстрый взгляд из-под мышки…
Он, положив скрипку на арену, удовлетворенно улыбался и аплодировал ей вместе с другими.
А она спрыгнула с поднебесных качелей и сломя голову убежала в уборную; там она долго не могла остановить страшные, рвущие душу рыдания.
Вот так в первый и последний раз она видела Серато. И однако же каждая черточка его лица, его взгляд, изгиб его губ так впечатались в ее память, что еще долгие-долгие годы он как живой стоял у нее перед глазами, преследовал, словно призрак, от которого невозможно избавиться.
Нет! Она не могла ошибиться! Это действительно Сера-то, непостижимый человек, каким-то колдовским способом сохранивший вечную молодость, явился сюда и произносит непонятные ей поучения, источая сверхчеловеческую, ужасающую Азу силу.
Внезапная дрожь потрясла ее тело. Точь-в-точь как в тот миг — двадцать лет назад, — когда он положил ладонь на ее детскую руку, только жаркая волна, пробежавшая в ней, сейчас была куда сильнее.
Аза сплела руки на затылке и невидящим взором уставилась куда-то в пространство.
А в голове кружила мысль:
«Я могущественней, чем все силы мира, — могущественней мудрости, искусства, даже могущественней мести! И буду могущественней, чем твоя святость!»
Она ощутила сладостное биение крови в груди, глаза на мгновение затуманила мгла, губы приоткрылись, беззвучно повторяя:
— Приди! Приди ко мне!
VIII
Они сидели молча, опустив головы, и со средоточенным вниманием слушали сообщение одного из «всеведущих братьев», который излагал в собрании мудрецов новую теорию происхождения жизни.
Тщедушный, светловолосый, с быстрыми серыми глазами, он говорил внешне сухим научным языком, перечисляя цифры, фамилии ученых, факты, открытия, и лишь иногда лицо его чуть кривилось в едва уловимой гримасе — когда одной краткой, молниеподобной, неожиданной фразой он соединял воедино и объяснял добытые многовековыми упорными трудами и до сих пор еще, как казалось, противоречащие друг другу наблюдения целых поколений исследователей.
А у слушателей было ощущение, что этот с виду невзрачный, но обладающий могучим умом человек возводит у них на глазах величественную пирамиду с основанием, объемлющим вселенную, где каждый отдельный блок, соединенный с другими в дерзкую надвоздушную арку, неколебимо поддерживает новый этаж, и они все дерзновенней, все стремительней возносятся к небу, и вот уже мысленно видится последняя глыба, замыкающий камень, с которого одним взглядом можно будет охватить все сооружение. Все, что до сей поры было проверено, открыто, изобретено, добыто или сотворено силой разума, становилось кирпичом и гранитом для сероглазого мудреца; временами возникало ощущение, что одним словом, подобным точному и уверенному удару молота, он отсекает от бесформенной глыбы опыта, с которым долго не знали, что делать, все лишнее и добывает из нее великолепную сердцевину, пригодную для строительства.
Слушатели, привычные возноситься в заоблачные высоты и наблюдать мир с одиноких башен своей мысли, уверенно, без головокружения всходили вместе с докладчиком на те вершины, куда он безошибочно и смело вел их.
Ученый закончил долгий доклад, его глаза вспыхнули, речь полилась живей. Он повел рукой, словно показывал сверху стены возведенной пирамиды, в которой для непредубежденного взгляда кирпичи и камни нерушимо соединились в единую, совершенную и поразительно простую целостность.
— Мы прошли, — говорил он, — по лабиринту чудес от примитивной первичной плазмы, стремившейся еще затаиться, от зародыша, верней, от возникновения этого зародыша, еще прежде чем произошло его первое деление, приведшее к появлению нового организма, до процессов в мозгу, сопутствующих горделивой человеческой мысли, рассмотрели все это и знаем, что одно можно вывести из другого, связать воедино и представить в виде точной, безошибочной математической формулы, ведущей к одному-единственному выводу. И это уравнение, подобное таинственному заклятию, которое давно уже предчувствовали, но не могли открыть, я вывел, сопоставляя опытный материал, собранный за десятки веков.
Мы рассмотрели жизнь во всех ее проявлениях от простейшего до самого сложного и уже знаем, что она строится по единому принципу без исключений, без скачков, без какого-либо произвола, каким радует себя не слишком дальновидный человеческий глаз. Мы так же определенно установили, что жизнь не является ни целью сущего, ни результатом некоего развития, без которой его просто невозможно представить, но его началом, альфой и омегой, всей совокупностью и единственным свойством бытия. Когда-то, много веков назад, упорно и многотрудно старались вывести из безграничного бытия возникновение живого организма, а сейчас мы не только знаем, что это было всего лишь первоначальной и основополагающей необходимостью, но более того — по какому принципу это происходит: и здесь и там действует одна и та же незыблемая математическая формула.
Докладчик на секунду умолк, обернулся и показал рукой на черную доску, где был написан ряд математических символов.
— Вот она — тайна бытия, — промолвил он с горькой иронией в голосе, — открытая, доведенная до банальной наготы математических знаков. Мы теперь действительно могли бы стать волшебниками и сумели бы по ней создать новый мир, новое бытие, новую действительность, если бы только… Увы, преградой на пути использования этого обретенного чародейского заклятия оказывается сущая мелочь. Взгляните, господа: в этой формуле, которую я вам тут представил, имеется некая постоянная, «С» математиков, вещество физиков, извечная vis vitalis[13] биологов, одним словом, нечто, о чем в данном случае неизвестно, что это такое, и чего мы узнать уже не сможем, поскольку это отнюдь не вытекает из уравнения.
Докладчик склонил голову и беспомощно развел руками.
Яцек, как и остальные, внимательно слушал его. Последние слова ученого не были для него неожиданностью; едва взглянув на магнетическое уравнение на доске, он сразу понял, что людская мудрость, проникшая в самые глубины тайны жизни, вновь натолкнулась на незримую, но непреодолимую стену, опять оказалась лицом к лицу со все той же вечно встающей загадкой, со все тем же самым Ничем, которое одновременно является Всем.
«И Слово стало плотию», — как напоминание прозвучало у него в ушах. Он невольно бросил взгляд на лорда Тедуина, сидящего на председательском месте.
Сэр Роберт сидел, выпрямившись, положив руки на пюпитр, и неподвижный его взгляд был устремлен куда-то вдаль. И только чуть заметное подрагивание плотно сжатых губ свидетельствовало о том, что в этом застывшем, суровом лице есть жизнь. Яцек подумал, что сейчас, когда докладчик завершил выступление, возьмет слово сэр Роберт, и с нетерпением ждал, что он скажет, как будет доказывать собравшимся мудрецам Земли необходимость догмата веры, ибо вера дополняет знание, которое без нее — ничто.
Однако лорд Тедуин молчал, молчали и все остальные. Яцек переводил взгляд с одного на другого, смотрел на стариков, клонящих лица, изборожденные морщинами, на мужей во цвете лет со странной запредельной тоской в глазах, на тех, кто только-только расстался с юностью, но чьи плечи уже согнулись под бременем знания; он выискивал, кто же скажет слово, выскажет откровенно.
Но глухое молчание говорило само за себя и означало: «Мы не знаем». В тот миг, когда физическая разгадка бытия, эволюции и жизни предстала в виде точной математической формулы, когда после долгих и тяжких поисков наконец добрались до окончательного понимания механизма мира, в этот роковой миг страшные слова «Не знаем!» читались в растерянных глазах мудрецов, накладывали печать на их уста.
Яцек обратил свой умоляющий, требовательный взгляд на лорда Тедуина.
«Скажи! — молил, настаивал, безмолвно требовал он. — Скажи! Скажи! Избавь нас от этой черной пустоты, в которую мы погружаемся, коль ты сам избавился от нее!»
И сэр Роберт понял его.
Он обвел взглядом присутствующих, желая проверить, не просит ли кто слова, но под его взором все только ниже опускали головы, беспомощно пожимали плечами, и тогда он сам поднял руку.
Он встал высокий, внушительный, сосредоточенный, держа на широких плечах почти целое столетие. Несколько секунд сэр Роберт стоял, не произнося ни слова, словно пребывая в нерешительности.
— Здесь кончается знание, — наконец промолвил он. — Мы добыли все, что можно было добыть, услышали все, что способен вынести человеческий разум. Я поведал вам, до чего дошел в последние годы моих одиноких трудов и, видимо, последние для трудов мысли, после чего выступали многие мудрецы, цвет Земли, мои друзья либо ученики, поскольку у одного меня среди вас нет учителя, ибо я старше всех вас. Мы дошли до ядра всетворения, и, вероятно, сейчас я должен был бы распустить наше объединение естествоиспытателей, потому что дальше уже идти невозможно, упразднить наш орден всеведущих, потому что более познавать нам нечего. Отныне мы обречены двигаться по замкнутому кругу, словно рыбы вдоль стеклянной стенки аквариума, вырваться за которую нет никакой возможности. Солнце осталось далеко позади, нас охватывает стужа. У нас достало отваги дойти до этого предела, теперь мы должны набраться смелости, чтобы во всеуслышание сказать: «Здесь кончается познание».
— Неправда!
Услышав этот возглас, Яцек вздрогнул. Он почти забыл, что с разрешения лорда Тедуина привел с собой в качестве гостя на ежегодное собрание мудрецов Нианатилоку.
На какое-то мгновение сэр Роберт умолк; словно быстрая волна по морю, по лбу его пробежала тень, но тотчас же он улыбнулся с пренебрежительной снисходительностью.
— Наш гость, — промолвил он, — не поняв как следует моих слов, противоречит очевидной и, к сожалению, неопровержимой истине, что мы дошли до предела человеческого знания и уже не сможем ступить ни шагу дальше. Я догадываюсь, в чем причина этого недоразумения. Наш гость, вскормленный мудростью Востока, не вполне точно определяет для себя разницу между знанием и верой, то есть признанием достоверными вещей, которые невозможно доказать с помощью разума. Предметом как знания, так и веры является истина, но истины эти и по своему характеру и по происхождению отличны, и смешивать их непозволительно. Повторяю: мы стоим у предела знания, дальше место уже одной только вере.
Собрание вдумчиво кивало головами, признавая справедливость слов своего председателя и учителя. Яцек, обведя глазами зал, увидел задумчивые лица, одни с отрешенной улыбкой на устах, другие — искаженные непроизвольной страдальчески-иронической гримасой, но много было и таких, на которых отражалась одна только печаль. Он знал всех этих людей, мудрейших в целом свете, и ему было известно, кто что думает. Он мог пальцем указать на тех, кто изо всех сил цепляется за веру, немногочисленных католиков (поскольку католицизм оказался единственной религией, кое-как уцелевшей в пожаре веков), послушных церкви и исполняющих все ее заповеди, и тех, кто сам и только для себя создавал религиозные системы, более или менее туманные и мистические, пытаясь заполнить ими пустое и непреодолимое пространство, ударяясь о которое наука разбивалась, как море о скалистые берега Арктики. Большинство среди них составляли пантеисты высокого полета, что отрывали глаза от математических уравнений своей науки, чтобы объять любящим взглядом мир, в котором, по их верованию, проявлялась священная amor Dei intellectualis[14]; немало было также и холодных рациональных деистов, теософов различного покроя и мистиков всех оттенков вплоть до людей, которые, невзирая на величайшую ученость и чуть ли не всеобъемлющее знание, держались всевозможных суеверий, порой попросту смешных и детски наивных.
«Horror vacui»[15], — подумал Яцек, глядя на этих людей, которые любой ценой искали позитивную метафизическую сущность жизни и мира, хотя ее трудно было примирить с тем, что им доказывала их привычная к неутомимым исследованиям мысль.
Какое-то мгновение он ощущал зависть, мысленно сравнив их веру, пусть страшно хрупкую, с тем состоянием, в каком находились он и ему подобные, с безмерной тоской слушавшие слова Роберта Тедуина.
Ощущение тщетности, страшнейшей, ужасающей пустоты и глубочайшее убеждение, что если намереваешься жить, нужно чем-то заполнить эту пустоту, и в то же время бессилие, беспомощность мысли, вытекающая из чувства самосохранения, недостаток или переизбыток чего-то, что не дает, не позволяет, поверить только для того, чтобы поверить…
К этой группе принадлежали и несколько ярых скептиков; сейчас в их глазах было заметно смертельное отчаяние, но на губах играла презрительная улыбка. Подобно безумцам, что вечно раздирают собственные язвы, они пытливой мыслью зондировали бытие и остолбенело вглядывались в пустоту, даже не желая признаться себе, что рады были бы увидеть нечто иное, пусть даже зыбкий мираж, который они тут же и рассеяли бы; да, они согласны были и на мираж, потому что смертельно устали и смертельно боялись извечной картины кристальной пустоты.
Яцек закрыл лицо руками и, задумавшись, некоторое время не обращал внимания на происходящее вокруг. Только голос Нианатилоки заставил его открыть глаза, поднять голову и прислушаться
Буддист стоял на трибуне, видимо, приглашенный на нее лордом Тедуином. Откинув резким движением головы волосы, спадающие на лоб, он поднял смуглую руку.
— … Ибо не веру я вам несу, — говорил он, очевидно, завершая фразу, — и не прибавляю еще одно верование к тысячам уже существующих, тем более увеличивая сумятицу, но знание. С полной ответственностью и смело объявляю вам, о мудрейшие: за тем кругом, который вы сейчас очертили, существует знание — знание подлинное, радостное, дающее силу.
Мудрецы недоверчиво покачивали головами, слушая его скорей с благосклонной снисходительностью, чем с интересом. Яцек понимал: Нианатилоке дали слово и позволяют говорить только потому, что он его друг. Эта мысль странно уязвила его, словно тем самым нанесли пустыннику оскорбление. Внезапно его охватила неприязнь к собранию мудрецов, которые несомненно выслушали бы чужака, если бы он выступил перед ними как чудотворец и посулил новое откровение, но не верят ему и даже допустить не могут, безгранично уверенные в своей собственной, пусть даже не удовлетворяющей их мудрости, что кто-то в сфере познания мог пойти иным путем и зайти дальше, чем они.
Яцек инстинктивно вскочил и хотел увести друга к себе домой, но Нианатилока, заметив его движение, дал ему рукой знак не волноваться После чего, не обращая внимания на усмешки и явные признаки нетерпения слушателей, повернулся к доске, на которой докладчик записал математическую формулу жизни, и, указав на неизвестную постоянную, заговорил спокойно, словно речь шла о каком-то пустяке, а не о сокровеннейшей тайне бытия:
— Не кажется ли вам, что надо начинать с этого, а не останавливаться в безнадежности? Я хочу поговорить с вами об этой непонятной постоянной в уравнении бытия. Вы все знаете, что этот постоянный член уравнения — дух. Нет, неверно! Скорей, вы все в это верите более или менее сильно, и то, что вы только верите, как раз и недостаточно. Я смотрю на вас, о мудрейшие, и вижу печаль на ваших лицах, в глазах — растерянность, а в горестной гримасе ваших губ — тоску по непостижимому. Вас не удовлетворяет ваше знание, сколь бы огромно оно ни было, и не дает успокоения самая сильная вера, поскольку вы слишком мудры, чтобы в раздробленности бытия увидеть последний предел, и слишком привыкли все анатомировать острием мысли, чтобы без оговорок предаться вере и впадать ежеминутно в сомнение. Вы стоите на распутье; простите, что я так говорю вам, но и сам я некогда шел этим путем и считал его, как вы, единственным.
Нианатилока умолк и обернулся к седовласому председателю.
— Узнаешь ли ты меня, учитель? — спросил он. — Сорок лет назад, когда ты только начинал учить, я был одним из первых твоих учеников, но потом отошел от исследований, чтобы искать гармонию сперва в искусстве и, наконец, в сокровенном, не испытующем природу, но творческом знании далеко отсюда, на Востоке.
Лорд Тедуин прикрыл рукой глаза, на лице его отражалось высочайшее удивление.
— Это ты? Ты? — прошептал он.
— Да, учитель. Я — Серато, единственный, кого ты тщетно удерживал при себе. Ведь то было великое счастье, ежели ты кого-то соглашался принять в ученики. И вот сорок лет спустя я стою перед тобой и, как видишь, выгляжу сейчас не старше, чем тогда, когда уходил от тебя, взяв скрипку, и благодарил тебя за то, что ты хотел мне добра и, пусть сам того не желая, указал мне путь, каким идти… не нужно, по крайней мере до тех пор, покуда не обретешь иного знания, добытого из глубин духа и позволяющего с улыбкой смотреть на ничтожность бренной жизни. То, к чему вы тщетно стремитесь в отчаянной тоске, должно стать лишь началом. Взгляните на меня! Вы открыли точную формулу жизни, изобразили ее в математической форме, записали ее на черной доске и — беспомощные стоите перед ней! Я, не знающий ее, тем не менее свою материальную жизнь держу в собственных руках и не даю ей замереть, хотя не использую для этого иных средств, кроме знания и воли!
Слушателями овладело волнение. До сих пор остававшиеся равнодушными, они вскакивали с мест, повторяя друг другу издавна им известное имя странного человека, который сейчас выступал перед ними.
Кое-кто подошел поближе, другие недоверчиво качали головами и о чем-то спорили между собой. Только сэр Роберт совершенно успокоился после минутного изумления.
Он в молчании смотрел на Нианатилоку, и когда тот замолчал, неторопливо заговорил, выделяя каждое слово:
— Если ты вправду Серато и действительно сотворил чудо, то все равно должен понимать, что действовать внутри своего духа и знать — не одно и то же. Любое животное плодит жизнь, не обладая ясным сознанием собственного существования. Всякое знание является всегда и только исследованием.
— Но почему оно не может быть творчеством? — возразил Нианатилока. — Простите меня, мудрецы, за то, что я осмеливаюсь вам сказать, но сейчас вы забываете, что и для вас исследование есть лишь средство для достижения желаемой цели, а она для вас — наиболее полное осознание бытия. И собственно знание, и сама истина являются ничем иным, как осознанным бытием. А если вселенная со всеми формами жизни и всеми существующими в ней силами была сотворена самоопределяющимся духом, то почему бы этим же методом не создавать истины, да, самые основные, главнейшие истины? Почему не озарить тайну прямо внутри духа, тем паче что она умещается там целиком и без остатка? Ведь и вам знаком термин «интуиция», и вы знаете, что она стоит у самого начала и должна указывать путь любому исследованию. Так зачем же тогда умерщвлять ее при первом же движении, не давая ей пышно расцвести? Если воля разрушит внешние преграды и доведет дух до определенного совершенства, то есть до свободы, интуиция даст нам знание, не раздробленное на мелкие частности, но самое подлинное, ибо возникла она так же, как и бытие, и является его непосредственным сознательным эквивалентом.
Нианатилока вскинул руки над головами мудрецов. Никогда еще Яцек не видел своего друга таким, хотя неоднократно слушал его поучения. Глаза Нианатилоки сияли, как солнце, и вся его юношеская фигура излучала странный свет.
— Братья! — призывал он. — Примите меня как посланца ваших собственных душ, посланца, который приносит вам благую весть. Я пришел рассказать вам о том, что спит у вас в сознании, не умея выйти наружу иначе, нежели хрупкой, слабой верой в вечное царство божества, в бессмертие души, в непреходящее знание, во все, что придает жизни ценность!
Вдруг от дверей донесся смех. Яцек тотчас повернулся взглянуть, кто осмелился ворваться в обитель мудрецов и нарушить в ней торжественное спокойствие. Чуть приподнявшись с сиденья, он увидел лысый череп Грабеца. В дверях, украшенных древним египетским символом крылатой змеи, его то ли не пропускали, то ли спрашивали, по какому праву он сюда врывается, но Грабец, не отвечая, отодвинул придверника и быстрым шагом направился к креслу председателя.
Брови лорда Тедуина сошлись, он с суровым видом смотрел на вошедшего.
— Сэр Роберт! — бесстрашно выдержав его взгляд, крикнул Грабец. — Сэр Роберт, ты некогда был властелином, потому брось слушать нелепые сказки восточного обольстителя! Право же, ныне не время вам отрекаться от чего бы то ни было и искать счастья вне мира, потому что счастье рядом…
— Кто это? — бросил лорд Тедуин.
— Я — сила! Я приношу вам не туманное царство Божие и не собираюсь распространяться про бессмертие души, а хочу дать вам ваше собственное царство и утверждаю бессмертие расы великих! И пусть лучше сойдут с моей дороги все, кто хочет противиться жизни.
Грабец вызывающе глянул на Нианатилоку, видимо, принимая его за отшельника-аскета с Востока, каких в последнее время много появилось в Европе. Похоже, он ждал, что этот отшельник отзовется хоть словом, чтобы унизить его в глазах мудрецов, но Нианатилока не выказывал никакого желания вдаваться в споры. Он лишь таинственно улыбнулся, сошел с трибуны и сел, как прежде, рядом с Яцеком.
Грабец же, не обращая внимания на ропот собравшихся, решительно взошел на подиум и обратился к мудрецам, сидящим на скамьях:
— Я вовсе не прошу вас дать мне слово и не прошу извинения за вторжение на трибуну без приглашения; некоторые из присутствующих знают меня, и им известно: то, чего я хочу, вполне меня оправдывает. Я пришел на собрание мудрецов, потому что мне недостаточно поговорить с тем или другим из вас, склонить на свою сторону того или другого: я хочу обратиться к вам ко всем и всех сделать своими единомышленниками!
— Почтеннейший, говорите по делу и покороче, — прервал его председатель, которому кто-то шепнул фамилию Грабеца, — у нас время ограничено.
Грабец чуть поклонился старцу и принялся детально рассказывать план, с которым он пришел на собрание всеведущих братьев. Усилием воли он сдерживал себя, голос его звучал ровно, но чувствовалось: под этим нарочитым спокойствием кипит страшная тревога за судьбу дела, которому он посвятил жизнь. Останавливаясь на миг, чтобы глотнуть воздуха, он обводил стремительным взглядом зал, пытаясь определить, какое впечатление производят его слова, но по бесстрастным лицам слушателей ничего не удавалось прочесть.
— Итак, я вам все сказал, — закончил он. — Теперь вы знаете, чего я хочу. Дайте же мне ответ. От вас зависит, станете ли вы господами мира или погибнете в буре, которая вот-вот взорвется, но может стать лишь ветром перед разгоняющейся колесницей вашего могущества.
После этих слов в зале повисла тишина. Все взоры постепенно обратились к лорду Тедуину, который молча сидел, прикрыв глаза, с легкой улыбкой на старческом, сморщенном лице. Лишь порой у него нервно подергивались губы да невольно сжималась ладонь, лежащая на пюпитре. Казалось, он еще раз мысленно переживает историю своей жизни, вспоминает тернистый путь с вершин добровольно оставленной власти к подножию креста, сокрытого где-то в сердце, так глубоко, чтобы его не могло задеть даже острие мысли.
Тем временем самые нетерпеливые среди собравшихся, а особенно те, кто уже раньше имел контакты с Грабецом и счел его идею весьма привлекательной, стали требовать от президента — сперва робко, а затем смелей, — чтобы тот дал ответ.
Лорд Тедуин встал. Теперь он был бледен, с его пергаментных щек исчезло всякое подобие румянца; насупив брови, он посмотрел на собравшихся широко раскрытыми стальными глазами.
— Чего вы хотите?
— Действия! — закричал Грабец.
— Действия! Действия! — вторил ему хор голосов. — Только действие еще может спасти нас, вырвать из порочного круга нашего знания, избавить от бремени нашей мудрости!
— Существует только одно действие: в глубинах духа! Но его уже не слушали. Грабеца окружили кольцом,
расспрашивали в подробностях о готовящейся борьбе, предлагали разные идеи. И лишь несколько самых старших мудрецов да несколько унылых скептиков держались в стороне от этой шумной толпы.
Яцек невольно глянул на Нианатилоку. Тот сидел спокойно, сложив руки на груди, напряженным взглядом уставясь вдаль.
— Выступи! Скажи им!
Нианатилока пожал плечами.
— Не время. Я и так выступал тут лишь из дружбы к тебе, а теперь здесь даже и голоса моего не услышат.
Действительно, шум усиливался. Слышались уже враждебные выкрики, обращенные к Тедуину, от него упрямо требовали, чтобы он высказал свое мнение.
Некоторое время сэр Роберт стоял, не шелохнувшись. И только когда шум голосов на мгновение затих, он невозмутимым взглядом обвел зал, словно пересчитывая тех, кто не принимал участия в поднявшемся замешательстве. Немного он их насчитал и горько усмехнулся.
— Чего вы хотите от меня? — повторил он вопрос.
Грабец повернулся к нему.
— Ты же слышал, лорд, что я говорил, и видишь: почти все отозвались на мой призыв.
— Я никогда не шел за большинством.
— Иди за собою, лорд! Когда-то ты был властелином, самым могущественным за многие века, так согласись же стать им еще раз.
Лорд Тедуин надменно выпрямился.
— Я сошел оттуда, где стоял, по собственному желанию. Я оставил водовороты и мутные заводи общественной деятельности, потому что она слишком похожа на публичный дом, так неужто я стану вновь входить в эту реку?
— Мы как раз и хотим, — запальчиво бросил Грабец, — чтобы мир не был похож на публичный дом, хотим спасти мир от торжества заурядности.
Старец рассмеялся.
— Иллюзия! Я хотел сделать то же самое и спасти хотя бы самых лучших, создав полвека назад это братство. Хотел в ковчеге из кедрового дерева спасти людей мысли от всемирного потопа, но вижу, что вы сами рубите днище корабля…
— Мы вознесем его на вершину горы Арарат, откуда он будет повелевать миром!
— Вы пойдете на дно!
— Лорд, это твое последнее слово?
— Да.
Грабец обратился к разошедшимся по залу мудрецам:
— Кто из вас со мной?
Огромное большинство собралось вокруг него, около сэра Роберта осталось всего несколько человек.
Яцек хотел было выступить, но почувствовал, как сильная рука Нианатилоки удержала его.
— Слушай, смотри и — постигай!
С вызывающим, гордым выражением на лице Грабец взглянул на лорда Тедуина.
— Ну, видишь?
— Вижу, — ответил лорд Тедуин и, взяв обеими руками золотую книгу, в которой были записаны имена членов братства всеведущих, разорвал ее на глазах у присутствующих.
IX
— Пускай того я не победил, но этого-то точно обведу! — шептал Рода, крадясь, как кот, к замкнутым дверям, ведущим из кабинета Яцека в лабораторию.
В темноте при каждом воображаемом шорохе его охватывал страх, хотя он прекрасно знал, что сейчас ему ничего не грозит. Первый этап дерзкого плана удался великолепно. В ту минуту, когда Яцек вместе со своим страшным гостем, у которого такие жуткие черные глаза, отправлялся на ежегодный съезд мудрецов, Рода, воспользовавшись его невнимательностью и своим крошечным ростом, сумел спрятаться под кресло и остаться в кабинете. Он услышал звук закрывавшихся от нажатия кнопки металлических ставень, а затем, в наступившей после этого ночи, — запираемой двери.
Теперь он был один. И однако еще некоторое время он не вылезал из своего укрытия, опасаясь, как бы Яцек, выходя из дому, не обратил внимания на его отсутствие и не возвратился в кабинет, чтобы поискать его здесь. Рода сидел, скорчившись, в страшно неудобной позе, почти задыхаясь, и даже представить не мог, сколько прошло времени.
Наконец, когда по его расчетам Яцек в своем самолете успел бы уже перелететь через десяток границ — если бы в Европе еще были границы, — он тихо, осторожно вылез из-под кресла и принялся разминать затекшее тело. Вытянув руку, он нечаянно сбросил клочок бумаги, тот упал на пол, и Рода мгновенно сжался, как зверек, почуявший опасность, и долго сидел, замерев, прежде чем понял, что ничего ему тут угрожать не может. Двери кабинета звуков не пропускали, и до возвращения Яцека никто не мог их открыть. Так что у него были в запасе два, а то и все три дня.
«Самое трудное удалось, — думал он, — теперь остается последняя и самая простая часть. Нужно пройти в лабораторию, выкрасть страшный аппарат, а после этого терпеливо ждать возвращения Яцека и, когда откроется дверь, незаметно ускользнуть с добычей из кабинета»
Рода знал, где Яцек прячет ключи от лаборатории, и подсмотрел тайный шифр, без которого невозможно открыть дверь. Он стал шарить руками вокруг себя. После долгого сидения под креслом, стоящим посередине комнаты, Рода совершенно утратил ориентацию. Передвигался он медленно и осторожно. Он не узнавал хорошо знакомые предметы меблировки, на которые натыкался, их форма казалась ему странной. В результате он уже не мог определить по ним, в какой части комнаты находится и в каком направлении нужно двигаться, чтобы найти желанную дверь; он совершенно растерялся, не зная куда ткнуться. У него было ощущение, будто в темноте его перенесли в чужой, незнакомый дом.
Помог ему письменный стол, о который он стукнулся головой. Рода обошел его и нашел кресло, в котором обычно сидел Яцек. В один миг в его памяти все стало на свои места. Теперь он мог нажать кнопку и зажечь свет, но не сделал этого то ли из чрезмерной осторожности, то ли (и это скорей всего) из глупой трусости, странной при столь дерзком поведении; ведь он же не мог не знать, что при закрытых дверях и ставнях на окнах ни один лучик света не просочится наружу.
Впрочем, теперь, когда он обнаружил ту самую печку, от которой можно плясать, свет был ему уже не нужен. Он столько раз обдумывал, как будет действовать в темноте, и старательно вбивал в память все подробности и детали, что сейчас мог обойтись и без освещения.
Через несколько минут он извлек из тайника, местоположение которого подсмотрел, ключи и занялся дверью, ведущей в лабораторию. Открыть ее оказалось на удивление легко. Замок беззвучно сработал; перед Родой был длинный узкий коридор, в конце которого сквозь застекленную дверь виден был слабый синий отблеск неугасающего электромагнитного света.
Этот неожиданный свет страшно обрадовал Роду. Он опасался, что и в лаборатории придется передвигаться в темноте и действовать на ощупь, а это грозило крахом всех его планов, так как то помещение он знал гораздо хуже, чем кабинет, в котором часто сиживал, когда там работал Яцек. Стеклянные двери оказались закрытыми, а ключа от них у него не было, и он в растерянности остановился перед этой неожиданной преградой.
Конечно, он мог бы разбить стекло и пробраться внутрь, но делать этого ему не хотелось: тем самым он оставил бы ненужный след и подверг себя лишней опасности. Чтобы его план полностью удался, никто не должен знать, что он побывал здесь.
Рода возвратился в кабинет и стал ощупью искать ключ, дрожа при мысли, что Яцек мог взять его с собой и тем самым на корню уничтожить его план, который по первости так удачно пошел. Но напрасно шарил он во всех известных ему тайниках: ключа не было — во всяком случае в доступных ему местах.
Усталый и голодный, он снова поплелся к проклятой стеклянной двери, уже почти утратив надежду, что ему удастся ее открыть. Машинально, думая совсем о другом, он разглядывал замок при слабом отблеске, доходящем из-за стекол. Он уже привык к темноте, и этого света ему было вполне достаточно. В голове у него стояли страшные картины, как неожиданно возвращается Яцек и обнаруживает его здесь, где ему никоим образом не полагалось бы находиться. И картины эти пугали его все больше и больше, так как он не представлял, сколько прошло времени с тех пор, как его тут заперли. Правда, для такой оказии у Роды было приготовлено объяснение, что, дескать, он случайно попался в эту ловушку: задремал в углу в кресле и, боясь умереть голодной смертью, поскольку не знает, когда возвратится Яцек, ищет, как выбраться отсюда, однако ему и самому эта отговорка казалась не слишком убедительной.
И тут Рода радостно вскрикнул. Случайно бросив взгляд в щель, между дверью и косяком в том месте, где находился замок, он не увидел язычка. Он взял нож и осторожно просунул острие в щель. Нож прошел без сопротивления. Выходит, дверь вообще не была заперта на ключ.
Рода изо всех сил потянул за ручку: дверь не поддавалась. Видимо, имелся какой-то секретный запор, который следовало отыскать. Рода взялся за работу. Чуткими пальцами он ощупывал каждый винт, нажимал на каждое украшение, вставлял острие ножа во все щели и отверстия, какие только мог нащупать, и все тщетно.
В отчаянии он уже собирался отступиться, признать свое поражение, и вдруг обнаружил, что дверь закрыта на обычную поворотную задвижку, известную уже многие тысячи лет. Его охватила злоба, оттого что столько времени потрачено зря. Это же надо было не догадаться, что здесь, на другом конце коридора, после застрахованных от взлома дверей никто не будет ставить тайные хитроумные запоры на стеклянной двери, которая, по сути дела, не представляет никакой преграды.
Для низкорослого Роды задвижка была расположена слишком высоко, поэтому он приволок из кабинета стул, влез на него и открыл дверь.
И вот наконец он в лаборатории ученого, куда так стремился Некоторое время Рода стоял в полном недоумении, разглядывая непонятные приборы и сосуды и не представляя, где искать тот страшный аппарат, за которым он сюда и пришел. Но вскоре он вспомнил, что Яцек как-то обмолвился, будто это небольшой складной ящик, с виду похожий на портативный фотографический аппарат. Рода стал разыскивать его, с величайшей осторожностью проходя между всевозможными устройствами, чтобы, не приведи Господь, не задеть и не повредить их или, что было бы самое ужасное, не вызвать случайно взрыв, наткнувшись на эту адскую машину.
В центре лаборатории стоял большой металлический цилиндр цвета потемневшей меди, от которого шли пучки изолированных проводов, исчезавшие в пробитом в стене отверстии. Два золотистых провода, сделанные, видимо, из какого-то особого металла, подсоединяли этот замкнутый цилиндр к невзрачному ящичку на треноге; вероятней всего, это и была адская машина, которую искал Рода.
На лбу у него выступил холодный пот. Нужно было взять ящичек, а сделать это можно было, лишь отсоединив от проводов, связывающих его с цилиндром, но так, чтобы не вызвать взрыв, который не только убьет его, но и сотрет с лица земли весь город. На миг ему стало так страшно, что он готов был отказаться от добычи. Беспомощный и дрожащий, он смотрел на аппарат, как мышь на кусочек сыра, подвешенный в мышеловке. К счастью, он вспомнил, что Яцек как-то сказал Нианатилоке, что теперь, уезжая, всегда выключает аппарат.
Рода вытащил нож, поднес к проводам, однако не смог их перерезать — так у него тряслись руки. Он стоял, испуганный, неуверенный, и вдруг его взгляд упал на второй ящичек, лежавший рядом на столе, точь-в-точь похожий на первый. Рода бросился к нему в надежде, что это второй аппарат и он сможет без опаски взять его. Однако ящик был пуст. Вероятно, Яцек собирался сделать еще одну адскую машину, может, для того чтобы взять ее с собой на Луну, и заказал футляр, но еще не успел заполнить.
И тогда Рода решился. Вернувшись к аппарату, стоящему на треноге в центре комнаты, он зажмурил глаза и перерезал провода. Послышался слабый шорох. У Роды сердце ушло в пятки, но оказалось, что это просто освободившиеся от натяжения провода моментально свернулись спиралью.
Несколько минут спустя Рода возвращался с добычей в кабинет. Вместо похищенного аппарата он поставил на треногу пустой футляр, а отрезанные провода подсоединил к нему так, чтобы вошедший, даже и сам Яцек, с первого взгляда не увидел, что здесь что-то не так. Рода старательно запер дверь. В темноте, ни на секунду не расставаясь с добычей, которую он привязал платком на груди, он нашел тайник и положил в него ключи, после чего ощупью добрался до входной двери; он решил дождаться тут возвращения Яцека.
Укрывшись в складках портьеры, он прислонился головой к мраморному обрамлению дверного проема и затаился, как кот, готовый выскользнуть, чуть только откроется дверь. Его смаривала сонливость, усиленная усталостью и пережитым волнением. Напрасно он старался преодолеть ее, мысленно повторяя, что заснуть сейчас — это верный способ попасться в руки Яцеку, который, неожиданно вернувшись, вне всяких сомнений обнаружит его. В голове у него возникали какие-то видения, блаженная тяжесть растекалась по всему телу. Сознание медленно расплывалось; ему чудилось, что он на Луне, ждет во время длинной ночи прихода участвующих вместе с ним в заговоре друзей и учеников.
Сейчас…
Он никак не мог понять, почему сквозь складки материи просачивается свет. Пытался припомнить, где он и что происходит, определить, где сон, а где реальность, но вдруг нечаянно прикоснулся к привязанному на груди аппарату, и мгновенно все встало на свои места. Значит, он все-таки уснул. Рода хотел вскочить. Но вдруг чудовищный страх парализовал его тело. Если в кабинете свет, значит, Яцек возвратился.
Тут же он услыхал его голос:
— Нельзя терять времени. Этих людей охватило подлинное безумие…
После этого вновь настала тишина.
Рода не мог понять, то ли Яцек разговаривает сам с собой, то ли в комнате еще кто-то есть, но выглянуть из-за портьеры боялся, чтобы не выдать себя. Он слышал шаги, приглушенные мягким ковром, глухой звук передвинутого стула; видимо, Яцек расхаживает по кабинету, взволнованный каким-то известием или происшествием.
Потом опять стало тихо. Очевидно, Яцек перестал кружить по комнате. Донеслось несколько невнятно произнесенных слов.
Рода затаил дыхание. Прижимая одной рукой к груди похищенный аппарат, второй он сделал чуть пошире щель между дверным косяком и портьерой, чтобы лучше слышать, что говорится в кабинете.
— Что ты можешь сделать? Я вновь предлагаю тебе: брось все, уйди вместе со мной и вскоре сам поймешь: не стоило все это ни беспокойств, ни хлопот.
В один миг все тело Роды покрылось холодным потом. Он узнал голос Нианатилоки, которого инстинктивно боялся до дрожи, боялся сильней, чем Яцека и вообще кого бы то ни было на свете. Ему почудилось, что страшные глаза отшельника видят сквозь ничтожную завесу, за которой он спрятался; ему захотелось закричать, бежать, но, к счастью, внезапно ослабевшие мышцы отказались ему повиноваться. Он слышал, как громко стучит его сердце, и испугался, как бы этот звук не выдал его.
— Нет, сейчас я не могу пойти с тобой, — словно бы с неуверенностью произнес Яцек. — Я должен оставаться здесь.
— Зачем?
— Все-таки это мой долг. По этой причине я даже откладываю полет, хотя, возможно, я очень нужен моему другу.
Дальнейшего разговора Рода не слышал. Оба, видимо, отдалились от его укрытия и беседовали шепотом, как это частенько делают люди, которые должны обсудить слишком важные вещи, чтобы говорить о них громко, даже если они и уверены, что никто их не подслушивает.
До Роды долетали только обрывки фраз, отдельные слова, когда говорящий нечаянно чуть повышал голос. Чаще всего среди них повторялось имя Грабеца, несколько раз были упомянуты Аза и Марк. Потом ему показалось, что разговор пошел о Луне, а также о нем и о Матарете.
«Увидишь ты Луну!» — несмотря на внутреннюю тревогу, злорадно подумал Рода.
По стуку отодвинутого кресла он понял, что Яцек опять встал.
— А не лучше ли было бы покончить со всем разом и радикально? — громко обратился он к Нианатилоке.
Помолчав, Яцек засмеялся, и от этого ужасного смеха кровь застыла в жилах у Роды.
— Ты ведь знаешь, — продолжал Яцек, уже не пытаясь сдерживать голос, — что мне достаточно пройти за эту железную дверь и свести вместе две маленькие стрелки.
— Да. И что?
— Ха-ха! Забавная произойдет штука, даже вообразить трудно. Нет, не зря правительство доверило мне должность директора телеграфов всей Европы. Я распорядился подвести все провода телеграфной сети в мою лабораторию. Якобы с целью опытов… Хорошенькие опыты! Творить мы еще не научились, но уж уничтожать-то умеем. Так вот, достаточно в главный провод пустить искру из моего аппарата…
— И что? — невозмутимо повторил Нианатилока.
— Молниеизвержение. Гром, какой от сотворения мира не раздавался еще по воле живого существа. Вся Европа, буквально вся Европа, опутанная сетью телеграфных проводов, все ее города, равнины, горы, в один миг превратится в чудовищный взрывчатый заряд, каждый атом разделится на элементарные первичные частицы, уподобится динамитной шашке, даже вода и воздух…
— И что?
— Неужели ты не понимаешь, что такой ужасающий взрыв сорвет Землю с ее орбиты, если только не разнесет на куски? Луна, словно дикий конь, отпущенный с привязи в манеже, понесется в пространстве, и кто знает, с каким столкнется небесным телом. Нарушится равновесие всей солнечной системы…
— И что?
— Всеобщая смерть.
Помертвевшему от ужаса Роде послышалось, будто Нианатилока рассмеялся.
— Смерти нет. Ведь ты сам отлично знаешь, что нет смерти для того, что действительно существует. Ты развеял бы только жалкий мираж, причем неведомо зачем, поскольку такое множество духов с безмерным трудом выделило его из себя, сделав своей реальностью. Что тебе до других, коль ты сам одним движением воли можешь уничтожить для себя этот призрак. Но ты еще не дозрел до этого. Ты хочешь совершить ненужный, детский поступок. Вот так ребенок гасит свет, чтобы не видеть пугающую его картину, а потом в темноте боится еще сильней.
Разговор снова перешел на шепот. Через некоторое время до Роды долетел вздох и затем слова Яцека, произнесенные приглушенным, но все-таки явственным голосом:
— Да, тут мне действительно нечего делать, и все равно я не могу идти за тобой, пока знаю, что буду тосковать по тому, чем никогда не обладал и никогда обладать не буду. Ты прошел по жизни, как пламенная буря, и тебе не о чем сожалеть, когда ты решился замкнуться в себе и начал творить свой мир. У меня же порой возникает ощущение, что я все еще беспомощный младенец, которому хочется видеть сказочные, сладостные сны.
Дальше Яцек опять заговорил шепотом, так что слышать его мог только Нианатилока. Но Роде весь этот непонятный разговор был совершенно безразличен, и прислушивался он только потому, что надеялся услышать, когда откроют дверь и он сможет выбраться из ловушки. Он стоял в очень неудобной позе и к тому же опасался, что Яцек или Нианатилока по складкам портьеры догадаются, что он прячется за нею. А в довершение, после всего, что он услышал, на него нагоняла чудовищный страх адская машина, привязанная к груди. Правда, неясное предчувствие подсказывало ему, что ее, чтобы она действовала, нужно подсоединить к какому-то источнику энергии, вроде того цилиндра в лаборатории, но все равно это не успокаивало его нервического страха. Бывали моменты, когда он чувствовал, что близок к обмороку, и его била такая дрожь, что Яцек и вправду мог бы обнаружить его по колебаниям портьеры, если бы глянул в ту сторону.
Но Яцек сидел за столом, спрятав лицо в ладони, и даже не думал смотреть на дверь. Перед ним стоял Нианатилока, как всегда спокойный, и только вместо обычной улыбки на лице его лежала тень горестной задумчивости.
— Рушится мир, — говорил он, — а у тебя не хватает отваги встать и уйти со мной, не оглядываясь на то, что необходимо, неуклонно и… нейтрально, хотя выглядит так ужасно. Жаль мне тебя. И я полон печали впервые за долгие, долгие годы, я так печален, словно ты умираешь. И я еще печальней оттого, что знаю, в чем источник твоих колебаний. Ты сам себя обманываешь, выискиваешь разные причины, чтобы не признаться: тебе страшно даже подумать, что, уйдя отсюда, ты не сможешь смотреть в глаза этой женщине. Но ты представь, что, удалившись от нее и обретя самого себя, тебе вовсе не захочется этого.
Яцек поднял голову.
— А ты не думаешь, что, быть может, я и боюсь, что если уйду с тобой, то даже не захочу смотреть в ее глаза? А вдруг это желание, ставшее для меня мучением, а возможно, и проклятием, в то же время единственное мое счастье?
Он умолк, задумался, но вдруг резко вскочил и замахал руками около головы, словно отгоняя рой налетевших ос.
— Мне нужно спастись, — воскликнул он, — и у меня есть спасение, есть!
Познавший три мира вопросительно посмотрел на него.
— Друг нуждается во мне, — пояснил Яцек. — Я и так слишком долго оттягивал. Я лечу на Луну. Это мой долг. В ближайшие дни будет закончен корабль.
С несколько принужденной улыбкой Яцек взглянул на Нианатилоку.
— Если вернусь живой, что бы тут ни происходило, я пойду с тобой!
Нианатилока кивнул и, глядя в глаза Яцеку, указал рукой на запертую дверь лаборатории. Яцек стоял в нерешительности.
— Перед отлетом я уничтожу эту смертоносную машину, — наконец промолвил он. — Не хочу, чтобы она попала в чьи-то руки, быть может, даже безумца.
И тут же он с нервной поспешностью позвонил лакею и уже совсем другим тоном объяснил Нианатилоке:
— Хочу отдать распоряжение, чтобы приготовили мой самолет. Мне нужно посмотреть, как дела с лунным кораблем. А ты побудь пока у меня. Дня через два я вернусь, и мы попрощаемся.
Как только вошедший лакей отворил дверь, Рода в сгущающихся вечерних сумерках незаметно, как кот, выскользнул из кабинета и, не оглядываясь, бросился вниз по лестнице.
X
После внезапного отъезда Яцека Аза думала об одном: как можно скорей выполнить задание, добыть смертоносный аппарат. Разумеется, она и догадываться не могла, что исчезновение Роды как-то связано с аппаратом и что карлик опередил ее и похитил желанную добычу.
А со всех сторон доносились глухие отголоски обещанного Грабецом «землетрясения». Неожиданно вспыхивали забастовки, правда, кратковременные, но превосходно организованные; кончались они, казалось, так же беспричинно, как и начинались.
«Грабец ведет учения своих войск и определяет свои силы», — думала Аза, читая газеты.
Да, все так и было. А значит, ей категорически нельзя терять времени, если она хочет играть какую-то роль в новом движении, а не быть сметенной той разъяренной поднимающейся волной, что словно вспененное бездонное море нетерпеливо била в берег.
Вопреки всем надеждам и предположениям добиться от Яцека ничего не удавалось. Обычно отзывчивый на всякое ее слово, улыбку, даже движение, покоряющийся, как мальчишка, ее воле, да что воле — капризу, он, стоило ей упомянуть о деле, которое более всего ее сейчас волновало, сразу же замыкался и становился недоступен.
Значит, надо искать другие пути. И невольно взор Азы обращался к Серато. Правда, когда она начинала серьезно раздумывать, этот непостижимый мудрец, чудотворец казался ей еще недоступней, чем Яцек, находившийся к тому же под его влиянием, но это было последнее средство, и им нельзя было пренебрегать.
Странное чувство испытывала к нему Аза. Временами у нее возникало некое чувственное желание покорить этого человека, который первый, сам того не ведая, пробудил в ней женщину; желание, усиленное к тому же коварной жаждой принудить его отринуть святость. Она была готова отдаться ему, если бы это только удалось, и не без удовольствия воображала, как в миг наивысшего любовного экстаза его воля, которой он удерживает свою молодость, ослабнет, и она отбросит его, превратившегося в дряхлого старика, отбросит, словно ветхую тряпку.
«Это будет победа! — думала она с хищной улыбкой. — Победа, стократ большая, чем та, которую Грабец собирается одержать над миром».
Мечтая об этом, она почти забывала, что победа над Нианатилокой должна стать лишь средством для достижения главной цели, получения никчемного и, в сущности, ничуть ее саму не интересующего смертоносного аппарата, и заранее наслаждалась чудесной возможностью испробовать свои силы, вступить в борьбу, победить… В сравнении с Нианатилокой и Грабец, и даже сам Яцек казались ей никчемной добычей, не стоящей трудов.
Но к Нианатилоке даже подступиться было трудно. Мудрец разговаривал с ней, когда она к нему обращалась, но с таким равнодушием, словно она не то что женщиной, даже человеком не была, короче, как с каким-то говорящим механизмом. Взгляд его безучастно скользил по ней, и было заметно, что он лишь из уважения к Яцеку, чьей гостьей она была, принуждает себя слушать ее, отвечать и вообще замечать и воспринимать. Когда Аза однажды напомнила про то, двадцатилетней давности происшествие в цирке, Нианатилока бросил: «Да, помню», — но с такой безучастностью и отстраненностью, что она даже вздрогнула от обиды и унижения. Она-то хотела проверить, не будет ли он избегать в разговорах упоминаний об этом случае, что для нее стало бы доказательством его неравнодушия к ней, но он, никак не проявляя инициативы в разговорах на эту тему, беседовал о нем, когда того хотела Аза, с тем же холодным и вежливым равнодушием, с каким отвечал на ее хитрые вопросы о его прошлой жизни, отношениях с женщинами, любовных увлечениях и романах.
Однако такое его поведение, вместо того чтобы убедить в бессмысленности этих попыток, только еще сильней распаляло Азу, и вскоре она уже не могла думать ни о чем другом, кроме как о путях и средствах обольщения мудреца, которому, казалось, были чужды все людские страсти.
А Яцек все не возвращался. Вместе с пространным письмом Нианатилоке пришла небольшая записка Азе, в которой Яцек извинялся, что бросил ее одну в доме, и оправдывался заботами, какие ему причиняет периодически бастующий завод, и необходимостью лично проследить за работами.
Аза задумалась, прочитав эту наспех написанную записку. Как же она не похожа на те письма, какие совсем еще недавно писал ей Яцек, даже когда, чем-то обиженный, старался быть холодным и равнодушным, пытаясь освободиться из-под ее власти. Она понимала, что это влияние Нианатилоки, пусть не прямое, но во всяком случае косвенное, и ее охватила еще большая злоба к этому человеку, явившемуся сюда, видимо, только для того, чтобы перечеркнуть все ее планы.
«Если бы не он, — рассуждала она, — не этот скрипач, превратившийся в индийского факира, все было бы просто и легко». У Яцека не хватило бы сил противиться ее очарованию.
Да, она сделала бы с ним, что хотела — раньше или позже. Вне всяких сомнений, он выдал бы ей тайну своего изобретения и даже, кто знает, мог бы согласиться воспользоваться страшной этой машиной, вместо того чтобы отдавать ее кому-то, и вместе с нею властвовать над миром. Вот тогда бы она стала подлинной королевой, и ей не пришлось бы оглядываться ни на Грабеца, ни на кого другого.
Но Нианатилока все испортил.
«Я отомщу! — мысленно клялась она. — Ты сам, старый колдун, отдашь мне его силу, предашь друга, как Иуда, а когда я захочу, умрешь, сдохнешь на моих глазах, как подыхали гордецы почище тебя».
Но случались минуты, когда она не слишком-то верила в успех этих своих замыслов. И тогда ей приходила мысль, а не лучше было бы махнуть на все рукой и податься куда-нибудь отсюда.
Вот, кстати, Яцек летит на Луну. Если она захочет, он, конечно, возьмет ее с собой к Марку, который — тут уж не может быть никаких сомнений — является королем и самодержцем всей серебряной планеты.
Аза прикрыла глаза, и ей, словно во сне, предстала такая знакомая улыбка этого сильного, настоящего мужчины, который с радостью встретит ее на Луне; да, он обрадуется, что видит ее, хотя и не надеялся на это, будет благодарен, что она о нем помнила и рискнула, ради того чтобы соединиться с ним, отправиться в опасное, безрассудное путешествие.
Аза почти тосковала по Марку. Даже не по его улыбке, взгляду, прикосновениям рук, а скорей, по его спокойной мужской силе, ни в чем не схожей с холодной, высокомерной, замкнувшейся в себе безучастностью Познавшего три мира; по силе, которая обуздывала ее, как взгляд укротителя обуздывает дикую пантеру, и наполняла сладкой умиротворенностью.
Подобные «минуты слабости», как она сама их называла, длились недолго, но случались довольно часто, так что ей приходилось бороться с ними, противопоставляя весь холод рассудка этим фантастическим, невесть откуда возникающим порывам.
Однажды в таком настроении Аза написала Яцеку — отвечая на записку, в которой он предупреждал, что еще некоторое время пробудет в отлучке. Нет, она не сообщала ему напрямую о своих мимолетных планах и не требовала, чтобы он взял ее с собой, но тем не менее в письме звучала какая-то грустная нота и глубокая, дружественная сердечность, так редко у нее проявляющаяся.
Письмо это застало ученого на большом механическом заводе, где ему строили корабль для полета на Луну. Яцек был раздражен непредвиденно медленным ходом работ и постоянными помехами, тем паче что знал их причину и весьма опасался, как бы развитие событий не поставило крест на его планах. Поначалу решение его лететь на Луну было чисто инстинктивным и продиктовано желанием помочь попавшему в ловушку приятелю, но сейчас оно стало чем-то вроде спасительной соломинки или щита, которым он защищался — по крайней мере, пытался защититься — от ширящегося вокруг и в нем самом смятении.
Это был простейший способ выйти из душевного разлада. Улететь и ничего не знать, избавиться от необходимости выбора позиции в начинающейся буре — с Грабецом или против него, — уклониться от выбора между Нианатилокой и Азой и при этом иметь оправдание перед собой: дескать, он совершает благородный поступок, рискует ради друга жизнью. Яцек прекрасно отдавал себе отчет, что его нынешнее поведение продиктовано, скорей, слабостью и нерешительностью, но при том понимал: это — единственное, на что он может решиться без угрызений и сомнений, не должен ли он был поступить иначе.
У него было только одно-единственное опасение, что события пойдут гораздо быстрей, чем он предполагает, начнется мятеж, корабль не будет закончен, и он не сможет отправиться в межпланетный полет. Потому он подгонял и дирекцию завода, и рабочих, занятых на строительстве корабля, но с отчаянием видел, что работы еле-еле продвигаются.
Письмо Азы вселило в него новые сомнения. Из него он почувствовал, вычитал между строчек, что Аза была бы не прочь вместе с ним покинуть Землю, и в первый миг в нем дрогнула какая-то светлая радость.
Да. Да! Улететь вместе с нею от этой жизни, от удушающих условий, от этого гнетущего общества и от надвигающихся битв, вырвать ее у прошлого, которое останется здесь, внизу — на Земле, — словно его и не было, и начать новую жизнь…
Яцек горько усмехнулся.
— Да, и передать ее в объятия Марка!
Впервые он ощутил что-то вроде вспышки ненависти к другу детства. И в тот же миг у него забрезжило, что он оказался в крайне смешном положении. «Это же очевидно, — осенило его. — Аза приехала к нему и сейчас подсовывает мысль о совместном полете на Луну только для того, чтобы соединиться с Марком! Просто-напросто использует его как орудие для достижения своих целей. Впрямую об этом не говорит, но ждет, чтобы он сам предложил, а потом еще, вероятней всего, будет отказываться и заставит умолять как о милости сделать то, чего сама, похоже, жаждет всей душой».
Ему даже пришла мысль распорядиться прекратить работы.
— Останусь, — бормотал он. — В конце концов какое мне дело до судьбы сумасброда, который когда-то был моим другом! Как все мерзко, отвратительно, подло! Даже мудрейшие не способны сохранять спокойствие и тянут алчные руки за призрачной властью, даже достойнейшие не могут удовлетвориться величием собственного духа… Хватит с меня всего этого. Нет, вправду хватит! Нужно вернуться домой, положить руку на рычажок выключателя моей машины и уничтожить весь этот мир, который ничего другого и не заслуживает.
Яцек вдруг встревожился, вспомнив, что после возвращения с последнего собрания мудрецов даже не зашел к себе в лабораторию и не взглянул на смертоносный аппарат.
Но тут же пожал плечами.
«Глупости! Кто может без меня проникнуть в лабораторию? Разве что Нианатилока. Но он был вместе со мной на собрании, хотя кто знает, не способен ли он быть одновременно в двух местах?»
Вспомнив мудреца, Яцек вновь погрузился в глубокую задумчивость. Его соблазняла мысль отправиться вместе с Познавшим три мира в цейлонские джунгли или в недоступные Гималаи и искать там знание, которое в корне отличается от того, какое можно найти в Европе и у народов с европейским складом мышления, но в то же время боялся, что пока еще не обретет спокойствия, необходимого для постижения этого нового знания.
Но в любом случае эти мысли помогли ему стряхнуть с себя чары, навеянные письмом Азы, и избавиться от тревоги, какую оно принесло.
Яцек решил ответить вежливо, но холодно, так, словно он ничего не понял и не заметил высказанного между строк желания сопутствовать ему в путешествии на Луну.
А лететь надо, и обязательно! Только бы поскорее закончили корабль!
Торопливо написав в гостинице письмо, Яцек велел подать автомобиль и вновь помчался на завод, откуда уехал около часу назад, чтобы ответить Азе.
По пути его встревожил встречный поток людей, которые, как ему показалось, были рабочими завода и сейчас должны были бы находиться на своих рабочих местах.
«Опять, видно, забастовка, — подумал он. — Какой-то злой рок висит над моим кораблем и полетом на Луну!»
Он велел водителю прибавить скорость, тая надежду, что его влияние сможет удержать рабочих от нового прекращения работы, которая имела для него сейчас такое огромное значение.
У дверей завода Яцек встретил директора. Тот стоял, сунув руки в карманы, и насвистывал сквозь зубы.
— Что слышно? — бросил Яцек, выскакивая из автомобиля.
Директор пожал плечами, даже не поклонившись ему, хотя обычно относился к Яцеку с предупредительной почтительностью.
— Что рабочие? — спросил Яцек.
— Ушли, — безмятежно сообщил директор.
— Опять забастовка?
— Да.
— И когда кончится?
— А она не кончится.
— Как это понять?
— Так и понимайте. Ушли и нет их. Сказали, что не вернутся. Мне это все осточертело. Да пропади она пропадом такая работа!
Промолвив это, директор повернулся спиной и неторопливо пошел, оставив Яцека в полнейшем недоумении.
Только сейчас Яцек заметил, что неподалеку от него стоит кучка людей; они с интересом поглядывали на него и перешептывались между собой. Некоторых из них он знал. Тут были заводские рабочие, старшие мастера, но некоторых он никогда не видел в здешних местах. Сперва ему пришла охота спросить, чем они тут занимаются и почему так на него смотрят, но потом он подумал, а какое ему, в сущности, до этого дело!
Расстроенный, беспомощный Яцек спускался по ступеням, направляясь к ожидающему его автомобилю.
На последней ступеньке ему преградил дорогу один из рабочих.
— Погодите-ка!
Яцек с изумлением взглянул на него.
— Что нужно, дружище?
Рабочий не ответил. Загородив Яцеку одной рукой путь, другой он делал за спиной какие-то знаки. Яцек невольно бросил взгляд в ту сторону. Из-за угла вышел огромного роста человек с лохматой, нечесанной головой и угрюмым, ожесточенным лицом.
— Вы — доктор Яцек? — спросил он, подойдя почти вплотную.
— Да. Но я не знаю, кто вы.
— Это значения не имеет. Зовите меня Юзва.
— А! Грабец как-то упоминал вас.
— Возможно. Мне он тоже говорил о вас. У вас есть машина, которой можно уничтожить города и целые страны…
— И кому до нее какое дело?
— Мне. Мне нужна эта машина.
— Но вы ее не получите.
— Получу!
Юзва кивнул рабочим, и те в один миг окружили их плотным кольцом.
— Я могу приказать убить вас на месте!
— Можете. И что из того?
— А вот мы задержим вас тут, а тем временем перетряхнем всю вашу лабораторию в Варшаве.
Несмотря на опасную ситуацию, Яцек непроизвольно улыбнулся. Он презрительно смотрел на Юзву из-под полуопущенных век. Ему хотелось спросить этого хмурого человека, сумеют ли они, взломав двери его лаборатории и завладев смертоносной машиной, добраться и до его мозга и извлечь оттуда секрет, как пользоваться этим устройством, без чего оно останется всего лишь никчемной, ни на что не пригодной коробкой.
Но в этот миг к Юзве подбежал мальчишка и подал ему листок, на котором было написано несколько строчек. Юзва прочел, усмехнулся и знаком велел рабочим отойти от Яцека.
— Все, вы нам больше не нужны, — бросил он. — Мой друг Грабец сообщил мне, что…
Юзва оборвал фразу и с вежливым, слегка ироничным поклоном указал Яцеку на ожидающий автомобиль.
— Можете возвращаться домой. И советую вам получше караулить свои сокровища.
Яцек пожал плечами, сел в автомобиль и приказал ехать в гостиницу.
Никаких дел у него здесь больше не было. Завод, вероятней всего, остановился надолго; придется отказаться от мысли о скором завершении корабля и пока забыть о полете на Луну.
В гостинице Яцек приказал приготовить на вечер самолет, он хотел поскорей вернуться в Варшаву.
А тем временем Аза у него в доме доводила свою игру до конца.
Вечер был парной, душный. В воздухе чувствовалось приближение грозы. Ее близость ощущалась и на улицах огромного города. Правда, едва спустились сумерки, как обычно загорелись фонари, но через некоторое время целые кварталы стали погружаться в темноту, словно некая злокозненная рука обрывала провода и ломала электрические машины. Но движение на улицах не прекращалось ни на минуту, вот только вместо привычных прохожих, сейчас почему-то прячущихся по домам, появились толпы неведомых людей; в центре они объявились впервые, и никто, пожалуй, не смог бы сказать, откуда они вылезли и где укрывались до сих пор.
Безмятежный, холеный и до сей поры спокойный обыватель с изумлением смотрел на одетых в холщовые блузы людей с угрюмыми, озлобленными лицами; людей, о существовании которых он, если и знал, то лишь по слухам и воспринимал чуть ли не как сказку, что они действительно существуют и являются такими же человеческими существами, как он сам.
На улицах стоял какой-то странный гул, хотя внешне все еще выглядело спокойно. Аза слушала этот гул с крыши дома Яцека, куда поднялась, спасаясь от духоты в комнатах, которую не могли разогнать даже работающие во всю мочь вентиляторы. Она сидела в шезлонге на плоской террасе и смотрела на хаос внизу, пока еще освещенный фонарями, горящими на ближних улицах. А дальше уже была непроницаемая тьма, и чувствовалось: там течет толпа, готовая в любой миг осветить темноту поджогами и взрывами богатых зданий. Певица понимала, что все это означает. Некоторое время она сидела, не шелохнувшись, со странным наслаждением впитывая всеми порами электрическое напряжение бунта и борьбы, уже разлитое в воздухе. Ноздри ее хищно раздувались, губы застыли в сладострастной полуулыбке. На миг ей почудился возбуждающий запах хищного зверя, бросающегося из зарослей на жертву.
Вдруг, опомнившись, она вскочила на ноги. Ей же нужно действовать! Нельзя больше медлить! Если завтра начнется мятеж и она не явится перед восставшими, как огненный ангел, со страшным аппаратом, несущим гибель и уничтожение…
Аза быстро сбежала по лестнице этажом ниже и пошла прямиком в кабинет Яцека. Она знала, что Нианатилока там.
Мудрец сидел в кресле, склонив голову на грудь, и можно было подумать, что он спит, если бы не широко раскрытые глаза, которыми он уставился куда-то в пространство перед собой. Он был почти нагой, в одной лишь шерстяной набедренной повязке. Длинные черные волосы прядями спадали ему на плечи.
Аза замерла в дверях. Ее неожиданно охватила робость, но в следующее мгновение она ощутила безумное желание вырвать этого человека из неподвижности и всегдашней уравновешенности, сорвать незримый покров святости, вызвать дрожь страсти… В этот миг она почти забыла, что не в этом ее цель, что ей нужно покорить и попрать этого человека лишь для того, чтобы открыть проход к двери за его спиной.
— Серато!
Услышав свое имя, он не шелохнулся, не поднял глаз, даже не вздрогнул.
— Да, — промолвил он обычным ровным голосом.
Все планы победы над ним, которые Аза долго и хитроумно выстраивала в мыслях, во мгновение ока спутались и рухнули.
Подчиняясь инстинкту, она бросилась к нему и припала губами к его нагой груди; ее ладони блуждали по его лицу, касались рассыпавшихся волос, гладили плечи. Прерывающимся от страстных поцелуев голосом она шептала нежные слова, говорила о несказанных наслаждениях, каких он не познал за всю свою жизнь, просила, умоляла его прижать ее к себе, потому что она умирает от любви…
В эти минуты Аза и сама не понимала, действительно ли она думает и чувствует то, что говорит, или играет чудовищную комедию, захватившую и подчинившую ее самое. Она чувствовала, что теряет всякое соображение, и последним проблеском сознания оставалась мысль, что сейчас она все бросила на единственную карту.
Нианатилока даже не дрогнул. Он не отталкивал ее, не пытался уклониться от поцелуев, даже не закрыл глаз. Можно было бы подумать, что это не человек, а восковая кукла, если бы не легкая презрительная улыбка, скользнувшая по его губам.
Внезапно ощутив укол страха. Аза отшатнулась от него.
— Серато… Серато… — с трудом выдавила она прерывающимся голосом.
На его смуглом лице не было и тени румянца, кровь не побежала быстрей по жилам.
— Что вам угодно от меня?
— Как! Ты еще спрашиваешь? Я хочу тебя! Хочу тебя! Разве ты не чувствовал моих поцелуев?
Он чуть пожал плечами.
— Чувствовал.
— И…
Он бесстрастно и спокойно посмотрел ей в глаза.
— И удивляюсь, что людям это доставляет удовольствие.
— Как!
— А равно удивляюсь, что когда-то и мне это доставляло удовольствие.
Взгляд Азы нечаянно упал на острый бронзовый нож для разрезания бумаг, лежащий на столе. Прежде чем отдать себе отчет в том, что делает, она схватила этот нож и со всего размаху всадила его Нианатилоке в левую сторону груди.
На лицо и на платье ей брызнул фонтан крови. Она еще успела увидеть, как отшельник вскочил, судорожно напрягся и откинулся назад.
С криком ужаса Аза кинулась к двери.
В передней Аза наткнулась на Яцека, который только что опустился в самолете на крышу дома и спешил к себе в лабораторию. Увидев залитую кровью Азу, Яцек испуганно остановился как вкопанный.
— Аза! Что с тобой? Ты ранена?
Яцек хотел поддержать ее, но она оттолкнула его руку.
— Нет, нет… — бормотала она, словно во сне, скользя по нему невидящим взглядом. Но когда Яцек направился к двери кабинета, откуда она выбежала, Аза закричала:
— Не ходи туда!
— Что такое?
— Я… я…
— Да что?
— Убила… Нианатилоку.
С криком ужаса Яцек рванулся к двери, но в тот же миг она распахнулась, и на пороге появился Нианатилока. Он был бледен, как труп, в побелевших губах, казалось, не осталось ни кровинки, а все его тело и набедренная повязка были обильно залиты свежей, чуть засохшей кровью. На груди под левым соском был явственно виден только что затянувшийся шрам.
При виде Нианатилоки Аза пошатнулась и припала спиной к стене. Вопль замер у нее в горле.
Яцек попятился.
— Ничего страшного. Все уже прошло. Я был близок к смерти.
— Ты весь в крови, на груди у тебя шрам!
— Еще минуту назад здесь была рана. Да, я мог умереть: нож прошел сквозь сердце. Но в последний миг, когда сознание уже покидало меня, я вспомнил, что я еще нужен тебе. Усилием гаснущей воли я поймал последнюю тлеющую искорку сознания и стал бороться со смертью. За всю свою жизнь я не вел тяжелее борьбы. Но как видишь, в конце концов я победил.
— Ты едва стоишь на ногах!
— Ничего страшного, — улыбнулся бледной улыбкой Нианатилока. — Это дает себя знать слабость, но сейчас она пройдет. Я знал, что ты вернешься этой ночью, и ждал тебя. Скорее идем отсюда.
Яцек вдруг вспомнил и направился к двери.
— А моя машина?
Мудрец жестом остановил его.
— Ее уже нету здесь. Машину похитили. Я вовремя не почувствовал этого. Но так, может быть, и лучше. Без тебя никто не сумеет ею воспользоваться?
— Никто.
— Прекрасно. Давай навсегда уйдем отсюда.
Только теперь Аза пришла в себя. В мозгу у нее словно вспыхнул яркий свет. Она бросилась к Нианатилоке и упала к его ногам.
— Прости меня! Прости!
Познавший три мира улыбнулся.
— Я нисколько не сержусь на тебя.
Он хотел пройти, но она обеими руками обхватила его ноги. Ее золотые драгоценные волосы рассыпались от резкого движения по паркету у ног Нианатилоки, губами она припала к его стопам.
— Ты — святой! Ты воистину святой! — восклицала она. — Сжалься надо мною, божий человек! Возьми меня с собой! Я буду верна тебе, как собака, буду тебе служить, буду делать все, что прикажешь! Очисти меня, надели святостью!
Нианатилока равнодушно пожал плечами.
— Женщины не могут обрести благодати знания.
— Но почему? Почему?
Но он не ответил на ее вопрос, похожий на стон. За окнами прогремели выстрелы, забурлила, взвыла толпа. В стекла ударило кровавое зарево. Нианатилока обнял Яцека за плечи.
— Идем!
Яцек не противился. За спиной, словно во сне, он слышал крики Азы, ползущей за ними по полу, слышал, как она заклинает чудотворца не отталкивать ее, угрожая, что если он пренебрежет ею, то она погрузится на дно порока, преступления, подлости.
Яцек взглянул на мудреца; ему почудилось, что губы Нианатилоки чуть шевелятся, словно тот шептал:
— А мне что за дело до этого? Ведь у женщин нету души…
ЭПИЛОГ
После восьми дней смертельного страха и неизвестности Матарет наконец решился вылезти из укрытия. Оглушительный грохот, что день и ночь стучался в крепко запертые тяжелые двери сводчатого подвала и от которого дрожали старые стены, да так, что кое-где по ним пошли трещины, уже некоторое время как прекратился; видно, наверху все кончилось.
Матарет долго не мог решиться. Стоило ему приблизиться к двери, чтобы отодвинуть кованые засовы, в памяти всякий раз вставала страшная ночь, когда запылал и начал рушиться город, и его опять охватывал ужас, похожий на тот, что погнал его сюда, в самый глубокий подвал дома Яцека.
Возможно, он не стал бы спешить и остался бы в этом подземелье, если бы не угроза голодной смерти. При поспешном бегстве он не подумал о припасах; все эти восемь дней единственной его пищей была коврига хлеба, которую он случайно прихватил по дороге, когда пробегал мимо распахнутых дверей пекарни, расположенной в первом этаже большого доходного дома. Воды у него не было ни капли, пришлось довольствоваться вином, которого, впрочем, тут было в изобилии — и в пузатых бочонках у стен, и в бутылках, рядами лежащих на стеллажах.
Ему даже в голову не приходило благодарить судьбу за то, что подвал был открыт и он смог в нем спрятаться. Вбежав сюда, он задвинул за собой засовы и уселся в кромешной темноте, дрожа от страха и не решаясь стронуться с места. Когда жажда стала невыносимой, когда и без того пересохшее от страха нёбо стало жечь как огнем, он стал шарить вокруг в надежде, что, может, наткнется рукой на струйку текущей по стене жидкости и сумеет хотя бы освежить губы.
Но подвал был идеально сух, Матарет не нашел в нем воды, но зато наткнулся на бочки и бутылки. Сперва он опасался, не запасы ли это каких-нибудь химических жидкостей, необходимых Яцеку для научных экспериментов, и, несмотря на невыносимую жажду, долго колебался, прежде чем поднес ко рту бутылку с отбитым горлышком.
Первый же глоток вина в один миг растекся приятным огнем по жилам и изрядно подкрепил силы, подорванные страхом. Ему хотелось пить еще и еще, но здравый смысл превозмог, напомнив, что этот неповторимый живительный напиток, ежели им злоупотреблять, может оказаться смертоносным. Поэтому Матарет сдержался и решил пить не больше, чем необходимо, чтобы пригасить жажду.
Поначалу все было превосходно, и вино казалось отличнейшим питьем, которое не только утоляло жажду и укрепляло физически, но и, возбуждая мозг, поддерживало душевно, а заодно и веселило. Однако не то через два, не то через три дня — в темноте у Матарета не было возможности точно определить, сколько прошло времени, — постоянное вынужденное употребление вина начало оказывать скверные последствия. Желудок, лишь обманываемый скудным кусочком хлеба, в конце концов перестал принимать крепкий напиток; стали давать себя знать мучительные головокружения и общая слабость, все сильней и сильней угнетая Матарета. Он уже предпочитал страдать от жажды, лишь бы не пить вина, к которому приобрел непреодолимое отвращение.
Последний день, проведенный в этой добровольной тюрьме, стал для него непередаваемой мукой; отсутствие еды вынуждало Матарета пить вино, которое только еще сильней отравляло его организм, а отравление вызывало все более острое чувство голода.
Временами он погружался в сон, полный бредовых видений, который неизвестно сколько длился. Во сне ему виделись страшные события: кровавый мятеж, чудовищные взрывы, рушащиеся города, какие-то сражения то ли с людьми, то ли со зловредными лунными шернами. А потом вдруг наступало неожиданное успокоение. Ему снилось, будто он стоит вместе с Яцеком на каком-то холме, возвышающемся над городом, и слушает рассказ о новых, счастливых взаимоотношениях людей на Земле. Яцек ласково улыбается ему и говорит, что все кончилось благополучно и теперь у власти действительно самые достойные, самые мудрые и что скоро он полетит на Луну, чтобы помочь Марку установить там вечный мир.
И опять светлый сон сменялся горячечным, пугающим хаосом.
Солнечный город внизу вдруг превращался в груду дымящихся развалин; повсюду, куда ни кинешь взгляд, небосклон кровавят зарева пожаров; со всех сторон долетают предсмертные стоны и раздается дьявольский хохот человека великанского роста, у которого лицо Юзвы и его огромные кулаки.
Матарет в ужасе пробуждался с желанием закричать, позвать на помощь.
Его окружала глухая тишина, и только голод, все более жестокий, все более мучительный, выворачивал ему кишки и отчаянно подталкивал к двери.
И все же, невзирая на голод и на то, что шум сражения уже довольно давно затих, Матарет с дрожью отодвигал засовы тяжелых дверей, собираясь выйти на свет. В темном узком коридоре и на ведущей наверх лестнице он несколько раз останавливался и тяжело дышал, словно надеялся вместе с чуть посвежевшим воздухом вобрать в задышливую грудь и капельку мужества.
Он воображал, что увидит, когда выйдет на улицу, и заранее подготавливал себя к страшному зрелищу.
Вокруг будут одни развалины, думал он. Вероятней всего, дом Яцека тоже разрушен, и очень даже возможно, что, пытаясь выбраться на поверхность, он обнаружит гораздо более мощные запоры в виде груды камней, кирпича и железных балок, иными словами, обнаружит, что погребен заживо. А если ему и повезет и удастся выйти, то — тут уж можно не сомневаться — он окажется в пустыне среди полнейшего разгрома. Города не существует, кругом одни руины, а в них трупы и огонь, пожирающий то, что еще способно гореть в нагромождении камня и железа.
Однако, поднявшись наверх, он обнаружил, что двери распахнуты. Он вышел в просторный вестибюль; видимо, дом еще стоял, по крайней мере, нижний его этаж уцелел. Вокруг была мертвая тишина. Очевидно, прислуга разбежалась или перебита, решил Матарет, прокрадываясь вдоль мраморной стены к широким двустворчатым дверям, ведущим на улицу. Матарет чуть толкнул их, и они бесшумно открылись; он ступил в ослепительный солнечный свет и испытал невероятное потрясение.
Город выглядел как обычно. Лишь кое-где можно было увидеть запертый магазин, разбитое окно, вышибленную дверь; на некоторых стенах заметны были щербины, словно от пуль, а вдали вроде бы стоял дом, то ли разрушенный, то ли сгоревший в пожаре. И это все. По улице, как прежде, шли люди; ну, может, их было чуть поменьше, однако их вид и поведение отнюдь не свидетельствовали о каких-либо чрезвычайных событиях.
Возле дома как живой символ нерушимого порядка стояли два полицейских.
Один из них мгновенно обернулся на легкий стук двери, закрывшейся за Матаретом, и схватился за висящий на боку револьвер.
— Что ты там потерял? — рявкнул он.
Матарет перепугался.
— Я там прятался… — оробело попытался он объяснить.
Тем временем подошел второй полицейский. Он внимательно взглянул на Матарета и вполголоса бросил своему напарнику:
— Его превосходительство…
— Нет, — возразил тот. — Его превосходительство Рода не лысый. Я его видел. Это, должно, его спутник или слуга, с которым его превосходительство прилетел с Луны.
Он подошел к Матарету.
— В этот дом входить запрещено, — объявил он.
— Да ведь я там был…
— Это ничего не значит. А верней сказать, тем хуже. Кто знает, милейший, не сообщник ли ты…
— Надо ему надеть наручники, — предложил второй полицейский.
— Правильно, — согласился первый, — и отвести в участок или прямиком к его превосходительству.
Поскольку наручники оказались велики для тонких рук Матарета, их связали веревкой и так повели. Он не сопротивлялся и не задавал никаких вопросов. Его охватила страшная слабость, в глазах было темно, он еле передвигал ноги. Полицейские обратили внимание, что он едва идет, поэтому на углу посадили в автомобиль и привезли к роскошному дому, на который Матарет в своих блужданиях по городу как-то не обращал ни разу внимания.
Там его препроводили в большую приемную, где он просидел, наверное, с час, прежде чем распахнулись двери. Служитель в ливрее призвал Матарета на аудиенцию к его превосходительству.
Матарет неверным шагом вошел в кабинет и — онемел. В комнате, обставленной с безумной роскошью, за письменным столом сидел в пышном мундире учитель Рода.
— Ты… Это ты? — с трудом выдавил Матарет. Рода нахмурил брови.
— Ко мне положено обращаться «ваше превосходительство», прошу не забывать!
После чего, отпустив небрежным кивком служителя, Рода велел Матарету приблизиться и позволил сесть.
— Где ты скрывался? — суровым голосом осведомился он.
— Слушай, я есть хочу, — взмолился Матарет. — Дай мне поесть и попить.
Его превосходительство милостиво позволил Матарету заморить червячка, и когда тот, несколько подкрепив силы, возвратился, благосклонно принял его и с первых же слов пообещал взять к себе на службу, если только Матарет будет его слушаться.
Матарет смотрел на бывшего главу Братства Истины и сотоварища земных невзгод с изумлением, граничащим с недоверием. Он действительно не верил собственным глазам и ушам и никак не мог взять в толк, серьезно говорит Рода или смеется над ним.
— Но расскажи, что произошло, — пробормотал он наконец.
— Я уже тебе сказал, что ношу титул «превосходительство».
— Как? Каким образом?
— Я спас мир.
— Что?
— Спас общественный порядок.
— Ничего не понимаю.
— Естественно. Ты всегда был тупицей. Если бы не я, этого города уже не было бы.
— Значит, революция…
— Подавлена! Подавлена с помощью крохотной машинки, которую я героически, рискуя жизнью, вынес из дома этого проклятого Яцека.
— Как это произошло?
В Роде вновь пробудился оратор. Он забыл о новом своем сане, вскочил по приобретенной на Земле привычке на стул и принялся оживленно рассказывать, размахивая руками:
— Да! Да! Я ведь умен, и еще как! У нашего драгоценного покровителя я украл, а правильней будет сказать, отнял дьявольскую машину, которой он мог взорвать весь мир! Я унес ее, укрыв вот тут, на груди, и чувствовал, что несу судьбу Земли — ты понимаешь? — судьбу Земли, которая была праматерью и для нас, жителей Луны! Сердце у меня готово было выскочить из грудной клетки: видимо, Бог направил меня сюда, чтобы я спас род человеческий…
Рода на миг умолк, вероятно, сообразив, что слова о праматери-Земле в его устах могут показаться Матарету несколько странными, поскольку тот издавна привык слышать от него мнения совершенно противоположного свойства. Но, нисколько не смутившись, он продолжал:
— Впрочем, суть не в этом. Ты ведь все равно не поймешь. А машину эту всем хотелось заполучить. Я мог отнести ее Грабецу и сперва так и собирался поступить.
— Ну и что ты сделал?
— Погоди, не торопись. Грабецу я написал только, что машина похищена, чтобы в случае чего он думал, будто у меня ее отняли силой. Можно, конечно, было передать ее Юзве или возвратить за вознаграждение Яцеку, как владельцу, представив дело так, будто я вырвал ее у врагов…
— Так что же ты сделал?
— Ишь, как тебе не терпится! Я сделал самое лучшее, что можно было придумать в таких обстоятельствах. Ты ведь знаешь: я всегда с большим почтением относился к законной власти.
Матарет рассмеялся.
— Да, это так, и поводов для смеха я тут не вижу. Я уважаю власть. И потому по зрелом размышлении я обратился к представителям правительства.
— И они с помощью этой машины…
Рода широко улыбнулся.
— Да, с помощью этой машины.
— Уничтожили, перебили противников?
— Нет, нет, до такой жестокости правительство не дошло. Впрочем…
Рода соскочил со стула и тихо, почти шепотом сообщил на ухо Матарету:
— Впрочем, скажу тебе всю правду, потому как доверяю тебе: из этой дурацкой машины вообще нельзя стрелять.
— То есть как?
— Да очень просто: нельзя и все. Видно, в аппарате, который я принес, чего-то не хватало. А когда двери лаборатории Яцека взломали, чтобы взять недостающее, оказалось, что перед своим внезапным исчезновением он все уничтожил.
— И что же?
— А ничего.
— Не понимаю.
— Потому что ты глуп, как пробка. Ведь о том, что машина ни на что не способна, не знает никто, кроме правительства и меня. А все остальные уже давно слышали, что Яцек обладает страшным оружием. И когда разошелся слух, что смертоносный аппарат в руках властей, этого оказалось достаточно.
— А, понятно..
— Ну наконец-то. Об этом тотчас же объявили и подсоединили все провода телеграфной сети к этому безобидному ящичку. Правительство заявило: уж коль мы должны погибнуть в революции, то пусть же с нами погибнет весь мир! Первыми струсили ученые. Потом настала очередь рабочих и всей этой черни, которой стало жаль ясного солнышка…
— А Грабец? А Юзва? А еще множество других?
— Грабец по приказанию правительства повешен. Юзву убили его же сообщники, так как он не хотел сдаваться, предпочитая чтобы весь мир был взорван к чертям, а им, напротив, очень хотелось жить.
— И теперь ты стал превосходительством?
— Да. У меня титулы «Хранитель машины» и «Спаситель порядка».
Рода с невообразимой важностью прошелся по кабинету и вновь остановился перед Матаретом, заложив руки за спину.
— Разве я не говорил тебе, — ухмыльнулся он, — что не пропаду? Кто бы мог подумать, когда нас возили в клетке вместе с обезьяной…
Но тут же оборвал и пугливо оглянулся: не слышит ли кто, после чего дружески хлопнул Матарета по плечу.
— Не бойся, я тебя не оставлю. Ты страдал вместе со мной, и хотя я мог бы тебя упрекнуть за то, что ты очернил меня перед Яцеком, представив лжецом, я так и быть прощаю тебя и постараюсь…
Рода не успел закончить тираду: Матарет плюнул ему в лицо, круто повернулся и выбежал из кабинета.
В вестибюле полицейских уже не было, никто его не задерживал. Матарет медленно спустился по ступеням мраморного крыльца и влился в уличную толпу. Кое-кто из прохожих бросал мимолетный взгляд на странного карлика; некоторые знали, что он прилетел с Луны, и останавливались, чтобы посмотреть на него, но большинство не обращало внимания.
Он брел, затерянный в потоке прохожих, без цели, даже не представляя, куда ему идти. Порой его взор падал на дом, разрушенный снарядами, на котором трудились каменщики; кое-где встречались группки людей, оживленно обсуждающих недавние события, но других примет, что над миром пронеслась грозная буря, Матарет не обнаружил. К самым большим переменам можно было отнести увеличение числа городских стражников и полицейских, которые подозрительными взглядами провожали чуть ли не каждого прохожего.
Матарет думал о Яцеке. Куда он так неожиданно исчез? Может, погиб во время мятежа? Или посажен в тюрьму? Ему невольно приходили на память недолгие минуты, проведенные с ученым, их беседы, обсуждение планов полета на Луну на выручку Марка. Может, Яцек и вправду улетел на Луну, а его бросил здесь?
Он поднял голову к небу: на голубом своде среди редких перистых облачков висел молочный, поблекший при дневном свете серп ущербного месяца.
Матарет вышел из задумчивости, наткнувшись на плотную толпу, стоявшую перед наклеенной на стене огромной афишей.
Кто-то вслух читал сообщение, напечатанное на ней; слышались возгласы изумления, но чаще — согласия и одобрения правительству, издавшему этот указ.
Заинтересовавшись, Матарет протолкался поближе; ему повезло: удалось вскарабкаться на цоколь уличного фонаря, и он стал читать.
В глазах у него потемнело.
В сущности, указ вроде бы никоим образом не касался его, и тем не менее он чувствовал, как его, необразованного, невежественного пришельца с Луны, охватывает стыд за то, что начинается на Земле.
Правительство Соединенных Штатов Европы сообщало для всеобщего сведения:
«Граждане!
Заботливое правительство в тревоге об общественном благе, доверенном его попечению, после неслыханных и достойных всяческого сожаления событий последних дней считает себя обязанным раз и навсегда положить предел злу, которое общество вскормило собственной жертвенной кровью у себя на груди.
Ученые и изобретатели, бесспорно, некогда были благословением человечества. Это им в какой-то мере мы обязаны благосостоянием, проистекающим из установления господства над силами природы, ибо хотя это мы сами своими трудолюбивыми руками построили заводы и создали экономический порядок, все же необходимо признать, что они своими изобретениями давали обществу импульс для плодотворного труда. И хотя всеобщее обучение также является заслугой общества, которое, пылая рвением к знанию и возвышению душ, построило миллионы школ и взяло в свои руки образование, нельзя отрицать, что и здесь сыграли немалую роль мудрецы, способствуя своими исследованиями открытию новых направлений мысли.
Но то была справедливая плата обществу за то, что оно позволило им продвигаться вперед и своим трудом создавало им необходимые условия для исследований.
В конце концов было изобретено все, что нам необходимо, а исследовано и открыто гораздо больше того, чем сможет нам потребоваться. Ученые, которые именуют себя «всеведущими», стали для нас слишком обременительной роскошью, и общество окружало их почетом лишь в память о давних заслугах их предшественников.
Но вот произошло невероятное. Мудрецы, жившие по милости общества, вступили в заговор против него и вместе с невежественной чернью попытались из своекорыстных интересов поколебать установившийся на Земле порядок.
Граждане! Нам уже не нужны мудрецы! Нам хватит того, что мы достигли к настоящему времени. Правительство, имея в виду благо общества, вынуждено положить конец непомерной гордыне и разрушительным тенденциям.
А посему.
1 С сегодняшнего дня распускается объединение ученых, существующее под наименованием «Братство всеведущих».
2. Отменяются все пенсии, до сих пор выплачивавшиеся ученым, и им предоставляется право зарабатывать себе на жизнь физическим трудом.
3. Равно закрываются все заведения, занимающиеся так называемой чистой наукой и проводящие бесплодные исследования; остаются функционировать лишь институты, приносящие непосредственную пользу и экономическую выгоду.
4. В дальнейшем самым строгим образом под угрозой сурового наказания запрещается содержание частных лабораторий и издание трудов, которые после рассмотрения рукописи особой цензурной комиссией не будут признаны полезными для общества.
5. Сохраняются и содержатся на прежнем уровне ныне существующие профессиональные школы, но раз навсегда закрываются все высшие школы, так называемые «философские» или «общие», и прежде всего содержавшаяся до сих пор на государственный счет «школа мудрецов».
6. Во избежание любого обхода распоряжения, изложенного в п. 5, категорически запрещается частное обучение, под каким бы видом оно ни производилось.
Граждане! Правительство надеется, что вы с благодарностью примете к сведению настоящий указ».
Матарет сполз с фонаря, прислонился к стене и остолбенело уставился в пространство, до того чудовищным и невероятным показался ему прочитанный указ. Относительно недолгое пребывание на Земле и частые беседы с Яцеком привели к тому, что более всего он ценил достижения человеческой мысли и ее свободное развитие; оттого сейчас у него возникло впечатление, что на его глазах человечество совершает варварское, дикарское самоубийство.
Он поднял голову и бросил взгляд на толпу. Матарет искал людей, которых трясло бы, как и его, от негодования, прислушивался, не прозвучат ли слова возмущения.
Но прохожие, остановившись на минуту-другую перед афишей, которая имела решающее значение для судеб человечества, лишь бросали ничего не значащие замечания; по преимуществу, они одобряли правительство, самое большее, поражались его решительности и шли дальше, продолжая болтать о повседневных своих делах, и редко-редко в их разговорах мелькало упоминание о недавних событиях.
Кто-то в доказательство безмерной злокозненности ученых, за каковую они теперь и несут заслуженную кару, вспомнил адскую машину Яцека Кто-то упомянул имя Роды, назвав его спасителем, и с признательностью отозвался о правительстве, которое в награду за столь великий подвиг пожаловало ему высокий сан. В разговор вступил какой-то пожилой господин и сообщил своим молодым собеседникам, что, вероятно, в ближайшие дни вновь выступит в театре знаменитая, прославленная Аза, которая уже давно не показывалась на сцене.
Это известие стало переходить из уст в уста и вскоре наэлектризовало всю толпу до такой степени, что она совершенно позабыла про указ правительства относительно мудрецов. Все только интересовались, правда ли это, откуда получены сведения и в какой роли предстоит им лицезреть божественную актрису.
Матарет перестал прислушиваться к ним. Понурив голову, с саркастически-презрительной усмешкой на губах, он медленно побрел по улице.
— Земля… — шептал он. — Древняя Земля…
А за спиной у него около плаката, возвещающего смерть науке, все продолжался разговор о знаменитой певице и несравненной танцовщице Азе.