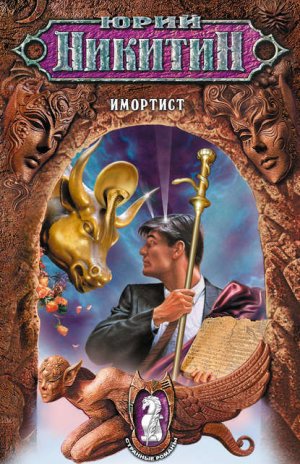
Предисловие
Одна из великолепнейших бомб для разрушения любого строя и самого общества – юмор, стеб, приколы. Такая бомба – удивительная, долгодействующая, с тяжелой степенью радиации плюс бактериологического заражения. Человек, приобщившийся к шуточкам, вдруг с несказанным облегчением понимает, что вообще-то вышучивать и высмеивать можно все: дураков, умных, женщин, правительство, попов, религию, армию, понятия целомудрия и верности, словом – все-все.
А вышутив, постебавшись, и сам начинаешь относиться к этим «священным» обязанностям, как то: служить в армии или переводить старушек через улицу, со здоровым скептицизмом. То придумали сурьезные неулыбчивые люди, что значит – ограниченные, а вот я, остроумный, замечающий несостыковки, могу послать эти обязанности туда, где им и место, то еcть далеко-далеко. Я – выше всяких обязанностей, вот я какой крутой и независимый, аж у самого дух захватывает от собственной смелости ума, раскованности и дерзости мысли.
Но еще старик Аристотель сказал: «Привычка находить во всем только смешную сторону – самый верный признак мелкой души, ибо смешное лежит на поверхности». Мудрый Ж. Жубер добавил: «Выставить в смешном виде то, что не подлежит осмеянию, – в каком-то смысле все равно, что обратить добро во зло».
Наш Гоголь, который сам начинал с приколов и шуточек типа «Майской ночи», да и «Ревизор» или «Мертвые души» – тот еще стеб, заметил очень-очень деликатненько: «Нужно со смехом быть очень осторожным, – тем более что он заразителен, и стоит только тому, кто поостроумней, посмеяться над одной стороной дела, как уже вслед за ним те, кто потупее и поглупее, будут смеяться над всеми сторонами дела».
Свою оценку безудержному приколизму дали Катулл: «Нет ничего глупее, чем глупый смех», Лабрюйер: «Склонность к осмеянию говорит о скудости ума», Ницше, как всегда, предельно резок: «Когда человек ржет от смеха, он превосходит всех животных своей низостью», а Ф. Честерфильд оскорбительно вежлив: «Частый и громкий смех есть признак глупости и дурного воспитания», но мы ведем свое мышление от Вольтера, великого осмеивателя, приколиста, ржуна, который сумел сокрушить тиранию и все такое…
Этот самый Вольтер сказал пророчески: «Что сделалось смешным, не может быть опасным». Добавим – вообще не только опасным, но вообще ничем не может быть, а если и вынырнет из дерьма, в котором мы его утопили, то мы его снова туда со здоровым подсказывающим за кадром гоготом… Не только тиранию луев, но и верность, честь, любовь, дружбу, преданность, отвагу…
Самый серьезный удар любой стройке, будь это строительство коммунизма или железной дороги, наносят разлегшиеся на зеленой травке бездельники. Они, наблюдая за работающими, отпускают колкие шуточки, а те, усталые и думающие о Деле, не могут ответить достойно, голова и руки заняты, злятся, из-за чего выглядят еще потешнее, и здоровый гогот победно гремит вокруг стройки. И вот уже то один, то другой из строителей бросают это дело, уходят к лежунам, что так хорошо устроились с пивком и вяленой рыбкой. Вот теперь и они, чтобы стать такими же продвинутыми и крутыми, присоединяются к шуточкам над теми, кто все еще работает.
Так хорошо ни хрена не делать и ни за что не отвечать, лишь посмеиваться над теми, кто все еще верен дружбе, доверяет жене, готов защитить друга, даст в долг, и, главное, как безопасно над таким прикалываться! А заметили, что нигде и никогда не смеются над бездельниками, а только над работающими, над теми, кто учится, строит, изобретает, создает?
Словом, эта книга для тех, кто работает, учится, создает. А тем, кто лежит на травке и мечтает получить миллион на халяву, насобирав нужных крышечек из-под пепси, лучше взять че-нить полегче. Благо, таких книг с облегченным текстом и для облегченных на голову – море!
ЗЛОЙ ЮРИЙ НИКИТИН
Звезды указывают путь,
но на нем не настаивают.
Часть I
ГЛАВА 1
Обычно виселицу рисуют в виде буквы П, с высокими ножками и узкой перекладиной, но в реальности поперечная балка получилась втрое длиннее столбов. Петли свисают одна подле другой, едва не соприкасаясь. Восемь, все похожи на капли воды в момент отрыва от водопроводного крана. Внизу на длинной лавке со связанными руками восьмеро. Кто-то стоит тупо, опустив голову, двое улыбаются, строят рожи огромной толпе, окружившей помост. Не верят.
Вокруг помоста не меньше чем сотен пять омоновцев, все в железе, в касках, закрывающих лица темным стеклом, вооружены до зубов, не люди, а киборги. Красная площадь переполнена, с высоты Кремлевской стены хорошо видно, как народ теснится даже в переулках. Воздух тяжелый, влажный. Дождь прошел рано утром, но тяжелые тучи товарными составами с углем несутся по плоскому небу над плоской землей, а мы все здесь как муравьи между молотом и наковальней.
На помост поднялся человек в темном костюме. Шум начал затихать, человек подошел к краю, мы видели, как поднес ко рту микрофон. Громкоговорители разнесли по огромной площади зычный голос:
– Начиная с этого дня, казнить будут публично!.. Здесь, в Москве – на Красной площади, а в регионах – на главных площадях.
Рядом со мной Вертинский откинул крышку сверхтонкого ноутбука. На экране возникла запруженная площадь, он сделал несколько переключений, перебирая камеры. Виселица и люди на скамье появились крупным планом. Ловко орудуя тачпадом, он вывел на экран лица людей на скамье. Я зябко передернул плечами. Сколько ни разоблачай Ломброзо, но старик прав. Абсолютно прав. Чтобы из этих зверей попытаться сделать хотя бы подобие людей, нужно вбухать на такое гнилое дело миллиарды в особых исправительных академиях. Лицемеры скажут, что так и надо, жизнь человека бесценна, но для этого пришлось бы обречь на голод и нищету и без того небогатое население края.
Я видел в глазах стоящих на скамье убийц и садистов не столько страх, сколько неверие. Третье тысячелетие на дворе, двадцать первый век, и вдруг – виселица. Да еще не тайком, как в США с их газовыми камерами и электрическими стульями, в каких-то штатах вообще исподтишка вкалывают смертельные инъекции, а вот так – на главной площади! И где – в России, что всегда трусливо шла «за Европой», слепо копировала умирающую систему юриспруденции с ее гребаной архигуманностью ко всяким отморозкам!
Человек в черном костюме сильным толчком выбил скамью из-под ног. Толпа ахнула, как один человек. Люди с петлями на шеях закачались, пытаясь удержаться. Скамья опрокинулась с грохотом. Перекладина заскрипела, прогнулась под внезапной тяжестью. Восемь человек болтаются в петлях, как мухи в коконах паутины, слышны хрипы, кто-то сумел дотянуться до пола, кончики ботинок скребут доски. Только один сразу застыл и вытянулся, петля переломила шейные позвонки, а другие все еще бьются в судорогах, трепыхаются, раскачиваются, стукаясь друг о друга.
Судебный пристав объявил громко, голос звучал профессионально уверенно, зычно, раскатываясь по всей площади:
– Приговор приведен в исполнение!.. Тела казненных останутся до вечера. В двадцать один час их снимут. Напоминаю, тела казненных родственникам не возвращаются. Трупы будут сожжены, а прах развеян. До двадцати одного часа всяк может подняться на помост и убедиться, что исполнение приговора вовсе не липа, как иногда пускают слушок…
Он коротко поклонился, отступил. Я наблюдал, как уходит этот человек, донельзя смущенный, никогда такого не было, никогда в таком не участвовал, и хотя всеми фибрами души жаждал, чтобы преступников казнили прямо на площади, но вслух никогда не осмеливался сказать о такой дикости даже на кухне.
Мы с Вертинским стояли, укрывшись от посторонних глаз со стороны площади, на участке Кремлевской стены, обращенной к Красной площади. Атасов, Тимошенко и Седых негромко переговариваются в двух шагах, я искоса вижу их взгляды, поглядывают то в нашу сторону, то на виселицу. Когда-то, совсем недавно, отсюда наблюдали, прячась от стрел татар и поляков, московские ратники, готовые к битве. Вертинский на казнь смотрит равнодушно, на лице ноль эмоций, юрист высшего класса с многолетним опытом, насмотрелся всякого, а когда наконец поморщился, то явно не из-за повешенных… это собак жалеем, кошек, а люди давно всем осточертели, поморщился же явно при виде выступающего далеко впереди на победном пути агромадного камня-валуна придорожного, на котором твердым почерком написано что-то вроде: «Без вариантов!»
Я судорожно вздохнул. Сейчас эти четверо – моя основная группа, ядро будущего правительства. А все остальное как в зыбком тумане.
Вертинский прищурился, голос приобрел оттенок повышенной значительности:
– Бравлин, а не бежит ли мэр впереди паровоза?
Атасов приблизился, грузный и широкий, такой и Великую Китайскую стену так займет, что хрен какая колесница протиснется, сказал тяжелым густым басом, хрипловатым, словно всю ночь дежурил на холодном ветру и пил только ледяное пиво:
– Смелый человек, очень даже смелый.
Я сдвинул плечами:
– Ну и что?.. Он осмелился взять на себя ответственность за работу городских судей. Судью, что вынес этот приговор, вопреки всем нашим нормам, надо не снимать с должности, а поставить в пример. Они уже, сообразуясь с духом имортизма, начинают сами перестраивать свою работу. Разве не этого мы добивались?
– Но инициатива с мест, – сказал Вертинский с намеком, – может быть… гм… не вполне квалифицированной.
Я сказал досадливо:
– Дорогой Иван Данилович, это вы глаголете или заговорила ревность юриста? Значит, надо срочно засадить за разработку новых законов лучших в нашей отрасли! Юриспруденцию давно пора пересмотреть, срочно пересмотреть!.. Пока же будете мусолить статьи, судьи пусть выносят приговоры, сообразуясь не с марсианскими законами, а с теми… которых ждут защищаемые им жители.
– Но мэр этим ходом сразу привлек и внимание, и симпатии, – заметил Вертинский уже многозначительно. – Наблюдается некоторый перехват инициативы…
– Да, но разве он сделал неверно?
– Рисковый мужик, – произнес Вертинский задумчиво. – Очень рисковый…
– Рисковый, – согласился я. – А мы какие?
Подошли Тимошенко и Седых, растрепанные, похожие на кабинетных эйнштейнов, выдранных грубой дланью из тиши обсерваторий на переднюю линию битвы. Тимошенко тут же спросил заинтересованно:
– Вы с ним знакомы?
– Откуда? – удивился я. – Он не преподавал в наших университетах, я не отирался в коридорах власти.
Седых молча указал на дальние вспышки блицев. Корреспонденты лезли друг другу на головы, спеша запечатлеть самые драматичные моменты, а операторы телевидения ловили в кадр дергающиеся тела повешенных.
– Вся западная пресса, – заметил он мрачно. – Вон, я их морды знаю… Растиражируют… Сегодня же посыплются ноты протеста!.. Нет, сегодня будут составлять и выгранивать фразы, а завтра послы оборвут телефон.
– Им какое дело, – вяло пробормотал я, хотя понятно, им как раз и есть дело, еще какое дело. – Нам важнее, чтобы увидели по всей России. Чтобы поняли, время безнаказанности тю-тю. Исправительных лагерей с санаторным режимом больше не будет.
Вертинский сказал нервно:
– Не слишком ли большой шок?
– Люди этого жаждали, – сказал я твердо. – Все жаждали!.. Да только всяк хотел, чтобы кто-то другой взял на себя такое решение.
– А что скажут на кухнях?
– Важнее, что скажут сами себе, – возразил я.
– Ты посмотри на них!
Я сказал настойчиво:
– Они просто еще не могут поверить. Сейчас будет давка, всяк захочет подняться на помост и пощупать трупы. Очередь выстроится до ГУМа, а там пойдет по переулкам. А когда увидят, что это не муляжи…
Он зябко передернул плечами:
– Бр-р-р-р!
– Иван Данилович, – напомнил я, – пора. Пора за новое законодательство. Даже дикое и стихийное христианство быстро ввели в рамки, создав Церковь! Государство не может без ясного законодательства. А так как мы не собираемся наживаться на толковании законов или угождать Западу, то законодательство сделаем простым и ясным. Понятным каждому. Лучшие законы рождаются из обычаев. Законов должно быть немного, но исполняться должны строжайше.
Все умолкли, со стороны площади шум стал мощнее, с недоброго неба словно упала тень двойной плотности, слышались отдаленные раскаты. Вертинский вздохнул, покачал головой, Атасов указал в сторону помоста, где толпа опасливо напирала на двойной кордон из омоновцев.
Миром правят хамы, мелькнула у меня злая мысль, хотя изначально замышлялось совсем не так, совсем не так… Первая и основная развилка возникла, когда Сим пошел по пути имортизма, выбрав веру в Цель, ибо такая вера наполняет жизнь высоким смыслом, Хам и Яфет выбрали вечное бунтарство, красивое и гордое: мир создан по случайности, а цели задаем мы – люди. Все трое породили массу племен и народов, создали могучие государства. Особенно в этом преуспел Яфет, отважный, могучий, очень чувствующий красоту, самый блистающий умом, телосложением и дерзостью творений.
Яфет – это простор, это завоевание огромных пространств, воинские победы, это создание культурных ценностей. Сим – это этика и мораль, Яфет гораздо лучше Сима и Хама чувствует красоту, эта его черта сильнее всего отразилась в создании эллинской культуры, пронизанной ощущением красоты и гармонии. Яфет – это человек, лучше всего пригодный для завоевания мира, в то время как Сим – человек с внутренними исканиями, внутренней борьбой добра и зла. В идеале Яфет должен был бы слушаться Сима в области морали, а Сим должен был чтить Яфета за его красоту и все, что он может сделать с категорией красоты. Ошибка Яфета в абсолютной уверенности, что «красота спасет мир». Ошибка Сима в том, что отстранялся от могучей мощи Яфета, замыкался в своем внутреннем мире, в своих исканиях, а основной конфликт произошел, когда многие греческие государства, сражаясь между собой, попутно пытались и потомков Сима заставить принять свою культуру… Это была самая тяжелая война, ибо у греков не только острые мечи, но и высокая культура, которая сломала абсолютное большинство иудеев, и те отказались от своей морали, своего бога, ставили статую Зевса Олимпийца, жарили свиней в храмах и ели их, забывая даже свой язык.
Яфет, как ни крути, родоначальник современной литературы, поэзии, музыки, спорта, философии, ваяния и прочая, прочая, прочая. Однако культура сама по себе не имеет самостоятельной ценности: Гитлер был прекрасным художником, Гейдрих виртуозно играл на скрипке, а Буш мог отличить одну картину от другой, так что культура все-таки должна быть служанкой у госпожи этики.
Для нас, имортистов, вся Вселенная, пространство и время, звезды, планеты и человек созданы не в результате случайности. В акте творения мироздания лежит неведомая нам Цель. Мы не можем доказать ни того, ни другого, в этом и проявляется первый выбор человека: верить в случайность или в Цель. В любом случае приходится верить, но этот выбор определяет весь дальнейший путь человека.
Наука, культура, искусство – это все дело рук детей Яфета, наделенных острым пытливым умом и тонким чувством прекрасного, но без духовных ориентиров сынов Сима, яфетиды постепенно сбились с пути и стали служить потомству Хама, намного более многочисленному, горластому, нахрапистому, живущему сегодняшним днем, а это значит, что их цели и жизненные интересы понятнее, ярче, заметнее и убедительнее.
Яфетиды, умные и талантливые, однако без нравственного стержня симидов, недолго делали прекрасные статуи и величественные храмы для ублажения духа, недолго занимались чистым искусством, чистой наукой: дети Хама быстро уговорили их послужить и более примитивной части человека, то есть заняться такой деятельностью, что дает более быстрый и сильный отклик.
С тех пор все, что придумывали яфетиды, приспосабливалось хамидами, чтобы тешить самую примитивную часть в человеке, самую низменную, самую животную, самую скотскую. Хамиды завладели миром целиком и полностью, симиды затерялись где-то на крохотном участке, влияние их ничтожно, массы потомков Хама их просто не замечают, а когда замечают – пренебрежительно посмеиваются. Другое дело – яфетиды – это талантливейшие слуги, изобрели автомобиль, телевизор, мобильники, компьютеры для байм, создали Интернет для просмотра порносайтов, постоянно изобретают и создают для массы хамидов особо гигиенические прокладки, оптоволоконную связь, чтобы порнофильмы перебрасывать через спутники прямо на жидкокристаллические панели огромных телеэкранов, создают новые системы ценностей для детей Хама: что-де нет ничего важнее на свете, чем свой желудок и гениталии, не надо быть героем, высмеять и оплевать все – хорошо, круто, нет любви, а только секс, траханье, и если трахаться всем и со всеми, не обращая внимания на пол, возраст и даже биологический вид, то все в мире будет о’кей, даже прекратятся войны между народами и ссоры в семьях…
Вертинский смотрел хмуро, кутался, подняв воротник, ветер не по-летнему холодный, пронизывающий, а мы торчим на Кремлевской стене, как банки из-под пива, расставленные для состязания в меткости.
– Первый шаг иммортализма, – пробормотал он.
Я прикусил губу. Вертинский, единственный, кто не принял смену иммортализма на имортизм, по-прежнему упорно называет иммортализмом. Мне самому очень не хотелось менять, но меня сперва достали знатоки, откопавшие в истории, что иммортализм, оказывается, уже придумали сто лет назад, а потом еще серьезнее достали всякого рода деятели, требовавшие соблюдать каноны того древнего иммортализма.
Я отыскал в пыльных архивах все о том старом иммортализме, подивился: молодцы ребята, но все-таки у меня другое, другое. Вас нельзя брать даже как фундамент, потому что ваш иммортализм от простого и понятного всем нежелания умирать, а этого мало даже для философской системы, тем более ничтожно мало для религии. Мало ли что человек не хочет умирать? Родина велит – откинешь копыта как миленький, еще и язык высунешь. Да и вообще только у самых примитивных животных и демократов личная свобода и собственные прихоти превалируют над общественными. В моей же системе человек должен жить вечно, обязан быть бессмертным, это его долг перед обществом и Богом, а не личное желание. Только бессмертные могут выполнить предначертание Творца. Смертный просто не в состоянии добраться до Творителя, он должен постоянно совершенствоваться, перестраивать свое тело, то есть изменять не только природу вокруг себя, но и свою природу, природу человека!
Но самое главное – в том их научном иммортализме ни слова о Творце, что сразу же превращает иммортализм в игру ума для немногих, кто вдруг осознал свою смертность и до свинячьего писка страшится умереть. Мне по фигу, что кто-то раньше меня сказал «а», в лучшем случае сказавшие это будут в роли Иоанна Крестителя, но не хочу, чтобы народ путался в совершенно разных вещах, называя их одним и тем же именем.
Наши знания ограниченны, как и опыт, потому есть ли Бог, нет ли Его, для меня вопрос открыт. Я предпочел бы, чтобы Он был, это придает смысл жизни, но вообще-то, по большому счету, неважно мое отношение к Богу: общее у имортизма с любой религией самое главное, базовое: мы хотим спастись от смерти и обрести жизнь вечную. К тому же обязательно не где-нибудь в аду на раскаленной сковородке, а, так сказать, жизнь правильную, праведную и достойную.
Человек был сотворен по образу и подобию Бога, значит, тоже создан бессмертным. Во всяком случае, был таким до изгнания, но это не значит, что таким и останется. Если мы идем к Богу, то вернем себе и бессмертие.
Помню, как я полгода назад пришел в нашу комнатку, ее начали использовать как первый штаб нашей новой религии, сказал с порога:
– С этого дня всякого, кто скажет «имморталист», будем бить колодой по шнобелю!..
– Колодой для рубки дров? – уточнил Атасов. – Или мяса?
А Тимошенко сразу деловито поинтересовался:
– А что взамен?..
– Что-нибудь абсолютно новое, – сказал я сварливо. – Достали, придурки… Ну, к примеру, этергизм… Вроде бы звучит энергично.
– Этергизм, – повторил Атасов. – Этер – это от eter– nity, да?.. А гизм… что-то знакомое, слышится ржание боевых коней, звон мечей, рев боевых труб, плещется знамя Гизов… или гезов…
– Да нет, – сказал я с неловкостью, – просто «этергизм» звучит недостаточно зычно. Надо еще звук… Или «итергизм»? Да, итергизм – лучше. Слово кажется ненашенским, абсолютно новое, никто раньше не слышал, но когда притрется, то станет обыденным, как «метрополитен». А со временем еще и освятится, как нечто… нечто особенное. Мы же, как профи, знаем, почему два веселых политика разного полу в хорошем подпитии придумали праздновать женский день именно в марте и именно восьмого числа! Люди попроще за эту анатомическую особенность зовут женщин даже не восьмерками, а двустволками, но подлинный смысл сакральной цифры быстро утерян, все отмечают этот день с очень серьезными лицами даже на самом высоком уровне! То же самое будет и с итергизмом. Для людей попроще это слово будет звучать, как вечевой колокол, таинственно и богозовуще, а для нас, итергистов, это просто удобный и емкий термин.
– Итергисты? – переспросил Атасов с интересом. Повторил, едва шевеля губами, прислушался, как оно перекатывается из одного полушария в другое. – Непривычно… но я не старая бабка, что в штыки любое новое слово!.. А свое неумение выговорить новый термин объясняет борьбой за чистоту русского языка. Неплохое слово.
Седых покачал головой, глаза сверкали неодобрением.
– Несерьезно, – проговорил он осуждающе. – Несерьезно, друзья. Нельзя вот так с ходу. Надо бы собрать совет, долго мыслить, спорить, ящик пива оприходовать… а еще лучше – водки. И тогда, за долгой умственной работой, временами переходящей в мордобой, придумали бы. А потомкам рассказали бы что-нить о Совете мудрецов…
– Так и скажем, – отрезал я нетерпеливо. – Ты ж видел, с каким серьезным видом отмечают Восьмое марта? То ли еще будет с итергизмом!
А Тимошенко сказал задумчиво:
– А мне, как поэту и христианину, нравится именно «тернист». Здесь и намек, что путь наш тернист, и на терновый венец, что возложили на чело нашего Спасителя…
Атасов поморщился, сказал сварливо:
– Вашего, вашего спасителя! Меня никто не спасал, и не хочу, чтобы меня вот так спасали. Без спросу. Я атеист!
– Но ведь ты ж принял имортизм? – спросил Тимошенко с коварством в голосе. – А это ж религия…
– Ну и что? – огрызнулся Атасов. – В имортизме сказано, что это мы, когда станем крутыми, пойдем к Творцу и сами его спасем!.. Эта религия по мне!
Я улыбнулся невольно, вызвав подозрительный взгляд Вертинского.
– А вы, Богдан Северьянович, что скажете? – спросил я Тимошенко.
Он тяжело вздохнул, развел руками:
– Бравлин, что вами движет? Если только опасение, что идеология, всецело созданная вами, будет приписана другим людям, то тогда… нет, даже тогда нет угрозы вашему приоритету. Там иммортализм, а у вас – имортизм. Отзвук знакомого… кстати, очень-очень немногим знатокам знакомого слова, но – только отзвук! Мы уже привыкли к имортизму. Это наш термин. С ним пойдем и с ним перестроим человеческое общество!.. Так что я всеми фибрами и жабрами за наш прежний термин… Да вы посмотрите на остальных!
На меня смотрят серьезно, готовые принять мое решение, я сейчас что-то вроде пророка… нет, уже первосвященника, это уже пророк, получивший реальную власть, от меня зависит очень многое, но я не могу не учитывать желаний своих верных соратников, я все же сын Яфета, и я сказал со вздохом:
– Хорошо… да будет именоваться имортизмом.
– А кто назовет иначе… – проговорил Атасов многозначительно.
Тимошенко хохотнул:
– Ого, наш дражайший Павел Павлович метит на должность директора ФСБ!
– Тогда уж святейшей инквизиции, – поправил педантичный Седых.
Ветер дул все сильнее, пронизывающе. Над площадью медленно пролетел ярко разукрашенный рекламами кока-колы вертолет. Из распахнутых дверей едва не вываливались телевизионщики, поспешно снимая происходящее на площади. Я стиснул зубы, представляя, как все это сразу появляется через спутники на телеэкранах во всем мире, как в шоке собираются семьи, останавливается работа, на улицах замирает движение.
Я заговорил громко, стараясь сделать голос сильным и уверенным, теперь наш раскочегаренный паровоз уже не остановить:
– Приятно смотреть на такое, но надо возвращаться к нашим баранам. На семнадцать двадцать совещание с основными министрами. Завтра поговорю с остальными на расширенном Совете… Еще никто не надумал принять на себя какой-нибудь пост?
Они переглянулись, Атасов тут же перевел взгляд на площадь и с преувеличенным вниманием рассматривал виселицу, Седых торопливо выудил платок и принялся тереть стекла очков, глаза сразу стали жалобными и беспомощными, как такого человека в правительство, жестоко, а Вертинский сказал после паузы:
– Соблазнительно, конечно… Как же иначе: одержали победу, а добычу хватать не начали? Но, Бравлин, управлять отраслями должны специалисты, а специалистами – мудрые. Мы и есть мудрые. Пусть не будем так на виду, как министры обороны или КГБ…
Седых уточнил живо:
– Министр КГБ, напротив, в тени-с!
– Ну ладно, как некоторые из правительства, – поправился Вертинский, – что постоянно маячат по жвачнику. Зато пользу принесем.
Атасов обернулся и сказал с мудрой иронией:
– Мы, в отличие от олигархов, помним, что все равно оставить придется все. Даже тело. Так стоит ли тужиться, хапая? Нет, лучше побудем при тебе Тайным Советом.
Мы спустились по специальному трапу, это еще и сигнал полусотне снайперов на крышах ГУМа, Покровского собора и Музея революции, что можно покидать пост. Или хотя бы расслабиться. Аккуратно уложенная брусчатка блестит после дождика, я велел не разгонять тучку, дождик – хорошо, у входа в здание уже топчется целая группа агентов охраны с зонтами наготове.
ГЛАВА 2
Мы довольно бодро поднялись по ступенькам, теперь это наше здание, наш Кремль, как и вся Россия, мы победили на выборах, пусть с крохотным перевесом, но победили, противники нас не приняли всерьез, а пока соберутся…
– В большой кабинет? – поинтересовался Вертинский.
– Нет-нет, – сказал я торопливо.
Он засмеялся:
– Господин президент, не торопитесь с ответами! Иначе чего-нить брякнете, не успев, скажем, сформулировать. Речь государственного деятеля должна быть медленной и плавной, а мысль должна уйти на два абзаца вверх и выстраивать слова в эдакие безликие и безугольные фразы…
– О, Господи!
– Что делать, за вами теперь глаз да глаз. Как свой, так и весьма чужой.
Я остановился перед дверью в малый кабинет, работник охраны тут же распахнул дверь, я кивнул Вертинскому:
– Прошу!
Меня не пугают роскошные залы, но в небольшом рабочем кабинете чувствую себя намного уютнее. Всего два стола, составленные буквой Т, простой ковер с незамысловатым рисунком, пять стульев, не столько роскошные, сколько удобные и функциональные, мой стул спинкой упирается в стену, над головой государственный герб в виде рыцарского щита с красным полем, на котором двухголовый мутант с зависшей над головами короной. Головы таращат глаза в разные стороны, ну это у нас всегда, крылья растопырены в ужасе, будто падает камнем с огромной высоты, лапы раскинуты в стороны, в одной палка, в другой – булыжник, но с каменного века они облагородились, украсились бриллиантами и стали называться непонятно скипетром и державой…
Справа и слева от меня два прапора, в смысле – знамени. Справа – красно-сине-белый, это российское, слева – то же самое, но с золотыми вензелями, завитушками, пышной золотой бахромой – мой личный. В смысле, для России можно и попроще, а для правителя, словно для негритянского вождя прошлых веков, надо поярче, побогаче, попышнее. Правда, в самом углу, но, возможно, этот угол и есть самый что ни есть красный.
Обычно я сидю вот в этом кресле между флагами, люблю чувствовать за спиной стену, никто не подкрадется сзади и не гавкнет над ухом, но, когда с кем-то требуется поговорить по делу больше чем две-три минуты, я пересаживаюсь на стул у основания Т, тогда с собеседником напротив друг друга. Уже не просителя принимает высокий начальник, а говорим как соратники. Даже без «как», просто соратники.
Коваль проинструктировал, чтобы ни в коем разе не садился на правой стороне стола, там оказываешься ближе к окну. И хотя оно всегда плотно закрыто шторами, особыми, что гасят любые попытки перехватить разговоры, но, если можно выбрать более безопасное место, почему не сесть туда? Впрочем, я и сам предпочитаю слева, так за спиной стена в двух шагах, а перед глазами шкаф с книгами и дверь. У мужчин же психика собак в конуре: всегда садятся лицом к входу.
Вертинский бросил шляпу в кресло, сел в другое. Неслышно ступая, вошла статная женщина с подносом в обеих руках, от фарфоровых чашек пошел аромат крепкого кофе. Вертинский жадно ухватил чашку, на секретаршу не повел взглядом, не Моника, хотя, конечно, хороша, кто спорит.
Я оглянулся:
– А где Седых и Тимошенко?
– В библиотеку улизнули, – ответил Вертинский. – Отстали, как школьники от строгих учителей, смылись…
– У нас есть что посмотреть, – согласился я. – Сам бы порылся.
Чашку взял не глядя, в виски стучит кровь, настойчивая мысль пошла уже по кругу, как слепая лошадь на мельнице: путь дальнейшей гуманизации общества, начатый еще французскими утопистами-вольтерьянцами, исчерпал себя, исчерпал. Окончательно исчерпал. По планете разливается грязная волна никакой не гуманизации, а нелепой пародии, из-за которой возненавидишь и весь гуманизм: все эти политкорректности, демонстративное траханье на людных улицах, процветающие секс-шопы возле оперных театров…
Нет! За топор не просто пора, а давно пора. Необходимо! Даже раньше надо было, пока можно было отрубить гниющий палец, а не руку. Мне с идеей имортизма удалось всадить острие топора в самую суть проблем, а теперь, получив всю полноту власти, уже все мы, имортисты, беремся за топоры. Снова и снова повторяю себе и другим, чтобы не струсить, не отступить: пришло Время топора. Час топора. Время перемен. А так как с переменами затянули, все уже чувствуют, но никто не решается первым, то эти перемены теперь оч-ч-ень крутые. И с кровью. Мэр столицы, зная нашу программу, с которой мы пришли к власти, самостоятельно ввел публичные казни в столице, стараясь хоть как-то сдержать разгул преступности. При чрезвычайных обстоятельствах – чрезвычайные меры.
Александра, так ее, кажется, зовут, вновь появилась очень тихо, поднос опустился на стол так, словно стол из бархата. Передо мной возникли на двух блюдцах расстегаи, сандвичи, крохотные бутербродики с мясом и сыром. Я поблагодарил кивком, Александра постояла пару мгновений, чуть дольше, чем требовалось, но я уже смотрел на экран монитора, и она исчезла так же тихо, как и вошла.
На экране высветилось окошко броузера, я вошел на головной сайт имортизма, сейчас их уже тысячи, цифры на счетчике мелькают с бешеной скоростью.
Форум пришлось разбить на несколько подконференций, уже по отдельным аспектам имортизма, там ведутся жаркие споры, но и тогда ветки разрастаются так, что уходят в бесконечность, а не у всех толстые каналы, надо бы резать на страницы…
Я быстро просматривал новости, чувствуя себя Карлом Марксом, Томасом Мором и Кампанеллой, которые вдруг получили всю полноту власти. Одно дело умничать на кухне, критикуя, конечно же, тупейшее правительство и подсказывая этим идиотикам в Кремле, как надо и что надо, другое дело – внезапно оказаться у руля. Да еще на корабле, что с пробоинами ниже ватерлинии, со сбитыми парусами, спившейся командой, в то время как буря все крепчает…
Вертинский отсиделся, поел все бутерброды, я боковым зрением видел пятно его фигуры, начал бродить взад-вперед, рассматривая обстановку, любопытный, наконец я ощутил его теплое дыхание на шее.
– Страшно?
– Еще как, – признался я. – Взгляните, Иван Данилович, что творится!
Я привычно обращаюсь к нему на «вы», он был моим преподом в универе, он пока что на «ты», но, замечаю, все чаще переходит на «вы», стараясь проделать это понезаметнее, я же все-таки не студент, а президент страны…
– Держись, – произнес он. В голосе старого юриста были нежность и бессилие чем-то помочь. – Держись, ты к этому шел.
– Да, конечно, – ответил я бодро, перед всеми надо быть героем всегда, но внутри разрастается холодная тяжесть. Не шел я к этому, не шел! Я мудро и красиво теоретизировал, умничал, создал изящную и высокопарную систему, в которой миром правят умные люди, а неумные занимаются работой попроще. Естественно, куда идти, что строить, какие книги писать и какие фильмы снимать – определяют в моей схеме только умные люди, а не большинство, ибо все знаем, какого сорта это самое большинство. Я сам чувствовал, что эта модель слишком правильная, безукоризненная, чтобы стать жизнеспособной, но то ли сумел подвести очень прочный фундамент, то ли в самом деле население обожралось происходящей дрянью… но – революция свершилась!
Я знаю только две революции, что действительно тряхнули и изменили мир, это – Великая Октябрьская в России и Великая исламская в Иране, последствия которой все еще недопонимают. И вот мы свершили третью… самую грандиозную. Понимали аятолла Хомейни и Ленин, что могут прийти к власти? Я, честно говоря, оказался не готов. Как и всякий русский интеллигент, всегда готов к постоянному брюзжанию и маниловщине, изничтожающей критике этих идиотов в Кремле, окруживших себя идиотами помельче, у которых тоже идиоты в услужении, и так до самого низа, а там этот народ-идиот, косорукий и тупой, спившийся и вымирающий, который все делает через задницу, и только вот мы, русская интеллигенция, соль и совесть нации, ее цвет и драгоценность, ее чудо и золотце… Нет, эти русские интеллигенты выдвигали порой и прекраснейшие идеи, проекты, но у них не хватало ума и, главное, энергии не то чтобы довести до конца, но даже отшлифовать, придать законченную форму, чтобы восприняло как можно больше народу.
Ничего не попишешь, мы всегда чуточку не готовы к новой жизни. Трезвая данность в том, что я – президент России, вокруг меня небольшая кучка сторонников, большая куча тех, кто понимает и поддерживает пассивно, и огромное бескрайнее море… не скажу, быдла, но простого и очень простого народа, который с восторгом принял заброшенную нам с Запада идею, что вовсе не обязательно карабкаться вверх, учиться, совершенствоваться, каторжанить себя тренировками или учебой, а можно расслабляться, балдеть, оттягиваться, релаксировать, отрываться, кайфовать, просто жить, развлекаться, требовать от верхов хлеба и зрелищ, то есть футбола, хоккея и дурацких телешоу, причем чем тупее – тем кайфовее, и каждый ответствен, это же надо такое брякнуть, только перед собой, что значит: а пошли вы все на хрен – родители, воспитатели, учителя, армия, культура, правила поведения!
Сейчас даже не Юса наш единственный противник, миазмами юсовости пропитан мир, хотя, конечно, единственное место, откуда эта дрянь льется волнами высотой с небоскреб и затопляет мир, – это территория за океаном. Эту гадину мы должны раздавить, как раздавили ее полторы тысячи лет назад, тогда она называлась Римской империей, а нас точно так же называли дикими и непредсказуемыми варварами.
Перед глазами возник глобус, теперь я должен видеть его чаще, чем миску супа. На экране, словно откликаясь на невысказанные мысли, засветилось небо, видны в полете крылатые ракеты, вздыбливается земля, рушатся многоэтажные здания, заваливая обломками автомобили, разбегающихся прохожих. Да, вчера войска США подвергли жесточайшей бомбардировке Сомали, сегодня еще бомбят, а через пару дней обещают оккупировать страну полностью. И, конечно же, восстановить там режим демократии.
Если судить по их словам, то победно несут знамя демократии и гомосексуализма все дальше и дальше по планете. Вот уже за Ираком пал еще один деспотический режим, но… тем, у кого на плечах голова, а не другое место, видно, что это всего лишь отчаянные попытки контратаки на отдельном, как принято говорить, участке необъятного фронта. На самом же деле США в глухой обороне, их позиции трещат, они отступают, как раньше говорили, «на заранее подготовленные позиции», а на самом деле отступают в полном беспорядке и в черном унынии. Ислам побеждает вовсе не крылатыми ракетами, которых у него нет, а своей идеологией, убежденностью, пассионарностью.
Президент Джексон, что пришел после Миллера с его шимпанзиными амбициями, сделал мудрый, хотя и запоздалый шаг: резко уменьшил присутствие своих войск за пределами США, а тем, которые остались, велел держаться ниже травы тише воды, не выпячивать свою американскость, ибо с недавнего времени все американское стало пользоваться не всеобщей любовью и преклонением, как рассчитывал Миллер, а откровенной ненавистью.
На волне этого решения полностью убрали юсовские патрули вокруг квартала посольства США в Москве. Патриоты из РНЕ сами организовали охрану по всему периметру, ибо всякая мелочь, что раньше страшилась косо посмотреть в сторону американцев, теперь рвалась громить само посольство, жечь их машины, разносить ограду, забрасывать двор и здание если не гранатами, то хотя бы камнями и бутылками с чернилами. Сотрудники посольства боялись выходить за ограду, на эрэневцев смотрели со страхом и непониманием: из врагов вдруг превратились в защитников. На английское посольство никто по-прежнему оскорбительно не обращает внимания: мол, чего пинать пуделя, накрепко привязанного удавкой к американскому бронетранспортеру?
Я помню, как назойливо и вроде бы всякий раз демонстративно показывали юсовских вояк на джипах, на бронетранспортерах, что фактически оккупировали Москву. Показывали по новостным каналам, по итоговым, даже в финансовые сводки ухитрялись вкраплять кадры, как юсовский бронетранспортер движется по главной улице Москвы, а русские тупо глазеют, все до одного со спитыми мордами, косорукие, вислобрюхие. Те, которые матерятся и сжимают кулаки, – фашисты, а те ублюдки, что приветствуют радостным воем, – демократы, истинные общечеловеки, гомосексуалисты, педофилы и прочие будущие члены демократического сообщества.
Юсовские войска остались только в Прибалтике, там слезно умоляют не выводить, авось русский медведь устрашится и не захватит эти земли снова. Юсовцы остались с немалой неохотой и в великой растерянности. Совсем недавно, во времена СССР, и в России обожали все американское, чуть не молились на Вашингтон, а теперь даже дети смотрят с такой ненавистью, что как бы и в Прибалтике не повторилось…
Послышался тихий звонок, Вертинский приложил руку к уху, лицо стало серьезным. Кивнул невидимому собеседнику:
– Хорошо, передам Бравлину…
– Что там? – спросил я.
– Да все еще в библиотеке, – ответил он с ухмылкой. – Ты же велел подумать над учреждением Высшего Совета, что-то вроде политбюро нашего движения, вот и ломают головы. К тому же споткнулись на проблеме казней…
Я насторожился, взглянул в упор:
– А при чем здесь Высший Совет и казни?
Он смолчал, глаза оставались непроницаемыми. Я взглянул на часы, до общего сбора министров еще с полчаса, сказал резко:
– Пойдем посмотрим.
Кремлевская библиотека, конечно, поменьше Ленинки, но здесь обходятся без художественной литературы, а вот большинство актов и законодательств, которые опасно доверять даже спецхранилищам, найти можно.
Тимошенко, Седых, Атасов и еще с десяток самых активных и продвинутых деятелей имортизма с комфортом расположились в первом зале, на столах горы бумаг, роются, как свиньи в корнях дуба, только что не хрюкают от наслаждения. А может, и хрюкали, просто умолкли и повернули головы на стук двери.
Я прошел, сел за ближайший стол, Вертинский медленно двинулся вдоль стеллажей, жадно высматривая реликты. Я оглядел всех исподлобья. Неприятным голосом спросил:
– А что, кто-то из вас в самом деле против публичных казней?
Они торопливо переглядывались, молодые и немолодые, увенчанные академическими званиями и селфмэйдменовские. Здесь как бы две группы: первая – молодые и яростные, что совершили эту революцию, слово «молодые» относится не к возрасту, вторая – немолодые прожженные управленцы, профи, способные примениться к любому режиму, любой смене власти. Они приняли имортизм еще при старом режиме потому, что обещает обществу больше, чем иные системы, я этих людей ценю не меньше, они немало сделали для нашей победы на выборах.
Первым голос подал, как ни странно, один из первых, кто перешел из дочеловеков в имортисты, Атасов.
– Я не против, – сказал он осторожно, стараясь приглушить зычный голос, – но теперь мы взяли власть!.. Наша задача – удержать ее… Простите, я не то говорю, власть нам, как просто власть, на фиг… дерьма в ней больше, чем конфет, но мы теперь должны, как бы сказать, прислушиваться к мнению других стран… как раньше прислушивались к мнению соседей, коллег, даже собутыльников.
Я слушал, рассматривал его пристально, могучий самец, великолепный экземпляр хомо действующего, хотя таким не выглядит. Массивный, похожий на грушу, даже лицо груша: узкий лоб, расширяющиеся скулы и тяжелая нижняя челюсть. От глаз одни щелочки, взгляд нарочито умиротворенный, темные мешки, мясистый нос, толстые губы, даже фигура все та же груша: узкие плечи и все расширяющееся книзу, до карикатурной задницы.
Он говорил, покряхтывая, словно от вороха болезней, но ведь, гад же, каждый день проплывает в своем бассейне по два километра, а это побольше, чем трусцой одолеть десять. Но поесть любит, не скрывает, даже бравирует, у человека должны быть слабости напоказ, чтобы лучше прятать нечто более серьезное. Если даже Атасов начинает трусить, то это пугающий симптом…
Он умолк, смешавшись. Я постучал карандашом по столу.
– Ну-ну, – поощрил я с иронией, – продолжайте, господин… или товарищ, пора бы уже определиться, словом, Павел Павлович.
Атасов развел руками. В роли члена правительства или одного из Высшего Совета он чувствовал себя, как корова в казино, но я ввел в Совет, как одного из первых, и он добросовестно старается быть полезным и после победы.
– Я хочу сказать, – промямлил он совсем жалко, что ну никак не вязалось с его кингконговой фигурой, – что в какой-то мере мы не должны уж чересчур…
Он снова смешался, умолк. Я подождал, за столом начался тихий говорок. Я постучал снова, наступила тишина, все взгляды скрестились на мне.
– Я помню, – сказал я неожиданно для всех мягко, а то что-то последние дни чересчур зол, вот-вот интеллигенция заговорит о зловещем оскале имортизма, – весной, уже солнце вовсю жарит, а народ все еще в зимнем… А я решался одеться полегче первым. Иду по улице в рубашке или в пиджаке, а навстречу все в пальто, шубах, дубленках. Задыхаются от жары, на меня смотрят во все глаза. Заранее знаю, что дома скажут своим: уже ходють! И завтра все те, кто меня видел, выйдут в пиджаках вместо шуб. А послезавтра на костюмы перейдут те, кто видел тех героев.
Седых спросил осторожно:
– Хочешь сказать, что и остальные страны… могут последовать?
– А ты не веришь?
Он сдвинул плечами, голос прозвучал несколько колеблющийся:
– С победой Октябрьской революции у нас с нетерпением ждали мировой. Не повторить бы ту же ошибку…
Я поморщился:
– Последуют, но не так явно. Просто в России все всегда резче, круче, кровавее. Но мир изменился, жаль, мало кто это заметил. Во многом наша победа обязана именно Западу. Нет-нет, бомбардировка Югославии, захват Ирака, давление на другие страны – это другое. Я имею в виду всю эту дрянь, что не только заполонила Запад, но и добилась победы! Добилась признания своих прав. То, что было немыслимо в начале двадцатого века или даже в середине, сейчас вот оно! Жвачник нельзя включить, чтобы не увидеть, как гомосеки трахаются. Знаете же, на Западе живут нормальные люди, только благополучие в квартирном вопросе испортило…
Вертинский поежился, я перевел на него взор, он знаками показал, что нем, как рыб о кухонную плиту. Или уже вовсе на сковороде.
– Извращенцев, – сказал я с нажимом, – всякий здоровый человек осуждает. И не прочь в глубине души, чтобы они все, гады, исчезли. Но вслух не говорит: политкорректность! Даже через силу улыбается и жмет руку. С публичными казнями еще круче и нелепее. Каждый или почти каждый в глубине души желал бы, чтобы преступников наказывали жестче. А за тяжкие преступления чтоб вообще казнили. Но вот вслух… А почему молчит? Оказывается, мешают… ха-ха!.. французские гуманисты позапрошлого века и их прекраснодушные принципы. Представляете, даже не прошлого века, а позапрошлого! Из того времени, когда гомосеков на кострах жгли, а ворам рубили руки. Крупному ворью – головы. Сейчас же, вспомните, все критерии размыты, а правила отброшены! Все. Не только для гомосеков. Мир должен пожрать… или пожать?.. то, что посеял. На ниве вседозволенности и распущенности взрастают оч-ч-ч-чень разные цветы.
Тимошенко сказал осторожно:
– Наш цветок, по моему глубокому убеждению, будет… всего лишь шокирующим, непривычным для остальных цветов клумбы. Но его примут. Вот как Бог свят примут!
– Еще как примут, – ответил я и жестко улыбнулся. – На казни будут с детьми ходить, как в цирк! Мороженое будут продавать, квас, пепси…
– Может быть, вход сделать платным? Все же копейка в казну…
– Нет, – отрезал я. – Эти зрелища должны быть бесплатными. Как и вход в Третьяковскую галерею.
Несмотря на жесткие слова, налет приколизма уловили все, с готовностью заулыбались, задвигались. Когда слишком страшно или неуютно, мы поспешно шутим, острим, придумываем анекдоты. И сразу безрадостная жизнь становится уютнее.
Я взглянул на часы, поднялся.
– Ладно, пойду президентить. Или президентствовать?.. Вам легче, хитрецы.
Тимошенко сказал льстиво вдогонку:
– На здорового верблюда и груз… побольше, побольше.
ГЛАВА 3
Я вернулся в свой рабочий кабинет, теперь это мой. Кресло с готовностью приняло седалище. Тут же слева от руки вспыхнул небольшой экран, появилось лицо Александры.
– Господин президент, – проговорила она, тщательно выговаривая слова, – к вам Волуев, руководитель администрации президента РФ…
– Эт моей, что ли?
– Да, если вы считаете себя президентом, – ответила она ровным голосом, потом подпустила в него чуть тепла: – Или вы просто поигрались?
– Проси, – сказал я и добавил подозрительно: – Но, как я помню, мне предыдущий президент сказал при передаче дел, что у этого рукадмина право входить без предварительного запроса?
– Правила устанавливаете вы, – пояснила она. – Тем более… у вас могут быть очень революционные правила.
– Да, – согласился я, – но это пока оставим как есть.
Вертинский одобрительно хмыкнул, вернулся в кресло и потянулся за газетой. Почти сразу же дверь отворилась, руководитель администрации явно ждал прямо за дверью от Александры кивка, в кабинет вошел настолько тщательно одетый и наимиджмейкерный господин, что мне стало бы стыдно, будь я… словом, из массы, сейчас же я лишь рассматривал его с любопытством, человека-невидимку, который почти никогда не появляется в кадрах хроники.
– Господин президент, – произнес он, остановившись по протоколу строго в четырех шагах от моего стола.
Вертинского он не замечал, хотя стоит рядом с его креслом, однако мне показалось, что на холеном лице промелькнула едва заметная гримаса неодобрения.
– Да, господин Волуев, – ответил я. – Что у вас?
– Пока рутина, – ответил он вежливо. – Взгляните-ка…
На мой стол опустилась пачка листов на прекрасной бумаге, с гербами, золотыми полосками. Волуев выпрямился и почтительно ждал, как образцовый дворецкий. Впрочем, даже должности простых слуг при королях становились высшими чинами, так, «маршал» раньше был просто слугой при короле.
Я поковырялся, разгребая листы без всякого почтения, это не почетные дипломы, а всего лишь поздравительные телеграммы в связи с избранием на пост президента России. Глаза быстро выхватывали заголовки, за спиной сочувствующе сопел и вздыхал Волуев. Пока что поздравления только от правительств, что сами выглядят несколько «экспериментальными», а то и вовсе от террористических или близких к ним. Некоторые заслуживают внимания, но пока что нет ни одной от стран… гм, с мнением которых считаются.
– По моим данным, – произнес Волуев над ухом, – сейчас разрабатывается текст в кабинете министров Италии, а также в канцелярии президента Франции. О Германии пока неизвестно, но, полагаю, там тоже тщательно готовят форму поздравления для такого особого случая, а отправят не раньше, чем получим поздравление от шести-семи стран Европы.
– Что насчет Англии?
– Оттуда традиционно поздравят последними.
Я усмехнулся:
– Если, конечно, вообще поздравят.
– Да, господин президент, – согласился он ровным голосом, – не исключено, что предпочтут хранить настороженное молчание. Мы сами дали им повод… Я имею в виду казнь на Красной площади. Нехорошая примета.
Челюсти мои стиснулись сами, я сказал зло:
– Прекрасная!.. Что бы ни говорили перед телекамерами, гораздо важнее, о чем скажут на кухне. А вы сами знаете, что скажут.
– В Англии?
– Даже в Англии.
Он кивнул.
– Знаю. Но человека настолько приучили думать одно, а говорить другое, что как бы и на кухне не начали говорить то, что… говорить надо. Не им надо, конечно, а неким, как у нас говорят многозначительно, силам.
Я поморщился, буркнул:
– Вы еще оглянитесь по сторонам, оглянитесь… С телеграммами все?
– Почти, – ответил он ровно. – Пришли еще от организации басков, а также из Ольстера…
– ИРА или от правительства?
Он ответил с легким пожатием плеч:
– Понятно, от кого. Все правительства помалкивают, слишком уж нестандартная ситуация в России. Пока мямлят, что им-де надо доказательства, что выборы прошли без подтасовок, все тип-топ, но придраться трудно, их же комиссии присутствовали на выборах! Подтвердили и законность, и легитимность, и отсутствие нарушений. Первой из европейских стран поздравления на высшем уровне поступят из Ирландии и Франции, это я вам голову даю наотрез. Вот-вот отправит поздравления президент Португалии. В числе последних, чуть опередив Англию, пришлет поздравления премьер Нидерландов, у него все будет очень коротко и сухо, причем выразит уверенность, что Россия и дальше пойдет демократическим путем…
Он говорил ровным голосом, но глаза горели победным торжеством, пришедшие к власти имортисты не знают сложного механизма власти, дипломатии, межгосударственных отношений на высшем уровне. Мы для Волуева что-то вроде победившей партии большевиков, что ворвались в дом правительства, выгнали министров на фиг со словами: «Кончайте базарить, караул устал!», а теперь пытаемся сообразить, что же делать с захваченной такой огромной властью.
Вертинский опустил газету, на лице написано, что все понимает, сказал саркастически, в голосе звучала плохо скрытая угроза победителя:
– Демократическим, да не прежним. Сейчас даже не дерьмократия, а вообще сортир…
– Так и ответить? – спросил Волуев холодновато и таким ровным голосом, словно говорил робот последнего поколения.
Вертинский скривился:
– Надо бы. Но пока стоит просто поблагодарить за поздравления. Верно, Бравлин? Теми словами, которые приняты в этом старом веке.
– Который вы оставите, – сказал Волуев, – как бабочка оставляет высохшую шкуру куколки. Знаем-знаем, мы все читали вашу программу.
Вертинский усмехнулся с торжеством:
– Теперь понимаете, что читали недостаточно внимательно?
Я вздохнул, взглянул на часы.
– В котором часу заседание правительства?
Волуев сказал педантично:
– Правительства больше нет. Премьер-министр Медведев передал мне для вас просьбу об отставке.
– Почему не лично? – спросил я. – Ладно-ладно, я не говорил, что знаю все тонкости. Во всяком случае, придут все?
– Я оповестил всех, – уклончиво ответил Волуев, – кого вы внесли в список. А уж что решат для себя господа министры…
– Посмотрим, посмотрим, – ответил я с той же многозначительностью, хотя сердце упало.
Нужно бы, мелькнула трусливая мысль, конечно же, сперва провести встречу с силовыми министрами. Силовые и есть силовые, на силе вся цивилизация, все общество, даже если оно ах какое культурное, изысканное и даже русскоинтеллигентное. На силе или угрозе применения силы. От силовых министров в первую очередь зависит, удержусь у власти или же слечу вверх тормашками. Однако стратегически неверно встречаться с ними первыми. Оппозиция сразу заявит злорадно, что имортизм опирается на штыки, а это слишком пакостное обвинение. И хотя все на свете опирается на штыки, вон США любое свое решение продавливают только крылатыми ракетами или угрозой их применения, однако как-то сумели внушить одураченному миру, что их штыки – это не штыки вовсе, а вот в России все только штыки, хамство, грубость и полнейшая косорукость, из-за чего русским давно пора как-то исчезнуть, самоустраниться, перестать существовать, чтобы более цивилизованные народы заняли эту территорию…
Как же, сказал я зло, так вам мусульмане и дадут ее занять. Опасно мечтать так… незрело.
– А на завтра договоритесь с силовиками, – распорядился я.
Волуев вскинул брови, в запавших глазах мелькнули искорки.
– Не рано?
– Понимаю, – ответил я, – но часть реформ надо начинать с них.
– Хорошо, господин президент. Завтра в двенадцать вам будет удобно?
Я подумал, покачал головой:
– Лучше бы пораньше. Часов в девять. Они к этому времени проснутся?
Он кивнул, скрывая улыбку:
– Лишь бы вы проснулись, господин президент. Казидуб и Мазарин – жаворонки, а Ростоцкий приучил себя вставать рано.
– Прекрасно, – сказал я. – Тогда согласуйте с ними…
– Лучше не согласовывать, – сказал он со значением. – Пусть сразу ощутят, что новый президент будет президентом, а не… другим человеком.
– Понимаю, – сказал я снова. – Тогда на девять. Без опозданий. Но и мое время распределяйте так, чтобы времени хватило поговорить с ними с толком и с расстановкой.
– Все будет сделано, господин президент, – ответил он. – Это моя работа.
А ведь он в самом деле без политических амбиций, мелькнуло в голове. Счастлив, что умеет управлять сложнейшей канцелярией, что дураки-президенты меняются, порой вовсе мелькают, как спицы в колесе, а он не дает развалиться государственному аппарату управления…
– Вы хорошо работаете, – произнес я голосом крупного деятеля и отца народов. – Хорошо работаете, Антон Гаспарович!
Он церемонно поклонился, бросил быстрый взгляд исподлобья:
– Желаете взглянуть на зал, где будет проходить совещание?
– Желаю, – ответил я. – Вы правы, я ни хрена не запомнил из того, что мне говорили при передаче дел. Или почти. И в лабиринте помещений могу запутаться.
– Прошу вас, сюда…
Большой зал – не церемонный Георгиевский, где все в золоте и прочих атрибутах пышности прошлых веков, здесь все строго, чинно, настраивает на работу.
В большом рабочем кабинете стол длинной подковой с сильно вытянутыми дужками, это, по сути, один стол, мое кресло на вершине подковы, остальные расставлены через равные промежутки. Еще мой предшественник велел установить у каждого на рабочем месте по ноутбуку с дисплеем максимального размера, вот они выстроились, как солдаты нанотехнического века, непривычные в таком архаическом здании, толстые провода тут же уходят в столешницу, эти ноутбуки с места не сдвинуть, да и служат только экранами, да и вообще я не уверен, что министры умеют ими пользоваться, но хотя бы можно не передавать листки по рядам, как в сельском клубе.
Я обогнул стол, у окна остановился и слегка отодвинул штору. Во двор Кремля въезжают черные мерседесы, вольво, даже джипы с затемненными окнами, словно прибыли крестные отцы. Охрана привычно занимает места, двери распахиваются, словно у огромных металлических жуков оттопыриваются жесткие надкрылья, появляются сильные, уверенные люди, налитые энергией, настоящие хозяева жизни, племени, подлинные вожаки, всегда готовые к схватке за кормушку, за власть, за самок, за расширение ареала для размножения.
Волуев не сдвинулся с места, он наблюдал такое сотни раз, и сейчас, понимаю, внутренним взором видит, как из машин выходят, словно из боевых доспехов, эти волосатые самцы, поводят по сторонам налитыми кровью очами, из-за неплотно стиснутых зубов рвется предостерегающее рычание, а самцы помоложе тут же становятся в позы подчинения.
Это все еще гусеницы, мелькнула горькая мысль, толстые зеленые гусеницы. Хоть уже пару раз перелинявшие, а кто и три, но все еще гусеницы с простейшими гусеничными ценностями. Вся беда в том, что я их прекрасно понимаю, у меня самого были все те же ценности. Вообще-то, всякий, сколько бы линек ни прошел, понимает всех тех, у кого эти линьки впереди. Но тот, кто не прошел ни одной, понимает только нелинявших. Кто перелинял один раз, понимает уже два стаза: долиньковых, линьковых, но не понимает тех, кто перелинял большее количество раз.
Конечно-конечно, от тюрьмы, сумы и линьки зарекаться нельзя: может быть, мне предстоит еще линька. Но знаю и то, что пока еще не встретил человека, интересы и ценности которого бы не понимал. А это значит, никто не линял больше меня. Из тех, с кем я общался.
Хлопали дверцы, машины отъезжали на расчерченные квадраты, а хозяева жизни обменивались рукопожатиями, кто-то даже обнимался, останавливались поговорить, кто-то сразу направлялся по ступенькам в отныне мою резиденцию. Что-то не чувствую в себе такой вот крутости, мощи, ауры вожака, а я ведь сейчас занял место вожака вожаков!
Хотя, конечно, я занял его не благодаря мощи и напору, как обычно захватываются места у рычага или кормушки, а с помощью простой идеи, что мы, сильные и здоровые, должны отбросить этот ложный стыд демократов…
– Что-что? – переспросил голос за спиной. – Или это вы, простите, репетируете тронную речь?
Я оглянулся, Волуев поклонился, будто лебедушка на хрустальной глади озера, ему бы только подносы носить с тремя рядами наполненных до краев рюмок, ни одна капля не прольется. Он снова чуть поклонился, перехватив мой взгляд, но в глазах прыгают непонятные искорки.
– Пытаюсь определить для себя суть демократии, – ответил я.
– А классические определения вас не устраивают?
– Где демократы сами о себе? Вроде того, что обожают повторять наши идиоты: «Демократия – плохой способ управления, но все остальные – еще хуже»?
– Да, угадали.
– Мы уже не демократы, хоть и вышли из… народа, как говорится. По мне, демократия – это естественное для культурного и благородного человека чувство стыда перед менее умным и талантливым. Короче, сильного перед слабым. Ситуация, возведенная из быта до государственной политики. Когда аристократ приглашает своего кучера к себе за стол и старается не морщиться, а даже улыбается, когда тот жрет, чавкая и вытирая жирные пальцы то о скатерть, то о рукав аристократа, а пилот скоростного пассажирского лайнера, чтобы не обидеть простого человека из пассажиров, пускает его порулить…
Волуев сказал с нервным смешком:
– Вот-вот!.. Именно порулить. К сожалению, при демократии, даже кому вести самолет, выбирают голосованием. Или по очереди, чтоб никому не обидно. А умеешь водить самолет или только оленей – неважно… Господин президент, я распорядился господ министров проводить именно в этот зал. Если хотите, можно всех переместить в малый, хоть там и тесновато…
– Намек понял, – ответил я. – Давай, в самом деле, сдвинемся куда-нить. А то стоим, как слуги, ожидающие хозяев. Еще не так поймут.
– Именно так и поймут, – заверил Волуев. – Сюда, господин президент… Вот здесь комната отдыха для президента.
Он вошел вслед и захлопнул дверь. Достаточно просторно, есть стол, три кресла, кушетка, дверь в туалет и ванную, а также еще одна дверь, наверняка запасной выход. На столе открытый ноутбук, большой жэкашный экран на стене, напротив стола.
– Ого, – сказал я. – И в моем кабинете такая комнатка, и здесь?
Волуев скупо усмехнулся:
– Иногда, когда дебаты сильно затягиваются, господин президент может… уединиться. Здесь вот туалет, душ. Видите? Простенько, но со вкусом. А один из предыдущих президентов держал здесь особый шкафчик с водочкой. И очень часто во время заседаний… э-э… уединялся, после чего выходил весьма повеселевшим.
– И не делился, – укорил я.
Слышно было, как зал постепенно заполняется гулом, голосами, слышен топот могучего стада. Я выждал чуть, предложил с неловкостью:
– Пойдем, не будем заставлять их ждать.
Он взглянул на часы:
– Минутку, господин президент. В вашем деле многое зависит от мелочей. Даже если вы свободны, не показывайте этого. Президент всегда занят великими делами!.. Опаздывать сильно тоже не стоит, но у вас еще три минуты в запасе.
– До заседания?
– Нет, до выхода президента. Это, знаете ли, тоже не просто.
Не спрашивая разрешения, коснулся кнопки на клаве ноутбука. Вспыхнул головной экран, камера высветила большой зал. Я поморщился, словно бы подсматриваю, но, с другой стороны, я сторонник внедрения телекамер всюду: на перекрестках, в супермаркетах, школах, на стадионах, у входов в метро, так что можно, можно.
Лица этих людей, командоров отраслей хозяйства всей страны, уже знаю по теленовостям, но сейчас всматриваюсь заново, с напряжением и тревогой, с этими людьми работать… если решу работать, или же этих людей надо отстранять, что тоже непросто, я человек мягкий и всячески избегаю конфликтных ситуаций.
– Основных министров вы знаете, – сказал за моей спиной Волуев, – ну там Медведева, Удовиченко, Леонтьева… они часто мелькают по жвачнику.
Я выловил взглядом Медведева, премьер-министра, крупного, с массивным дагестанским лицом, тяжелой нижней челюстью и коротенькими редкими волосами, почти не скрывающими залысины. Крупный нос, крупные глаза, толстые губы, выступающие скулы. Весь массивный, но это заслуга широких костей, а не накопленного жира, я невольно прикинул, что его череп вряд ли расколешь одним ударом молота, как пытались когда-то с вырытым из могилы черепом Эгиля – песнопевца и великого викинга. Хорошее лицо: грубое, сильное, внушающее доверие, хотя смотрит без улыбки, оценивающе.
А вот Леонтьев, весь в широчайшем смайле, даже красный галстук улыбается, однако же что-то в нем такое, предостерегающее, мол, пальца в рот не клади, откусит, неважно, союзник или соперник.
– Министр финансов, – произнес Волуев, правильно истолковав мой взгляд. – Леонтьев Леонид Израилевич. Умен, ряд теоретических работ, высоко оцененных на Западе. Десять лет прожил в США…
– А этот вертлявый с ним рядом?
– Шмаль Панас Типунович – министр труда. Его недавно назначили, запомнить трудно. Министров труда меняют что-то больно часто… К ним подошел Безруков – зам премьера-министра…
– Этого знаю, – сказал я, поправил себя: – По телевизору видел.
– И Удовиченко, видите, какой красавец? Говорят, в отпуске побывал на Западе в закрытом центре омоложения.
Я посмотрел на него с удивлением:
– Ну и что?
– Да как-то… Не принято, чтобы мужчина так уж следил за своей внешностью. Вон там в уголочке сиротливо остановился Крутенков Тихон Ульянович – министр энергетики. Видите, в больших очках? Прекрасный работник, исполнительный, без амбиций… Чеботарев – тишайший рыбовик, Желуденко – это все наши недра, флегматичный по натуре, острить не умеет и шуток не понимает, но память у него абсолютная, работу делает, как никто…
– А этот худой и вытянутый, как цапля? Чем-то болеет? Лицо его знакомо…
Волуев скупо улыбнулся:
– Его недавно показывали по телевизору. Скандал был. Больно желчный, умеет ответить так, что даже ведущие теряются… Шторх – министр нефтеперерабатывающей промышленности. Вот к нему подошел Грабовский – министр путей сообщения. Работает недавно, но сумел наладить работу, как не делали уже лет двадцать…
Он быстро называл и называл фамилии, имена, давал быстрые характеристики, как в отношении работы, так и чисто житейские: эксцентричен, капризен, взрывной, раздражительный и так далее, а я смотрел на экран, как они все входят по одному и парами, иногда мелкими группами, большой зал сразу стал тесным. Нет, в состоянии вместить и в десятки раз больше, но… обычных людей, а это… это вожаки. Могучие, матерые, у каждого свое стадо. Все стали вожаками благодаря собственной мощи, заставили других признать их власть, сейчас же входят с улыбками на крупных лицах, но у каждого внутри готовность к бою, к защите своего стада.
И не только к защите, мелькнула мысль. Каждый из вас готов увести стадо другого. Это у всех лидеров в крови, это понятно, тут бы мне самому не сплоховать, я же лидер… э-э… несколько другого плана.
Эти вожаки, министры, даже внешне отличаются от людей, которых встречаешь на улице, в городском транспорте, в супермаркетах. Там все какие-то мелкие, даже строительные рабочие, которым по должности положено играть мускулами, худосочные дохлики в сравнении с Медведевым, Безруковым, его замом, или Удовиченко, вице-премьером. Если выставить сто министров против ста рабочих, строящих метро, то министры задавят их, как немощных котят. То же самое и с депутатами Госдумы: быки, как на подбор, а если и увидишь где заморыша или даже женщину, то, понятно, чтоб не обвинили в расизме…
В сторону телекамеры повернулся Леонтьев, министр финансов, я перехватил его внимательный взгляд, невольно отшатнулся. Леонтьев похож на капитана бейсбольной команды: крепкий, накачанный, с прекрасным загаром и белозубой улыбкой по триста баксов за зуб, рукопожатие энергичное, крепкое, полгода назад я бы сразу поставил на нем жирный крест: чересчур следит за собой, картинный политик, у любого, увы, всего двадцать четыре часа в сутках: сколько потрачено на бег трусцой и тренажерные залы – столько украдено от всего остального. Политике же, как и любви или искусству, надо отдаваться полностью… лишь недавно узнал, что загорает под лампой, а распускает слухи, что лето проводит на модных курортах, примерный семьянин, что значит – на жену внимания не обращает, но поддерживает слухи, что все по бабам, все по бабам, такие нам почему-то интереснее и симпатичнее, с утра до поздней ночи в министерстве, даже выходные и праздники, но, по слухам, что распустил о себе сам же, живет на две, даже на три семьи.
– Пора, господин президент, – произнес Волуев. – Но не лучше ли…
Мы вышли через заднюю дверь, там недвижимо сидит скромный мужчина с черным чемоданчиком на коленях, по другую застыл работник охраны, настолько широкий, словно три боекомплекта надел один на другой.
Я остановился перед дверью.
– Кстати, там, в моем кабинете… Нет, в комнатке отдыха, что за кабинетом, сидят четверо из моей старой команды. Пригласите их со мной.
Волуев вскинул брови:
– В качестве… кого?
– В качестве моих людей, – отрезал я, слегка подпустив в голос железа.
Он чуть повел головой, один из незаметных служащих тут же сорвался с места. Вертинский, Атасов и Седых появились буквально через минуту, сильно встревоженные. Седых сказал издали:
– Тимошенко ушел знакомиться с архивами… Но его, догадываюсь, приведут, приведут. Что-то случилось?
– Будете командой поддержки, – ответил я.
– В смысле? – переспросил, не поняв, Седых.
– Что, не видел, как орут болельщики на стадионе? А девочки в красных юбочках пританцовывают?
– А-а-а, – сказал Седых, – это мы с удовольствием. Еще и споем, если надо.
Атасов перекрестился:
– А я уж решил, что нас в расход.
Мы прошлись по недлинной дуге, заходя с парадного входа, передо мной распахнули дверь, я вошел, сдерживая дрожь и улыбку на лице. Министры обернулись в мою сторону, я величественно и вместе с тем дружески повел дланью в сторону огромного стола:
– Прошу занять места.
ГЛАВА 4
На столе нет кувертных карт, пусть садятся по-старому, ничего не хочу менять в таких мелочах. Сам без торопливости, хотя привык двигаться быстро, подошел к креслу во главе стола и опустился на сиденье. Все нужно проделывать неспешно, это не только придает величавость, но, главное, дает возможность успевать обдумывать быстро меняющуюся ситуацию, придумывать контрловушки.
Вертинский, Атасов и Седых скромненько заняли места у окна как можно дальше от стола. Там, по-видимому, садятся какие-то мелкие служащие из эскорта.
А эти министерские слоны и медведи рассаживаются, как и я, тоже без торопливости, прощупывая взглядами меня, слишком уж молодого, себя ощущают одной дружной и сплоченной стаей. И потому, что уже определились с иерархией, и потому, что появился новый зверь в стае, который претендует на то, чтобы быть вожаком. Но одно дело победить на выборах, другое – завоевать авторитет здесь, среди себе подобных.
Я не подобен вам, произнесло во мне отчетливо, и я сказал неожиданно легко:
– Дорогие друзья! Знаю, большинство из вас поддерживало моего соперника на выборах. Думаю, лишь из неверия в победу партии имортистов, а не потому, что вам не нравятся наши цели. Так что считаю вас союзниками, сторонниками, единомышленниками. И, ориентируясь на это, ожидаю плодотворной работы. До сего дня правительство было озабочено, как удержаться у власти и успеть нахапать побольше, а все население, даже высший слой, жили по принципу: после нас хоть потоп, мир летит в пропасть, остановить никак, гуляй же, Вася, пока можно, люби, покуда любится, хватай, пока хватается…
Они слушали внимательно, но я видел на их лицах ожидание ответа на самый главный вопрос: разгонят или нет? Или даже: будут сажать, даже расстреливать тех, кто нахапал, пользуясь служебным положением? Про имортистов ходят самые страшные слухи, а виселица на Красной площади показала, что самые страшные слухи – еще не самые страшные…
– Расстреливать не будем, – сказал я, – будем вешать хапальщиков и взяточников. Но что нахапано до сегодняшнего дня, увы, то нахапано. За это отвечает мой предшественник. Но с сегодняшнего дня – виселица без замены штрафом или укоризненным покачиванием головы. Плюс – полная конфискация всего имущества. При нынешней системе отслеживания платежей не помогут и все племянники, на которых счета и виллы. Все окажутся на улице с протянутой рукой. Запомнили? Собственно, это основное, что я хотел сказать. Во всех помещениях будут установлены видеокамеры, что зафиксируют все-все. Предупреждаю, наблюдение будет вестись и дома, и на улице. Увы, приходит новый мир, когда все тайное становится публичным. Если кто желает покинуть службу, не соглашаясь с подобными условиями работы, никто не осудит. Хотя вы понимаете, тотальное наблюдение входит в быт вне зависимости от общественного строя…
Говорил и видел в глазах у кого восторг, таких двое-трое, и то много, явно примешано что-то помимо имортизма, у остальных же либо тщательно упрятанный страх, либо откровенное неверие, что удержимся больше недели. А то и уже завтра придут на службу, а им скажут со смехом, что никаких имортистов или ваххабитов нет и не было, мало ли что снилось, можно снова разворовывать казну, брать взятки, наслаждаться полной властью над беспомощностью существ, заполняющих страну…
– Чтобы была ясность, – добавил я, – скажу, что кару за нахапанность решили установить с сегодняшнего дня вовсе не из милосердия. Просто нужна четкая дата. Если отодвигать ее в прошлое, то неясностей слишком много.
– Совершенно верно, господин президент! – угодливо поддакнул Шмаль, министр труда, понимая, что даже самая грубая лесть все равно нравится даже женщинам, а мужчины настолько грубые твари, что одну лишь грубую и улавливают. – Имортизм под вашим руководством и даст нам всю необходимую ясность. Глаза, так сказать, откроет.
– Мы вошли в двадцать первый век, – сказал я, стараясь никак не реагировать, ибо за моим лицом следят, если решат, что мне лесть понравилась, такое начнется, – век высоких технологий и бурной ломки социальных отношений. Но структура власти до смешного копирует старые отжившие системы. При имортизме, естественно, все меняется… Нет-нет, все остаетесь на своих местах и продолжаете работу. Но отныне учреждается Высший Совет Имортов. Это власть, так сказать, над властью. Высший Совет – прежде всего духовные лидеры. Они всего лишь намечают направления, куда должно двигаться общество, намечают цели. Вы же – руководители отраслей: военной, сельскохозяйственной, научной, преподавательской и всего-всего, что делается, изобретается, выкапывается из земли или зарывается в нее же.
Кроме того, – сказал я почти с некоторым злорадством, – предусмотрено создание Высшего Совета… не из имортистов. Если хотите – Совета Мудрецов. Как вы понимаете, в него ну никак не войдут столь любимые народом клоуны и ведущие телешоу. Сочувствую населению, однако в Совет приглашены крупнейшие ученые. У этого Совета лишь функции советника президента, однако члены этого Совета в немалой степени будут определять облик нашей страны. Да-да, придется жить по уму. А для потехи, как уже сказано, – час. Час, а не все время.
В помещение вошли техники, начали устанавливать скрытые видеокамеры. Я смолчал, что еще более скрытые, что пишут непрерывно день и ночь, установили три дня тому, и кое-что интересного уже насобирали. Как и то, что некоторые чиновники приходили тайком и что-то добавляли в бумаги, что-то изымали.
Волуев скромно примостился спиной к окну за отдельным столом. Там, по идее, должен сидеть секретарь во время подобных заседаний, дабы всегда под рукой с нужной справкой, ссылкой, данными, но Волуев настолько завалил его своими бумагами, папками, заставил телефоном с массой дополнительных функций и всякими канцштуками, что хрен его оттуда кто выгонит. За спиной синие шторы, красиво гармонирующие с коричневой мебелью, тонкие и элегантные, а плотные коричневые раздвинуты, так что от окон проникает некоторый свет.
В особых случаях, как я слышал, могут повесить еще и красные шторы, но что за случаи, я не удосужился спросить.
Справа от меня Медведев, он премьер-министр, это его место, пока я не решил, есть ли необходимость перетасовать министерскую колоду.
– Кто-то, – продолжал я, – напуганный приятным новшеством, предпочтет уйти в частный бизнес, это его право. Но и там, предупреждаю, будет контроль. Наступает век, повторяю, когда видеокамеры будут везде.
Ничто не дрогнуло в их лицах, это для простолюдинов приход тотального наблюдения – новость, а эти такие новинки прогресса отслеживают заранее, готовы, уже вырабатывают систему знаков, ее видеонаблюдение не заметит или хотя бы не сможет использовать в качестве обвинения. А пока, чтобы затормозить, купленные ими журналисты везде кричат о нарушении священных прав простого человека, о недопустимости вторжения в частную жизнь и о том, что лучше не заметить одного террориста, тайком изготовляющего в центре Москвы атомную бомбу, чем подсмотреть частную жизнь десяти ни в чем не повинных граждан.
В груди сдавило, а затем что-то озлилось внутри меня, ожесточилось, я проговорил с неожиданной для себя твердостью:
– При демократических режимах в подобных случаях принято правительству в полном составе уходить в отставку. Мол, хороших специалистов президент снова призовет обратно. Но в России и демократия особая: никто в отставку не подаст, а попытайся вас отстранить – по гаагским трибуналам затаскаете… Но чтобы не было двусмысленностей, объявляю, что все вы с этого момента свободны от своих обязанностей. Это поможет вам свободнее высказывать свои взгляды. И вообще – резать правду-матку мне в глаза, какой я замечательный и какой чудный режим пришел к власти.
Настоящие царедворцы, никто не дрогнул лицом, только глаза у некоторых беспокойно задвигались да Медведев сжал громадные кулаки. Остальные молчат, как пленные партизаны. И хотя программу имортистов знают, но хотят сперва вызнать, насколько серьезно победители будут следовать предвыборной чепухе.
Телеоператоры прошлись по кругу, снимая начало заседания, Волуев сделал им знак удалиться. Они сделали вид, что не заметили, телекамеры нацелены на государственных мужей, лица у всех строгие и значительные. Волуев шикнул, погрозил пальцем, операторы поспешно убежали, приседая под тяжестью телекамер и причиндалов.
– В общем, – продолжил я, как только захлопнулась дверь, – я всех вас знаю, как знает любой гражданин России. Практически все вы – хорошие работники, но я не знаю, как вы работали при другом режиме. А сейчас давайте знакомиться заново.
Они поднимались по одному, представлялись, и каждый, я видел это с раздражением и злостью, старается произвести как можно более благоприятное впечатление на меня и окружающих, излучает доброжелательность, уживчивость, готовность прислушаться к мнению собеседника и тут же в корне изменить свою точку зрения…
Я слушал внимательно, как слушают и Вертинский, Седых, Атасов. Дождавшись конца представления последнего, министра финансов Леонтьева, я кивнул в сторону имортистов:
– Господа Вертинский, Седых, Атасов. Вы будете удивлены, но они не рвутся к постам, кресел занимать не желают… Правда, они привели меня к этому креслу, потому право на часть пирога имеют, верно?.. Пока что они будут присутствовать на заседаниях в качестве советников и наблюдателей. Возможно, кому-то из вас придется уйти, тогда заменю кем-то из них… Если, конечно, уговорю. А теперь давайте поговорим о ситуации в стране.
Шмаль сказал живо:
– Скажу за всех, что при имортизме работали бы куда больше! Аднозначно.
Справа и слева поморщились, мол, какой грубый, самого президента перебивает, но лица выражали полное согласие. Да, конечно, еще бы, и больше, и лучше, и вообще слава имортизму.
Я кивнул:
– Надеюсь. Ведь вы и в эту эпоху, когда можно расслабляться и получать удовольствие от жратвы, пьянки и траханья окрестных баб, предпочитаете получать удовольствие от карьеры, лоббирования чьих-то интересов, подсиживания коллег… не стесняйтесь, это тоже лучше, чем смотреть телешоу и дрючить жену соседа. А заодно и в работе что-то да делаете, ведь валовой прирост в два процента большей частью обязан вам, продажа нефти в последние два года только падала… Так что я не стану пока… пока!.. проводить чистку. Всех вас возвращаю на свои места, покажите себя, как умеете и что умеете. Основные трудности у нового правительства возникнут с рядом структурных изменений. Должен сказать, очень серьезных…
– Знаем-знаем, – заверил почти весело Шмаль. – Фабрики по производству помады снести на фиг, построить Музей изячных искусств!
– Ничего сносить пока не будем, – заверил я, – но свой завод по производству компьютеров нам нужнее, чем десять упомянутых вами фабрик. И если возникнет проблема выбора…
– Понятно-понятно!
Медведев сказал тяжелым раскатистым голосом крупного государственного деятеля:
– Господин президент, мы, в общем-то, знакомы с вашей программой.
Я уточнил:
– С программой моей партии.
– Да-да, простите. С программой вашей партии. Впечатляет, да… настолько, что мы даже кое-что позаимствовали для своего кандидата. Увы, не успели, додумались только за неделю до выборов. Уж больно мы, русские, медленно запрягаем. Но теперь самый важный вопрос…
Он подобрался, как тяжелый грузный бык перед решающим ударом. Я тоже сосредоточился, как матадор, готовый как отпрыгнуть в любую сторону, так и метнуться вперед, чтобы острием шпаги точно в уязвимый пятачок за большими мясистыми ушами.
– Давайте ваш вопрос.
– Насколько точно вы, господин президент, собираетесь следовать заявленной программе?
Все молчали и смотрели настороженно, как звери из темных нор на яркий слепящий свет.
– Вопрос, – ответил я, – действительно важен. Я рад, что задан раньше других прощупывающих вопросов. Не будем размениваться на мелочи, не станем принюхиваться, хитрить, искать какие-то ходы. Этот вопрос мне уже задавали и… будут еще задавать. Пока не увидят, да-да, пока не увидят. Сейчас же со всей ответственностью заявляю, что собираемся осуществить программу имортизма до последней буквы, до последнего знака препинания!
Никто не сдвинулся с места, настоящие царедворцы. Морды каменные, тяжелые веки чуть приспущены, пряча взгляды, под глазами многоярусные мешки, что придает вид глубоких мыслителей. Наконец Медведев подвигался в кресле, словно раздвигал стенки своим динозаврим панцирем, пророкотал:
– Но вы представляете… последствия?
– Не совсем, – признался я. – Да и никто не представляет. Мы только видим, как и вы, что страна серьезно больна. Уже в коме! Да что там страна, весь мир в таком… таком, что даже не знаю! И никто не знает, но видят все: если так будет продолжаться, роду человеческому придет пушистый полярный зверь. У нас хватило духу это сказать первыми. И взяться вытаскивать человечество из ямы.
Медведев чуть наклонил голову.
– Все человечество… Если у вас такая религия, то почему вы полезли еще и в политику?
– Потому, – отрубил я, – что имортизм – это все. Это и вера, и религия, и наука, и предписание чистить зубы утром и на ночь. Мы начали отсюда, с России. Вы, наверное, уже знаете, что ячейки имортизма возникли во множестве стран?
Медведев покосился на коллег, все молчат, как воды в рот набрали, на него смотрят, как на прежнего лидера, он им и был последние пять лет, сдвинул могучими плечами, сейчас покрытыми толстым слоем ухоженного мяса.
– Коммунистические партии у них тоже… даже раньше, чем у нас, в России. Однако же строить коммунизм подкинули нам, чтобы мы надорвались… Не повторится ли с имортизмом?
– Это смотря как будем работать, – ответил я. – Давайте прямо сейчас, без раскачки, наметим хотя бы вчерне, что нужно, чтобы вывести страну из ее позора. Вытаскивайте блокноты, ноутбуки, у кого что, начнем работать.
Послышался шум, все задвигались, начали доставать из портфелей, чемоданчиков, сумок – сверхтонкие компьютеры, пальмтопы, даже наладонники, укладывали перед собой, мощные ноутбуки, установленные у каждого на столе, дают с полметра свободного пространства, хватит.
Леонтьев, который управился раньше всех, наклонился через стол и спросил нерешительно:
– Господин президент… можно мне осмелиться задать один вопрос?
– Наверное, можно, – ответил я, – а там решайте сами.
– Господин президент… насколько я понял, ваша вера… ревнива? То есть надо ли нам поголовно переходить в имортизм, чтобы сохранить не только наши должности, но и головы, имущество, коз на даче, счета в швейцарских банках… Я вот, к примеру, вовсе атеист недобитый…
Все снова затихли, я ощутил себя на перекрестье острых и даже, сказал бы, пронизывающих взглядов.
– Этого не требуется, – ответил я. – Быть имортистом или нет – вопрос сугубо личный. Для страны важнее, чтобы вы работали с наибольшей отдачей. И пользой. Главное – с пользой! А насчет атеизма… Мудрый Овидий, хоть вроде бы безголовый поэт, предложил в свое время: если боги для нас выгодны, то будем в них верить! Очень практичное замечание, невероятно мудрое для поэта. Мы – рационалисты, для нас не так важно: есть Бог или нет, давайте, в самом деле, поступим, как практичные люди: выгодно ли нам? То есть что лучше для человека: признать Бога существующим или же решить, что его нет?
– Ну-ну, – сказал Леонтьев осторожно, – так как должны поступить практичные люди?
– Будем же верить, – сказал я, – если не можем уразуметь, это заявил Августин, один из отцов церкви. Мы пока что не можем уразуметь ни Вселенную, ни того, кто ее создал или что ее создало, так что самое рациональное – верить. У нас нет доводов ни в сотворенность мира Богом, ни в самосотворенность Вселенной, так что в любом случае приходится во что-то верить. Но вера в Цель для сильного ума – это стержень, на который нанизываются все поступки, не говоря уже о ценностях. Ученый должен верить, во имя чего исследует мир. Человек должен знать, во имя чего живет. Сейчас атеисты справедливо и с некоторым пренебрежением указывают, что вера – это костыль для слабых и простых людей… это верно тоже, кстати о птичках, это большой плюс вере, а вовсе не минус, вы не согласны?.. Но вера также и незыблемая интеллектуальная позиция абсолютного большинства лучших умов человечества. Правда, все они толковали веру в Творца каждый по-своему, но факт остается фактом: все они не зря брали Его в помощники! Те ученые, у кого такой помощник был или есть, работали и жили лучше, чем те, у кого его не было.
Слушали в молчании, только Медведев кивнул, сказал глубокомысленно:
– Ну… это да.
Вертинский задвигался, привлекая внимания, добавил живо:
– Вера вопрошает, разум обнаруживает, сказал тот же святой Августин, прозорливо поставив веру впереди, но и мощь разума не унизив. Ведь именно разум обнаруживает, ставит все на место, как тяжелые камни в несокрушимую стену знаний. А как вам слова Мухаммада, что для Аллаха чернила ученого и кровь праведника одинаково ценны?
В кабинете ощутилось некоторое оживление, Медведев покрутил большим мясистым носом, тяжелые, как у Вия, веки приподнялись, блеснули острые лазерные точки.
– Сейчас бы его ваххабиты на костер за крамолу!
Я развел руками:
– Не будем за ваххабитов, скажем за себя: Бог от нас, имортистов, ничего не требует, ни к чему не обязывает. У нас полная свобода воли. И полная свобода выбора. В том числе в главном: идти к Нему, то есть поставив выше понятных запросов плоти запросы интеллекта, что и есть, собственно, мы, или же ублажать ту оболочку, в которой живем?
Медведев, медленно оживая, похлопал ладонью по вздувшемуся животу, слышно, как бурчит, переваривая, как бродят газы, требуя выхода. Шмаль повел носом, а затем очами, поискал форточку. Леонтьев указал глазами на кондишен, Крутенков, министр энергетики, осторожно выбрался из-за стола, его толстенькие розовые пальцы выудили из кармана очки, протер, прежде чем водрузить на переносицу, затем, всмотревшись в шкалу, сдвинул рычажок на максимальную вытяжку отработанного воздуха.
Я кивнул на Крутенкова.
– То обстоятельство, что теперь в моде атеизм и люди не верят в Бога, не значит, что они ни во что не верят. Наоборот, как раз теперь они верят любой ерунде, ибо свято место пусто не бывает. Вон Тихон Ульянович верит даже в демократию, вы можете себе такое представить?
Крутенков смутился, покраснел, развел руками, лицо беспомощное, пытается объяснить, что его не так поняли, что в недавнем интервью на телевидении под демократией имел в виду не обязательно свальный грех и потакание плоти, но и свободу выбора, однако Леонтьев и Медведев рядом с ним заржали так громко и насмешливо, что он наконец рассердился и, с грохотом поднявшись из-за стола, демонстративно перешел на другую сторону к тишайшему Чеботареву и флегматичному Желуденко.
ГЛАВА 5
Медведев, уже не по-медвежьи быстро сориентировавшись, докладывал о состоянии в нефтяной отрасти, в машиностроении, о финансовых потерях из-за нехватки энергии в Приморье, тут же осторожно предлагал варианты решения. Я слушал, присматривался к нему с интересом, непростой хозяйственник, очень непростой. Все годы работал, как и должен работать премьер-министр при сугубо демократическом правительстве, но, получается, то ли сам втайне разрабатывал варианты для силовых решений, то ли они настолько очевидны, что не надо даже особо напрягаться, чтобы сразу рассказать, что и как надо делать… Нет, слишком детально продумано. Непрост этот премьер, непрост.
Он перехватил мой оценивающий взгляд, насторожился:
– Что-то не так?
– Все так, – успокоил я. – У вас прекрасный план вывода страны из кризиса.
Он хмыкнул:
– Не поверите, но вон у Леонида Израилевича, это наш министр финансов, если еще не запомнили, есть варианты и покруче. Правда, только в своей сфере.
– Я рад, – сказал я с чувством. – Я рад, что вы… чувствовали.
– Мы же политики, – фыркнул Медведев. – А политики – это такие птицы, что приближение большой бури чуют задолго.
Шмаль все вертелся, его никто не замечает, сказал очень живо:
– Может быть, введем в состав правительства хоть одну женщину?
Медведев удивился:
– На фига?
Но остальные посмотрели на меня вопросительно. Я скривился:
– Тогда уже и одного негра. То есть татарина. Для политкорректности. Дорогой Панас Типунович, вы такой, оказывается, общечеловек?
Шмаль засмущался, забормотал:
– Да нет, не совсем…
– Он в пятнах, – сообщил Леонтьев. – Как лабрадор!
– Это далматинцы в пятнах, – поправил тихонько скромно сидящий с другой руки толстенький человек, я уже успел забыть его имя и должность, – а лабрадоры просто в грязи любят валяться…
Шмаль сказал торопливо:
– Я что, я хотел только, чтобы меньше собак вешали!..
– На одну собаку из ста будет меньше, – согласился я. – Но стоит ли возиться, снимая одних, в то время как будут вешать других? Начнем даже в этом отличаться от остальных правительств, что как спицы в колесе: одинаковые и мелькают так, что в глазах одна серость… Нет уж, умерла так умерла. Без оглядок на старый мир.
На обед дружной толпой двинулись в кремлевскую столовую. Стыдно сказать, я в ней оказался впервые. Хотя чего стыдиться, я появлялся здесь ненадолго, когда принимал дела у предшественника, старался побыстрее исчезнуть из все еще вражеского, хоть и разгромленного, лагеря.
Сейчас я шел уже по своему лагерю, здесь все принесли мне вассальную присягу, от охраны до самой мелкой челяди. В столовой Медведев и остальные барски шутили с официантками, поварами, те отвечают тоже раскованно, весело, но на меня посматривают опасливо, все-таки президент, хуже того – какой-то непонятный имортист, язык сломаешь, пока выговоришь, непонятно, чего ждать, но в душ надо на всякий случай сбегать и презервативами запастись…
Мои соратники по имортизму втихую смылись, оставив меня с членами кабинета. Со мной за стол, осмелев, испросили разрешения присесть Медведев, Леонтьев и Шторх, худой, подтянутый министр нефтеперерабатывающей промышленности. Зачем-то пригласили и стесняющегося Крутенкова. Тот сел на самый краешек и тихохонько ел, не поднимая глаз от тарелки. Некоторое время ели молча, присматриваясь друг к другу. Потом Медведев осмелел и посоветовал Леонтьеву не нажираться, тот ехидно заметил, что закуска без водки называется едой, посоветовал самый простой и дешевый способ обеспечить себе вкусный ужин – отказаться от обеда.
Шторх улыбнулся и сказал, что вся жизнь – борьба! До обеда – с голодом, после обеда – со сном. Я раздвинул слегка губы, демонстрируя, что быть имортистом – вовсе не значит не понимать шуток, тем более таких… компактных, в смысле, плоских, чтобы укладывалось в голове побольше.
Некоторое время ели молча, а когда насытились и перешли к десерту, Медведев вовсе оживился, начал комментировать работу столовой, отпустил пару тяжелых, как он сам, шуток насчет внешности официанток, зато Леонтьев все серьезнел, словно сосредоточенно пожирал не сладкое, а карлсбадскую соль, поинтересовался негромко:
– Господин президент, а вы в самом деле полагаете, что в вашем учении так уж необходим Бог?
– Да, – ответил я вежливо. Но вежливый ответ не бывает из одного слова, я добавил: – Да, уверен.
– А не опасаетесь, что обязательность Бога… если можно так сказать, да-да, именно обязательное наличие Бога, может оттолкнуть… более молодое поколение?
– Не только молодых, – ответил я с неохотой. – Оттолкнет многих. Мы, простые люди, – гордые, независимые. Самолюбивые… мы сами по себе – боги! И других не признаем. Что, собственно, естественный этап развития…
Крутенков впервые поднял глаза и посмотрел на меня, тут же застеснялся и снова уронил взгляд с такой поспешностью, что в роскошном сырнике образовалась вмятина. А Леонтьев воскликнул:
– Этап? Вы полагаете – этап? Но большинство всю жизнь остаются на этом, как вы говорите, этапе!
– Тоже естественно, – ответил я, стараясь, чтобы голос звучал весело. – Не все становятся генералами, верно? Не все – министрами.
Леонтьев, все больше загораясь, спросил живо:
– Но где? Где Бог?.. Покажите мне его! Покажите, я тут же уверую! Покажите хотя бы следы его деятельности… нет– нет, не указывайте на этот мир, на солнце и звезды, покажите показания приборов, которые зафиксировали бы хотя в каком-нибудь нейтринном или нейтронном излучении… я поверю ученым-атомникам, поверю астрономам…
Я сказал очень мягко:
– Глупо и жестоко отрицать за человеком право верить в то, чего он не может доказать. Тот, кто по природе ищет утешения и любви, которая поддерживала бы его и подбадривала, тот не требует доказательств и не нуждается в них. Вообще-то, Леонид Израилевич, вы лучше избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек всегда верит.
– Ну да!..
– Вам привести фамилии?
– Не надо. Я тоже приведу фамилии великих, которые не верили. А потом мы сцепимся, доказывая друг другу, кто из них великее! Я просто хочу сказать, что любая вера… мягко говоря, устарела. Нужно ее оставить неграмотным крестьянкам. Даже не колхозникам, а крестьянкам.
Из-за соседних столов прислушивались, старались не звякать вилками, чтобы не пропустить ни слова. Я заговорил медленнее, чуть громче:
– Тот факт, что люди больше не верят в Бога, не означает, что ни во что не верят. Наоборот, верят всему, раскройте газеты, где последние страницы пестрят объявлениями великих магов, колдунов, ясновидящих, шаманов, гороскопами… Свято место пусто не бывает: убрали Бога – пустота заполнилась таким хламом, что просто стыдно за вроде бы интеллигентных людей, что называют друг друга козлами и обезьянами, это вроде бы восточный календарь, а в другое время – скорпионами и овцами… Из греческой мифологии, да? Что, скажете, не верят? Это так, для красоты?.. И бабки-гадалки по Центральному телевидению? Кашпировский, какой-то астролог со жгучим взором, так действующим на старых бабок?
– И что же… – спросил Медведев упрямо. – Без веры в Бога нельзя жить даже в наш век Интернета? Я все-таки воспитан на старых добрых традициях бритвы Оккама… Кстати, кто такой этот Оккам?
– Монах, – ответил Шторх живо. Взглянул на меня быстро и добавил: – Имортист… наверное.
Я прямо взглянул Медведеву в глаза. Мимо нас проходила официантка, тоже замедлила шаг, прислушиваясь, а Шмаль и еще трое министров за соседним столом, перестали даже звякать вилками.
– Знаете, Игнат Давыдович… я не ошибся с отчеством? Если не так, поправьте… один из отцов церкви, Августин, сказал, что вера состоит в том, что мы верим тому, чего не видим, а наградой за веру является возможность увидеть то, во что верим. Не слишком сложно?
Он кивнул:
– Да уж как-то усвою. Хотя и странно, что даже в те древние времена бывали умные люди. Без Интернета, а какие выводы делали!.. К сожалению, меня приводит в ужас и смущение то безнадежное одиночество, на которое обрекает меня современное мировоззрение атеиста, но, с другой стороны, не могу не сказать, что в облике атеиста я чувствую себя крутым и независимым, а вот верующим… гм… Ну-ну, скажите, господин президент, что-нить умное, вроде того, что атеизм – это тонкий слой льда, по которому один человек может пройти, а целый народ ухнет в бездну…
Я покачал головой:
– Зачем? Умное в этом случае бесполезно. Атеизм – это молодость. Это горячая кровь. Это юношеское непризнание авторитетов. Это вполне понятное бунтарство, через которое мы все проходили.
Он неторопливо прихлебывал густое шестипроцентное молоко, белая кромка оставалась на толстых мясистых губах. Лицо как гранитная глыба, крупное и массивное, исполненное силы, в глубоко сидящих глазах мелькнула искорка удовлетворения: у него-де все еще горячая кровь, юношеское бунтарство и все такое приятное для стареющего самца под шестьдесят лет.
– И вы? – спросил он после паузы.
– И я, – ответил я просто.
– А теперь? – спросил он с интересом. – Вы нам показались таким… деловым!
– Я и сейчас деловой. Даже больше, чем раньше. Истинная вера человека направлена не на то, чтобы дать ему покой, так только дураки думают, а чтобы дать ему силы на труд! Человек должен быть или верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек. Вера – это согласие воли с совестью. Сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью. Я не могу спорить с теми, кто все еще не верит… Я говорю «все еще», потому что неверие – это изначальное состояние в наше интернетное время, а уверование – это следующий шаг. Это переход от детского бунтарства к зрелости.
Шмаль с готовностью хихикнул, кивнул Леонтьеву и Крутенкову на Медведева, приглашая полюбоваться на бунтующую дитятю в шестьдесят лет от роду. Медведев сдвинул плечами, собрался было что-то сказать, но передумал, как раз принесли десерт, он крякнул и взял в руки широкий нож. Если нам лишь по кусочку торта, то ему целиком, однако Медведев, к моему разочарованию, не стал жрякать целиком, а красиво и умело нарезал узкими ломтиками. Шторх сказал завистливо:
– Вот же зверь, жрет такое – и не толстеет!
– Может быть, – предположил Леонтьев, – у него глисты?
– Господа, – сказал я укоризненно. – Не за столом же! Пора выдавливать из себя демократа…
– Да, – сказал Леонтьев, – демократией при имортизме и не пахнет. Хотя мне эта религия… или это не религия?.. словом, эта хрень нравится. Если Богу от меня ничего не надо, то почему бы Ему не присутствовать… в той политической партии, к которой я принадлежу? А я принадлежу, ессно, к победившей, я же политик… Но если серьезно, мне в самом деле нравится имортизм. За то, что отвергает эту лабуду насчет всеобщих и равноправных выборов. Толпа не имеет права выбирать вожака. Вожаками сами становятся самые сильные, самые умные, самые изобретательные. А что выберет толпа, понятно… Но все-таки, господин президент, у вас есть готовый ответ для тех, кто утверждает, что им для самосовершенствования никакого Бога не нужно? Что их это унижает? Не было бы Бога, они бы сразу в имортизм с дорогой душой… и так далее!
Я ответил невесело:
– Да просто ничего не отвечу. Со всеми надо говорить на понятном им языке. А они… еще не понимают. Это мальчишки, хорошие самоуверенные мальчишки. Даже если им по сорок лет. Их гордость, видите ли, задета! Пусть идут к цели сами, разве мы против? Да только не дойдут, вот в чем беда. Те, которые идут с Богом в своих рядах, пройдут дальше. Повторюсь, недаром у всех народов есть поговорки, что у тех, кто берет Бога в помощники, любая работа идет лучше и быстрее. Что и понятно: идти в трудный путь одному или отрядом? Вон даже анонимные алкоголики стараются держаться вместе. У них и устав свой есть…
На край стола опустился поднос, ловкие женские руки быстро переставили две чашки с кофе, одну с чаем и один фужер с ядовито-оранжевым соком. Шторх объяснил с виноватой улыбкой:
– Я, наверное, уже имортист… Вот здоровье берегу.
– Поневоле, – сказал Леонтьев ядовито.
– Поневоле, – согласился Шторх.
Я посмотрел вопросительно, Медведев объяснил:
– Доигрался. Ему пузырь удалили!.. Раньше надо было пить, а сейчас зачем?
– Какой пузырь? – спросил я. – Плавательный?
– Ну да, он же нефтяник.
Шторх сказал с неудовольствием:
– Все вы, господин президент, какие-то примеры странные приводите! Мы не анонимные, так сказать. Просто я их, этих отказников от Бога, хоть и смутно, понимаю.
– А что, – удивился я, – их понять трудно? Им всем кажется, что присутствие Бога как-то стеснит. Но в чем? Как?.. Если у них полнейшая свобода воли и полнейшая ответственность за свои поступки, то… как?
Шторх смолчал, Леонтьев спросил задумчиво:
– Может быть, просто обидно, что выше их самих кто-то есть? Или что-то?.. Задета человеческая гордость?
Я взглянул на часы, обед заканчивается, не стоит распускать команду, задерживаясь больше положенного, поднялся.
– Выше человека, дорогой Леонид Израилевич, можно поставить очень многое. Например, любовь. А рыцари еще выше любви ставили честь, верность. Так что Бог… впрочем, вы правы, Бог в этом случае, в самом деле, связывает, обязывает. Но тогда им, с требованием полной свободы от Бога, прямой дорогой в демократы! И даже дальше, дальше…
Я положил салфетку, за спиной грюкали стулья, стучали опустевшие тарелки. Министры сбивались в группки, переговаривались, я шел обратно в одиночестве, но сердце радостно стукнуло и доложило, что некие мостики проложены, меня начинают понимать и, что главное, принимать.
По дороге из столовой услышал, как Леонтьев сказал Медведеву вполголоса:
– Вижу, что снова для России важен размах, а не результат.
Тот бросил в мою сторону опасливый взгляд, заговорил тише, но его рокочущий бас все равно перекрывал даже разговоры идущих толпой министров за нашими спинами:
– Не скажите… Размах – да, без этого у нас никак, широка русская душа, но и результат… гм… не на последнем месте. Вы забыли, что Коммунистическая партия Советского Союза – это не тот некий монстр, что возник только в темной и дикой России! У вас, в Штатах, Коммунистическая партия Америки была очень сильна, а если взять Европу, то там коммунистические партии были самыми сильными отрядами оппозиции, так ведь? В Азии коммунисты вообще в ряде отдельных, если можно так выразиться, стран взяли власть. И в Африке коммунисты, и в Индии, и… да везде– везде! Так что не надо, что результаты у нас хреновые. А теперь имортизмом тряхнем… уже тряхнули этот дряхлый мир.
Я сделал зарубку, что Леонтьев, оказывается, жил в Штатах так плотно, что Медведев к нему как к американцу даже сейчас. А вторую зарубку, что Медведев уже инстинктивно на стороне имортизма…
Неспешно, как водится после сытного обеда, рассаживались за столом, грюкали стульями, а тут отворилась дверь, и с блаженными улыбками праведников – сейчас бы сказали: идиотов – вошли в наш деловой жестокий мир политиков и чиновников Тимошенко и Седых. Оба выглядели как перипатетики среди отдыхающих после кровавой битвы гуннов.
Тимошенко всплескивал белыми пухлыми ручками, ахал, Седых что-то увлеченно доказывал, волновался, забегал вперед и суетливо заглядывал в лицо. С ходу направились ко мне, я увидел, как поморщился Медведев, а Леонтьев с неловкостью за меня отвел взгляд в сторону.
Я ощутил некоторую досаду, мои соратники забывают, что я уже не только создатель имортизма, а президент, у которого, помимо изысканного теоретизирования, существуют и жесткие обязанности. А теперь эти обязанности на первом плане.
– Бравлин, – сказал Седых счастливо, я увидел, как снова поморщился Медведев, впрочем, с некоторой ревностью, для них я пока что «господин президент», не скоро некоторых допущу до по батюшке, а вот так, по имени, пока только со старыми соратниками. – Бравлин, тут наш дорогой друг еще один аспект имортизма отыскал…
Он пихнул Тимошенко в бок, тот поморщился, сказал нерешительно, явно с неохотой, как говорят о неприятном, но о таком, что сказать надо:
– Имортизм решит и еще одну проблему… Она еще за горизонтом, но мы первыми увидим ее грозный восход из-за края земли. Сейчас наступление на проблему бессмертия уже началось, хотя наступающие еще даже себе не признаются, что замахиваются на такое… гм… Пока это еще только атаки на старость, продление активного образа жизни, долголетие, клонирование, опыты со стволовыми клетками… Техника грызет этот гранит с другой стороны, предлагает миниатюрные чипы, что сперва будут поддерживать жизнь человека, а потом и перестраивать по его воле, лечить, исправлять, предотвращать. Имортизм же даст базу.
Седых уловил первым, спросил в упор:
– Ты имеешь в виду, что при демократии эту проблему не решить прежде всего в этическом плане? Либо бессмертие всем, ведь у нас равенство, либо никому?
– Да. Глупо и нелепо наделять бессмертием пьяного слесаря со склонностью к криминалу и антисоциальным действиям. А такие люди, прекрасно понимаем, будут всегда. Такова биология. Бессмертие станет привилегией только имортистов. Мне совсем не нужен среди бессмертных пьяный и матерящийся уголовник.
Я сказал с неудовольствием:
– Богдан Северьянович, Денис Гаврилович! Да сядьте же, пожалуйста… Не могу же я стоять перед вами, я ж президент, однако, но вроде бы из вежливости должен, а после такого обеда…
Оба наперебой заизвинялись, отступили к своим прежним местам, оказавшись за спиной Леонтьева. Тот оглянулся на них, сказал, выворачивая шею:
– Вроде бы и бесчеловечно обрекать его на… смерть, а это именно обрекать, если имортистам дать бессмертие, но, с другой стороны, кто мешал моим одноклассникам стать академиками? Так нет же, какие пьянки устраивали еще в школе! Каких девочек трахали прямо в коридорах! Даже учительницу, была у нас одна прелестница, начиная с седьмого класса… Я придурком был для всех: после уроков оставался на лабораторные занятия! Был еще один такой, тоже не пил, не курил, учительшу не трахал – только качался в спортзале, а когда закрывали на ночь, бегал в потемках с гантелями… Теперь восьмикратный чемпион мира, рекордсмен, вся квартира в кубках и золотых медалях. Кстати, теперь и отыгрывается: пьет лучшие вина, трахает не простых учительниц, а элитных актрис…
Удовиченко зевнул, сказал философски:
– Не завидуйте, дорогой Леонид Израилевич, не завидуйте. Хотите, одну актрисочку пришлю? Молоденькая, свеженькая, изумительная фигурка с вот такими здесь и вот здесь… честно-честно!.. И готова на все, только бы протекция от того, кто в молодости грыз гранит или качался…
Леонтьев отмахнулся.
– Еще Наполеон сказал, что великие натуры избегают сладострастия, как мореплаватель рифов. Мне достаточно и того, что мы все это можем. Больше и лучше, чем тогда, когда были личинками. Хотя, впрочем, как-нибудь на выходные… В самом деле, говорите, вот такие сиськи?
– Клянусь! – ответил Удовиченко. – Природа, как справедливо заметил господин Седых, – я правильно запомнил? – выпускает большое разнообразие двуногих. У некоторых просто изумительные параметры. Если жизнь лишить счастья, радости, удачи, то останется один лишь смысл. В смысле, имортизм. Но почему-то тогда вообще жить не хочется…
– Земля – завшивленный Колобок, – отпарировал Тимошенко, – а самая грозная вша – демократ. Он, видите ли, счастье, радость и удачу видит только в клубах для гомосеков да в телеконкурсах. А то, что счастье и радость бывает не только при чесании гениталий, ему даже ни в лом ногой! Вы уж, милейший Остап Корнилович, выбросьте из головы такую дурь…
– Выбpосить дypь из головы нетpyдно, – ответил Удовиченко, – но жалко! У людей заторможенный эффект. Постигают обычно только следующие поколения, а мы стараемся зажечь сырые бревна сейчас… А бревна-то вообще с гнильцой! Надо бы подсушить сперва.
Седых прислушивался к их спору, отрубил:
– Некогда! Полейте бензинчиком. Нет бензина – крутым кипятком. Но разжечь надо теперь, завтра будет поздно.
ГЛАВА 6
Надо бы с раздражением, но это придет позже, а пока что я с облегчением смотрел, как эти двое эйнштейнов влезли в кабинет с какой-то непонятной для министров хренью, что ничего не дает ни сельскому хозяйству, ни нефтяникам, теоретики, мать их, отбирают ценное время, а президент никак не погонит соратников… возможно, уже бывших, зачем они ему теперь, эти болтуны?
С другой стороны, вот в таком живом разговоре лучше всего составлю о каждом свое мнение. Так что мои имортисты хоть и нечаянно, но сработали, как заправские шпионы-провокаторы. Хотя, кто знает, может быть, и не совсем так уж нечаянно.
Леонтьев проговорил задумчиво:
– Сейчас наши интеллектуалы наконец-то перестали тянуть простого человека вверх, к светлому будущему, но заодно и перестали просвещать и учить. Вовсе перестали, а сказали: есть выбор, вот там сорок телеканалов с порнухой, бесконечными «Выиграй приз», боевиками, а вон там на пятой кнопке телеканал «Культура». Никто тебя не заставляет смотреть что-то насильно, как раньше, выбирай сам. Хочешь быть элитой – карабкайся, хочешь оставать быдлом – оставайся.
Удовиченко кивнул, сказал предостерегающе:
– Но человек – такая скотинка, что обязательно предпочтет что-нибудь эдакое… Господин президент, признайтесь, у вас есть букмарки на порносайтах?
– Есть, – ответил я, запнувшись на секунду: припоминал. – Есть!.. А что делать, не святой, не аскет, не монах. Но все-таки стараюсь карабкаться на эту сверкающую вершину.
– И я стараюсь, – ответил он невесело, – но все-таки очень уж мерзостная скотина уговаривает меня не вылезать из болота. И не одна. А демократы этой скотинке очень уж способствуют. Прямо лебезят перед нею, заискивают, стелются, стараются угадать, что же ей еще восхочется, чтобы успеть угодить раньше, чем сделает кто-то другой. Понимаешь, в чем беда: никто не старается угодить той моей части, что нескотинья…
Леонтьев хохотнул, он с удовольствием следил за мыслью Удовиченко, наслаждался, что хорошо понимает, чувствует нюансы и нюансики. Остальные посматривали то на них, то на меня. Я терпеливо наблюдал, давая размяться после обеда, после сытной еды мысль всегда сперва двигается очень неповоротливо.
– Не много ли захотел? – спросил Леонтьев Удовиченко. – Во-первых, ей угодить трудно, это не пинок под зад или банановая шкурка под ногами. Во-вторых, с нее навару мало, в то время как двуногого скота везде полно, а рубль или голос двуногого приравнены к рублю и голосу благородного… не правда ли, нелепость? Так что зачем стараться создавать симфонию, когда за песенку из четырех нот и двух слов платят в тысячи раз больше?.. Даже в сотни тысяч, что вообще-то трудно представить, но это так.
– Да, но… – Он посерьезнел, голос стал строже и задумчивее.
– Что «но»? – спросил Леонтьев.
– Есть одна зацепка, – ответил Удовиченко.
– Какая?
– Меня не оставляет ощущение, что эти развлекатели быдла что-то важное упустили.
Шторх бросил на меня быстрый взгляд, испрашивая разрешения, сказал саркастически:
– Ну да, можно поскальзываться еще и на апельсиновой корке. И на мандариновой!.. А если по дороге на работу упасть в ведро с краской, а потом, поднимаясь, ухватиться за платье проходящей мимо женщины и сорвать его… Тут же подсказывающий гогот за кадром.
– Нет, другое, – возразил Леонтьев. – Даже самой серой и тупой скотинке иногда бывает что-то нужно и для души. Мало, но надо. Если перекормить этими «Угадай и стань миллионером!», то взбунтуется. Как взбунтовалась, когда перекормили балетами да операми. Мне кажется, наша элита, стараясь накормить простолюдина дерьмом, не замечает, что упускает нечто очень важное…
Шторх подумал, сказал:
– Вообще-то имортизм – та же реакция на перекормленность всякой дрянью. Но это реакция высоколобых, которым настолько осточертело быть уравненными с быдлом, что пытаются взять власть в свои белые руки. А насчет простого народа, гм…
Медведев, которому это уже надоело, приподнялся, оглядел всех тяжелым взором асфальтового катка.
– Простой народ должен работать. А мы сейчас должны выработать новый план реорганизации промышленности. Если господин президент не против, я хотел бы заслушать Тихона Ульяновича, нашего министра энергетики. Что там насчет нехватки электростанций в Приморье?
Я постарался сдержать улыбку. Медведев уже освоился, как настоящий медведь в родном лесу, начинает, будучи хозяином леса, наводить порядок.
Ничего, он – хозяин леса, а я царь зверей…
Солнце опускалось, воздух в кабинете становился плотным и тяжелым. Фигуры членов правительства деформировались, как воск на открытом солнце в июне, лица раскраснелись. Медведев и Крутенков то и дело вытирались платками, даже Шторх в конце концов достал нечто среднее между простыней и скатертью, изящно промакивал лоб, но капли мутного пота срывались с кончика носа, стекали по щекам, падали с подбородка на стол.
Я взглянул на часы, охнул:
– Заработались мы, однако… вы всегда так? Или только со мной?
– Это мы так подлизываемся, – объяснил Шмаль. – В порядке подхалимажа. А на самом деле мы все по саунам с голыми бабами. Вон Леонтьев прямо в кабинете турецкую баню соорудил!
– А у вас в кабинете все пауками заросло, – обвинил Леонтьев.
Я поднялся, потянулся, потрещав всласть суставами.
– На сегодня все!.. Мы и так, чувствую, поработали, как никогда раньше… Не отнекивайтесь, вижу. Завтра продолжим с того места, на чем остановились. Если у кого-то ночью возникнут новые идеи… я имею в виду, как мир сделать лучше, а не смыться в Швейцарию за тайным банковским счетом, буду рад и возьму на заметку.
Они поднимались, сразу повеселевшие, словно до этого покорно ждали работы за полночь, прощались, пожимали руки, заглядывая в глаза, отступали к двери. Крутенков, который единственный за столом во время обеда не промолвил ни слова, только прислушивался и смотрел на меня печальными и добрыми, как у коня, глазами, задержался у двери. Леонтьев последним пожал мне руку, пожелал доброй ночи и вышел, а Крутенков переступил с ноги на ногу, вид несколько смущенный, я тоже остановился, и он, ощутив мое внимание, сказал торопливо:
– Господин президент… есть и еще одна причина, почему человек обращается к Богу… Вы о ней не упомянули. Запамятовали, очевидно. Такой человек, как вы, не мог не знать…
– Продолжайте, – сказал я настороженно.
– Извините, причина глубоко личная… однако личное, как мы все знаем, у всех у нас, человеков, перевешивает высокие гражданские мотивы… Уж такие мы свиньи бессовестныя…
– Какие же? – спросил я вежливо.
– Я, знаете ли, – заговорил он путано, торопливо, выпуклые близорукие глаза часто-часто мигали, он даже зарделся слегка, что уж совсем удивительно для человека такого возраста, – не то чтобы из неблагополучной семьи, но… из средней, так сказать. Отец – слесарь, мать – ткачиха. Помню, все учили меня жить, а я бунтовал, мечтал поскорее избавиться от их опеки… Когда призвали в армию, пошел с радостью, а после уже не стал возвращаться в родной дом: жил в общежитиях, работал слесарем, каменщиком, параллельно учился на вечернем отделении горного института… Потом женился, развелся, растут дети, я менял работы, получил кандидатскую, докторскую… на службе все выше и выше, а про тот домик и родителей даже вспомнить противно и стыдно было. Затем дети выросли, поженились, у них свои дети… Малость и я понянчился, но не по мне это – сидеть с внуками. Я человек все же деятельный… И вот как-то начал все чаще вспоминать про отца, про мать. Раньше, когда жил в их доме, я воспринимал их как тиранов, что требуют от меня непонятно что, всегда глупое и нелепое. Потом, когда ушел из дома и вольно жил когда в общаге, когда у жен, а потом и сам начал покупать квартиры, для меня родители оставались неприятным воспоминанием. О них не вспоминал, не думал вовсе. Честно-честно! А если и вспоминал, то очень редко – в моменты резких взлетов карьеры, в день защиты докторской или когда купил в центре Москвы огромную квартиру в элитнейшем доме… А потом, знаете ли, начал вспоминать все чаще и чаще. Я вас не слишком утомил?
Я смотрел с интересом, ответил с сочувствием:
– Пожалуйста, продолжайте.
– Вспоминал, вспоминал… А потом взял и поехал в ту далекую глухую провинцию. Прибыл на роскошном лимузине, а они все так же в том же стареньком домике, что когда-то казался мне просторным, теперь я увидел, какая это крохотная и чахлая лачуга! Они обрадовались, по-детски чисто и светло обрадовались, как обрадовалась бы моя собака, если бы дожила… Да и они оба, как две старые дружные собаки, стали мельче, поусохли, совсем не те грозные и вечно чего-то требующие. Не скажу, что я всплакнул, но что-то в груди защемило. Некоторое время пощемило, да… Потом я сказал им решительно, что хватит им здесь сидеть, забираю их в Москву. Всполошились, как же все это добро бросят, но теперь я чувствовал себя старшим, не слушал их, домик отдал даже не родственникам, а хорошим соседям, что жили с моими родителями в дружбе и часто помогали то дров наколоть, то воды принести от колодца…
– Теперь они в Москве? – поинтересовался я. – Простите, если…
– Нет-нет, оба живы и здоровы, – заверил он. – Конечно, я не взял их в свою квартиру, это было бы слишком, вдруг да снова начнутся трения… да и привык я, знаете ли, встать ночью голышом и пройтись в туалет…
– У вас один туалет? – удивился я.
Он усмехнулся:
– Нет, но кухня одна. А я и туда иногда топаю голым, чтобы достать из холодильника пивка или соку. Когда что восхочется! Словом, я привык к свободе и уже не могу себя стеснить. Для родителей сперва снял, а потом и купил приличную двухкомнатную квартиру в соседнем районе. Не слишком близко, чтобы ко мне не зачастили в гости, но и не слишком далеко, чтобы мог навестить их, если что… Вот так и живем. Знаете ли, мне стало комфортнее, теплее! Я пытался разобраться, что это за чувство, сперва думал, что это во мне говорит вся та же мальчишечья гордость и чувство удовлетворенной мести: смотрите, каким я стал крутым и богатым! Не вы мне, а я вам оказываю покровительство!.. Потом сообразил, что для меня, академика и лауреата международных премий, это мелковато, что-то другое, выше… Ведь если по уму, то на фиг они мне, двое стариков?.. Только лишние деньги, лишние хлопоты, лишнее время… Но когда отвез их в медцентр на обследование, поймал себя на корыстной мысли, что я хочу, чтобы они жили как можно дольше потому, что тогда и я вроде бы проживу дольше!.. Сейчас как бы стоят между мною и смертью, защищают меня. Надежный такой барьер. А когда умрут, мне надо будет прибавить к моему возрасту еще двадцать три года, во столько моя мать родила меня, это и будет срок моей смерти. На самом деле это не абсолютно точно, но в целом, понимаете, расчет верен. И вот я вроде бы пекусь о них, посылаю к ним врачей, заставляю регулярно проходить медицинские осмотры… Хотя почему «вроде бы»? Я в самом деле о них пекусь. Я чувствую себя намного комфортнее, когда они есть, чем если бы знал, что их нет… или буду знать, когда их не станет. Сейчас я по ощущениям – сижу себе в своем теплом уютном доме, а когда родителей не станет – сам выйду из дома и пойду, не останавливаясь, к темной бездне, именуемой смертью… Понимаете?
– Кажется, да, – ответил я задумчиво. – Когда родители живы, мы все чувствуем себя комфортнее.
– То же самое, – сказал он тихо, – и в отношении к Богу. Мы сперва бунтуем, атеистничаем, это нормальное проявление, как вы верно сказали, взросления. Как взросление людей, так и всего человечества. Но потом возвращаемся к Богу, потому что с Ним… теплее. Защищеннее. Что мне от моих родителей? Помощь, деньги?.. Я сам им помогаю. Так же мне ничего не надо от Бога. Я не приношу Ему жертвы, не молюсь, не кланяюсь, не прошу хоть щепочки… Но мне намного лучше, когда я знаю, что Он есть. А если подумать и представить, что Его нет, я чувствую неясную печаль и пустоту в груди. И не так уж хочется куда-то идти. А в груди возникает вот именно нынешнее демократическое: гуляй, Вася, один раз живем!.. трахайся, расслабляйся, балдей, оттягивайся, кайфуй… Мое отношение к Богу такое… ох, как это покоробит верующих!.. как к своим родителям, к которым я всю жизнь еду… в провинцию. Чтобы не от них взять, как привыкли просить у Бога, а чтобы им дать свою сыновью любовь, заботу и помощь.
Он раскланялся, совсем застеснявшийся, улыбался так, словно просит не принимать всерьез, это он сказал просто так, это тоже стеб, у нас везде стеб, мы все живем в сплошном нескончаемом стебе, но я покачал головой, наши взгляды встретились.
– Мы все идем к такому Богу, – сказал я. Поправился: – Те, кто уже… гм, взрослые лягушки, академики. А кто еще головастики, те бунтуют против родительской опеки… Наверное, их не переубедить, должны созреть. Жаль, конечно. Хотелось бы всех с собой разом… Но это как пробовать учить высшей математике людей, которые не усвоили еще простейшей арифметики.
Он развел руками, заулыбался смущенно и недоверчиво, в самом ли деле я его так правильно понял или по-дипломатьи говорю нужные и царственные слова, как должен вести себя мудрый правитель, отступил к двери. Я придержал ему створку, а когда он чересчур интеллигентно проскользнул в щель, чтобы не затруднить меня, даже не как президента, а просто как человека, делающего услугу, закрыл за ним и вернулся к столу.
Вера, мелькнуло в голове одно из высказываний отцов церкви, есть способность духа. У животных ее нет, у дикарей и неразвитых людей вроде юного слесаря Леонтьева – страх и сомнения. Она доступна только высоким организациям, каким вот стал Крутенков, именно тогда он и обрел веру. Тот же отец церкви Августин сказал пророчески: вера вопрошает, разум обнаруживает. Что значит, мы все-таки обнаружим своего постаревшего, но бессмертного родителя на краю стремительно расширяющейся Вселенной. Надо идти. Он там, и это истинно: вера не требует доказательств.
В кабинет заглянула Александра. Вообще-то мне полагается ее сменить, как и все окружение, у всякого кандидата в президенты уже все заранее расписано, кто из его соратников какой пост займет, даже это вот секретарство кому-то должно быть обещано, так делается всегда, но я же имортист, и соратники у меня такие же дурни, никто в правительство не рвется, напротив – попробуй затащить – упрутся, как ослы, все хотят быть только мыслителями…
Она постояла в нерешительности, обескураженная моим пристальным взглядом, сказала негромко:
– Да, господин президент… Вы что-нибудь хотите?
– А что ты можешь? – спросил я.
Она прямо взглянула мне в глаза, легкая улыбка скользнула по ее красиво очерченным губам фотомодели.
– Все, господин президент. Все, что умеет женщина… но я внимательно читала вашу программу, уже знаю, что вам недостаточно бросить кость. Вы предпочитаете схватить за горло всего оленя, верно?
– Верно, – согласился я.
– Я знаю всех, кто вхож в этот кабинет, – сказала она деловым тоном, – знаю их сильные и слабые стороны. Знаю, кто работает ради денег, кто ради славы, а кто в самом деле настолько идеалист, что хочет помочь стране. Таких, правда, совсем мало, а большинство таких, что умело все это совмещают. И деньги подворовывают, и о стране заботятся, как ни странно. Кроме того, я владею всеми видами оружия, вплоть до тяжелого, а также у меня черный пояс…
– По камасутре?
– И по камасутре тоже, – ответила она с легкой улыбкой. – Так что, когда понадобится уравновесить гормональное давление, я всегда рядом. Но я мастер спорта и по боевому самбо. Если вдруг оплошают все телохранители во дворе и по ту сторону дверей…
Я сказал поспешно:
– Надеюсь, это не понадобится. А сейчас свари мне кофе… Это умеешь?
– Умею, – ответила она. Помедлив, добавила осторожно: – Ваш предшественник очень любил кофе. Даже слишком. Безумно. Это общая черта президентов?
– Аль Капоне тоже любил крепкий кофе, – сообщил я.
– И что вы в нем находите?
– Предпочитаешь чай? – спросил я. – Думаю, у меня с предшественником больше общего, чем только кофе. Наверное, мой распорядок рабочего дня не будет отличаться от заведенного. А идеология… это уже из другой оперы.
Она чуть кивнула, не спуская с меня внимательного взгляда.
– Господин президент, я знакома с идеологией имортизма. Так что меня можно использовать не только для нужд ниже пояса… и ублажения желудка. Я уже сказала, что очень хорошо знаю всех, входящих в этот кабинет, а их очень много. И могу подсказывать, кто никогда не подойдет к имортизму, кто всегда будет врагом, а кому нужен только малейший толчок, чтобы он стал… от ушей и до кончика хвоста вашим.
Некоторая неловкость зависла в воздухе, мне почудилось, что щеки Александры чуть зарделись от такой откровенности, но я не дрогнул ухом, заставил себя чуть улыбнуться и сказал дружески:
– Вот за это спасибо!.. Но кофе все-таки сделай.
– Сейчас?
– Да.
– Не поздно, господин президент?
– Свари, – сказал я, – и топай домой. Я сам все закрою. Ключ оставить под ковриком?
Она улыбнулась, уже исчезая за дверью:
– Господин президент, у нас рабочий день ненормирован.
Через пять минут я уже прихлебывал горячий кофе, в другой руке мышь, колесико прокрутки мерно продвигает по экрану текст с фотографиями. Проглядывая фамилии тех, кто сегодня участвовал в разговоре за этим столом, я попутно просматривал их досье, заново всматривался в лица. Все они много дали бы за это досье, здесь рядом с теми хвалебными автобиографиями, которые они писали, сухой документальный комментарий: что, где, когда и как на самом деле. И почему. И сколько откуда отщипнул.
Служба сыска работает неплохо, но я уже президент, а не простой обыватель, потому не хватаюсь за голову с воплем: почему они все еще ходят нерасстрелянно? Потому что тогда останусь один такой вот чистенький. Воровали все, даже Крутенков, против фамилии которого я поставил «имортист», тоже отщипнул от одного крупного и нелепого госзаказа. Видимо, решил, раз деньги все равно пропадут, хоть часть уворовать на благое дело: построил особняк себе и купил квартиру родителям и еще три – старым друзьям, все трое афганцы, один из них вовсе инвалид, не может добиться даже пособий на лечение… И сейчас поддерживает их материально.
Остальные министры воруют кто от неуверенности в завтрашнем дне, кто из спортивного азарта, кто из жадности. В конце списка я нашел еще одного, Грабовского, министра путей сообщения, этот уворовал едва ли не больше всех, на украденное с риском для жизни создал мощную финансовую структуру и все получаемые деньги вкладывает в поддержку отечественных театров, дает деньги на съемки отечественных фильмов, а это суммы немалые…
Я поставил и против его фамилии галочку, надо будет познакомиться поближе. Уже слыхал о таких, кто, отчаявшись перестроить все общество, пытается облагородить хотя бы малую грядку в этом запущенном огороде. Сейчас же можем объединить усилия, ведь мы теперь – власть. А они, сами того не подозревая, имортисты. Стихийные имортисты, сказали бы люди, знакомые с понятиями стихийного материализма или идеализма. Крутенков и Грабовский живут по принципам имортизма, как и многие из дисциплинирующих себя высоких умов живут по его принципам, но жизнь проходит в постоянном сражении с косным окружением, с обычаями, привычками, модой, что неизмеримо сильнее всех законов.
Имортизм же дает возможность объединить усилия. Человек, не мыслящий жизни без духовной дисциплины, с изумлением и радостью видит, что он не одинок. Люди, подобные ему, наконец-то сделали то, что давно должны были сделать: объединились, выработали общую программу и, более того, взяли власть в свои руки! И отныне человеческое общество пойдет, управляемое не животными инстинктами, не амбициями политиков, что тоже всего лишь двуногие животные, а наконец-то мудростью.
Так что Крутенков наш, точно наш. И Грабовский наш. И многие другие, еще не сознающие себя имортистами, с радостью увидят, что их время пришло.
Я ткнул в сиреневую кнопку на клаве.
– Александра, отыщи, пожалуйста, Вертинского… Как отыщешь, сразу же сообщи.
Я не успел отключиться, как ее голос деловито и вместе с тем щебечуще произнес:
– Он в кремлевской библиотеке этажом ниже. Вызвать?
– Пригласи, – поправил я. Добавил с восхищением: – Ты просто чудо. Такая молниеносность!
– Стараюсь, – ответила она скромно. – Через пять минут будет здесь. Прямо к вам или пусть ждет?
– Прямо ко мне, – разрешил я.
ГЛАВА 7
Недостаточно, сказал я себе почти вслух, во всяком случае, пошевелил губами, что довольно нелепо, если за мной кто наблюдает, недостаточно просто объявить себя имортистом, надо что-то делать практически полезное для имортизма. Просыпаясь, мы всегда делаем выбор: чем заняться? Нужно всегда принимать во внимание будущее имортизма: что из планируемого идет в русле имортизма, что ему вредит?
Имортизм – это религия, направленная на ускорение научного и технического прогресса. И хотя будущее строится вроде бы только руками инженеров, однако же без Цели они могут зайти далеко и не в ту сторону, так что стойкая Вера необходима.
Имортизм – это всеобщая религия, в ней не обязательно быть альтруистом, можно работать ради своего процветания, но обязательно, чтобы результатами вашего успеха смогли пользоваться все желающие.
К сожалению, все религии дают ощущение значимости и цели нашего бытия, однако подавляют интеллект, а прогресс вообще готовы остановить вовсе. Имортизм же ориентирован именно на интеллект и прогресс человеческого общества, на ускоренное технологическое развитие.
Имортист стремится к все большему развитию интеллекта, мудрости, к накоплению знаний, неограниченному сроку жизни. Все препятствия, которые мешают развитию имортиста: политические, культурные, биологические, религиозные – считаются подлежащими устранению.
Вертинский появился малость растрепанный, мне он показался взволнованным, лицо раскраснелось, глаза бегают, я поинтересовался:
– Надеюсь, вас не под конвоем?
– Почти, – отмахнулся он и вздохнул с завистью: – У вас там много… интересного. А я, знаете ли, буквоед. Интересно, какими зигзугами ходит мысль, что выдает подлинные шедевры юридической глупости… А что это у вас такое лицо, будто зуб болит?
– Это я каноны имортизма повторял, – признался я. – Чтобы не забыть. Садитесь, пожалуйста. Хотите кофе?.. Александра, принесите, пожалуйста, сливок… Прекрасно, Иван Данилович, дело в том, что как раз и надо в самом срочнейшем порядке совершить… сотворить, как правильно, провести реформу всей юриспруденции! Это я вам уже говорил там, на Кремлевской стене, помните? Так вот, приступайте. И все нынешние дурацкие законы пересмотрите, две трети надо выбросить вовсе, остальные перекроить…
Его плечи передернулись.
– Нынешние или дурацкие?
– Дурацкие, – сказал я. – А что, вы сомневаетесь?
– Нет, но…
– Так делайте!
– Да, но… Как-то я себя не представляю в роли законотворца.
– Зато хорошо представляют себя те, – сказал я недобро, – которым бы только общественные туалеты чистить. Они и составляют, пока умные да совестливые мнутся и стесняются. Насоставляли, спасибо! Помните, Гельвеций утверждал, что реформу нравов надо начинать с реформы законов? Старик говорил красиво, но тут дал маху. Реформу нравов начинают с создания веры, религии, учения или просто моды, а закрепляют уже в законах. Что мы и должны сейчас сделать.
Его лицо посерело.
– Знаете, Бравлин, я все же интель старого склада. Умом понимаю вас, даже сердцем… но вот разрабатывать законы для всех… гм. Да еще явно же драконовские законы. Я, знаете ли, больше уповаю на нравственность.
Я кивнул, ответил убеждающим тоном:
– Да, нравственность справедливого человека вполне заменяет ему законы. Но таких немного… или такие, скажем, не все. А для всех, нравственных и не очень, должны быть законы. А так как законы пишутся для обыкновенных людей, то должны основываться на простых правилах здравого смысла.
Он нервно хохотнул:
– Вы загнули, господин президент! Умно и сложно сказать всякий может, а вот просто… гм…
– Что может быть проще, чем «око за око, зуб за зуб»? Истинные законы должны быть основаны не на идеале, как вот сейчас прекраснодушные идеалы общечеловеков, а на том, что было, что есть и что может быть. Везде и во все времена законы размножались по мере того, как развращались нравы. Возрастающее число болезней требует и возрастающего числа лекарств. По числу законов впереди планеты всей идут США. Чем ближе государство к падению, тем больше в нем законов.
Он смотрел подозрительно.
– Хотите сказать, что законов должен быть минимум?
– Да.
Он замолчал, сосредоточенно размешивал сливки. В чашке медленно, а потом все быстрее и быстрее вращалась целая галактика, спиральные молочные рукава вытягивались, истончались, рассеивались. Не какая-то безликая галактика, каких триллионы, а наша родная Галактика Млечного Пути. Вертинский, подобно Господу Богу, остановил ложечку, закрутил мировое движение в другую сторону, и галактика рассеялась в пространстве. Наступила тепловая смерть.
– Эта задача, – проговорил он негромко, – вообще не по плечу. Сделать универсальные законы? Так не бывает.
– Вы знаете, – сказал я мягко, – что бывает. Именно ими руководствуемся в быту. Повторяю, око за око, зуб за зуб… Невежество старого законодательства общечеловеков завело юриспруденцию в тупик. Мы просто выводим свое стадо опять на дорогу! Желания и чаяния человечества облекаем в форму простого и понятного закона. Надо только помнить, что законодатель, вводящий законы, противоречащие законам природы… преступен. Да, преступен, каким бы прекраснодушным ни казался! Достойными людьми, Иван Данилович, будем править при помощи идей, недостойными – при помощи эшафотов на Красной площади. И на площадях других городов.
Он проговорил с нервной улыбкой:
– Наказание преступников должно приносить пользу. Когда человек повешен, он уже ни на что не годен.
– Как раз годен, – ответил я жестко. – Повисит до вечера – сто тысяч таких же… романтиков большой дороги, насмотревшись, присмиреют. Позорно не наказание, а преступление. Наказанный преступник – пример для всех негодяев. Извините, что напоминаю прописные истины, но цель наказания – предотвращение зла, оно никогда не может послужить побуждением к добру. Всякий разумный человек наказывает преступника не потому, что был совершен проступок, а для того, чтоб не совершался впредь. Им и другими.
Он молча допил кофе, потом вылил в чашку остатки сливок и тоже вылакал с великой охотой. Остаться перекусить отказался, поздно, успеть бы домой вернуться до ночи. Я напомнил, что теперь за ним закреплена правительственная машина, пусть не стесняется пользоваться. С шофером, так что отговорка насчет отсутствия прав не катит. До свидания, Иван Данилович, привет супруге и внукам. Жду завтра с новыми идеями… Нет, не спешу, но это все должны были сделать несколько лет назад. До свидания, до свидания, до завтра.
На часах половина двенадцатого ночи, голова тяжелая, раскалилась, как валун в огне. Всего день я в законном президентстве, но хребет от перегрузки трещит и вот-вот хрястнет. Из глубин естества, как из темного болота воздушный пузырь, медленно поднимается отчаяние: по силам ли человеку или даже группе раскачать и вытащить из дерьма огромную страну, многочисленный народ, что уже сам, похоже, потерял волю к жизни? Что делать с этим гребаным обществом, где любого нормального мужчину размер его пениса волнует неизмеримо больше, чем судьба космических исследований? Даже если он сам – работник службы космоса? Мы тоже хоть и имортисты, но нормальные мужчины и женщины, однако ставку сделали на то, что умом все все-таки понимают: так не должно быть! Мы же люди, а не только самцы. Пенисы пенисами, но у людей что-то должно быть повыше и поважнее этих делов. Это только у скотов – Великая Американская Мечта: засесть в Белом доме и заставить любого входящего сосать…
И все же, все же цивилизация не так уж и прогнила, как можно подумать, глядя на телепередачи и дурацкие шоу. По крайней мере, в России, но, думаю, примерно так же и по всему западному миру. За партию имортизма проголосовало даже не в десятки раз, а в сотни больше, чем мы ожидали. Это значит, что стремительное скатывание в скотство достало уж очень многих. Конечно, сами имортисты – капля в море, даже не все интеллектуалы разделяют наши взгляды, а уж простой народ так и вовсе не понимает, а то и не знает о них, но слышал, что мы за чистку рода человеческого. Сборища наркоманов в подъездах и засранные лифты достали даже самих опущенных слесарей, все требовали вешать гадов, потому и отдали нам голоса… За чистку, а еще и за то, что мы пообещали быстрый рывок к долголетию и даже бессмертию.
Правда, теперь вот, увидев виселицу, ошалели. Большинство ликует, но кто-то испуганно затих, начинает сворачивать свои даже вполне законные делишки. Надо спешить, пока не опомнилось всемирное скотство и не вступилось за сохранение скотства в России…
Поколебавшись, я вызвал Александру:
– Еще не спишь? Отыщи, пожалуйста, Романовского. Это ведущий на телеканале «Культура».
– Знаю, – ответила она. – Его зовут Владимир Дмитриевич, сегодня ведет беседу о кварках… Передача начнется через полчаса.
– О кварках? – удивился я. – Впрочем, любые кварки к культуре ближе, чем конкурс «Кто дальше плюнет».
Я слышал в динамике, как мелодично переливаются звонки, огоньки загораются и гаснут, переходя с цифры на цифру, отключился, некоторое время рассматривал файлы, в динамиках щелкнуло, послышался негромкий голос Александры:
– Господин президент, требуется ваше вмешательство. Мне, увы, не верят… Жена на страже. Больно недоверчивая.
Еще бы, подумал я. Какая женщина позовет мужа в двенадцать ночи по звонку другой женщины? Я взял трубку.
– Здравствуйте. Это Бравлин Печатник, президент. Понимаю, и мне не поверите, мой голос еще не звучал под первое января с новогодним поздравлением… да и хватает шутников, подделать нетрудно. И все-таки, если позовете Владимира Дмитриевича, это будет правильное решение.
Чувствовалось, что женщина колеблется, наконец послышались шорохи, мембрану закрывают ладонью, приглушенный голос, снова шорох, ее голос произнес с неуверенностью:
– Подождите минутку…
В чувствительную мембрану слышно, как трубку осторожно опустили на стол, шелест удаляющихся шагов, негромкий голос: «Володя, подойди… Вроде бы сам Печатник. Да, президент… Да кто знает…»
Через несколько мгновений в мембране короткий шелест, трубку стиснули пальцы, раздался спокойный, бархатистый, несколько ленивый барский голос:
– Да, Романовский слушает.
– Это Бравлин Печатник, – сказал я. – Владимир Дмитриевич, я понимаю вашу осторожность, но все же сразу перейду к делу. Я предлагаю вам нелегкую работу министра культуры.
В трубке после недолгого молчания послышался смешок:
– У нас есть министр культуры.
– Не смешите, – ответил я. – Это не министр, а клоун, мечтающий стать шоуменом. Нужен именно министр. Именно культуры.
Снова смешок, голос Романовского чуть потеплел, но все еще оставался тем же отстраненно барским, выдерживающим дистанцию:
– Последнюю передачу я вел о проблемах озерных поэтов. А сейчас готовлю о возможностях генетики. На дальнем прицеле – нанотехнология, проблемы стволовых клеток…
Я сказал твердо:
– Прекрасно. Знаю даже, что через двадцать минут у вас передача о кварках… Очевидно, в записи? Как видите, президент все видит… Надеюсь, не думаете, что культура заключается только в органной музыке?
После паузы голос в трубке произнес:
– Черт знает что такое… Похоже, вы в самом деле тот… кто наделал шуму. Чтобы просто разыграть, друзья использовали бы что-нибудь попроще. Предложили бы должность завотделом, а то и завсектором. Для правдоподобия. Хорошо, господин президент, если нужно мое решение сейчас, то… принимаю.
Из трубки вырвался смешок. Я ощутил некую недоговоренность, переспросил:
– Что-то не так?
– Да слишком неожиданно, – ответил голос уже более раскованно, но с тем же предостережением, что дистанцию пока что сокращать рано, он-де аристократ, а имортисты – еще хрен знает что такое, может быть, просто перекрашенное в другой цвет быдло. – Вы не поверите, но я трижды пытался организовать с вами встречу на телевидении. Еще когда вы были… не президентом, скажем так. Вас не тревожил, сперва надо было договориться с руководством телеканала, а там сразу вставали на дыбы… Ну, мол, фашизм или новая разновидность фашизма, вы же знаете этих людей! Я тезисы имортизма выучил наизусть… нет-нет, это не в порядке подхалимажа, если приглашаете на такой пост, то уже знаете, что я за щука, просто я пытался доказать своему руковод– ству, что ваше учение очищает общество, а не загаживает… Но кому нужно очищение!
– Нам, – ответил я. – Мы в авгиевых конюшнях не по колено, как бродил Геракл, а по ноздри. Глотать начали. Приступайте к работе. С этой минуты. Не только канал «Культура» в вашем ведении, все телевидение – область культуры. Завтра приедете в свое министерство, там подготовят все бумаги. Успехов!
И положил трубку.
– Александра!
Она возникла на пороге буквально через секунду. Я еще раз окинул ее внимательным взглядом. Прекрасное тренированное тело, но, голову даю наотрез, с мужчинами у нее не очень: слишком умное лицо, проницательные глаза, высокие гордые скулы, некоторое высокомерие и аристократичность в облике. Таких мужчины избегают, все мы трусливо предпочитаем че-нить попроще, полегче, посговорчивей. И чтоб нами всегда восхищались.
– Извини, – сказал я, – в твоем досье сказано, что ты здесь уже восемь лет. Значит, ты ухитрилась повидать трех президентов и с десяток премьер-министров…
– Двенадцать, – сказала она.
– Что? Ах да, целых двенадцать… да, помню тот позор, ту бесстыдную чехарду, когда… Словом, как ты сумела ужиться со всеми?
Она смело взглянула мне в глаза.
– Делала свое дело и не лезла в чужие. Свое дело знаю и делаю хорошо.
Я кивнул:
– Не сомневаюсь. У меня к тебе, Александра, такое предложение… Нет-нет, не раздевайся, я предлагаю тебе взять на себя пост начальника канцелярии президента. На свое место посадишь девочку или мальчика, которых выберешь сама, а тебе пора все свои знания применять на полную катушку.
Она подумала, поинтересовалась осторожно:
– А что с Ткаченко? Нынешним начальником канцелярии?
– Он слишком… – сказал я, – слишком… влез в интриги. Я понимаю, все интригуют и подсиживают, в этом две трети жизни политиков, но он интригам отдался весь. И восхотел слишком многое. Так что он уже уволен. Место свободно, ты никого не спихиваешь, не выковыриваешь из кресла.
Она не спускала с меня испытующего взгляда.
– Это несколько неожиданно, господин президент… Я как-то ожидала, что вы постараетесь всех заменить своими людьми. Так принято.
– А ты и есть мой человек, – ответил я. Ее глаза оставались вопрошающими, я пояснил: – Всех умных и хороших людей я рассматриваю как своих. Они и будут моими, пока не станут творить подлости… Так что у меня достаточно простой рецепт, чтобы удержать тебя в рядах моих людей.
Глаза чуть сузились, однако губы одновременно чуть раздвинулись в улыбке.
– Хорошо сказано. Трудно поверить, что это не из предвыборной речи. Но, говорят, политики прикидываются даже перед отражением в зеркале?
– Я пока еще не политик. Так как?
– Принимаю, – ответила она. – Я справлюсь. Честно говоря, добрые две трети документов для Ткаченко готовила я. Если не все три. Мне все знакомо. Не беспокойтесь, господин президент, я не подведу. И я в самом деле… ваш человек.
Я отпустил ее милостивым движением головы. Подумал с горькой иронией, что теперь в самом деле стала моим человеком: эта должность – и власть, и высокое жалованье, и привилегии. Правда, если не захочет еще большего и не примет предложения работать против меня от того, кто пообещает еще больше.
Вот и становлюсь политиком, мелькнула невеселая мысль. Начинаю подозревать направо и налево. И уже начинаю искать пути, чтобы суметь вписать имортизм в эту гниль, именуемую современным обществом. А то, мол, нас, имортистов, будут считать прямо зверьем…
Мать-мать-мать, сказал я про себя, но, похоже, очень громко, спохватился, как бы Александра не прибежала на зов. До чего же в нас въелась эта идиотская общечеловечность!.. Ну конечно же, Моисей, Иисус, Мухаммад, Лютер, Ленин с точки зрения современного юриста – преступники. Им можно вменить в вину убийства, организацию покушения на государственные устои, массовое уничтожение людей и, конечно же, материальных ценностей.
Взять для примера того же Моисея. Для начала он убил египтянина, бежал, женился, вернулся в Египет, где устроил массовые теракты: вода по его слову превращалась в кровь, жабы покрывали все и губили урожай, людей и скот поражали мошки, мухи, саранча, мрак укутал всю землю, и, наконец, – куда уж страшнее! – он уничтожил всех первенцев в семьях по всему Египту. Измученный фараон принял все требования террориста: шестьсот тысяч человек сторонников Моисея вышли из Египта, нагрузившись чужим золотом и драгоценностями, то есть взяв богатый выкуп. Потом, правда, фараон, как и положено храброму правителю, возглавил антитеррористический отряд, но Моисей сумел и от погони уйти, и преследователей погубить, а с трупов поснимали, как записано в Книге, еще массу драгоценностей.
Затем Моисей не раз жестоко и без суда, вернее – по своему суду, карал тех, кто пошел за ним. И за отступничество, и за споры, и за все-все… Так что Моисея наши юристы приговорили бы к двумстам тысячам лет тюремного заключения строгого режима, смертной казни через повешение, расстрелу и удушению.
Точно так же с Христом, Мухаммадом… И не были бы написаны ни Пятикнижие, ни Евангелие, ни Коран. Да, не были бы написаны, живи мы по тем нормам, которые сейчас нам навязали марсиане. Но – великие идеи безжалостны!
Жизнь Иисуса известна лишь в детстве, он исчезает на семнадцать лет, а появляется уже как дезорганизатор жизни общества, устраивает скандалы в храме, опрокидывая столы и выгоняя, избивая при этом уважаемых членов общества, сплачивает вокруг себя группу, в которой пользуется непререкаемым авторитетом, сейчас это было бы названо бандой. Он занимался рэкетом и оказывал психологическое воздействие на людей с целью получения материальных и прочих благ. Такая организация сейчас немедленно привлекла бы пристальное внимание ФСБ, ЦРУ или любых особых органов, на территории чьей страны проходила бы их деятельность. И смертная казнь наступила бы намного раньше, чем при власти римлян.
Так что все это фигня насчет, ах-ах, общечеловеческих законов. Эти законы нужны скотам, они и созданы для скота. А сильная личность формируется и проявляется именно вопреки традиционным нормам. Имортизм не первый, кто ломает все общепринятые… так и хочется сказать крепкое слово насчет этой гребаной «общепринятости», но, ладно, промолчу…
Нравственные цели Моисея, Христа, Мухаммада, Бравлина – настолько грандиозны, неординарны, что не простолюдинным общечеловекам измерять их своими мышиными мерками. Сейчас, правда, как я уже говорил, ни Моисею, ни Христу, ни Мухаммаду не удалось бы проявить себя и создать свое вероучение. Но я, Бравлин Печатник, покрепче: я отыскал путь, каким удается достучаться до имеющих уши даже в наше преподлейшее время, где юристы, журналисты и особые отделы тех самых органов сумеют столько налить грязи, опорочить, извратить, исказить и смешать с грязью все благородные идеи и в конце концов опустить до нижепоясного уровня современного интеллигента, что уверен, будто все знает, все понимает, обо всем информирован.
Но есть странное утешение, даже опора, а вместе с тем и великая мудрость, что однажды Бог избрал для создания партии, очень схожей по структуре с имортистами, самый жалкий и рабский народ, какой только мог найти на всем белом свете! Они даже не пытались изменить свою рабскую жизнь, прозябали, не желали свободы, где пришлось бы самим решать что-то в жизни, трусили от одной мысли, что придется самим что-то решать, за них все решали надсмотрщики… «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незаметное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, – для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом».
Это пример того, что к вершинам можно подниматься из самого дна, а Россия, как ни плюй в нее с позиций русского интеллигента, – все-таки еще не дно, далеко не дно. Пример создания из жалких, ленивых и трусливых рабов сильной партии – повторяемый, настойчивый. Пример не случайный, ибо нам всегда мешают то Фаберже, то солнечные пятна, то неблагоприятные числа в лунном календаре древних майя.
Не однажды эта новообразованная партия пыталась отказаться от тяжелого строительства коммунизма и вернуться к прежней ленивой жизни общечеловеков с их культом расслабления, кайфа, чревоугодия и траханья всего, что попадется. Моисей ярился, что люди снова и снова обращаются к самым разным богам, что обещают жисть полегче. «И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем… и сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал– Фегору»…
Ладно, виселицу мы уже поставили. Милиция получила больше прав, правда, пока негласно, в правилах еще нет, но уже с человеческой грязью можно не церемониться…
Я стоял посреди каменистой пустыни, в сторонке двигалось огромное стадо овец, моих овец, все откормленные, жирные, сытые, но страх и отчаяние переполняли мою грудь, ноги дрожали, я едва сумел пролепетать в смертельном ужасе:
– Господи!.. Но почему я?..
Голос из огненного куста прогремел с такой мощью, словно со мной говорила сама небесная твердь:
– Потому что я избрал тебя!
Я вскрикнул еще жалобнее:
– Кто я, чтобы мне идти к фараону?
– Я буду с тобой, – прогрохотал нечеловеческий голос. – Иди!
Я пошатнулся, чувства не могут вместить присутствие вселенских сил, но я собрался с силами и возразил:
– Господи! Человек я не речистый, и таков был и вчера и третьего дня, и когда Ты начал говорить, я тяжело говорю и косноязычен.
Голос прогрохотал еще объемнее, теперь со мной говорило небо, земля, вся Вселенная, меня объял ужас, а в череп били тяжелые неумолимые слова:
– Кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли? Итак, пойди; и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить!
Я чувствовал, что возразить нечего, я ничтожно мал против исполинских сил, хотя странное дело: овцы пасутся спокойно, ни одна не убегает, даже не подняла голову, прислушиваясь, и мне становится до ужаса понятно, что вселенский голос гремит в необъятной вселенной моей души. Меня соединяет нить с Верховным, с тем, кто все сотворил и дает нам цель, я открыл рот, закрыл, и хотя я сейчас в каменистой пустыне под чистым синим небом, а вдали виднеются шатры бедуинов, где меня ждет моя жена и двое здоровых красивых детей, но я все-таки еще и я, демократ и общечеловек, и я услышал собственный голос, похожий на голос упрямого осла:
– Господи! Пошли другого, кого можешь послать…
Земля вздрогнула, качнулась, пошла волнами, как будто я стоял на поверхности бескрайнего моря. Над головой оглушительно затрещало, сухо и опасно, я невольно пригнулся, остерегаясь осколков камня, хотя понимал, что если разломится небесная твердь, то посыплются не мелкие камешки.
Вселенский голос, что шел со всех сторон разом, прогремел с великом гневом:
– Разве нет у тебя Аарона брата, Левитянина? Я знаю, что он может говорить вместо тебя. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу; и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей, что будет обращен в змея, возьми в руку твою: им ты будешь творить знамения…
Да не хочу я нести твое слово, билась у меня в черепе невысказанная мысль, я же не дурак, я же знаю, что это такое, быть оплеванным не только со стороны дураков… о, если бы только дураки!.. но и умные не поймут, будут хохотать и крутить пальцем у виска. У меня есть жена и дети, есть соседка, к которой хожу тайком от жены, есть две дочери соседа с той стороны реки, обе улыбаются так многозначительно, что моя кровь в чреслах кипит, я в мыслях что только с ними не проделал… И вот все это бросить, идти с твоим словом, терпеть насмешки, что в наше время хуже, чем проклятия?
Сердце колотилось все сильнее, ужас и отчаяние нахлынули с такой силой, что меня выбросило в другой мир, где я скорчился на постели, дрожа и всхлипывая, на теле холодный пот, хотя ночи теплые.
В комнате чернота, а за окном свет уличных фонарей, донеслись звуки встревоженной сигнализации, но вскоре оборвалось, так электроника реагирует на запрыгнувшую на капот кошку.
– Да что у меня за видения, – проговорил я со стоном. – Жуть какая… Уже и забыл, когда это голые бабы снились…
Закутался получше, подтянул колени к подбородку. В разгоряченный мозг пришла успокоительная мысль, что на днях что-то видел по жвачнику, не то боевик на тему бегства из Египта, там классный супермен в роли Моисея, как раз дядюшка Арнольд по возрасту созрел для такой роли, этот Моисей всех крушил и ломал о колено голыми руками, а на другом канале распинали Христа, а он пел и плясал в стиле панк-фак…
ГЛАВА 8
Прозвенел будильник, я похлопал ладонью, пытаясь приглушить, но звук не прекращался, пришлось открыть глаза. Господи, да это моя родная комната, вон компьютер, вон картина прямо над столом…
Не увиливай, сказал я своему подсознанию. Я – имортист! От этого уже никуда не деться. Я имортист, я призванный, я сказал слово Откровения, оно разошлось по Интернету, и вот я уже президент огромной страны. А кому много дано, с того много и спрашивается, чмо.
Я поспешно встал, раздираясь между жаждой немедленно влупить по чашечке, а лучше – чашище крепкого горячего кофе, и необходимостью заняться гимнастикой: пора, друг, пора, животик не просто выпирает, но уже через ремень норовит, норовит. Пока что хожу, подтягивая мышцами. Но когда устаю или забываю, то выдвигается, словно поршень.
Все-таки выбрел на кухню, щелчок на электрочайнике, пока вода закипит, я успею хотя бы десяток-другой понагибаться, главное – начать, не нужно надрываться, иначе мышцы живота неделю болеть будут с непривычки. И чашку заранее приготовлю, заодно и сахарницу с ложечкой… нет, эта вот вместительнее, хоть тоже чайная… Почему обязательно чайная, а нет кофейных?
Задумавшись, машинально засыпал коричневый порошок, пахнет обалденно, красивая горка опускается торжественно и трагически, словно всемирное наводнение стремилось затопить Арарат, но все-таки затопило, некоторое время двигались темные струи, наконец на поверхности начала формироваться плотная коричневая корка, аромат стал сильнее.
Я дождался, когда проклюнулись первые пузырьки, снял, на дне чашки уже белеет сахар, горячая пахнущая струя ударила в снежно-белые крупинки, и только тогда я вспомнил, что собирался позаниматься гимнастикой. Идиот, разиня!.. Правда, можно и сейчас, в желудке еще ничего нет, но… кофе за это время остынет, а пить его надо обязательно горячим, иначе что за кофе, это помои, а не кофе…
С облегчением плюхнулся за стол, всегда сумею с собой договориться, всю жизнь договаривался, хотя пакостное чувство оставалось тоже всегда…
– Но сейчас, – произнес я вслух, – я же имортист… имортист, даже иморт. Я был дочеловеком, а какой спрос с полуживотного? Я был, как и все… Ну, хотя бы внешне старался не засвечиваться… Я был, как все…
Горячий кофе окончательно разогнал сон, мысли побежали бодрые, упругие, от них сама собой отлетала шелуха, как пересохший хитин от молодых сильных имаго. Среди юных и горячих, но незрелых еще на голову, существует наивное убеждение, что лидер сам должен быть сосредоточием тех качеств, которые проповедует. Когда-то, когда весь мир был юным и не очень умным, придумали красивую на то время формулу: «Врачу, излечися сам!», и те, кто остался на уровне интеллекта древних греков, повторяют ее даже сейчас. Типа, что ни один врач не имеет права лечить, пока сам не избавится от всех болячек, пока не сбросит лишний вес, не бросит пить и курить, не выведет бородавку на морде лица… Это требование личного примера разрешает спортивными тренерами работать только олимпийским чемпионам, поднимать в атаку не солдат, а сперва – генералов, маршалов со всем Генштабом, президента со всем кабинетом министров…
Но мы не такие наивные, мы знаем более верную и трезвую формулу: «Делай, как я говорю!», к которой смиренно добавляем от имортизма: «…а я тоже постараюсь делать в меру моих сил».
Я допил кофе, от булочки мужественно отказался, пошел в большую комнату и десять раз отжался от пола. На большее попросту не хватило сил, полежал щекой на ковре, приходя в себя, а последние десять минут перед выходом потратил на отжимание от края стола, выглядит не столь спортивно, но с чего-то начинать надо, от сидения за компом я растерял все мышцы, сейчас же плечевой пояс разогрелся докрасна, словно кожу ошпарили кипятком.
Еще пару минут, чтобы сполоснуться в душе, оделся, бросился к двери… перед выходом, как водится, посмотрел в глазок, отпрянул: на площадке трое плечистых молодцев, а еще один внимательно смотрит в окно на улицу и соседние дома. У одного из молодцев в руках «дипломат», я сразу узнал так называемый ядерный чемоданчик. Ясно, это и есть тот самый ядерный офицер, что всюду таскает за мной устройство, с помощью которого могу начать ядерную войну, запустить ракеты с атомными боеголовками изо всех шахт, с подводных лодок, передвижных установок, что и в этот момент двигаются через тайгу, постоянно меняя и место и маршрут.
Я открыл дверь, улыбнулся, словно на меня со всех сторон нацелены телекамеры, а я, как царь ацтеков, должен олицетворять здоровье и счастье страны:
– Доброе утро!
– Доброе утро, господин президент, – ответили они хором.
Я спросил вежливо:
– Надеюсь, прибыли только что?
Один из охраны коротко поклонился.
– Возможно, вы еще не успели заметить меня, господин президент. Я – Коваль, начальник службы вашей охраны. Должен сразу сказать, господин президент, что крайне настоятельно рекомендую… да что там рекомендую, требую, чтобы вы немедленно переселились в Кремль. Уже за сегодняшнюю ночь мы предотвратили пятнадцать попыток проникнуть в ваш дом. Из задержанных – семнадцать человек были вооружены так, что любой спецназ позавидует!
– Пятнадцать попыток, – пробормотал я, – а задержано больше семнадцати…
– Шли группами по три-пять человек, – ответил он. – Остальные – одиночки. То ли хулиганье, то ли посланные на прощупывание охраны…
Лифт распахнул двери, один охранник сразу отправился вниз. Коваль дождался, когда прибудет грузовой, двери раздвинулись, там крупный человек в хорошо сшитом костюме взглянул на меня в упор и отодвинулся к стене. Коваль отступил, пропуская меня. Последним вошел ядерный чемоданчик.
Консьержка, всегда такая любопытная, на этот раз затаилась в глубине комнатки, похожая на робкого зайца. Солнце ударило по глазам, воздух свежий, резкий, у подъезда подводная лодка на колесах, шофер не сдвинулся с места, дверцу передо мной распахнул один из телохранителей.
– Господин президент…
– Благодарю, – сказал я.
Плечистые молодцы неслышно скользят справа и слева на расстоянии, дабы пресечь нежелательное, это недолго, моя дурь видна даже мне, сегодня же переселюсь на жительство в Кремль.
Машина эскорта понеслась вперед, вторая потащилась за нами, а на все три ни у кого не хватит динамита, нас может остановить разве что танковая колонна: с одиноким танком, к примеру, справимся силами оставшихся двух автомобилей.
Чуть ли не впервые в жизни располагаюсь на заднем сиденье. У мужчин рефлекс садиться рядом с водителем, если уж не самому за руль. Это женщина предпочитает места сзади, чтобы успеть подновить макияж, у них, напротив, рефлекс забиться в пещеру поглубже, в самый дальний и темный угол, осознавая свою сверхценность и уникальность для продления рода, а мы всегда за горизонт, где уцелевшие добудут нечто и принесут в себе, чтобы отправить эту находку в виде детей в будущее…
– Не сюда, – велел я. – На втором светофоре сверни налево.
Когда выехали на узкую улочку, шофер оглянулся за указанием, но Коваль опередил меня:
– Сейчас прямо, там будет знак сужения дороги. За ним повернешь направо… Я не ошибся, господин президент?
– Все-то ты знаешь, – пробурчал я. – Убивать пора.
– На службу не опоздаете?
– У меня еще нет строгого расписания, – объяснил я.
Он повернулся в мою сторону, шея побагровела от прилива крови.
– Не знаю, – сказал он предостерегающе, – надо ли вам вот так… с первых же дней. Президент постоянно под прицелом сотен глаз. Долго мы не сможем хранить в тайне… Да и смогли бы, но что насчет старух, что там постоянно толкутся то у подъезда, то на детской площадке?
– Сейчас солнце по ту сторону, – ответил я. – Они выползут во второй половине дня.
Он хмыкнул, но смолчал. Сердце щемило все сильнее, я вдвинулся поглубже, тоскливо зыркал по сторонам. Дома плывут навстречу, покачиваясь, как айсберги. Нет, это мы покачиваемся в креслах на волнах вздыбленного жарой асфальта, а дома проплывают мимо огромные и величественные. Совсем недавно я здесь бывал, нелепые стычки с соседом Тани, считавшим себя ее бойфрендом, моя тоска, мое отчаяние… Но и сейчас, когда подъезжаю на правительственном лимузине, мои тоска и неуверенность все так же со мной.
Машина, повинуясь указаниям Коваля, подползла к подъезду. Он выскочил, быстро просканировал острым взглядом окрестности, а второй телохранитель открыл дверцу с моей стороны.
– Ждите, – велел я. – Не думаю, что мне удастся задержаться… надолго.
Выбравшись, в самом деле не обнаружил на лавочке привычно перемывающих кости проходящим старушек, как я и сказал Ковалю – прохладно, понабегут, когда солнце сдвинется на эту сторону дома. Однако шикарную машину уже заметили от кафе напротив, да и в окно кто-нибудь посмотрит. Так что мой визит к замужней женщине в отсутствие ее мужа незамеченным не пройдет, не пройдет…
У подъезда крупный мужчина с невыразительным взглядом открыл передо мной дверь. Понятно, охрана в машине сопровождения успела сюда раньше. Когда я миновал предбанник и прошел, поздоровавшись, мимо консьержки, возле лифта ждали двое мужчин, один с небольшим чемоданчиком в руках, молчаливый и с бесстрастным лицом, а второй, огромный, как гора, молча придержал подрагивающие дверцы. Я буркнул «спасибо», вошел, за мной проскользнул человек с чемоданчиком и встал у стены. Я отвернулся к дверям, надо привыкать к виду ядерного чемоданчика, его стараются носить за пределами моего зрения, хотя всегда чуть ли не на расстоянии вытянутой руки, но сейчас, на случай, вдруг да застряну в лифте, а в это время сообщат о начале ядерной атаки на Россию…
Этажи ползли медленно, неторопливо, офицер с чемоданчиком, похоже, старается не дышать вовсе, дабы не мешать моим государственным мыслям, я же тупо и абсолютно бездумно дожидался, когда последует толчок, пол вздрогнет, двери разойдутся в стороны, а я выйду на площадку, где квартира единственной на свете женщины, которую люблю.
Таня открыла по первому же звонку, лицо испуганное, глаза расширились.
– Бравлин!.. Тебе же нельзя!
Я вошел, закрыл дверь, ноздри уловили запах ее кожи, ни на что не похожий. У меня, как у зверя, обоняние в определенных случаях обостряется до остроты, немыслимой даже для зверя.
– Мне все можно, – ответил я.
– Но ты же теперь президент! Что ты творишь? Вообще, нам надо прекращать все это…
– Что? – спросил я.
Она отвела взгляд в сторону.
– Ну… что мы делаем. Такое… не для президента!
Она выглядела как никогда грустной и растерянной. Я обнял ее, она тут же прильнула, сердце мое затрепетало совсем не по-мужски, а в груди разлилась тоска.
– Я не просто президент… – ответил я. – Танюша, почему я не могу тебя забрать прямо сейчас?
Она с трудом отстранилась, я сам видел, ей трудно отодвинуться, щеки красные, глаза блестят влажно, а нос уже чуточку распух.
– Потому что… так нельзя!
Таня торопливо выложила на стол содержимое косметички, появилось на свет зеркальце, Таня наклонилась к нему, всматриваясь, то ли подправить помаду, то ли подвести ресницы. Лицо стало серьезное, сосредоточенное.
– Не смотри, – сказала вдруг, не оборачиваясь.
– Почему?
– Просто не люблю. Стесняюсь, патамучто!
– Ух ты, – сказал я, – бедолага… Кстати, ты супруга президента банка, а у него, как я полагаю, целый штат не только докторов, так здесь врачей называют, но и специалистов по всей этой трехомудии.
Когда она открывает сумочку с косметикой, у меня всегда появляется желание связать ей руки. Хотя, конечно, косметика в абсолютном большинстве женщину украшает, кто спорит. Предыдущая моя подружка, Констанция, если бы не пользовалась косметикой, гм… У нее землистая кожа, серо-желтый оттенок, к тому же с крупными порами, а после того, как накладывала первый слой, кожа становилась изумительно ровного золотистого цвета, нежная и шелковистая на ощупь. А уж потом Констанция рисовала на этой поверхности всякое-разное, подводила и удлиняла ресницы, добавляла румяна на скулах, приглушала, оттеняла…
…но у Тани кожа и так нежнейшая, детская, словно Таня выросла в деревне на парном молоке и свежем твороге, чистом воздухе и румяных яблоках, и когда тоже накладывает первый слой крема, а потом рисует – у нее получается яркая красивая женщина, но теряется прежняя очаровательная юная девушка.
Это меня и злило, ибо с Констанцией все просто: без косметики – страшила, с косметикой – красавица, а Таня просто из одной красавицы – юной и чистой девушки, бесподобной по редкой чистоте и прелести, превращается в блестящую красавицу, которых, увы, миллионы. Совместить то и другое не удается, это просто невозможно. Наверное, в облике накрашенной красотки она ярче и заметнее, зато без косметики видна ее юность, чистота, что в наше время дороже любой красоты, которую можно купить за баксы, создать с помощью подтяжек, дерьмолифтинга, пластики, эпиляции, силикона, золотых нитей и прочей-прочей дряни, с мужской точки зрения, которым непонятны страдания женщин по поводу еще одной появившейся морщинки или седого волоса.
Я взглянул на часы, повел ее в комнату, усадил на диван.
– Твой муж все еще работает там же в банке?
На миг возникло опасение, не уловит ли она по моему тону, что с ее мужем связано нечто нехорошее. Таня всегда отличалась невероятной, просто сверхчеловеческой чуткостью. Мне показалось, что она насторожилась, однако лишь вздохнула и отвела взгляд. Наша культура выдает иногда странные зигзаги: при всей сексуальной свободе, когда обнаженная женщина на улице уже не нарушение, сейчас эти раскрепощенные эксгибиционистки скорее выполняют ту же функцию на улице, что и букеты свежих цветов, фонтаны или гирлянды воздушных шариков, однако… в семейном плане Таня удивительно старомодна. Ее прабабушка пришла бы в ужас, узнав, что ее правнучка преспокойно занимается сексом с мужем, его приятелями, боссом, коллегами, а если троллейбус долго простоит в пробке, то и с кем-то из молодых парней в салоне, однако к собственно семейным ценностям относится со священным трепетом, исполняет их истово, как в каком-нибудь девятнадцатом веке, чтит родителей и мужа, а также родителей мужа, полностью отдается семье, единственной дочурке и жаждет завести детей много-много, чтобы сидеть возле них клухой и всем вытирать носы. Она инстинктивно держится за эту единственную твердыню, цепляется за нее обеими руками, ибо весь мир если и сошел с ума, то эти ценности – единственная опора в таком урагане.
– Н-нет, – ответила она с запинкой, – его повысили… Сильно повысили, судя по тому, что за ним теперь приезжают на бентли.
– Ого, – удивился я. – Даже не на шестисотом?
Она наморщила носик.
– Шестисотые – это ширпотреб! На них ездит народ попроще, рангом намного ниже. Бентли – это пропуск в элиту.
– Гордится?
– Доволен, – ответила она уже сдержаннее. – Но работы, судя по всему, очень много. Бравлин, я понимаю, что ты хочешь сказать… Если теперь вот с высоты нашего опыта, моего опыта, то мне вообще не стоило выходить замуж!.. Но откуда я могла знать, что встречу тебя? Да и к тому же тогда у меня не было бы такой чудесной дочурки… Нет, я не могу сказать, что у меня плохо, у меня как раз такая жизнь, что все подруги умирают от зависти!.. Муж у меня красивый и умный, мне ни в чем не перечит, мои желания не стесняет, а мои поступки… не ограничивает. И потому я ему верна… да, верна в том забытом смысле, что не предам. А то, что я…
Она запнулась, я договорил:
– Да, это все равно что почесаться. Или выпить стакан кока-колы. Я не об этом, понятно. Твой муж ценит в тебе то, что и я, – твою бесценную душу. Из-за этой жемчужины дивной красоты мы и теряем головы. Таня, но… как же мы?
Она грустно улыбнулась:
– А ты посмотри с позиций имортизма.
Она выговаривала это слово медленно, тщательно, чуть ли не по слогам, в то время как мы давно сократили себя с имортистов до имортов.
– При чем здесь имортизм?
– Разве вы не стараетесь поступать только рационально?
– Да, – ответил я. – Да…
– Ну так где логика?
Я сдвинул плечами.
– Не знаю. Имортизм на самом деле порождение не логики, а чего-то более правильного… но настолько огромного, что просто не втиснуть в слова. Если по логике, я не должен с тобой встречаться, даже по канонам старой морали не должен… я же вторгаюсь, разбиваю семью и все тому подобное. Но почему я не чувствую себя виноватым?.. Значит, по самому большому счету я прав.
Она грустно улыбнулась:
– Говорят, даже Чикатило себя считал глубоко правым.
– Я не Чикатило, – ответил я серьезно. – Я в самом деле всегда подвергаю каждый свой поступок, даже каждую свою мысль – строжайшей проверке на излом. Ну просто инквизитор! И делаю только то, против чего не протестует тот высший закон, что внутри нас. Мне кажется, это все-таки то, что называется любовью.
Таня невесело засмеялась:
– Говорят, что невинную девушку растлевают бесстыдными речами, женщине легкого поведения вроде меня кружат голову почтительной любовью: в обоих случаях – неизведанным плодом.
– Так отведай, – сказал я почти серьезно. – Я отведал…
– Ну и как?
– Горько, – признался я. – Ангелы зовут это небесной отрадой, черти – адской мукой, а люди – любовью. Все-таки такая горечь слаще любой сладости.
– Говорят, что истинная любовь похожа на привидение: все о ней говорят, но мало кто ее видел. И еще, что любовь подобна кори: чем позже приходит, тем опаснее.
– В любви, – сказал я уклончиво, – всегда есть немного безумия.
Она засмеялась:
– Ницше? Но он же сказал, что и в безумии всегда есть немного разума?
– Он ошибался. И любить, и быть мудрым невозможно.
Я поднял голову, наши взгляды встретились. Она застыла на миг с раскрытым для колкости ртом, в ее глазах что-то изменилось, лицо дрогнуло, затрепетали веки, она чуть-чуть отвернула голову вправо, потом влево. Если бы чуть чаще, можно бы сказать, что покачала отрицательно, а так… даже не знаю, что это значило.
– Что случилось? – спросил я тихо.
– У тебя лицо, – проговорила она, – такое…
– Да, что с ним…
– Как в тот, первый день… Нет, не в самый первый, а когда мы снова увиделись. В кафе.
Она запнулась, я гадал, что она хотела или могла бы сказать, но по телу прошел легкий озноб, инстинкты сказали раньше, точнее, они все знают лучше. Ее лицо стало чистым и открытым, я увидел в нем ее жажду, которую не могут погасить ни муж, ни босс, ни все ее мужчины, с которыми легко общалась на вечеринках, на службе, в транспорте или по дороге на работу.
В ее глазах я увидел, что она все то же самое увидела в моем лице. У меня раньше было много женщин, но теперь я уверен, что их не было ни одной, а был так, туман, пар, тусклые миражи.
– Я пойду поставлю кофе, – сказала она поспешно.
Удержать не успел, выскользнула из моих рук, через мгновение на кухне зазвенело, забрякало, послышался шум льющейся из крана воды, а может, и не из крана, в такие дома везут в бутылях из артезианских скважин. Зажужжала кофемолка. Я подошел к окну, с высоты двенадцатого этажа моя машина кажется камбалой, затаившейся на серой ленте асфальта.
Таня вышла из кухни причесанная, словно успела заскочить и в ванную, строгая, как икона, но круглое милое лицо оставалось не по-иконному живым, в больших светло-коричневых глазах глубокая грусть. Я смотрел тоскливым поглощающим взглядом, видел, как настораживается все больше и больше, а левая грудь ее начала подрагивать под тонкой блузкой. Я подошел ближе, кончики моих пальцев бережно коснулись ее подбородка.
– Не надо, – выдохнула она.
– Почему?
– Мы снова попадемся, – сказала она тихо. – Нам не нужно это… сумасшествие.
– А что нужно?
– Ты сам знаешь… Нам это приносит только боль и страдания.
– Это выше, чем тихие радости…
Она не успела возразить, я наклонился, мой рот прижался к ее губам. Похоже, она не ожидала, что я сделаю это, просто стояла и позволяла себя целовать, потом вздрогнула, я ожидал, что постарается отстраниться, однако ее руки крепко ухватились за мои плечи, ногти впились в кожу сквозь ткань.
Я целовал ее не страстно, не жадно, а бережно, с жаром в теле и холодком в груди, ощущая страх от предчувствия, что сейчас все это кончится. Ее спина уже оказалась прижата к стене, мои ноги сумели раздвинуть ее, наши животы соприкоснулись, прижались, как это бывало раньше… наши тела раскалились, разряды молний проскакивали между нами, опутывали незримыми электрическими цепями. Мои руки сами по себе подняли ей блузку, обнажая маленькие упругие груди, а ее быстрые пальцы щелкнули пряжкой моего ремня, я услышал характерный звук расстегнувшейся «молнии» на брюках.
По ту сторону двери послышались шаги, кто-то постучал негромко, но настойчиво. Она торопливо отпихнула меня, блузка опустилась сама. Я не мог шелохнуться, ее руки задернули «молнию», а ремень я кое-как застегнул сам. В дверь после паузы постучали снова. Я все старался выровнять дыхание, Таня отвернулась и пошла к окну, а я сказал сиплым голосом:
– Да, войдите.
Дверь отворилась, на пороге вырос Коваль. Не глядя в сторону Тани, тоном, не допускающим возражений, сказал с отмеренной долей почтительности:
– Господин президент, позвольте напомнить – через сорок минут у вас очень важная встреча с силовыми министрами. Опаздывать нельзя.
– А сколько отсюда до Кремля?
– Тридцать минут. Еще пять до вашего кабинета.
– Так у меня еще пять минут в запасе, – сказал я с досадой.
– Да, но… если для вас перекроют все дороги.
Я обернулся к Тане:
– Прости! Бегу. Ненавижу, когда перекрывают ради одного человека все движение…
В ее глазах были грусть и боль, а также понимание, что все равно не успею до Кремля как хочу, не привлекая к себе особого внимания, так же не получится и вот у нас, чтобы и овцы целы, и волки сыты, а еще чтоб трава осталась такой же зеленой.
В машине я поинтересовался:
– И ты знаешь о встрече?
Он кивнул, прямой взгляд, открытое лицо.
– Господин президент, мы держим постоянный контакт с канцелярией. И Волуев, и Александра постоянно нас снабжают информацией… в пределах, конечно, в пределах. Президент не должен помнить обо всех мелочах, это наша работа.
Машина неслась, все набирая и набирая скорость. Я буркнул:
– Да-да, я сам назначил на девять утра.
Коваль вперил взгляд в лобовое стекло, машина несется с предельной скоростью, движение не перекрыто, но далеко впереди мчатся две милицейские машины, останавливая движение, сгоняя к обочине, перед нами такой же точно черный лимузин, изображает президентский автомобиль, все отлажено по давно расписанному сценарию, а я в нем, имортист или не имортист, играю отведенную мне роль…
Встреча мне предстоит важная, предельно важная. Силовые министры в нашей стране – не просто военный министр, министр внутренних дел и министр госбезопасности. У нас, как в банановой республике, силовики запросто могут смахнуть с карты любое правительство. Я в огромной мере завишу от того, как они посмотрят на меня, однако то ли измучился за короткий разговор с Таней, то ли наступило некое отупение, но я поднимался по ступенькам, сопровождаемый Ковалем, а в висках стучало совсем не то, что я должен сказать силовикам, чего они ждут от меня или что я должен им навязать.
Имортисты, билась в виски трепетная мысль, единственные люди на Земле, кто еще не забыл, зачем Бог сотворил человечество! Или кто, скажем точнее, снова вспомнил. Только мы идем по Его дороге, чтобы однажды выйти на край Вселенной и подставить и свои плечи под всю тяжесть мира. Однако имортистом быть в этом мире трудно, очень трудно. От мирской суеты уходили Будда, Моисей, Христос, Мухаммад, доныне люди уходят в монастыри, дабы простые люди не мешали постоянно общаться с Богом. Что делать, мы, имортисты, живем среди этих простых и даже очень простых людей. Мы должны жить среди них, дабы и своим примером зажечь в их душах почти угаснувшие искры, однако свои души и помыслы обязаны сохранить в чистоте.
Да, у нас, имортистов, больше ограничений, чем у других людей. В смысле, простых людей, так называемого народа, а то и вовсе – избирателей. Как, к примеру, у военнослужащих, что, помимо прочих общих обязанностей, еще и должны носить особую одежду, приветствовать друг друга при встречах, первыми бросаться на защиту… Да, имортизм – прежде всего добавочная нагрузка, обязанности, а не льготы.
Сейчас мы, имортисты, образуем нечто новое в человеческом обществе: не секту, не партию, а новый народ с новыми нравственными императивами. Мы – первые люди, осознавшие и признавшие, что мы всего лишь души, исчезающие как пар при неизбежном прекращении бытия материальных тел, в которые всажены. И которые целенаправленно стремятся сперва продлить существование своих тел, а затем и сделать их вечными, ибо только бессмертные могут стать хозяевами Вселенной. Имортисты добровольно принимают на себя добавочные обязательства в отличие от всех остальных народов, которые просто живут, живут просто, никаких нечеловеческих, высших целей перед собой не ставят.
Стыдно, конечно. Теперь, когда самому открылась истина во всей полноте, с сожалением смотрю на остальных людей, простых, даже очень простых и совсем простейших, хотя многие из них не только с высшими, как они это называют, образованиями, но и со званиями, чинами, титулами, которые получили от таких же простейших существ. И вся эта огромная масса в семь миллиардов человек живет просто, очень просто, подчиняясь законам тропизма…
Что ж, мы, имортисты – новая ступень эволюции. Мы – понявшие.
ГЛАВА 9
Впереди милиционер перекрыл движение, мы пронеслись на красный свет автоматического светофора, дурак, не понимает, кто проехал, Коваль проследил с благосклонностью, бросил в крохотный микрофон пару коротких слов, выслушал ответ, лицо не изменилось, заговорил так же тихо, но я услышал:
– …пусть начальник канцелярии президента… хорошо, тогда пусть займется руководитель администрации президента…
Я перехватил его острый взгляд, брошенный в мою сторону. Проступили рифленые желваки, разговор оборвался. Я старался вспомнить, что в моем штате есть кто, еще не только не привык, но и не запомнил: начальник канцелярии президента, руководитель службы президента, глава пресс– центра президента и множество других лиц, которые должны меня обслуживать, то есть получать инструкции и следить за их выполнением. Вообще-то, я наивно думал, что я должен давать распоряжения министрам, главам силовых структур, а то и вовсе премьер-министру, а тот уже сам раздаст рядовым министрам, кому что делать конкретно, но, похоже, я слишком мало понимаю в этой сложнейшей структуре…
Нахлынуло чувство тревоги и неуверенности, как будто вступаю голым и безоружным в дремучие места Амазонки. Для кого-то кремлевские коридоры – самое то для интриг, продвижек, но не для меня, теоретика, у меня другое поле деятельности… И какого хрена я послушал тот глас и взялся выводить тупое и ленивое стадо рабов, которым и так было хорошо?
Из груди вырвался вздох, телохранитель впереди не шелохнулся, но я ощутил стыд и мгновенное раздражение. Что это раскисаю, ведь я не только для них всех – огромная и непонятная сила, появившаяся непонятно откуда, я в самом деле эта самая сила, что проламывает омертвевший хитин, выбирается наружу, а вокруг на веточках либо еще куколки, либо вовсе весело жрущие зеленый лист гусеницы, что и не подозревают о будущей метаморфозе… если доживут, конечно.
Машина влетела в Кремль на такой скорости, что, зацепись крылом в узких Боровицких воротах, нас бы перевернуло раз двадцать, побивая всех гиннессов.
У ступеней дверцу распахнули сразу двое, прикрывая меня огромными телами. Я взбежал к дверям резво, стараясь облегчить им работу, да и опаздываю, нехорошо.
При моем появлении из-за стола поднялась Александра, сегодня еще красивее, чем вчера, просто роскошно красивая, с крупной приподнятой грудью, глубокий вырез, узкая талия нерожавшей женщины, и обезьяна во мне тут же моментально дорисовала, даже подала как набор слайдов целую вереницу картинок, как я ее пользую на этом столе, возле стола, в ее же кресле…
– Здравствуйте, Александра, – произнес я благожелательно, почему-то перейдя на «вы», добавил с улыбкой маститого государственного деятеля: – Вольно, вольно…
Однако, проходя мимо, я показал ей кулак. Она ответила чарующей улыбкой, в которой ясно читалось: надо, господин президент. Надо. Я скривился, мол, знаю, что надо, но я же человек, а человеку все всегда не так, как бы карта ни выпала.
Телохранитель распахнул передо мной дверь, но пока створка не встала за мной на место, отгородив кабинет от ее апартаментов, я чувствовал на спине пристальный взгляд женщины. Взгляд женщины ощущается иначе, со временем начинаешь чувствовать различие.
Они встали у стены все трое, строго по рангу: массивный Казидуб, военный министр, высокий подтянутый Ростоцкий, министр внутренних дел, и серокардиналистый Мазарин, министр госбезопасности. Я переступил порог с заготовленной улыбкой, они слегка вытянулись, я так и не понял: шутка или всерьез, сказал с порога:
– Прошу меня извинить, слегка опоздал.
– Президент не опаздывает, – бухнул Казидуб, – а задерживается.
Я пошел с протянутой рукой, у всех ладони сухие, крепкие, горячие, только у Мазарина рукопожатие несколько нервное, словно бы успевающее быстро-быстро просканировать все линии жизни, скопировать и занести в мозговой файл.
– Прошу к столу, – сказал я.
Кресло приняло меня в объятия, сделанное под старину, но с учетом особенностей моей спины и поясницы, в которых вообще-то нет ничего особенного, стандарт, однако медики в первый же день ринулись всю мебель приводить в соответствие, так сказать. Силовики рассаживались неспешно, но без медлительности, сразу ощутилась их скрытая сила, за спиной каждого либо элитные милицейские части, либо суперкомандос, а то и вовсе танки и самолеты.
Я изо всех сил старался не показать свое беспокойство, даже страх. В моем мире все-таки больше людей непосредственных, у которых что на душе, то и на лице, а эти вот, Ростоцкий и Мазарин, с их моложавыми лицами немолодых подтянутых деятелей, из другого мира, где у всех искренние улыбки, крепкое рукопожатие, даже смотрят все одинаково: с вниманием в глаза собеседнику, все бы хорошо, если бы не у всех одинаково, что выдает принадлежность к одному клану, чьи лица, как у бойцов антитеррора, всегда закрыты масками.
Я быстро рассматривал их, картинки на дисплее не передают ни запаха, ни ощущения мощи, исходящих от этих людей. Грузный бегемотистый Казидуб, вид отдыхающего пенсионера на лавочке в скверике, он и сейчас отдыхает, только его великолепный мозг, хранящий горы секретов, никогда не отдыхает и трудится вне зависимости от того, где находится и чем занят мозгоноситель.
Ростоцкий, похожий на терминатора, такой же высокий, крепко сбитый, с неподвижным лицом и холодным прицеливающимся взглядом, говорит очень мало, неприятный металлический голос лишен окраски. Я был удивлен, прочитав в его досье, что он успел покуролесить в не такой уж и давней молодости, трижды был женат, куча детей, пил, употреблял тяжелые наркотики, но затем его качнуло в другую крайность: готов расстреливать не только поставщиков, но и самих наркоманов. Хотя, возможно, он и прав, как временная мера годится, чтобы расстреливали и употребляющих наркотики. Для общества они почти все потеряны, а угроза от них велика: наркоман ради дозы идет на любое преступление. Лечить же их сил и средств не хватает, страна бедная, а наркоманов чересчур много. Вот уменьшим хотя бы массовыми расстрелами, вылезем из этой ямы, тогда и начнем лечить одиночек.
Мазарин же прямой, как световой луч, с резкими чертами лица, взведенный, как курок, глаза холодные, похожие на осколки льда. Сейчас не сводит с меня взгляда, решает, как держаться.
Казидуб положил на стол папку, накрыл ладонями и сказал гулким голосом:
– Сразу хочу сказать, господин президент, что мы все… я говорю также от имени Игоря Игоревича и Ростислава Иртеньевича… вот они сидят, в самом деле рады, что на президентских выборах победили вы. Мы, честно говоря, не верили в вашу победу… Слишком уж невероятно, чтобы к власти пришли просто умные люди, но… вы это сделали! Мы с Игорем Игоревичем и Ростиславом Иртеньевичем тоже считаем себя людьми умными… это, конечно, шутка, но в каждой шутке только доля шутки, так что мы – ваши люди. Располагайте нами, как своими бойцами!
Ростоцкий улыбнулся одними глазами.
– Мы ваши люди, – повторил он ровным голосом. – Помимо службы, помимо долга.
Мазарин, что явно предпочел бы отмолчаться, сказал вынужденно:
– Присоединяюсь. Полностью.
Он вытащил из папки листок и протянул мне через стол. Я бросил взгляд на дату, всего четверть часа назад госсекретарь США выступил с очень резким заявлением. Неоправданно резким, как тут же оценили независимые журналисты. В России к власти пришел фашизм, русский фашизм, не больше и не меньше, и долг всего цивилизованного человечества… С полчаса объяснял, что должно делать все цивилизованное человечество под руководством США, намекал на санкции против стран, что не присоединятся к крестовому походу против России, сулил льготы при разделе добычи. А добыча на этот раз просто сказочная: огромная территория России, привольно раскинувшаяся на треть Европы и половину Азии. Под собственно Россию можно оставить небольшой участок вокруг Москвы в пределах Московского княжества двенадцатого века, остальное – странам, что исповедуют священные принципы демократии и гомосексуализма…
Мазарин сказал негромко:
– Прогнозируется, что заявление госсекретаря вызовет небывалый энтузиазм в среде гомосеков, извращенцев и прочих демократов. По городам пройдут манифестации в поддержку. В некоторых штатах США этих демонстрантов встретят…
– …наши люди, – мрачно пошутил Ростоцкий.
– Нет, – сказал тем же тоном Мазарин, – их встретят немногие здоровые силы, что еще остались в том больном обществе. Хотя Ростислав Иртеньевич в какой-то мере прав, все здоровые силы на планете – наши люди. Стычки и драки прогнозируются небольшие. Полиция и национальная гвардия теперь вмешиваются сразу же, вмешиваются быстро и решительно. Сопротивляющихся разгонят, а извращенцы продолжат путь к Вашингтону, требуя покончить с Россией.
– А им, конечно же, пойдут навстречу, – буркнул Казидуб, однако его шутка прозвучала горько и чересчур серьезно. – Ладно, я вот что хочу сказать вам, господин президент, за нас всех… С коммунизмом у нас ничего не получилось. Слишком высокая цель для простого человечка – счастье человечества!.. А вот с имортизмом может пройти. Все-таки во главе угла ставим шкурные интересы… А прикрыть их высокими словами сможем всяко. Строители коммунизма уже во втором поколении растеряли энтузиазм, хоть и видели еще цель, а вот третье поколение потеряло из виду и цель… Здесь же все наоборот: чем дальше будет уходить общество от сегодняшнего дня, тем ближе осуществление самый сокровенной мечты человечества – быть бессмертным!..
Он выглядел мрачным, немолодой, очень немолодой человек, все еще крепкий, как горный кряж, но по нормам ему уже в следующем году надо оставлять службу по возрасту.
– В том числе и сокровенной мечты обывателя, – добавил Ростоцкий. – Чтобы из столетия в столетие жрать, жрать, жрать, чтобы трахаться и трахаться, не теряя потенции, а потом так же тысячу лет, миллион, сто миллионов лет…
Мазарин усмехнулся одними глазами.
– Хорошего червячка вы закинули в пруд, – сказал он тоном профессионала по забрасыванию червячков на крючке. – Поймались парни и в белых шляпах, и в черных!.. Прекрасная работа.
– Спасибо, – поблагодарил я сдержанно.
На дисплее вспыхнул огонек, я коснулся клавиши. Строгое лицо Александры заполнило экран.
– Господин президент, – проговорила она ровным мелодичным голосом, – вам подать кофе, что вы заказывали?
Кофе я не заказывал, но ощутил внезапно, как мне его не хватает.
– Да, – сказал я с чувством облегчения, – тащи… И еще…
Она прервала:
– Я знаю их вкусы, господин президент.
Экран погас, Ростоцкий перевел взгляд на меня.
– Западная Европа, – сказал он, – подсунула нам свою сокровенную мечту о коммунизме, чтобы мы погибли при ее реализации. Именно так с Россией едва не получилось… но все-таки мы выбрались из обломков с новой мудростью. С имортизмом. Вы уж простите, что и мы, трое держиморд, примазываемся…
Я улыбнулся как можно добродушнее, светлее, сейчас у нас идет взаимная пристрелка, притирка, оценка друг друга, они спешат высказать свое положительное отношение к имортизму, что значит – готовы сотрудничать всерьез. Я именно тот президент, который возьмет на себя ответственность, когда перегнут палку с «при попытке к бегству», «оказал вооруженное сопротивление» и всеми этими понятными эвфемизмами, когда очень нужно отправить на тот свет мерзавца, против которого нет ну никаких улик.
Вошла Александра, на широком подносе дымящаяся чашка кофе, я уловил его божественный аромат, в желудке жадно квакнуло. Кроме кофе, высились две бутылки с прозрачной жидкостью, тонкостенные стаканы, горка бутербродов и еще одна чашка с кофе, поменьше.
Казидуб помог ей перегрузить на стол, она кивнула с улыбкой, благодаря, ушла. Я ухватил большую чашку, Казидубу досталась поменьше, а Ростоцкий элегантно откупорил бутылку и налил в бокал минеральной воды. Взглянул вопросительно на Мазарина, тот качнул головой.
Я сделал большой глоток, горячий ком прокатился по пищеводу. Я сказал с горячим сочувствием, ничуть не переигрывая:
– Не стыд и уныние вы… мы должны испытывать! А чувство гордости, что строили Великое, и – горечи, что не удалось построить. Ведь для всего человечества строили! Так и было на всех лозунгах: «Коммунизм – светлое будущее всего человечества!» Да, не получилось, весь мир прыгал вокруг и кричал, потрясая бутылками коньяка и колбасой: дураки, ничего не получится!.. Все люди – свиньи!.. Все – свиньи!.. Все – от Фрейда, потому ничего не получится! Лучше больше жрать, трахаться, лежать на солнышке, чем строить Великое!.. В конце концов мы отступились, выстроив огромный дворец лишь до половины. И жить в нем нельзя, и труд какой вложен… Теперь ломаем, чтобы на его месте построить множество обычных мелких жилищ. И не надо стыда, что не получилось. Другие даже не пытались, духа не хватило. Хуже того, из мелочной зависти всячески вредили, мешали, пакостили… Да, мы не смогли устоять, когда весь мир хором доказывал, что умный в гору не пойдет!
Мазарин проговорил медленно, серые глаза смотрели не на меня, а в меня, я, несмотря на частые глотки горячего кофе, чувствовал холодок в кишках:
– Всегда и везде человечеством управляли умнейшие, мудрейшие, сильнейшие. Во всех странах, во всех эпохах. Даже там, где на престоле оказывался дурак, уйма умнейших людей правили его именем. И лишь в те редкие периоды, когда дурак в самом деле обретал власть, королевство немедленно гибло под натиском народов с более умными правителями. Сейчас же наступил короткий по меркам истории странный период, когда власть в самом деле захватила толпа. Во всяком случае, во всех странах Европы. Нет, не захватила, просто у сильных взыграло чувство вины, такая вот странная аберрация психики, и сильные дали народу власть, а сами тоже, морщась, запели с ними похабные песни, стали смотреть ток-шоу. Стыдно друг перед другом, но как быть, сейчас все так делают… в смысле, абсолютное большинство, а эти умники, чтобы не выделяться, тоже смотрят или хотя бы делают вид, что смотрят футбол и сериалы, где все только и делают, что трахаются, трахаются, трахаются, ведь на другое дебилы просто не способны, да и дебилы-зрители не поймут ни сложности сюжета, ни умелые композиции, если эти композиции не из голых баб и потных мужиков.
Казидуб допил кофе из своей крохотульки, с огорчением понаклонял чашку во все стороны, размазывая темную кашицу по стенкам. Кустистые брови приподнялись, ощетинились, ставши похожими на тесный строй копейщиков, изготовившихся встретить атакующую конницу.
– А мне вот другое понравилось, – заговорил он медленно, неторопливо, – ненависть всего мира в последние два-три десятка лет умело направлялась на СССР. Концентрировалась и направлялась. Как снаружи, так и изнутри. Но вот СССР внезапно вышел из этого противостояния… Если хотите, можете утверждать и дальше, что СССР проиграл холодную войну, пусть это тешит чью-то демократическую душу, но мы, политики, понимаем, что наши правители проделали мудрейший и хитрейший трюк! Распустив СССР, тем самым убрали мишень. Из могучего противника превратились в разочарованных и обнищавших строителей, которым так и не удалось построить не то Вавилонскую башню, не то Баальбекский храм, не то восьмое чудо света. Но…
Он с самым хитрым видом вскинул палец, оглядел всех из-под тяжелых массивных, как у рептилии, век. В кабинет вошла Александра, на подносе блюдце с ломтиками лимона. Он артистически тянул паузу, вскидывал брови, шевелил губами, взгляд становился острым и внимательным, но это, оказывается, он следил за своими руками, осторожно отрывающими тонкую желтую шкурку. Потом очень серьезно положил ломтик в рот. Ростоцкий буркнул с лицемерным сочувствием:
– Склерозим помаленьку? Вы говорили о бабах, Михаил Потапович. О том, как вчера ходили в баньку с Фаиной Петровной и ее подругой… Как ее, говорите, звали?
Казидуб с тем же хитрым видом покачал головой, проглотил лимонную дольку и продолжил:
– Мудрый ход в том, что мировое общество, дотоле не сводившее подозрительных взглядов с СССР, вздохнуло с облегчением, повело очами по сторонам и… ужаснулось, увидев дракона на том месте, где раньше видели рыцаря на белом коне! Оказывается, за это время, постоянно указывая всем на СССР, США превратились в чудовище куда более могучее, отвратительное, ни с кем и ни с чем не считающееся ради своих простеньких животных целей: жрать побольше, работать поменьше, грабить всех, куда дотянутся руки. А руки отросли, отросли… И вот сегодня уже весь мир, в том числе и Европа, с ужасом и отвращением смотрит на США, которым совсем недавно не просто симпатизировало, а чувствовало неподдельную любовь… И хотя это еще не наша победа, однако камни летят не в наш огород.
Александра принесла еще поднос, заполненный подогретыми булочками и парующими рогаликами. Я следил с настороженным вниманием, разыгрывается непонятный мне ритуал, все его знают, все трое силовых министров в этом кабинете чувствуют себя как дома, я хоть и хозяин, но пришлый хозяин, я даже не знаю, у какого стула подпилена ножка.
Ростоцкий поднялся, в руках крохотный лазерный диск.
– Господин президент, позвольте?
Я кивнул, Ростоцкому и комп мой привычнее, чем мне, он умело вставил диск. По экрану пронеслись светлые полосы, тут же черно-белое изображение показало, как внизу пробежал человек, ворвался в магазин. Съемка велась с высоты, явно видеокамера установлена на столбе. Жаль, вид со спины, лица не разглядеть, только фигура, но по ней определять – чересчур сложно. Следующее изображение уже из помещения магазина. Человек с черным чулком на голове вбежал с пистолетом в руке, быстро ограбил кассу и выскочил. Теперь лицом к телекамере, однако чулок на голове не дал рассмотреть лицо. Вскочил в поджидавшую машину, та сразу рванула с места. Хорошо виден номерной знак, Ростоцкий нарочито остановил изображение, увеличил. Я кивнул:
– Что дальше?
– Номера могли быть фальшивыми, – сказал он, – хотя не у такой мелочи… Но самое интересное дальше.
Мелькнул черный квадрат, явно монтировали пленку впопыхах, дальше снятая с вершины придорожного столба панорама Ленинского проспекта, обилие машин с одной стороны и такое же с другой. Ростоцкий подвигал пультом, выделил кусок изображения, увеличил, еще и еще, пустил в замедленном. Съемка под углом сверху, отчетливо видно скорчившегося в машине человека, он торопливо стащил с лица чулок, поднялся, запыхавшийся и со взъерошенными волосами, огляделся дико, заулыбался, что-то сказал водителю.
Ростоцкий сместил изображение, показывая номер машины. Внизу бежали цифры, показывающие время с точностью до сотых долей секунды.
– Их проследили до Солнцева, – сказал он. – Взяли на въезде. Просто солнцевским оперативникам позвонили, предупредили. Пригласили понятых, так чтобы с соблюдением всех процедур старого мира. Что теперь?
ГЛАВА 10
Казидуб опустил пожеванный ломтик, мне показалось, что он даже дышать перестал, Мазарин же застыл со стиснутыми челюстями, взгляд его, острый, как заточка, впился мне в лицо. Я старался держать лицо неподвижным, как у фараона, но мысли носились, как муравьи на горячей сковородке.
– Мы закладываем прецедент для нового судопроизводства, – проговорил я холодноватым голосом. – Подобных случаев множество, все эти орлы получают смехотворно крохотные сроки, едва-едва успевают пройти в лагере курсы краткосрочного повышения квалификации… и выходят уже настоящими убийцами.
Ростоцкий молча кивал, Казидуб и Мазарин смотрели неотрывно. Я закончил тем же холодноватым голосом:
– Провести суд по самой ускоренной формуле. Осудить и расстрелять. С показом по телевидению… в ночные часы и с комментариями. Что получим от расстрела? Ну, в первую очередь в голову лезут цифры, на сколько сократится количество лагерей, надзирателей, тюремных врачей, поваров и прочего обслуживающего персонала, однако это все ерунда… Да, ерунда в сравнении с тем, что отныне частный бизнес будет знать, что грабителей расстреливают, что мирным жителям в ночное время можно пройти Москву из конца в конец и не быть ограбленным. Но больше всего имеет цену сладостное ощущение, что эти гады-хапальщики получают по заслугам…
Ростоцкий проговорил торопливо, впервые растеряв невозмутимость:
– Потому что все меры по заключению в тюрьмы, по мнению населения, недостаточны…
– Да, – согласился я, – ибо преступники выходят и не просто воруют снова, а, как я уже говорил, выходят куда более… опрофессионаленными. И уже не простыми воришками. Да и мстят тем, кто помог их засадить. А здесь решение окончательное. Нам очень нужна поддержка населения. Да что там именно нам! Им самим нужна еще больше. Должны ощутить, что власти ценят их намного выше, чем ворье, как делали все предыдущие режимы… Ценит и оберегает! Только надо провести все через судебную процедуру. Быструю, ясную, прозрачную, чтобы даже у самых явных врагов не было сомнения в том, что казнили виновных. Пусть нападки будут только за жестокость наказания. Но тут-то мы выиграем, симпатии населения на нашей стороне!
Они смотрели на меня испытующе, словно я был абитуриентом, а они не меньше чем деканы, к которым я попаду. Казидуб проговорил с некоторым сомнением в голосе:
– Но имортизму вроде бы наплевать на мнение простого населения?
Я вскинулся:
– Как это наплевать? А откуда же браться имортам?.. Да и чем выше к нам доверие, тем крепче власть, успешнее экономика, железобетоннее оборона… Древние говорили: неумен тот, кто может совсем избавиться от врага и медлит с этим! Да, мы должны казнить ворье. Казнить жестоко, ибо когда вот так, неказненные, ездят на мерсах и строят особняки при зарплате среднего школьного учителя – это удар по устоям доверия к власти. Дело не в самих ворах, потери от них не так уж и велики, но удачливого вора видят тысячи и говорят с горечью: ну что у нас за государство, что за страна, что за власть, мать ее, что не могут остановить это?..
– Это больше зависть, – проронил Казидуб.
– Ну и что? – возразил я. – Пусть зависть. Но видят, что можно воровать, можно оставаться безнаказанным и жить припеваючи, шиковать, покупать виллы на Сейшелах! А это унижает тех, кто не ворует. Неважно, что большинство не ворует вовсе не из высокой морали, а из боязни попасться. Однако, когда воров будут расстреливать, а их виллы отбирать… даже если предусмотрительно записаны на племянниц, то остальной народ с облегчением вздохнет. Да, и со злорадством! Но это укрепит их позицию неворования! А так одни преступления прокладывают путь другим, это аксиома. Общая суть законов в том, что они должны искоренять пороки и насаждать добродетели, так ведь? А искусство законодателя в том, чтобы выгода, извлекаемая злодеем из его преступления, была совершенно несоизмерима с тем страданием, которое ему за это угрожает. Но когда на воле жизнь омерзительная и бедная, а в тюрьме кормят и учат, как воровать лучше, то любой вор без страха идет на очередные курсы повышения квалификации!
Все трое перевели дыхание, Казидуб потянулся за булочкой, Мазарин же сказал потеплевшим голосом:
– Господин президент, вы нам сильно облегчаете работу. И вообще – жизнь. Но себе копаете могилу.
– Штаты со своей сворой тут же накинутся, – предупредил Ростоцкий. – Вам мало того, что вас уже мешают с дерьмом из-за той виселицы?
Казидуб вздохнул:
– А мы все еще не успели модернизировать нашу оборону.
Мазарин сказал быстро:
– Единственное, что могу предложить я, это утечка сверхсекретных сведений насчет биологического оружия.
– А это что за черт?
– Что на территории США заложены контейнеры со смертельными вирусами. Если по России будет нанесен удар, то эти контейнеры автоматически раскроются.
Лицо Ростоцкого вытянулось.
– Надеюсь, шутите? Мы сразу попадем в список стран– изгоев. Весь мир будет нас ненавидеть и желать нам гибели!
– Мы опровергнем все слухи, как грязную ложь. Но их ведомство будет знать, что это не шутка.
Я спросил медленно:
– А эти контейнеры… они в самом деле… существуют?
Все трое разом замолчали, все-таки как много в них общего, наконец Мазарин прямо взглянул мне в глаза.
– Господин президент… вы в самом деле хотите знать такое?
Я подумал, покачал головой:
– Нет. Не стоит вникать в ваши профессиональные мелочи.
Александра заглянула в кабинет, цепкий взгляд сразу оценил обстановку, через пару минут вошла с небольшим серебряным подносом, там дымилась большая чашка, я уловил аромат крепкого душистого чая. Некоторое время слышалось сосредоточенное сопение Казидуба, звяканье ложечки, однако я чувствовал, как в кабинете очень медленно сгущается атмосфера. Так бывает, когда на залитое солнцем пространство наползает тяжелая грозовая туча. Здесь, внизу, еще не видят, она двигается там, куда не смотрим, под ногами пока еще солнышко и скачут кузнечики, однако незримое уже давит, тяжелее дышать, что-то гнетет, растет ощущение беды, и тщетно растерянно шаришь очами по сторонам и близлежащим окрестностям.
Казидуб сказал чуточку виновато:
– Господин президент, вы уж простите нашу бесцеремонность… Так уж повелось, мы здесь всегда перекусывали. Я встаю рано, очень рано, успеваю проголодаться, а наш министр внутренних дел, наоборот, спит, как крот, для него сейчас как раз время просыпаться… а Мазарин просто жадный. На халяву что угодно съест. И выпьет.
Все трое посматривали испытующе, понятно, сейчас пока что идет простой треп, устанавливаются взаимоотношения, идет проверка друг друга на вшивость.
– Что с внешней политикой? – поинтересовался Казидуб. – Да, я внимательно читал программу имортизма, с которой вы на выборы… но что теперь? Насколько будете соблюдать?
Я развел руками:
– В каком болоте мир, если в который раз спрашивают? Неужели разрыв между словом и делом стал нормой? Неужели нет людей, что выполняют обещанное? Реформа календаря не сокращает срок беременности: Юса все равно умрет, вне зависимости от того, пришел у нас к власти имортизм или не пришел. США выбрали легкую жизнь, легкие пути, но легкие пути ведут в тупик – это наше кредо. Тот, кто хотел легкой жизни, не пошел за Моисеем из благодатного Египта в жестокую и безводную пустыню. Да, имортизм тоже многих отпугивает, но многие великие истины были сначала кощунством…
Мазарин усмехнулся тонкими бескровными губами:
– А то, что называем прогрессом, не представляет ли собой замену одной неприятности другой?
Казидуб спросил с подозрением:
– Это вы об имортизме?
– Да ладно вам цепляться-то, – ответил Мазарин с предостережением в голосе. – Знаю, что слово не воробей, вылетит неосторожное – вернется трехэтажное. Я хочу сказать, что, начиная новое дело, надо быть готовым даже к тому, что все получится. Как мы уже знаем, имортизм через Интернет пошел шириться по США и Европе… Новый, так сказать, призрак…
Казидуб вздохнул:
– Призрак бродит по Европе… а гадить ходит в Россию. Может быть, надо было имортизм подбросить только Западу? Пусть сломают, гады, шею при попытке построить?
– На этот раз у нас верная карта, – заверил я. – Хорошо смеется тот, кто…
– А не два туза? – спросил Казидуб скептически. – Тот, кто смеется последним, смеется, быть может, и лучше всех, но приобретает репутацию дурака.
Все трое повеселели, начали перебрасываться шуточками, тяжелая атмосфера не ушла, а как бы стала меньше замечаться. Так поступаешь, когда с неприятностью справиться невозможно, стараешься делать вид, что ее нет вовсе. Политика страуса, что прячет голову, но оставляет беззащитным зад.
Я сказал шутливо, стараясь попасть в тон, но вместе с тем медленно выбредая из теплого болота к твердому берегу серьезности:
– Пожалуй, мы – самая юморная страна в мире. Вернее, юморной народ. Юморение у нас по всякому поводу и без повода. Каждый нормальный ныне должен получать по емэйловой рассылке с десяток отборных анекдотов и выплескивать их по дороге на работу: в лифте, на троллейбусной остановке, в транспорте, при встрече с коллегами. Теперь это свидетельство нормальности, лояльности и демократичности.
Казидуб поморщился:
– Помилуйте, у нас была Советская власть! Кто пикнет – того к ногтю. Ирония была единственной отдушиной для мыслящего человека. Высмеивалась вся партийная дурь, а уже заодно – все на свете. Попутно. Когда начинаешь иронизировать, то остановиться трудно. Патриотично настроенные люди могут быть только при подлинной демократии!.. И настоящие коммунисты – только при демократии. Во всяком случае, сразу видно, что настоящие. Не ради льгот и возможностей получили партийный билет. Потому на Западе практически нет тонкой иронии, нет юмора с двойным дном, нет ядовитых намеков – там не от кого прятаться.
– Потому там жирный гогот, – сказал Мазарин с отвращением. – А весь юмор, это когда поскальзываются на банановой кожуре, в одежде падают в ванну с мыльной пеной и получают пинка под зад!
– Да, – согласился Ростоцкий. – Им не приходилось истончаться в иронии, чтобы наш дорогой Игорь Игоревич не ухватил за штаны да не утащил на цугундер… Издержки свободы. Но не самые плохие, верно? Лучше отсутствие тонкого юмора, чем присутствие диктатуры?
Все трое смотрели на меня, словно ожидали только им известного сигнала. То ли масонского, то ли три зеленых свистка к атаке.
Я сдвинул плечами:
– Я вообще-то о другом. Это проклятое юморение по инерции высмеивает всё и вся. Уже нет ничего святого… а общество не может развиваться без святого! Что-то да должно быть свято. Ирония и сарказм хороши, когда что-то есть еще, несокрушимое. Когда нужно побыстрее разрушать старое здание, чтобы строить новое.
– Но когда нет этого нового?
– Оно есть, – ответил я серьезно. – Мы называем это имортизмом. Это очень серьезно. И это, в самом деле, спасение для человечества как вида. Но мы и его по инерции высмеиваем! У нас уже сложился дурацкий стереотип: если человек серьезный, то – дурак, урод. Если хохмит, острит и сыплет во все стороны приколами и анекдотами, то – мыслящий, тонкий, всепонимающий, душа общества! Но пока что ни один юморист ничего никогда не создал, это забыли?.. Будда, Христос, Мухаммад, Кромвель, Лютер, Ленин – они все были очень серьезными, очень.
Мазарин тонко усмехнулся:
– Не планируете им выдать партийные билеты имортистов?.. А то я слышал, их готовы зачислить и в фашисты, и в общечеловеки…
Я поморщился:
– Люди простенькие, ограниченные, но с большими претензиями, не в состоянии осмыслить, что в мир пришли новые силы. По старинке пытаются подогнать их под понятия фашизма, хоть и в другой обертке, тоталитаризма или аристократизма. Нет, мир меняется стремительно, а фашизм ушел вместе с граммофонами и патефонами. А они все твердят тупенькое, что ничто под луной не ново, что ветер возвращается на круги своя… Это верно было в древности, там одно столетие похоже на другое… да что там столетие, тысячелетиями ничто не менялось! – сейчас же только глобализм и антиглобализм чего стоят! Пусть попробуют найти им аналогии в древнем обществе! Или хотя бы недавнем. Не-е-ет, новое время – новые песни.
– И новые люди, – обрубил Казидуб. Лицо его внезапно стало тверже, он подобрался, как лев перед прыжком. Я ощущал тяжелые тучи прямо над головой, в кабинете становилось трудно дышать, несмотря на мощные кондиционеры со всевозможными насадками. Ростоцкий и Мазарин тоже ощутили изменение, умолкли, застыли, медленно повернули головы к Казидубу. Тот заговорил тяжелым голосом:
– Господин президент, начинается интенсивный отток капитала на Запад…
Я прервал:
– Простите, разве это новость?
Он покачал головой:
– Вы не поняли, простите. Я говорю о предсказанном интенсивном оттоке. Он сопровождается одновременным выездом крупнейших олигархов, они прекрасно понимают ситуацию. Это значит, что через два-три года на Россию будет совершено нападение.
Я стиснул челюсти. Спрашивать, кто нападет, глупо, американские крылатые ракеты уже размещены на Украине, в Польше, по всей Прибалтике, по кавказским республикам и среднеазиатским, даже Казахстан предоставил американцам военные базы. Перед непосредственным нападением наверняка разыграют что-то вроде нападения русских на их Пирл– Харбор, взорвут и затопят свой авианосец или пару линкоров, как взорвали свои же две башни Торгового центра, чтобы вызвать бурю в СМИ и поддержку своего населения, а затем уж…
– Постойте-постойте, – сказал я, – но ведь перед нападением на Россию они должны будут, по всем прикидкам наших специалистов, провести генеральную репетицию в другой стране?
Он протянул мне листок бумаги с цветными линиями графиков.
– Ознакомьтесь. Вы знаете, что сейчас готовят нападение на Сомали. Вам не показалось странным, что у нищего Сомали нашлись средства, чтобы закупить у нас самые мощные и новейшие системы ПВО, я имею в виду знаменитые комплексы С-300, «Буки» и «Тунгуски»? Да, конечно, мы ухватились за возможность выручить несколько миллиардов долларов, на эти деньги построили несколько военных заводов, однако вы же понимаете общую стратегическую линию? США через третьи страны и целую сеть финансирования и своих лиц в правительстве Сомали сумели не только дать им деньги на вооружение, но и указали, какие именно купить!
Я поинтересовался осторожно:
– Зачем это? Наши С-300 неуязвимы, вы сами говорили. Зачем Штатам нападать на страну, защищенную такими комплексами?
Мазарин угрюмо молчал. По его лицу видно, что знает, но возразить нечего.
– Абсолютно неуязвимых нет, – ответил Казидуб. – С-300, как и простой солдат, уязвим в момент перезарядки. Первую волну крылатых ракет или самолетов собьет, но вторая накроет уже сам комплекс. Генералам Пентагона нужно просчитать соотношение потерь, попытаться свести их к минимуму, чтобы в следующий раз штурмовать еще более укрепленную оборону… да, уже здесь.
Я сказал невесело:
– У нас почти нет времени на развертывание производства вооружения. Что можем в этот краткий период?..
Он прямо взглянул мне в глаза.
– Господин президент, вам придется отказаться от ядерного чемоданчика.
Ростоцкий опустил взгляд, Мазарин же, напротив, впился в мое лицо острым скальпельным взглядом. Я ощутил себя так, словно с меня прилюдно сняли одежду, а кто-то приставил к голой спине острое и очень холодное лезвие ножа.
– Объясните, – попросил я.
Казидуб криво усмехнулся:
– Мне нравится это ваше «объясните» вместо обвинений в государственной измене. Дело в том, что ядерный чемоданчик был создан в те старые годы, когда на развертывание сил для нападения нужны были месяцы. Да, в те далекие годы перед началом войны все корабли должны выйти в море, подлодки стягиваются к берегам противника, а летчики днюют и ночуют на аэродромах, греют движки и находятся в постоянной готовности сесть в кабины, задраить колпаки и разогнаться вдоль взлетной полосы. Да, такая подготовка к войне заметна хорошо… Но ее не будет, господин президент. Сейчас мир иной! Уже достигнута постоянная мобилизация сил. Не на уровне мобилизации, а на уровне, так сказать, естественного состояния армии. Теперь не будет никакого предварительного развертывания сил, господин президент! США готовы нанести удар по России… или любой другой стране в любой момент. Мы не увидим, повторяю, предварительного развертывания войск, ибо все необходимое уже в нужной для нанесения удара точке. А это значит, не будет времени, чтобы вам среди ночи сообщили о начале нападения, а вы, сонный и не понимающий, что происходит, позвали дежурного офицера с ядерным чемоданчиком, кое-как открыли все секретные замочки, а потом активировали нужные коды для системы запуска. Ядерный чемоданчик был создан во времена, когда с момента старта до подлета к нашим границам оставалось пятьдесят шесть минут! Теперь, господин президент, у нас нет и двух минут.
Молчание было тяжелым, гробовым, я после паузы спросил таким же тяжелым голосом:
– И что вы предлагаете?
Он прямо посмотрел мне в глаза.
– Первое – вы уже делаете. Народ ощутил, что еще нужен. И что Россию еще можно спасти. Второе… этот ваш имортизм. Не знаю, насколько это серьезно, но… он работает, дает надежду, так что я – ваш человек с потрохами. Или это я уже говорил? Ладно, повторю. От меня такое не часто услышишь. Третье касается именно ядерного чемоданчика. Вместо этого явно устаревшего рудимента нужна автоматическая система оповещения и… это очень важно!.. автоматическая система ответного удара. Объясняю, как только первые вражеские ракеты нанесут удар по первым нашим шахтам, срабатывает вся… повторяю, вся наша система ракетно– космических сил. Все ракеты до единой уходят в сторону США и наносят удар по ее территории. Да, прорвутся немногие, но с десяток крупнейших городов США превратятся в развалины. А всю страну окутает радиоактивное облако. То, что я вам говорю, должно быть принято как наша новейшая военная доктрина! Мы сами должны позаботиться, чтобы ее нюансы знали все юсовцы, все тамошние избиратели, что имеют право голоса. А также все их дети, что могут повлиять на голоса родителей.
Он вздохнул:
– Простите, господин президент, главное я сказал. У меня здесь еще целый набор пунктов как насчет системы раннего предупреждения о крылатых ракетах, о скорострельных автоматических ПВО для защиты ракетных шахт, они должны сбивать все в радиусе пяти километров, даже не запрашивая «свой-чужой», так и расчеты модернизации старых ракет. Просто продлить срок их жизни, иное нам пока не до жиру. И даже еще одна вещь, о ней даже как-то говорить не принято…
Ростоцкий сказал хриплым каркающим голосом:
– Да уж не жмитесь, Михаил Потапыч. Здесь все стервятники, хоть многие и поневоле. Поймем.
Он развел руками:
– Я говорю о несимметричном ударе. Мазарин прав, мы должны позаботиться о возможности бактериологического оружия.
– А, это, – протянул Мазарин до жути спокойно. – С этим уже решили. Поехали дальше.
Только сейчас я ощутил, что в кабинете, несмотря на страшные слова, гроза как будто прошла мимо, а то и отгремела незаметно для нас, в чьих душах бушуют бури, куда там атмосферным, стратосферным или даже космическим. А Казидуб поинтересовался убийственно спокойно:
– А как намереваетесь доставить в США?
Ростоцкий указал глазами в сторону Мазарина.
– Спросите уважаемого Игоря Игоревича. Думаю, уже доставлено. А там на местах разрабатывается новое. Главное, чтобы в ответ на удар по России там не замедлили привести его в действие. И чтобы об этом в Штатах все знали. Это тоже фактор сдерживания.
Казидуб потер ладони, раздался скрип, словно весло двигалось в уключинах.
– А ведь хорошо, – сказал он с удовольствием, в то же время как будто с некоторым недоумением. – Но… неужели наконец-то дожили? Неужели обожрались дрянью не только мы, лучшие из лучших, а самый лучший – конечно же, я, но и этот чертов простой народ? Избиратели, электоратели? Мне жутко стыдно, что я голосовал не за вас, господин президент, а за вашего противника, Оглоблева. У него шансы были намного выше, а уж лучше он, чем этот гребаный демократ Цидульский!.. До сих пор дивлюсь вашей победе!
Мазарин сказал хитренько:
– Господин президент с его командой очень сладкого червячка забросили для наживки. Как же, бессмертие для всех!..
Я ощутил подвох, сказал настороженно:
– Да, для всех. А что не так? Для всех, кто идет в гору, а не катится с горы.
Мазарин сказал с торжеством:
– А это и есть тот пунктик мелким шрифтом, что лохи не замечают в умело составленных договорах!.. Кто будет отбирать-то? Кого в элиту бессмертных, кого в газовую печь?
– Газовых печей не будет, – объяснил я. – Зачем матерьял портить? Есть хлев, пусть живут дальше, как жили. До глубокой старости и естественного конца. А кому вручать бессмертие… так все на виду. Конечно же, тем, кто жизнь отдавал науке, искусству, творчеству, работе, кто жил достойно, а не тем, кто с утра стоит у пивного ларька и провожает глазами каждую задницу с единственной мечтою трахнуть.
Мазарин кивнул, сказал оживленно:
– В имортизме, как понимаю, есть несколько простейших истин. Первая: невозможно тащить к звездам все человечество. Или к Богу, один хрен. Вторая: но тащить надо. Третья: тащить надо, не опускаясь самим до уровня простолюдья. Четвертая: помнить, что во все века на одного умного рождалось сто… гм… простых людей, и не пытаться процент умных увеличить. По крайней мере, без генной инженерии. Нам достаточно и одного умного на тысячу, чтобы человечество развивалось успешно. Сейчас же тенденция такова, что умные стыдятся своей умности и начинают усиленно сползать пониже, чтобы быть «как все». И еще одну проблему решит имортизм… Пока она еще на горизонте, лишь немногие способны ее разглядеть, тем более еще не видят, что несет на самом деле… но скоро замаячит во весь исполинский рост! Я говорю о всех этих разговорах о клонировании, генной инженерии и возможности бессмертия.
– Ну-ну! – поощрил Казидуб.
– Мы не можем пустить ни бессмертие на поток, – сказал Мазарин, – ни даже клонирование. Это ничего, что я говорю «мы»?
– Считайте себя имортистом, – разрешил я великодушно.
– Спасибо. Я имею в виду, глупо поддерживать до бесконечности жизнь идиотов с помощью выращивания для них отдельных частей или замены больных органов. Демократия демократией, но бессмертие должны получать лучшие! Но при демократии это невозможно, такой хай поднимется…
Ростоцкий криво улыбнулся, сказал невесело:
– Более того, в порядке политкорректности первыми бессмертием придется наделить идиотов, неизлечимо больных, уродов и прочих демократов. Так ведь? Вот в такую дыру загнали цивилизацию эти гребаные… Да, с ними пришлось бы кончать так или эдак, это тупик. Хуже, чем тупик, – гибель рода человеческого!
– Ага, – нервно возразил Казидуб. – Попробуй скажи что-нить против демократии! Не отмоешься.
Я предложил со злой иронией:
– Попробуйте действовать на опережение. Обвиняйте их в том же самом. И вообще, если приперты к стене и не находите доводов, а страстно хочется не просто возразить, а сокрушить оппонента, то прибегните к изобретенному демократами отличному способу, проверенному и доказавшему свою убойную силу. Скажите громко с изумлением в голосе: «Да вы фашист!» – и неважно, о чем была дискуссия: о политике или способах рыбной ловли на блесну, сокрушенный оппонент сразу умолкнет, начнет жалко оправдываться, что-то мямлить, краснеть и бледнеть, а вы можете гордо расправить крылья и поливать его сверху пометом, время от времени бросая язвительные замечания, типа «расист», «националист», «патриот», «а еще в шляпе».
Ростоцкий покачал головой:
– Нет.
– Что именно?
– Не катит.
– В каком пункте?
– В самой сути. Вы же сами – забыли, да? – еще раньше высмеяли эти штампованные приемчики. Теперь всякий, кто такое вякнет, пугается, когда вокруг начинают ржать, как здоровые брабантские кони… Интересно, что это за такие кони?
– Наверное, как наш Казидуб, – предположил Мазарин. – Он еще тот… конь.
Казидуб поднялся, поморщился, ухватившись за поясницу. Я смотрел с сочувствием, у крупных людей с излишней массой почти всегда проблемы с позвоночником, да и вообще с суставами и связками. Казидуб прошелся вдоль стола, Мазарин сосредоточенно щелкал по клавишам, сортировал файлы. Ростоцкий допивал кофе.
– Красиво, – послышался голос Казидуба.
ГЛАВА 11
Он остановился перед картиной на стене в массивной раме. Полоска моря занимает совсем немного места, все остальное пространство – великолепнейший закат: багровые тучи, оранжевые разрывы, золотые громады с пурпурными краями.
Казидуб полюбовался. Вздохнул:
– Красиво… Великолепно. Просто сказочно!.. Вот так же точно наблюдаем закат самого красивого и великолепного заблуждения человечества… Да-да, заблуждения, основанного на благородной и наивной вере, что раз все люди – от Бога, то все равны, и все имеют право голоса. Не просто право голоса пожаловаться, а даже определять облик общества, в котором живут. Все предыдущие века и тысячелетия, где управляли вожди, были названы жестоким и неверным временем, всем дали равные права, равные возможности, равные голоса… И вот простолюдины, все эти конюхи, лакеи, комедианты и прочая чернь – начали править…
Он потемнел, как будто потолок, откуда льется свет, застлала грозовая туча. Ростоцкий сказал сочувствующе:
– Михаил Потапыч, заблуждение в самом деле было прекрасным и благородным! Недаром же охватило все молодые государства Европы. Устояли только старые, древние, неторопливые, все видавшие, в том числе и демократию в каких-нибудь своих областях и мелких королевствах. Теперь вся Европа, пострадавшая от неудач демократии больше, чем Россия от попытки построить коммунизм, в глухой обороне. США в этом случае тоже пристегиваю к Европе, ибо те недоумки за океаном не больше, чем вымахавший сын-переросток, крепкий мускулами, но слабый на голову.
Ростоцкий слушал невнимательно, по лицу видно, что мыслями далеко, спросил невпопад:
– Господин президент, так как насчет видеокамер в присутственных местах? Нужно чуточку отщипнуть от какой-то статьи в бюджете! Демократы начнут жаловаться, что ущемляются свободы, зато сколько преступлений не просто раскроем, но и предотвратим! Народ, зная, что могут следить и записывать на пленку… хотя у нас все пишется на хард, будет вести себя куда скромнее!
Казидуб повернулся от картины, лицо в багровых тонах, сам весь как в червонном золоте, в глазах красные огни, заявил громыхающим голосом:
– А что? Эти фэйс-контроли везде и всюду позволят поддерживать основной принцип имортизма, верно? Не простое уклонение от зла или неучастие во зле, а активное творение добра! К примеру, если мог перевести старушку через улицу, но не перевел, то хоть и неподсуден по старым за то, что бабка под машину, но подсуден по законам имортизма…
Мазарин перебил:
– Ну так и сразу под суд! Представляю, что начнется… Если бы у нас рубили руки за воровство, уже рубили бы протезы! А ты – за какую-то бабку…
Казидуб смотрел исподлобья, как матадор на быка, возразил:
– Тогда можно сперва что-то вроде штрафов. Даже таких, виртуальных. Мог перевести старушку, а не перевел – получи минус. Мог остановить мальчишку, что пишет на стене матерное слово, но прошел мимо – еще минус. И всякий раз это должно обнародоваться.
– Так сколько это же будет, заколеблешься про всех читать…
Ростоцкий сказал живо:
– А можно пока начать только с депутатов Думы. А потом постепенно расширять, расширять круг… На их помощников, на директоров крупных предприятий, на банкиров, на генералов.
Казидуб перебил, оживляясь:
– Это если по стране! Но если брать район, то мне по фигу, перевел ли старушку господин Говнюк в Новодрищенске. А вот переводят ли старушек в моем городе, районе и не дают ли рисовать скверные слова на стенах моего дома, это мне интересно! И всем жильцам моего дома. Так что камеры фэйс-контроля вполне могут приносить пользу даже на самом низком уровне.
Мазарин кивнул, потянулся, сладко хрустнув суставами.
– Это уже ближе к реальности. А то совсем уж размечтались! Мы силовые министры или мечтательные поэты? Как же, старушек переводить… Маньяки школьников насилуют прямо на улицах, а менты будут на старушках очки зарабатывать. Главное, чтобы не начали смягчать наказания! Больше всего страшусь, что демократы нас заклюют со своим общечеловечизмом. Ты, Ростислав Иртеньевич, не жмись, говори сразу, из-за чего начал. Кроме разрешения, тебе ведь нужны и деньги, верно? И специалистов армию…
Ростоцкий сказал:
– Были бы деньги!
Он смотрел с надеждой, я ответил осторожно:
– Вряд ли в казне сундуки полны золотом. Но мы на днях соберемся, чтобы перераспределить в стране очень многое. Понятно же, что камеры фэйс-контроля куда нужнее, чем… ладно, умолчу.
Александра чуточку приоткрыла дверь, на лице тревожное ожидание.
– Что там? – спросил я.
– Прибыл министр иностранных дел, – сообщила она. – Правда, теперь уже не министр. Вы ему назначили. Он поинтересовался, не случилось ли чего, уже лишних полчаса… А прежний президент всегда минута в минуту.
Я не успел ответить, Казидуб поднялся, развел руками:
– Наша вина! Засиделись, засиделись, бессовестно, просто бесстыдно пользуясь добросердечием господина Печатника.
Ростоцкий тоже поднялся, но Мазарин бросил быстрый взгляд на Александру, на меня, предложил:
– Примите при нас. Честно. У нас добрые отношения, а он увидит, что мы на вашей стороне.
А Казидуб громыхнул:
– Верно-верно. Не пренебрегайте и таким крохотным камешком на чаше весов.
Я поколебался с ответом, не люблю, когда подсказывают и направляют, но Александра перехватила взгляд главного фээсбэшника, исчезла. В кабинет вошел не то прусский барон, не то английский лорд, может быть даже, бельгийский князь, я озлился на себя за такие сравнения, у нас своих князей и графьев хватало, как гуси ходили, да истребили начисто, не начинать же эту дурь по новой…
Статный, рослый, представительный, как говорят о мужчинах уже не только женщины, но и политики, тоже по– женски признавшие, что имидж – это все, с породистым лицом, и в его возрасте, что «за шестьдесят», сохранивший и хорошую фигуру, и выразительное лицо, где не дал отразиться ни болезням, ни даже порокам.
Я засмотрелся на его белые-белые брови, про такие говорят, что как припорошенные инеем, но у Потемкина не припорошенные, а сам иней: густой, плотный, нависающий плотными карнизами. Такие брови я видел раз в жизни, в детстве на улице, на человека оглядывались, даже сейчас Казидуб и Мазарин, дружбаны Потемкина, все равно в первую очередь посмотрели на эти удивительные брови, они как бы подчеркивали значительность вообще-то вполне нормального лица.
Помню, у моего отца брови тоже вдруг начали расти, волосы стали толстыми и блестящими, какая-то гормональная перестройка, но отец регулярно состригает лишнее, вернее, в парикмахерской девушки сами ему состригают, это как бы естественно, все равно что побриться, но ведь вошло же в моду выглядеть небритым, так что и с такими бровями человек добивается некоего эффекта. По крайней мере, Потемкина слушают, видимо, внимательнее, чем если бы он был с бровями стандартного размера.
Он коротко взглянул на меня, словно прочел мои мысли, я торопливо отвел взгляд, дабы не давать ему понять, что я раскусил его в таком вообще-то невинном трюке для привлечения внимания, а он остановился, отвесив короткий поклон. Я протянул руку, он принял с истинно княжеским достоинством, я сказал тепло:
– Гавриил Дементьевич, рад вас видеть в добром здравии. Я хотел бы просить вас снова принять на себя бремя министра иностранных дел…
– И сразу начинать работать, – добавил Казидуб.
Он обменялся с Потемкиным крепким рукопожатием, подошли Ростоцкий и Мазарин, все начали пожимать руки, Мазарин сказал многозначительно с настойчивостью в голосе:
– Впрягайтесь без раскачки. Мы уже работаем.
Потемкин посмотрел на меня с недоверием:
– И как вы их сумели запрячь?..
– Имортизм, – ответил я.
Он поморщился:
– Придурки… Я их в свою партию аристократов записал!.. Так нет же, за Оглоблева проголосовали. Если вы всерьез, господин президент, то я охотно вернусь к прежней работе.
– Почему я могу быть несерьезным?
– Ну, все-таки я ваш соперник в борьбе за президентское кресло.
– Борьба закончена, – сказал я, – начинаем разгребать конюшни. А лучше вас дипломата нет во всей России. Говорят, даже на планете.
Он сдержанно улыбнулся:
– Возможно, они несколько переоценивают. Отчасти, в мелочах.
Я указал на дверь в малую комнату для отдыха:
– Я как раз набросал проект изменений вашей деятельности… Не лично вашей, понятно, а министерства. Взгляните, если есть желание, а мы пока закончим с людьми плащей и кинжалов. И также танков.
Ростоцкий спросил обидчиво:
– А я?
– А вы… наверное, с полосатой палочкой в руке?
Я проводил Потемкина в комнату для отдыха, там у меня тоже ноутбуки, своя связь, услышал, как за спиной жизнерадостно сказал Казидуб:
– Бежит зебра, смотрит на Ростислава Иртеньевича и говорит себе: «Что же это такое у него в руке?» Га-га-га!
Усадив Потемкина, я вернулся к силовикам, все еще застряли посредине кабинета, живо беседуют, явно уходить не хочется, в кои-то веки ощутили в президенте настоящего вожака-самца, что хочет обиходить не только себя и троих баб вокруг поблизости, но все огромное стадо, именуемое даже не Россией, а человечеством.
На столе раздался звонок, я подошел и коснулся мыши. На экране вспыхнуло в окошке лицо Александры. Я зумил на полный экран, она ощутила или увидела, улыбнулась, голос прозвучал почти весело: