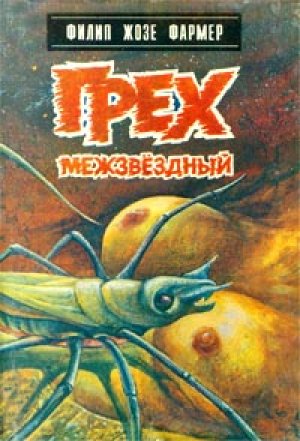
1
«Надо выбираться, – расслышал Хэл Ярроу чье-то дальнее бормотанье, – Где-то же должен быть выход».
Он проснулся в момент старта и понял, что это его собственные слова. И что они, сказанные в миг пробуждения, вдобавок, никак не связаны с тем, что мысленно предначерталось. Предначерталось одно, а выскочило спросонья совсем другое.
Но о чем это он? И где он? Он что, наяву побывал в иновремени, или то было антиистинное мысленное предначертание? Но такое живое и яркое, что не вдруг воротишься, в обступивший истиннизм?
Взгляд на рядом сидящего – и все стало на места. Он в салоне рейсовика на Сигмен-сити, идет 550-й год от Рождества Сигмена («А по старому стилю – 3050-й от Рождества Христова», – подсказала университетская обстоятельность). И не побывал он на неведомой планете за сотню световых лет отсюда во времени и пространстве, будто мысленно предначертая или покинув свой век. И не предстал пред очи всеславного Айзека Сигмена, Впередника, да будет вовек истинно его имя.
Сосед искоса глянул на Хэла. Тощий малый, скулы торчат, прямые черные волосы, карие глазенки с монголоватой складочкой на веках. Светло-голубой мундир инженерского сословия, на груди слева – алюминиевая эмблемка высшего разряда. Вероятно, электронщик со степенью от какого-то более или менее солидного политехникума.
Сосед вежливо поперхал и сказал по-американски:
– Тысяча извинений, авва. К вам без разрешения обращаться не положено, я знаю. Но вы мне что-то сказали, когда проснулись. А поскольку вы в этом отсеке, мы временно как бы на равных. Иначе я прежде сдох бы, чем лезть с вопросами. Я же не какой-нибудь там Сэм Длиннонос!
Он нервно хохотнул и продолжил:
– Невольно слышал, как вы стюардессе врезали, когда она набралась наглости посадить вас сюда. Я не ослышался? Вы действительно сказали, что вы шпак?
Хэл засмеялся и ответил:
– Не «шпак», а «ШПАГ». Широкопрофильный адъюнкт-генерал, сокращение по первым буквам. Вы ослышались, но, впрочем, не слишком. Узкопрофильные честят нас именно «шпаками».
Вздохнул при мысли об унижениях, которые приходится терпеть, будучи презираем узкими спецами. И отвернулся к окну: не хотелось поощрять случайного спутника на разговорчики. Увидел вдалеке и выше яркое полотнище света: наверняка линкор входит в атмосферу. Вояки. Гражданских судов – раз-два и обчелся, они ходят медленней и приземляются без помпы.
Шестьюдесятью километрами ниже горбом стоял североамериканский материк. Сплошное зарево с небольшими разрывами там и сям и причудливой темной полосой у края. То ли горным хребтом, то ли водным пространством, где человек еще не умудрился приткнуть жилье или заводишки. А так – сплошной город. Мегалополис. Подумать только! – триста лет назад на всем материке двух миллионов народу не набралось бы. А через полсотни годков, если только не случится какой-нибудь заварухи, вроде войны между Союзом ВВЗ и Республиками Израиля, население Северной Америки составит четырнадцать, а то и все пятнадцать миллиардов!
Единственным незастроенным пятном, причем сознательно, был Природный заповедник Гудзонова залива. Он, Хэл, покинул заповедник всего четверть часа тому назад, и уже тошно было от того, что нескоро попадет туда вторично.
Еще раз вздохнул. Природный заповедник Гудзонова залива. Деревья тысячами, горы, привольные голубые озера, птицы, лисы, кролики, даже рыси, если егеря не врут. И всего этого – по пальцам перечесть, лет через десять на том и завершится длинный список вымершей живности.
Там, в заповеднике, можно было дышать, можно было чувствовать себя раскованно. Свободно. Можно было даже иногда потосковать от одиночества. И только-только Хэл начал входить во вкус, как его ученые занятия среди двух десятков жителей заповедника, говорящих по-французски, бах и кончились.
Сосед заерзал, словно набирался храбрости продолжить разговор с оказавшимся поблизости спецом. Нервно поперхал и начал:
– Сигмен спаси и помилуй, надеюсь, я не в тягость? Но не изволите ли пояснить?..
Он был в тягость, он явно лез, куда не просят. Но Хэлу припомнились слова Впередника: «Все люди братья, и лишь отцу вольно отличать одних детей перед другими». Не вина этого инженеришки, что отсек первого класса оказался полон пассажиров с большими правами и Хэлу пришлось выбирать: либо ждать следующего рейса, либо соглашаться на отсек низшего разряда.
Он объяснил это инженеришке.
– Вон оно что! – сказал тот, словно ему скомандовали «вольно». – Тогда, если не возражаете, еще один вопросик, не сочтите меня за Сэма Длинноноса.
И деланно рассмеялся.
– Не возражаю, – ответил Хэл. – ШПАГ, хоть он и ШПАГ, но не во всей своей области. Он привязан к некой частной дисциплине, однако старается охватить ей на пользу возможно более широкий диапазон. Например, я ШПАГ в области лингвистики. Но не замкнут на какой-либо раздел этой науки, а хорошо осведомлен по всем разделам. Это дает мне возможность сопоставлять то, что в каждом из них делается, находить в одном вещи, которые могут оказаться полезны узкому спецу в другом, обращать на них его внимание. Иначе узкий спец, у которого нет времени читать даже те сотни журналов, которые его непосредственно касаются, мог бы проворонить кое-что такое, что помогло бы ему продвинуться вперед.
– В каждой области исследований есть свои ШПАГ'и, – продолжил он. – И мне впрямь повезло, что меня причли к лингвистике. Если бы меня направили, скажем, в медицину, мне пришлось бы куда круче. Пришлось бы работать в группе. А в группе – это уже не ШПАГ, а одно название. Ограничиваешься какой-нибудь специальной областью. Число публикаций в каждой области медицины чудовищно – так же, впрочем, как и в электронике, физике или какой-нибудь другой науке, которую изволите назвать. И никто в одиночку или даже одной группой не в силах соотнести между собой все их разделы. К счастью, в лингвистике это не так, а меня интересует именно лингвистика. Мне повезло, выкраивается даже время на собственные исследования, могу кое-что добавить к лавине публикаций. Конечно, компьютер, компьютер и еще раз компьютер, но даже самый сложный комплекс компьютеров, сколько в него ни затолкай, выводов не сделает. Но он позволяет человеческому мозгу, – увлеченному мозгу, если речь о моем, – учуять, что некоторые сообщения более значимы, чем другие, позволяет наметить смысловые связи между ними. Этот материал я передаю узким спецам, а уж они-то и действуют дальше. ШПАГ – это созидающее соединительное звено, если так можно выразиться.
– Однако это дается мне в основном за счет сна, – закончил он. – Приходится работать по двенадцать часов в сутки, а то и больше. Но ничего не жаль ради славы и благоденствия Госуцерквства.
Последняя фраза была нелишней. Если этот малый – аззит или аззитский тихарек, он не сможет стукнуть, что Хэл что-то заначивает от Госуцерквства. Не похоже было, что он там на плюс полставки, но подстраховка делу не помеха.
Над входом в отсек замигала красная лампа-вспышка, и механический голос приказал пассажирам пристегнуть ремни. Еще десять секунд, и рейсовик начал сбрасывать скорость; еще минута, и он макнулся в атмосферу, пошел падать по тысяче метров в минуту – эту цифру Хэл краем уха где-то слышал. Теперь, когда они были все ближе к земле, Хэлу стало видно, что Сигмен-сити (он назывался Монреаль, пока десять лет назад туда не перенесли столицу Союза ВВЗ с Исландии, из Рейка) не был сплошным заревом. Там и сям проглядывали темные пятна, вероятно, парковые насаждения, сбоку вилась тонкая лента реки Пророка (прежней реки Святого Лаврентия). Сделались различимы полукилометровой высоты пали Сигмен-сити; в каждом таком пали обитало с добрую сотню тысяч особей, а таких пали в самом городе насчитывалось не менее трехсот.
Посреди столицы обозначился квадрат, занятый деревьями и казенными зданиями на полсотни этажей, не больше. То был столичный университет, где работал Хэл.
На жил Хэл Ярроу в близлежащем пали, и, выбравшись из рейсовика, он толкнулся на дорожку, катящуюся именно туда. И, как удар, ощутил то, чего не замечал прежде. Пока не побывал в заповеднике Гудзонова залива. Толпу, плотно сбитую, наседающую, готовую сбить с ног, дурно пахнущее месиво из людей.
Месиво зажало его, не желая видеть в нем нечто большее, чем еще одно тело, еще одну безликую особь, скоропреходящую помеху на пути к назначению.
– Сигмен великий! – пробормотал он. – Оглохнуть бы мне, ослепнуть, отупеть! Не знать бы! Ведь я же их всех ненавижу!
Бросило в жар от срама и чувства вины. Он сторожко зыркнул на лица тех, кто оказался поблизости: не замечены ли ненависть, вина и раскаяние у него на лице? Не замечены, не могли быть замечены. В давке он был просто еще один такой же, разве что требующий чуть больше сдержанности при отирании, поскольку спец. Но и то не здесь, не на дорожке, не на самом стрежне потока плоти. Здесь он был просто еще одна упаковка: кровь да кости, скрепленные на жилах и обернутые кожей. Такой же, как все, а стало быть, никто.
Потрясенный этим внезапным открытием, Хэл шагнул с дорожки. Хотелось убраться с глаз долой, а то тянуло упасть на колени и оправдываться. Или бить, бить, бить.
В нескольких шагах от дорожки над ним навис пластиковый козырек-губища пали No 30 «Университетское жилтоварищество». В этой пасти было не легче, хотя порыв оправдываться быстро сплыл. Пропал резон кому-то знать, с чего он вдруг так завелся. Никто не заметил того, что было так ясно написано у него на лице, выдающее с головой.
«Что за чушь в голову лезет! – выговорил он себе и прикусил при том губу. – Те, на дорожке, наверняка ничего такого не подумали. Кроме калек по этой части, испытавших на себе. А кто они такие, эти калеки, чтобы на меня пальцем тыкать?»
Теперь он был среди своих, среди мужчин и женщин, одетых в пластиковые в клеточку балахоны спецов с эмблемой в виде крылатой пяты на груди слева. Единственная разница между мужчинами и женщинами была та, что женщины носили балахоны до полу поверх брюк, сетки на волосах, а некоторые – чадру. Чадра попадалась не так уж редко, но явно выходила из обращения. Этот обычай блюли женщины постарше или молодые почитательницы старины. Когда-то бывшая в почете, чадра стала признаком старомодности. Хотя по правдомету время от времени возносили ей хвалы и оплакивали ее закат.
Хэл перемолвился кое с кем на ходу, но в долгие разговоры не встревал. Еще издали он приметил доктора Ольвегссена, декана своего факультета. При – остановился: а вдруг Ольвегссен пожелает поговорить с ним. Но приостановился лишь потому, что доктор был здесь единственным, кто мог сделать Хэлу замечание за непочтительность.
Однако Ольвегссен явно не был настроен на беседы, он кивнул Хэлу, буркнул «алоха» и прошел мимо. Старикан так и не отвык от словечек времен своей молодости.
Ярроу вздохнул с облегчением. Прежде думалось, он с жаром бросится рассказывать о своем визите к франкоязычным туземцам в заповедник, но вот вернулся, и как-то вовсе расхотелось. Потом. Может, завтра. Но не нынче.
Остановился у лифта. Дежурный в один, взгляд определял, кому из ожидающих проходить без очереди. Когда дверцы лифта раздвинулись, дежурный кивнул Хэлу и сказал:
– Авва, проходите первым.
– Благослови вас Сигмен, – ответил Хэл. Вошел в лифт и стал к стеночке у дверец, дожидаясь, пока в порядке очередности опознают и пропустят остальных.
Долго ждать не пришлось, дежурный работал здесь давно и почти всех знал в лицо. Тем не менее, порядок есть порядок. И то кого-то повышают по службе, то кого-то понижают. Если дежурный ошибется и не учтет какой-нибудь из этих перемен, вмиг заложат. И долой. Раз он столько лет держится, значит, человек на месте.
В лифт набилось сорок особей, дежурный щелкнул кастаньетами, дверцы закрылись. Лифт взял с места так, что у всех коленки подогнулись. Все быстрей, все быстрей. Одно слово, экспресс. На тридцатом этаже первая остановка, дверцы открылись, но не вышел никто. Оптический датчик сработал, закрыл дверцы, и лифт продолжил подъем.
Никто не выходил еще три остановки. На четвертой вышла половина народу. Хэл глубоко перевел дух: если толпа на улице и в цокольном этаже была просто толпа, то здесь, в лифте, поберегись – размажет по стенке. Еще десяток этажей все в том же молчании, каждый и каждая на вид поглощены тем, что излагают по правдомету с потолка. Наконец дверцы открылись на этаже Хэла.
Коридор был пять метров в ширину, в это время дня просторно. «И надо же – ни души!» – обрадовался Хэл. Откажись он пару минут поболтать с кем-нибудь из соседей, это нашли бы странным. Пошел бы слух, а раз слух, значит, нервотрепка и, по меньшей мере, объяснение с АХ'ом этажа. Прочувствованная беседа, чтение вслух и один Посредник знает, что еще.
Прошел сотню метров. Завидел дверь своей пука и замер, как вкопанный.
Сердце вдруг замолотило, руки затряслись. Был порыв развернуться и – обратно в лифт.
А это, сказал он себе, поведение предавшегося антиистиннизму. Подобное недозволительно.
И до прихода Мэри остается еще поболе четверти часа.
Толкнул незапертую дверь (на этажах спецов – никаких запоров, уж это ясно!) и вошел. Стены тускло засветились и через десять секунд раскочегарились на всю катушку. А заодно с ними и трехмерка во всю стену напротив двери и актерские вопли оттуда. Аж подскочил. «Сигмен великий!» – процедил сквозь зубы и по-быстрому вырубил трехмерку. Так и знал, что Мэри оставит трехмерку на взводе, чтобы врубилось, чуть он в дверь. Тысячу раз ей было говорено, что он этого не выносит, так что забывчивость тут ни при чем. Значит, хоть с умом, хоть без ума, а сделано нарочно.
Передернул плечами и сказал себе, что с нынешнего дня перестанет обращать внимание. Чтобы увидела, что перестало раздражать. Может, тоща прекратит.
Но ей опять же может взбрести в голову: мол, чего это он ни с того ни с сего примолк насчет ее забывчивости. С нее станется продолжать в надежде, что он в конце концов психанет, выйдет из себя и наорет. И тогда еще раунд останется за ней, потому что она-то сдержится, будет изводить его игрой в молчанку и затравленным видом, отчего он только вдвое разозлится.
Вот тогда-то она, конечно, исполнит свой долг, как это ей ни больно. Попрется в конце месяца к участковому АХ'у и заложит. А это значит, еще один крестик к прочим в его Сводке Нравственности, который придется стирать усердными трудами. А эти труды, если ими заняться, – ох, как они ему уже набрыдли! – означают потерю времени, так нужного – даже про себя сказать страшно! – на более стоящие дела.
И если он возникнет, скажет ей, что она только и знает, что не дает ему расти как спецу, не дает заколачивать деньгу погуще, перебраться в пука посолидней, ему еще придется выслушивать горькие упреки в том, что он подбивает ее совершить поступок, который не буверняк. Неужели он хочет, чтобы она солгала хоть впрямую, хоть умолчанием? Он не вправе этого хотеть, потому что тогда ее особь и его особь окажутся в серьезной опасности. Не предстанут они перед светлые очи Впередника, и вовек, и т. д., и т. п., и сказать ему будет нечего.
А она еще заведет свое вечное, почему он ее не любит. И когда он ответит, что любит, она все равно будет стоять на своем. Тогда настанет его черед спросить, уж не берут ли его за лжеца. Он не лжец. Если его берут за лжеца, об этом должен узнать участковый. И тогда, вопреки всякой логике, она ударится в слезы и объявит, что вот теперь точно знает, что он не любит. Если бы любил, ему, мол, мысль такая в голову не пришла бы – заложить ее АХ'у.
«А тебе меня заложить, так это, по-твоему, буверняк?» – возникает он, и в ответ она еще пуще расплачется. Очень даже может, если он по-прежнему будет ловиться на этот ее крючок. И он поклялся: прежде хоть ВМ, чем он еще раз подловится!
Прошел через комнату пять на три в единственное другое помещение, если не считать еще того самого, – то есть, на кухню. Кухня была три на два с половиной. Опустил печку со стены под потолком, набрал код на панельке и вернулся в комнату. Скинул балахон, скатал в комок и сунул под стул. Не исключено, что Мэри найдет и поднимет крик, да ладно уж! Ну, просто сил нет карабкаться под потолок и спускать оттуда вешалку.
Из кухни раздался негромкий сигнал. Ужин был готов.
Хэл решил вперед поужинать, а потом уже браться за разбор почты. Пошел в то самое помыть лицо и руки. И безотчетно пробормотал молитву на омовение: «Да смоется антиистиннизм зримого так же легко, как вода смывает этот прах, ибо Сигмену так угодно».
Утеревшись, нажал кнопку сбоку от портрета Сигмена над стоячей ванночкой. Еще секунду взирал на него лик Впередника: длинное костистое лицо, огненно-рыжие волосы ежиком, соломенного цвета кустистые бровищи над здоровенным крючковатым носом с раздутыми ноздрями, водянистые голубые глаза, пламенно-рыжая борода лопатой, губы тонкие, как лезвие. И вот лицо начало расплываться, бледнеть. Еще секунда, и Впередник исчез, вместо портрета стало зеркало.
Дозволялось глядеть в это зеркало достаточно долго, чтобы проверить, хорошо ли умыт, и поправить прическу. Ничто не мешало стоять потом без дела все отведенное время, но Хэл до такого ни разу не опускался. Тьма у него недостатков, но только не тщеславие. Так он, по крайней мере, считал.
Все же, пожалуй, подзастрял дольше, чем надо. Поглазел на рослого широкоплечего мужика, на вид лет тридцати. Волосы рыжие, как у Впередника, но потемнее, почти шатен. Лоб высокий, широченный, брови соболиные, глаза серые, широко расставленные, нос прямой, пропорциональный, верхняя губа чуть великовата, но линия рта приятная, подбородок торчит вперед, но самую малость.
Вышел из того самого и прошел на кухню. Тщательно заперся (дверь кухни и дверь того самого одни имели запоры), потому что не хватало только, чтобы его застали за едой. Открыл дверцу печки, вынул теплую коробку, поставил на столик, который откидывался от стены, оттолкнул печку обратно под потолок. Потом открыл коробку и принял пищу. Пластиковую коробку выбросил в люк утилизатора в стене, опять пошел в то самое руки помыть.
Когда мыл руки, Мэри позвала его по имени.
2
Хэл помешкал, прежде чем ответить, хотя не знал, почему, и даже не подумал об этом. Но потом отозвался:
– Мэри, я в том самом.
– О! Конечно, так я и знала. Раз ты дома, значит, там. Другого места ты сыскать себе не можешь. Он вошел в комнату, лицо у него стало каменное.
– Так долго не был дома, вот вернулся, а ты все такая же злюка.
Мэри была женщина рослая, всего на полголовы ниже Хэла. Светлые волосы тщательно зачесаны назад и собраны в тяжелый узел над затылком. Глаза – светло-голубые. Правильное лицо было бы приятным, если бы не подкачали слишком тонкие губы. Свободная блуза с воротничком под самый подбородок и широкая юбка до полу полностью скрывали фигуру, и даже Хэл не знал, какова эта фигура на вид.
– И не злюка, а просто правду говорю. Другого места ты сыскать себе не можешь. И кроме как «да», тебе ответить нечего. Чуть я домой, так ты туда, – она ткнула пальцем в сторону того самого. – Либо ты там, либо работаешь. Будто изо всех сил от меня прячешься.
– Ничего себе возвращеньице домой, – сказал он.
– Ты меня даже не поцеловал, – упрекнула она.
– Ах да, – сказал он. – Это же моя обязанность. Я забыл.
– Нашел обязанность! – сказала она. – Это должно быть в радость.
– Тоже мне радость – целоваться под твою ругань, – сказал он.
Ему на удивление, Мэри вместо того, чтобы огрызнуться, заплакала. И ему тут же стало стыдно.
– Виноват, – сказал он. – Но согласись, ты заявилась не в самом лучшем настроении.
Шагнул к ней, хотел было обнять, но она отвернулась. И все равно чмокнул Мэри в уголок полуотвернутого рта.
– Не желаю, чтобы меня целовали, потому что пожалели или потому что обязаны, – сказала она. – Хочу, чтобы целовали, потому что любят.
– Но я же люблю, – сказал он, похоже, в тысячный раз с тех пор, как они поженились. Сказал и сам себе не поверил. «Но это же мой долг, – укорил себя. – Долг!»
– И находишь прекрасный способ показать свою любовь, – сказала она.
– Давай забудем и все начнем сначала, – сказал он. – Вот так.
И сунулся расцеловать ее, но она отшатнулась.
– Ну, ВМ! Что с тобой? – сказал он.
– Поцеловал ради встречи, и будет, – сказал она. – Нельзя так увлекаться этим делом. Не место и не время.
Он руками всплеснул.
– Можно подумать, кто-то увлекается! Просто т вообразил, что ты только что вошла. Неужели лишний раз поцеловаться хуже, чем с места в карьер затевать грызню? Трудно с тобой, Мэри, ты слишком буквально все принимаешь. Будто не знаешь, что сам Впередник не требовал, чтобы его принимали буквально. Он сам говорил, что иногда кое-что зависит от обстановки.
– Да, но он также говорил, чтобы мы остерегались собственным умом оценивать, насколько можно отклониться. Прежде следует посоветоваться насчет своего поведения с АХ'ом.
– Так я и разбежался! – сказал он. – Сейчас же позвоню нашему доброму дежурному ангелу-хранителю и спрошу, прав ли буду, если лишний раз тебя поцелую!
– Лучше подстраховаться, – сказала она.
– Сигмен великий! – воскликнул он. – То ли мне смеяться, то ли плакать! Знаю одно: тебя не поймешь. Вовеки не поймешь!
– Помолись Сигмену, – сказала она. – Попроси, чтобы он помог тебе разобраться, где истиннизм, а где антиистиннизм. И все докуки как рукой снимет.
– Сама молись, – сказал он. – Ссору двое затевают. Ты так же ответишь, как и я.
– Поговорим об этом потом, – сказала она. – Мне надо умыться и поесть.
– На меня не обращай внимания, – ответил он. – Я весь вечер буду занят. Прежде чем доложиться Ольвегссену, надо наверстать текущие дела.
– Спорим, только того ты и дожидался, – сказала она. – Так я и знала. Сам в заповедник съездил, а мне даже словечка не сказал, каково там.
Он не ответил.
– И нечего губу закусывать, – поставила точку она.
Он снял со стены портрет Сигмена и расстелил на стуле. Оттянул-расправил подвесной эпидиаскопчик, вставил письмо, включил режим подготовки. Надел очки-дешифраторы, воткнул в ухо щебеталку, сел на портрет. С усмешечкой. Не могла не приметить этой усмешечки Мэри и, вероятно, подивилась, с чего бы это он, но вслух не спросила. Если бы спросила, ответа не было бы. И думать не моги сказать ей, что забавно этак посидеть на портрете Впередника. Она в ужас придет или прикинется, что в ужас пришла, разве поймешь, как оно с ней на самом деле! Так или иначе, а чувства юмора у нее ни на грош. Пожуй-проглоти любое словечко, которое может подпортить твою СН.
Привстал, нажал кнопку «ПУСК» и снова принял рабочее положение. Тут же на стене перед ним проступила увеличенная картинка. А у Мэри очков не было, перед ней маячила одна пустая стенка. В ухе зазвучал голос, читающий текст.
Сначала, как всегда в официальных письмах, на стене явился лик Впередника. А голос произнес:
– Хвала Айзеку Сигмену, вместилищу и источнику истиннизма! Да благословит он нас, своих верных, да расточит на буверняк врагов своих, выучеников Обратника!
Голос умолк, изображение пригасло, чтобы получатель вознес свою собственную молитву. Затем на стене замигало одно-единственное слово «кикимура», и голос продолжил:
– Хэл Ярроу, да веруете вы безраздельно и неуклонно!
В списке свежего пополнения словаря американо-язычного населения Союза имеется слово высшего приоритетного индекса. Это слово «кикимура» (т/ж «какимура», т/ж «кикимора», т/ж «какимо-ра»). Ареал зарождения – департамент Полинезия.
Ареал радиального распространения – американо-язычные группы населения в департаментах Северная Америка, Австралия, Япония и Китай. По неизвестным причинам до сих пор не зарегистрировано в департаменте Южная Америка, хотя он, как вам несомненно известно, непосредственно примыкает к департаменту Северная Америка.
Хэл только хмыкнул, хотя было время, подобные оборотцы приводили его в бешенство. Когда же наконец отправители этих цидулок возьмут в толк, что он не только глубоко-, но и широкообразованный человек? Ну, взять хотя бы это: даже полуграмотные младшеклассники обязаны знать, где находится Южная Америка, поскольку Впередник не раз упоминает об этом материке в «Талмуде Запада», а также в «Истиннизме: мире и времени». Но и то правда, не всяк задрипанный наставничек в школах для неспецов сообразит ткнуть пальцем своим ученикам, где эта Южная Америка находится, даже если ему самому это ведомо.
– Слово «кикимура», – продолжил диктор, – было впервые зарегистрировано на острове Таити. Остров находится в центре департамента Полинезия и заселен выходцами из Австралии, которые колонизовали его после Апокалиптической битвы, В настоящее время на острове расположен военно-космический полигон.
Слово «кикимура» очевидным образом распространяется оттуда, но используется преимущественно в среде неспецов. Исключение составляют спецы, причисленные непосредственно к космосоставу. Что в известной мере отражает связь между распространением слова и тем фактом, что первыми пустили его в обращение, насколько известно, именно трудоустроенные внешней пространственной зоны.
Поступил запрос из правдометотеки на допустимость пользования указанным словом; рекомендовано воздержаться впредь до завершения всестороннего дознания.
Насколько известно на сегодняшний день, указанное слово имеет дериваты: «какимура», т/ж «кикимора», т/ж «какимора». Как самим словом, так и его дериватами обозначается нечто чуждое, явившееся из другого мира; призрачное, устрашающее, причем преимущественно с уничижительным оттенком.
Настоящим всем предписывается срочно приступить к лингвистическому дознанию по слову «кикимура» (т/ж «какимура», т/ж «кикимора», т/ж «какимора») в соответствии с методическими указаниями No СТАНДАРТЛИНГ-476 и вести эту тему вплоть до получения указаний высшего приоритетного индекса. Независимо от обстоятельств – ваш ответ строго обязателен в срок до 12 изобильника 550 г.
Хэл прокатал остальные письма. Там были поручения еще на три слова, но, к счастью, с приоритетными индексами второй и третьей очередности, так что не предстоял подвиг заниматься всеми четырьмя зараз.
Выходит, завтра с утра надо будет доложиться Ольвегссену и тут же уматывать. Стало быть, шмотки распаковывать ни к чему, ехать придется, в чем был, даже насчет чистки не светит.
Не то чтобы неохота ехать. Просто устал, просто хоть на пару дней расслабиться бы перед новой поездкой.
«Расслабиться?» – спросил он сам себя, снимая очки и украдкой глянув на Мэри.
А та как раз встала со стула и выключила трехмерку. И захлопотала в стенном шкафу. Ему пижаму на ночь ищет, себе рубашку. И не счесть, в который это уже раз на сон грядущий стало нехорошо в желудке.
Мэри обернулась и увидела, какое у него сделалось лицо.
– Что еще? – спросила она.
– Так. Ничего.
Она пересекла комнату (топ-топ-топ-топ, и все; поневоле вспомнишь, какой простор для ходьбы в заповеднике). Подала мятую пижаму и сказала:
– По-моему, Олаф так и не сунул ее в чистку. Хотя он тут ни при чем. Деионизатор не работает. Олаф оставил записку, что вызвал техника. Но сам знаешь, как они тянут с починкой.
– Было бы время – сам починил бы, – сказал он. И понюхал пижаму. – Сигмен великий! Это же сколько у нас чистка не работает?
– С твоего отъезда, – сказала она.
– Ну, и пот вонючий у этого Олафа! – сказал он. – Будто он постоянно насмерть запуган. И не диво. Старикан Ольвегссен меня стращает так, что ого-го!
Мэри залилась краской.
– Только и знаю, что молюсь, чтобы ты перестал говорить непристойности, – сказала она. – Когда ты наконец оставишь эту привычку и поймешь, что впадаешь в антиистиннизм? Разве не знаешь, что…
– Знаю, – даже не дослушал он. – Каждый раз, когда я произношу имя Впередника всуе, я тем самым чуть оттягиваю благой Конец времен. Ну, и что?
Мэри попятилась, так громко он это сказал, да еще с издевочкой.
– Как то есть «ну, и что»? – ушам не веря, отозвалась она. – Хэл, но ты же не взаправду…
– Ясно, что не взаправду, – сказал он со вздохом. – Конечно, не взаправду. Разве можно? Просто ум за разум заходит от твоих постоянных упреков.
– Впередник говорил: «Не проходи мимо. Непременно укажи брату своему на его антиистиннизм».
– Я тебе не брат. Я тебе муж, – сказал он. – Хоть уже миллион раз и нынче все отдал бы, только бы перестать им быть!
И где та назидательность, где неприступность? Глаза у Мэри налились слезами, губы задрожали, подбородок затрясся.
– Ради Сигмена! – сказал он. – Только не реви.
– А что же мне остается делать, если мой собственный муж, плоть моя, кровь моя, соединенная со мной Госуцерквством истиннизма, осыпает меня проклятиями? Меня, ни в чем не повинную!
– Ни в чем. Кроме того, что норовишь подставить меня АХ'у при каждом перепавшем случае, – сказал он, отвернулся и взялся за расстановку откидной кровати.
– Наверняка все постельное белье провоняло Олафом и его бабищей жирной, – сказал он.
Подхватил простыню, нюхнул и чуть на стену не полез. Сорвал простыни, сорвал наволочки, швырнул на пол. И свою пижаму следом.
– На ВМ! В чем есть, в том и залягу. Жена называется! Почему соседей не попросила, чтобы они в свою чистку сунули?
– Сам знаешь, почему, – сказала она. – Денег нет им платить за их чистку. Была бы у тебя СН неприглядней – могли бы себе позволить.
– Откуда ей быть неприглядней, когда ты стучишь АХ'у, стоит мне хоть на вот полстолечко проштрафиться?
– Нашел виноватую! – гневно сказала она. – Хороша бы я была сигменитка, если бы врала доброму авве и говорила, что ты заслуживаешь лучшей СН! Я жить не смогла бы, зная, что на мне такой антиистиннизм в глазах у Впередника! Чуть к АХ'у войдешь, Сигмен со стены так смотрит, что внутри все горит, он каждую мысль мою читает. Ни за что! А тебе стыд и позор меня на это подбивать!
– Иди ты на ВМ! – сказал он. И пошел в то самое.
Там в тесноте разделся и влез под душ на все положенные тридцать секунд. Повернулся под обдув и стоял, пока не обсох. Потом так взялся чистить зубы, будто норовил выскоблить каждое не то словечко, которое ляпнул. Как всегда, накатила стыдуха за все, что наговорил. А следом и страх: ох, и расколется перед АХ'ом Мэри, ох, и расколется после он сам, ох, и заварится потом! Не исключено, что выведут такую СН, что вообще каюк. Бюджетец, и так-то тощенький, вовсе лопнет. И придется лезть в долги, как никогда не лез, не говоря уже о том, что ВМ ему будет, а не повышение при ближайшей переаттестации.
С тем оделся и вышел из того самого. Чуть Мэри с ног не сбил по ее пути туда. Увидев, что он одет, как на выход, она остановилась и сказала:
– Ах вот оно что, вот почему ты белье на пол побросал! Хэл, не смей даже думать!
– Еще как посмею! – сказал он. – Не стану спать в Олафовом поту!
– Хэл, прошу тебя, – сказала она. – Не произноси больше этого слова. Ты же знаешь, я не выношу пошлостей.
– Извини, пожалуйста, – сказал он. – Хоть по-исландски заставь меня это дело называть, хоть по-еврейски, а на любом языке смысл все равно один: мерзкое человеческое выделение, то есть пот.
Мэри заткнула уши пальцами, опрометью кинулась в то самое, да еще и дверью за собой грохнула.
Он вытянулся на тощем матрасишке и закрыл локтем глаза от света. Через пять минут услышал, как дверь открылась (пора бы петли смазать, так даже смазочку прикупить ни у них, ни у семейства Олафа Маркониса свободных денег нет). А если его СН завалится, Марконисы того гляди подадут на переезд в другую пука. И если им подыщут, тогда запросто могут подселить на пересменку какую-нибудь в упор несносную парочку, не приведи, из только-только выскочивших в спецы высшего разряда.
«Ох, Сигмен! – подумалось. – На кой мне не в радость то, что есть? На кой мне никак не приладиться к порядку вещей? На кой мне навязано столько от Обратника? Подсказал бы ты мне!»
А тут и Мэри опять подала голос, мостясь в кровати рядом с ним.
– Хэл, ты зря нацелился на этот небуверняк.
– Какой еще небуверняк? – сказал он, хотя отлично знал, о чем речь.
– Сон в дневной одежде.
– А что, нельзя?
– Хэл, ты же прекрасно знаешь, что нельзя, – , сказала она.
– Знать не знаю, – ответил он, убрал локоть с глаз и – и оказался в полнейшей темноте. Мэри, как предписано, ложась в постель, выключила свет.
«Ее тело, если без рубашки, на свету луны или лампы, наверное, само чуть светилось бы, – пришла мысль. – Но я же никогда его не видел, даже наполовину без рубашки не видел. Вообще женского тела не видел, кроме как на картинке, которую тот мужичок в Берлине из-под полы показывал. Я глянул, как голодный, но так страшно стало, что я ноги в руки и драпать. Так и не знаю, поймали его потом вскорости аззиты или нет, и что у них навешивают за такой жуткий антиистиннизм».
Жуткий. Однако картинка так и маячила перед глазами, как живая, словно он опять средь бела дня в Берлине. И, как живой, маячил тот мужичок, что предлагал купить. Высокий, молодой, симпатичный, блондин, плечища – во! По-исландски говорил, но с берлинским выговором.
Чуть светящаяся плоть…
Несколько минут Мэри лежала молча, только ее дыхание доносилось. И наконец подала голос:
– Хэл, разве мало ты натворил, домой вернувшись? Или мне еще кое о чем придется АХ'у заявлять?
– О чем «еще кое о чем»? – спросил он свирепо. Однако усмехнулся, потому что решил: пусть она не темнит, пусть выступит и выскажется без уклончивостей. Ну, не то чтобы вовсе без уклончивостей, а насколько это для нее возможно, лишь бы поближе к сути.
– О том самом, которое с тебя приходится, – донесся шепот.
– Что ты имеешь в виду?
– Сам знаешь.
– Ничего я не знаю.
– В ночь перед отъездом ты сказал, что устал. Это не отговорка, но я АХ'у ни слова не сказала, потому что норму за неделю ты выполнил. Но теперь тебя две недели не было, и стало быть…
– Норму за неделю! – рявкнул он, приподнявшись на локте. – Норму за неделю! Вот что у тебя на уме, а?
– Но, Хэл! – удивленно сказала она. – А что же еще должно быть на уме?
Он застонал, плюхнулся на матрас и уставился во тьму.
– А что толку? – сказал он. – Чего ради, а? Мы девять лет женаты, а детей не было и не будет. Я уже заявление на развод подавал. Так чего ради продолжать, как пара роботов по трехмерке?
Мэри шумно вздохнула, и представилось, какой ужас у нее на лице.
Помолчала, пока в упор наужасалась, и сказала:
– Должны – значит, должны. Что же еще нам делать? Не думаешь же ты, что…
– Не думаю, не думаю, – поспешно сказал он, прикидывая, что может статься если она шепнет АХ'у. Прочее тот мимо ушей пропустит, но стоит намекнуть, что муж отказывается исполнять особую заповедь Впередника… Об этом даже подумать страшно! Так-сяк, а у него все же положение, он в университете преподает, пука имеется, есть где повернуться, имеется шанс продвинуться. Но если только…
– Само собой, не думаю, – сказал он. – Раз-навсегда усвоил: надо стараться иметь детей, если даже насчет этого окончательно все ясно.
– Доктора говорят, мы оба полностью физически здоровы, – сказала она, поди-ка, в тысячный раз за последние пять лет. – Значит, кто-то из нас что-то затаил против истиннизма, норовит отрицать истинное будущее через собственное тело. Кто-кто, а, известное дело, не я. Такого просто быть не может!
– «Темное начало бременем кроется в светлом, – процитировал Хэл „Талмуд Запада“. – Соратник в нас вожатым, а мы и не ведаем».
Ничто так не бесило Мэри с ее пристрастием к цитаткам, как те же цитатки из уст Хэла. Но вместо того, чтобы ввернуть что-нибудь этакое в ответ, она вдруг заплакала.
– Хэл, мне просто ужас как страшно. Ты отдаешь себе отчет, что в будущем году истекает наш срок? И что нас потянут к аззитам на детектор? И если мы завалимся, если подтвердится, что кто-то из нас отрицает будущее для собственных детей… ты же знаешь, все знают, что нас ждет.
Искусственное оплодотворение от донора приравнивается к прелюбодеянию. Клонирование запрещено Сигменом, поскольку грязнейший из соблазнов.
В первый раз за весь вечер Хэл почувствовал сострадание к Мэри. Ведом был ему смертельный страх, От которого ее так в дрожь кидало, что кровать ходуном ходила.
– Не думаю, что есть о чем так уж тревожиться, – сказал он. – В конце концов, нас очень уважают, мы нужные спецы. Их не хватит растранжирить наши знания и талант и дать нам ВМ. Если ты не забеременеешь, я думаю, дадут нам отсрочку. И власть у них такая есть, и прецеденты были. Сам Впередник говорил, что каждое дело надо рассматривать с учетом обстоятельств, а не по букве закона.
– И часто они рассматривают с учетом? – ехидно спросила она. – Часто? Не хуже меня знаешь, что всегда судят по букве.
– Ни одного такого случая не знаю, – приободряюще ответил он. – Нельзя же быть настолько наивной! Если один к одному, как по правдомету шпарят, то да. Но я кое-что про иерархов слышал. И знаю: такие вещи как родство, дружба, положение, толстая сума, польза для Госуцерквства очень даже сказываются.
Мэри села на кровати – спина прямой струночкой.
– Уж не хочешь ли сказать, что уриелиты мзду берут? – окрысилась.
– Никогда никому такого не скажу и тебе тоже, – сказал он. – Клянусь отрубленной рукой Сигмена, на такой жуткий антиистиннизм я даже намекать не имел в виду. Нет, я имел в виду, что польза для Госуцерквства – такое дело, что могут потом или помиловать, или что-то в этом роде.
– И кто же, по-твоему, за нас заступится? – донеслось из темноты, и Хэл усмехнулся. От его речей Мэри могла на стенку лезть, но в делах житейских она не теряется и стесняться в средствах не станет, лишь бы от Высшей Меры отбояриться…
На несколько секунд воцарилось молчание. Мэри тяжело дышала, как загнанный в угол зверь.
Наконец он заговорил:
– По правде-то, я никого из влиятельных не знаю, кроме Ольвегссена. А он, хоть мою работу хвалит, раз за разом проезжается насчет моей СН.
– Вот видишь! Насчет СН! Хэл, если бы ты набрался духу и…
– И если бы ты так не усердствовала, чтобы мне подставить ножку, – зло отозвался он.
– Хэл, мне никак, если ты по-прежнему будешь позволять себе так антиистинничать. Мне это совсем не в радость, но обязанность есть обязанность. Когда ты меня в этом упрекаешь, ты еще один ложный шаг делаешь. Еще одну черную пометку получишь…
– Ложный шаг, про который ты вынуждена будешь спеть АХ'у. Да, знаю. Давай хоть на десятитысячный раз с этим не торопиться.
– Ты сам до этого довел, – сказала она добродетельно.
– Ну вот, кажется, обо всем договорились. Она судорожно вздохнула и сказала:
– Не всегда же так было.
– Да, в первый год после женитьбы не было. Но с тех пор…
– А кто виноват? – всхлипнула она.
– Хороший вопрос. Но, по-моему, не стоит его обсуждать. Опасное это дело.
– Что ты имеешь в виду?
– Не тема для дискуссии.
Подивился тому, что сказал. Что он имел в виду? Сам не знал. Сказано было не от ума, а ото всего существа. Не Обратник ли подбил ляпнуть языком?
– Давай спать, – сказал он. – Утро вечера мудренее.
– Но сначала… – сказала она.
– Что «сначала»? – устало отозвался он.
– Ты буверняк передо мной не разыгрывай, – сказала она. – Из-за чего все началось? Сначала давай… исполни свою обязанность.
– Обязанность, – сказал Хэл. – Чтобы все буверняк. Уж оно конечно.
– Не говори так, – сказала она. – Не желаю, чтобы ты делал это по обязанности. Хочу, чтобы делал, потому что любишь меня, с радостью. Или потому что хочешь любить.
– Я бы с радостью все человечество любил, – сказал Хэл. – Но примечаю, что мне строго-настрого воспрещено исполнять эту обязанность с кем-либо, кроме супруги, истиннизмом суженой.
Мэри в такой ужас пришла, что даже не ответила и повернулась к нему спиной. Но он, зная, что делает это больше ей и себе в наказание, как обязанность, – потянулся за ней. В том, что последовало после формальной вступительной заявки, все было расписано и освящено. Но на этот раз, не как бывало раньше, все делалось шаг за шагом: и изустно, и изтелесно. Как заповедано Впередником в «Талмуде Запада». За исключением одной мелочи: Хэл был одет в дневную одежду. Он решил, что это простительно, потому что в счет идет дух, а не буква, и эка разница, одет он в это уличное платье или в ночное – вечно дергаешься в нем, как стреноженный? Мэри, если и заметила эту строптивость, словом на сей счет не обмолвилась.
3
А потом, откинувшись навзничь и глядя во тьму, Хэл думал, о чем уже столько раз думалось. Что же это подобно перегородке из толстенной сталюги будто рассекает его надвое ниже пояса? Порыв был. Еще бы не быть – и сердечко колотилось, и дух спирало. Но, по правде-то, он ничего не переживал. И когда подступал тот миг, который у Впередника именовался моментом осуществления из возможного, свершения и торжества истиннизма, Хэл испытывал чисто механические ощущения. Тело срабатывало, как заповедано, но сам он не переживал восторга, так живописуемого у Впередника. Внутри была перегородка, стылая, бесчувственная, глухая. И он чувствовал только подергивания тела, будто электродик шпынял нервы, и те тут же намертво теряли чувствительность.
«Не то», – говорил он себе. Или все же то? Могло ли быть так, что Впередник ошибся? В конце концов, он был человек выдающийся, не чета остальным. Возможно, ему было даровано столько, что он мог испытать совершеннейшие ощущения, не отдавая себе отчета в том, что остальное человечество этой везухи с ним никогда не разделит.
Но нет же, так не могло быть, если Впередник истинно провидел суть каждой особи, да сгинь мыслишка, что, может, и не каждой!
Значит, Хэл был обделен, один-одинешенек изо всей паствы Госуцерквства истиннизма.
Один ли? Он никогда ни с кем не делился своими ощущениями. Это было если не немыслимо, то неосуществимо. Непристойно. Антиистинно. Учителя никогда не говорили ему, что это запретно; и не пристало им такое говорить, потому что Хэл и без них об этом знал.
Однако Впередник заповедал, что должно Хэлу испытывать.
Может быть, не дословно? Когда Хэл обдумывал ту главу из «Талмуда Запада», которую дозволялось читать только посвященным и супружеским парам, он разумел, что Впередник и впрямь описывал не просто физическое состояние. Глава была написана поэтическим языком (Хэл знал, что такое поэтический язык, поскольку, будучи лингвистом, имел доступ к разного рода сочинениям, запретным для прочих), а местами – метафорическим и, даже можно сказать, метафизическим. Изложена в выражениях, которые, если так-то разобраться, истиннизму мало присущи.
«Впередник прости и помилуй, – думал Хэл, – я подразумеваю только, что эти выражения не суть просто само по себе научное описание электрохимических процессов в человеческом теле. Они приложимы, спору нет, но лишь на более высоком уровне, поскольку истина феноменологически полипланарна».
Субистинна, истинна, псевдоистинна, сюристинна, сверхистинна, ретроистинна.
«Ни времени на богословие, – думал он, – ни желания заставить ум сосредоточиться нынче ночью, как в иные ночи, на неразрешимом и не скором на ответы. Впередник ведал, а мне вот не дано».
Истина на сегодняшний день сводилась к тому, что он не в фазе с мировой линией. И раньше был не в фазе. Он балансирует на грани антиистиннизма каждый миг своей яви. И это не к добру: вот-вот поддаст Обратник, и рухнет Хэл Ярроу прямо в лапы Впередникова братца…
Проснулся Хэл Ярроу, как от толчка, в тот миг, как в жилье прозвучала утренняя зорька. Секунды две не знал, где он: мир сновидений и мир яви так причудливо переплелись.
Скатился с кровати, встал, оглянулся на Мэри. Та, как всегда, спала себе под этот громкий зов, поскольку ее он не касался. Через четверть часа по трехмерке поступит второй сигнал горниста, побудка для женщин. К тому времени Хэл должен быть умыт, побрит, одет и снаряжен в путь. В свою очередь, у Мэри будет пятнадцать минут на сборы в дорогу; а через десять минут после этого с ночной работы сюда войдет Олаф Марконис и устроится пожить-поспать в этом тесненьком мирочке до возвращения семейства Ярроу.
Хэл справился даже быстрее обычного, потому что был уже в дневной одежде. Оправился, лицо-руки вымыл, набуровил крем для бритья на щеки персональной кисточкой, убрал проклюнувшуюся щетину (в один прекрасный день авось заделается он в иерархи и ужо тогда заведет себе бородищу, как у Сигмена), причесался и выскочил из того самого.
Собрал полученные вчера вечером письма в дорожный чемоданчик, шагнул к двери. И вдруг что-то как толкнуло – обернулся, подошел к кровати, наклонился и поцеловал Мэри. Та еще не проснулась, и на секундочку даже жалко стало, что это до нее не дошло. Ведь не по обязанности, не согласно предписанию. А по толчку из темного провала, где заодно все-таки, должно быть, был и свет. И с чего это он? Не далее, как вчера вечером уверен был, что ненавидит. И вдруг…
Что ей иначе никак, что ему. Хотя это не оправдание, кто говорит? Каждая особь сама в ответе за себя: худо ли ей, хорошо ли ей, а сделано, как говорится, своею собственной рукой.
Впрочем, поправочка; да, они с Мэри сами свои беды породили, но не сознательно. Светлое начало в них противилось краху любви; того добивалось начало темное, глубоко затаившееся, это пресмыкался в них Обратник, гад ползучий.
Перебрав ногами у входной двери, он увидел, что Мэри открыла глаза и глядит на него будто в каком-то смятении. Но не вернулся, не поцеловал ее еще раз, а шмыгнул в коридор. Дикий страх одолел, боязнь, что вдруг она окликнет и по новой заведет все то же все про то же. И только тут припомнилось, что так и не пришлось к слову сказать ей про свой отъезд нынче же утром на Таити. Да ладно, одной докукой меньше.
А коридор был уже полон мужиков, спешащих на работу. Многие, как и Хэл, были в просторных балахонах спецов. Кое-кто – в зелено-красном: университетские преподаватели.
Конечно же, для каждого нашлась пара слов.
– Эрикссен, привет будущему!
– Да улыбнется Сигмен, Ярроу!
– Чан, цветное ли было мысленное предначертание?
– Буверняк, Ярроу! Цветное, как наяву.
– Шалом, Казимуру!
– Да улыбнется Сигмен, Ярроу! Первый заторчик у лифта, пока утренний дежурный по случаю толпы в коридоре выстраивал очередность спуска. Оказавшись снаружи, Хэл запрыгал с полосы на полосу, пока не пробился на центральную, на экспресс. Там остановился, стиснутый телами мужчин и женщин, но народ был свой, так что без неприятного чувства. Десять минут дороги, и скомандовал себе лево руля на край. Еще пять минут, и сошел на грунт, зашагал к пещероподобному входу пали No 16 «Университет Сигмен-сити».
Там второй заторчик, тоже недолгий, пока дежурный назначил лифт. И Хэл взмыл экспрессом в один скок на тридцатый этаж. Обычно, выйдя из лифта, он шел прямо к себе готовиться к первой лекции старшего курса, которую давали по трехмерке. Но нынче направился в деканат.
По дороге жутко захотелось курнуть, а в присутствии Ольвегссена насчет этого – ни-ни, и Хэл приостановился, закурил и с удовольствием затянулся приятным женьшеневым дымком. Как раз против входа в аудиторию первого курса, откуда доносились обрывки лекции Кеоки Джеремиэля Расмуссена:
– Первоначально слова «пука» и «пали» бытовали у общин полинезийцев, первонасельников Гавайских островов. Англоязычное население, которое колонизовало острова в более поздний период, заимствовало многие термины из языка гавайцев. И в числе наиболее употребительных – слово «пука», означающее нору или пещеру, и слово «пали», означающее утес.
Когда после Апокалиптической битвы американо-гавайцы заново заселили Северную Америку, эти два термина употреблялись в своем первоначальном смысле. Но в течение следующего полустолетия смысл этих двух слов изменился. «Пука» – так с очевидным пренебрежительным оттенком стали называть отдельные помещения, предназначенные для жилья у низших сословий. Впоследствии этот термин стали употреблять и сословия повыше. Если вы принадлежите к сословию иерархов, вашим местом обитания является «площадь»; если вы принадлежите к любому из остальных сословий, вашим местом обитания является «пука».
Словом «пали», то есть «утес», стали называть небоскребы или любые другие крупноразмерные здания. В отличие от слова «пука», слово «пали» сохранило и свое первоначальное значение.
Хэл докурил сигарету, бросил окурок в пепельницу и прошел через приемную прямо в кабинет декана. Там за столом восседал доктор-декан Боб Кафзаэль Ольвегссен собственной персоной.
По старшинству, Ольвегссен заговорил первым. У него был едва приметный исландский выговор.
– Алоха, Ярроу. Что у вас?
– Шалом, авва. Прошу прощения за явку без вызова. Но до отъезда есть необходимость обговорить несколько вопросов.
Ольвегссен, седовласый ученый муж средних лет (около семидесяти), нахмурился.
– Как так «до отъезда»?
Хэл вынул из чемоданчика письмо и подал Ольвегссену.
– При случае взгляните. Оберегая ваше драгоценное время, докладываю: получил предписание на производство срочного лингвистического дознания.
– Вы же предыдущее только-только кончили! – сказал Ольвегссен. – Как можно требовать с меня полноценной работы факультета во славу Госуцерквства и в то же время отвлекать персонал на ловлю ненормированной лексики!
– Вы уверены, что это не критиканство в адрес уриелитов? – не без жесткой нотки в голосе отозвался Хэл. Не от начальстволюбия (таковым не страдал) или стараний его изобразить – обязан был со своей стороны каленым железом выжечь подобный происк антиистиннизма.
Ольвегссен рыкнул:
– Абсолютно уверен. Я на это неспособен. Да как вы смели о таком подумать!
– Извините, авва, – сказал Хэл. – Даже в мысленных предначертаниях подобные намеки не посещают.
– Когда предписано отбыть? – спросил Ольвегссен.
– С первым же рейсом. Думаю, где-то в пределах часа.
– И когда вернетесь?
– Сигмен ведает. Как только закончу и сдам отчет.
– И немедленно ко мне.
– Еще раз прошу прощения, но не смогу. Моя СН к тому времени будет недозволительно просрочена, вынужден буду навести порядок вперед всех прочих дел. А на это уйдет не меньше нескольких часов.
Ольвегссен набычился и сказал:
– Кстати о вашей СН. Последняя вам не к лицу, Ярроу. Надеюсь, следующая будет получше. Иначе… Хэла бросило в жар, коленки дрогнули.
– Так точно, авва.
Собственный голос едва расслышал.
Ольвегссен соорудил флешь из пальцев и глянул на Ярроу сквозь амбразуру в воздвигнутой фортификации.
– Иначе, как ни жаль, я вынужден буду принять меры. Я не могу держать в своем штате человека с плохой СН. Боюсь, что я…
Ольвегссен надолго замолк. Хэл почувствовал, как взмокло под мышками, как бисеринками выступил пот на лбу и на верхней губе. Знал: Ольвегссен нарочно тянет время, – и ни о чем не хотел спрашивать. Не хотел доставить этому седовласому красавчику с «гимелом» на груди удовольствие послушать, каково он, Хэл, умильно поет. Но не дай Сигмен показаться безразличным! Будешь молчать, как пень, – поулыбается Ольвегссен, возьмет, да и уволит.
– Что вы, авва… – подхватил Хэл, силясь ни единым звуком не выдать бури собственных страстей.
– Очень боюсь, что не смогу позволить себе даже такое снисхождение, как ваш перевод в преподаватели подготовительных курсов. Хотелось бы проявить милосердие. Но милосердие по отношению к вам грозит обернуться попустительством антиистиннизму. Сама мысль об этом недозволительна. Ни в коем случае…
Хэл ругнулся про себя, не в силах совладать с дрожью.
– Так точно, авва.
– Очень боюсь, что мне придется обратиться к аззитам, чтобы вашим делом занялись они.
– Только не это! – ахнул Хэл.
– Именно это, – возразил Ольвегссен из-за своей фортификации. – Было бы крайне неприятно, но представляется, что все прочее не буверняк. Я смогу мысленно предначертать со спокойной совестью, лишь обратившись к ним.
Он разобрал фортификацию, развернул кресло боком, подставил Хэлу профиль и сказал:
– Все же надеюсь, что мне трудиться не придется. Прежде вас самого призовут к ответу за то, что творите. И, кроме себя, винить вам будет некого.
– Так заповедал нам Впередник, – сказал Хэл. – Приложу все старания, чтобы не доставлять вам огорчений, авва. Позабочусь, чтобы мой АХ не имел поводов ухудшить мою СН.
– Очень хорошо, – сказал Ольвегссен без капли веры в эти благие речи. – Вы свободны, предписание возьмите с собой, копия мне наверняка поступит с нынешней почтой. Алоха, сын мой, и приятных мысленных предначертаний.
– Авва, где вы, там истина, – сказал Хэл, повернулся и вышел вон.
Не помня себя от жуткого страха, с трудом понимал, что делает. Безотчетно добрался до вокзала и подал заявку на бронь по всему маршруту. Походкой лунатика прошел в салон рейсовика.
Получасом позже он был уже в Лос-Анджелесе на пути к стойке – узнать, как там насчет местечка на Таити.
Он был уже у самой стойки, когда почувствовал, что спиной вроде бы кого-то задел.
Дернулся, обернулся извиниться.
Сердце громыхнуло так, что чуть наружу не выскочило.
Сзади оказался коренастый, плечистый пузан в свободной блестящей черной хламиде. На голове черная шляпа конусом с узкими полями лаком блестит, а на груди – серебряное изображение ангела Аззы.
Пузан подался вперед, вгляделся в еврейскую цифирь под знаком крылатой пяты на груди у Хэла. Сверился по бумажке, зажатой в кулаке.
– Буверняк, вы и есть Хэл Ярроу, – сказал аззит. – Пошли со мной.
Самым странным во всем этом деле было то, что Хэл не до смерти сомлел, но подумалось об этом гораздо позже. Не то чтобы никакого жуткого страха вовсе не было. Просто страх отхлынул в какой-то дальний угол разума, а все ближние были заняты лихорадочным гаданьем, что стряслось и как отбиться. Растерянность и смятение, которые как скогтили его во время разговора с Ольвегссеном, так с тех пор и не отпускали, вдруг будто испарились. На смену пришла холодная и быстрая сметка: мир просматривался насквозь и был враждебен до предела.
Возможно, потому, что угроза Ольвегссена была далекой и двусмысленной, а аззитская лапа – ближе некуда и недвусмысленно грозна.
Его подвели к карете на полосе возле здания вокзала. Приказали сесть. Залез туда и тот аззит, набрал на панели маршрут следования. Карета взвилась вверх на полкилометра и взяла с места, куда ведено, но с жутким воем сирены. Хэлу было не до шуток, но все же мелькнула мыслишка, что тысячелетия идут, а полицаи верны себе. Никакой срочности нет, а страж закона не страж, если по его милости всем встречным-поперечным ушей не заложило.
Минуты через полторы карета причалила на двадцатом этаже какого-то здания. И аззит, который и звука не проронил за весь маршрут, жестом велел Хэлу вылезти. Хэл тоже молчал, поскольку знал, что разговоры бесполезны.
Они вдвоем пересекли причал и зашагали по коридорам, в которых кишмя кишел народ. Хэл силился запомнить дорогу, будто на случай возможного по бега. Смешно, конечно. Отсюда не сбежишь. И не виделось причины оказаться в положении, когда кроме побега ничего не остается.
По крайней мере, он так предполагал.
Наконец аззит остановился перед дверью без таблички. Указал на нее большим пальцем, и Хэл вошел первым. Оказалось, секретариат: за столом сидела бабенка-секретутка.
– Докладывает ангел Паттерсон, – сказал аззит. – Доставлен Хэл Ярроу, специалист номер ЛИН-56327.
Секретутка повторила по громкой связи, и голос со стены приказал войти.
Секретутка нажала кнопку, дверь откатилась.
Хэл, по-прежнему первым, вошел.
Комната оказалась непривычно просторная, больше его рабочей в университете, больше всей пука в Сигмен-сити. В дальнем конце был здоровенный стол, столешница загибалась полумесяцем с острыми концами. За столом сидел мужик, и при взгляде на него все самообладание Хэлово разлетелось вдребезги. Хэл рассчитывал увидеть АХ'а повыше рангом, самого в черном и в колпаке конусом.
Но мужик был не аззит. Он был в лиловой рясе, на голове лиловый клобук, на груди болталось золотое еврейское «Л» – «ламед». И мужик был с бородой.
Выходит, высший из высших, уриелит. Хэл видывал таких всего десяток раз в жизни, из них всего однажды – в натуре.
«Сигмен великий! – мелькнула мысль. – Что же я такого натворил? Вот уж погорел так погорел!»
Уриелит был мужик рослый, почти на полголовы выше Хэла. Лицо длинное, скулы торчат, нос что клюв, узкий и крючком, губы ниточками, глаза водянистые, с монгольской складочкой над верхним веком.
Аззит позади Хэла страшным шепотом сказал:
– Ярроу, приставить ногу! Стоять смирно! Исполнять все, что прикажет сандальфон Макнефф, резину не тянуть, и без лишней суеты.
Хэл кивнул. Неповиновение – да разве такое мыслимо?
С минуту Макнефф сверлил глазами Хэла Ярроу, теребя пышную темно-рыжую бороду.
Вогнав таким образом Хэла в холодный пот, он, наконец, заговорил. Голос оказался на диво басовитый для такого тонкошеего.
– Ярроу, что скажете насчет того, чтобы покончить с этой жизнью?
4
Был порыв, но Хэл ему не поддался и потом не раз благодарил за это Сигмена.
Мелькнуло: не стой, не раскисай от страха, а развернись и врежь аззиту! Напоказ у него оружия нет, но в кобуре под хламидой наверняка припрятана пушка. Если свалить его и разжиться пушкой, можно взять Макнеффа в заложники, выставить перед собой, как щит. И можно будет рвануть.
Куда?
Сходу не высветило. В принципе, либо к израильтянам, либо к малайцам, в их федерацию. И к тем, и к этим путь неблизкий, хотя расстояние не проблема, если удастся увести или взять под команду рейсовик. Предположим, удастся, но каков шанс прорваться через систему ПРО? Никакого. Чтобы дежурным по узлам связи да по штабам зубы заговаривать, нет у него ни знания уставов, ни представления насчет порядков, заведенных у вояк.
Пока Хэл все это соображал, порыв подвыдохся. Может, умнее все же выждать и дознаться, в чем суть обвинения. И не исключено, что удастся доказать свою непричастность.
Губы-ниточки Макнеффа пошли кривой усмешкой, хорошо знакомой Хэлу.:
– Добро, Ярроу, – сказал сандальфон.
Хэл толком не понял, считать это дозволением вступить в разговор или нет, но прикинулось, что есть возможность расположить уриелита к себе.
– Не понял, сандальфон. Что «добро»?
– Что вы покраснели, а не побледнели. Я любую особь насквозь вижу, Ярроу. Мне на это довольно нескольких секунд. И что я вижу? А то, что вы не норовите в обморок упасть со страху, как очень многие на вашем месте при тех словах, которыми я вас огорошил. Нет, в вас вспыхнула горячая кровь, установка на контратаку. Вы готовы отрицать, спорить, приводить встречные доводы. Кое-кто сказал бы, что это нежелательная реакция, что ваше поведение говорит о вредном образе мысли, о склонности к антиистиннизму. А точно ли им ведомо, что такое истиннизм? «Что такое истиннизм?» – именно так вопрошал Впередника собственный брат, погрязший во зле. И получил ответ, и я его повторю: об этом может судить лишь тот, кто истиннизму верен. Я истиннизму верен, иначе не был бы сандальфоном. Буверняк?
Хэл, затаив дыхание, кивнул. И подумал, что не такой уж чтец в сердцах этот Макнефф, как воображает, иначе намекнул бы, что не укрылся от него Хэлов первый порыв прибегнуть к насилию.
Или все же не укрылся, но хватило учености оставить без последствий?
– Задавая вам вопрос, – продолжал Макнефф, – я вовсе не имел в виду, что вы кандидат на ВМ. Он нахмурился.
– Впрочем, ваша СН такова, что, продолжай вы в том же духе, недалеко и до этого. Однако я убежден: если вы по доброй воле согласитесь на мое предложение, вы скоро исправитесь. Окажетесь в тесном контакте со множеством народу, который сплошь буверняк, и благого влияния вам будет не избежать. Истиннизм порождает истиннизм. Так сказано у Сигмена. Однако пора к делу. Прежде всего поклянитесь на этой книге, – он выложил на стол «Талмуд Запада», – что ни единое слово из нашего разговора ни при каких обстоятельствах не будет вами разглашено. Поклянитесь умереть или вынести любые пытки, но не предать Госуцерквства.
Хэл положил левую руку на книгу (рано оставшись без правой руки, Сигмен пользовался левой и нам велел) и поклялся Впередником и всеми градациями истиннизма, что его уста будут навеки замкнуты. Иначе он лишится даже малейшей возможности предстать пред очи Впередника и обрести однажды в управление собственную вселенную.
Он еще не договорил слов клятвы, а уже начал чувствовать себя виноватым: на аззита напасть хотел, применить силу к сандальфону тоже имел намерение. Как можно было так без зазрения совести предаться собственному темному началу? Ведь Макнефф – живой посланник Сигмена, шагнувшего во время-пространство готовить будущее своей пастве. Хоть в чем-то уклониться от всепокорности Макнеффу, значит оскорбить Впередника действием, а это такая жуть, что даже мысль о том невыносима!
Макнефф положил книгу на место и сказал:
– Прежде всего должен вас уведомить, что врученное вам предписание на производство дознания по слову «кикимора» на острове Таити было ошибочным. Ошибка, вероятно, вызвана тем, что некоторые подразделения аззитов не так тесно взаимодействуют в работе, как им положено. Корни ошибки в настоящее время изучаются, и будут приняты действенные меры к тому, чтобы впредь имелась гарантия неповторения подобных случаев.
Аззит за спиной у Хэла тяжело вздохнул, и Хэл понял, что в этом кабинете сейчас и помимо него есть кому пускать сок со страху.
– Один из иерархов, просматривая сводку, обратил внимание на ваш запрос насчет допуска на Таити. Зная, насколько высока степень секретности во всем, что касается этого острова, он дал указание разобраться. В результате мы сумели вас перехватить. А я, изучив ваше личное дело, пришел к выводу, что, возможно, вы как раз тот, кто нам необходим для кое-какой работы на борту корабля.
С этими словами Макнефф выбрался из-за стола и заходил по кабинету, сцепив руки за спиной и слегка наклонясь вперед. Стало видно, какой у него желтоватый цвет кожи, почти того же оттенка, что у слоновьего бивня, который Хэл однажды видел в Музее вымерших животных. Особенно подчеркивал эту желтизну лиловый клобук на голове сандальфона.
– Вам предлагается пойти добровольцем, – продолжал Макнефф, – поскольку мы хотим иметь на борту исключительно людей, беззаветно преданных делу. Питаю сугубую надежду, что вы дадите согласие, поскольку мне нехорошо при одной мысли о том, что на Земле останется хоть одно гражданское лицо, которому известно о существовании и назначении «Гавриила». Не то, чтобы я сомневался в вашей лояльности, но израильские шпионы большие умницы и вполне способны вытянуть из вас все, что вам известно. Ахнуть не успеете, как похитят и напичкают всякой химией, чтобы вы заговорили. Одно слово – лакеи Обратника.
Хэл мрачно подивился про себя, почему пичканье химией у израильтян – это антиистиннизм, а то же самое у Союза ВВЗ – буверняк, но в один миг позабыл об этом, едва заслышал продолжение речи Макнеффа.
– Сто лет тому назад первый межзвездный космический корабль Союза отправился с Земли к звезде Альфа Центавра. Примерно в то же время и туда же направился и израильский. Через двадцать лет оба вернулись и сообщили, что там не обнаружено планет, пригодных для обитания. Наша вторая экспедиция возвратилась спустя еще десять лет, а вторая израильская – спустя двенадцать. Ни мы, ни они не обнаружили звезды с планетами, перспективными в смысле колонизации.
– Никогда об этом не слышал, – пробормотал Хэл Ярроу.
– Друг от друга правительствам секретов не уберечь, а от своих народов – вполне удается, – заметил Макнефф. – Насколько нам известно, израильтяне после той второй попытки межзвездных агрегатов больше не посылали. Расходы оказались астрономические, и время полетов тоже. А вот нас хватило на третье судно размерами поменьше, но скоростью побольше, чем два предыдущих. За эту сотню лет мы кое-чему научились при создании межзвездных движителей, не стану распространяться перед вами на эту тему. Этот третий корабль возвратился несколько лет тому назад и сообщил…
– Что найдена планета, пригодная для обитания, но уже населенная мыслящими существами! – вмешался Хэл, от восторга позабыв, что его никто не просит высказываться вслух.
Макнефф остановился и уставился на Хэла водянистыми глазами.
– Откуда знаете? – резко спросил он.
– Простите, сандальфон, – сказал Хэл, – Но ведь это неизбежно. Разве Впередник не предсказал в своем «Времени и мировой линии», что такая планета будет найдена? По-моему, на пятьсот семьдесят третьей странице.
Макнефф хмыкнул и сказал:
– Рад, что изучение первоисточников оставило в вас такой глубокий след.
«Еще бы не оставило! – подумал Хэл. – И не единственный. Порнсен, мой АХ неразлучный, порол меня за каждый плохо выученный урок. Мастер был оставлять глубокий след. Почему „был“? Есть. Я подрос и карьеру сделал, и он тоже: где я, там и он. В детском садике был мой АХ. И в интернате оказался он же, хотя я думал, что уж там-то от него избавлюсь. А нынче он мой участковый АХ. Не кто иной, как он, мне эту поганую СН выводит».
И тут же сам себе строго возразил: «Не он, а я, и только я, в ответе за все, что со мной происходит. Если у меня плохая СН, значит, сам до этого довел, мое темное начало. Сгину – так исключительно потому, что сам достукался. Прости мне, Сигмен, мои мысли антиистинные!»
– Еще раз прошу прощения, сандальфон, – произнес он вслух. – Не обнаружила ли экспедиция свидетельств пребывания Впередника на той планете? А может, хоть это и превыше всех желаний, сам Впередник там нашелся?
– Нет, – сказал Макнефф. – Хотя это и не значит, что таких свидетельств там в принципе не имеется. Экспедиции предписывалось произвести беглую оценку природных условий и с тем вернуться. Не вправе вам сказать, в скольких световых годах эта звезда отсюда, хотя в этом полушарии по ночам вы можете наблюдать ее невооруженным глазом. Если пойдете к нам добровольцем, вам будет сообщено, куда мы направляемся, после отбытия корабля. А он отбудет в ближайшее время.
– Вам нужен дополнительный лингвист? – спросил Хэл.
– Корабль огромен, – сказал Макнефф, – но мы берем столько военных и столько спецов, что лингвиста можем взять только одного. Нам представили на рассмотрение список спецов по вашей части из числа «ламедников» с безупречным образом мысли. К несчастью…
Хэл ждал. Макнефф на ходу помолчал, нахмурился и наконец сказал:
– К несчастью, существует только один ШПАГ – «ламедник» – лингвист, но он слишком стар для такой экспедиции. И, следовательно…
– Тысяча извинений, – сказал Хэл, – но я только сейчас об этом вспомнил. Я ведь женат.
– На борту «Гавриила» женский персонал исключен, – сказал Макнефф. – Если доброволец, участник экспедиции, женат, он автоматически получает развод. Так что…
Хэл чуть не задохнулся.
– Развод?
Макнефф развел руками, как бы оправдываясь.
– Ваше чувство протеста мне понятно. Но, внимательно исследовав «Талмуд Запада», мы, уриелиты, пришли к выводу, что Впередник, предвидя эту ситуацию, высказал соображение о допустимости развода в данном случае. В данном случае он неиз бежен, так как супруги будут находиться в разлуке свыше восьмидесяти земных лет. Естественно, Впередник высказался о допустимости развода в скрытой форме. В своей великой и достославной мудрости он позаботился о том, чтобы наши враги израильтяне оказались не в силах проникнуть в наши планы.
– Я даю добровольное согласие, – сказал Хэл. – Сандальфон, я весь внимание.
Шестью месяцами позже Хэл Ярроу стоял под куполом смотрового зала «Гавриила», не сводя глаз с земного шара над собой, сжавшегося до размеров глобуса. В зоне видимости находилось ночное полушарие, но над мегалополисами Австралия, Япония, Китай, Юго-Восточная Азия и Сибирь стояло зарево огней. Будучи лингвистом, Хэл называл эти сияющие пятна и дуги по языкам, на которых там говорили. Австралия, Филиппинские острова, Япония и Северный Китай, которые входили в Союз ВВЗ, имели американоязычное население.
В Южном Китае, в Юго-Восточной Азии, в Южной Индии и на Цейлоне, которые составляли Малайскую федерацию, в ходу был язык «базар».
В Сибири говорили по-исландски.
Хэл мысленно повернул глобус побыстрей, и представилась Африка, где на юг от Сахарского моря говорят на суахили. По берегам Средиземного моря, в Малой Азии, в Северной Индии и в Тибете родным языком был иврит. В Южной Европе, между Республиками Израиля и исландоязычными землями к северу, пролегала неширокая, но протяженная территория, которую называли Пограничьем. За Пограничье последние двести лет шел спор между Союзом ВВЗ и Республиками Израиля, постоянно грозивший вой ной. Ни та, ни другая сторона не собиралась отказываться от своих претензий, но не хотела и предпринимать шагов, которые могли бы привести к повторению Апокалиптической битвы. А на практике это сводилось к тому, что Пограничье существовало как особая нация, даже со своим правительством (никем не признаваемым вне своих рубежей). Граждане этой нации говорили и по-исландски, и по-американски, и по-еврейски и завели себе особый новый язык, так называемый «линго», жаргонную смесь из всех имеющихся, но с таким упрощенным синтаксисом, что все правила занимали не больше полустранички.
В уме он представил себе и все остальное: Исландию, Гренландию, Карибские острова, восточную часть Южной Америки. Тамошние говорят по-исландски, поскольку именно уроженцы этого острова потеснили американо-гавайцев, занятых заселением Северной Америки и западной части Южной после Апокалиптической битвы.
Северной Америки, где американский был родным для всех, кроме двух десятков потомственных франко-канадцев, живущих в заповеднике Гудзонова залива.
Хэл знал: когда Земля повернется так, что в ночном полушарии окажется Сигмен-сити, там все будет залито светом. И где-то в том потопе света – его пука. Но Мэри вскорости оттуда выселят, поскольку через пару дней она будет извещена о гибели мужа при несчастном случае. Забившись в уголок, поплачет, не без того, поскольку, хоть и на фригидный манер, а мужа-то любила, но на людях и виду не подаст. Ее друзья и коллеги по работе посочувствуют, но не по случаю потери возлюбленного супруга, а по случаю того, что он проявил-таки себя человеком антиистин ного образа мысли. Поскольку, раз погиб в катастрофе, стало быть, этого желал. Ведь несчастных случаев, если разобраться, не бывает. Просто получилось так, что он и все остальные пассажиры (точно так же записанные погибшими в цепи поддельных инцидентов; так маскировалось пополнение команды «Гавриила») одновременно «сговорились» погибнуть. И будучи таким образом лишены благодати, они не подлежат кремированию с последующим церемониальным развеиванием пепла по ветру. Нет. Госуцерквство проследит, чтобы их ошметки рыба съела, вот и все.
Жаль было Мэри. Хэл сдерживал слезы, стоя в толпе под куполом смотрового зала.
Но и то сказать, все устроилось к лучшему. Ни ему больше не терзаться рядом с Мэри, ни ей возле него не исходить слезами; их взаимная пытка кончена. Мэри свободна и может снова выйти замуж, не зная, что Госуцерквство тайно оформило ей развод. Она-то будет думать, что ее брак прекращен по случаю смерти супруга. Годик ей дадут прийти в себя, а потом предложат выбрать партнера из списка, подготовленного АХ'ом. Кто знает, может, психологический барьер, который помешал ей понести дитя от Хэла, больше не сработает. Вполне так может быть. Но навряд ли. Что она, что он ниже пупа как замороженные. И АХ с подбором кандидата хоть в доску расшибись, не поможет.
АХ. Порнсен. Не придется больше видеть эту жирную морду, слышать вусмерть надоевший скулеж.
– Хэл Ярроу! – раздался вусмерть надоевший скулеж.
Разом вспыхнув и окоченев, Хэл обернулся.
Ему улыбался вислощекий, толстогубый недомерок, нос гулей, глазки-щелочки. Из-под узкополой лазоревой шляпы конусом – припорошенные сединой черные патлы свисают на плоеный черный воротник. Солидное брюхо под лазоревым кителем в обтяжку (Порнсен много стерпел нотаций от начальства за неумеренность в еде), широкий синий пояс с металлическим замочком – семихвостку цеплять. Толстенькие ляжки в лазоревых лосинах с черными лампасами снаружи и в шагу, и лазоревые сапоги до колен. А ступни крохотные, смехотворные какие-то. И на носке каждого сапога – по семиугольному зеркальцу.
Чего ради эти зеркальца задуманы, на сей счет в народе попроще всякую похабщину плетут. Разок довелось слышать, и с тех пор, как всплывет в памяти, так в краску вгоняет.
– Дорогуша моя, наказание мое, овод неотвязный! – проскулил Порнсен. – Вот уж в мыслях не имел, что ты участник сего достославного странствия! А следовало иметь. Навеки мы с тобой вместе, как люб и люба. Должно быть, сам Сигмен позаботился об этом. Привет тебе сердечный, питомчик мой!
– Возлюби вас Сигмен! – сказал Хэл и поперхнулся. – Как чудненько видеть вашу незабвенную особу! А я – то думал, век больше не встретимся!
5
«Гавриила» навели на цель, и он с ускорением, равным ускорению земного притяжения, начал набирать скорость, которая в пределе должна была составить треть скорости света. Тем временем всю команду, за исключением тех немногих, кто обеспечивал живучесть корабля, отправили в анабиоз. На много лет. Чуть позже, когда вся автоматика была выверена, в анабиоз отправили и вахтенных. Всем предстояло спать, а «Гавриилу» тем самым давалась возможность развить ускорение, перегрузок от которого тела команды без заморозки не выдержали бы. По достижении заданной скорости автомат должен был отключить привод, и безмолвный, но отнюдь не пустой корабль по инерции предназначен был нестись к далекой звезде, цели своего странствия.
По прошествии многих лет фотонному счетчику в носу корабля надлежало определить момент, когда на дальних подступах к звезде следует начать замедление. Еще раз телам в заморозке предстояло испытать перегрузку, невыносимую для живых. После соответствующего торможения привод должен был переключиться на замедление, равное ускорению земного притяжения с обратным знаком. На этой стадии полета планировалась реанимация первой очереди, то есть вахтенной смены. Ей поручалось вывести из заморозки весь остальной личный состав. И за остающиеся полгода полета люди должны были полностью подготовить корабль к посадке.
Хэл Ярроу отправился в заморозку одним из последних, а извлечен оттуда был одним из первых. Ему было поручено изучить все имеющиеся сведения о языке ведущей нации планеты Оздва, а именно Сиддо. И одним из первых он оказался в непростом положении. Экспедиция, которая открыла Оздву, успешно отождествила пять тысяч слов языка Сиддо с пятью тысячами же американских. Но описание синтаксиса языка Сиддо привезла подозрительно куцее. И, как обнаружил Хэл при внимательном рассмотрении, явно ошибочное.
Это открытие заставило Хэла попотеть. Ведь перед ним стояла задача подготовить учебное пособие и научить весь экипаж «Гавриила» говорить по-оздвийски. Однако, используй он даже все до единой крохи, какие имелись в распоряжении, он наверняка обучил бы своих курсантов не тому, что нужно. Да и то – с огромным трудом.
Во-первых, речевой аппарат уроженцев Оздвы кое в чем отличался от речевого аппарата землян; а следовательно, звуки, образуемые этими аппаратами, были несопоставимы. В какой-то мере можно было добиться уподобления, но поймут ли оздвийцы эти эрзац-звуки?
Вторым препятствием была грамматика языка Сиддо. Взять хотя бы систему времен глагола. В языке Сиддо не существовало наборов окончаний или вспомогательных глаголов для обозначения прошлого и будущего, время обозначалось просто другим глаголом. Так, глаголу «жить» в настоящем времени и мужском одушевленном роде соответствовало слово «дабхумаксанигалуахаи», в прошедшем времени совершенного вида – слово «ксуупелиафо», а в будущем – слово «маитейпа». И так во всех временных формах. Сверх того, привычные для землян три рода слов: мужской, женский и средний – в языке Сиддо расщеплялись каждый на одушевленный и неодушевленный. К счастью, род обозначался не изменением основы, а набором окончаний. Однако, зависящих от глагольного времени и, стало быть, сложных в усвоении.
Все остальные части речи: существительные, местоимения, наречия и прилагательные – в обращении уподоблялись глаголам. Путаницу усиливали сословные моменты: разные сословия для обозначения предметов и действий часто пользовались разными словами.
Система письма у оздвийцев напоминала, пожалуй что, древнеяпонскую. Алфавита не было, использовалось что-то вроде линейного письма со значащими длинами, изгибами и углами расположения отрезков. Группа линий, обозначающая слово, дополнялась знаками системы родовых окончаний.
Командующий первой экспедицией выбрал место для посадки на материке в северном полушарии планеты. Тамошние жители говорили на языке, который давался землянам трудней всех прочих. Обоснуйся экспедиция в южном полушарии, на материке-антиподе, у нее (а вернее сказать, у ее лингвиста) была бы возможность выбрать из четырех десятков наречий южан относительно несложные по синтаксису и числу значащих слогов в смысловой единице. Такие наречия существовали, если с доверием отнестись к образцу, случайно подмеченному лингвистом-первооткрывателем.
Сиддо, массив суши в южном полушарии размером (но не формой) с Африку, был отделен от северного материка океаном шириной в десять тысяч миль. Оздвийская наука считала его отдрейфовавшей на юг частью некогда единого праконтинента. Эволюция живых существ на северном и южном материках шла несколько разными путями. Если на северном материке господствовали насекомые и их троюродные братья – внутрискелетные псевдочленистоногие, то южный оказался весьма гостеприимен для млекопитающих. Хотя, Сигмен – свидетель, и насекомые там изобиловали, В течение последних пяти столетий на северном материке Абака'ату единственным видом живых существ, обладающим высшей нервной деятельностью, был жук-кикимора. А на Сиддо – удивительно человекоподобный примат. Этот «хомо оздви» создал свою культуру и развил ее до стадии, аналогичной древнеегипетской или древневавилонской, И внезапно почти все гоминиды – и цивилизованные, и дикари – исчезли.
Это произошло всего за тысячу лет до того, как первый Колумб из жуков-кикимор ступил на громадный южный материк. В ту пору и даже двести лет спустя жучи считали, что человекоподобные вымерли полностью. Но когда колонизация охватила лесные и горные районы в глубине материка, там обнаружились небольшие группы гоминидов. Они отступили в неосвоенные места, где укрывались с таким же успехом, что и африканские пигмеи на Земле в тропических, обильно увлажняемых лесах до их вырубки. По приблизительным оценкам, на территории в сотню тысяч квадратных километров проживало от тысячи до двух тысяч аборигенов.
Нескольких особей мужского пола жучи отловили. И перед тем как отпустить на волю, изучили их языки. Жучи пытались дознаться, чем вызвано такое внезапное и таинственное исчезновение целого высокоразвитого биологического вида. У взятых «языков» толкования нашлись, но противоречивые и явно мифологического свойства. Лесные бродяги попросту уже не знали правды, хотя в скрытом виде она, возможно, и содержалась в их легендах. Одни объясняли катастрофу мором, который наслала Великая богиня, она же Праматерь сущего. Другие твердили про орды злых духов, которым она же повелела уничтожить всех, кто ей поклонялся, якобы за прегрешения против установленных ею законов. Существовала версия, что оздвийское человечество за малым исключением погибло при звездопаде, который вызвала все та же Праматерь, устроив неботрясение.
Но ближе к делу – у Ярроу не хватало материала для порученной работы. У лингвиста первой экспедиции было всего восемь месяцев на сбор данных, и большая часть этого времени ушла на обучение нескольких жуч американскому. Лишь под конец срока пребывания он смог по-настоящему взяться за дело. Корабль пробыл на Оздве десять месяцев, но в течение первых двух команда вообще воздерживалась от вылазок, пока роботы отбирали атмосферные и биологические пробы и велся их анализ с целью убедиться, что земляне могут отважиться на выход, не боясь отравления или инфекций.
Несмотря на все предосторожности, двое членов экипажа погибли от укусов насекомых, один пал жертвой неизвестного хищника, а затем почти половина личного состава переболела крайне изнурительной, хотя и несмертельной болезнью. Ее вызвала бактерия, от которой оздвийцы оберегались вакцинированием, но которая видоизменилась в тканях внеоздвийских носителей.
Опасаясь, что это только начало, и имея инструкции произвести лишь осмотр, а не всестороннее обследование, командующий отдал приказ возвращаться. Весь личный состав в течение долгого времени находился в карантине на искусственном спутнике Земли, и лишь после этого ему было дозволено ступить на родную планету. И через два дня после высадки на Землю лингвист экспедиции скончался.
Пока строился следующий корабль, против болезни, которая так жестоко обошлась с первой экспедицией, была разработана вакцина. Все собранные на Оздве культуры бактерий и вирусов были опробованы сначала на животных, а потом на людях, приговоренных к ВМ. В результате было изготовлено много вакцин, и от некоторых из них личному составу «Гавриила» пришлось достаточно тошно.
По причинам, известным одним иерархам, командующий первой экспедицией не награду заработал, а опалу. Как полагал Хэл, за то, что не сумел заполучить образцы крови жителей Оздвы. Из того немногого, что стало известно Хэлу главным образом по слухам, жучи отказались предоставить кровь на исследование. Возможно, их насторожило поведение гостей. Когда земляне-ученые после этого обратились к жучам с просьбой предоставить тела умерших для анатомических исследований в чисто научных целях, им также было отказано. Было заявлено, что все тела умерших кремируются, пепел подлежит развеиванию. Правда, перед кремацией часто производится вскрытие, но это акт религиозный и обставляемый ритуалом. И совершить вскрытие может только жу-ча-врач-священнослужитель.
Накануне отлета можно было похитить нескольких жуч, но командующий счел неразумным обострять отношения. Было ясно, что теперь на Оздву будет направлена следующая экспедиция на гораздо более крупном корабле. Вот тоща-то, если не удастся добром уговорить жучей и получить образцы крови, можно будет и силу применить.
Пока строился «Гавриил», кто-то из лингвистов высшего разряда прочел заметки и прослушал записи, доставленные на Землю. Но он потратил слишком много времени на попытки найти и сравнить сходные явления в языке сиддийцев и языках Земли, живых и мертвых. Ему поразмыслить бы над методикой быстрейшего обучения группы землян сиддийскому языку, а он дал волю своим академическим склонностям. Может быть, именно поэтому он не попал на «Гавриил». Откуда было Хэлу знать? Ему так и не объяснили, почему буквально в последний момент назначение получил именно он.
Ругаясь про себя последними словами, Хэл трудился. Вслушивался в звуки языка Сиддо, изучал их виброграммы на осциллографе. Силился воспроизвести эти звуки своими неоздвийскими губами, языком, зубами, небом и голосовыми связками. Работал над сиддо-американским словарем, той основой основ, к которой его предшественник отнесся с некоторым пренебрежением.
Увы, еще до того, как сам Хэл или кто-то из его товарищей по экспедиции сумеет полностью овладеть сиддийским языком, всем, кто говорит на нем отроду, предстояло умереть.
Личный состав, кроме вахтенной смены, давно уже отправился в анабиоз, а Хэл еще целых шесть месяцев не вылезал из трудов. Больше всего ему при том досаждало присутствие Порнсена. Скучал по АХ'у жидкий азот, но Порнсен обязан был бодрствовать и следить, как бы Хэл не погряз в антиистиннистских поступках. Утешало одно: Хэла никто не гнал к Порнсену, пока сам не почует нужды, срочность работы можно было выдвигать как оправдание. Но одинокие напряженные труды зело не сахар. Порнсен был в качестве собеседника доступнейшим человечком, вот Хэл и беседовал с ним.
Хэла Ярроу подняли из заморозки одним из первых. Как ему было сказано, сорок лет спустя. Умом он принял это. Но так и не смог поверить по-настоящему. Ни его собственный вид, ни вид окружающих никаких изменений не претерпел. А единственной внешней переменой была возросшая яркость звезды, к которой лежал их путь.
В конце концов, эта звезда сделалась самым ярким объектом во Вселенной. Затем стали различимы вращающиеся вокруг нее планеты. Обозначилась и Оздва, четвертая планета от звезды. Размерами с Землю, с большого расстояния Оздва выглядела в точности, как Земля. В компьютер ввели информацию, и «Гавриил» лег на орбиту. Четырнадцать суток он обращался вокруг планеты в режиме наблюдения, выпуская гички, макавшиеся в атмосферу и даже совершившие несколько посадок.
Наконец, Макнефф отдал капитану приказ посадить «Гавриила».
С величавой неспешностью, сжигая огромные порции горючего по случаю своей чудовищной массы, «Гавриил» вошел в атмосферу, держа курс на глав ный город Сиддо, расположенный на средне-восточном побережье материка. И легко, как снежинка, пал на открытую лужайку в центральном городском парке. В парке? Весь город был сплошной парк, деревьев было так много, что с воздуха Сиддо выглядел как редконаселенная местность, а не как город с примерно четвертьмиллионным населением. Зданий было много, некоторые в десять этажей, но поодаль одни от других, так что впечатления единого массива не возникало. Улицы были широкие, с таким мощным травяным покровом, что на нем не сказывалось движение транспорта. Только в районе порта Сиддо чем-то напоминал земные города. Там здания плотно жались одни к другим, а бухта кишела парусными судами и колесными пароходами.
Собравшаяся на лугу толпа расступилась, и «Гавриил» плавно стал на грунт. Гигантская серая туша смяла траву и чуть заметно вдавилась в почву. Сандальфон Макнефф приказал открыть главный люк.
И, сопровождаемый Хэлом Ярроу, которому надлежало выручать начальство, если оно запнется в приветственном обращении к депутации встречающих, сандальфон шагнул под небеса первой обитаемой планеты, открытой землянами.
«Как Колумб, – подумал Ярроу. – И неужели все пойдет тем же чередом?»
Несколько позже земляне обнаружили, что могучее судно легло под прямым углом поперек двух подземных железнодорожных туннелей. Однако ни для туннелей, ни для «Гавриила» это не представляло опасности. Туннели были пробиты в сплошной скале, над ними лежал скальный щит шестиметровой толщины, а поверх него – двадцатиметровый слой глины. Более того, корабль был так длинен, что большая часть его веса приходилась на грунт по обе стороны туннелей. Досконально разобравшись в этом, капитан решил оставить «Гавриил» там, где пришлось.
От рассвета до заката пришельцы смело общались с туземцами, изучая все, что только можно: язык, обычаи, историю, биологию – все подробности, до которых не дошли руки у предыдущей экспедиции.
Чтобы увериться, что жучей не насторожило подозрительное желание землян обзавестись образцами крови оздвийцев, Хэл в течение шести недель об этом деле вообще не упоминал. Это время он провел в обществе туземца по имени Лопушок (неизменно в присутствии Порнсена, уж это само собой разумеется). Лопушок был одним из тех оздвийцев, кто еще во время предыдущей экспедиции научился у землян американскому и чуточку исландскому. Хотя Лопушок разбирался в земных языках не больше, чем Хэл в оздвийских, он знал достаточно для того, чтобы познания Хэла в сиддийском быстро возросли. А иногда они без запинки беседовали на простые темы, пользуясь смесью американского с сиддийским.
Прежде всего земляне скрытно интересовались оздвийской технологией. По логике вещей, она не вызывала опасений. Насколько можно было судить, жучи продвинулись не дальше, чем земная наука на заре двадцатого века от Рождества Христова. Но земляне хотели твердо убедиться, что сверх того, что видят, никаких секретов у оздвийцев нет. Что не затаили жучи оружия большой разрушительной мощи, выжидая, пока удастся захватить гостей врасплох.
Ракет и ядерных боеголовок бояться не приходилось. Жучи явно были пока неспособны производить их. Но в области биологии их достижения выглядели весьма внушительно. А в этом таилась угроза не меньшая, чем во владении термоядерным оружием. Более того, даже не будучи сознательно применено против землян, биологическое заражение грозило ужасными последствиями. То, что для оздвийцев с их иммунитетом, накопленным за тысячелетия, было простым недомоганием, для землян могло обернуться молниеносным беспощадным истреблением.
Соблюдать осторожность и не спешить – таков был приказ. Дознаваться до чего только можно. Собирать сведения, сопоставлять, делать выводы. Перед тем, как приступить к исполнению плана «Оздва геноцид», твердо убедиться, что возмездия не последует. Твердо убедиться.
Вот так и получилось, что четыре месяца спустя после появления «Гавриила» над Сиддо двое землян, которых с жучами ну просто водой не разольешь, совместно с двумя жуками-кикиморами, которые без землян как бы дня не проживут, предприняли совместную вылазку. Задумано было обследовать развалины города, построенного две тысячи лет тому назад теми самыми вымершими гоминидами. Верных друзей вдохновляло мысленное предначертание сродни тем, что кое-кому не давали покоя много веков тому назад на планете Земля, отстоящей на десятки световых лет.
Двусторонняя научная экспедиция отправилась в путь на транспортном средстве, которое с точки зрения любой из земных особей выглядело как плод самой буйной фантазии.
6
Мотор стрелял и перхал, колесницу трясло. Оздвиец, сидевший сзади справа, наклонился вперед и что-то крикнул.
– Чего? – вполоборота назад крикнул и Хэл. И повторил по-сиддийски: – Абхудаиакху?
Сидевший прямо позади Хэла Лопушок ткнулся ртом в ухо землянину. Он взялся быть переводчиком у Движенечки, хотя его американский звучал диковато – то раскатисто, то гнусаво.
– Движенечка говорит, молвит, вещает, что вам должно, следует часто нажать-отпустить, нажать-отпустить тот меньшущий стержень, от вас правоватый. Это дает… карбюратор… большой спирт.
Сяжки на хитиновом лбу Лопушка щекотнули Хэлу ухо. Хэл произнес в ответ словопредложение в тридцать слогов. Что-то вроде «спасибо». Вначале мужского одушевленного рода глагол в первом лице единственного числа настоящего времени. Затем энклитику, которой обозначается недолженствование как со стороны донора, так и со стороны рецептора, затем местоимение первого лица одушевленного мужского рода единственного числа во взаимном падеже, затем энклитику, означающую, что донор признает рецептора более информированной стороной в речевом контакте, личное местоимение второго лица одушевленного мужского рода единственного числа также во взаимном падеже и еще две энклитики, которыми обозначается положительно-нейтральная интонация высказывания. Тут не перепутать порядок следования, поскольку этими же энклитиками, но произнесенными в обратном порядке, обозначается отрицательно-осложненная.
– Что вы сказали, молвили, изрекли? – громко переспросил Лопушок, и Хэл досадливо передернул плечами. Забыл начать с задненебного щелчка, отсутствие которого то ли лишает высказывание смысла, то ли изменяет смысл на обратный. Не было ни времени, ни желания начинать сначала.
Вместо этого Хэл заработал рукояткой, о которой шла речь. При этом пришлось побеспокоить сидящего рядом АХ'а.
– Тысяча извинений! – промычал Хэл.
Порнсен в ответ и головы не повернул. Сидел, сцепив руки на пузе так, что суставы побелели. Как и его «питомец», Порнсен впервые опробовал езду с помощью двигателя внутреннего сгорания. Но, в отличие от Хэла, испытывал панический ужас от грохота, дыма, тряски, бросков и самой мысли о передвижении посредством наземного самодвижущегося аппарата, управляемого вручную.
Хэл усмехнулся. А ему полюбилась эта чудная колесница, точь-в-точь как на картинках из книг по истории техники. Ни дать ни взять, автомобиль начала двадцатого столетия. Душа играла от свободы крутить неподатливую баранку и чувствовать, как грузный корпус колесницы подчиняется движениям мышц. Дробный стук четырех цилиндров и вонь горящего спирта веселили. Забавная езда. Есть даже что-то романтическое, будто вышел в море на лодочке под парусом – это тоже обязательно надо попробовать, пока сидишь на Оздве.
И, хотя он себе в том не признавался, все, что приводило в ужас Порнсена, доставляло Хэлу радость.
А радости пришел конец. В цилиндрах захлопало с перебоями. Колесница взбрыкнула, дернулась, прокатилась немного и остановилась. Двое кикимор с заднего сиденья подхватились вон (дверец не было) и подняли капот. Хэл – за ними. Порнсен не тронулся с места. Он достал из кармана пачку «Серафимских» (если ангелы курят, то непременно «Сера-фимские»), но не вдруг закурил. Руки тряслись.
Хэл сосчитал: со времени утренней молитвы Порнсен в четвертый раз попался на глаза с сигаретиной. Так недолго превысить квоту, дозволенную даже старшему АХ-составу. Это означает, что в следующий раз, когда у Хэла возникнут неприятности, можно будет рассчитывать на поблажку, напомнив АХ'у, что… Нет! Срам даже думать об этом! Откровенный антиистиннизм, уводящий в псевдобудущее. Он плюс АХ равно любви, АХ плюс он равно любви, и не приличествует строить диспозиций, предосудительных в глазах Сигмена.
«Однако временами так прихватывает, – мелькнуло на исходе, – что и Порнсеновой подмогой не погнушался бы».
Чтобы избавиться от этих мыслей, Хэл тряхнул головой и с преувеличенным интересом принялся наблюдать за тем, как Движенечка управляется с мотором. А тот, похоже, понимал, в чем затык, и действовал уверенно. Еще бы! Собственной особью изобретатель и конструктор первого и пока единственного на Оздве (по крайней мере, по мнению зем лян) транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания!
Орудуя гаечным ключом, Движенечка отсоединял от стеклянной банки длинный тонкий патрубок. «Гравитационная система питания», – припомнил Хэл. В банку, служившую отстойником, поступало горючее из бака. А из отстойника по патрубку своим ходом подавалось в карбюратор.
– Люба моя, долго они там намерены копаться? – скверным тоном поинтересовался Порнсен.
Хотя АХ был в маске с очками, которую оздвийцы выдали ему для защиты от ветра, речи из его толстых губ долетали внятно. Сомневаться не приходилось: если дела не переменятся к лучшему, АХ нарисует на своего «питомца» тот еще рапорт!
АХ с самого начала был за то, чтобы подать заявку на гичку и выждать положенные два дня. Тогда на третий день путь к развалинам занял бы не больше четверти часа по воздуху – ни тебе шума, ни тебе тряски. Хэл возражал: наземная езда на оздвийском экипаже даст более ценные разведданные об этом труднопроходимом лесном районе, чем пролет над ним. Командование приняло сторону Хэла, отчего Порнсен разозлился вдвойне. Ведь куда его «питомец», туда поневоле и он.
И весь день, пока новоявленный лихач из нездешних гоминидов, наставляемый здешним псевдочленистоногим, колесил на драндулете по лесным дорогам, Порнсен был мрачнее тучи. Лишь разок соизволил открыть рот, и то лишь напомнил Хэлу о святой заповеди «не убий особь человеческую» и потребовал сбавить скорость.
– Простите, о страж возлюбленный, – конечно же, ответил Хэл и, конечно же, ослабил жим на педаль газа. Выждал чуточку и снова прибавил газ. И они прежним манером с ревом запрыгали по лужам и ухабам…
Движенечка полностью отсоединил патрубок, взял один конец себе в рот, похожий на римскую цифру «пять», и дунул. Хоть бы капля появилась на другом конце патрубка. Движенечка закрыл голубые глазища и снова надул щеки. Его зеленоватое лицо сделалось темно-оливковым, но без толку. Он постучал медным патрубком о капот и еще раз дунул. Никакого результата.
Лопушок покопался в кожаной суме, прицепленной к поясу на дородном брюхе. Большим и указательным пальцами выудил оттуда голубенькую букашку. И аккуратно затолкал букашку в патрубок. Через пять секунд из другого конца патрубка на дорогу выпал красный жучок. А следом, хищно шевеля жвалами, явилась и голубенькая букашка. Лопушок проворно изловил свою гончую и отправил в сумку. Движенечка расквасил красного жука пяткой сандалии.
– То-то и вот! – сказал Лопушок. – Спиртосос! Обитает, живет в баке и насасывается, накачивается вольно и невозбранно. Экстрагирует углеводороды. Плещется, плавает в чудесном море спирта. Вот это жизнь! Но иногда он делается, становится слишком предприимчив, деятелен, пробирается, проникает в отстойник, ест, прогрызает фильтр, заползает, забивается в шланг. Смотрите, глядите! Движенечка как раз заменяет фильтр, вкладывает новый. Один-два-три миг, и мы будем, станем в путь на дорога.
И дохнул прямо Хэлу в лицо чем-то непонятным и тошнотворным. «Уж не спиртного ли хлебнул?» – дивясь, подумал Хэл, которому в жизни не доводилось лось чуять запах перегара из чьих-либо уст, так что где уж тут разобраться? Но даже мысль о спиртном заставила вздрогнуть. Если АХ дознается, бутыль с чем перекатывается под задним сиденьем, Хэлу несдобровать.
Лопушок с Движенечкой вскарабкались на сиденье.
– Отбываем и едем, – сказал Лопушок.
– Слушай, люба моя, – негромко сказал Порнсен. – А не поменяться ли тебе местами с жучей?
– Если вы предложите это, жуча подумает, что вы не доверяете своему брату-землянину, – ответил Хэл. – Он решит, что вы считаете жуч высшими существами по отношению к собственным собратьям. Неужели вы этого хотите?
Порнсен покашлял, тем временем явно обдумывая услышанное, и буркнул:
– Вот уж нет. Избави Сигмен! Забочусь исключительно о твоем добром здравии. Ты весь день эту таратайку обхаживал, так что, полагаю, устал. На вид простое дело, а далеко ли до беды?
– Благодарю за любовь, – ответил Хэл. Ухмыльнулся и добавил: – Как приятно знать, что вы за меня горой и всегда готовы отвратить злое псевдобудущее.
– Я клялся на «Талмуде Запада» неизменно направлять тебя в этой жизни, – отозвался Порнсен.
Отрезвленный упоминанием о священной книге, Хэл тронул колесницу с места. Сначала вел ее медленно, чтобы не досадить АХ'у. Но минут через пять нога на педали газа сама собой отяжелела, придорожные деревья замелькали. Хэл украдкой покосился на Порнсена. АХ сидел прямо, сжав зубы, и явно обдумывал рапорт, который подаст по команде, воз вратясь на «Гавриил». Сатанеет. Того и гляди, потребует он своего «питомца» к ответу. На детекторе.
Хэл Ярроу всей грудью вдыхал ветер, бьющий в маску. На ВМ Порнсена! На ВМ детектор! Кровь кипела в жилах. Воздух этой планеты это вам не затхлый воздух Земли! Легкие пили его со счастливым стоном. Впору послать подальше самого верховного уриелита!
– Поберегись! – взвизгнул Порнсен.
Уголком глаза успел приметить Хэл похожего на антилопу зверя, который одним прыжком вынесся из лесу на дорогу прямо под правый бок колеснице. Крутанул баранку, чтобы колесница ушла влево. А ту занесло по влажному грунту, разворачивая кормой вперед. Хэл не был тверд в основах вождения, не знал, что укротить занос можно только разворотом в ту же сторону.
Его неграмотность оказалась роковой только для животного, сшибленного правым бортом колесницы. Длинные рога зацепились за куртку Порнсена и распороли тому правый рукав.
Ударом о массивное тело антилопы занос прекратило. Но колесницу на полном ходу вынесло поперек полотна на земляной придорожный валик. На валике подбросило, и, пролетев несколько метров, колесница плюхнулась разом на все четыре надувных шины. Шарах! – лопнули все четыре.
Плюхнулась и рванулась вперед. Перед Хэлом, как из-под земли, возник здоровенный куст. Хэл еще раз крутанул баранку. Поздно!
Его бросило грудью на баранку так, что рулевую колонку чуть не сложило под щиток управления. Сзади на спину навалило Лопушка – от двойной тяжести ребра хрустнули. Оба вскрикнули, Лопушка отшвырнуло назад.
Оглушительно зашипело, стихло, и воцарилась тишина. Над разбитым радиатором сквозь ветки, грубо и колюче упершиеся Хэлу в щеки, взвился столб пара.
Сквозь клубящийся пар Хэл Ярроу увидел круглые от страха карие глаза. Затряс головой. Откуда глаза? И подобные ветвям руки. Или ветви, подобные рукам? Мелькнуло: сейчас схватит его кареглазая нимфа. Или дриада, кажется, их звали «дриадами». И не у кого спросить. Никаких «нимф» и «дриад» нигде не изучали. Не предусмотрено. Их повычеркивали изо всех книг, включая «Истинного Мильтона». Только по праву лингвиста Хэл прочел «Потерянный рай» без изъятий и усвоил начатки греческой мифологии.
Мысли вспыхивали и гасли, как огоньки на панели управления звездолетом. Нимфы, убегая от преследователей, превращались в деревья. Уж не одна ли из этих сказочных женщин глянула на него прекрасными очами сквозь побеги, которые – вот они – никуда не делись?
Он зажмурился, гадая: а вдруг привиделось от ранения в голову, и, если так, то видение не вдруг исчезнет. С такими жаль расставаться – плевать, истинны они или нет.
Открыл глаза. Видение исчезло.
«Это та антилопа глядела, – подумал он. – Увернулась, забежала за куст и глянула. Это ее глаза. А мое темное начало нарисовало вокруг них голову, длинные черные кудри, нежную белую шею и пышную грудь… Нет! Антиистинно! Это мой зараженный разум от потрясения мгновенно открылся тому, что в нем гноилось, копошилось все это время на корабле, где не то что живых женщин – даже изображений на магнитозаписи…»
И подавился рвотой, вмиг забыв о глазах. Отвратительное зловоние ударило в ноздри. «Жучи вус-мерть перепугались», – мелькнула догадка. У них в таких случаях непроизвольно срабатывает сфинктер, перекрывающий «пугпузырь». Этот орган, расположенный сзади ниже поясницы, служил неразумным предкам членистоногих оздвийцев мощным оборонительным оружием. Примерно такое же использует на Земле жук-бомбардир. Теперь этот почти рудиментарный орган служит лишь для разрядки сильнейшего нервного напряжения. На славу срабатывает «пугпузырь», но не без закавыки. Например, жучам-психиатрам приходится носить противогазы или работать при широко открытых окнах…
Кеоки Эмайель Порнсен с помощью Движенечки выкарабкался из-под куста, куда его вышвырнуло. Торчащее брюхо, лазоревый мундир с белыми нейлоновыми крыльями, притороченными к спине кителя, делали его похожим на жирного голубого жука. Порнсен выпрямился, сдернул маску. В лице – ни кровинки. Трясущимися пальцами завозил по скрещенным песочным часам и мечу, эмблеме Союза ВВЗ на груди. Наконец нашарил нужный клапан. Раздернул магнитную застежку, вытащил пачку «Серафимских». Зажал сигаретину в зубах, но никак не мог примериться к трясущемуся концу трясущейся зажигалкой.
Хэл поднес к кончику сигареты Порнсена головку своей зажигалки. Уверенной рукой.
Тридцать с лишним лет выучки позволили глубоко скрыть усмешку, просившуюся на губы.
Порнсен принял услугу. Но секундой позже губы у него задергались и стало ясно: он понял, насколько потерял перевес над Ярроу. Нельзя было вперед по зволять этому типу выставляться с услугами, даже по таким мелочам – надо было сходу рубануть семихвосткой. Порнсен учуял это. И все же произнес, как положено:
– Хэл Шэмшайель Ярроу…
– Буверняк, авва, слушаю и повинуюсь, – как положено, ответил и Хэл.
– Сию же минуту объясни мне, что произошло.
Удивился Хэл. Голос у Порнсена оказался много мягче, чем ожидалось. Однако расслабляться нельзя. Вдруг Порнсен решил подстеречь и ударить врасплох, когда Хэл душевно будет не готов к нападению.
– Я – или, вернее сказать, Обратник во мне – отклонился от истиннизма. Я, то есть мое темное начало, с умыслом ускорило псевдобудущее.
– Неужели? – сказал Порнсен спокойно, но не без злости. – Значит, говоришь, твое темное начало, Обратник в тебе все это натворили? С тех пор, как ты говорить научился, только это я от тебя и слышу. До каких пор ты будешь кивать на других? Ведь знаешь, по крайней мере, обязан знать после того, как тебя вот этой самой рукой столько раз пороли, что в ответе всегда ты и только ты один. Когда тебя учили, что отклоняться от истиннизма тебя побуждает твое темное начало, тебя еще учили и тому, что Обратник ничего не добьется до тех пор, пока ты, твое истинное начало, Хэл Ярроу, не вступит с ним в тайный сговор.
– Насчет этого буверняк, мой возлюбленный АХ, как всегда и повсюду буверняк левая рука Впередника, – ответил Хэл. – Вы только одну малюсенькую подробность из виду упускаете.
И злости у него в голосе хватало поспорить со злостью в Порнсеновом.
– Что за намеки? – взвизгнул Порнсен.
– А такие намеки, что вы тоже при том присутствовали. И, значит, виноваты не меньше моего, – торжествующе объявил Хэл.
Порнсен заморгал. И заскулил:
– Но… но ведь ты же вел эту пакость колесатую!
– А без разницы, как вы сами мне всегда говорили, – ответил Хэл, самоуверенно ухмыляясь. – Вы согласились участвовать в столкновении. Если бы не согласились, мы зверюгу не задели бы.
Порнсен помолчал, пыхнул сигаретиной. Рука у него ходуном ходила. Пальцы перебирали семь кожаных хвостов плети, пристегнутой к поясу, и Хэл глаз не спускал с этой руки.
– Достойна сожаления гордыня твоя, прискорбно самоуправство, которое так и лезет из тебя при каждом удобном случае. Именно этим изъянам нет места во Вселенной, как являет ее человечеству Впередник, да будет вовек истинно его имя, – завел Порнсен, пыхнул сигаретиной и продолжил: – Две дюжины мужиков и баб отправил я на ВМ, да простит им Впередник, если возможно! Не по мне это было, поскольку любил я их всем сердцем, всеми началами. Рыдая, закладывал я их святой иерархии, потому что сердце у меня любящее и нежное, – пыхнул он сигаретиной. – Но то был мой долг, долг ангела-хранителя – корчевать отвратную заразу в особи, не дать ей разрастись и пожрать тех, кто ступает вослед Сигмену. Антиистиннизм терпим быть не может. Особь слаба и хрупка, выставлять ее на соблазны нельзя.
Еще одна затяжка, вздох и продолжение.
– Я твой АХ с самого дня твоего рождения. Как уродился ты непокорен, так и остался. Но в послу шании и раскаянии мог быть возлюблен, и любовь моя тебя не оставила.
Мурашки пошли по спине у Хэла при виде того, как рука Порнсена охватила рукоять орудия любви, пристегнутого к поясу.
– Тебе еще восемнадцати не было, когда ты отклонился от истиннизма и проявил слабость по отношению к псевдобудущему. То было, когда ты вздумал стать ШПАГ'ом, а не узкопрофильным. Я тебя предупреждал: «Будешь ты у людей сбоку-припеку, если полезешь в ШПАГ'и». Но ты стоял на своем. Поскольку в ШПАГ'ах есть нужда, поскольку начальство решило иначе и я уступил, и заделался ты в ШПАГ'и.
Еще затяжка.
– Чуял я, что-то тут не буверняк. Но когда я подобрал тебе бабу, в самый раз тебе в жены, – это мой долг и право, ибо кто, как не любящий АХ, знает, что за баба тебе под пару? – открылась мне подлинная бездна твоей гордыни и закоснелого антиистиннизма. Ты спорил, ты возражал, ты через мою голову лез и целый год проманежил, пока наконец смирился и обженился. Год антиистинного поведения, который обошелся Госуцерквству в живое существо, ему тобою недоданное…
Хэл побледнел, и стали видны семь красных отметинок лучами от левого уголка губ через всю щеку до уха.
– Не имеете права так говорить, – хрипло сказал он. – Мы с Мэри девять лет были женаты, и все равно детей не было. Пробы показали, что ни она, ни я не бесплодны. Значит, кто-то из нас или оба мысленно воздерживались. Я подал на развод, хоть и знал, что могу заработать ВМ, если докажут на меня. Почему не поддержали мое заявление? Ваш долг был поддержать, а вы под сукно бумагу сунули.
Порнсен небрежно выдохнул дымок, но правое плечо у него стало ниже левого, словно шмат правого бока выхватило. По опыту Ярроу знал: это означает, что Порнсену нечем крыть.
– Когда я увидел тебя на борту «Гавриила», – продолжил Порнсен, – я и секунды не думал, что ты там из желания послужить Госуцерквству. Я сразу же заподозрил причину. А теперь я в мыслях абсолютнейший буверняк, что ты сюда пошел из подлого желания сбежать от собственной жены. Поскольку бесплодие, прелюбодеяние и межзвездное странствие одни являются законными основаниями для развода, причем прелюбодеяние означает ВМ, ты сыскал единственный доступный выход. Ты примазался к личному составу «Гавриила» и сделался мертв по закону. Ты…
– Кому другому про законы говорить, да не вам! – крикнул Хэл. Его трясло от бешенства и ненависти к самому себе за то, что не может скрыть свои чувства. – Сами знаете, что поступили против закона, когда моему заявлению не дали ходу. Сами заставили живым на небо лезть, а…
– Вот так я и думал! – сказал Порнсен, оскалился, пыхнул сигаретиной. – А отклонил я твое заявление, потому что признал его антиистинным. У меня, видишь ли, мысленное предначертание было, очень ясное, живое, И видел я Мэри, как она несет на руках твое дитя не позже, чем года через два. Не антиистинное предначертание, а со всеми признаками ниспосланного самим Впередником. Мне дана была весть, что твое желание развестись есть уклон в псевдобудущее. Дана была весть, что ис тинное будущее в руках у меня, и только руководя тобою, я смогу сделать его истинным. Я записал это предначертание на следующее же утро, и было это неделю спустя после получения твоего заявления, и…
– О! Сами признаетесь, что попались на удочку Обратника, и нечего на Впередника кивать! – крикнул Хэл. – Порнсен, я обязан представить рапорт об этом! Сами себя выдали с головой, так и получите по заслугам!
Порнсен побледнел. Сигаретина выпала из губ на землю, челюсти заходили от страха.
– Что ты порешь? Что порешь?
– Говорите, видели мое дитя на исходе двух лет, а меня нет на Земле ого-го сколько, и отцом ему я быть не могу. Значит, то, что вам предначерталось, вовсе не было истинное будущее. Значит, вы дали себя обмануть Обратнику. Чуете, что это значит? Вы же кандидат на ВМ!
АХ мигом перестал кособочиться. Правой рукой накрыл рукоять семихвостки с крестом-анком на конце, отстегнул ее от пояса. Плеть свистнула перед самым носом Хэла.
– Видал? – пронзительно крикнул Порнсен. – Семь хвостов! По одному на каждый смертный антиистиннизм! Мало ты их пробовал, попробуешь еще!
– Заткнись! – гаркнул Хэл. У Порнсена челюсть отвисла.
– Да как ты смеешь! Я, твой возлюбленный АХ… – заскулил он.
– Сказано тебе: заткнись! – повторил Хэл не так громко, но так же резко. – Остоебенил мне твой скулеж! За всю жизнь вот так остоебенил!
Но даже эти речи не помешали примечать, как бредет в их сторону Лопушок. А за спиной Лопушка – как лежит на дороге мертвая антилопа.
«Так она погибла! – молнией пронеслась мысль. – А я – то думал, увернулась! Глаза-то сквозь куст смотрели, я думал, ее глаза. А она погибла. Так чьи же глаза тогда смотрели?»
Голос Порнсена вернул Хэла к действительности.
– Сынок, мы, по-моему, говорили во гневе, а не по злому умыслу. Простим друг другу и ничего не скажем аззитам, когда вернемся на корабль.
– Если ты буверняк, то и я буверняк, – сказал Хэл.
И изумился, завидя слезы, стоящие в глазах Порнсена. И еще больше изумился, чуть не онемел, когда Порнсен вознамерился взять его под руку.
– Ах, сынок, если бы ты только знал, как я тебя люблю, как мне больно, когда приходится тебя наказывать!
– Верится с трудом, – сказал Хэл, отвернулся и зашагал навстречу Лопушку.
А в нечеловеческих круглых глазищах Лопушка тоже дрожали слезы. Но по иному поводу. Он был потрясен аварией и гибелью несчастного зверя. Однако с каждым шагом навстречу Хэлу его лицо прояснялось, и вот от слез не осталось и следа. Указательным пальцем правой руки Лопушок сотворил над собой знак круга.
Хэл уже знал, что это религиозный знак, которым жучи пользуются по любому поводу. Похоже, Лопушок на этот раз с его помощью снял с себя нервное напряжение. И тут же заулыбался отвратной усмешечкой жуков-кикимор. Раз-два – и у него уже великолепное настроение. Сверхподвижная нервная система, только и всего. Перемены даются легче легкого.
Лопушок остановился и спросил:
– Что, господа, дисгармония личностей? Несогласие, диспут, спор?
– Нет, – ответил Хэл. – Просто чересчур понервничали. Скажите, далеко ли до развалин? И передайте Движенечке: мне очень жаль, что колесница разбилась.
– Ах, не вешайте черепа, то есть головы! Движенечка готов построить, соорудить, изготовить новый и еще лучший самокат. Что относится, что касается, что имеется в виду, когда речь идет, заходит, ведется о пешем странствии, оно станет и будет приятно и полезно для душевного состояния. Всего-о… километр, да? Или немного больше, немного меньше, чем километр.
Хэл снял очки и маску и по примеру жучей бросил на сиденье колесницы. Подхватил свой чемоданчик из багажника позади заднего сиденья. А чемоданчик АХ'а оставил. Не без чувства вины, поскольку был приучен к роли Порнсенова «питомца», всегда и во всем готового услужить «опекуну».
– Пошел он на ВМ! – пробормотал Хэл и обратился к Лопушку. – Не боитесь, что машину обокрадут?
– Обо… что? – переспросил Лопушок в восторге от неслыханного прежде слова. – Что значит «обо-кра-дут»?
– Сделают предмет собственности одного лица предметом собственности другого без ведома и разрешения первого. Это деяние рассматривается законом как преступление.
– Пресс-тупление?
Хэл махнул рукой и зашагал по дороге. АХ, рассерженный и полученным отпором и открытым несоблюдением этикета со стороны «питомца», который вынуждает «опекуна» волочь собственный чемодан, крикнул вслед:
– Эй, ШПАГ, а не много ли на себя берешь?
Хэл даже не обернулся, только еще резвее зашагал по дороге. Крутая, по словечку подобранная отповедь, уже готовая сорваться с языка, вдруг сама собой рассыпалась в пепел: уголком глаза приметил Хэл сквозь зеленую листву будто блик белой кожи.
Всего лишь блик, мелькнуло – и нет. Словно белоперое птичье крыло прянуло. Может, и впрямь птица? Так ведь нет же птиц на Оздве, нет и никогда не было.
7
– Шье Ярроу, шье Ярроу. Уовеву, шье Ярроу.
Хэл проснулся. Не вдруг сообразил, где находится. По мере того, как ширились пределы яви, осознал, что находится в одной из мраморных комнат посреди вымершего города. Сквозь арочный дверной проем лился лунный свет, более яркий, чем на Земле. Он сиял на каком-то комочке, прилепившемся снизу к арке. И вдруг взблеснул на каком-то насекомом, пролетевшем под комочком. Вниз стрельнуло что-то длинное, тонкое, как падучая звезда, угодило в летуна и втянуло во внезапно открывшуюся черную пасть.
Это, не подпуская летучих паразитов, истово трудилась ящерица, которую одолжили землянам здешние смотрители-археологи.
Хэл повернул голову и глянул в окно в полуметре над собой. Там еще один мошколов деловито очищал проем от комарья, норовящего пробраться внутрь.
Зов вроде бы прозвучал из-за этого мерцающего лунным светом аквариума. Хэл навострил уши, словно понуждая тишину снова подать голос. Но тишина от этого сделалась еще царственней, чем была. И вдруг разразилась раскатистой хриплой трелью и могучим сопением прямо за спиной у Хэла, отчего его, беднягу, подбросило и на лету перевернуло. В дверном проеме замерла тварь размером с енота. Это было одно из квазинасекомых, так называемый жук-ме шочник, ведущий ночной образ жизни. Таких членистоногих на Земле не знали. Его ткани получали кислород не через трахеи и систему дыхательных трубок, как у двоюродных братьев с Земли. У него в задней части головного отдела имелась пара эластичных мешков, как у лягушек. Раздуваясь и опадая, мешки производили сопящий звук.
Вид у жука-мешочника был точь-в-точь как у свирепого богомола, но Лопушок предупредил, что эти существа неопасны. И поэтому Хэл не почувствовал страха.
Ударил пронзительный, дребезжащий звон. Порнсен, мирно спавший у противоположной стены, вскочил и сел на раскладушке. Завидя насекомое, истошно взвизгнул. Жука-мешочника как ветром сдуло. И звон, исходивший от браслетки на запястье Порнсена, тут же оборвался.
Порнсен рухнул на раскладушку. И простонал:
– В шестой раз меня будит, свистун окаянный!
– Выключили бы браслетку, – буркнул Хэл.
– Нельзя. Я засну, а ты тайком шмыг из комнаты и выплеснешь семя на землю, – ответил Порнсен.
– Не имеете права мне такой антиистиннизм приписывать, – отозвался Хэл. Но отозвался без злости, по заученной привычке. Потому что думал о шепоте, от которого проснулся.
– Как Впередник говорит? Всяк не без упрека, – пробормотал Порнсен. Вздохнул и, проваливаясь в сон, зачастил: – Интересно, а вправду ли… сам Впередник будто бы здесь… наблюдает… он же предсказал… а-а-ах-у-у…
Хэл сел, спустил ноги на пол и замер, дожидаясь, покуда Порнсен не начнет посапывать спокойно и мерно. Клюнул носом, веки смыкались. Наверняка этот нежный шепоток, эти слова, ни земные, ни оздвийские, причудились в мысленном предначертании. Уж не иначе. Человеческий был шепоток, а из «хомо сапиенс» на две сотни миль в любую сторону единственные особи – он да АХ.
Но ведь шепоток был женский! Сигмен великий! Женский голос. Не Мэри. Не то, что голоса Мэри – имени ее вовек больше не слышать бы! Единственной женщины, которая вообще – ну, пора уж храбрости набраться и сказать эти слова! – с ним спала. Прискорбная, отвратная, унизительная пытка. Но разве отнято желание – хоть бы не было здесь Впередника мысли Хэловы читать! – встретить другую женщину, женщину, способную дать подлинный восторг, а не приевшуюся пустоту от излияния семени, помоги Впередник!
– Шье Ярроу! Уовеву. Сэ мва. Жнет Кастинья. Ктаде охвнетк.
Хэл медленно встал с раскладушки. Затылок похолодел. Шепот доносился из-за окна. Глянул – в хрустальном коробе из лунного света, каким явилось окно, заключено было изображение женской головы. И вдруг словно обрушился светлый короб водопадом. Струи лунного света хлынули по лилейным плечам. Голова кивнула, белизна пальца пересекла черноту губ.
– Бук уомук ту бо жук. Э'уте'х. Сииланс. Уене'х. Уит, сильуупфлэ.
Одеревеневший, но покорный, будто напичканный гипнотиком, Хэл мелкими шажками двинулся к дверному проему. Но не то чтобы уж вовсе без памяти – с оглядкой, спит ли Порнсен, как прежде спал.
Чуть не одолел заученный рефлекс: был порыв разбудить АХ'а. Даже рука потянулась, но Хэл удер жал руку. Чей шанс? Его шанс, Хэла. Торопливость и страх в голосе женщины подсказали, что та в нужде и отчаянии. И зовет она именно его, а не какого-то Порнсена.
А что сказал бы, что сделал бы Порнсен, узнай он, что тут, за стенкой, совсем рядышком, находится женщина?
Женщина? Да не может здесь быть никаких женщин!
Но что-то знакомое было в самом звуке ее слов. Странное чувство – будто бы он знает этот язык. Должен знать. И все же не знает.
Замер на месте. Соображать же надо! Если Порнсен проснется и глянет, на месте ли «возлюбленный питомец», то… Вернулся к раскладушке, подхватил с пола чемоданчик, сунул под простыню, которую дали археологи. Сунул туда же куртку. Воротник свернул комком на подушке. Только в великом сонном беспамятстве мог бы Порнсен принять этот темный ком на подушке и чемоданишко под простыней за спящего Хэла.
Босиком, бесшумно, двинулся к дверному проему. Посреди него на полу стояла статуэтка архангела Гавриила высотой сантиметров в восемьдесят, крылья полураспущены, меч в деснице высоко поднят над головой.
Стоит чему-нибудь покрупнее мыши оказаться в полуметре от статуэтки, это почует излучаемое ею поле, и на серебряный браслет вокруг запястья Порнсена пойдет сигнал. И поднимется трезвон – как это уже было, когда явился жук-мешочник, – и вскочит Порнсен, как бы крепко ни спал.
И не только в расчете на непрошенных гостей поставлена была статуэточка. Верное средство не дозволить Хэлу выйти наружу без ведома АХ'а. Не отель, удобств при спальнях здесь нет, так что единственной причиной для выхода могла быть только малая или большая нужда. Ну что ж, проводил бы Порнсен, присмотрел бы, чтобы Хэл этим делом и ограничился.
Осмотревшись, Хэл подхватил мухобойку. У нее была метровой длины рукоять из какого-то гибкого дерева. Стараясь, чтобы рука не дрожала, Хэл плавно оттолкнул статуэтку вбок концом рукояти. Осторожненько, чтобы не перевернулась, а то падение мигом включило бы сигнал тревоги. К счастью, здесь с пола был убран накопившийся за века мусор. И сам пол был гладкий, отполированный тысячами ног.
Выбравшись наружу, Хэл аккуратно подвинул статуэтку на место. Сердце билось – как шальное – и от возни со статуэткой, и от предстоящей встречи с незнакомкой. Он шагнул за угол.
И увидел, что женщина метнулась от окна в тень статуи коленопреклоненной богини, метрах в сорока в стороне. Направился к ней и тут увидел, почему она спряталась. Навстречу ковылял Лопушок. Хэл ускорил шаг. Надо было перехватить жучу, прежде чем тот заметит женщину и прежде чем подойдет так близко, что их голоса потревожат сон Порнсена.
– Шалом, алоха, добрых мысленных предначертаний, да возлюбит вас Сигмен! – сказал Лопушок. – Вид у вас тревожный, обеспокоенный, нервный. Это из-за вчерашней аварии?
– Нет. Просто не спится. И охота полюбоваться этими руинами при лунном свете.
– Они великолепны, прекрасны, загадочны и немного печальны, – сказал Лопушок. – Рождают, навевают мысли о многих поколениях, которые жили, обитали здесь. Они рождались, играли, смеялись, плакали, страдали, давали рождение следующему и умирали. Все скончались, все умерли, все миновали, все обратились в прах. Ах, Хэл, от этого на глазах у меня слезы, а в мыслях предчувствие собственной доли.
Лопушок извлек из сумы носовой платок и шумно прочистил нос.
Ну и видок! И все же как человечно – хоть и не во всем – выглядело это чудище, этот уроженец Оздвы. Оздва. Неспецу не понять, что за слово такое, а у этого слова своя история. Какая? А такая: первооткрыватель планеты, впервые завидя туземца, говорят, воскликнул: «Это же Оз-2!»
Оно и впрямь. Аборигены напоминали профессора Жука Кикимору из книги Фрэнка Баума. Дородные округлые тела и непропорционально тонкие члены. Рты, похожие на две римские пятерки, вложенные одна в другую. Губы толстые, дольчатые. По правде говоря, у жука-кикиморы четыре губы, каждое плечико обеих «пятерок» в месте соединения отделяется глубокой прорезью. Много стадий тому назад по пути эволюции эти губы были ногочелюстями. Модифицировались, превратились в рудиментарные органы, стали выглядеть точь-в-точь как лабиальные отделы, даже функционируют так же. Откуда произошли, не догадаешься, сколько ни разглядывай. А уж как засмеется туземец, как их раздвинет, так земляне приседают со страху. Зубов нет, вместо них зазубренные пилы челюстных валиков. А за ними, в задней части ротовой полости, – серый кожаный занавес. По происхождению – надглотка, а теперь рудиментарный верхний язычок. Именно этот орган придает многим оздвийским звукам раскат на основном тоне, который землянам так трудно воспроизвести.
Эпителий у них на лице – отчасти с пигментацией, как у рыжеволосого Хэла. Но где у Хэла краснина, там у жучей зеленоватый оттенок. В их кровяных тельцах кислород переносят не атомы железа, а атомы меди. Так они говорят. Но дать землянам образцы крови на исследование туземцы все еще отказываются. Хотя и обещают, что в течение ближайших четырех-пяти недель вопрос может быть решен положительно. Как было заявлено, их останавливают религиозные запреты. Если им будут даны твердые гарантии, что земляне не станут употреблять эту кровь в пищу, если будет предложена всесторонняя и четкая проверка исполнения, не исключено удовлетворение запроса пришельцев.
Макнефф подозревал, что это одни отговорки и чистая ложь, но приходилось соглашаться. Не рассказывать же оздвийцам, зачем нужны образцы их крови!
Использование меди вместо железа в качестве переносчика кислорода, по идее, означает солидное преимущество землян перед оздвийцами в физической силе. Медь как переносчик менее энергоспособна. Но матушка-природа предусмотрела компенсирующие механизмы. У Лопушка два сердца, темп их работы выше, чем, скажем, у Хэлова, так что суммарный кровообмен оказывается интенсивнее, чем у землян.
И тем не менее, чемпион-марафонец этой планеты явно не поспеет за чемпионом-землянином.
Хэл раздобылся книгой по проблемам здешней теории эволюции. Но прочесть ее толком еще не мог, приходилось удовлетворяться рассматриванием картинок. Правда, жуча кое-какие из них растолковывал.
Хэл находил Лопушковы резоны невероятными.
– Вы говорите, что млекопитающие произошли от морских червей. Но это же неверно! Мы знаем, что первыми на сушу вышли земноводные. Их плавники развились в конечности. Постепенно они потеряли способность извлекать кислород, растворенный в морской воде. Они дали начало пресмыкающимся, от пресмыкающихся пошли примитивные млекопитающие, сначала насекомоядные, потом полуобезьяны, обезьяны, разумные прямоходящие и – в конце концов – современный человек!
– Ах вот как, – невозмутимо отвечал Лопушок. – Не спорю, не возражаю, все в точности так и было, как вы говорите, молвите. Но на Земле. А здесь эволюция шла, развивалась по другому пути. Имелось три древнейших рода «себатакуфу», то есть «червематок» с разными составами крови. У одних переносчиком кислорода служил атом железа, у других – атом меди, а у третьих – атом ванадия. Первые имели естественное преимущество перед двумя другими, но по некоторым причинам господствовали только здесь, на южном материке, а не на северном. Есть свидетельства, что эти первые расщепились на две линии, обе привели к хордовым, но только одна – к млекопитающим. Но у червематок всех трех родов были плавники, которые развились в конечности. И…
– Но эволюция не могла идти таким путем! – перебивал Хэл. – Ваши ученые совершают серьезнейшую, прискорбнейшую ошибку! Правда, ваша палеонтология находится в самом начале пути, ей едва исполнилось сто лет.
– Вы геоцентрист, – сокрушался Лопушок. – Убогий геоцентрист. У вас малокровное воображение. Ваша мысль следует раз-навсегда проторенному пути. Вы не хотите принять в расчет, что во Вселенной возможны миллиарды пригодных для жизни планет, причем на каждой эволюции открыт свой путь, иногда схожий с вашим, а иногда совершенно отличный. Великая богиня экспериментирует. Ей скучно было бы воспроизводить одно и то же одним и тем же способом. Как и вам, не так ли?
Хэл был убежден, что жучи ошибаются. Увы, им, кажется, не дожить до просвещения от высшей и старшей науки земного Союза ВВЗ…
Лопушок вышел на ночную прогулку без шапочки с двумя бутафорскими длинными сяжками, символом его принадлежности к клану Кузнечиков. С одной стороны, это как бы уменьшало его сходство с профессором Жуком Кикиморой, но, с другой стороны, лысое предтемя и жесткий крученый белый вихор на затемени как бы увеличивали подобие. А еще больше усиливал подобие потешно длинный нос без переносицы, торчащий вперед. В его хряще были укрыты два сяжка, органы обоняния Лопушка.
Восклицание того землянина при первом взгляде на оздвийца было вполне оправданно, если в действительности было произнесено. А вот это-то и сомнительно. Во-первых, потому, что на жаргоне космонавтов словом «Оз-2» называли Землю-матушку. И, во-вторых, потому, что, даже подумай так тот мужик из первой экспедиции, он скорее подавился бы этим словечком. Книги о Стране Оз в Союзе ВВЗ были под запретом, и само это название можно было узнать и запомнить, лишь читая то, что случайно куплено у подпольного книгоноши. Может, так оно и было. А как иначе объяснишь? А как еще тому космачику, что рассказал об этой легенде Хэлу, дознаться было, что есть на свете такое название – «Страна Оз»? Сочинителю этой истории начихать было, додумаются или не додумаются власти, что он почитывает запретные книжки. Добрая или худая, а такая уж за космачиками слава, что им море по колено и Госуцерквство не указ, чуть они за порог родной планеты…
Только тут Хэл обратил внимание, насчет чего любопытствует Лопушок.
– Господин Порнсен, когда он сердится, гневается, ярится, называет, именует вас ШПАГ'ом. Что значит, что подразумевает это слово?
– Так называют человека, который, не будучи специалистом ни в одной из наук, ориентируется во многих. В сущности, это официальное лицо, через которое осуществляется связь между различными учеными и правительственными инстанциями. Мне вверяется суммирование и обобщение текущей научной информации и предоставление ее властям, – сказал Хэл.
И украдкой глянул на статую.
Женщины не было видно.
– Наука настолько разобщена, – продолжил он, – что вразумительное общение даже между учеными в одной и той же области весьма затруднено. Каждый такой ученый обладает глубочайшими познаниями в своей узкой области. Но по вертикали, а не по горизонтали. Чем больше он знает по своей теме, тем меньше обращает внимание на то, что делают другие в соседних областях. У него нет времени читать всеподавляющий потоп научных статей даже отчасти. Дело дошло до того, что один врач лечит насморк в правой ноздре, а по поводу насморка в левой надо обращаться к другому.
Лопушок в ужасе всплеснул руками.
– Но так же наука зайдет в тупик! Понимаю вашу обеспокоенность.
– Что касается врачей, то да, – сказал Хэл, силясь изобразить улыбку. – Но не так уж я беспокоюсь. Никуда не деться, наука сейчас не развивается в геометрической прогрессии, как развивалась когда-то. В мире науки сказываются недостаток времени и недостаток общения. Ученому в его исследованиях не могут помочь открытия в других областях, поскольку он попросту о них не знает.
Из-за пьедестала статуи высунулась голова и тут же скрылась. Хэла бросило в пот.
А Лопушок уже пустился в расспросы по поводу учения Впередника. Хэл помрачнел: приходилось делать вид, что кое-чего не расслышал, не понял, чувствуя себя, как уж на сковородке. Жуча был логичен, не более того, а вот именно логикой Хэл никогда не поверял того, чему учили его уриелиты.
В конце концов он сказал:
– Большинство людей способно перемещаться во времени лишь субъективно, и только Впереднику, его ученику-изменнику Обратнику и жене Обратника дано перемещаться объективно, это бесспорная истина, – вот все, что я могу вам сказать. В том, что это истина, меня убеждают те предвидения, которые сделал Впередник и каждое из которых осуществилось. И…
– Каждое?
– Кроме одного-единственного. Которое тем самым должно быть отнесено к антиистинным, к псевдобудущему, считается хитрой вставкой Обратника в «Талмуд Запада».
– Каким образом вы определяете, что предвидения, которые еще не осуществились, в свою очередь не являются такими же ложными вставками?
– Такой методики у нас нет. Приходится ждать, пока наступит срок осуществления. И тогда… Лопушок улыбнулся и сказал:
– И тогда, если предвидение не исполнится, вы сделаете вывод, что оно написано и вставлено в текст Обратником?
– До недавнего времени это было так. Но уриелиты вот уже несколько лет разрабатывают метод, который, по их словам, может доказательно подтвердить ложность или истинность предсказания будущих событий путем внутреннего исследования текста. Когда мы покидали Землю, буквально с часу на час ожидалось, что этот непреложный метод будет открыт. Но прежде возвращения на Землю мы об этом не узнаем.
– Ощущаю и чувствую, что эта беседа вам не по нраву, – сказал Лопушок. – Возможно и вероятно, мы продолжим ее в другой раз. Скажите, что вы думаете о развалинах и руинах?
– Здесь очень интересно. Конечно, в личном плане, поскольку исчезнувший народ относился к млекопитающим, очень похожим на нас, на землян. Мне никак не представить себе, почему они так внезапно и почти полностью погибли. Будь они похожи на нас, а по-видимому, это так и было, им следовало бы процветать.
– Они были разложившимся, сварливым, алчным, кровожадным племенем, склонным к самоистреблению, – сказал Лопушок. – Хотя, без сомнения, среди них было много замечательных личностей. Сомнительно, что они погибли из-за междоусобиц. Точно так же сомнительно, что их погубило эпидемическое заболевание. Возможно, мы когда-нибудь дознаемся, как было дело. А сейчас я устал, утомился и собираюсь отправиться, пойти в постель.
– А мне не спится. Если не возражаете, я поброжу по окрестностям. Эти руины при ярком лунном свете изумительно красивы.
– Они будят в памяти, воскрешают в душе стихи нашего великого поэта Шомера. Если я припомню как следует, если сумею перевести, переложить на американский, я вам их обязательно прочту, продекламирую.
Лопушок зевнул.
– Пойду-ка я, отправлюсь-ка я спать, отдыхать, почивать в объятиях Морфея. Но есть ли, имеется ли у вас снаряжение, вооружение, чтобы защититься, отбиться от невиданных, неведомых тварей, которые, рыщут, шастают по ночам?
– Мне разрешено носить нож. Вот тут, за голенищем, – сказал Хэл.
Лопушок порылся у себя в суме и вытащил револьвер. Подал Хэлу и сказал:
– Вот берите, возьмите. Надеюсь, он вам не пригодится, не понадобится, но кто знает, кто ведает? Мы живем, обитаем в диком, хищном мире, друг мой. Особенно вдали от городов, от поселений.
Хэл с любопытством осмотрел оружие. Такое уже доводилось видеть в Сиддо. Чем-то оно напоминало облегченные автоматы на «Гаврииле», но было в нем очарование неземного. Пожалуй, больше всего оно напоминало древние стальные револьверы Земли. Шестигранный ствол длиной сантиметров в тридцать, диаметром миллиметров в десять. Поворотный барабан на пять латунных патронов со свинцовыми пулями, заряженных черным порохом и снабженных капсюлями ударного действия, скорее всего, начиненными гремучей ртутью. В отличие от земных, у револьвера не было курка. Чтобы боек ударил по донышку гильзы, надо было пальцем освободить боевую пружину.
Хотелось разобраться, каким образом действует механизм поворота барабана при обратном ходе бойка. Но желательно было как можно скорее спровадить Лопушка куда-нибудь подальше.
И все же Хэл не удержался от вопроса, почему сиддийцы не пользуются курком. Вопрос удивил Лопушка. Выслушав объяснения Хэла, Лопушок моргнул круглыми глазищами (зрелище причудливое и поначалу устрашающее, потому что моргал Лопушок нижним веком) и сказал:
– В голову не приходило. Похоже, курок действует лучше и не требует такого усилия от стрелка, как наша механика. Ведь и верно!
– Самоочевидно, – ответил Хэл. – Но я землянин и рассуждаю как землянин. Вы, оздвийцы, не обо всем судите так, как мы, я это заметил и отчасти дивлюсь.
Вернул оружие Лопушку и добавил:
– Сожалею, но принять не могу. Мне запрещено пользоваться огнестрельным оружием.
Лопушок явно удивился. Но не счел своевременным выяснять, как да что. К тому же, сон одолевал.
– Замечательно, великолепно, – сказал он. – Шалом, алоха, приятных снов, да посетит вас Сигмен.
– И вам шалом, – ответил Хэл. Проводил взглядом широкую спину жучи, исчезающую в тени, и охватило теплое чувство к этому существу. При том, что Оно было чуждо и не похоже на человека, Хэла влекло к Лопушку.
Он повернулся и зашагал к статуе Великой праматери. Когда вошел в тень, увидел женщину, сколь знувшую в темноту у трехъярусной груды камней. Последовал за ней и наконец увидел ее неподалеку, прильнувшую к пьедесталу. За нею был пруд, блиставший при лунном свете червленым серебром.
Их разделяло метров пять, когда женщина произнесла тихим гортанным голосом:
– Босвак, шье Ярроу.
– Босвак, – повторил он, сообразив, что это, должно быть, приветствие на ее языке.
– Босвак, – еще раз сказала она, а затем, очевидным образом переводя это слово на сиддийский, чтобы ему было понятнее, произнесла: – Абхуума-игейтсии.
Что значило приблизительно «добрый вечер».
Хэл так и замер с открытым ртом.
8
Ну, конечно же! Теперь он понял, почему слова женщины звучали так неопределенно знакомо, почему ритм ее речи так напоминал что-то известное с незапамятных времен. Вспомнилось лингвистическое дознание, которое он вел в крошечной общине последних франкоязычных обитателей заповедника Гудзонова залива.
Босвак. «Босвак» – это же «бон суар»!
Хотя речь женщины, выражаясь языком лингвиста, была вырожденной формой, ее происхождение было очевидно. Босвак! А те слова, которые он слышал из-за окна? «Уовеву»! Это же «левеву», по-французски «встаньте».
«Шье» Ярроу. «Шье» – уж не «мсье» ли это? Начальное «м» отпало, французское «с» перешло во что-то близкое к американскому «ш». Наверняка. В этом выродившемся французском были и другие перемены. Усилилось придыхание. Сместились гласные. Исчезли носовые звуки. Разбрелись согласные. «К» перед гласной перешло в замыкание гортани. «Р» перешло в «к», «п» – в «пф», «ф» сместилось в звук, подобный «хв», «л» перед гласной превратилось в «у». Что еще? Должна была произойти трансмутация – смещение смысла слов, должны были возникнуть новые слова взамен старых.
Но, тем не менее, это был отчетливо различимый французский язык.
– Босвак! – повторил он.
И подумал: «Нашли, что сказать! Встретились два человека в сорока с лишним световых годах от Земли! Мужчина, в своем восприятии год женщин не видавший, и женщина, может быть, одна-единственная на всю планету; она прячется, она себя не помнит от страха. И говорят друг дружке „добрый вечер“, и других слов подобрать не могут».
Он шагнул ближе. И бросило в жар от смятения. Чуть было не ударился бежать прочь. Ее белую кожу едва прикрывали две узенькие полоски ткани, одна на груди, другая изображала собой набедренную повязку. Такого он в жизни не видывал, разве что на запрещенных картинках.
И тут он увидел, что губы у нее накрашены. Смятение разом сменилось удушливым приступом страха. Точно такие же алые губки были у злобного чудовища, у жены Обратника.
Он с трудом справился с дрожью. Давайте рассудим здраво. Не может быть эта женщина самой Анной Ведминг, не могла она явиться из далекого прошлого на эту планету, чтобы соблазнить его и отвратить от истинной веры. Если бы она была Анной Ведминг, то не говорила бы на выродившемся французском языке. И не явилась бы такой мелкой сошке, как Хэл. Явилась бы верховному уриелиту Макнеффу.
Хэл лихорадочно рассмотрел вопрос о губной помаде с наивозможнейшей всесторонностью. Проповедь Впередника привела к исчезновению косметики. Ни одна женщина больше не смеет… Но это неправда. Косметикой не пользуются только в Союзе ВВЗ. У израильтян, у банту женщины красят губы. Впрочем, всякий знает, что это за женщины.
Он заставил себя сделать еще шаг навстречу и оказался так близко, что рассмотрел: злость губ природная, а не заемная. Гора с плеч свалилась. Нет, это не жена Обратника. Не на Земле рождена. Это оздвийский гоминид. На стенных фресках среди руин множество изображений женщин с алыми губами, и Лопушок говорил, что это у них отроду был такой яркий губной пигмент.
Ответы на один вопрос породили другой. Так почему же она говорит на земном языке, а вернее сказать, на языке, происходящем от земного? Причем от такого, какого на Земле давно не существует.
И тут всем вопросам пришел конец. Женщина приникла к нему, он обнял ее, неуклюже порываясь успокоить, потому что она рыдала. Рыдала и сыпала словами, понятными лишь с пятого на десятое, хоть каким-то боком и французскими.
Хэл попросил говорить помедленнее. Женщина примолкла, склонила голову на левое плечо, поправила волосы. Поза и жест, как он вскоре убедился, свойственные ей в минуту раздумья.
И начала сначала, тщательно выговаривая слова. Но вскоре опять застрочила, пухлые губы заходили, как два ярко-красных существа, от нее не зависящих, живущих собственной жизнью и следующих собственной цели.
От них нельзя было глаз отвесть.
Пристыженный, он все же с усилием отвел, поискал взглядом ее большие темные глаза, не нашел и успокоился на том, что видит ее лицо вполоборота к себе.
Она рассказывала свою историю, рассказывала бессвязно, повторяясь и возвращаясь к тому, с чего начала. Многих слов он не понял, но смысл уловил по содержанию. Понял, что ее зовут Жанетта Растиньяк. Что она с плоскогорья, расположенного в глубине материка. Что она и три ее сестры, насколько ей известно, последние, кто уцелел в их роду. Что ее изловила научная экспедиция жучей и хотела увезти в Сиддо. Что она совершила побег и с тех пор прячется в развалинах и в окрестном лесу. Что ей очень страшно, потому что по ночам в чаще рыщут какие-то ужасные звери. Что она питается дикими плодами и ягодами, или тем, что крадет у поселенцев на ближних хуторах. Что она увидела Хэла, когда он сбил колесницей антилопу. Да, то, что он принял за глаза антилопы, это были ее глаза.
– Откуда ты знаешь, как меня зовут? – спросил Хэл.
– Я шла следом и слышала, как тебя окликали. Сначала я ничего не могла разобрать. Потом поняла, что ты отзываешься на имя «Хэл Ярроу». Заучить это было проще простого. Ты и твой товарищ, вы очень похожи на моего папу, вы люди, и этого я никак не могла понять. Если вы и люди, то не с его планеты, не с Уобопфэйи, потому что говорите не на папином языке. А потом я подумала: «Ну, конечно же! Папа говорил, что его народ прибыл на Уобопфэйи с другой планеты, где много народов. Все правильно, значит, и вы с той планеты, с родины всех людей на свете!»
– Ничего не понимаю, – сказал Хэл. – Ты говоришь, что предки твоего отца здесь, на Оздве, пришельцы. Но об этом нет никаких сведений. Лопушок мне говорил…
– Нет-нет, ты не понял. Мой папа, Жан-Жак Растиньяк, сам родился на другой планете, на Уобопфэйи.
И прибыл сюда оттуда. Его предки пришли на Уобопфэйи очень издалека, с еще одной планеты, которая вращается вокруг дальней-предальней звезды.
– Так, значит, это были колонисты с Земли. Но об этом нет никаких сведений. По крайней мере, известных мне. Должно быть, они были французы. Но если это так, значит, они покинули Землю и отправились в межзвездное странствие свыше двухсот лет тому назад. И это были не канадские французы, потому что канадских французов после Апокалиптической битвы осталось совсем мало. Это были французы из Европы. А последний человек, который в Европе говорил по-французски, умер двести пятьдесят лет тому назад. И…
– Странно, неспфа? Я знаю только то, что говорил мне папа. Он говорил, что он и его товарищи с Уобопфэйи отправились на разведку и нашли нашу планету. Они спустились на наш материк, его товарищей поубивало, он встретил мою маму…
– Твою маму? Час от часу не легче, – простонал Хэл.
– Моя мама – здешняя. Ее народ всегда жил здесь. Он этот город построил. Он…
– А твой отец – землянин? И ты рождена от союза с оздвийским гоминидом? Этого не может быть! Хромосомы твоего отца и твоей матери несочетаемы.
– Не знаю я ни про какие хромосомы, – сказала Жанетта дрожащим голосом. – Вот я стою перед тобой, стою или нет? Я существую или нет? Мой папа лежал с моей мамой, и появилась я. Если можешь, скажи, что меня нет на свете.
– Но… но я же не имел в виду… Я имел… то есть, я полагал, – Хэл сбился, замолк и уставился на нее, не зная, что сказать.
А она всхлипнула. Обхватила его, повисла у него на плечах. Руки у нее были мягкие, гладкие, груди уперлись ему в ребра.
– Спаси меня, – срывающимся голосом сказала она. – Не могу я здесь больше. Возьми меня с собой. Забери отсюда.
Мысли взвились вихрем. Надо вернуться, прежде чем Порнсен проснется. Завтра он не сможет увидеть Жанетту, потому что рано утром придет гичка с корабля и заберет обоих землян. Что делать? И если придумается, что делать, как объяснить это Жанетте сию же минуту, не сходя с места.
И вдруг созрел план. Он вырос из другой мысли – мысли, глубоко затаенной в его уме. Мысли, которая зародилась еще до того, как «Гавриил» покинул Землю. Но смелости не хватало додумать эту мысль до конца. И вот явилась эта девушка, именно в ней он нуждался, чтобы вспыхнула решимость ступить на путь, с которого нет возврата.
– Жанетта, слушай! – страстно сказал он. – Жди меня здесь каждую ночь. Кто бы ни шастал во тьме, ты должна быть здесь. Не могу сказать, когда я смогу взять гичку и прилететь за тобой. Думаю, не позже, чем через три недели. И все равно жди. Жди! Я прилечу. И когда прилечу, всем страхам конец. По крайней мере, на какое-то время. Ты можешь? Можешь прятаться здесь? Можешь ждать?
Она кивнула и сказала на своем «хвканцузсом»:
– Вви.
9
Прошло две недели, и он сумел-таки вернуться. Гичка иголочкой проплыла над беломраморным зданием и, снижаясь на посадку, сверкнула при свете полной луны. Безмолвный, белесый, простирался внизу город, четырех – и шестигранники, цилиндры и пирамиды, похожие на кубики, разбросанные малолетним чадушком сверхгигантов, ушедшим спать, да так и не вернувшимся.
Хэл ступил на землю, глянул влево, глянул вправо и быстро зашагал к огромной арке. Обшарил сумрачный проем лучом фонарика, окликнул:
– Жанетта! Сэ мва. Тон ами. У э тю? Жанетта! Это я. Твой друг. Где ты?
И услышал лишь эхо от дальнего свода и стен.
Зашагал вниз по огромной лестнице, ведущей к царским гробницам. Луч заметался по ступеням и внезапно наткнулся на черно-белую женскую фигурку.
– Хэл! – крикнула Жанетта, разглядев, что это он. – Благодарение Великой матери в камне! Я каждую ночь ждала! Я знала, что ты придешь!
На длинных ресницах дрожали слезы; алые губы подрагивали, словно она с великим трудом удерживалась, чтобы не разрыдаться. Он хотел обнять ее, успокоить, но страх пробирал от одного взгляда на обнаженную женщину. Обнять – невозможно было и думать об этом! И, тем не менее, только об этом он и думал.
И, будто догадавшись, почему он замер на месте, она устремилась к нему и приникла головой к его груди. Подалась плечами вперед в порыве найти кров. И его руки сами сомкнулись в кольцо. Тело напряглось, кровь забурлила в жилах.
Но он разжал объятия и огляделся.
– Потом поговорим. Время дорого. Идем.
Она молча последовала за ним. Подойдя к гичке, замялась у дверцы. Он жестом поторопил ее подняться на борт и сесть рядом.
– Еще подумаешь, что я трусиха, – сказала она. – Но я в жизни не видела летающей машины. Оторваться от земли…
Он в недоумении воззрился на нее.
Оказалось, трудно понять поведение знать не знающих, каково летают.
– Полезай! – прикрикнул он.
Стараясь слушаться, она вскарабкалась и села в кресло второго пилота. Но не могла сдержать дрожи и робко окинула взглядом огромных карих глаз приборы перед собой и над головой.
Хэл глянул на наручный часофон.
– Десять минут до моей квартиры в городе. Минута, чтобы тебя туда забросить. Полминуты, чтобы вернуться на корабль. Четверть часа на доклад о результатах дня. Полминуты на возврат домой. Всего получаса не наберется. Неплохо.
И громко засмеялся.
– Я был бы здесь еще два дня назад, но пришлось выждать, пока все гички-автоматы разгонят по делу. Тут-то я и сделал вид, что забыл дома записи и должен спешно сгонять за ними. И взял гичку с ручным управлением, на которых ведут полевые исследования. Не будь дежурный офицер в запарке, фиг он мне разрешил бы.
И коснулся пальцем золотого знака на груди в виде еврейской буквы «Л».
– Видала? Это значит, что я один из тех, кто избран. Я детектор прошел.
А Жанетта уж и все свои страхи позабыла. При слабом свете от приборов на панели она подняла взгляд на Хэла. И ахнула:
– Хэл Ярроу, что с тобой сделали?
А Хэл был – краше в гроб кладут: щеки ввалились, одну из них судорогой свело, на другой четкий шрам от семихвостки, под глазами синие круги, на лбу сыпь, как после приступа лихорадки.
– Сумасшедшее дело, всякий скажет, – отозвался Хэл. – Сунул голову в пасть ко льву. Как видишь, не откусили. Кое-кому не по зубам оказался Хэл Ярроу, кое-кому теперь стоматолог нужен.
– Объясни, что случилось.
– Ты слушай. Не удивляет, почему это при мне Порнсена нет, почему это он мне святым духом в затылок не дышит? Не удивляет? Плохо ты нас знаешь. Есть только один способ получить вид на жительство вне корабля в Сиддо. Так, чтобы АХ не болтался рядом и за каждым шагом не следил. И чтобы тебя не оставить навечно в этих дебрях. Вот этого я уж никак не мог допустить.
Она погладила кончиком пальца складку от носа до уголка губ у него на лице. Обычно он от такого ежился, не выносил чужого прикосновения. А теперь даже не дернулся.
– Хэл, – ласково сказала она. – Мо шек.
В жар бросило. «Милый мой». Ну, а почему бы и нет?
Чтобы не поддаться хмелю от ее прикосновения, одно было средство – говорить без умолку.
– Только один способ был. Добровольно пойти на детектор.
– Уо дете'ток. Что это такое?
– Избавитель от АХ'а. Прошел детектор – значит, чист, значит, вне подозрений. По крайней мере, в теории. Ох, и всполошилось начальство, когда я подал бумагу! Чтобы хоть один ученый добровольно пошел, такое не в заводе. Иное дело – уриелиты или аззиты, у них другого средства пробиться в иерархи нет.
– Укиелиты? Аззиты?
– Ай! Попы да полицаи, так их испокон веку называли. Впередник переименовал. По прозваниям ангелов. В видах государства и церкви. В талмуде выискал. Ясно?
– Нет.
– Потом объясню. Короче, на детектор рвутся одни фанаты. Остальная толпа идет по принуждению. Уриелиты на мой успех не рассчитывали, однако закон есть закон: заявление есть – не допустить нельзя. Да и скучно им, поразвлечься охота. На их манер, на живодерный.
Невеселые воспоминания.
– Подал заявление, и назавтра велят мне в 23. 00 по корабельному явиться в психушник между спецслужбой и санчастью. Я перед этим заскочил к себе в каюту и достал из шкафчика пузырек с наклейкой «Витамин ясновидения». Порошок. По идее, на пейотле замешан. Гриб такой, наркотик жуткий, им когда-то знахари индейские пользовались.
– Не понимаю.
– А ты слушай. Главное схватишь. Этим «витаминчиком» предварительно пичкают там каждого. «Очищение» называется. На двое суток сажают под замок, жрать не дают, одни молитвы, электроплетка, и с голоду, да от этого «витаминчика» всякая дурь мерещится. Как будто ты хронопаломничество совершаешь.
– Не понимаю!
– «Не понимаю», «не понимаю»! Кончай ты эти свои «не понимаю»! Дуррология сплошная, времени нет объяснять. Я десять лет бился, чтобы все это по полочкам разложить. И вполовину не разложил. А спросить нельзя. Еще подумают, я усомнился. Но у меня-то в пузырьке совсем другой «витаминчик». Я его еще перед отлетом с Земли изготовил. Оттого-то так смело и попер на детектор. Оттого-то и не дрейфил до бессознания, как у них задумано. Хоть и обдрожался порядком. Уж поверь.
– Верю. Ты смелый. Ты поборол страх. От смущения в краску бросило. Впервые в жизни его похвалили.
– За месяц до отлета прочел я в одном журнале из тех, что мне читать положено, статеечку одного химика, как он синтезировал очередной препарат. Противовирусный. От марсианской лихорадки. А под статеечкой внизу – примечаньице. Мелкими буковками по-еврейски. Стало быть, автор понимал, что за мину закладывает.
– Пфукуа?
– Ах, «пуркуа»? А пуртуа, что написал по-еврейски, чтобы поняли только те, кому следует. О таких вещах вслух не говорят. В том примечании пропечатано, что у пораженных лихорадкой этой самой на блюдался иммунитет к гипнотику. И что поэтому уриелитам прежде испытаний на детекторе следует убеждаться, что испытуемый не является носителем вируса.
– Мне не уследить за мыслью, – сказала она.
– Могу и помедленнее. Гипнотик еще называют «сывороткой правды». Я сразу понял, где собака зарыта. В статье-то напрямую говорилось, что марсианскую лихорадку у испытуемых вызывали искусственным путем. Каким именно, не указано было, но в других журналах я быстро сыскал, что за препарат ее вызывает и как с ним обращаются. И подумал: если натуральная лихорадка дает иммунитет к гипнотику, то не даст ли того же и искусственная? Сказано – сделано. Я приготовил дозу, ввел себе препарат, ввел гипнотик и проверил, смогу ли врать тестеру. И вышло, что смог, хоть накачался гипнотиком будь здоров!
– Какой же ты умница! Как отлично придумал! – промурлыкала она.
И потрогала его бицепс. А он напряг руку. Чепуха, конечно, но так хотелось, чтобы его посчитали богатырем.
– Да чушь собачья! – сказал он. – Слепой и то разобрался бы. По правде сказать, не удивился бы, если бы того химика аззиты зацапали и дали указание срочно разработать новую «сыворотку правды». Может, так оно и было, но нас не коснулось. Поздно. Мы уже отбыли… В первые сутки обошлось без треволнений. Зарядили тест на двенадцать часов, сначала письменный, а потом устный. Сериализм. Дур-рова теория времени в развитии Сигмена. Не раз проходил. Пустяки, хоть и утомляет. На следующее утро встал пораньше, принял ванну, глотнул своего лжевитаминчика. Пожрать не дали, загнали в камеру. Двое суток провалялся там на койке. Лжевитаминчик ел и водичкой запивал. Кнопочку нажимал, электроплетку включал. Чем больше себе порки задаешь, тем больше к тебе доверия. Никаких видений мне не было. Лихорадкой перебил. Тут все чистенько. Если усекут, что реакция не та, можно сослаться, что у меня к «витамину ясновидения» нечувствительность. Такое редко, но бывает.
Глянул вниз. Внизу был лес, застывший в лунном свете. Кое-где светлые квадратики или шестиугольнички – огни на хуторах. Впереди забрезжила холмистая гряда, за которой притаился город.
– Так и отвалялся я свои двое суток «очищения», – продолжил Хэл, безотчетно ускоряя речь по мере приближения к городу. – Встал, оделся, церемониальную трапезу мне подали. Мед и акриды.
– Фу!
– А что? Кузнечики как кузнечики, особенно если с детства их жевать привык.
– Ой, кузнечики – это очень вкусно, – ответила она. – Я их столько раз ела. Но с медом! Меня стошнило бы.
Он пожал плечами. И сказал:
– Внимание! Гашу свет. Ложись на пол. Плащ накинь, маску надень. Сойдешь за жучу.
Она послушно соскользнула с сиденья. Потянувшись к выключателю, он глянул вниз. Она наклонилась, расправляя плащ, и стала видна линия ее великолепной груди. Соски были алые, как губы. Отвернулся, но образ так и стоял перед глазами. И проняло до глубины души. Но не от застенчивости, это Хэл при всем том понял. Застенчивость на время куда-то делась.
Не ко времени было, но он продолжил:
– И явился иерарх. Сам сандальфон Макнефф. Со свитой: богословы, дуррологи, психонейропараллелисты, вмешателисты, подкорковисты, хроноэнтрописты, псевдотемпоралисты, космообсервисты. Посадили меня на стульчик в фокусе модулирующего магнитодетекторного поля. Вогнали дозу гипнотика. Выключили свет, помолились за меня и давай распевать главы из «Талмуда Запада» и «Пересмотренного Святого писания». Один элохимметр светится…
– Эуо-имметк? Что это?
– «Элохим» – по-еврейски «бог». А «метр» – ну, вот эти штучки, – указал он на панель управления. – Только он здоровенный, круглый, стрелка с мою руку, на месте не стоит, туда-сюда мечется. И шкала еврейскими буквами размечена, считается, какой-то смысл за ними есть для тех, кто тест проводит. А все остальные – в этом деле полные тумаки. Но ведь я – то ШПАГ. У меня доступ есть ко всем книгам, в которых этот тест описан.
– И ты знал, как отвечать?
– Конечно. И все это ерунда, потому что гипнотик всю правду вытягивает… Но только не у тех, кто болен марсианской лихорадкой, без разницы, натуральной или искусственной.
Захохотал, но смех вышел лающий, невеселый.
– Под гипнотиком, Жанетта, вся грязь, все, в чем виноват делом или словом, вся ненависть к начальству, все сомнения в правдивости установлений Впередника – все поднимается из подсознания, как мыло со дна грязной ванны. Всплывает, скользкое, бессвязное, болтается с налипшей пакостью. А я сижу и на стрелку смотрю. Будто господу-богу в очи смотрю, Жанетта, ты можешь понять или не можешь? – и вру. Не перебрал, ни в коем случае. Чистеньким и правоверным не прикидывался. Признавался в мелких грешках. Чтобы стрелка ходила возле нужных букв. Но по серьезным делам отвечал так, словно жизнь от этого зависит. Поскольку зависит. И свои мысленные предначертания выкладывал, которых не было, – насчет субъективного хронопаломничества.
– Хко-но?..
– Да. Каждый во времени странствует, но субъективно. А Впередник – объективно. Только он, его первый ученик с женой, да несколько пророков из Писания. Так вот, предначертания мои – это, я скажу тебе, красотища была! Самое то, что они хотели слышать. И под конец я им выдал, что Впередник пожалует на Оздву для личной беседы с сандальфоном Макнеффом. И что произойдет это ровно через год.
– Ой, Хэл, зачем же ты так-то уж? – вздохнула она.
– А затем, ма шер, что теперь экспедиция, как пить дать, отсидит на Оздве целый год. Разве можно упустить шанс узреть Сигмена во плоти, как он странствует во времени, куда душе угодно? Или шанс доказать, что это вранье. Имею в виду, мое. Брехня капитальная, но зато нам с тобой обеспечена отсрочка на год.
– А потом?
– А потом – там видно будет.
Гортанный голос промурлыкал из темноты снизу:
– И все это ты сделал ради меня…
Хэл не ответил. Сосредоточился, чтобы вести гичку на бреющем полете. Справа-слева мелькали громады зданий, разделенные широкими промежутками парковой зелени. С разгону чуть не проскочил похо жий на замок дом, где жил Лопушок. Трехэтажный, средневекового вида, с зубчатыми башенками и каменными водостоками в виде голов зверей и насекомых, торчащих из ниш, этот дом стоял в сотне метров от ближайших зданий. Чего-чего, а простора в городах жучей хватало.
Жанетта надела ночную маску с длинным носом; дверца гички распахнулась; они бегом пересекли тротуар и скрылись в доме. Пронеслись через парадную, взбежали на второй этаж и только там помедлили, пока Хэл нашаривал в карманах ключ. Замок делал слесарь-жуча, а врезал плотник-жуча. Корабельному плотнику Хэл не доверился, тот мог тайком изготовить дубликаты ключей.
Наконец, ключ нашелся, но теперь никак не лез в скважину. И, сражаясь с замком, Хэл изрядно попыхтел. Когда дверь открылась, чуть не втолкнул Жанетту в прихожую. А Жанетта тем временем сняла маску.
– Постой, Хэл, – сказала она, не поддавшись толчку. – Ты, по-моему, что-то позабыл. – Ой, Впередник! Что-нибудь важное?
– Нет. Просто я думала, у землян есть обычай переносить невесту через порог на руках. Так мне папа говорил.
Улыбнулась и потупилась.
У Хэла челюсть отпала. Невесту! Ничего себе заявочки!
Но времени на споры не было. Не говоря ни слова, подхватил ее на руки, внес в квартиру. Поставил ногами на пол и сказал:
– Вернусь, как управлюсь. Если кто-то постучится или ломиться начнет, спрячься вот здесь, в тайнике, мне его жуча-плотник в чулане спроворил. И носа оттуда не смей показывать, покуда не убедишься, что это я.
Она с силой обняла его, расцеловала.
– Мо шек, ма гууак, мо эпфус!
Спешить, спешить надо. Не до речей, не до ответных поцелуев. Смутно ощутилась несообразность, неприложимость ее слов к собственной особи. Если не напутал с переводом с изуродованного французского, его назвали «дорогим и доблестным супругом».
Повернувшись на пятке, запер за собой, но все же успел разглядеть при свете лампы в прихожей белое лицо под капюшоном плаща. И алые губы.
Аж все внутри заходило. Нет, Жанетта явно не из тех фригидных спутниц жизни, которыми Госуцерквство так привселюдно восторгается.
10
А на «Гаврииле» пришлось проторчать целый час, потому что сандальфон возжаждал подробностей насчет пророчества о встрече с Сигменом. Затем надо было надиктовать разведдонесение за день. Только потом вызвал матроса-водителя для доставки гичкой на квартиру. И по пути к причалу нос к носу сошелся с Порнсеном.
– Шалом, авва, – сказал Хэл.
Ухмыльнулся, прошелся костяшками пальцев по «ламеду» на груди.
Правое плечо у АХ'а обвисло ниже, чем обычно, весь он был ни дать ни взять – флаг в момент капитуляции. Уж теперь-то если кому-то кнутиком помахивать, то не ему, а Хэлу.
Хэл выпятил грудь колесом и шагнул было мимо, но Порнсен окликнул:
– Минутку, сынок. Ты в город?
– Буверняк.
– Буверняк. Я с тобой. У меня квартира в том же доме. Этажом выше твоей, как раз напротив Лопушка.
Хэл разинул рот, захлопнул рот. Настал черед улыбаться Порнсену. А тот зашагал вперед как ни в чем не бывало. Хэл, поджав губы, двинулся следом. Неужто АХ проследил и засек его с Жанеттой? Нет. Если бы засек, заарестовал бы не сходя с места.
Просто душонка мелкая у АХ'а. Знает, что на-брыдло Хэлу на него глядеть, знает, что, торча по соседству, отравит бывшему «питомцу» всю радость безнадзорной свободы.
Чуть не вслух повторил Хэл старую поговорку: «У АХ'а сам бог не отнимет».
Возле гички ждал матрос. Молча сели, молча провалились в ночной мрак.
Сойдя на тротуар у дома, Хэл нарочно зашагал пошире, чтобы войти первым. Слабенькое, а все же доставил себе удовольствие: показал, что прежним порядкам конец, и выразил презрение.
У своей двери приостановился. Порнсен семенил сзади, помалкивал. Мелькнула сатанинская мысль, и Хэл окликнул:
– Авва!
Успевший пройти вперед Порнсен оглянулся.
– Что?
– Не желаете ли заглянуть, убедиться, что я там никаких баб не прячу?
Порнсен побагровел, зажмурился, пошатнулся, зашелся от ярости. А потом вытаращился и в полный голос выложил:
– Слушай, Ярроу! Ты самая антиистинная личность из всех, что я видывал! Мне нету дела, как ты там ладишь с иерархией! У меня свои глаза есть, и этими глазами я вижу: ты в упор не буверняк. Ты оборотень. Прежде был скромненький, послушненький. А теперь ведешь себя, как хам!
Хэл в ответ начал спокойно, а потом не сдержался и тоже во весь голос выдал:
– Не так давно ты мне расписывал, какая я бяка со дня рождения. И вдруг выходит, я пример образцового поведения, один из тех, кто гордость Госуцер квства, уж извини, так говорится. А по-моему, так я всегда был образцового поведения. Это ты был и есть прилипучий, свербучий, вонючий прыщ на жопе Госуцерквства, сорочьи твои мозги, давить бы тебя, пока не лопнешь!
Даже дух захватило. Сердце грохотало, как молот, в ушах шумело, в глазах все плыло.
Порнсен попятился, ручки перед собой выставил.
– Хэл Ярроу, Хэл Ярроу! Возьми себя в руки. Спаси Впередник, до чего же ты меня ненавидишь! А я все эти годы думал, что ты меня любишь, что я твой возлюбленный АХ, а ты мой любимый питомец! А ты меня ненавидел. За что?
Шум в ушах стих, в глазах посветлело.
– Ты что, ты всерьез?
– Еще бы! Я ночей не досыпал! Все, что делал, делал ради тебя. Когда наказывал, сердце разрывалось. Но я заставлял себя, я твердил: это для твоего блага…
Хэл расхохотался. И хохотал, покуда Порнсен не исчез этажом выше, явив напоследок побледневшее лицо.
Обессиленный, дрожащий, Хэл обернулся к своей двери. Вот уж этого он никак не ожидал. До глубины души был уверен: Порнсен им брезгует, монстром считает, выродком упрямым, и наслаждается, когда наводит плетью укорот.
Даже головой помотал. Наверняка АХ перепугался, не знает, как теперь оправдываться перед «ламедником».
Отпер, вошел. А в голове только одно звенело: «А все Жанетта, это она придала смелости на такие речи». Без нее он был ничто, затравленный зайчонок. А при ней – всего нескольких часов хватило, и нашлись силы одолеть многолетнюю свычку по струночке ходить.
Включил свет в прихожей. Сквозь гостиную стала видна закрытая дверь кухни. Оттуда доносился лязг кастрюль. Потянул ноздрями.
Жареное мясо! Вот здорово!
И нахмурился. Сказано же ей было: «До моего прихода прячься!» А если бы это был не он, а если бы это был какой-нибудь жуча или аззит?..
Отворил дверь на кухню – петли взвизгнули. Увидел Жанетту сзади. От жалобного звука несмазанного железа ее винтом подбросило. Лопаточку уронила, ладошкой рот себе зажала.
Сердитые слова на губах сами растаяли. Еще расплачется, если напустишься, и что тогда делать прикажете?
– Ах, как ты меня напугал! Он буркнул ни то ни се и мимо нее прошел под крышки на кастрюлях заглянуть.
– Ты пойми, – сказала она дрожащим голосом, словно распознала, что он сердится, и теперь оправдывалась. – Я натерпелась страху, что поймают, и теперь от любого шороха шарахаюсь. Чуть что, я сама не своя, готова бежать сломя голову.
– V, жучи, будь они неладны, отвели мне глаза, – кисло сказал Хэл. – Строят из себя, что мухи не обидят, а сами…
Она глянула на него искоса, самыми уголками больших карих глаз. Зарумянилась, улыбнулась алыми губами.
– Ой, они не злые. Они и впрямь добрые. Все, что хочешь, мне давали, кроме свободы. Боялись, что я к сестрам вернусь.
– А им-то что за дело?
– Ой, они, знаешь, чего боятся? Что в джунглях сыщутся наши мужчины и, того гляди, я им детей нарожаю. Они ужасно боятся, что мой народ снова умножится, наберется сил и пойдет на них войной. Они воевать не любят.
– Странные существа, – сказал он. – Но где нам понять тех, кто истин Впередника не познал. И кроме того, они ближе к насекомым, чем к людям.
– Быть человеком – еще не обязательно значит быть лучше, – сказала Жанетта, не без задиристости сказала.
– Всем божьим тварям назначено место во Вселенной, – ответил он. – Но место человека всегда и повсюду. Ему вольно занять любое положение в пространстве и посягнуть на что угодно во времени. И если ради этого доводится обездолить любое другое существо, все равно человек прав.
– Впередника цитируешь?
– Буверняк.
– Предположим, что так. Предположим. Но что такое человек? Разумное существо. Жуча – разумное существо. Значит, жуча – человек. Неспфа?
– Буверняк или почти буверняк, давай не будем спорить. Давай лучше поедим.
– А я и не спорила, – улыбнулась она. – Сейчас на стол накрою. Посмотришь, что я за стряпуха. Спорим, что тут споров не будет.
Тарелки были расставлены, оба сели за стол. Хэл поставил локти на краешек стола, сомкнул ладони, потупился и произнес молитву:
– Айзек Сигмен, иже путь нам пролагаешь, да пребудь истина в имени твоем, благодарим тебя за безусловное сотворение благого настоящего из неисповедимости грядущего. Благодарим за пищу, которую ты осуществил из возможного. Надеемся и верим, что ты сокрушишь Обратника, всегда и повсюду предотвратишь его коварные искания сотрясти прошлое и тем изменить настоящее. Обрати нам Вселенную твердью истины, избави от текучести времени. Собравшиеся за этим столом благодарствуют тебе. Да будет так.
Разнял ладони и глянул на Жанетту. Она глаз с него не сводила.
Подчинился движению души, сказал:
– Помолись, если хочешь.
– А мою молитву ты посчитаешь антиистинной? Он поколебался, но все же сказал:
– Да. Не знаю, почему предложил. Израильтянину или малайцу наверняка не предложил бы. За один стол ни за что не сел бы. А ты… ты особь статья… может быть, потому что ни под какую систему не подходишь. Я… я не знаю.
– Спасибо, – сказала она. Начертила в воздухе треугольник средним пальцем правой руки. И, глядя вверх, произнесла:
– Великая матерь, прими благодарность.
Пришлось подавить в себе отчуждение, возникшее от звука слов неверующей. Открыл шкафчик под столом, вынул два предмета. Один подал Жанетте. Другой надел себе на голову.
То были шляпы с широкими полями, с которых свисала густая сетка, полностью закрывавшая лицо.
– Надень, – велел он Жанетте.
– Зачем?
– Да затем, чтобы ни ты меня, ни я тебя – не видели, как едим, – теряя терпение, сказал он. – Под сеткой просторно, места хватит вилкой-ложкой орудовать.
– Но зачем?
– Я же сказал. Чтобы не было видно, как едим.
– Тебе что, дурно станет, если увидишь, как я ем? – повысила голос она.
– Естественно.
– Естественно? Почему «естественно»?
– Ну, потому, что принятие пищи… Фу-ты, ну как это сказать?.. Выглядит по-скотски.
– И твой народ всегда так делал? Или начал, когда додумался, что сам происходит от животных?
– До прихода Впередника все ели в открытую без стыда. Но то были времена темноты и невежества.
– А эти ваши израильтяне и малайцы, они тоже прячут лица, когда едят?
– Нет.
Жанетта встала из-за стола.
– Не могу я есть с этой штукой на лице. Будто меня ни за что ни про что срамят.
– Но так надо, – сказал он дрожащим голосом. – Иначе мне кусок в горло не полезет.
Она произнесла какую-то непонятную фразу. Но это его не задело и не вывело из себя.
– Увы-увы, – сказал он. – Но такой порядок. Так надо.
Она медленно села. И надела шляпу.
– Хорошо, Хэл. Но, я думаю, нам следует поговорить об этом попозже. У меня такое чувство, что мы не вместе. Нет близости, нет соединения в лучшем, что дает нам жизнь.
– И, пожалуйста, ешь беззвучно, – сказал он. – Если хочешь говорить, сначала проглоти. Когда жуча ест при мне, я так-сяк, но могу отвернуться. Но ушей-то заткнуть не могу.
– Постараюсь не действовать тебе на нервы, – сказала она. – Но сначала ответь. Как вы добиваетесь, чтобы ваши дети вам не мешали за столом?
– Дети никогда не едят вместе со взрослыми. Вернее, они едят под присмотром АХ'ов. А те в два счета кого хочешь научат, как себя вести.
– Ах, вот что!
Тишину трапезы нарушало одно ширканье ножом по тарелке, уж всяко неизбежное. Наконец, Хэл закончил и снял шляпу с сеткой.
– Ну, Жанетта, ты стряпуха редкостная! Пища такая вкусная, что я, грешник, поневоле слишком радовался, покуда ел. Такого супа в жизни не пробовал! Хлеб нежнейший! Винегрет – чудо! А мясо – просто совершенство!
А Жанетта давно уже сидела без шляпы. К еде едва прикоснулась. И несмотря ни на что улыбалась.
– Все тетушки мои, их школа. У нашего народа женщин с детских лет учат всему, что доставляет мужчинам удовольствие. Всему.
Он нервно хохотнул и, скрывая смущение, закурил сигарету.
Жанетта спросила, нельзя ли ей попробовать.
– Горю, так и подымить могу, – сказала она и хихикнула.
Хэл не уверен был, что понял, но тоже хохотнул, чтобы показать, что не сердится из-за застольных головных уборов.
Жанетта сама зажгла сигарету, затянулась, закашлялась и бросилась к раковине за стаканом воды. Вернулась, у самой слезы из глаз, но тут же подхватила сигарету и снова втянула дым. Вскоре затягивалась, как заядлый курилка.
– Ну и подражательные способности у тебя – одно загляденье! – сказал Хэл. – Гляжу, как ты мои жесты повторяешь, слышу, как слова стараешься выговорить в точности, как я, и только диву даюсь. Сама-то слышишь, что американские слова произносишь не хуже меня?
– А мне только разок покажи, и редко когда повторять приходится. Не скажу, чтобы от большого ума. Ты прав, у меня это безотчетно. Хотя кое-какие собственные мысли иногда тоже в голову приходят.
Легко и весело принялась тараторить о своей жизни в кругу семьи: с отцом, с сестрами, с тетками. На вид – само врожденное добродушие, а вовсе не попытка загладить неприятное происшествие во время еды. Когда смеялась, особым образом брови поднимала. Брови замечательные, фигурные. Тонкими линиями черных волос от самой переносицы, потом вразлет дужками по надглазьям, а на концах – загогулинки.
Хэл спросил, не материнское ли это наследство. Она расхохоталась и ответила, что нет, что в точности такие были у отца-землянина.
Смех у нее был негромкий, но певучий. Не действовал на нервы, как когда-то смех Мэри. Убаю кивал, доставлял радость. И всякий раз, как закрадывалась мысль, а чем же все это кончится, и дух омрачался, она заводила речь о чем-нибудь смешном, и настроение само собой исправлялось. Она, казалось, наитием каким-то угадывала, что именно нужно, чтобы побороть уныние или остро почувствовать веселье.
Так прошел час, и Хэл встал, направился на кухню. По дороге, проходя мимо Жанетты, безотчетно погрузил пальцы в ее густющие черные волосы.
Она вскинула голову и закрыла глаза, будто ожидала поцелуя. Но у Хэла духу не хватило. Хотелось, но просто не решиться было на первое движение.
– Тарелки надо вымыть, – сказал он. – Нельзя, чтобы случайный гость увидел стол, который накрыт на двоих. И еще одно соблюдай, пожалуйста. Прячь сигареты и почаще проветривай комнату. Поскольку я детектор прошел, считается, что мелкие антиистиннизмы, вроде курения, мне не приличествуют.
Вряд ли Жанетте доставили радость такие речи, но она и виду не подала. А с места в карьер принялась за уборку. Хэл курил и обдумывал способ раздобыться женьшеневым табаком. Жанетте так пришлись по вкусу сигареты, что души не хватит впредь отказать ей в этом удовольствии. Кое-кто на корабле сам не курит, а пайку сбывает любому желающему. Может, жучу попросить в посредники, чтобы брал у кого-нибудь с передачей Хэлу? Лопушок вполне мог бы сделать такое одолжение, но под каким соусом к нему подступиться? А может, все же не стоит связываться? Рискованно.
Хэл вздохнул. Всем хороша Жанетта, да ведь это не жизнь, а мука муцкая. Изволь замышлять уголовщину, будто самое обычное на свете дело.
А она уже стояла перед ним, руки на бедрах, глаза сияют.
– А теперь, Хэл, мо намук, нам выпить бы чего-нибудь покрепче, и мы чудесно закончили бы вечерок.
Он вскочил.
– Ой, я же забыл, что ты не знаешь, как кофе заваривают!
– Нет. Я не про кофе. Про ал-ко-голь, а не про кофе.
– Алкоголь?! Сигмен великий, мы же не пьем! Это же мерзейший…
И осекся. Ведь это же оскорбление! Опомнился. В конце-то концов, она же не виновата. Иначе воспитана, в иных традициях. Строго говоря, даже не совсем человек.
– Увы, – сказал он. – Ты пойми, такая у нас вера. Запрещено.
Глаза у нее налились слезами. Плечи затряслись. Она закрыла лицо руками и со всхлипами расплакалась.
– Это ты не понимаешь. Мне без этого никак. Никак.
– Но почему?
Она произнесла, не отнимая ладоней от лица:
– Потому что, пока меня под замком держали, развлечься почти нечем было. И мне давали спиртное, с ним время как-то незаметно шло и забывалось, как охота домой. Опомниться не успела, как стала ал… ал… алкоголичкой.
Руки у него сами в кулаки подобрались, он рыкнул:
– V, жучьи дети!
– И, понимаешь, мне теперь без выпивки никак. Мне от этого обязательно легчает, по крайней мере, сейчас. Потом я постараюсь, потом я отвыкну. Знаю – справлюсь, если ты поможешь.
Он развел руками.
– Но я же понятия не имею, где его берут.
При одной мысли о покупке спиртного живот скрутило. Но раз ей надо, значит, придется проявить прыть и достать.
– Может, у Лопушка найдется? – будто того и ждала, скороговоркой выпалила она.
– Он же тебя под замком держал! И вдруг я к нему с такой просьбой! Он же в два счета сообразит, что дело нечисто.
– Он подумает, что это для тебя.
– Ладно, – мрачно сказал он и тут же укорил себя за эту мрачность. – Хотя мутит от одной мысли, что могут подумать, будто это я пью. Все равно кто, даже жуча какой-нибудь.
Она приникла к нему, как обволокла. Нежно прижалась губами. Всем телом обвилась. Минуту так длилось, и он отвел свои губы прочь.
– Так мне и идти ни с чем? – прошептал. – Неужели обойтись не можешь? Хоть на эту-то ночь? Завтра я раздобыл бы.
У нее пресекся голос.
– Милый, я бы рада. Очень была бы рада. Но не могу. Просто не могу. Уж поверь.
– Верю.
Вырвался из объятий, вышел в прихожую, надел плащ, капюшон, ночную маску в чулане сыскал. Голова поникла, ссутулился. Не сладится. От нее же спиртом вонять будет, он же не сможет… А она еще, поди, и дивиться будет, чего это он как ле дышка, а его даже не хватит намекнуть, что на нее и глянуть-то мерзко. Не хватит, потому что сказануть такое – значит, обидеть насмерть. А ничего не сказать – тоже обидеть насмерть, вот что самое-то худое.
Уже на пороге она еще раз поцеловала его в одеревенелые губы.
– Не задерживайся. Я жду.
– Лады.
11
Хэл Ярроу поскребся в дверь Лопушковой квартиры. Не открыли. И не диво. Из-за двери доносился Чуткий гвалт. Хочешь, не хочешь – надо молотить в дверь, а очень неохота, еще Порнсена нанесет. Полюбопытствует, что за шум, и высунется, ведь в том же коридорчике дверь в дверь поселился. Ни к чему Порнсену видеть, кто сострадалиста об эту пору навещает, не тот случай. Есть теперь у Хэла право бывать у жучей без сопровождения АХ'а, но не по себе из-за Жанетты. Еще взбредет Порнсену сунуть нос в Хэлову пука, когда Хэла нет дома, пошпионить на свой страх и риск. О такой возможности забывать нельзя. Взбредет – и Хэлу крышка. Капут.
Успокоил себя тем, что ничего не знает Порнсен, трусоват и наобум лезть не рискнет. Остановит страх, что могут накрыть. Ведь Хэл теперь «ламедник», может шум поднять, нажать, и Порнсену не то что понижение выйдет или там отставка – под ВМ могут подвести.
Хэл еще раз нетерпеливо замолотил в дверь. На этот раз она распахнулась. И на пороге появилась улыбающаяся Внизуня, Лопушкова супруга.
– Хэл Ярроу! – сказала она по-сиддийски. – Добро пожаловать! Зачем вы стучите? Вошли бы и без стука.
Хэл в ужас пришел.
– Так нельзя же!
– Почему?
– У нас так не положено.
Внизуня пожала плечами, но вежливость не позволила высказаться более определенно. С той же улыбкой сказала:
– Так входите же! Здесь никто вас не укусит.
Хэл вошел и закрыл за собой дверь, при том оглянувшись на Порнсенову. Та, слава Сигмену, оставалась заперта.
И оказался в комнате размером с баскетбольную площадку, где стены дрожали от воплей дюжины разыгравшихся жучат, а пол был – одни голые доски. Внизуня провела его на противоположный конец, где начинался коридор. Миновали трех жучих, судя по всему, пришедших в гости. Жучихи сидели за столом, что-то вышивали, прихлебывали из высоких стаканов и тараторили. Хэл ничего не понял из того, что расслышал: в разговорах между собой жучихи пользовались особым женским словарем. Однако, как дознался Хэл, под воздействием набирающих силу городских порядков этот обычай оказался на грани исчезновения. Дочки Лопушка даже не учились женскому говору.
Внизуня провела его к дальней двери, открыла ее и окликнула:
– Лопушок, дорогой! К тебе Безносый пришел, Хэл Ярроу!
Заслышав это народное прозвище, Хэл осклабился. Было время, словцо обижало. Но потом выяснилось, что жучи не вкладывают в него обидного смысла.
Лопушок подошел к двери. На нем, по-домашнему, была только алая юбочка. И Хэл в сотый раз невольно подумал: до чего же странно выглядит туловище оз двийца с грудью без сосков и любопытным креплением лопаток к позвоночнику (если у землян позвоночник «спинным хребтом» именуется, то здесь впору было название «грудной хребет»).
– Душевно рад, Хэл, – сказал Лопушок по-сиддийски. И перешел на американский: – Шалом. По какому счастливому случаю вы оказались, очутились здесь? Садитесь, располагайтесь. Не хотите ли, не желаете ли пить? Пейте, а я, пожалуй, уже воздержусь.
Хэл считал, что выглядит вполне беззаботно, но Лопушок, должно быть, учуял, что дело неладно.
– Что-нибудь не так? Чего зря время тратить?
– Да. Где можно достать бутылку?
– Вам надо, необходимо? Буверняк. Я вас проведу, провожу. В ближайшем кабаке собирается, толчется народ попроще. У вас будет случай, возможность воочию увидеть, обозреть ту часть общества, о которой вы, без сомнения, недостаточно, мало знаете.
Жуча вышел в гардеробную и вернулся с ворохом одежды. Застегнул на жирном брюшке широкий кожаный пояс, прицепил к нему ножны с короткой рапирой. Сунул за пояс револьвер. Накинул на плечи ядовито-зеленый плащ с черными оборками. На голову нахлобучил темно-зеленую шапочку с бутафорскими сяжками – символ принадлежности к клану Кузнечиков. Когда-то для жучей этого клана носить такой головной убор было первейшее дело. Но теперь клановая система выродилась, ее значение в быту упало, однако в делах политического свойства продолжало оставаться существенным.
– Я-то пью, я – то закладываю по делу, – пояснил Лопушок. – Будучи, являясь по специальности со страдалистом, общаюсь, нахожусь в контакте с душевно – и нервнобольными. Оказываю помощь, поддержку очень многим. Приходится бывать в их шкуре, коже, поскольку обязан испытать, изведать мир их чувств, восприятий. Потом я перебираюсь, переселяюсь из их шкуры в свою, дабы, чтобы объективно оценить, взвесить их трудности, проблемы. Вот этим, – он постучал себя по голове, – и этим, – он тронул себя за нос, – я делаюсь, становлюсь сперва как они, а потом как я сам, и временами удается, оказывается возможно кое-кому помочь выздороветь, прийти в норму.
Хэлу было известно, что имеет в виду Лопушок, когда касается своего носа. Он имеет в виду два исключительно чутких сяжка внутри своего похожего на пушечный снаряд носа-хобота, способных поставить полный диагноз. Запах жучиного пота говорит ему больше, чем внешний вид и речи пациента.
Лопушок провел Хэла в передний зал. Сообщил Внизуне, куда собрался, и они с чувством потерлись носами.
Вручил Хэлу маску жучиного образца, надел свою. Зачем, Хэл не спрашивал. Знал: по ночам весь город ходит в масках. Вещь полезная, оберегает от укусов множества всякой летучей нечисти. Но Лопушок объяснил, что дело не только в этом.
– Мы, люди из общества, надеваем их, когда ходим… Как бы это выразиться по-американски?
– У нас это называется «сламминг», – сказал Хэл. – Это когда человек из общества идет поразвлечься среди простонародья.
– «Слам-минг», – повторил Лопушок. – Обычно, когда я хожу, заглядываю в такие места, я маски не ношу, потому что хочу, имею намерение слиться с окружающими, а не посмеиваться, потешаться над ними в глубине души. Но нынче, поелику вы Безносый, извините, простите за это слово, я думаю, полагаю, вы отдохнете, расслабитесь в большей мере, если будете в маске.
Когда они оказались на улице, Хэл спросил:
– А зачем оружие?
– Да здесь-то в окрестностях не слишком опасно, но осторожность не помешает, не повредит. Помните, я вам говорил, рассказывал, когда мы были на руинах? На нашей планете насекомые развились, приспособились в гораздо большей степени, чем, насколько могу судить, представить себе по вашим словам, у вас. Вы слышали о паразитах и мимикрантах, которые проникают, пробираются в муравейники? Не-муравьях, которые прикидываются муравьями и нахлебничают у муравьев, прикрываясь сходством, живут в стенах муравейников и пожирают яйца и молодь? У нас происходит то же самое, анало-гичное, но жируют на нас. Прячутся по подвалам, по канализационным стокам, в дуплах, в норах под землей, а по ночам расползаются по городу. Вот поэтому в темное время суток мы детей на улицу не выпускаем. Хотя улицы хорошо освещены и охраняются, но слишком много укромных мест для засады в густой зелени.
Дорога вела через парк по аллейке, освещенной газовыми фонарями на высоких столбах. В Сиддо еще не перешли окончательно на электрическое освещение и в порядке вещей была чересполосица районов с лампами накаливания и кварталов с газовыми фонарями. Выйдя из парка на широкую улицу, Хэл своими глазами увидел причудливое оздвийское смешение старинной и новейшей культуры: повозки, запряженные здешними тягловыми животными, и колесницы с паровыми двигателями. Животные и механизмы передвигались по коротко подстриженной густой траве, которая пока выдерживала этот напор.
А здания так далеко отстояли одни от других, что вовсе не похоже было на крупный город. «Неуютно», – подумал Хэл. Налицо здешний избыток лебенсраума, жизненного пространства. Правда, население быстро растет, и широкие промежутки вскоре неизбежно заполнятся жилыми домами и общественными зданиями. В один прекрасный день на Оздве станет так же тесно, как и теперь на Земле.
И поправил себя: тесно-то тесно, но не жукам-кикиморам. Если «Гавриил» исполнит свое предназначение, туземцев заместят выходцы из Союза ВВЗ.
Нехорошо стало, и мысль пришла – антиистинная, само собой, – что дело задумано прегадкое. Какое право имеют существа с другой планеты лезть сюда и затевать истребление местных жителей?
Впередник объявил, что имеют. А имеют ли?
– Нам вон туда, – сказал Лопушок.
И указал на дом впереди. Трехэтажный, по виду немного похожий на зиккурат, с арочными спусками с верхних этажей до земли. Так жильцам удобнее. Во многих старых домах Сиддо, в том числе и в этом, внутренних лестничных клеток не было, жильцы попадали из квартир прямо на улицу и обратно именно благодаря таким ступенчатым арочным спускам.
Хотя дом был и старый, у кабака имелась на первом этаже вполне современная, большая и яркая электрифицированная вывеска над входной дверью.
– «Счастливый дол Каменюки», – перевел Лопушок затейливые письменные знаки.
Сам кабак был в полуподвале. Хэл последовал за жучей, стараясь потверже ступать по лесенке вниз, откуда тянуло спиртным духом. И остановился при входе.
Не меньше, чем сильный сивушный запах, досаждало уханье непривычной музыки и слитный, давящий гул голосов. Трудясь за шестиугольными столиками, жучи тянулись друг к дружке поверх объемистых оловянных кружек, силились перекричать шум и кричали сами. Кто-то невпопад размахивал руками, кто-то заводил здравицы, кто-то подпевал. Прошмыгнула официантка с полотенцем – стол вытереть. Пригнулась – и получила звонкий шлепок по заду от жизнерадостного, зеленорожего, пузатого жучи. Его компания дружно загоготала, разинув четверогубые рты. Официантка тоже захохотала, что-то сказала толстяку, видно, так отбрила, что народ за соседними столиками радостно взревел.
На возвышении в конце зала пятеро виртуозов лабали что-то быстрое и диковатое. Три инструмента напомнили Хэлу земные: арфу, трубу и барабан. Четвертый лабух сам звуков не издавал, а то и дело суковатым дрючком терзал запертую в клетке тварь, похожую на саранчука, но размером с крысу. Понукаемая букаха расправляла надкрылья поверх задних ног и, четырехкратно стрекотнув, длинно и пронзительно взвизгивала пилой так, что челюсти сводило.
Пятый виртуоз накачивал мехами пузырь с тремя короткими тонкими дудками. Дудки оглушительно верещали.
Оказалось, что Лопушок кричит.
– Не примите, не сочтите этот гвалт за нашу типичную музыку. Это дешевая халтура для простонародья. Вот на днях приглашу, отведу вас на сим фонический концерт, и вы сами убедитесь, услышите, что такое наша лучшая музыка.
Жуча провел человека через зал в один из кабинетиков за портьерами, они тянулись вдоль трех стен. Сели. Подбежала официантка. Лоб и носище хоботом у нее лоснились от пота.
– Пока не принесут, не подадут, не снимайте маски, – сказал Лопушок. – Подадут – мы задернем занавеску, и тогда воля ваша.
Официантка что-то произнесла по-жучиному.
Лопушок, изображая любезного хозяина, повторил по-американски:
– Пиво, вино или таракановка. Лично я в рот не беру ни первого, ни второго. Это для-а… бабья и малолеток.
Не ударять же в грязь лицом! И Хэл с напускной лихостью объявил:
– Само собою, третье.
Лопушок показал два пальца. Официантка мигом доставила две здоровенные кружки. Жуча потянулся носищем к кружке и шумно принюхался. Зажмурился от удовольствия, поднял кружку и надолго присосался. Наконец отставил посудину, утробно рыгнул, причмокнул губами. И промычал:
– Глотнул с приветом – икнул с ответом.
Хэла чуть не вывернуло. В детстве за неумение сдерживать отрыжку драли его много раз и без пощады.
– Хэл, а вы-то что не пьете, не опрокидываете? – удивился Лопушок.
Ярроу убитым голосом произнес:
– Дамифино.
То есть по-сиддийски: «Авось, не повредит».
И хлебнул.
Пламя хлынуло вниз по глотке, как вулканическая лава. И что твой вулкан, взорвался Хэл. Со всхрапом, со взвизгом. Водка прыснула изо рта и смешалась с брызнувшими из зажмуренных глаз слезами.
– Хороша, – преспокойно сказал Лопушок.
– Хороша, – еле выдавил Хэл. Глотка горела, спасу нет. Большую часть жижи он выплюнул, но сколько-то все же попало внутрь и почему-то в ноги, и оттуда пошел ходить враскачку горячий приливной вал, будто в голове закружила невидимая луна, изнутри колотя и обдирая череп.
– Еще по разу.
Со вторым заходом Хэл справился лучше, по крайней мере, внешне – не кашлял, не прыснул изо рта. Кишки скрутило – испугался, что осрамится. Несколько раз судорожно вздохнул и понял: водка вроде бы осталась внутри. И тут как стебанет отрыжка! Огненная лава взмыла в глотку – не остановить.
– Извините, – пробормотал он, залившись краской.
– А за что? – спросил Лопушок.
Определенно, ничего смешнее Хэл в жизни не слыхал. Рассмеялся во всю глотку и еще раз потянул из кружки. Чем быстрее с ней будет покончено, тем раньше будет куплена бутылка для Жанетты, тем скорее он вернется домой – и хоть остаток ночи, а все равно достанется ему.
Когда в кружке осталось около половины, дошло, что Лопушок почему-то невнятно и издалека, будто с того конца длинного туннеля, спрашивает, не желательно ли Хэлу глянуть, как изготовляется спиртное.
– Буверняк, – сказал Хэл.
Встал, но, чтобы устоять, пришлось хвататься за край столешницы. А жуча бубнил:
– Маску наденьте. Интерес к землянам все еще силен. Неохота весь вечер отвечать на вопросы. Еще пристанут, чтобы мы пили с ними за компанию.
Протиснувшись сквозь шумное сборище, вошли в заднюю комнату. Лопушок повел рукой.
– Глядите, смотрите! Это кесарубу.
Хэл глянул. Если бы все запреты оставались при нем, его кубарем выкинуло бы отсюда. Но их частично смыло спиртным потопом, а вот любопытство – любопытство осталось.
На стуле боком к столу сидела тварь, которую на первый взгляд можно было принять за жука-кикимору. Тот же белесый вихор, та же лысая башка, те же носище и четверогубый рот. То же округлое туловище и то же непомерное брюхо, что у некоторых оздвийцев.
Но если вглядеться, то при ярком свете голой лампочки под потолком было видно, что у твари – светло-зеленого оттенка жесткий хитиновый покров. Из-под длинного плаща торчали голые руки и ноги. Не гладкой кожей покрытые, а членистые, с перехватами, с изломами, как железные печные трубы.
Лопушок заговорил с тварью. Кое-какие слова Хэл понял, остальные угадал.
– Утютю, это мистер Ярроу. Утютю, скажи: «Здравствуйте, мистер Ярроу».
На Хэла уставились огромные голубые глазища. От жучьих почти не отличить, но уж вовсе нечеловеческие, в высшей степени насекомоподобные.
– Здравствуйте, мистер Ярроу, – будто попугай, проскрипел Утютю.
– Скажи мистеру Ярроу: «Какая чудная ночка!»
– Какая чудная ночка, мистер Ярроу!
– Скажи: «Утютю очень рад вас видеть!»
– Утютю очень рад вас видеть.
– Скажи: «Утютю к вашим услугам, сэр!»
– Утютю к вашим услугам, сэр.
– Покажи мистеру Ярроу, как ты делаешь таракановку.
Утютю встал со стула, нашарил край стола, глянул на ручные часы. Что-то пролопотал по-оздвийски. Лопушок перевел:
– Он говорит, он молвит: «Утютю ел полчаса назад и, должно быть, готов». Эти твари наедаются мучного, и через полчаса – глядите, смотрите!
Каменюка поставил на стол огромную глиняную миску. Утютю наклонился над ней так, чтобы трубочка в сантиметр длиной, торчащая у него из груди, пришлась над краем миски. «Вероятно, выход трахеи», – подумал Хэл. Из трубочки в миску ударила светлая струйка, миска быстро наполнилась. Каменюка подхватил ее и унес. И вернулся из кухни с тазиком какого-то месива. Хэл не вдруг сообразил, что это макароны, обильно сдобренные сахаром. Каменюка поставил тазик перед Утютю, и тот, воору-жась ложкой размером с совок, принялся заглатывать месиво.
Мозги у Хэла почему-то схватывали не так быстро, как всегда, но наконец до него дошло. Где бы блевануть, повел он вокруг безумным взглядом. Лопушок сунул ему под нос порцию выпивки. Делать нечего – или пляши, или отваливай. Хэл глотнул. Странным образом огненная жижа умостилась в желудке. И жгучие приливы в голове утихли.
– Совершенно верно, совершенно правильно, – ответил Лопушок на немой вопрос Хэла. – Эти тва – ри – великолепный пример паразитарной мимикрии. Насекомые, а похожи на нас. Живут среди нас и зарабатывают на жизнь тем, что поставляют дешевый и крепкий алкогольный напиток. Заметили, обратили внимание, какое у него раздутое брюхо? Вот в нем-то и производится, сбраживается спирт, который потом отрыгивается. Просто и естественно, не правда ли? У Каменюки еще двое таких работают, но их смена кончилась, посиживают, само собой, где-нибудь в соседнем кабаке, выпивают. Как моряки на побывке.
– Нельзя ли купить бутылку и убраться отсюда? – взмолился Хэл. – Меня что-то мутит. Должно быть, воздух спертый. Или что-нибудь и т. п. – Что-нибудь и т. п., это вероятней, – заметил Лопушок.
И послал официантку за двумя бутылками. Пришлось подождать, и тут в кабак вошел низкорослый жуча в маске и в голубом плаще. Остановился у двери, стали видны черные сапоги, а длинный хобот маски заходил вправо-влево, как перископ подводной лодки, которая высматривает добычу.
– Порнсен! – с трудом переведя дыхание, ахнул Хэл. – Под плащом мундир! Видите?
– Буверняк, – ответил Лопушок. – Сапоги черные, одно плечо ниже другого. Насквозь видно. Кого обдурить вздумал?
Хэл отчаянно огляделся по сторонам.
– Надо выбираться отсюда!
Вернулась официантка с бутылками. Лопушок расплатился, протянул одну бутылку Хэлу, и тот, не глядя, сунул ее во внутренний карман плаща.
АХ'у от входа они были видны отлично, но он их явно не распознал. Ярроу был в маске, а сострадали ста Порнсен вряд ли отличил бы от какого-нибудь другого жучи. Сомневаться не приходилось, методичный, как всегда, Порнсен полон решимости произвести повальный досмотр. Он резким движением вскинул скособоченное плечо и двинулся по часовой стрелке вдоль пристенных кабинетиков, одни за другими раздвигая входные портьеры. А завидя там жуч в масках, каждую приподнимал за краешек, заглядывая, кто под ней.
Лопушок кашлянул и сказал по-американски:
– Доиграется. За кого он нас, сиддийцев, принимает? Мы ему что, мышата подопытные?
И как в воду глядел. Здоровенный детина-жуча, когда Порнсен дернул его за маску, воздвигся и смахнул Порнсенову. Завидя перед собой неоздвийца, от удивления на секунду замер. И вдруг заверещал, что-то выкрикнул, да как звезданет землянина прямым в нос!
И пошло. Порнсен отлетел, сбил задом стол с чьими-то кружками и ахнулся навзничь на пол. Вмиг верхом на нем оказались двое. Третий врезал четвертому. Четвертый дал сдачи. Примчался Каменюка с короткой дубинкой и принялся охаживать дерущихся по ногам, по спинам. Кто-то плеснул ему в лицо таракановки.
А Лопушок – Лопушок дотянулся до выключателя, и разом сделалась тьма безвидная, как во втором стихе «Пересмотренного Святого писания». Вот только не пустая.
Хэл отчаянно затоптался на месте. Его схватили за руку, дернули.
– За мной!
Хэл повернулся и, спотыкаясь, побежал, куда ведут – вероятно, к задней двери.
Видно, та же мысль пришла в голову многим. Его сбили с ног, кто-то прошелся по спине. Лопушкова рука исчезла. Ярроу окликнул жучу, но, если тот и ответил, ничего не было слышно сквозь крики:
– Круши!
– Ах, гад, он сзади!
– Ребя, сюда!
– V, дурак, гнида ползучая!
Хорошо бы только гвалт. В нос ударила мерзкая вонь, поскольку от нервного напряжения у жучей из «пугпузырей» поперло. Задыхаясь, Хэл рвался к двери. Слепо расталкивая извивающиеся тела, вырвался на волю. Шатаясь, побрел по какой-то дорожке. Оказался на улице, припустился бегом. Не глядя, куда. Одна была мысль – лишь бы подальше от Порнсена.
На тонких железных столбах сияли дуговые лампы. Хэл бежал и почему-то постоянно задевал плечом за стены. Решил приостановиться в тени одного из балконов. Но заметил узкий переулочек. Глянул – будто не тупик. Нырнул туда – налетел на здоровенный железный бак, судя по запаху, мусорный. Присел за ним, сжался в комок, силясь продышаться. Наконец, легкие очистились от смрада, глотку отпустило, смог дышать без всхлипов. Бешеное сердцебиение чуть-чуть унялось, и стало хоть что-то слышно.
На слух, никто за ним не гнался. Выждав, Хэл решил, что можно встать во весь рост. Нащупал бутылку в кармане. Чудеса! – не разбилась. Получит Жанетта свою таракановку. Будет о чем ей порассказать. На славу потрудился ради нее, честь по чести заслуживает награды…
При этой мысли мурашки пошли по спине, и он живенько выскочил из переулочка. Понятия не имел, где находится, но в кармане был план города. На корабле отпечатан, проставлены названия улиц по-оздвийски с переводом на американский и исландский. Всего-то делов – прочесть название улицы у ближайшего фонаря, сориентироваться по плану и в темпе вернуться домой. У Порнсена, у ищейки тщедушной, никаких улик против Хэла нет, а пока он их не заполучит, будет сидеть тихо, поджавши хвост. Золотой «ламед» любого ставит выше подозрений. Порнсен…
12
Порнсен! Стоило подумать о нем, и вот тебе на – тут как тут оказался, скотина! Позади застучали каблуки. Хэл обернулся. Следом спешил недомерок в плаще. При свете фонарей мелькнули скособоченные плечи, черные кожаные сапоги, маски нет.
– Ярроу! – торжествующе взвизгнул АХ. – Бежать бесполезно! Я тебя видел в том кабаке! Теперь не отвертишься!
Топ-топ-топ – и вот он рядом со своим высоченным остолбеневшим «питомцем».
– Пил! Сразу видно, что пил!
– Да? – буркнул Хэл. – И что дальше?
– А тебе мало? – завопил АХ. – Может, у тебя дома еще кое-что припрятано? Наверняка. Наверняка, тайничок бутылками набит. А ну, пошли! Пошли к тебе домой. Зайдем да поглядим. Не удивлюсь, если там еще кое-что сыщется, весь твой кощунственный антиистиннизм распотрошу.
Хэл сгорбился, сжал кулаки, но сказать было нечего. Приказано было идти впереди по направлению к дому Лопушка, и он подчинился беспрекословно. Так и шествовали – впереди раб, позади господин. Красоту зрелища портило одно: Хэла вело то вправо, то влево; чтобы держать прямой курс, приходилось рукой придерживаться за стены.
А Порнсен еще и глумился.
– ШПАГ! Нализался! Глядеть тошно! Хэл ткнул рукой вперед.
– Вон еще один такой. Глянь!
По правде-то было ни до чего, ни до кого, но дух захватывало от какой-то сумасшедшей надежды: что-то случится, что-то будет сказано или сделано, простенькое, ничего особенного, но роковой миг возвращения домой отложится. А указал он на могутного жука-кикимору, явно в поддатии обнявшего фонарный столб, чтобы не плюхнуться длинным острым носом в землю. На вид, сценка времен девятнадцатого-двадцатого столетия: хмельной верзила в плаще и шляпе у фонарного столба. И постанывает, будто капитально получил по шеям.
– Может, он ранен, давайте-ка глянем, – сказал Хэл.
Сказал, потому что надо было что-то сказать, как-то задержать Порнсена. И не успел тот возразить, Хэл шагнул к жуче. Схватил за болтающуюся руку – одной рукой жуча обнимал столб – и спросил по-сиддийски:
– Тебе помочь?
Жуча-верзила выглядел как только что из большой драки. Плащ местами порван, местами перепачкан засохшей зеленой кровью. Отвернувшись от Хэла, верзила прохрипел что-то неразборчивое.
Порнсен толкнул Хэла сзади в плечо.
– Шагом марш, Ярроу. Без нас справятся. Одним пьяным жучей больше, одним меньше – нам дела нет.
– Буверняк, – без выражения ответил Хэл. Оставил в покое верзилу, зацепился ногой за ногу, собираясь вперед шагнуть, а Порнсен, видать, не рассчитал, лишний шаг сделал, налетел сзади на топчущегося Хэла, попятился.
– Чего ради суетишься, Ярроу?
Опаска прозвучала у АХ'а в голосе.
И тут же раздался дикий крик, смертный крик.
Хэла винтом подбросило – и он увидел, как осуществилось то жуткое, что так тоскливо мерещилось, в предчувствии чего ноги вперед не шли. Еще когда он верзилу за руку тронул, то пальцы не в теплую кожу ткнулись, а в холодный шершавый хитин. Да за прошедшую с тех пор минуту как-то не сложилось в мозгу, что это значит. Только сейчас дошло, вспомнилось, о чем был разговор с Лопушком по дороге в кабак, чего ради Лопушок с рапирой и с револьвером разгуливает. Предупредить бы Порнсена, да поздно!
АХ стоял, закрыв лицо обеими руками, и кричал, как резанный. А верзила, только что висевший на фонарном столбе пьянь-пьянью, шел на Хэла. С каждым шажком делался все громадней. На груди у него взбухал мешок, вот он налился, как серый, глянцевый, пульсирующий пузырь, раздался свистящий звук. На Хэла уставилась мерзкая харя насекомого с шевелящимися ногочелюстями по обе стороны пасти и хоботом на подбородке, нацеленным Хэлу в лицо. Минуту назад Хэл обознался, принял этот хобот за жучин нос. А по-настоящему эта гадина, должно быть, дышала трахеями через щели под глазищами. Обычно щели придыхании пощелкивают, но, видно, душегуб старался пыхтеть потише, чтобы не спугнуть жертву.
Хэл заорал от страха. Успел вскинуть плащ на руку, прикрыть лицо. Да и маска выручила бы, но забыл он про маску.
Жигануло по запястью. Хэл взвизгнул от боли, прыгнул вперед. Прежде чем гадина успела набрать воздуху, снова раздуть мешок и шарахнуть кислотой через хобот, Хэл ударил ее головой в брюхо.
Гадина как-то странно икнула, запрокинулась и брякнулась навзничь, раскинув скрюченные конечности, как огромный ядовитый жук. То и был ядовитый жук. Оправившись от удара и перекатившись на бок, тварь попыталась было встать, но Хэл пнул ее носком сапога. И сапог с хрустом сокрушил тонкий хитин.
Из пролома хлынула темная жижа. Хэл отвел ногу и еще раз пнул, куда достал. Гадина взвизгнула, силясь уползти на четырех. Землянин прыгнул на нее обеими ногами и, еле ползущую, припечатал к бетонному тротуару. Каблуком наступил на шею, изо всех сил нажал. «Крак!» – шея хрустнула, гадина замерла. Нижняя челюсть отвисла, обнажились два ряда игольчатых зубов. Ногочелюсти по бокам пасти подергались-подергались и застыли.
Хэл с трудом перевел дух. Воздуху не хватало. Кишки ходуном заходили, к глотке подкатило. Всего судорогой свело и вывернуло – будь здоров!
И разом протрезвел. А Порнсен уже не кричал. Он лежал на боку в канавке у поребрика. Хэл перевернул его лицом вверх и отшатнулся. Жуткое зрелище! Глаза выжжены, с посеревших губ кожа висит лохмотьями. Язык выкачен, вздутый, покореженный. Похоже, Порнсену всю полость рта ядом обдало.
Хэл выпрямился и побрел прочь. Пройдут жучи дозором, обнаружат мертвого АХ'а и вернут землянам. Пусть иерархи гадают, что стряслось. Помер Порнсен, и, поскольку помер, можно позволить себе все, что хочешь, все, чего раньше ни за что не позволил бы. Ненавистен был Порнсен. Слава Сигмену, вот и помер. Помучился, ну и что? Недолго мучился, а Хэла мучал и поедом ел три десятка лет…
Но позади раздался какой-то звук. Хэла так и развернуло.
– Лопушок?
Нет, это был стон, а потом какие-то слова непонятные.
– Порнсен? Да не может быть! Ты же… Ты же помер!
Не помер. Силится на ноги встать, пошатывается. Руки вперед тянет, путь нащупывает, шажки осторожненькие делает.
На какой-то миг Хэла окатило таким безумным страхом, что он чуть опрометью прочь не кинулся. Но совладал с собой, устоял на месте и даже трезво обдумал положение.
Если жучи найдут-таки Порнсена, то поступит он прямиком в медотсек «Гавриила». И вставят ему врачи запасные глаза, у них банк органов есть, напичкают восстановителями. Через две недели отрастет у Порнсена новый язык. И заговорит Порнсен. Впередник, ну и порасскажет!
Через две недели? Да сходу! Писать-то он хоть сию минуту сможет!
Порнсен выл от боли телесной, Хэл – от душевной.
Иного выхода не было.
Хэл шагнул к Порнсену, взял за руку. АХ дернулся, промычал что-то нечленораздельное.
– Это я, Хэл, – сказал Ярроу.
Свободной рукой Порнсен вытащил из кармана блокнот, стал нашаривать ручку. Хэл разжал пальцы. И Порнсен что-то наскреб в блокноте, протянул Хэлу.
Лунного света вполне хватило, чтобы прочесть. Почерк вышел корявый, но даже вслепую Порнсен сумел написать сравнительно разборчиво.
«Сынок, доставь на „Гавриил“. Клянусь Впередником, про спиртное не скажу. Буду вечно благода рен. Люба моя, не покинь страждущего на милость нелюдям».
Хэл положил Порнсену руку на плечо и сказал:
– Держись за меня. Я тебя доведу.
И тут же вдали на улице раздался шум. Явилась компания жучей, куда-то несла их нелегкая.
Хэл завел спотыкающегося Порнсена в ближайший парк, пустился плутать среди кустов и деревьев. Так прошли сотню метров, пока не забрались в чащобу. Хэл приостановился. Из глубины чащобы доносились какие-то нехорошие звуки – пощелкивание, стрекотание.
Вглядевшись из-за дерева, он увидел, откуда шум. Луна осветила полянку, а на ней – труп жучи, вернее то, что от него осталось. Верхняя часть была наполовину обглодана. А вокруг и верхом на трупе суетилось множество серебристо-белесых насекомых. На вид – как муравьи, только в полметра ростом: Стрекотали их ногочелюсти, обрабатывающие труп. А посвист шел от воздушных мешков у них при головах, от их частых вдохов-выдохов.
Хэл думал, что надежно укрыт, но муравьи его учуяли. И в один миг исчезли в густой тени деревьев по ту сторону полянки.
Поколебавшись, он решил, что это могильщики, от них вреда живому-здоровому нет. Вероятно, дохлый жуча был какой-то пьяница, угодивший к ним в лапы.
Первый случай выпал глянуть, что за анатомия у здешних, и Хэл подошел поближе, ведя за собой Порнсена. Оказывается, позвоночный столб у жучей располагается в передней части туловища. Поднимается от тазобедренных костей, ничем не напоминающих человеческие, изогнутой линией, как точь-в-точь зеркальное изображение человеческого. Два мешка кишечного тракта располагаются по обе стороны хребта перед бедрами. Желудок получается бубликом и удерживается от опускания плотно обхватывающими кожными тяжами.
Иного и не следовало ожидать у существа, чьи предки имели что-то общее с предками насекомых. Сотни миллионов лет тому назад предки жучей были ничем не примечательными червеподобными палеочленистоногими. Но эволюции вздумалось осуществить разумное существо из червей. И, представляя себе, как ограничены возможности истинных членистоногих, отщепила энного прапрадеда жучей от тесных родичей. Ракообразные, паукообразные и насекомые занялись приобретением внешнего скелета и многих ног, а энный прапрадед жучей пошел другим путем. Отказался превращать нежную шкуру-кутикулу в хитиновые латы. Воздвиг скелет внутри плоти. Но вместе с ним внутри оказалась и нервная система, причем выяснилось, что уже упущена возможность перенести сам хребет и связанные с ним нервные пути из передней части туловища в заднюю. Вот хребет и застрял там, где завязался. Применительно к такому расположению оформилась и остальная анатомия. Внутренние органы жучей с внутренними органами млекопитающих не спутаешь, они выглядят иначе. А вот работают почти так же.
Хорошо бы глянуть повнимательнее, но Хэлу предстояло кое-что другое.
Отвратительное, ненавистное.
Тем временем Порнсен что-то еще накарябал в блокноте, протянул Хэлу.
«Сынок, боль жуткая. Не бойся, веди на корабль. Я не выдам. Люба моя, я же всегда исполнял, что обещал».
«Вот именно, – подумал Хэл. – Только и знал, что обещал. Выпороть. И порол».
Глянул на ту строну полянки. Тела муравьев во мраке светились, как россыпь бледных поганок. Муравьи выжидали, пока Хэл уйдет.
Порнсен что-то промычал и сел на траву. Уронил голову на грудь.
– А надо ли? – пробормотал Хэл.
Мысль запетляла: «Не надо. Мы с Жанеттой можем отдаться под покровительство жучей. Лопушок посодействует. Жучам ничего не стоит спрятать нас. Но захотят ли связываться? Можно ли быть уверенным? Нет, нельзя. Запросто способны выдать нас аззитам».
– И мешкать нельзя, – пробормотал он и застонал. – Почему я? Почему он сам не помер в той канаве?
И вынул нож из-за голенища.
И в тот же миг Порнсен вскинул голову, уставился выжженными глазницами. Поднял руку в поисках Хэла. Уродливый признак усмешки явился на вспухших губах.
Хэл поднял нож, так что кончик оказался в ладони от Порнсенова горла.
– Жанетта, ради тебя! – громко сказал он. Но кончик не двинулся, на несколько секунд замер, и рука бессильно обвисла.
– Не могу я, – сказал Хэл. – Не могу.
Но что-то же надо было делать, что-то надо было. Либо так, чтобы Порнсен навеки умолк, либо так, чтобы его, Хэла, и Жанетту ни люди не достали, ни жучи.
И невыносимо было понимать, как нуждается Порнсен в медпомощи. При виде его мук дурнота подступала, росло сострадание. Убить Порнсена – положить конец его мучениям. Но рука не поднималась.
А Порнсен, что-то бубня сожженными губами, встал, сделал несколько шажков вперед, выбросил руки перед собой и завертелся на месте, будто ощупью отыскивая Хэла. Хэл попятился. Полыхнула ярость. Да пошло оно все, когда он вот-вот Жанетту приступом добудет! Нашел, о чем думать, как доставить Порнсена на корабль! Недолго Порнсену оста лось. Дорога каждая секунда, а попытка вопреки, раскладу событий выручить АХ'а из беды – это же чистое предательство Жанетты, уж о нем самом, о Хэле Ярроу, и речи нет!
Порнсен двинулся вперед, неуверенно щупая воздух руками, возя подошвами по траве, чтобы не споткнуться на первом же камушке. И вдруг нащупал кончиком сапога останки дохлого жучи. Приостановился, нагнулся пощупать. Обхватил руками таз, обхватил ребра, замер. Подумал-подумал, принялся ощупывать скелет во всю длину. Пальцы ткнулись в череп, обогнули, уперлись в обвисшие клочья мяса.
И вдруг, видимо, придя в ужас, может быть, поняв, что те, кто обглодал жучу, где-то рядом, а он, Порнсен, беспомощен, АХ выпрямился и бросился бежать. Испуская хриплый вой, пересек полянку. И так же вдруг вой оборвался. Порнсен налетел на дерево и рухнул навзничь.
И шевельнуться, не успел, как исчез под грудой свистящих и стрекочущих тварей, отсвечивающих бледными поганками.
Не до рассуждений тут, что надо, чего не надо. Хэл с воплем кинулся на муравьев. Наполовину полянку не пересек, а те уже исчезли во мраке, но недалеко ушли – было видно, как под деревьями снует что-то белесое.
Добежав до Порнсена, Хэл припал на одно колено, глянул.
А на том уже вся одежда в клочья, кожа располосована. Глазницы уставлены вверх, из перекушенной яремной вены ключом бьет кровь.
Хэл взвыл, вскочил и бегом бросился вон из чащобы. Позади раздались верещанье и свист, муравьи скопом хлынули из-за деревьев. Хэл не оглянулся.
Опомнился на улице под фонарями, и тут внутреннее напряжение сыскало выход. Слезы брызнули из глаз. Плечи затряслись от рыданий. Едва на ногах устоял. Внутри полыхнула жгучая резь.
Сам не понял, что в этом выразилось – скорбь или ненависть, потому что ненавистный местью больше не грозил. Наверняка, это были разом и скорбь, и ненависть. Что бы ни было – подействовало, как отрава, и плоть отвергла отраву, обжигавшую внутренности, как кипяток.
Но покидающую тело. Хоть и казалось, что он вот-вот сдохнет, однако по мере приближения к дому отрава иссякала. От усталости руки-ноги едва шевелились, как свинцом налитые, еле достало сил вскарабкаться на крылечко.
И в то же время на сердце полегчало. Сердце билось мощно, гнало кровь по жилам так, будто когти, что на нем сошлись когда-то, наконец разжались.
13
А в предрассветной мгле, укрытое в шестиугольной арочке парадного, землянина поджидало долговязое привидение в светло-голубом саване. То был Лопушок, сострадалист. Лопушок откинул капюшон и явил физиономию со ссадиной на левой щеке и кровоподтеком под правым глазом. Прочистил горло и сказал:
– Какой-то ханыга с меня маску сдернул и приложил знатно. Зато позабавились. Время от времени стравливать пар полезно для здоровья. А вы-то куда подевались? Я боялся, что вас полиция прихватит. В принципе, ничего страшного, но ваши коллеги на корабле на такие дела смотрят косо.
Хэл слабо улыбнулся.
– Не то слово.
И подивился, откуда Лопушку известно насчет возможной реакции корабельного начальства. Насколько много жучам вообще известно о землянах? В курсе ли они, что затевают пришельцы, уж не задумали ли контрудар? Если задумали, то какой? Их технология, насколько удалось разобраться, очень отстает от земной. Правда, в психологии они как будто впереди землян, но это-то понять можно. Давным-давно Госуцерквство объявило, что психология доведена до совершенства и нет необходимости в дальнейших исследованиях. И в этой области воцарился полный застой.
Мысленно пожал плечами. Слишком устал, чтобы думать о таких вещах. Хотелось одного – рухнуть в постель.
– Тоже, как видите, влип. Потом расскажу.
– Могу себе представить, – ответил Лопушок. – Покажите-ка руку. Давайте, я вам ожог обработаю. Яд полуночника – штука поганая.
И Хэл, будто ребенок, поплелся за Лопушком к нему домой и дал наложить на запястье противовоспалительный тампон.
– Вот теперь буверняк порядок, – объявил Лопушок. – Идите, ступайте спать, почивать. Завтра поделитесь впечатлениями.
Хэл поблагодарил и спустился ниже этажом. Долго возился с ключом, рука не слушалась. Наконец, помянув всуе имя Впередника, попал ключом в скважину. Закрыл дверь за собой, запер и окликнул Жанетту. Видимо, она пряталась в шкафу в спальне, потому что две двери хлопнули. Вмиг прибежала. И крепко обняла.
– Ой, мо-н-ом, мо-н-ом! Что случилось? Я так волновалась. Ночь проходит, тебя все нет, я думала, вот-вот крик подниму.
Было чувство вины, ведь наделал ей тревоги, но был и миг злорадства, поскольку сама же этому виной. Мэри тоже, наверное, посочувствовала бы, но долг и обязанность наказали бы ей взять себя в руки и прочесть мужу нотацию по поводу его антиистинных помыслов; мол, поделом ему за них досталось.
– Встрял в драку.
Заранее решил: ей – ни слова. Ни об АХ'е, ни о полуночнике. Потом, когда дух переведет.
Она помогла развязать плащ, снять капюшон и маску. Повесила их в шкаф в прихожей, а он рухнул на стул и закрыл глаза.
И тут же открыл при звуке жидкости, льющейся в посудину. Жанетта стояла перед ним и наполняла из бутылки огроменный стаканище. От запаха таракановки желудок свело, от вида прелестной девушки, которая собирается пить эту рвотную гадость, все в глазах завертелось.
Она глянула на него. Чудные дуги-брови вскинулись.
– Что такое?.
– Ничего, – простонал он. – Сама же видишь, как я буверняк в форме.
Она отставила стакан, взяла Хэла за руку и повела в спальню. Усадила на постель, мягко нажала на плечи, чтобы лег, сняла с него обувь. Он не противился. Расстегнула ему рубашку, потрепала за волосы.
– А буверняк ли?
– Даже сверхбуверняк. Одной левой весь мир отделаю, как бог черепаху.
Кровать скрипнула, Жанетта встала и вышла. Незаметно подступил сон, но тут она вернулась. Он с усилием открыл глаза. Жанетта стояла рядом со стаканом в руке.
– Хэл, а ты глоточек не хочешь?
– Сигмен великий! Ты что, не понимаешь? От ярости его подбросило, он сел.
– Как ты думаешь, отчего мне худо? Я этой дряни видеть не могу! Видеть не могу, как ты ее пьешь!
Тошнит! От одного твоего вида с ней в руках тошнит! Ты что, не видишь? Сдурела?
У Жанетты глаза округлились. Кровь с лица схлынула, одни губы плывут пунцовой луной по белу озеру. Рука затряслась так, что стакан расплескало.
– Но… но… – пролепетала она, – я так поняла, что тебе буверняк хорошо. Что ты хочешь лечь со мной.
Ярроу застонал. Закрыл глаза и откинулся на спину. Ехидство до нее не доходит. Она все понимает буквально. Ее надо перевоспитывать. Не будь он так без сил, ее откровенные речи повергли бы его в ужас – как речи Женщины в Красном из «Талмуда Запада» в той главе, где она норовит соблазнить Впередника.
Но какие уж тут ужасы? Более того, голосок со стороны подсказал, что Жанетта просто выразила четкими и недвусмысленными словами то, что он все это время таил у себя на дне души. Вот только не вовремя.
Звон разбитого стекла спугнул мысли. Он дернулся, привскочил. Жанетта стояла, лицо подергивается, милый алый рот трясется, слезы ручьем бегут. В руке ничего нет. А в полстены – мокрое пятно, капли стекают, вот во что она стакан превратила.
– Я-то думала, ты меня любишь! – выкрикнула.
Никакие речи в голову не лезли, он только глазами хлопал. Она извернулась, выбежала вон. Слышно было, что добежала до прихожей и там разрыдалась. Этого звука он не вынес, вскочил с кровати, пошел следом. Считается, что стены здесь толстые, звук не проходит, да как знать? Вдруг подслушают!
Да и перекосила она что-то в нем, поправить надо.
Вошел в прихожую, наткнулся на удрученный взгляд. Постоял-постоял, что-то хотелось сказать, а что – ну никак не сообразить, поскольку раньше-то жизнь таких проблем решать не заставляла. Соотечественницы редко слезу пускали, а если и пускали, то где-нибудь в уголку, в одиночку.
Сел рядом с ней, положил руку ей на нежное плечо.
– Жанетта!
Она волчком обернулась, ткнулась черными кудрями ему в грудь. И сквозь слезы сказала:
– Выходит, ты меня не любишь. А это невыносимо. После всего, что досталось, еще и это!
– Ну, Жанетта, Жанетта. Я не хотел… я имел в виду… то есть…
Замолк. В голову не пришло сказать «я тебя люблю». Ни одной женщине, даже Мэри, таких слов ни разу не говорил. И ни одна женщина ему не говорила. И вот на далекой планете сыскалась такая, при том еще и получеловек, а требует, чтобы он сам сказал, что принадлежит ей душой и телом.
Заговорил потихоньку. Слова выскакивали легко. И немудрено, потому что цитировал «Урок шестнадцатый» из учебника «Основы поведения».
– … все разумные особи, у которых сердце на месте, суть братья… Мужчина и женщина – брат и сестра… Любовь вездесуща… но любовь следует понимать в духовном плане… Мужчина и женщина да возненавидят всей душой звериное совокупление, как нечто такое, чего Наивысший Разум, взирающий из космоса, временно не исключил еще на пути совершенствования человека… Настанет время, и дети будут являться на свет силою чистого помышления. А до той поры да признаем мы за всем, что связано с совокуплением, благо одно-единственное – детей…
Шарах! Голова дернулась, искры из глаз посыпались.
Не вдруг сообразил, что это Жанетта вскочила на ноги и с размаху влепила ему пощечину. Увидел только, что она на ногах, глаза прищурены, алый рот приоткрыт и перекошен от злости.
Развернулась – и бегом в спальню. Встал, пошел следом. Она лежала на кровати и всхлипывала.
– Жанетта, да пойми ты!
– Ва тю хвэ хву!
Понял: «Да пошел ты, псих ненормальный!» В краску бросило. Дикая ярость накатила. Сгреб ее за плечо, силком перевернул лицом к себе.
И вдруг сказал:
– Но я же тебя люблю. Люблю.
Прозвучало как-то не так даже на собственный слух. Любовь, как Жанетта ее понимала, была ему чужда – сырая какая-то, если уж так говорить. В обработке нуждается, в отделке. Но это, он понял, еще впереди. А сейчас – в его объятиях существо, самой природой, безотчетными порывами и воспитанием нацеленное на дело любви.
Раньше думал, всем скорбям этой ночи конец – и заметано. Но теперь, позабыв о своем решении молчать о случившемся, поверяя Жанетте каждый миг этой длинной и ужасной ночи, он захлебывался словами и чувствовал, как текут по лицу слезы. Ох, и накопилось их за три десятка-то лет, не вдруг выплачешь.
И Жанетта в ответ плакала и твердила, как ей больно, что рассердилась на него. Клялась, что больше никогда так не будет. Он лепетал: «Вот и хорошо, вот и хорошо». И они целовались, целовались и целовались, покуда, словно малые дети, наплакавшись и лаской исцелив друг дружку от припадка бешенства, до которого довела безысходность, незаметно не погрузились в тихий сон.
14
В 9. 00 по корабельному Ярроу ступил на борт «Гавриила» с полной грудью аромата росистых утренних трав. До начала планерки оставалось еще несколько минут, и тут попался навстречу Тернбой, ШПАГ-историк. Хэл нечаянно спросил у него, известно ли что-нибудь об эмиграции в космос из Франции после Апокалиптической битвы. А Тернбой и рад стараться – ему лишь бы познаниями выставиться. Да, остатки галльской нации после Апокалиптической битвы обосновались вдоль Луары, и возник зародыш того, что могло бы стать новой Францией.
Но быстро растущие поселения исландцев в северной части Франции и израильтян в южной взяли долину Луары в клещи. Экономика и религия Новой Франции не выдержали. Последователи Сигмена несколькими волнами вторглись на ее территорию. Высокие таможенные тарифы задушили торговлю небольшого государства. И в конце концов кучка французов, оказавшись перед лицом неизбежной ассимиляции и военного подавления страны, веры и языка, отбыла на шести примитивных, прямо скажем, звездолетах искать себе новую Галлию, что вращалась бы вокруг какой-нибудь звезды подальше. Очень маловероятно, что им повезло.
Хэл поблагодарил Тернбоя и направился в конференц-зал. Со многими по пути переговорил. У поло вины личного состава, как и у него самого, в лицах проглядывали монгольские черты. Так и должно быть: они же все – англоязычные потомки гавайцев и австралийцев, уцелевших во времена той самой битвы, которая так беспощадно прикончила Францию. Их дюжину раз «пра» – деды заново заселили Австралию, обе Америки, Японию и Китай.
Процентов шесть команды назвало бы языком своих предков грузинский. Их прародители явились с Кавказских гор и освоили просторы южной России, Болгарию, Северный Иран и Афганистан…
Планерка была не так себе. Во-первых, Хэла пересадили с двадцатого места по левую сторону от архиуриелита на шестое место по правую. Вот что значит золотой «ламед» на груди! Во-вторых, вышла заминка из-за смерти Порнсена. АХ'а решили записать выбывшим из строя в ходе необъявленных военных действий. Каждого еще раз предупредили насчет полуночников и прочей нечисти, которая рыщет ночами по городу. Что, однако, не означает отмены разведпатрулирования.
Макнефф поручил Хэлу как духовному сыну безвременно погибшего АХ'а позаботиться о завтрашних похоронах. А затем потянул вниз свернутую в трубку под потолком карту во всю стену. На ней была изображена Земля, изображена такой, какой ее должны были видеть жучи.
Задуман был верх военной хитрости в стиле Союза ВВЗ и китайской предусмотрительности на много ходов вперед. На обоих полушариях планеты разными цветами были изображены государства и помечены их границы. И границы Малайской Федерации и Великого Бантустана были указаны совершенно точно. А вот Республики Израиля и Союз ВВЗ поменя лись местами. В легенде, помещенной внизу слева, указывалось, что государства Впередника закрашены зеленым, а еврейские – желтым. И зелень кольцом охватывала Средиземное море, а потом широкой полосой тянулась от Аравийского и Анатолийского полуостровов до Гималайских гор.
Иными словами, если предположить худшее, а именно, если план «Оздвагеноцид» потерпит крах, если движимые жаждой возмездия оздвийцы захватят «Гавриил», если по его образцу построят свои корабли, если по штурманским прокладкам определят, где Солнце, и достигнут окрестностей Земли, то их месть обрушится не на ту страну. Вне сомнения, с народами Земли они предварительно вступать в контакт не станут, чтобы в полной мере воспользоваться фактором внезапности. И у Республик Израиля не будет возможности растолковать, что да как, бомбы посыплются на них. Тем временем Союз ВВЗ, получив таким образом предупреждение и отсрочку, успеет бросить навстречу врагу весь свой космофлот.
– Однако я полагаю, что псевдобудущее, которое я вам изобразил, так и останется далеким от истинного, – сказал Макнефф. – Разве что Обратник много сильней, чем я думаю. Но даже и такой оборот дела дозволительно истолковать к лучшему. Какое лучшее истинное будущее можно себе предначертать, чем уничтожение наших врагов-израильтян руками пришельцев?
– Это при том, – продолжил он, – что, как вам известно, наш корабль бдительно охраняется как от прямого, так и от тайного нападения. Наш радар, наши лазеры, наши звукоанализаторы и телескопы работают круглосуточно. Наши боевые системы наготове. А жучи – в технологическом отношении на род отсталый. Им нечего противопоставить нам такого, что не было бы сокрушено без особых усилий.
– И тем не менее, – закончил он, – даже если предположить, что Обратник вдохновит жучей на сверхчеловеческую хитрость и они проникнут на борт корабля, им не достигнуть того, на что рассчитывают. Как только они окажутся на пороге центрального поста управления, один из двух офицеров, постоянно дежурящих на боевом мостике, нажмет кнопку. И все навигационные данные в памяти вычислительных машин будут стерты; жучам не удастся определить местонахождение Солнца. А если им, избави Сигмен, удастся, и до мостика добраться, тогда дежурный офицер нажмет другую кнопку.
Макнефф по очереди оглядел всех присутствующих. А те почти все побледнели, потому что знали, что он собирается сказать.
– И тогда корабль будет немедленно уничтожен взрывом термоядерной бомбы. Уничтожению подвергнется весь город Сиддо. А мы навеки пребудем героями в глазах Впередника и Госуцерквства. Естественно, в наших интересах, чтобы не случилось ничего подобного. Была мысль предупредить местные власти о бесцельности подобного нападения. Однако это могло бы бросить тень на существующие добрые отношения, что в конечном счете могло бы вынудить нас начать осуществление плана «Оздвагеноцид» ранее наступления момента полной готовности…
После планерки Хэл занялся устройством похорон. А потом навалились другие дела, так что домой он вернулся уже затемно.
Когда запирал за собой дверь, стало слышно, как работает душ. Повесил верхнее в шкаф – плеск воды прекратился. Направился в спальню, а тут Жанетта из ванной вышла. Махровой простыней волосы сушит, а сама – нагишом.
– Бо жук, Хэл, – сказала и, нимало не смущаясь, следом в спальню направилась.
Хэл и не помнил, что ответил. Попятился и вышел из спальни. Поглупел от стеснения, смутно ощутил себя грешником, еретиком, так зашлось сердце, так дух захватило, так чем-то жарким и текучим с болезненным наслаждением пошел наливаться член.
Жанетта явилась в светло-зеленом платьице, которое он купил, а она перекроила, перешила себе по фигуре. Пышные черные кудри в узел на затылке собраны. Поцеловала и спросила, не посидит ли он с нею на кухне, пока еда готовится. Он ответил, что с радостью.
Она взялась нарезать что-то вроде лапши. Попросил ее рассказать о своей жизни. Был уже об этом разговор, так и продолжить нетрудно.
– … вот так папин народ нашел планету, похожую на Землю, и поселился там. Прекраснейшую планету, и поэтому они ее назвали «Уо бо пфэйи», то есть «Прекрасная страна». Папа говорил, что на тамошнем материке жило тридцать миллионов. А папе не понравилось так жить, как деды жили, – землю пахать, волноваться насчет купить-продать, детей плодить. Он и еще несколько таких же молодых парней взяли единственный звездолет, что уцелел из шести прилетевших туда, и они улетели к звездам. И добрались до Оздвы. И потерпели крушение при посадке. Не диво. Корабль был такой старенький.
– Его остатки сохранились? – Вви. Там поблизости мои сестры живут, и родные и двоюродные, там мои тетки живут.
– А твоя мать умерла?
Она запнулась, потом кивнула.
– Да. Меня и моих сестренок родила и умерла. Папа умер много позже. Верней, мы так решили, что он умер. Ушел с охотниками и не вернулся.
Хэл помрачнел и сказал:
– Ты говорила, твоя мать и твои тетки – последние из здешних людей. Но это не так. Лопушок рассказывал – там, в диких местах, по крайней мере, тысяча мелких групп, одна с другой не связанных. И раньше ты говорила, что Растиньяк один-единственный из всех землян уцелел после крушения. Он был муж твоей матери, уж так и быть, и, как ни странно это звучит, их союз, союз земного мужчины и внеземной женщины, оказался не бесплоден. Одного этого довольно, чтобы моих коллег поставить в тупик. Заикнись я, что химизм тел и хромосомы твоих родителей оказались совместимы, – они завопят, что этого быть не может!… Но, как я понял, у сестер твоей матери тоже были дети. А их-то отцом кто был, если последний мужчина в вашей группе, как ты говоришь, погиб за много лет до этой злополучной посадки французского звездолета? – Мой папа, Жан-Жак Растиньяк. Он был мужем моей мамы и трех ее сестер. И все они говорили, что супруг он был великолепный, умелый и всегда готовый.
Хэл хмыкнул.
Она возилась с винегретом и лапшой, а он молча наблюдал за нею. Тем временем силился хоть как-то воспрять духом. В конце-то концов, тот француз был почти того же поля ягода, что и сам Хэл Ярроу. Может, кое в чем и пример подал бы. Хэл прочистил горло. Очень просто осуждать других за то, что не устояли перед соблазном, пока сам не побывал в том же положении. А как поступил бы, скажем, Порнсен, выйди Жанетта на него?..
– … а когда мы спустились по той реке и джунгли остались позади, они за мной так строго следить перестали, – продолжала она. – До наших мест, где меня поймали, было целых два месяца пути, и они решили, что у меня не хватит пороху пробиваться назад в одиночку. Слишком много в джунглях жуткого зверья. Твой полуночник по сравнению с ними – козявка безобидная.
Передернула плечами.
– Когда мы пришли в городок на самом краю обжитых мест, мне даже разрешили свободно ходить. Вокруг городка загородка была, за нее лучше было не соваться, так что надобности не стало меня взаперти держать. К тому времени я немножко научилась их языку, а они – немножко моему. Но разговоры у нас были самые простенькие. Один из их ученых, Эсээтеи, изучал меня по-всякому. В том городке, в больнице, машина была, и они снимки делали, что у меня внутри. Все внутренности, весь скелет. Подробнейшим образом. Сказали – чрезвычайно интересно. Представь себе! Таких женщин, как я, свет не видывал, а им просто-напросто чрезвычайно интересно! Ты подумай!
– Ну-ну-ну! – развеселился Хэл. – Нельзя же требовать от жучей, чтобы они смотрели на тебя, как мужчина вида «хомо сапиенс» на женщину вида «хо-мо сапиенс»… то есть…
Она лукаво глянула на него.
– Так, значит, я женщина вида «хомо сапиенс»?
– Очевидная, несомненная, бесспорная и восхитительная.
– Дай-ка я тебя за это поцелую.
Наклонилась над ним, прижалась губами к губам. Он сжал губы, как всегда сжимал, когда его еще Мэри целовала. Но Жанетте это буверняк не по вкусу пришлось, потому что она сказала:
– Ты же мужчина, а не идол каменный. А я твоя люба. Ты не только принимай поцелуи, но и сам целуй. И не так грубо. Ты губами мне губы не дави. Ты нежно, ты мягко, будто твои губы с моими сливаются. Гляди.
И кончиком языка потеребила ему язык. Откинулась, засмеялась, а у самой губы алые, влажные. Он содрогнулся и с трудом дыхание перевел.
– А твой народ постановил, что язык только на разговоры годен? По-вашему, я веду себя грешно и антиистинно?
– Не знаю. Эту тему никто ни с кем никогда не обсуждает.
– Тебе понравилось, я же вижу. Но ведь это тот самый рот, которым я ем. Тот самый, который ты меня заставляешь тряпками завешивать, когда я сижу за столом против тебя.
– Можешь не завешивать, – сдался он. – Я обдумал это дело. Нет разумного повода на время еды прятаться. Просто меня научили, что есть в открытую омерзительно. Как у Павловской собаки слюна текла, когда звонок звенел, точно так же и меня тошнит, когда вижу, как другие пищу в рот кладут.
– Давай есть. Потом выпьем и поговорим. А потом будем делать все, что только захотим.
А он даже не покраснел. Быстро переучивался.
15
После еды она взяла кувшин, развела в нем та-ракановку водой, добавила сизой жижицы, отчего смесь на вид стала похожа на виноградный сок, и заправила лепестками апельсинового цветка. Со льдом напиток стал прохладен, и даже вкус у него появился виноградный. И давиться им не приходилось.
– Почему ты меня предпочла, а не Порнсена? Она села к нему на колени, одной рукой приобняла, другой стакан на столе поглаживала.
– Ой, ты был такой симпатичный, а он – урод. И еще у меня чутье, кому можно доверять, а кому нет. Надо было быть осторожной, я понимала. Папа рассказывал про землян. Предупреждал, что им верить нельзя.
– Прав был. Должно быть, интуитивно, но ты угадала точка в точку. Если бы у тебя были сяжки, я сказал бы, что ты улавливаешь нервное излучение. Может, и вправду у тебя сяжки? Давай-ка, глянем!
Он запустил руку ей в пышную прическу, но она откинула голову и расхохоталась.
И он расхохотался, коснулся ее плеча и погладил нежную кожу.
– Я, наверное, единственный на корабле такой. Остальные тебя с ходу жучам выдали бы. Но зато попал в переплет. Видишь ли, где ты, там и Обратник тут как тут. Как по лезвию хожу, но назад вернуться – да ни за что на свете! То, что ты мне про аппарат рентгеновский у жучей порассказала, знаешь, настораживает. До сих пор мы тут ни одного не видели. Значит, жучи их прячут. Если прячут, то с какой стати? Электричество им известно, так что, по идее, они в силах открыть и рентгеновское излучение. Раз прячут, то не потому ли, что хотят скрыть кое-что поважнее? Звучит не слишком убедительно, понимаю. В конце концов, мы в здешней культуре не очень разбираемся. Мы здесь без году неделя. И людей у нас маловато для таких дознаний. Может, я хватил через край? Весьма на то похоже. И тем не менее, Макнеффа следовало бы предупредить насчет жучиного рентгена. Но как я ему скажу, откуда дознался? Выдумать источник информации у меня пороху не хватит. Так что стою перед дилеммой.
– Перед дилеммой? Что это за зверь? Я про такого не слышала.
Крепко обнял ее и сказал:
– Дай тебе Сигмен и впредь не слышать.
– Слушай, – сказала Жанетта, обожгла взглядом прекрасных карих глаз. – Зачем тебе эта маета – Макнеффа предупреждать? Если Сиддо собирается напасть на Союз ВВЗ – ты же сам рассказывал, как кое-кто это название толкует: Союз Воров В Законе, – и если жучи победят, тебе-то что за дело? Что нам помешает добраться до моих родных мест и поселиться там?
Он в ужас пришел.
– Это же мой народ! Мои земляки! Они, то есть мы, Сигмену верны и не воры в законе, а Союз Возвращенных Восстановленных Земель! Я на предательство не способен!
– А предаешь уже одним тем, что меня здесь прячешь, – отчеканила она.
– Ну, ты дала! – помедлив, ответил он. – Не такое уж это предательство, вернее, вовсе не предательство. Кому я навредил тем, что ты здесь?
– Мне дела нет, навредил ты или не навредил хоть всему свету. Меня заботит, навредишь или не навредишь себе.
– Себе? Да краше я отродясь не жил!
Она ласково рассмеялась и чмокнула его в ухо.
А он помрачнел и сказал:
– А я о нас обоих думаю, Жанетта. Раньше ли, позже ли, и, наверное, чем раньше, тем лучше, нам придется искать убежище. Причем поглубже под землей, имей это в виду. Потом, когда все кончится, можно будет выбраться на свет божий. Если справимся, восемьдесят лет тихой жизни нам гарантированы, этого за глаза и за уши хватит. Пока «Гавриил» долетит до Земли, и пока оттуда прибудут корабли с поселенцами. Мы с тобой тут будем вдвоем среди зверей, как Адам и Ева.
– Ты это о чем? – спросила она, широко открыв глаза от изумления.
– а о том. Наши спецы день и ночь колдуют над образцами крови, что жучи дали. Вот-вот выведут комбинированный пситовирус, который свяжет медь в кровяных тельцах жучей и нарушит всю электрохимию дыхания.
– Зачем?
– Попробую объяснить, хотя чую, что придется сразу на трех языках толковать: по-американски, по-французски и по-сиддийски. Иначе ты не поймешь. Один из штаммов это пситовируса убил большую часть населения Земли во время Апокалипти ческой битвы. В подробности пускаться не буду. Достаточно сказать, что этот вирус был тайно рассеян в атмосфере Земли с кораблей марсианских колонистов. То есть потомков землян, которые поселились на Марсе и считали себя природными марсианами; вождем у них был Зигфрид Русс, распоследний мерзавец во всем белом свете. Так в учебниках истории говорится.
– Не понимаю, – сказала она. Насупилась, во все глаза на него уставилась.
– Смысл уловишь. – Четыре корабля с Марса под видом торговых сошли на низкие предпосадочные орбиты и рассеяли миллиарды этих вирусов. Незримые связки белковых молекул, они попали в атмосферу, по всему миру разлетелись, мелкой моросью оседать начали. Эти молекулы, стоило им попасть на кожу, связывались с гемоглобином в красных кровяных тельцах и придавали им положительный заряд. Такие тельца сцеплялись с неповрежденными, и начиналось что-то вроде рекристаллизации. Красные кровяные тельца на диски похожи, так вот эти диски разламывались пополам, делались серповидными, и развивалась так называемая серповидноклеточная анемия. Эта рукотворная анемия валила людей быстрее и надежнее, чем природная, потому что большую часть клеток поражала, а не малый процент. До каждой клеточки добиралась и разламывала. Кислород переставал поступать в ткани организма, и наступала гибель. Гибель всего человечества, Жанетта. Почти все человечество вымерло от кислородного голодания.
– Теперь я кое-что поняла, – сказала Жанетта. – Но не все же погибли!
– Не все. И, поняв, что произошло, правительства Земли пальнули по Марсу боевыми ракетами фугасного действия. Ракеты проникли глубоко в кору планеты и там взорвались. От сотрясений коры обрушилась большая часть тамошних подземных поселений. А на Земле выжило не больше, чем по миллиону на каждом материке. В некоторых небольших районах никого не затронуло. Почему, мы до сих пор не знаем. Что-то помешало – может быть, местные ветры постоянные, может быть, еще что-нибудь. А вне человеческого тела эта зараза через какое-то время сама гибнет. Так или иначе, а на Гавайских островах и в Исландии все население уцелело, даже правительства усидели. Израиль незатронут остался, будто сам господь-бог длань простер и от смертного дождя охранил. Южная Австралия и Центральный Кавказ не пострадали. Оттуда народ снова по всему миру расселился, поглотил тех, кто поодиночке выжил в других местах. В джунглях Африки и полуострова Малакка много народу в живых осталось, они отбились от пришлых. Обустроиться успели до того, как туда добрались поселенцы с островов и из Австралии. Так вот то, что случилось на Земле, теперь должно произойти на Оздве. Будет дан приказ, и с «Гавриила» запустят ракеты – ракеты с тем же самым смертоносным грузом. Только теперь пситовирус будет иметь сродство с кровяными тельцами оздвийцев. Ракеты пойдут витками вокруг Оздвы, засеют ее невидимым посевом смерти. Одни кости останутся…
– Ша! – приложила Жанетта палец к его дрожащим губам. – Знать не знаю, что такое протеины, молекулы и этот… электрофоретический потенциал! Это выше моего разумения. Но зато я вижу: чем дальше, тем тебе страшнее рассказывать. У тебя голос меняется, глаза стекленеют. Кто-то когда-то тебя запугал. Нет! Не прерывай! Тебя насмерть застращали, но ты остался мужчиной настолько, чтобы не показывать, что боишься. Но избавиться от испуга ты не можешь, так мастерски осуществили задуманную гадость.
И прошептала пухлыми губами ему в самое ухо:
– Так вот: я хочу выкорчевать этот испуг. Хочу вывести тебя из юдоли страха. Не возражай! Понимаю, как претит тебе мысль о том, что женщине ведома твоя слабина. Но в моих глазах она тебя нисколько не роняет. Скорее возвышает то, насколько ты сумел ее преодолеть. Понимаю, сколько отваги нужно было, чтобы пойти на детектор. Но ты пошел ради меня. Я горжусь этим. Люблю тебя за это. Понимаю, сколько отваги нужно, чтобы прятать меня здесь, когда любой мелкий промах грозит тебе жизненной катастрофой и даже смертью. Понимаю, что все это значит. Понимать – это моя природа, мой инстинкт, мое дело и моя страсть. Так выпей со мной! Мы не на виду, где надо постоянно остерегаться и страшиться. Мы укрыты в этих стенах. Наедине друг с другом и вдали от чего бы то ни было. Пей! И ласкай меня. Я отвечу тебе лаской. Хэл, что нам мир? Мир нам не нужен. До поры до времени. Забудь о нем в моих объятиях.
Они поцеловались, их руки сплелись, и зазвучали слова, которые вечно живы в устах любящих.
Улучив минутку, Жанетта приготовила еще порцию таракановки, разбавленной сизой жижицей, и они выпили вместе. Глотнулось без затруднений. Хэл сообразил, что тошнило не столько от самого спиртного, сколько от запаха. Стоило обмануть обоняние, обманулся и желудок. И с каждым разом пилось все легче.
Он осушил три стакана, а потом встал, взял Жанетту на руки и понес в спальню. Она поцеловала его в шею, и словно электрический разряд ударил от ее туб по коже, вверх до мозга, вниз через порывисто дышащую грудь, теплый желудок и воздвигшийся член до самых ступней, которые, как ни странно, заледенели. Мог бы поклясться, не было желания перестать нести на руках женщину, как в ту пору, когда он исполнял свою обязанность перед Мэри и Госуцерквством.
Но даже в упоительном вихре предвкушения сквозил неподатливый узелок. Малый, но мешал, темнел среди огня. Не мог Хэл полностью забыться, грызло сомнение, гадал, не скиксует ли, как бывало иногда, когда он нырял в постель в темноте и входил в Мэри.
Было и темное зерно страха, зароненное сомнением. Если скиксует, незачем жить. Ведь это же позор на всю жизнь!
И он твердил себе: «Нет, этого не будет, не должно быть». Невозможно, пока она в его объятиях, пока слиты их уста…
Уложил ее на кровать и выключил верхний свет. А она тут же включила прикроватное бра.
– А это-то тебе зачем, – сказал он, стоя возле кровати, чувствуя, как растет в нем страх и гаснет страсть. И в то же время дивясь, как это она так быстро и незаметно для него разделась.
Она улыбнулась и сказала:
– Помнишь, ты мне вчера говорил? Прекрасные слова: «И сказал бог: да будет свет»!
– Нам не нужен свет.
– Нужен. Мне нужен. Мне надо видеть тебя постоянно. Темнота всю радость скрадет. Хочу видеть, как ты ластишься.
Потянулась поправить лампочку, груди всколыхнулись при этом движении, а его от этого проняло почти нестерпимой болью.
– Вот так. Теперь мне будет видно твое лицо. Особенно в тот миг, когда глубже всего почувствую твою любовь.
Вытянула ногу и коснулась его колена кончиками пальцев. Наготой – наготы… И его бросило вперед, будто перст ангельский послал навстречу предназначению. Встал на колени на кровати, а те кончики пальцев так и прикипели к его бедру, будто приросли и не способны отделиться.
– Хэл, Хэл, – негромко сказала она. – Что с тобой сделали? Что со всеми вами сделали? С твоих слов знаю, что вы все, как ты. Надо же так! Заставили ненавидеть вместо того, чтобы любить, хоть и назвали эту ненависть любовью. Сделали из вас полумужчин, чтобы вы ушли в себя, а на всех, кто вокруг, бросались, как на врагов. Вы свирепые воины, потому что трусы в любви.
– Это неправда, – сказал он. – Неправда.
– Мне же видней. Это правда. Убрала ногу, положила рядом с его коленом и сказала:
– Иди ко мне.
И когда он, все еще на коленях, сделал движение вперед, приподнялась и ткнулась ему в лицо грудями.
– Возьми их в рот. Стань, как малое дитя. А я вознесу тебя так, что ты забудешь о ненависти и станешь думать только о любви. И станешь мужчиной.
– Жанетта-Жанетта, – хрипло сказал он и потянулся рукой выключить бра. – Только не при свете. Но она перехватила протянутую руку.
– Только при свете. Убрала руку и сказала:
– Хорошо, Хэл. Выключи. Ненадолго. Если без темноты тебе никак, нырни в нее. Глубоко нырни. А потом родись заново… хоть ненадолго. И тогда включи свет.
– Нет! Пусть горит! – рассвирепел он. – Я не у мамы в животе. И обратно туда не хочу, нужды нет. Возьму тебя, как армия город.
– Не будь солдатом, Хэл. Будь люба моя. Люби, а не насилуй. Взять меня ты не сможешь, ты же будешь во мне.
Закинула руку ему за шею, выгнулась под ним, и вдруг он оказался в ней. Содрогнулся так же, как когда она поцеловала его в шею, так же всем телом, но не так неистово.
Хотел прижаться лицом к ее плечу, но она уперлась ему в грудь обеими руками и с внезапной силой приподняла.
– Нет! Мне надо видеть твое лицо. Особенно в тот самый миг надо, потому что хочу радоваться, как ты забываешь себя во мне.
И широко открыла глаза, будто силясь запечатлеть каждой клеточкой памяти лицо Хэла.
Его это не смутило. Постучись тут сам архиуриелит, Хэл не обратил бы внимания. Но заметил, хоть и не вдумался, какие у Жанетты стали зрачки – крохотные, как карандашные точечки.
16
Алкашей в Союзе ВВЗ ждала неминуемая ВМ. И, стало быть, ни психологической, ни медикаментозной, помощи им не полагалось. Растерянный Хэл, желая излечить Жанеттин порок, пошел по лекарство к тому самому народу, который довел ее до жизни такой. Но прикинулся, что нуждается во врачебной помощи он сам.
– Пьянство на Оздве – дело житейское, обычное, но не в тяжелой форме, – сказал Лопушок. – А немногих алкоголиков скоренько приводят в норму, излечивают сострадалисты. Давайте, я вас полечу, попользую.
– Увы. Начальство не разрешит. А незадолго до того Хэл точно тем же объяснил, почему не приглашает жучу к себе.
– У вас самое щедрое на запреты начальство во всей Вселенной, – сказал Лопушок и захохотал, как всегда, подвывая. Отсмеявшись, продолжил: – Прикасаться к спиртному вам тоже запрещено, но ведь пьете же. Впрочем, о непоследовательности не спорят. Однако могу кое-что посоветовать, рекомендовать. Есть у нас средство, называется «негоридуша». Его добавляют в спиртное, сперва понемножку, потом с каждым днем побольше, уменьшая таким образом долю алкоголя. Так, чтобы через две-три недели пациент пил на девяносто процентов раствор «негоридуши». Вкус тот же самый, пропойца редко замечает подмену. Курс приема полиостью снимает зависимость пациента от алкоголя. Но тут не без подвоха, не без каверзы. Хитро помолчал и досказал:
– Пропойца становится, делается страстным «не-горидушаманом»!
Заржал, шлепнул себя по ляжке, затряс головой так, что длинный хрящевой нос раскачало, и зашелся таким хохотом, что слезы из глаз брызнули.
С трудом сдержал смех, вытер слезы носовым платком в виде морской звезды. И сказал:
– По-настоящему-то польза от «негоридуши» та, что пациенту открывается возможность разрядить, сбросить напряжение, которое вызывает у него желание, потребность пить. Открывается возможность, путь к сострадализации с одновременным отучением от стимулятора. Так как вариант с тайным подмешиванием «негоридуши» я применить к вам не смогу, придется допустить, поверить, что вы сами заинтересованы в лечении. Когда почувствуете, что готовы к терапии, положите, ах нет! – поставьте! Поставьте в известность меня.
Так у Хэла дома появилась посудина «негоридуши». А ее содержимое ежедневно и тайно добавлялось в таракановку, которую он добывал для Жанетты. Добывал и дожидался, пока «негоридуша» подействует, надеялся, что на дальнейшие психотерапевтические беседы хватит и его собственных познаний.
А тем самым эти самые «психотерапевтические беседы» неприметным образом вели с ним. Сострадалист чуть ли не каждый день шел на приступ, сражаясь с религией и наукой Союза ВВЗ. Лопушок прочел жизнеописание Айзека Сигмена и его труды:
«Пред-Тору», «Талмуд Запада», «Пересмотренное Святое писание», «Основы сериализма», «Время и богословие», «Особь и мировую линию». Мирно посиживая за столом со стаканом сока в руке, жуча бросал вызов расчетам и выкладкам дуррологов. Хэл доказывал – Лопушок опровергал. Упирал на то, что расчеты основаны на ложных посылках; что исходные положения Дурра и Сигмена подкреплены слишком большим числом натянутых аналогий, метафор и некачественных подстановок. Убери эти подпорки – рушится все здание.
– В добавление, в развитие, – говорил Лопушок, – разрешите, позвольте подчеркнуть, сделать упор на еще одном противоречии, свойственном вашему богословию. Вы, сигмениты, веруете, что каждый человек полностью отвечает за все, что с ним происходит, и никто, кроме него самого, никакому ответу ни за что не подлежит. Если вы, Хэл Ярроу, споткнетесь об игрушку, которую бросило на полу рассеянное дитя, – о счастливый, ненаказуемый ребенок! – и разобьете, повредите себе локоть, значит, у вас, и только у вас, было тайное желание причинить себе неприятность. Если вы серьезно пострадаете во время аварии, обстоятельства тут ни при чем; это вы согласились на осуществление возможного. И наоборот, если вы не согласитесь, то, следовательно, осуществится иной вариант будущего – аварии не будет. Вы совершили преступление? – значит, желали совершить. Вы пойманы? – так не потому, что при том наделали глупостей, не потому, что аззиты оказались сообразительнее или подвижнее, не потому, что обстоятельства привели вас в лапы Аззы, как вы изволите это называть на своем языке. Нет. А потому что желали быть пойманы. Иными словами, вы неким образом управляете обстоятельствами. Если вы умерли, то не потому, что кто-то навел на вас револьвер и нажал курок, а потому что хотели умереть. Вы умерли, потому что пожелали попадания пули и согласились с убийцей в том, что вас следует убить.
– Разумеется, такая философия, такой взгляд на вещи очень удобны для вашего Госуцерквства, – продолжал Лопушок, – ибо избавляют его от ответственности за кару, казнь или несправедливый штраф, или за какой-нибудь иной антигражданский произвол по отношению к вам. Ведь если бы вы сами не пожелали оказаться наказаны, казнены, оштрафованы или безосновательно, осуждены, то с вами этого не случилось бы. И, разумеется, если вы не согласны с Госуцерквством и пытаетесь бросить ему вызов, это означает, что вы стремитесь осуществить осуждаемое им псевдобудущее. И таким образом вас, одиночку, теоретически лишают шансов на победу.
– Однако прислушайтесь повнимательнее, – повышал голос сострадалист. – При этом вы верите, что обладаете полной свободой определять будущее! Но ведь будущее уже выбрано, поскольку Сигмен побывал в нем и все устроил. Его брат, Джад Ведминг, способен на временные нарушения хода событий в прошлом и будущем, но в конце концов Сигмен восстанавливает желаемое равновесие. Так позвольте, так разрешите вас спросить, каким же образом вы способны выбрать, определить будущее, если оно уже выбрано, определено и предсказано Сигменом? Верно либо одно положение, либо другое, оба не могут быть верны.
Хэл чувствовал, как горит лицо, как давит грудь, будто ее камнем привалили, как трясутся руки.
– Да, – бормотал он. -Я ставил перед собой этот вопрос.
– Перед собой или еще перед кем-нибудь?
– Ни перед кем, – отвечал Хэл и слишком поздно спохватывался, что попал в ловушку. – Нам разрешается задавать вопросы учителям, просто такого вопроса нет в списке.
– Вы хотите сказать, что ваши вопросы заранее сведены в список и выйти за пределы этого списка вы не можете?
– Не вижу в этом ничего дурного, – раздражался Хэл. – Это делается для нашего блага. Госуцерквство по опыту знает, какими вопросами интересуются учащиеся, и для менее сообразительных составляет список.
– Для менее сообразительных сгодилось бы, – кивал Лопушок. – Но я подозреваю, что любой вопрос, выходящий за пределы списка, рассматривается как опасный и свидетельствующий об антиистиннизме мышления. Это так?
Хэл кивал. Вид у него был жалкий.
Лопушок не знал жалости и продолжал резать по живому. Ужасней всего, что он мог сказать, были последующие речи, поскольку то были нападки непосредственно на священную особь самого Сигмена.
Он заявлял, что жизнеописание Впередника и его богословские сочинения изображают этого человека любому объективному читателю сексуально-фригидным женоненавистником с мессианским комплексом, с шизофреническими и параноидальными отклонениями, которые время от времени пробиваются сквозь ледяную кору в виде религиозно-ученых бредней и фантазий.
– Всем прочим людям приходилось приспосабливаться и приспосабливать свои мысли ко временам, в которые жили. У Сигмена в этом отношении было преимущество перед всеми остальными духовными вождями. Благодаря омолаживающим средствам, разработанным на Земле, он прожил очень долго, достаточно долго для того, чтобы построить общество по своему разумению, сплотить его и навязать ему свои слабости. Он не умрет, пока держится связка в построенном им здании.
– А он и не умер, – возражал Ярроу. – Он шагнул в иновремя. Он постоянно с нами, он может явиться в любом месте и в любой момент, хоть в прошлом, хоть в будущем. Как только возникает необходимость преобразить псевдовремя во время истинное, непременно является он.
– Ах да, – ухмылялся Лопушок. – То-то вы древним городом заинтересовались, не так ли? Наслышались о фресках, где есть намек, что оздвийских гоминидов некогда почтил своим присутствием человек с другой звезды. Вас озарила догадка, уж не Впередник ли это был. Вот и решили лично убедиться.
– Была такая мысль, – говорил Хэл. – Но в отчете я указал, что хотя эти изображения в чем-то и напоминают Сигмена, полной уверенности у меня нет. Нельзя сказать наверняка, посетил или не посетил Впередник эту планету тысячу лет тому назад.
– Как бы то ни было, – гнул свое Лопушок, – я утверждаю, что высказанные вами положения не выдерживают критики. Вы заявляете, что предсказания Сигмена верны. Я утверждаю, что они, во-первых, двусмысленны. И что, во-вторых, они осуществляются только потому, что ваше государство-церковь, которое вы для краткости именуете «госуцерквст вом», прилагает огромные усилия для такого осуществления. И далее, я утверждаю, что ваше общество с его пирамидальным строением, со службой ангелов-хранителей, где у каждых двадцати пяти семей имеется АХ для наблюдения за самыми интимными подробностями жизни, а каждые двадцать пять АХ'ов находятся в ведении квартального АХ'а, а каждые пятьдесят квартальных АХ'ов подчинены АХ'у-инспектору и так далее, – такое общество основано на страхе, невежестве и подавлении.
Потрясенному, рассвирепевшему, изумленному Хэлу полагалось встать, уйти и никогда не возвращаться. Но сострадалист сердечно предлагал опровергнуть сказанное. Хэл отвечал потоком брани. Иногда, позволив Хэлу выговориться, жуча предлагал сесть и спокойно продолжить диспут. Иногда выходил из себя и Лопушок, начинался крик и взаимные оскорбления. Дважды дело дошло до драки: у Хэла был в кровь разбит нос, Лопушок получил фонарь под глаз. А затем жуча, рыдая, обнимал Хэла и просил прощения, они усаживались и успокаивали нервишки умеренным дружеским возлиянием.
Знал Хэл, что грешно ему слушать Лопушка, грешно ставить себя в положение, когда в его присутствии звучат такие антиистинные речи. Но устраниться сил не было. И хотя он ненавидел Лопушка за эти диспуты, они непонятным образом доставляли удовольствие, даже наслаждение. Не мог Хэл Ярроу раз и навсегда порвать с этим существом, язык которого жегся побольнее, чем когда-то Порнсенова плеть.
Все эти диспуты он пересказывал Жанетте. А та слушала, и он не чувствовал стеснения, еще и еще раз повторяя рассказы, и постепенно улетучивались горечь, неприязнь и сомнения. Оставалась любовь и только любовь, такая любовь, о которой он прежде и представления не имел. Он впервые постиг, как мужчина и женщина становятся единой плотью. Когда-то Мэри и он так и оставались вне круга жизненных восприятий партнера, но Жанетте ведомы были иная геометрия, объединяющая, и иная химия, связующая их обоих воедино.
И не только их обоих – при том всегда присутствовали свет и таракановка. Хэла они больше не смущали. Сама того не зная, Жанетта пила не столько таракановку, сколько «негоридушу». А к включенному бра над кроватью он привык. Счел Жанеттиной причудой. За этой причудой не стоял страх темноты, поскольку Жанетта настаивала, чтобы свет был включен лишь на время любовных ласк. Зачем ей это, он не понимал. Возможно, ей хотелось навсегда запечатлеть в памяти его образ на случай разлуки. Если так, пусть горит свет.
При свете он изучил ее тело отчасти как любовник, отчасти как антрополог. Порадовался и подивился тому, как мала разница между нею и земными женщинами. Во рту у нее был небольшой нарост, вероятно, остаток какого-то органа, давным-давно отмершего в ходе эволюции. У нее было двадцать восемь зубов; отсутствовали зубы мудрости. Кто его знает, возможно, такова была особенность племени, к которому принадлежала ее мать.
Либо у нее имелись какие-то дополнительные грудные мышцы, либо исключительно хорошо были развиты обычные. Крупные, полушариями, груди не обвисали. Были высоки, тверды и уставлены вперед – идеал женской красоты, так часто и упорно воплощаемый мужчинами-скульпторами и так редко встречающийся в жизни.
Не только приятно было на нее глядеть – приятно было находиться с нею рядом. Раз в неделю она встречала его в новом наряде. Обожала шить. Из того, что он покупал для нее, мастерила блузки, юбки, даже халатики. Переменам нарядов сопутствовали перемены прически. Жанетта была постоянно нова, постоянно прекрасна, и Хэл впервые осознал, что женщина способна быть прекрасной. Даже больше – что прекрасным может быть человеческое существо вообще. И что суть красоты – дарить радость, если не навек, то надолго.
Их взаимную радость усиливала ее восприимчивость к языкам. Всего за одну ночь она переключилась со своего «хвканцузсого» на американский. Около недели пользовалась ограниченным, но постоянно растущим словарем, а потом заговорила быстрее и выразительнее, чем он сам.
Однако радости общения сказались на служебном долге. Хэловы успехи в овладении сиддийским замедлились.
Однажды Лопушок спросил, как обстоит дело с книгами, которые у него позаимствовал Хэл. Хэл признался, что плоховато: они по-прежнему для него трудны. Тогда Лопушок дал ему книгу попроще, о развитии жизни на Оздве. Эту книгу жучи использовали как учебник для начальной школы.
– Попробуйте прочесть хоть эту. Правда, два тома, но текст специально облегчен, много иллюстраций, чтобы материал легче усваивался. Обработано для юношества нашим лучшим педагогом Уиинэи.
У Жанетты было гораздо больше времени на школярские подвиги, чем у Хэла; Хэл уходил на целые дни, а ей, запертой в четырех стенах, почти нечем было заняться. Поэтому она набрасывалась на новые книги, и Хэл от большой лени завел обычай поручать ей читать вслух и переводить. Вначале она громко читала по-сиддийски, а потом переводила на американский. А если не хватало слов, то на «хвканцузсий».
Однажды вечером она бодро взялась за книгу Уиинэи. Но в промежутках между параграфами прикладывалась к таракановке, так что довольно скоро ее переводческий пыл пошел на убыль.
Одолели параграф первый, где речь шла о том, как образовалась планета и как на ней возникла жизнь. Взялись за параграф второй – Жанетта откровенно зевнула и украдкой глянула, заметил ли это Хэл, но тот сидел, прикрыв глаза, и притворялся, что погружен в мысли. И Жанетта стала читать дальше о том, как из палеочленистоногих возникли жучи, как набрались ума и порешили стать хордовыми. Уиинэи отпустил несколько тяжеловесных шуток насчет своенравия жуков-кикимор начиная с того рокового дня и перешел к параграфу третьему, в котором излагалась история млекопитающих на южном материке Оздвы – история, которая завершилась возникновением «человека оздвийского».
– … Но у разумных млекопитающих, как и у нас, были свои мимикранты-паразиты, – читала Жанетта. – Одним из них оказался особый подвид так называемого жука-бражника. Этот подвид уподобился не жучам, а человеку оздвийскому. Обмануть он мог разве что партнера с очень низкими умственными способностями, но свойство производить алкоголь приблизило жука-бражника к людям. Он сопутствовал своим хозяевам с первобытных времен, сделался неотъемлемой частью их культуры и в конце концов, как утверждается в одной из теорий, немало поспособствовал вымиранию человека оздвийского.
Возразим: во-первых, не только он и, во-вторых, не следует преувеличивать его злокозненность. У жука-бражника мирный нрав. Но, как большинство живых существ, он мог быть обманут, а его невзыскательные устремления могли быть переиначены так, что стали представлять собой угрозу. Вот это-то и было проделано с жуком-бражником, причем проделано людьми.
Следует отметить, что тут у человека был иной союзник в кавычках, который во многом содействовал использованию жука-бражника во зло. Таким союзником в кавычках был паразит, относимый к совсем иному виду – виду, который, вообще говоря, следует в определенной мере считать родственным нам.
Но у этого вида, однако, была особенность, отличающая его не только от нас, не только от «человека оздвийского», но и от любого иного животного на нашей планете за исключением нескольких весьма низкоорганизованных видов. Как свидетельствуют даже самые ранние костные останки из тех, что нам доступны, все существа, относящиеся к этому виду, были…
Жанетта отложила книгу.
– Тут непонятное слово. Хэл, можно дальше не читать? Скука адская!
– Брось, отложи. Давай лучше комикс почитаем. Самый любимый у наших ребят на «Гаврииле», они на него в очередь записываются.
Она улыбнулась – ну, само очарование! – и на столе перед ней мигом оказались «Приключения Лей фа Магнуса, любимого гвардейца Впередника. Том 1037, книга 56. Лейф Магнус и Чудо-юдо с Арктура».
Хэл послушал-послушал, как она силится перевести американские текстовки на обиходное наречие жучей, но, наконец, эта пошлятина с картинками ему обрыдла, и он потянулся к Жанетте.
А бра над кроватью не выключил…
Не все шло так мирно, бывали столкновения, даже ссоры.
Жанетта ни в куклы не годилась, ни в рабыни. Когда не желала поступить по примеру или по слову Хэла, то по большей части заявляла об этом сразу и вслух. А если Хэл отвечал ехидством или грубостью, то рисковал тут же получить в ответ колкое словцо.
Как-то раз вскоре после того, как он спрятал Жанетту у себя в пука, он вернулся с корабля чуть ли не на вторые сутки, столько вдруг срочного дела объявилось. Понятно, что за такое время щетина на подбородке более чем обозначилась.
Жанетта поцеловала его, скорчила гримаску и сказала:
– Царапучий. Как напильник. Сейчас крем собью и сама тебя побрею.
– Не надо, – сказал он…
. – Почему? – спросила она, направляясь за кремом в то самое. – Мне нравится тебя брить. А особенно нравится, какой ты после бритья красивенький.
Вернулась с баночкой средства для удаления волос.
– Сядь, я сама. И покуда я буду с этой скребучей проволокой воевать, можешь сидеть и воображать, что купаешься в моей любви.
– Жанетта, ты не поняла. Мне нельзя бриться. Я теперь «ламедник», а «ламедникам» положено отращивать бороду.
Она так и замерла с баночкой в руке.
– Нельзя? Ты имеешь в виду, есть такой закон и тебя посадят в тюрьму, если ты побреешься?
– Нет, не совсем так, – сказал он. – Впередник ничего на сей счет не говорил и никаким законом носить бороду не обязывал. Но обычай у нас такой. И почетно, потому что только тем, кто носит «ламед», дозволяется отращивать бороду.
– А что случится, если бороду отрастит не – «ламедник»?
– Не знаю, – сказал он скучным голосом. – Такого не бывает. Можешь быть совершенно уверена. Такое может прийти в голову только сумасшедшему извращенцу.
– Но борода тебя портит, – сказала она. – И царапает мне лицо. Будто я целуюсь с пружинным матрасом.
– Тогда одно из двух, – рассвирепел он. – Либо ты научишься целоваться с пружинным матрасом, либо вообще отвыкай от поцелуев. Потому что я должен отрастить бороду. Должен!
– А вот и не должен! – сказала она с вызовом. – Что толку быть «ламедником», если тебе от этого свободы не прибыло, если опять приходится делать то, что обязан? Почему нельзя поступить против этого дурацкого обычая?
От ярости и от страха у Хэла все в голове перепуталось. Вдруг почудилось, что она хлопнет дверью и уйдет, продолжай он стоять на своем. А если уступить, то среди «ламедников» корабля он будет как белая ворона.
В результате обозвал Жанетту дурехой. Получил в ответ «дурака». Поссорились Полночи прошло, прежде чем она первая сделала шаг к примирению.
А прежде чем окончательно выяснили, что любят друг друга, наступил рассвет.
Утром он побрился. Три дня на «Гаврииле» никто к нему не приставал, никаких замечаний не делал, а он маялся: чувствовал себя виноватым и ловил на себе косые взгляды (или воображал, что ловит). Наконец убедил себя: либо никто ничего не заметил, либо все слишком заняты и разоряться по поводу Хэлова бритого подбородка ни у кого нет ни времени, ни желания. Даже начал подумывать, а нет ли других докук, связанных с ношением «ламеда», которыми можно было бы точно так же, тишком-молчком, пренебречь на здоровье.
А на четвертое утро его вызвали в рабочий кабинет к Макнеффу.
Сандальфон сидел за столом, теребил себе бородищу. Воззрился на Хэла водянистыми очами и долго не отвечал на приветствие.
– Легко себе представить, Ярроу, что вы увлечены исследованиями в поле и обо всем прочем вам просто некогда думать, – сказал сандальфон. – Это укладывается в истиннизм. Нештатная обстановка, и все помыслы устремлены ко дню, когда мы перейдем к окончательному решению поставленной задачи.
Макнефф встал и принялся вышагивать перед Хэлом из угла в угол.
– Но в то же время вы обязаны помнить, что «ламед» на груди означает не только привилегии, но и ответственность.
– Буверняк, авва.
Макнефф на полном ходу остановился и нацелил Хэлу в грудь длинный костистый палец.
– Тогда почему не отращиваете бороду? – резко спросил он. И метнул свирепый взгляд.
Хэл почуял, что цепенеет, как во времена, когда в него, в малолетку, АХ, Порнсен незабвенный, точно так же целился пальцем и таким же испепеляющим взглядом буравил. И ушла душа в пятки, будто Хэл Ярроу и вправду нашкодивший пацаненок.
– Я… я…
– Должно не только стремиться к получению «ламеда», должно стремиться постоянно доказывать себе и окружающим свое право носить его. Безупречность и только безупречность помогает преуспеть в этом, беззаветное усилие блюсти свою безупречность!
– Извините, авва, – сказал Хэл дрогнувшим голосом. – Я прилагаю беззаветное усилие и блюду свою безупречность.
И с этими словами набрался смелости глянуть сандальфону в глаза, хотя, откуда набрался, и сам не знал. Смелости глянуть и смелости лгать наглейшим образом, лгать в присутствии безупречнейшего из безупречнейших, великого сандальфона! Он, Хэл, погрязший в еретической скверне!
– Однако не понял, что общего между моей безупречностью и тем, что брею бороду. Ни в «Талмуде Запада», ни в каком-либо другом труде Впередника нет ни слова об истиннизме или антиистиннизме касательно бороды.
– Вы мне будете рассказывать, что есть и чего нет в писаниях? – вспылил сандальфон.
– Разумеется, нет. Но при том я говорю правду, не так ли?
Макнефф снова заходил по кабинету.
– Мы обязаны быть безупречны, обязаны. Даже малейшее послабление псевдобудущему, малейший отход от истиннизма способны опорочить нас. Да, Сигмен нигде и никогда не высказывался по поводу ношения бороды. Но давно распознано, что только истинно безупречный достоин отращивать бороду по примеру Впередника. И в знак своей истинной безупречности мы обязаны блюсти соответствующий внешний вид.
– Всем сердцем согласен, – сказал Хэл.
Дошло, что дрожит он только по старой привычке, будто стоит навытяжку перед Порнсеном, а не перед архиуриелитом. А Порнсена нет, с Порнсеном покончено, его пепел развеян по ветру. Рукой самого Хэла развеян во время погребальной церемонии. Мысль об этом добавила Хэлу решимости.
– В штатной обстановке немедля отрастил бы, – сказал он. – Но нахожусь в поле и помимо исполнения прямых служебных обязанностей произвожу эффективный сбор агентурных данных. Обнаружилось, что наблюдаемые считают бороду омерзительной; как вам известно, у них нет растительности на лице. Им непонятно, почему мы отращиваем бороды при том, что располагаем средствами для удаления волос. Им дурно в присутствии человека с бородой. Я не смог бы войти к ним в доверие, если бы отрастил бороду. Но как только мы перейдем к окончательному решению поставленной задачи, я немедленно отращу бороду.
Макнефф хмыкнул и запустил пальцы в рыжее свидетельство своей безупречности.
– Отчасти резонно. Нештатная обстановка и ее последствия. Почему своевременно не поставили в известность?
– Вы настолько заняты с утра до вечера, что не хотел вас отвлекать по личному делу, – ответил Хэл.
А сам гадал, найдется ли у Макнеффа время и охота проверить правдивость слов бритого «ламедника». Жучи-то ни единым словом не обмолвились Хэлу насчет бород у землян. Все это он выдумал себе в оправдание, припомнив, как американские индейцы были удивлены видом бородатых белых людей. Где-то когда-то об этом читал.
Макнефф еще раз кратко напомнил Хэлу, как важно блюсти безупречность, и отпустил с Сигменом.
И Хэл, с трудом справляясь с дрожью после этого нагоняя, отправился домой. Дома принял маленько для успокоения, а потом добавил, чтобы поужинать вместе с Жанеттой. Когда чуток тяпнешь, перестает действовать на нервы зрелище, как Жанетта кладет себе пищу кусок за куском в открытый рот, – это он усвоил безупречно.
17
В один прекрасный день, возвратись с рынка с тяжеленной корзиной, Хэл Ярроу объявил:
– Больно ты нажимаешь на солененькое в последнее время. Уж не за двоих ли? А может, и за троих? Жанетта побелела.
– Ты что? Ты в своем уме? Что говоришь! Он бухнул корзину на стол, взял ее за плечи.
– Буверняк, в своем. Не сей секунд в голову взбрело – давно замечаю да помалкиваю. Сначала убедиться хотел. Так я прав?
Она в одну точку уставилась, а саму трясет.
– Ой, нет! Не может быть!
– Уж так и не может!
– Да. Я знаю. Не спрашивай, откуда знаю. Но этого не может быть. И вперед не смей говорить мне такие вещи. Даже в шутку. Я с ума сойду!
Привлек ее к груди, сказал поверх плеча:
– Это из-за того, что не можешь? Из-за того, что знаешь: от меня детей не будет?
Пышная, слегка пахнущая духами прическа слегка дрогнула.
– Знаю. И не спрашивай, откуда знаю. Приотпустил ее, удержал на расстоянии вытянутых рук.
– Слушай, Жанетта, кажется, я понял. Мы с тобой относимся к разным видам. Как твои мать и отец. Но у них были дети. Точно так же, например, у осла и кобылы могут быть детеныши-лошачихи, но сами лошачихи бесплодны. Можно скрестить льва и тигрицу, а вот получившихся львигра и тигвицу – уже нельзя. Верно? И ты боишься, что с тобой, как с той лошачихой!
Она ткнулась лицом ему в грудь, от ее слез рубашка мигом насквозь промокла.
– Люба моя, давай смотреть правде в глаза. Может, так оно с тобой и есть. Ну и что? Впереднику ведомо, у нас положеньице то еще, не хватало нам ребеночка! Хорошо бы… да ну… у тебя есть я, у меня есть ты, разве не так? И большего не прошу. Главное, есть ты.
Утер ей слезы, поцеловал, помог затолкать покупки в холодильник, но мысль – она есть мысль: придет – не вдруг отвяжется.
Соленого и молочного Жанетта поглощала много больше нормы, особенно молочного. Но перемен во внешнем виде, чтобы сами за себя говорили, не было. А хоть как-то должно же сказаться это обжорство! Месяц прошел. Хэл с Жанетты глаз не спускал. В нее уходило, как в прорву. И безо всяких последствий.
Решил, что ошибся. И то сказать: вид другой, обмен веществ другой, а что он в этом понимает?
Еще месяц прошел. На выходе из библиотеки «Гавриила» снова попался навстречу Тернбой, ШПАГ-историк.
– Слух идет, технарей можно поздравить, – привязался. – Нынче в 15. 30 на планерке вроде бы объявят, что последняя серия удалась.
– Неужели буверняк?
Отчаянием жгло, но Хэл постарался, чтобы голос не выдал.
Когда в 16. 50 планерка закончилась, побрел домой – куда ж еще? – а лучше бы на край света. Пситовирус был уже в производстве. Самое большее через неделю наберется столько, что хватит наполнить емкости шести самолетов-снарядов. Первым номером по порядку намечена обработка города Сиддо. Следуя по разворачивающимся спиральным траекториям, самолеты-снаряды засеют район приличных размеров. Потом их возвратят, перезаправят и вышлют снова. И так до тех пор, пока не будет поражена вся Оздва.
Доплелся до дому, и оказалось, что Жанетта лежит в постели, черные кудри короной на подушке. Слабо улыбается.
Обо всем на свете позабыл, встревожился.
– Жанетта, что с тобой?
Пощупал ей лоб. Кожа сухая, шершавая, жарок чувствуется.
– Не знаю. Мне уже недели две неможется, но я держалась, виду не подавала. Думала, пройдет. А нынче совсем прихватило, пришлось лечь, я с утра лежу.
– Ну, мы тебя живенько поднимем.
Бодрым голосом сказал. А в голове звенело: «Каюк!» Если что серьезное, то врача взять негде и лекарств тоже.
Следующие несколько дней Жанетта провела в постели. Температура с утра держалась на 37, 5°, к вечеру подскакивала до 37, 8. Хэл ухаживал как только мог. Аспирин давал, мокрое полотенечко на лоб, пузырь со льдом. Аппетит у нее почти пропал, только пить просила. Пила и пила молоко. А таракановки своей любимой и сигарет в рот не брала.
Но не так сама по себе Жанеттина хворь приводила Хэла в отчаяние, сколько Жанеттина молчаливость. Сколько он ее знал, Жанетта тараторила – легко, весело, радостно для души. Случалось, примолкала, но только если что-нибудь незнакомое рассматривает, полностью увлечена, от любопытства сама не своя. А теперь говорил только он один. И если умолкал, тишины не заполняли ни расспросы Жанеттины, ни мнения.
Надеясь ее развеселить, он рассказал, что задумал угнать гичку и бежать в джунгли. Помутневшие глаза у Жанетты ожили, давно так не сияли. Она даже привстала, когда он разложил перед ней на кровати карту материка. Показала, где жила, описала местность: тут джунгли в низине, там горы, а вот здесь, на плоскогорье, развалины древней столицы и в подземельях ее тетки и сестры ютятся.
Хэл присел за шестиугольный прикроватный столик, будто бы занялся бумажными делами. А сам украдкой на нее погладывал. Полулежит на боку, лилейное плечико из халата торчит, глаза горят, а под ними – нехорошие тени.
– Всего хлопот – ключик увести, – объяснять пустился. – Видишь ли, на каждой гичке есть блокиратор, его перед каждым вылетом на нуль сбрасывают. Полсотни километров можно пройти на ручном управлении. Но как намотал полсотни, так блокиратор автоматически отрубает движок и в эфир идет сигнал, чтобы гичку запеленговали. Это чтобы никто не сбежал. Но блокиратор можно вскрыть и отключить. Для этого есть специальный ключик. И уж я – то добуду его в два счета. Так что ты не тревожься.
– Неужели ты меня настолько любишь?
– Насчет этого буверняк полный. А по мне, так и сверхбуверняк.
Встал, поцеловал ее. А у нее губы не шелковые, не сочные, а сухие, жесткие. Такое ощущение, что вся кожа ороговела.
Занялся писаниной. Час прошел – донесся вздох. Хэл вскинул взгляд. Жанетта полусидит, как сидела, глаза закрыты, нижняя губа чуть отвисла. И пот по лицу ручьем бежит.
Вспыхнула надежда: кризис, сейчас температура спадет! Нет. Даже чуть подскочила – 37, 9.
Жанетта что-то пробормотала.
Наклонился к ней.
– Что?
Ни слова не понял. Видимо, язык ее материнского племени. Бредит.
Ругнулся. Действовать надо. И о последствиях не думать. Сбегал в ванную, вытряс из пузырька большую таблетку «баю-баю», вернулся, чуть ли не силком ей в рот втолкнул. Еле уговорил запить.
Запер спальню, накинул плащ, капюшон нахлобучил, побежал в ближайшую аптеку. Купил три средних иглы, три шприца, лимоннокислый натрий в растворе, чтобы кровь не сворачивалась. И бегом домой кровь у Жанетты взять. Игла только с четвертой попытки вошла, когда в спешке чуть ли не изо всех сил нажал.
А Жанетта, когда колол, ни глаз не открыла, ни руки не отдергивала.
Затаив дыхание, потянул кровь из вены в шприц. Самому невдомек, что даже губу закусил. Жуткое подозрение, которое вот уже месяц с трудом отгонял, всплыло и сей миг должно было разрешиться. В шприц пробилась первая капелька крови – красной! Ерундовая мысль оказалась. И слава Сигмену!
С большим трудом растолкал Жанетту, чтобы взять на анализ мочу. Жанетта бормотала что-то непонятное, отрывочное и тут же не то засыпала, не то сознание теряла – он так и не понял. С отчаяния по щекам ей надавал, чтобы хоть ненадолго очнулась. Еще раз себя обругал: только сейчас сообразил, что прежде надо было на горшок посадить, а потом уже «баю-баю» в рот ей запихивать. Вот дурак! Но сосредоточиться не мог: волнение мешало. И по поводу Жанетты, и по поводу того, что предстояло на корабле.
Заварил кофе как можно крепче, попытался влить ей в рот. У нее по подбородку текло, весь халатик залило.
То ли от кофе, то ли все же от его отчаянного голоса, но Жанетта пришла в себя, глаза открыла, выслушала, что нужно сделать и зачем. Прокипятил баночку, слил туда мочу, завернул баночку и шприц с кровью в носовой платок, сунул в карман плаща.
Вызвал по браслетке гичку с «Гавриила». На улице бибикнуло. Глянул на Жанетту, запер спальню и кубарем скатился с лестницы. Гичка парила над землей у поребрика. Забрался, сел, нажал кнопку «ВОЗВРАТ». Гичка взмыла на триста метров и по глиссаде в 11° пошла к парку, где стоял корабль.
В медотсеке было пусто, сидел один дежурный фельдшер. Вскочил, комикс на пол с колен уронил.
– Вольно, вольно, – сказал Хэл. – Я на минутку встану к анализатору. Без возни насчет заявки в трех экземплярах. Личные заботы-трудности. Вопросы есть?
А сам – плащ нараспашку, чтобы виден был золотой «ламед» на груди.
– Буверняк, нет, – буркнул дежурный фельдшер, заметив «ламед».
Хэл протянул ему две сигареты.
– Ого! Спасибо.
Дежурный фельдшер закурил, уселся и подхватил с пола комикс «Впередник и Далила в скверном городе Газа».
Анализатор стоял в закутке, дежурному фельдшеру не было видно Хэла. Ярроу набрал нужную программу, ввел пробы, сел. Вскочил, забегал по закутку. Тем временем анализатор мурлыкал, как довольный кот, пировал на свой манер химический. Через полчаса гукнул разок, и загорелась зеленая надпись «АНАЛИЗ ЗАВЕРШЕН».
Хэл нажал кнопку. Как язычок из металлического ротика, высунулась заполненная бланк-распечатка. Прочел. Моча в норме. Никаких инфекций, рН в норме. И что самое удивительное, кровь в норме!
Не было уверенности, что анализатор не напортачил с анализом крови Жанетты. Но вероятность, что кровь у нее такая же, как у землян, тоже была велика. Почему бы и нет? Хотя от Земли до Оздвы четыре десятка световых лет, но законы развития живых существ от этого не меняются. Что там, что тут двояковогнутый диск – наиболее эффективная форма частички, которая обеспечивает максимальный перенос кислорода.
Так, по крайней мере, думалось, пока собственными глазами не увидел, как выглядят кровяные тельца у жучей.
Анализатор застрекотал. Пошла распечатка. Неизвестный гормон! Судя по виду молекулы, похожий на один из гормонов паращитовидных желез, управляющий обменом кальция.
Это что за новости! Может, как раз эта штука у Жанетты в крови и есть причина беды?
Сработала цифропечать. Содержание кальция в крови – сорок миллиграмм-процент.
Странно! При таком высоком проценте почки обязаны сработать, избыток кальция неизбежно пробился бы в мочу. А не пробился. Куда же этот кальций девается, Обратник его побрал бы!
Зажглась красная надпись «КОНЕЦ РАБОЧЕГО ЦИКЛА».
Хэл схватил с полки справочник, открыл раздел «Кальций». Прочел – гора с плеч. Похоже, прояснилось. Похоже, у Жанетты гиперкальцемия, она проявляется при большом числе заболеваний, с рахита начиная и кончая размягчением костей и дегенеративным гипертрофированным артрозоартритом. Но в основе всех этих хвороб – нарушения в работе паращитовидных желез, вот что главное!
Теперь – к фарматрону. Нажал три кнопки, набрал номер, две минуты подождал – откинулся лючок на уровне груди. Выкатился податчик. А на нем – пластиковая упаковка: шприц для подкожных вливаний и ампула на тридцать кубиков с чуть сизоватым раствором. «Сыворотка Джеспера», ударный регулятор деятельности паращитовидных желез.
Хэл сунул упаковку во внутренний карман, запахнул плащ и вышел вон. Дежурный фельдшер и ухом не повел.
Теперь – на оружейный склад. Вручил кладовщику требование – все, как положено, в трех экземплярах – на автоматический пистолет калибром 1 мм и сотню патронов с разрывными пулями. «Ламед» и тут сработал: кладовщик не стал разглядывать подписи, подделки не заметил и отпер шкаф. Пистолет, крохотный, в руке не видно, Хэл сунул в карман брюк.
Миновал один коридор, миновал другой и ту же операцию проделал, чтобы разжиться ключом от блокиратора на гичке. Вернее, попытался проделать.
Но тамошний дежурный глянул на бумаги, почесал в затылке и сказал:
– Извините. Такие требования должны быть завизированы лично начальником службы охраны. Часок придется подождать. Он сейчас на совещании у архиуриелита.
Хэл убрал бумаги.
– Не горит. Дело есть. Завтра утром загляну.
По пути домой прикинул план действий. Прежде всего сделать Жанетте укол, перенести ее в гичку и рвануть километров на сорок – сорок пять. Тогда-то и взломать кожух под панелью управления, два проводка закоротить, один перебросить на соседнюю клемму. Так снимается пятидесятикилометровое ограничение. Увы, при том на «Гаврииле» сработает сигнал тревоги.
Вся надежда на то, что к этому времени удастся уйти за гряду к западу от Сиддо. Гряда помешает, сигнал об отключении блокиратора до «Гавриила» дойти не должен. Но автопилот на гичке врубится, а на ходу, может, удастся разбить передатчик пеленг-сигнала, и тогда их никто не сыщет. – И если вести гичку на бреющем полете, есть шанс, что не заловят до самого рассвета. На рассвете надо будет нырнуть в ближайшее озеро или в глубокую реку и отлежаться до темноты на дне. Когда стемнеет, можно будет вынырнуть и рвануть в тропики. А если радар покажет признаки погони, можно попробовать идти подводным ходом. К счастью, гидроакустических приборов на «Гаврииле» нет.
Хэл оставил гичку у поребрика. Затопотал по ступенькам. Попал ключом в скважину с третьей попытки. Запирать за собой не стал, просто прихлопнул дверь.
– Жанетта!
В жар бросило: вдруг она в полубреду встала, сумела открыть дверь и ушла!
Донесся тихий стон. Отпер спальню, распахнул дверь – Жанетта лежала с широко открытыми глазами.
– Жанетта, тебе не лучше?
– Нет. Хуже. Много хуже.
– Люба, не переживай. Я такое лекарство достал, что ты у меня козочкой запрыгаешь! Через пару часов вскочишь и начнешь кричать: «Где бифштекс?»! А на молоко и глядеть не захочешь. Канистру «негоридуши» потребуешь. И…
И на полуслове осекся, увидев, как она изменилась в лице. Не лицо стало, а каменная маска отчаяния, точь-в-точь как жутковатые резные деревянные маски греческих трагиков.
– Матерь великая! – простонала. – Что ты сказал? «Негоридуша»? – ее голос окреп. – Так ты поил меня «негоридушой»?
– Буверняк, Жанетта. Да что ты? Тебе же нравилось. Какая разница? Сейчас мы…
– Ой, Хэл, ой, Хэл, что же ты натворил!
Серая скорбная маска исказилась. Хлынули слезы. Если бы камень мог плакать, так плакал бы камень.
Хэл развернулся, бросился на кухню, вынул упаковку, сорвал пленку, воткнул иглу в ампулу. Вер нулся в спальню. Пока искал иглой вену, Жанетта молчала. А ему страшно стало, что игла сломается. Кожа у Жанетты сделалась, как ломкая корка.
– Землян эта штука поднимает, глазом моргнуть не успеешь, – сказал он, изо всех сил стараясь изобразить жизнерадостную, полную оптимизма медсестру.
– Иди сюда, Хэл. Все это… все это не поможет.
Он вырвал иглу, протер место укола спиртом, наложил тампончик. Встал на колени рядом с кроватью, поцеловал Жанетту. Губы у нее стали жесткие, как подошва.
– Хэл, ты меня любишь?
– А ты все не веришь? Сколько раз повторять?
– Что бы ты ни узнал про меня?
– Я про тебя и так все знаю.
– Нет, не знаешь. Не можешь знать. Ой, Великая матерь, надо было тебе сказать! Может, ты меня не разлюбил бы. Может…
– Жанетта! О чем речь?
Она сомкнула веки. И вдруг у нее начались судороги. Когда приступ миновал, зашептала непослушными губами. Он нагнулся поближе, чтобы расслышать.
– Что ты сказала? Жанетта, повтори! Схватил ее за плечи, затряс. Жар у нее явно спал, плечи были холодные. И шершавые, как камень. Донеслись тихие, полувнятные слова.
– Меня… к теткам… к сестрам… знают… что делать… не ради меня… ради…
– О чем ты?
– … будешь… до самой… любить…
– Да! Ты же знаешь! Не о том разговор, нам улепетывать отсюда надо!
Может быть, она и расслышала, но никакого знака не подала. Голова откинулась на подушку, нос уставился в потолок. Глаза закрыты, губы сомкнуты, руки вдоль тела ладонями вверх. Грудь неподвижна. Если дыхание и есть, то такое слабое, что ни малейшего шевеления груди ни на взгляд, ни наощупь не уловить.
18
Хэл молотил в дверь квартиры Лопушка, пока та не распахнулась. На пороге стояла супруга сострадалиста.
– Хэл, как вы меня напугали!
– Где Лопушок?
– Он на медфаке. У них ученый совет.
– Он мне срочно нужен.
Внизуня едва успела крикнуть вслед:
– Давайте за ним! Он на этих заседаниях дохнет от скуки!
Скатился вниз через три ступеньки, наискось пересек лужайку с такой быстротой, что в легких горело. Не замедляя бега, одолел лестницу здания медфака и бурей ворвался в зал заседаний.
Хотел слово сказать – пришлось остановиться и перевести дух.
Лопушок вскочил.
– Что случилось?
– Идем… идемте. Вопрос… жизни… смерти.
– Простите, господа, – сказал Лопушок.
Десяток жучей вразнобой закивал, заседание продолжилось. Сострадалист накинул плащ, надел шапочку с бутафорскими сяжками и вывел Хэла вон.
– Говорите, что случилось!
– Слушайте. Я вынужден вам довериться. Понимаю, что вы ничего не можете мне обещать. Но думаю, не выдадите нашим. Не то у вас воспитание.
– Переходите к сути, друг мой.
– Слушайте. При всем вашем общем отставании эндокринология у вас не уступает нашей. И у вас есть опыт. Вы же изучали ее анатомию, физиологию и обмен веществ. Вы…
– Чью анатомию? Чью физиологию? Вы имеете в виду Жанетту? Жанетту Растиньяк? «Лэйлиточку»?
– Да. Она прячется у меня в квартире.
– Знаю.
– Знаете? Откуда? Я…
Жуча положил руку на плечо Хэла.
– И вам кое о чем следует знать. Я собирался вам сказать об этом вечером, после возвращения домой. Нынче утром землянин по имени Арт Хьюнэх Пукуи снял квартиру в доме напротив – окна в окна с вашей. Заявил, что хочет жить среди нас, чтобы иметь возможность ускоренно изучать местный язык и нравы. Но большую часть времени провел за возней с чемоданом, в котором, как я полагаю, находится аппаратура для подслушивания того, что происходит у вас в квартире. Однако хозяин дома глаз с него не спускал, так что у вашего сородича не было возможности полностью развернуть наблюдение.
– Пукуи – аззит.
– Вам лучше знать. Как раз сейчас он у себя в квартире следит за нашим домом с помощью сильной оптики.
– И, возможно, даже слышит эти наши слова, – сказал Хэл. – У него сверхчувствительная аппаратура.
– Успокойтесь, стены здесь толстые, звуконепроницаемые. Не обращайте на него никакого внимания, но сделайте для себя выводы.
Лопушок следом за Хэлом вошел в спальню. Пощупал лоб Жанетты, хотел поднять веко и заглянуть в зрачок. Веко не поддалось. Лопушок хмыкнул.
– Однако! Кальцификация кожного покрова далеко зашла.
Одной рукой Лопушок сбросил с Жанетты одеяло, другой ухватил халатик за воротник и рванул так, что пуговки поотлетали. Отшвырнул халатик. Жанетта лежала нагая, безмолвная, лилейно-белая и прекрасная, будто дело рук замечательного ваятеля.
Со стороны глядя, это было похоже на нападение, и Хэл чуть не вскрикнул. Но подавил вскрик, поняв, что Лопушок действует как врач. Никаких иных чувств жуча при этом зрелище изведать был не способен.
Теряясь в догадках, Хэл во все глаза следил за Лопушком. А тот помял кончиками пальцев плоский живот Жанетты, прижался к нему ухом. Выпрямился и покачал головой.
– Не стану обманывать вас, Хэл. Постараемся сделать все, что сможем, но не все в нашей власти. Если яйца не созрели и нам удастся удалить их целыми, то это вкупе с сывороткой, которую вы ей ввели, может обратить процесс вспять, и тогда она выкарабкается.
– Яйца?
– Потом, потом. Укутайте ее для отправки. Я сбегаю наверх, доктору Ножжу позвоню.
Ярроу развернул одеяло рядом с Жанеттой. И перекатил ее на одеяло. Она была цельнотверда, как манекен с витрины. Накрыл Жанеттино лицо. От окаменевшего взгляда делалось не по себе.
Взвыла браслетка. Хотел было отключить, но помедлил. Браслетка выла громко, требовательно. Поколебавшись, решил, что если не ответит, на «Гаврииле» разом поднимут тревогу.
– Ярроу?
– Буверняк.
– Ярроу, явитесь к архиуриелиту. В течение четверти часа.
– Буверняк.
Вернулся Лопушок и спросил:
– Что собираетесь делать?
Хэл постоял с открытым ртом и сказал:
– Берите за плечи, я возьму за ноги. Она так закоченела, что носилок не надо.
Когда спускались по лестнице, набрался духу и спросил:
– Лопушок, сможете спрятать нас после операции? Теперь нам не удастся уйти на гичке.
– Не волнуйтесь. У ваших сородичей вот-вот окажется столько хлопот, что будет не до вас, – загадочно бросил жуча через плечо.
За минуту внесли Жанетту в гичку, доставили в больницу и выгрузили. Хэл сказал:
– На секундочку положим ее на землю. Я переключу гичку на автоматический возврат, путь идет на «Гавриил». Так они, по крайней мере, не будут знать, где я.
– Не надо. Пусть стоит. Может быть, она вам после понадобится.
– После чего?
– Поговорим попозже. А вот и доктор Ножж…
Хэл расхаживал по комнате ожидания из угла в угол, дымил «Серафимской», что твой паровоз. Лопушок сидел на стуле, потирал голую макушку, теребил торчащий на затылке золотистый крученый вихор.
– Всего этого можно было избежать, – огорченно сказал он. – Если бы я знал, что «лэйлита» прибилась к вам, я сообразил бы, зачем вам понадобилась «негоридуша». Хотя вряд ли. Ведь я уже двое суток в курсе, что она у вас, а все-таки не догадался. Слишком занят был операцией «Землянин», времени не было подумать о Жанетте.
– Операция «Землянин»? Это что такое? – спросил Хэл.
Четверогубый рот Лопушка растянулся в усмешке, оскалился так, что стали видны острые зазубренные жвалы.
– Некоторое время не могу вам сказать, поскольку ваши сородичи на «Гаврииле» очевидным образом способны выведать у вас о ней, прежде чем следует. Однако, видимо, могу без особых опасений поставить вас в известность, что мы полностью в курсе вашего плана распространить в атмосфере планеты смертоносный вирус, который разрушает белок крови.
– Прежде я пришел бы от этого в ужас, – сказал Хэл. – А теперь мне все равно.
– Даже не поинтересуетесь, как мы доведались?
– А что проку? – вяло сказал Хэл.
– Прочесть ваши мысли мы, конечно, не могли. Но тут у нас есть пара сяжков, – тронул себя Лопушок за непомерно длинный нос. – Они очень чутки, в ходе эволюции наше обоняние не притупилось, не то, что у вас, у землян. Посредством этих органов, через запахи, мы способны уловить мельчайшие пе ремены в обмене веществ у окружающих. Когда один из ваших уполномоченных обратился к нам с просьбой о предоставлении образцов крови для научных исследований, мы уловили подспудную эмоцию. Я правильно выражаюсь? «Подспудную»? В конце концов мы предоставили вам эти образцы. Но взятые у скота, в кровяных тельцах которого используется медь. А у нас в крови переносчиком кислорода работает магний.
– Значит, наш пситовирус ударит мимо цели?
– Да. Конечно, через какой-то срок, необходимый для обучения свободному чтению наших книг и соответствующих учебников, можно разобраться, как обстоит дело в действительности. Но прежде чем ваши специалисты разберутся, я верю, надеюсь и молюсь, окажется слишком поздно, чтобы их осведомленность имела хоть какое-нибудь значение.
Сострадалист очертил круг у себя над головой.
– А мы тем временем убедились в правоте своих подозрений. Увы, для этого пришлось применить силу, но на карте стояла целиком наша жизнь, агрессорами выступили вы, земляне, а в такой обстановке цель оправдывает средства. Неделю тому назад нам наконец удалось захватить одного из ваших биохимиков вместе с его АХ'ом во время визита к нам на факультет. Мы ввели им «сыворотку правды» и допросили под гипнозом. Разобрались с трудом, но мешал главным образом языковый барьер. Один я сносно владею американским. Мы в ужас пришли. Но не удивились. Прежде всего потому, что носом чуяли: вот-вот должно произойти что-то неприятное. Так что недаром мы готовились к контрдействиям с момента вашей посадки. С того самого дня мы трудились не покладая рук. Ваш корабль, как вам известно…
– Что же вы меня-то не допросили под гипнозом? – сказал Хэл. – Это легко было сделать, причем очень давно.
– Потому что сомневались в вашей осведомленности насчет планов, связанных с нашей кровью. Нам нужен был кто-то знающий. Но за вами мы следили. Правда, плохо, раз вы сумели тайно провести к себе «лэйлиту».
– А как вы дознались, что Жанетта у меня? – спросил Хэл. – И можно мне повидаться с нею?
– Увы, на ваш второй вопрос я должен ответить отрицательно, – сказал Лопушок. – А на-первый вопрос отвечу, что не далее как двое суток тому назад нам удалось изготовить подслушивающее устройство, по своим техническим данным заслуживающее хлопот по подбрасыванию к вам в квартиру. Как вам известно, в некоторых областях мы сильно отстаем от вас.
– Сначала я каждый день осмотры в квартире устраивал, – сказал Хэл. – А потом бросил, поскольку убедился, что в электронике вы не тянете.
– Да, нашим ученым пришлось потрудиться, – сказал Лопушок. – Ваше появление вынудило нас ускорить исследования в кое-каких специальных областях.
Вошла медсестра и сказала:
– Доктор, вас к телефону. Лопушок вышел.
Ярроу снова забегал по комнате, еще одну сигарету закурил. Лопушок вернулся минуту спустя и сказал:
– А к нам вот-вот нагрянут компаньоны. Один из наших, что наблюдают за кораблем, сообщил, что Макнефф и двое аззитов отбыли на гичке в город. Будут здесь, в больнице, с минуты на минуту.
Ярроу остолбенел. Челюсть отвисла.
– Здесь? Как они могли дознаться, что я здесь?
– Легко себе представить, что для этого у них имеются средства, о которых как-то недосуг было вас уведомлять. Но не робейте.
Бежать? Ноги не шли. Сигарета, догорая, обожгла пальцы. Уронил ее на пол, растер подошвой.
В коридоре раздалось клацанье кованых сапог.
Вошли трое. Впереди долговязый тощий призрак – архиуриелит Макнефф. А следом два коренастых плечистых мужичка в черном. В мускулистых руках пусто, но поза у каждого: чуть что – мгновенно извлекут весь набор из карманов. Хмурыми взглядами окинули сперва Лопушка, потом Хэла.
Макнефф шагнул к ШПАГ'у. Водянистые глаза полыхнули, безгубый рот растянулся, зубы оскалились, как у черепа.
– Выродок! Нет для вас другого слова! – люто выкрикнул Макнефф.
Дернул рукой, свистнула отстегнутая плеть. Красные полосы вспыхнули на бледном лице Ярроу, начали наливаться кровью.
– Вы будете доставлены на Землю в цепях, и там вас выставят публично как мерзейшего извращенца, как предателя, как…
Макнефф задохнулся, ему не хватило слов.
– Вы! Вы прошли элохимметр, вас сочли безупречнейшим из безупречных, а вы – вы предались сладострастию, валялись с насекомым!
– Что?!
– Да. С существом примитивнее любого зверя полевого! Такое Моисею даже в голову не пришло, когда он запрещал скотоложество, такое Впереднику не предначерталось, когда он подтверждал Моисеев запрет и назначил за его нарушение высшую меру, – а вы это совершили! Вы, Хэл Ярроу, удостоенный носить на груди «ламед», означающий безупречность!
Лопушок встал и произнес густым басом:
– Позвольте вам заметить, вы не точны в таксономии. Это существо не относится к классу насекомых. Оно относится к классу хордовых псевдочленистоногих. Если угодно, предложите равноценное наименование.
– Что? – повторил Хэл в полной растерянности.
– Помолчите, когда я говорю, – рыкнул жуча. И обернулся к Макнеффу. – Вам известно об этом существе?
– Буверняк, известно. Ярроу готовил побег вместе с ним. Но как ни хитрят еретики, все равно попадаются. В данном случае он попался, когда спросил у историка о французах, покинувших Землю. Историк, ревностный слуга Госуцерквства, донес об этом разговоре. Мне было сообщено немедленно. Я прочел и передал донесение психологам. Они доложили, что вопрос ШПАГ'а выходит за рамки ожидаемых. Наличие такого вопроса – показатель того, что особь поддерживает нежелательные связи, а мы об этом не осведомлены. Отказ отрастить бороду только усилил подозрения. Было установлено наблюдение. Наблюдение показало, что поднадзорный закупает продукты в двойном количестве. Вы переняли у нас обычай курить табак, стали изготовлять сигареты, и поднадзорный был прослежен при покупке этих сигарет. Вывод был очевиден. У него в месте проживания прячется некая самка. Причем не жуча, поскольку жуче прятаться незачем. Значит, женщина. Невозможно было понять, каким образом он об завелся женщиной на Оздве. Провезти ее сюда на «Гаврииле» он не мог. Одно из двух: либо она прибыла сюда на каком-то другом корабле, либо является потомком народа, который располагал такими кораблями. Беседа Ярроу с историком дала ключ к загадке. Очевидным образом, французы побывали здесь и женщина, которую он прячет, – их потомок. Как они встретились, нам неизвестно. Да это и не столь важно. Важно, что мы оказались правы.
– Вы не договариваете, – спокойно заявил Лопушок. – Каким образом вы дознались, что она не человек?
– Мне бы сесть, – пролепетал Ярроу.
19
Хэл попятился и рухнул на стул у стены. Один из аззитов сделал движение к нему. Макнефф жестом остановил аззита и сказал:
– Этот историк сыскал жучу, который прочел ему книгу об истории оздвийских людей. Там столько про этих «лэйлит» написано, что само собой возникало предположение насчет породы этой красотки. А на прошлой неделе один из ваших медиков в беседе с тем же историком похвалился, что недавно лично наблюдал «лэйлиту». И упомянул, что она совершила побег. Сопоставив все эти данные, нетрудно было догадаться, где она скрывается.
– Друг мой, а вы разве не прочли книгу Уиинэи? – обернулся Лопушок к Хэлу. Тот помотал головой.
– Начали было, но Жанетта ее куда-то дела.
– И, несомненно, изрекла по этому поводу, что у вас есть иные предметы для занятий… более занимательные для мужчин. Вполне допускаю. Таковы жизненные цели «лэйлит».
Лопушок повел носом и продолжил:
– Что ж, придется взяться за объяснения мне. «Лэйлиты» – самый совершенный из известных пример мимикрического паразитизма. И уникальное явление среди мыслящих существ. Уникальное тем, что, все они самки. Если бы вы прочли книгу Уиинэи, вы весьма просветились бы на этот счет. Судя по костным останкам, еще в ту пору, когда «человек оздвийский» был мартышкоподобным насекомоядным, в его семейных группах наличествовали не только самки его собственного вида, но и существа, относящиеся к совершенно иному зоологическому типу. Эти существа выглядели почти так же, как самки палеогоминидов-мартышек и, по-видимому, выделяли такие же ароматические аттрактанты. Это позволяло им спариваться с самцами палеогоминидов и таким образом организовать себе комфортную продовольственную нишу. У них был внешний облик млекопитающих, и только вскрытием можно было выявить их происхождение от псевдочленистоногих. Разумно предположить, что эти предшественницы «лэйлит» паразитировали на «человеке оздвийском» задолго до обезьяноподобной стадии его развития. Возможно, этот симбиоз существовал еще с момента выхода предков «человека» из моря на сушу. Первоначально двуполые, «лэйлиты» приобрели все признаки самок. И в ходе неизвестного нам эволюционного процесса выглядели сначала как самки пресмыкающихся, позже – как самки примитивных млекопитающих, и так далее. Но зато мы точно знаем, что «лэйлиты» – это увлекательнейший опыт матери-природы в области паразитизма и эволюционной конвергенции. По мере прогресса «человека оздвийского» «лэйлиты» следовали за ним шаг в шаг. И, будучи самками, заметьте, нуждались в самце, принадлежащем к иному зоологическому типу живых существ, для продолжения собственного вида. Остается лишь строить догадки относительно того, каким образом они вливались в первобытные стаи оздвийских питекантропов и неандертальцев. Но подлинные затруднения начались у «лэй лит» лишь с появлением оздвийского «хомо сапиенс». Некоторые племена и роды принимали «лэйлит», некоторые уничтожали их. Им пришлось прибегнуть к хитрости и полностью уподобиться женщинам людского племени. Это было нетрудно, пока они не беременели. Забеременев, они погибали. Хэл застонал и закрыл лицо руками.
– Грустно, но – истиннизм, как выразился бы наш любезнейший друг Макнефф, – сказал Лопушок. – В этом случае вид мог существовать лишь при наличии тайной организации «лэйлит». Успешно маскирующаяся в повседневной жизни, забеременевшая «лэйлита» должна была покинуть человеческую общину. И гибла в каком-нибудь укромном месте, где ее товарки принимали на себя заботу о детве, – (тут Хэла передернуло), – пока та созревала для контакта с человеческой средой в качестве найденышей или подмененных детей. В древнем племенном фольклоре имеются сказки и мифы, в которых «лэйлиты» действуют как центральные и побочные персонажи, причем довольно обиходные. Их считали ведьмами, демонами, а то и худшими существами. Однако с изобретением вина положение «лэйлит» изменилось к лучшему. Алкоголь делал их стерильными. А это в свою очередь означало для них, если не принимать во внимание несчастных случаев, инфекционных заболеваний или прямого убийства, практическое бессмертие.
Хэл убрал руки с лица.
– То есть… то есть вы хотите сказать, что Жанетта имела возможность жить… вечно? Что мой поступок обошелся ей…
– Она могла бы жить несколько тысяч лет. Некоторым «лэйлитам» такое удавалось. И более того, они избавлены от физического старения и весь этот срок сохраняют состояние, соответствующее двадцатипятилетнему возрасту. Позвольте мне продолжать. Так надо. Кое-что из того, что скажу, вас очень огорчит. Но иначе нельзя.
Диву можно было даться, как чисто заговорил Лопушок по-американски, но Хэл не обратил внимания на это.
– Долгожительство «лэйлит» привело к тому, что их стали почитать как высшие существа. Бывали случаи, когда «лэйлиты» присоединялись к малозначительным племенам, эти племена выступали организаторами могучих империй, империи существовали по нескольку веков, и, когда наконец рушились, те самые «лэйлиты» все еще оставались живы. Такие «лэйлиты», разумеется, расценивались как хранительницы мудрости, стражи сокровищ и символы власти и могущества. А то и как бессмертные богини, сексуальными партнерами которых непременно должны выступать сменяющие друг друга цари или верховные священнослужители. Но существовали и сообщества, где «лэйлиты» были вне закона. Таким сообществам грозило либо нападение со стороны соседних «лэйлитархальных», либо тайное проникновение «лэйлит» и их закулисное господство. Отличаясь красотой, «лэйлиты» становились женами и наложницами самых влиятельных мужчин. В соревновании с подлинными женщинами «лэйлиты» побеждали без особых усилий, ибо в «лэйлите» природа воспроизвела само женское совершенство. И в отношениях с партнерами-мужчинами у «лэйлит» никаких трудностей не возникало: они господствовали. Однако этого нельзя сказать об отношениях между ними самими. Изначально единое тайное сообщество «лэйлит» раскололось. Они начали отождествлять себя с народами, у которых правили, стали науськивать эти народы друг на друга. Сверхдолгожительство приводило к тому, что молодая смена «лэйлит» теряла терпение в ожидании своей очереди. Результат – кровавые расправы, борьба за власть и тому подобное. А с точки зрения ученых-технологов, воздействие «лэйлит» вело к застою. Будучи самками, они всеми силами стремились сохранить «статус кво» в любой области культуры, и таким образом цивилизации «человека оздвийского» была сообщена тенденция к устранению новых, прогрессивных замыслов и людей – носителей этих замыслов.
Лопушок помолчал и продолжил.
– Боюсь, эти суждения по большей части покажутся вам умозрительными. Напрасно. Они основаны на рассказах тех немногих дикарей, которых нам удалось обнаружить. Недавно был открыт многосотлетней давности храм с настенной росписью, и пиктографические изображения оттуда дали нам дополнительные сведения. Поэтому мы полагаем, что принятая у нас реконструкция истории «лэйлит» в общих чертах соответствует истине. И, кстати, Жанетта совершенно напрасно совершила побег. По окончании обследования мы собирались вернуть ее в родную семью. Мы ей об этом говорили, но она не поверила.
Из операционной вышла жуча-медсестра и что-то шепотом сказала сострадалисту.
Макнефф навострил было уши, не скрывая интереса к их разговору. Но медсестра говорила по-сиддийски, а сиддийского архиуриелит на слух не воспринимал, поэтому отвернулся и снова заходил по комнате из угла в угол. Хэл никак не мог понять, почему до сих пор не схвачен и не выпровожен вон, почему сандальфон ждет окончания Лопушковой лекции. Наконец понял: Макнефф хочет, чтобы он, Хэл Ярроу, все это выслушал и осознал всю глубину своего падения.
Медсестра вернулась в операционную. И архиуриелит громко спросил:
– Не сдох еще зверь полевой?
Хэл вздрогнул, как от удара, услышав слово «сдох». Но Лопушок пропустил мимо ушей вопрос Макнеффа. Он обратился к Хэлу.
– Ваши личин… то есть дети, извлечены. Они помещены в инкубатор. Они-и… – он запнулся. – У них прекрасный аппетит. Будут жить.
По тону Лопушка Хэл понял, что спрашивать о матери нет смысла.
Крупные слезы покатились из круглых голубых глаз сострадалиста.
– Вам не понять случившегося, Хэл, до тех пор, пока вы не в курсе оригинальнейшего способа размножения «лэйлит». «Лэйлита» беременеет в результате сочетания трех событий. Первое должно предшествовать двум остальным. Это первое событие я бы назвал инфицированием «лэйлиты» – подростка со стороны любой другой взрослой «лэйлиты». Этим инфицированием осуществляется передача генов.
– Генов? – переспросил Хэл. Даже в таком состоянии в нем затеплился любознательный интерес к словам Лопушка.
– Да. Поскольку «лэйлита» не получает от самца-человека никакого генного материала. «Лэйлиты» получают таковой материал одна от другой. Самец-человек им нужен, но не как поставщик генов. Однако об этом позже. Разрешите и позвольте мне пояснить. У взрослой «лэйлиты» имеются три генных банка. Два из них являются дубликатами внутривидового хромосомного набора. О третьем речь впереди. Первый банк заключен в яйцеклетках, находящихся в матке «лэйлиты». Второй – в микроскопических живчиках, которые образуются в огромных слюнных железах, находящихся у нее в полости рта. Генный набор в яйцеклетках и живчиках совершенно одинаков. Взрослая «лэйлита» выделяет слюнных живчиков постоянно. И через их посредство инфицирует «лэйлиту» – подростка точно так же, как осуществляется передача обычной инфекции. Передача неизбежна: через поцелуи, через чихание, через прикосновение. До наступления половой зрелости «лэйлита» – подросток, по-видимому, защищена от такого инфицирования естественным иммунитетом. А созрев и будучи однажды инфицирована, слюнными живчиками от прочих взрослых «лэйлит» тоже не заражается. В ее организме вырабатываются соответствующие антитела. А вот первые слюнные живчики с током крови, через кишечно-желудочный тракт и кожный покров, в конце концов достигают матки. Происходит соединение внутриматочных яиц с полученными извне слюнными живчиками. Образуются зиготы. Но на этой стадии оплодотворение приостанавливается. Фактически весь генный материал для потомства уже обеспечен. Весь, за исключением той части, которая ответственна за передачу черт лица. Именно эту информацию должен поставить самец-человек, становящийся сексуальным партнером «лэйлиты». И поставляет в ходе двух одновременно протекающих событий. Первым таким событием является оргазм. Вторым – возбуждение фотокинетической нервной системы. Одного без другого в естественных условиях не бывает. Оба не могут насту пить, пока не произошло слияния приобретенных слюнных живчиков с маточными яйцами. Очевидно, такое слияние вызывает некие изменения в химизме «лэйлиты», делает ее способной к оргазму и полностью раскрывает возможности фотокинетической нервной системы.
Лопушок примолк, склонил голову набок, будто к чему-то прислушался. По опыту общения с жучами Хэл знал, что означает то или иное выражение у них на лицах, и понял, что Лопушок ждет не дождется какого-то важного события. Очень важного. Причем касающегося землян.
И содрогнулся при мысли, что находится на стороне жучи! Больше не чувствует себя землянином. По крайней мере, перестал быть, что называется, верным сыном Союза ВВЗ.
– Не сбил ли я вас с толку окончательно? – спросил Лопушок.
– Сбили, – ответил Хэл. – Я, например, в жизни не слышал о фотокинетической нервной системе.
– Фотокинетическая нервная система существует только у «лэйлит». Ее нервные пути начинаются на сетчатке глаз и проходят в мозг параллельно с глазными нервами. Оттуда следуют вдоль позвоночника и заканчиваются в матке. Матка у «лэйлит» ни в чем не похожа на человеческую. Даже не пытайтесь сравнивать. Уподобил бы матку «лэйлиты» фотолаборатории утробы, где биологическими средствами воспроизводится портрет «отца». И одновременно видоизменяется в женские лица его «дочерей». Это осуществляется посредством отбора фотогенов, которыми пополняются зиготы. Фотогенный банк – это тот самый третий банк, о котором я упомянул. Во время полового акта, а точнее, в момент оргазма, в фото кинетической нервной системе происходят некие изменения, вернее, последовательности изменений. На свету, который «лэйлите» совершенно необходим, если она хочет испытать оргазм, как бы фотографируется лицо партнера. Рефлекторная дуга в этот момент не дает «лэйлите» закрыть глаза. Более того, если она прикроет глаза рукой, оргазм не наступает. И она настаивает, чтобы и партнер в это время не закрывал глаз. Уверен, что она требовала этого от вас во время половых сношений, а вы, в свою очередь, заметили, как у нее при этом сужаются зрачки. Это безусловный рефлекс, приводящий к тому, что поле зрения «лэйлиты» ограничивается пределами вашего лица. Зачем? Затем, чтобы фотокинетические нервы получили данные исключительно о вашем лице. Таким образом, например, информация о цвете ваших волос передается в банк фотогенов. Каким именно образом это происходит, мы не знаем. Но знаем, что происходит. У вас каштановые волосы. И сведения об этом поступили в банк фотогенов. В банке производится подавление генов иного цвета волос. А ген каштановых волос удваивается и поступает в зиготы, в ту часть хромосомного набора, которая определяет внешний облик. То же происходит и с иными генами, в которых зафиксированы прочие черты соответствующего лица. Например, форма носа, модифицированного в женский, избирается путем подбора целой последовательности генов, имеющихся в фотобанке. Они редуплицируются, и копии поступают в зиготы. – Слышите! – торжествующе завопил Макнефф. – Вы наплодили личинок! Ублюдков от нечистого антиистинного союза! Насекомую нечисть! И она тысячи лет впредь будет свидетельствовать о вашей извращенной похоти…
– Я не знаток человеческой красоты, – вмешался Лопушок. – Но этот молодой человек выглядит здоровым и не лишенным приятности черт. Имею в виду, в вашем человеческом понимании.
Он обернулся к Хэлу.
– Теперь вам понятно, почему Жанетта так настаивала на том, чтобы половые сношения происходили при свете. И почему она симулировала алкоголизм. Употребление некой дозы спирта перед сношением приводит к анестезии фотокинетической нервной системы, весьма чувствительной к радикалам спиртов. Таким образом оргазм достигается, а зачатия не наступает. Смертоносная для «лэйлиты» новая жизнь продолжает дремать в ней. Но когда вы начали разводить таракановку «негоридушой» во все возрастающих дозах, разумеется, не зная, к чему это приведет…
Макнефф разразился злорадным хохотом.
– Какая ирония! Истинно сказано: всякое отступление от истиннизма означает смерть!
20
А Лопушок сказал:
– Не стесняйтесь, Хэл. Плачьте, если хочется плакать. Вам станет легче. Не можете? Сочувствую от обоих своих сердец.
Перевел дыхание и продолжил.
– Как бы человекоподобно ни выглядела «лэйлита», ей не избежать судьбы членистоногого. «Лэйлита» – мать обречена на гибель. Что миллионы лет назад, что теперь, когда во чреве этого биологически примитивного существа из яиц вылупляются личинки, одновременно в теле матери выделяется особый гормон. Он вызывает кальцификацию внешнего покрова и превращает мать как бы в продовольственный склад, замурованный в склепе. В подобие раковины. Личинки пожирают внутренние органы и скелет, размякший от дефицита кальция. Дело личинок – питаться и расти, и когда эта стадия завершается, они преображаются в детву. Детва быстро приобретает облик человеческих детенышей, но вид самих личинок показался бы вам отталкивающим. Впрочем, вряд ли они так уж безобразнее пятимесячного человеческого эмбриона. Разумеется, на мой взгляд. Детва покидает раковину, расколов ее изнутри в слабом месте. Таким слабым местом у «лэйлиты» является пупок. Область пупка не кальцифицируется, кожа там остается мягкой. Ко времени выхода детвы мягкая мышечная ткань в этой области разрушается. При этом выделяются вещества, вызывающие охрупчивание внешнего покрова почти всего живота. Детва, хотя она и слабее, чем новорожденный человеческий детеныш, и много меньше его по размерам, руководимая инстинктом, разбивает изнутри истончавшую хрупкую корку. Обратите внимание: в принципе, поскольку личинки не связаны с матерью посредством пуповины, никакого пупка у «лэйлит» нет. Есть просто тканевое образование того же внешнего вида, исполняющее двойственную роль: сперва мимикрическую, потом функциональную. То же самое можно сказать и о грудях взрослой «лэйлиты». Точно так же, как груди настоящих женщин, груди «лэйлиты» исполняют сексуальную и репродуктивную функции. Но производят они отнюдь не молоко. В момент, когда вылупляются личинки, грудные железы «лэйлиты» начинают работать как мощные насосы, поставляющие гормон кальцификации внешнего покрова. Ничто не должно пропасть даром, природа бережлива. Все те органы, которые помогают «лэйлите» прижиться в человеческом обществе, так или иначе потом участвуют в процессе «смерти-рождения», свойственном ей как зоологическому виду.
– Могу понять необходимость в фотогенах на стадии эволюции развитого гоминида, – отозвался Хэл. – Но когда «лэйлиты» находились еще на животной стадии эволюции, что за смысл был в воспроизводстве особенностей лицевой части «отцовского организма»? У обезьяноподобных разница в чертах лица самцов невелика и не играет роли в повседневной жизни, и то же самое можно сказать и о самках.
– Не знаю, – сказал Лопушок. – Возможно, в те времена фотокинетической нервной системы не су ществовало. Возможно, она развилась лишь на поздних стадиях эволюции как адаптация структуры, исполнявшей какую-то другую роль. А возможно, сама является рудиментарной. Предположительно, фотокинез был средством, которое позволило «палеолэйлитам» изменять форму тела целиком в соответствии с изменениями в пропорциях тела «человека оздвийского», поднимающегося по лестнице эволюции. Резонно предположить, что «лэйлиты» нуждались в таком биологическом аппарате. Мог сгодиться любой – сгодилась фотокинетическая нервная система. К сожалению, когда мы дозрели до научного изучения «лэйлит», на Оздве их практически не осталось. Поимка Жанетты – это было великое везение. Помимо всего прочего у нее обнаружилось несколько органов, функции которых нам так и остались неясны. Отловить бы еще десяток экземпляров – тогда дело пошло бы на лад.
– Еще вопрос, – сказал Хэл. – Что, если у «лэйлиты» будет несколько партнеров? Чьи черты воспроизведутся в потомстве?
– Если она подвергнется групповому изнасилованию, просто не наступит оргазм, он будет подавлен отрицательными эмоциями страха и отвращения. Но если у нее несколько любовников и перед сношениями с ними не употреблялся алкоголь, воспроизведены будут черты лица первого. К моменту, когда начнется сношение со вторым, даже если это наступит немедленно после сношения с первым, процесс развития зигот уже будет инициирован.
Лопушок печально покачал головой.
– Грустно, однако за миллионы лет в этом процессе изменений не произошло. Мать должна отдать жизнь своему потомству. Но взамен природа щедро одарила «лэйлит». Подобно тому, как пресмыкающиеся не перестают расти в течение всей жизни, «лэйлита» не знает смерти, пока не забеременеет. И… Хэл вскочил и истошно крикнул:
– Да кончайте вы!
– Увы, – мягко сказал Лопушок. – Я просто пытаюсь объяснить вам, почему Жанетта не хотела, чтобы вы узнали, кем она является в действительности. Видимо, она вас любила, Хэл. Всеми тремя началами любви она обладала: природным темпераментом, глубокой впечатлительностью и ощущением единения плоти с вами, единения существ разных полов, такого единения, когда трудно сказать, где начинается одно существо и кончается другое. Мне это ведомо, поверьте. Ведь мы, сострадалисты, способны глубоко проникать в духовную организацию других существ, думать и чувствовать так, как думают и чувствуют они. Но любовь Жанетты была горька. Ее отравляла вера в то, что, узнай вы о ее принадлежности к совершенно чуждой вам ветви животного царства, отделенной от вашей ветви миллионами лет эволюции, узнай вы о физиологической и анатомической невозможности завершения вашего союза рождением детей, – вы с ужасом отвернетесь от нее. Эта вера окутывала тьмой даже самые светлые минуты…
– Нет! Я все равно любил бы ее! Наверняка пережил бы шок. Но преодолел бы. Ведь она была так человечна! Намного более человечна, чем все женщины, которых я знал!
Макнефф издал странный звук, будто его вот-вот стошнит. Овладел собой и закричал:
– Вы, погрязшая особь! Как вы можете упорствовать теперь, когда знаете, с какой поганью предавались похоти? Выдавили бы себе глаза, кото рые любовались этой мерзостью мерзости! Вырезали бы себе губы, которые лобзали эту пасть насекомого! Руки поотрубали бы, которые с похотливой усладой ласкали это поддельное тело! С корнем вырвали бы сам развратный член…
– Послушайте, Макнефф, – прервал Лопушок этот ураган изуверства.
Длинное лицо сандальфона обратилось к состра-далисту. Глаза выкачены, губы растянуты будто в невероятно широкой усмешке – оскале беспредельной ярости.
– Что? – выдавил он, будто очнулся от глубокого сна. – Что?
– Макнефф, мне хорошо знаком ваш тип мышления. Скажите, вы уверены, что не замышляли использовать «лэйлиту» в своих личных целях, останься она жива? Не объясняется ли ваша ярость и показное отвращение неосуществленностью ваших вожделений? Как ни говорите, у вас уже год не была женщины и…
У сандальфона отвисла челюсть. Кровь бросилась в лицо, оно побагровело. А потом мертвенно побледнело.
Он ухнул, как сова:
– Хватит! Аззиты, взять этого… эту тварь, которая называет себя человеком! В гичку его!
Двое в черном разомкнулись, чтобы подойти к ШПАГ'у спереди и сзади. Не из особой осторожности – просто по привычке. Многолетний опыт научил их не ждать сопротивления. Перед представителями Госуцерквства арестуемый всегда стоит, оцепенев от страха. И несмотря на то, что Хэл был вооружен и они об этом знали, несмотря на всю необычность обстановки, они сочли, что он такой же, как и прочие.
Тем более, что он стоял, опустив голову, сгорбясь, руки по швам – типичный арестант.
Но это длилось не дольше секунды – Хэл тигром метнулся вперед.
Аззит, тот, что спереди, отлетел, всплеснув руками, кровь хлынула у него изо рта на черный мундир. С размаху ударившись затылком о стену, он сполз на пол и затих, выплевывая зубы.
А Ярроу уже успел развернуться и кулаком ударил в жирное брюхо аззита, того, что позади.
Тот издал рыгающий звук и согнулся. И тут же получил коленом в незащищенный подбородок. Хрустнула челюсть, аззит упал навзничь.
– Осторожно! – крикнул Макнефф. – У него оружие!
Аззит у стены сунул руку под китель, в кобуре под мышкой у него был пистолет. И в тот же миг тяжеленная бронзовая подставка для книг, пущенная рукой Лопушка, раскроила ему висок. Аззит скорчился и затих.
– Сопротивляться, Ярроу? Вы еще сопротивляться? – взвизгнул Макнефф.
– Буверняк, будь ты проклят! – рявкнул Хэл. И головой вперед ринулся на сандальфона.
А тот со всего размаха полоснул плетью. Семь хвостов обвились вокруг головы Хэла, но сбитый с ног излетом натиска поп в лиловой рясе растянулся на полу.
Встал на колени, но на колени встал и Хэл, обеими руками схватил Макнеффа за глотку и сдавил.
Лицо у Макнеффа посинело, он вцепился в запястья Хэла, силясь освободиться. Но Хэл сдавил еще сильнее.
– Не смей! – просипел Макнефф. – Как… сме…
– Еще как смею! – заорал Хэл. – Всю жизнь мечтал, ты, Порнсен! Ты, Макнефф!
И вдруг пол качнулся, задребезжали стекла. И чуть ли не сразу же громовой удар невероятной силы швырнул их, расшибая на лету, внутрь комнаты. Хэла покатило кувырком и ткнуло в угол.
Ночь за окнами засияла светом полдня. И тут же угасла.
Хэл кое-как встал на ноги. Макнефф лежал у его ног, закрыв руками горло.
– Что это? – спросил Хэл у Лопушка.
А тот был уже у окна, тянулся глянуть наружу. Из пореза на шее текла кровь, но сострадалист будто не замечал этого.
– То, чего я ждал, – сказал он. И обернулся к Хэлу.
– С той самой минуты, как «Гавриил» приземлился, мы повели подкоп и…
– У нас же звукоанализаторы!
– Да! Ловили шум поездов, проходящих под кораблем. Работа шла скрытно, только во время движения поездов. Обычно поезда ходили каждые десять минут. Мы уменьшили интервал до двух минут, увеличили длину составов. Несколько дней назад подкоп был закончен, и мы заложили под «Гавриил» взрывчатку. Верьте слову, дышать стало легче, а то мы боялись, что ваши все же расслышат, да и подкоп мог обвалиться под тяжестью корабля. И капитан мог по каким-нибудь другим причинам сменить место стоянки.
– Так вы его взорвали? – изумленно сказал Хэл. События опережали его способность к оценкам и действиям.
– Вряд ли. Взрывчатки заложили порядочно, но разрушить такой большой и так прочно построенный корабль, как «Гавриил», даже таким зарядом невозможно. К тому же мы и не хотели его разрушать, если уж так-то говорить. Мы хотели изучить конструкцию. Но рассчитали так, чтобы ударной волной, прошедшей сквозь металлическую обшивку, насмерть поразило всех, кто находится на корабле.
Хэл побрел к окну, выглянул наружу. В осиянное лунным светом небо воздвигался разбухающий дымный столб, вскоре он весь город накроет.
– Немедленно пошлите туда своих, – сказал Хэл. – Если взрыв только оглушил офицеров на мостике и они придут в себя, прежде чем будут взяты в плен, они нажмут кнопку и взорвется термоядерная бомба. На мили вокруг все будет уничтожено. По сравнению с этим взрывом ваш – это все равно что младенец пукнул. Мало того. Пойдет такая радиация, что полматерика прикончит, если ветер будет с моря.
Лопушок побледнел, криво улыбнулся.
– Думаю, наши десантники уже на борту. Сейчас позвоню, проверю.
Минуту спустя он вернулся. Уж теперь-то улыбался во все четыре губы.
– Все, кто был на борту «Гавриила», погибли мгновенно, включая персонал на мостике. Я сказал командиру десантной команды, чтобы ни к каким механизмам и приборам управления никто ни под каким видом не прикасался.
– Обо всем подумали, все учли, можете почивать на лаврах, – сказал Хэл.
Лопушок пожал плечами и ответил:
– Мы народ глубоко миролюбивый. Но в отличие от вас, от землян, мы действительно придерживаемся истиннизма в том смысле, что умеем смотреть правде в глаза. И если начинаем войну против хищников, то воюем до конца. На такой планете, как наша, когда кругом одни прожорливые насекомые, опыта борьбы с хищниками у нас больше чем достаточно. Вся наша история – это именно такая борьба.
И глянул на Макнеффа. Тот стоял на четвереньках, выпучив глаза, и тряс головой, как раненый медведь.
– Вас, Хэл, я в число хищников не включаю. Вы вольны идти, куда пожелаете, вольны делать все, что вам угодно, – сказал Лопушок.
Хэл сел на стул. Заговорил осипшим от скорби голосом:
– Всю жизнь, всю жизнь я к этому стремился. К свободе идти, куда хочется, и делать, что хочется. Но зачем теперь мне эта свобода? Никого у меня нет, ничего у меня нет…
– У вас есть очень многое, Хэл, – перебил Лопушок. Слезы катились у него по длинному носу и собирались на кончике в крупные дрожащие капли: – У вас есть дочери, которые нуждаются в вашей заботе и любви. Извлечение из тела матери они перенесли хорошо, в инкубаторе им быть недолго, малютки из них выйдут очаровательные. Они ваши точно так же, как будь они детьми от земной женщины. Даже похожи на вас, в женском облике, разумеется. Ваши гены – это их гены. Что за разница, каким путем это достигнуто: редупликацией хромосом или фотокинезом? И без подруг вы не останетесь: у Жанетты есть тетки, есть сестры, все юные, все красавицы. Уверен, что мы найдем, где они прячутся.
Хэл закрыл лицо руками и сказал:
– Спасибо, Лопушок, но это не по мне.
– Не сию минуту, – мягко сказал Лопушок. – Но не век же горевать. Жизнь снова предложит свои дары.
Кто-то вошел. Хэл оглянулся – это была медсестра.
– Доктор Лопушок, мы убираем после операции. Может, этот Безносый желает глянуть на прощанье?
Голова у Хэла затряслась. Лопушок подошел, взял за руку у плеча.
– Вид у вас, как перед обмороком, – сказал он. – Сестра, у вас далеко нюхательная соль?
– Не надо. Нужды нет, – сказал Хэл.
Появились две жучи-медсестры с каталкой. Укрытый белой простыней, там лежал взломанный панцирь, а в нем то, что прежде было Жанеттой Растиньяк. Из-под простыни во всю подушку роскошным веером рассыпались черные кудри.
Хэл не встал. Он сидел на стуле, всхлипывал и бормотал:
– Жанетта-Жанетта! Если бы ты любила меня по-настоящему, ты бы мне сказала…