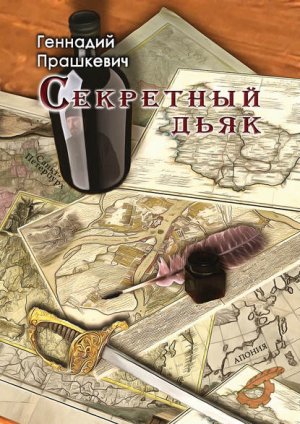
Часть I. Государственный секрет
Уста премудрых нам гласят:
Там разных множество светов;
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков:
Для общей славы божества
Там равна сила естества.
М. Ломоносов
Глава I. Секретный дьяк
Осенью 1700 года (получается, к началу рассказа лет за двадцать), в северной плоской тундре (в сендухе, по-местному), верстах в ста от Якутского острога, среди занудливых комаров и жалко мекающих олешков, в день, когда Ваньке Крестинину стукнуло семь лет, некий парнишка, сын убивцы и сам давно убивца, хотя по виду и не превзошел десяти-одиннадцати лет, в драке отрубил Ваньке указательный палец на левой руке. Боль не великая, но рука стала походить на недоделанную вилку.
В той же сендухе, ровной и плоской, как стол, под томительное шуршанье осенних бесконечных дождей, старик-шептун, заговаривая Ваньке отрубленный палец, необычно и странно предсказал: жить, Иван, будешь долго, обратишь на себя внимание царствующей особы, полюбишь дикующую, дойдешь до края земли, но жизнь, добавил, проживешь чужую.
Шел дождь, отрубленный палец пронзительно дергало, но старик-шептун потихоньку снял боль.
А пророчество…
Ну, разве не сказано: «Отчасти знаем, отчасти пророчествуем»?
Много чего нашептал в ту ночь старик, напугал не одного Ваньку, а все не в толк. Прошло немного времени, и Ванькиного отца, опытного стрельца Матвеева, тоже, кстати, Ивана, зарезали в тундре злые шоромбойские мужики. Как не зарезать, когда одно небо вокруг? Сидишь, дикуешь.
Добрые люди подобрали одинокого мальчишку и отправили с ясачным обозом в Москву, где волею родной тетки Елизаветы Петровны Саплиной, урожденной Матвеевой, и ее супруга славного майора (тогда еще капитана) Якова Афанасьевича Саплина Иван Матвеев-младший (записанный, на всякий случай, Крестининым — по матери, что понятно: стрельцы при государе Петре, Усатом, вышли из почета) начал изучать по Псалтирю грамоту и в короткий срок проявил такие таланты, что в пятнадцать лет взяли Ивана в Сибирский приказ — изучать иностранные языки и переписывать служебные скаски. В тринадцатом, когда маиор (тогда еще капитан) Саплин и его супруга, как многие другие государственные люди, по указанию государя, Усатого, переселены были в новую столицу, Иван Крестинин тоже перешел в канцелярию думного дьяка Кузьмы Петровича Матвеева, опять же родного дяди, ревниво и внимательно следившего за жизнью любимой, замужней, но как бы одинокой сестры, поскольку муж ее, Яков Афанасьевич, тогда еще капитан, беспрерывно воевал шведов, почти не показываясь в столице.
Сибирь потихонечку забывалась. Вспоминал Иван про нее, когда начинал ныть на погоду отрубленный палец. Но все равно, время шло, забывалась боль, забывались пророчества старика-шептуна. Кто нынче берет такое в голову? Упорным трудом дошел Иван Крестинин до старшего дьяка, но в канцелярии оставался незаметным, держался от других дьяков и подьячих в стороне, потому как часто учинял секретные чертежики для думного дьяка Матвеева (по заказу зельных чинов) и никогда не получал от него разрешения на встречи с другими понимающими в этом деле людьми. По приказу Матвеева правил Иван старые и новые маппы, в основном, тоже секретные, а еще много переводил со шведского и немецкого, показав истинную склонность к разным языкам.
Но к маппам, то есть, картам, как их тогда называли, особенно был склонен.
Любая чистая не записанная плоскость, любой не покрытый изображениями лист бумаги поражали воображение Ивана своей тайной. Ведь, правда, как многое можно изобразить на таких плоскостях! Например, океан, а в нем ужасного левиафана, и те пути, по которым плавает ужасный левиафан от одного острова к другому, и, наконец, сами эти еще никому не известные острова. Или большую сушу, а на ней всякие извивы рек, и всякие возвышенности, и наоборот, всякие ужасные провалы, в которых после дождей может собираться вода, образуя озера, а то и моря, в которых вода со временем становится соленой. Даже лужи после дождя казались Ивану всего лишь уменьшенными морями, а пространство любого пустыря казалось копией какой-то маппы. На все смотрел по особенному, дивился сам себе. Появляясь в канцелярии, неторопливо хромал между широкими столами (два года подряд дважды в одном и том же месте ломал правую ногу), обдумывал новые чертежи, переносил из казачьих отписок, присланных из Сибири, необычные очертания на бумагу, потом долго всматривался, пугаясь — вот совсем новый край! В том краю, говорят, великая стужа, там тьма, мгла, льды. Там корабль не пройдет, птица не пролетит, там воздух тверд от мороза. Непонятно, как вообще возвращаются из таких краев казаки?
Смутно помнил: а ведь есть в Сибири места, где зимой совсем не бывает солнца.
Полузабытое всплывало…
Многое в жизни обмануло Ивана, но больше всего обижался он на глупого старика-шептуна. Ну, во всем соврал бесстыжий старик-шептун. Может, Санкт-Петербурх и есть конец света, только уж никак не отыщешь на его прешпектах настоящую дикующую, да и внимание царствующей особы тоже не сильно на себя обратишь.
Да может, и не надо.
Короче, жизнь секретного дьяка Крестинина тянулась скучно, как старая мочала. Не сложилась она так, как предсказывал старик-шептун. Иногда Ивану казалось, что скучная его жизнь всегда так и будет тянуться.
Всегда!
От таких горьких мыслей время от времени секретный дьяк Иван Крестинин впадал в мрачные запои.
Но, конечно, по-умному.
Не просто так, как прыгают в прорубь.
Наученный суровой судьбой, он всегда помнил о превратностях.
Впрочем, и не сильно-то забудешь о превратностях: на каменных столбах и на деревянных кольях посреди Санкт-Петербурха в любой день можно было видеть разлагающиеся трупы казненных царем Петром людишек. Князя Гагарина, казнокрада, к примеру, перевешивали три раза — для науки. Истлелое лицо закрыли платом, а распухшее тело, заполонившее весь камзол, для верности перетянули цепями.
И так не с одним Гагариным.
Когда-то была у каждого повешенного собственная жизнь, каждому в свое время мамка агукала, и каждому, может быть, старики-шептуны предсказывали удачу. А чем кончилось? Виселицей посреди Санкт-Петербурха.
Ох, Санкт-Петербурх…
Город низкий, город плоский, город сырой, всегда недостроенный, на неуютных деревянных набережных пахнет смолой, пенькой, гнилью. Выйдешь рано утром, не хочешь, а вздрогнешь. Бледная Луна выкатилась, высветила каменный столб на неустроенной площади, а на столбу прикован цепью заплесневелый вор, таинственно и бесшумно машет крыльями на низком берегу деревянная мельница, побрехивают собаки, стучат колотушки солдат, обходящих улицы. По плоской Неве, по бледному рассвету, неспешно идут плоские плоты, с плотов тянет дымом, и небо над Невой тоже плоское и сырое.
Правда, в детстве Иван видел пространства не менее плоские.
В сендухе, например, в тундре, всегда дивился, всматриваясь в болотное марево: да неужто впрямь земля может быть такой плоской? Даже стаи гусей, медлительно тянувшиеся над тундрой, казались Ивану плоскими.
А сама жизнь? Разве не плоская?
Отец Крестинина Иван Петрович Матвеев, так несчастно убитый в тундре злыми шоромбойскими мужиками, был из богатых стрельцов, из тех, кто в восемьдесят третьем году с придыханием клялся в верности царевне Софье. Жил богато, многим интересовался, сам за руку выводил семью на высокое крыльцо, когда незадолго до стрелецкого бунта взошла над Москвой на северо-западе странная звезда. Вот смотрите, говорил, указывая пальцем на странную звезду, вроде как все звезды, однако гораздо светлее их, и хвост уперт прямо в Московское государство. Если б стояла та звезда головой в Московское государство, говорил, тогда б все вокруг было тихой благостью и покоем, но видите, уставилась в Московское государство хвостом, значит, всякое нам грозит — и темное настроение, и брань кровавая, и даже война.
Так и учинилось.
В один страшный день шумно побежали по низким палатам Кремля пьяные стрельцы, стали вязать узлы, жадно шарить в сундуках, ворошить чужие лари, а заодно рубить бердышами людей. Упившись до полного бесчестия, стольника Нарышкина закололи копьями на площади перед приказами, как свинью. Потом, беснуясь, зарубили бердышами у Мастерской палаты стольника Салтыкова. Потом подвели под топор по-бабьи кричащего от страха думного дьяка Лариона Иванова. И так многих, многих. Боярин князь Юрий Алексеевич Долгоруков, человек известный, встретил стрельцов гневным криком — куда, мол? Очнитесь, смерды! поднимаете руку на кого? — но, не слушая смелого боярина, стрельцы сразу проломились в винный погреб. Сильно гуляли. Потом, погуляв, вспомнили, конечно, и о боярине, предусмотрительно запертом в клети. Вывели смелого Юрия Алексеевича на крыльцо и без всякого уважения порубили бердышами на дробные части.
Стрелец Иван Петрович Матвеев, хоть и клялся с придыханием в вечной верности суровой царице Софье, сам рук в бунте не окровавил. Господь не допустил. Волею Его болел в те дни Иван Петрович, лежал в огневице. Стрельцам, вбежавшим в избу, прошептал: «Уймитесь! Торчать вашим головам на кольях, добунтуетесь!» Стрельцы, посмеявшись, больного Матвеева не тронули, не заставили бегать с ними по площадям, может, поэтому позже Матвеев не был казнен вместе со всеми. Ему даже ноздри не рвали, все обошлось отнятием деревенек и московского дома. Все же на всякий случай (молодой государь не доверял ни одному стрельцу) в том же году Иван Петрович Матвеев был выслан в Сибирь — якобы для взыскания и охраны ясачных казенных сборов. Впрочем, уезжал Матвеев по-хорошему — в стрелецком кафтане зеленого цвета, обшитом галунами, с красивой перевязью, на ногах весело желтели сапоги, и шапка на голове была еще бархатная с меховою опушкою. Вот только глаза…
Глаза Ивана Петровича Матвеева смотрели на мир с печалью. Видно, предчувствовал нехорошее бывший стрелец.
Нехорошее сразу и началось.
На старой Бабиновской дороге, впуская в свет маленького Ивана, в крике и в стонах изошла жена Матвеева, урожденная Крестинина, из давнего тихого русского рода, сидевшего ранее на Клязьме. Младенца, ставшего невольным убивцем матери, нарекли Иваном, довезли до Якутска — выжил, подлец, не помер. И в Сибири не помер. Навсегда запомнил плоскую сендуху, жалобно мекающих олешков, рычащего сына убивцы, бросающегося на него с ножом, потом старика-шептуна, и, само собой, небо над головой — бледное, бледное…
Эта бледность как бы навсегда вошла в жизнь Ивана.
Много позже, попав в Санкт-Петербурх, сразу узнал знакомую бледность над царским Парадизом: облачки плывут снулые, и отсвет на них бледный, выморочный. В одном тонком сне было Ивану видение: облак тихий, мутный, а на облаке что-то томительное, тоже мутное, и куда взгляд не кинешь, даже как бы сатанинское. Не положено так, никем и ничем не подсказано, а душой угадывается — сатанинское! Вот есть, есть что-то сатанинское в каменном плоском городе, а невозможно глаз отвести!
Сам не знал, что о таком думать.
Всю жизнь рос в боязни и в любопытстве.
В той же Сибири, например, до бледности боялся дикующих, боялся долгих рассказов отца о страшном молодом царе, у которого на плечах нерусский мундир, а на рукавах обшлага такие алые, будто их обмакнули в стрелецкую кровь; сильно боялся пурги и клейменных воров, высланных на правеж в Сибирь, как бы для уменьшения ее очарования.
Но при всех этих страхах всегда мучило Ивана великое любопытство.
Куда, например, уходят зимой все дикующие? Или что, например, лежит вдали вон за той тундряной речкой, за которую никто еще не ходил? Или какие, например, звери живут за горизонтом? И можно ли, собственно, пройти еще дальше — за горизонт? Однажды даже спросил отца, следя за улетающими на север птицами:
— А там, за сендухой, что?
Отец хмуро усмехнулся:
— Край земли.
Даже в сердце кольнуло. Да неужто действительно тот самый, что ни на есть край? Да неужто там навсегда кончается плоская сендуха? И тут же вопрос невольный: а если кончается? Если, правда, нет ничего дальше той сендухи… Что, что там?… Может, окиян?… А в окияне те рыбы, на которых стоит мир?…
Так неизвестным и осталось.
А в Санкт-Петербурхе и в окно смотреть не надо.
В Санкт-Петербурхе всегда темно, неслыханно мрачно. Всю ночь шуршит и шуршит дождь. И днем шуршит, и ночью. По крайней мере, над Мокрушиной слободой, что на Петербургской стороне, где устроился небольшой домик соломенной вдовы Саплиной, небо всегда плоское, темное, и дождь шуршит почти всегда.
Вот и остается спать.
Или пить.
Иван и сейчас спал бы сладко, да не получилось: во сне затомило, заболело сердце, а потом учинился во дворе шум.
Этот шум и разбудил Ивана.
Сразу загудела, заныла, отзываясь на томление сердца и на непонятный шум во дворе, похмельная голова. Сразу захотелось тяжелую повинную голову спрятать поглубже в пуховики, забыться, может даже умереть, потому что для чего подниматься, для чего раскрывать глаза, если жизнь полна одних мрачностей, загадочностей, неизвестностей и ужасных провалов в памяти, а добрая соломенная вдова Саплина, вместо того, чтобы ласково кликнуть своего болезненного племянника к столу, да установить на столе пузатый графинчик с померанцевой или можжевеловой наливкой, сама, кажется, принимает участие в раннем шуме?…
И, правда, голос соломенной вдовы Саплиной, высокий красивый голос, полный некоторых укоров, мешался во дворе с другими высокими голосами, среди которых выделялся еще один — уже совсем высокий, только без укоров, и совсем некрасивый. Будто какая приблудная собака тоскливо взлаивала, или взвывала, попав в капкан, одинокая волчица.
Отменно похоже.
Упаси Господь слышать с утра такое!
Но взвывала не волчица, попавшая в капкан, тоскливо взлаивала на дворе не собака — кричала некрасивым и болезненным голосом бездомная неистовая кликуша по прозванию тютя Нютя, так ее звали и на Петергофской дороге, и на Выборгской стороне, и за Малой Невкой. В церквах и во дворах тетя Нютя непрестанно кликала нелепым голосом, не боясь ничего. Бабу колотило, ее дергала нечистая сила, ломали судороги. Она вся вздрагивала, теряя платок. Тряся безобразными космами, пугала заморенных мужиков в дерюге, согнанных на работу в Санкт-Петербурх из разных деревень России, пугала старых девок с моськами, от которых пахло белилами и румянами. Вот будут церкви Божии как простые храмы! — непристойно кликала несчастная. И сам Стоглавый собор будет как простой храм! Вот будет разврат кругом! И к святым писаниям будет всякая небрежность! Вот будут вражьи песни кругом, бесстыдные речи, забавы, смех, и хлопание в ладони, и ужимки-прыжки, и всякая музыка — ангелы отойдут от людей!
Люди испуганно переглядывались, а кликуша не утихала.
Темный глад, темный мрак, и блуд, и бесовские клятвы, и басни всякие, и ленность для всех, и безчинныя браки! — все проклинала, выводя на свет Божий, неистовая кликуша. Ничего и никого не жалела. Даже себя. Каждодневно удручала себя подвигами. Но спросишь: боишься ль сама, тетя Нютя? — она тут же менялась в лице, и еще сильней начинала вскрикивать. Боюсь, боюсь! — вскрикивала. Ой, боюсь мук вечных, геенны огненной, скрежета зубовного, червя не усыпаемого!
Оказывается, многого боялась.
А, боясь, вскрикивая, так себя разжигала, что остановить ее не могли даже солдаты, если вдруг появлялись. Ну, волокли тетю Нютю в участок, там били. Что толку? Все от бесов.
Все от бесов, тоскливо повторил про себя Крестинин. Увидишь или услышишь что-то такое, от чего сердце смутится — от бесов. И захочешь узнать что-то такое, до чего тебе, в общем, нет и не может быть никакого дела, это тоже от бесов — пленение тебя ими.
Как всегда по утрам после ужасного ночного загула странное что-то и тяжелое томило душу Ивана. Будто злодеяние какое совершил.
А, может, и совершил…
Свят, свят, свят! — даже думать о таком не хотелось.
Держась двумя руками за гудящую голову, Иван не без труда перевел неправильную мысль на более привычное, подумал с некоторой робостью: а может, сегодня?… Не стал думать о плохом. Запретил себе думать о плохом. Просто подумал: может, сегодня?…
Каждый день в течение многих лет засыпал Иван в постели с такой мыслью: вот прошел еще один день, не принес ему никакого счастья, даже унес частичку здоровья, но завтра-то, завтра! Ну, никак ведь не может быть такого, чтобы завтра не случилось бы в жизни чего-то особенного!
Честно говоря, он не знал, чего ждать от жизни.
Ну, может, царствующая особа действительно обратит на тебя внимание? Ну, обратит… А зачем?… Или, может, дикующая появится в Санкт-Петербурхе, привезут дикующую в кунсткамеру?… Опять же, зачем?…
И так далее.
Не знал.
Попытался с усилием вспомнить, как добрался вчера до домика соломенной вдовы, как попал на свою пуховую перину, и не смог. Попытался вспомнить, где провел вчерашний вечер, и не совершил ли, правда, чего ужасного, и не смог: память зияла черными провалами. Последние остатки памяти затмевал, разносил по ветру волчий взвыв тети Нюти.
Встать бы надо…
Откашлявшись, отфыркавшись, глотнув холодной брусничной воды, прочистив горло и нос, сунув на минуту лохматую голову в таз с холодной водой, Иван, наконец, оделся, и несильно толкнул рукой забухшую раму окна.
Легче не стало, только заныл на левой руке отрубленный палец.
А заныл палец — вспомнился парнишка в урасе. Там, под Якутском… Злобно кидался на него, на Ивана… Понятно, убить хотел, стоял за своего отца… Кровь к крови… А подумав так, вообще заскучал. Вот почему, например, так плохо на сердце? Может, сам кидался вчера на кого с ножом? Может, у меня у самого кровь на душе?
Свят, свят, свят!
Иван испуганно коснулся потемневшего серебряного крестика на груди. Указанный крестик он отнял в сендухе у дикого парнишки в драке, силой сорвал крестик с парнишки. Тот, значит, отрубил ему палец, а он сорвал с парнишки серебряный крестик.
Дохнуло от воспоминаний пугающим, леденящим.
Плоская темная сендуха, одинокая якутская ураса, крытая коричневыми ровдужными шкурами, легкий, разносящийся по всей сендухе запах дыма, низкое светлое северное небо, меканье глупых олешков, ничего не понимающих в человеческой жизни, наконец, кровь на руке…
Вот, вот, кровь на руке!
При одном воспоминании о крови нехорошо сжалось сердце. Вот почему он, Иван, ничего не помнит про вчерашнее? Про всякое старое далекое помнит, а про вчерашнее близкое совсем забыл. Уже столько лет прошло со времени той драки в сендухе, а драку помнит. А вчерашнее — хоть убей.
Действительно, ясно, до каждой детали, помнил Иван, как когда-то серебряный крестик, сорванный с парнишки, с сына убивцы, лежал в его окровавленной руке. Помнил и то, как отец, пнув повязанного и брошенного на пол убивцу, перекрестился и кивнул хмуро:
«Вишь, сам взял… — И добавил странно: — Коль сам взял, значит, твое. Значит. Господь так хочет. Может, знак это… — И добавил: — Этим… — хмуро кивнул на повязанных казаками убивцу и его сына, — …этим, так думаю, ничего больше не понадобится».
«Казнят?» — потрясенно спросил Иван.
«Беспременно, — кивнул отец. — Вот этот, — кивнул на убивцу, — зарезал собственную жену. Разве не большой грех! Не только большой… Смертный!.. И парнишка у него растет вором».
И еще раз хмуро глянул на преступника и на его дикого сына: вот совсем глупые, хотели найти спасение в сендухе! А какое в ней спасение? Сендуха, она тоже не без людей. Сендуха, она тоже творенье божье.
Дивны дела твои, Господи!
Опрятный домик соломенной вдовы Саплиной стоял в одну линию с другими, тоже опрятными; ставни резные, крашеные, от дороги двор и садик с беседкой отделены высокой деревянной решеткой, — если идут по размытой улице странные люди, непременно заглянут к вдове. Как стали у соломенной вдовы Саплиной старые иконы по углам почикивать да пощелкивать, так особенно сблизилась вдова со странными. Каких-то особенных неотвратимых знамений вроде не было — ни звезды в небе с метлой, с хвостом, с сиянием, ни семи радуг, ни мертвого ветра с гнилых болот, только вот почикивание да пощелкивание. Но ясное дело — извещают о чем-то. Томясь всяким предчувствием, торопясь понять необычное, соломенная вдова не отпускала от своего дому, подробно не поговорив, ни одного странника, ни одной кликуши. Каждую примету старалась подробно истолковать со святыми людьми. Вот известно, что длани свербит — к деньгам. А кошка спит, подвернув голову под брюхо, зимой на мороз. А жаба воркует, сорока стрекочет — к новостям. А в ключ свистнешь, и того яснее, к потери памяти. А иконы?…
Страстно допытывалась у святых людей, что извещает такое необычное почикивание да пощелкивание. Всячески угождала святым людям чаем с сухариками да с белым хлебом, а сама допытывалась.
Ох, долюшка!..
Вздыхая, сопя, сил не имея припомнить того, что могло случиться вчера, даже радуясь тому, что ничего вспомнить не может, полез Иван лохматой головой в открытое окно. Одно ясно — выпито вчера винца в кабаках не на одну денежку. Первые приметы: дыхание скверное, памяти нет. Может, снова подумал, это и хорошо, что памяти нет?…
К утреннему чаю соломенная вдова выходила обычно в китайчатом сарафане малинового цвета, на белой шее скромное ожерелье из неярких северных жемчугов — сам маиор Саплин подарил, ныне пропавший в бесконечной Сибири, но сегодня, выглянув во двор, Иван увидел на доброй вдове нерусский халат, длинный и яркий, с широкими рукавами и травчатого удивительного узора, будто невиданное растение расцвело на груди вдовы! У Ивана даже голова закружилась, такая дивная красота. Не зря говорят: апонский халат, прозвание — хирамоно.
Вот хороша матушка, подумал тоскливо, а пропадает попусту. Один у нее муж-маиор, а и тот в Сибири. Может, давно пропал. И подумал сердито: да и как не пропадет, если в целом доме некому бедному секретному дьяку поднести наливки с утра!..
Желтоватый песок, которым густо посыпали широкий двор, порос кое-где поздней осенней травкой, бледной, беспомощной, с нездоровым подцветом. На травке, вминая ее в песок, на глазах дворовых людей, взвизгивая, всхрапывая, взлаивая не по-человечески, билась ужасно худая баба в сбившемся, потасканном платье. Нечистая сила дергала со всех сил бабу, сорвала платок с головы. Добрая вдова Саплина в дивном нерусском халате хирамоно, тоже простоволосая, как выскочила во двор, так всеми силами пыталась помочь несчастной, спасала кликушу в ее убожестве.
— Кто ж это?… — присмотревшись, спросил в никуда Иван. — Вроде не тетя Нютя…
— Да новая кликуша, Иван Иванович! Совсем новая! — вынырнула из дверей проворная Нюшка, сенная девка. — Говорят, из дальних мест пробирается в Киев на богомолье, по обещанию. Вот все ходит, да кликает и кликает своим нелепым гласом!
— Беды бы не накликала, — перекрестился Иван и попытался ущипнуть Нюшку за высокий бок. Но девка ускользнула, смеясь:
— Неловкий вы сегодня, Иван Иванович.
— Неловкий, — печально согласился Иван. И пригрозил на всякий случай: — Сорока-белобока, дай хлеба немного, а Нюше-горюше мужа — бескрылова да косорылова! — И ласково подсказал: — Ты, Нюшка, не забудь, поставь наливку на стол…
— Как барыня скажут, — дерзко ответила Нюшка. Но пожалела Ивана:
— Барыня сегодня сердитые. Это потому как вас, Иван Иванович, вчера домой опять в чужой привезли телеге. Вы громко воинскую песню пели и ругались. Барыня сказали: погонят вас со двора. Совсем не в себе были.
— Да как не в себе? В ком же?
— Тьфу на вас! — замахала руками Нюшка. — Я барыню боюсь, вы барыню только сердите. Погонят вас со двора!
Томительно прислушиваясь к боли, гоня прочь дурные мысли — (а правда? не совершил ли какого злодеяния?) — Иван посидел немножко на лавке, уютно укрытой вышитой дорожкой. Даже провел пальцем по дорожке, кое-где прожженной, но умело заштопанной. Когда-то на лавке с трубкой в руке любил отдыхать неукротимый маиор Саплин — курил матросский табак. В нише изразцовой печи всегда стоял у него горячий кофейник. В отличие от Ивана, неукротимый маиор Саплин заведомо не знал никакого томления духа. Несмотря на свой малый рост, был крепок во всем, даже на выпивку. Ну, совсем крепкий был человек.
Иван повел носом.
Душно, по-домашнему, тянуло геранью с окна.
На стене — ковер мунгальский с бахромой, не такой богатый, как в спальне соломенной вдовы, но почти новый, почти не вытертый; и коврики китайчатые цветные — заботами вдовы; опять же, скатерки разные вышитые, цветные занавески. На полу волчья полость — согреть ноги, когда озябнут. Все мелочи в дому вытканы, вышиты самой вдовой или ее девками. А чего ж? Говорят, сама государыня не стыдится царю Петру самолично коптить колбасы. Почему не вышить скатерку бедной вдове, пусть и соломенной?
Иван осмотрелся, вздыхая, будто, правда, мог увидеть вокруг себя что-то новое.
Изразцовая голландская печь, как леденец, празднично поблескивала — голубым и синим. Затейливые птицы, загадочные литеры бежали по поблескивающему обогревателю, дышали уютным теплом. Иван любил Елизавету Петровну. После давней смерти отца, стрельца Ивана Матвеева, зарезанного в Сибири злыми шоромбойскими мужиками, соломенная вдова многому его научила.
Например, любви к чтению.
Елизавета Петровна никогда не могла сдержаться, всегда обильно заливалась слезами, когда Иван читал ей вслух прелестное сочинение «Гисторию о российском матрозе Василии Кариотском и о прекрасной королевне Ираклии флорентийской земли».
Да и сам Иван не раз смахивал слезу.
Душевная книга.
Сын дворянина и сам дворянин, этот Василий, получив родительское благословение, отправился не куда-нибудь, как в старинные времена, а на самую сейчас модную службу матрозом, и быстро, вот как он, Иван, овладел различными знаниями в Кронштадте. После этого молодой дворянин уехал в Голландию для изучения наук арихметических и разных языков. Изворотливый ум позволил русскому матрозу везде добиться успехов, а ведь начинал он с каютного хлопчика. Однажды, выполняя коммерческое поручение богатого голландского купца, Василий попал на остров к лютым разбойникам. А среди них томилась похищенная флорентийская красавица королевна. Но это не стало для русского матроза бедой, так оказался указанный Василий ловок, так оказался умен, что лютые разбойники сами избрали его своим атаманом. Да и как иначе? Ведь Василий не хватал мясо со сковороды руками, не харкал грубо на пол, не сыпал ужасными матерными словами, он мягкостью и политесом покорил нежное сердце флорентийской королевны, а тем, значит, спас ее, спас себя, и даже стал названным братом австрийскому императору.
— Ты-то, Ванюша, почему плачешь? — допытывалась соломенная вдова, утирая платком светлые обильные слезы.
— Королевну жалко…
Всхлипывали вместе. Заодно вспоминали неукротимого маиора Саплина, пропавшего где-то в метелях, в снежном омороке Сибири.
— Ах, Ванюша!..
Если б не страсти низменные…
Еще в Москве Иван пристрастился к винцу.
Не к романее и не к ренскому, не к молмазее и мушкателю, и не к венгерскому всякому, а к простому крепкому винцу, хоть на мяте, хоть на зверобое, хоть на горчице или на амбре, хоть на померанце или селитре. Хватишь крепкого рюмочку, и сердце стишает, мир преображается. Не зря сам государь объявил когда-то указ о содержании в городах и уездах на кружечных дворах именно добрых водок, винца горького.
Если б в меру…
Вот ведь тихо живет Иван, совсем тихо, ладно, совсем как человек, а потом на него находит. С утра все начинает не ладиться. Выйдет на улицу — соседский козел поддаст рогами, забрызгает немецкий камзол грязью. Появится на площади — чуть под телегу не угодит. И в канцелярии не лучше — непременно опрокинет флакон чернил на какой-нибудь важный чертежик.
Сильная тоска нападала.
Серый бес, томительный, долгий начинал мучительно точить изнутри. Да чего ты, дескать, Иван? Зачем смиряться? Самое, дескать время. Пойди в кабак да сразу спроси двойного с махом. Какой в том стыд? Сам государь, сам Усатый воюет с Ивашкой Хмельницким. Воюет во славу и в синий дым. Устраивает побоища, какие ему, Ивану, никогда не приснятся. На ассамблеях, говорят, так наддают Ивашке Хмельницкому, что некоторых вельмож и домой не везут, бросают кулями на диванах да на полу. Вот каков дар Бахуса: попел, попил, попрыгал козлом, потом валяйся.
Ко всему прочему, в такие дни появлялся в беспокойных снах Ивана парнишка, сын убивцы, который в Сибири отрубил ему палец. Появлялся и грозил — вот ужо, дескать, доберусь до горла! От этих снов, от темных предчувствий еще сильнее сжималось сердце. Почему-то хотелось знать, где тот парнишка, жив ли? А спрашивается, зачем? Любопытство, оно ведь тоже грех. Сама Ева погибла от любопытства.
В пору снов о Сибири Иван просыпался вялым, задумчивым, испуганным даже. Знал, нет никакой Сибири. Знал, что для него уже никогда не будет Сибири, никогда стрела дикующего не метнется в его сторону, и никогда не ляжет перед ним необъятная снежная пустыня, до самого горизонта заставленная печальными одинокими лиственницами (ондушами, по местному), а все равно было не по себе. Ужасался, вот какая смрадная вещь сердце! Пью сердечно, а лгу, а сквернословлю. Дальше-то как?
Оно, конечно, Санкт-Петербурх… Холодная река… Бледное небо…
Зато дом соломенной вдовы Саплиной всегда тепл, ухожен. Поленья трещат в печи — к гостю. Сильно отскакивают раскаленные угольки, а это уж совсем точно, к гостю. Может, вдруг заедет, направляясь в Сибирский приказ, сам думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев. Соломенная вдова Саплина никому так сильно не радуется, как брату, но и никого не боится так сильно: Кузьма Петрович кликуш да странников, всех ее святых людей совершенно не выносит.
И ведь не возразишь. Кто, кроме родного брата, должен следить за ней, за сестрой?
Вздыхала.
Ах, маиор!..
Ну, где сейчас маиор?…
В великую шведскую войну неукротимый маиор Яков Афанасьевич Саплин, тогда еще пехотный капитан, отнял у неприятеля большой корабль.
Началось указанное предприятие для капитана Саплина нехорошо, можно сказать, даже плохо: в шестнадцатом году при высадке десанта в шведской провинции Сконе пехотный капитан Саплин попал в плен.
Пришлось строить шведам дороги.
Саплин, правда, строил дороги без усердия, за что не раз бывал был бит палками, а потом его вообще с такими же нерадивыми погрузили на большой шведский корабль, перевозивший пленников подальше от мест военных действий. На корабле капитан Саплин тайно сговорился с русскими невольниками, а раз сговорились, тянуть не стали — побили да побросали шведов за борт. Подняв белые паруса, пришли к своим, нигде не посадили корабль на мель. Дивясь на такой богатырский подвиг, сам Петр Алексеевич, сам Усатый, поднявшись на борт плененного корабля, самолично угостил военных героев добрым флипом — гретым пивом, смешанным с коньяком и лимонным соком, и спросил, смеясь, но страшно при этом дрогнув правой щекой, отмеченной небольшой родинкой:
— Кто додумался до такого?
Вытолкнули к царю пехотного капитана Саплина.
— Врешь! — поразился Усатый. — Мыш такой!
Маиор действительно не вышел ростом. Петру Алексеевичу, например, казался как раз под мышку. Блуждающие круглые глаза царя цепко прошлись по истрепанному мундиру капитана, но Саплин того не испугался — смотрел на усатого пусть снизу вверх, но неукротимо, и даже весело.
Царю понравилось.
— Коли так, — сказал, обняв крепко, — коли такой маленький русский мыш так задирает шведского льва, мы бюст тебе, неукротимый маиор, грудную штуку с тебя, как с героя, слепим. — И, поправив тяжелой рукой красные (вот она запекшаяся стрелецкая кровь!) отвороты темно-зеленого преображенского мундира, крепко обнял капитана: — Дам теперь дышать тебе, маиор, ты услугу мне оказал. И России оказал большую услугу.
И дал дышать.
Пользовался маиор всякими царскими милостями, на ассамблеях скакал козлом, неукротимо пил водку, дымил трубкой, играл с большими генералами в шашки, случалось, пугал дам простыми рассказами. Зато когда пришло время отправить в Сибирь верного человека, Усатый вспомнил не кого-нибудь, а именно маиора: пусть ростом мал да волей вышел! Сказал доверительно: пойдешь, маиор, в Сибирь. Это далеко. Знающие люди говорят, что есть в Сибири одно местечко, над ним гора возвышается — вся из серебра. Натеки серебряные висят с той горы, ну, прямо как сопли. Посылал я туда грека Леводиана с десятью товарыщи, он не нашел и сам сгиб. Теперь ты, маиор, пойдешь к горе. Пойдешь по добру, не по приговору. Настоящих работников у меня и в России не хватает, но надо идти. Я так чувствую, маиор, что это дело как раз тебе по характеру. Если вернешься, то полковником. Опять дам тебе дышать.
И пошел маиор в Сибирь искать для царя гору серебра. А соответственно, и охранять ее. Раз есть где-то в Сибири гора серебра, правильно решил, непременно ее надо охранять. Русский человек, известно, от природы склонен к хищениям. Дай ему волю, русский человек свою собственную гору серебра по щепотке разнесет, всю сменяет на водку. Мимо горы серебра идя, ни один русский не удержится, отщипнет немножко. Чего, скажем, не хватало сибирскому губернатору Гагарину? Все у него было, даже то, что у царя есть. А ведь неистово воровал Матвей Петрович, так страшно и неистово воровал, что труп его, обмотанный цепями, до сих пор, истлелый, болтается на виселице. И не где-то в Якутске или в Тобольске, а здесь, в Санкт-Петербурхе, прямо перед окнами Сената. Всегда полезно видеть такое русским сенаторам.
Ушел маиор.
А Сибирь велика.
Сибирь, она всех глотает.
Шум на дворе утих.
Мальчик в синем армячке, из-под которого виднелась нечистая рубаха, младший брат девки Нюшки, с опаской заглянул в комнату, сказал, шепелявя, с ненавистью:
— Барыня передали, накрыто на стол.
— И померанцевая поставлена?
Знал Иван, что не надо унижать себя перед мальчиком, мальчик его и без того не любит. И за то, что они, секретный дьяк Иван, сестру Нюшку тискают втихомолку и щиплют за высокий бок, и за то, что их, задумчивых тихих дьяков, время от времени доставляют в дом пьяными на чужой телеге, а добрая барыня почему-то терпют такое, и за то, наконец, что секретные дьяки как бы тихие, а сами часто с доброй барыней уединяются, и читают вслух разные книги. Еще ладно бы, «Устав морской» — о всем, что касается к доброму управлению в бытности флота на море, или там всякие заметы о военных баталиях (такое даже неукротимый маиор слушали в свое время), так ведь нет, он, мальчик, сам слышал, как они, дьяки вредные, читали доброй барыне вслух книгу: «Новоявленный ведун, поведающий гадание духов, или Невинныя упражнения во время скуки для людей, не хотящих лучшим заниматься». Он, мальчик, сам тайком держал в руках эту книгу, даже листал ее, только ничего не понял. И от этого сердился еще сильнее. Обидно и за добрую барыню, и за сестру. Сказал бы барыне, какой плохой у нее племянник, да страшно… Вот защитил бы сестру Нюшку, да сил нет… Да и защищать как-то никак не получается: к тихому дьяку у глупой Нюшки всякие такие симпатии… При взгляде на Ивана у мальчишки леденели глаза.
А соломенная вдова чего ж?
Она, правда, любила послушать чтение.
Особенно если в какой книге шла речь о Сибири, соломенная вдова вся содрогалась. Содрогалась, но все равно досконально хотела знать о пустынном крае, по которому, может, и сейчас ходит ее маиор. Ведь всем известно, русский человек — ходок, он не станет отсиживаться в якутских чувалах или по заброшенным зимовьям, он сам далеко пойдет, куда глаза глядят, без ландкарты, только понаслышке, пока не остановит его судьба. Этого только глупый мальчишка, брат Нюшки, не понимал, не раз, впрочем, поротый в сарае за то свое горькое непонимание. Правда, после каждой такой порки мальчишечьи глаза при виде Ивана еще больше оледеневали.
— Не поставлена померанцевая. Не будет вам нынче померанцевой. Никакой вам сегодня не будет, — скороговоркой с холодной ненавистью выговорил мальчик. И сам про себя, пусть и не вслух, но как бы решил: вот тискаете Нюшку, глупые дьяки, ничего вам нынче не будет!
Тоска, подумал Иван, и вяло пообещал:
— Уши нарву.
— Вас вчера привезли накушамшись, — с ненавистью сообщил мальчик. — Вас вчера на телеге привезли, как помершего борова. Думный дьяк Кузьма Петрович всегда вас хвалют, а зря.
Иван так же вяло пообещал:
— В подвал спущу. Железо набью на руки. Будешь, как кликуша, лаять из подвала нелепым голосом. — И, ногами шаркая, плохо было, направился в гостиную.
Из гостиной низкая дверь открывалась в сумеречное, но уютное и теплое пространство полукруглой застекленной террасы, за удобство и видимость которой вдова не раз отмечалась городским начальством. Даже сам государь однажды, проезжая через Мокрушину слободку, вспомнил неукротимого маиора Саплина и, поднявшись к соломенной вдове, выпил водки.
Хорошая терраса.
На такой террасе чай хорошо кушать.
Если солнце в небе, то все вокруг как бы смутно освещено, как бы погружено в светлую радугу, а если туман, то, опять же, люди укрыты от непогоды, и не зябнут за столом, и туман не охватывает их своей сырой желтоватой гнилью. А на столе сипит самовар. Большой горячий самовар. Такого на многих хватит.
— Вас Пробиркой все кличут, — все той же скороговоркой ненавистно прошипел в спину Ивану вредный мальчик.
— Рассол принеси, — угрозился Иван, но на прозвище не обиделся.
Ну, Пробирка.
Подумаешь!
Так прозвали его на службе не за что-нибудь, а за стеклянную светлость глаз, за тихую худобу, за особенную опрятность. Подумаешь, Пробирка! Бывают прозвища куда хуже. На царских ассамблеях даже сиятельные князья да вельможи ходят под всякими прозвищами. Курят табак, играют в шашки, сидят, смотрят друг на дружку, а кого надо окликнуть, окликают по прозвищу! Усатый сам за этим следит. И даже сам наделен прозвищем!.. Подумаешь, большое дело — Пробирка. Дано человеку такое прозвище за чистоту, за опрятность. У него, у Ивана, чернила, бумага, тушь, всякий инструмент, книги — все хранится на своем месте, каждая чертежная принадлежность в шкапу, сам в канцелярию входит скромно. Закусывает губу, вперяет задумчивый взгляд в рабочую маппу. Не зря думный дьяк Матвеев без сомнений доверяет Ивану самые секретные.
Кликуша во дворе, наконец, совсем смолкла.
Как умерла, подумал Иван. Наверное, ее окатили водой, потом подняли. Теперь, успокоив, будут поить чаем, подарят калач. А потом сама соломенная вдова Саплина будет говорить с кликушей. С одной стороны вдове страшно: был царский указ — нигде ни по церквам, ни по домам не кликать и народ тем не смущать, а с другой стороны очень хочется знать вдове: ну, вот к чему начали в дому иконы почикивать да пощелкивать?
— Здравствуй, голубчик.
Соломенная вдова вошла к столу и Иван, увидев ее, сразу оттаял сердцем.
Светлое личико вдовы пусть оспой побито, но в меру, будто болезнь ее пожалела, глаза синенькие, на плечиках халат тонкого, но тяжелого апонского шелку, только зеленый, как морская вода, и с необычным растением на груди. И сама соломенная вдова Елизавета Петровна все еще цвела как цветок — правда, не на восходе, а на закате. Единственно лишь по глазам, чуть косящим, видно было — расстроена.
— Ах, голубчик! — белые ручки крепко прижаты к грудям, будто она боялась за нерусское растение, но взгляд печален. — Знаю, знаю, ты добр, тебе думный дьяк Кузьма Петрович благоволит, но как можно?
Жалела.
Корила, значит, но жалела Ивана. И только из смутного упрямства, порожденного похмельной тоской, Иван напомнил себе слова из одной умной книги: «Тот не пьяница, кто, упившись, спать ляжет, а тот пьяница, кто, упившись, упадет, где стоит». Впрочем, сразу вспомнил, стыдясь: а сам-то я? Разве вчера не меня привезли домой на чужой телеге? Разве это не я не помню, что, собственно, совершил вчера? Даже подумал горестно: будь соломенная вдова грамотней, она бы нашла, что возразить. «И кроткий, упившись, согрешает, если и спать ляжет, — возразила бы соломенная вдова, будь она грамотней. — И кроткий, упившись, валяется как болван, как мертвец. И кроткий, упившись, валяется, смердя даже в святый праздник, валяется как мертвец, расслабив тело, весь мокр, налившись как мех до горла. Если богобоязен, то мнит, что стоит он на небеси и наслаждается высоким пением, а от самого несет смрадом, и весь поганый…»
Могла, могла возразить вдова! Иван чуть не застонал от бессилия. И, опять же, не было на столе наливки! Вот вся душа болит, что-то вспомнить хочет, а вдова по сути своей женской долго еще будет мучить его, Ивана. По доброте великой сама измучается и его всего измучит.
— Знаю, знаю, голубчик! — вдова снова сложила руки на грудях, под белыми пальчиками смятенно смялось невиданное нерусское растение. — Знаю, знаю, голубчик, с чего ты с утра неприветлив, с чего у тебя такая печаль в глазах. Это Сибирь в тебе отрыгается. Кузьма Петрович мне говорил, что люди в Сибири неприветливы и хмуры. Такие, как ты сейчас. Кузьма Петрович — думный дьяк, он все знает. Он мне говорил, что люди в Сибири хмурые, а небо низкое. Совсем низкое и темное, все в копоти, — перекрестилась вдова. — Закоптили дикующие небо в Сибири кострами. Много их там. Ты, голубчик, — губы соломенной вдовы дрогнули, — тоже с утра как закопченный. — Наверное, вспомнила маиора (в расстройстве всегда вспоминала Якова Афанасьича), добавила горько: — Почему теперь веснами птички не стали красиво петь?
И так жалобно выговорилось это у вдовы, что сердце Ивана дрогнуло, налилось нежностью, жалостью.
— Ах, матушка!..
Понимал, что надо, непременно надо повернуть разговор на маиора, на его героическую судьбу, тогда, может, появится на столе и наливка, но так жалобно, так горько сказала вдова про птичек…
— Ах, матушка, каюсь!
Знал, что добрая соломенная вдова не смирилась с мыслью о своей горькой доле. От того и сворачивала так часто в сторону Сибири. И в плохом, и в хорошем. Вот, например, закопченное небо вспомнила. В Сибири, это она действительно не раз слышала от брата, дикующих много — они нехорошие, они гостей ядят, стрелы пускают. В Сибири мороз леденящий, зверье, люди лихие. Там плохо, плохо, никак не выживешь! Но маиор Саплин неукротим! Он росточком не вышел, зато душевная сила в нем! Пока зверье бегает по лесам, маиор Саплин не помрет с голоду. Он, неукротимый маиор Саплин, не только на зверье, он на шведа охотился! Сам государь помнит о неукротимом маиоре Саплине. Он, государь, ее, соломенную вдову, не раз привечал, ее маленький рот поцелуем отметил. Однажды в ассамблее лично налил ей в бокал ренского, и, дрогнув щекой, пошутил. Вот, пошутил, коль мужчина встречает женщину, то всегда спрашивает: «Можно, я это сделаю?» А женщина, мол, всегда отвечает скромно: «Да как! Да не надо!» А я все равно это сделаю! И так пошутив, запечатлел поцелуй на теплых губах вдовы.
Сказано у Павла: «Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе».
А где маиор? Умер? Жив ли? Уже несколько лет одна — без никакого греха, в печали. В неслышимых стенаниях текут дни, недели, месяцы, годы. У Павла там дальше: «Но она блаженна, если останется так, по моему совету». Ох, трудный совет! Не зря думный дьяк Кузьма Петрович, брат родной, бывая в гостях, а потом прощаясь неспешно, вдруг проницательно взглядывает в глаза любимой сестры и говорит, сжав горячую руку: «Лучше, сестра, заново вступить в брак, нежели разжигаться».
Она вспыхивала.
Несчастная судьба.
И мужа нет, и свободы нет.
Ждала, не жалуясь и терпя, мужа, неукротимого маиора Саплина. Стыдилась всего, что могло отбросить тень на ее скромное ожидание. Потому и сейчас, строжась, подняла на Ивана синенькие глаза:
— Вот так, голубчик. Вчера вновь тебя привезли. Ты был будто куль с мукой. И мешок при тебе. Бумаги шуршат в мешке. Казенные, небось, бумаги, Ванюша? Как только не потерял? — И укорила: — Можно ль так поступать?
Сказала про мешок (бумаги шуршат), и Иван сразу все вспомнил.
Глава II. Чужой мешок
«Тогда царевич шалил… Усатый сильно боялся… Тогда на поклон ходили к царевичу…»
«Молчи, дурак! Где тот царевич? Много выходили?»
Окна австерии дрогнули от пушечного залпа.
На мгновение утих пьяный говор, шумно сорвалось с окрестных крыш черное воронье. Как бы тень упала на землю, так грянул на Троицкой площади многократный виват.
Иван тоже поднял голову, прислушиваясь.
Чего только не случилось за последнее время. Было что послушать, хватило бы ушей. За какой-то месяц изменилась вся жизнь. «Здравствуйте и благодарите Бога, православные, что столь долговременную войну, которая продолжалась двадцать один год, всесильный Бог прекратил и даровал нам со Швециею счастливый и вечный мир!» — так сказал государь.
Во всеуслышание.
Усмехаясь про себя, Иван незаметно присматривался, прислушивался к ярыгам, рассевшимся по углам, к простым матросам, толкающимся у стойки, к казакам, занявшим вторую половину стола. Кафтаны на казаках выглядели поношенными, но так ведь только говорят, что встречают по одежке. Если правильно, то в кабаках встречают не по одежке, а по денежке. Есть денежка, никто тебя не упрекнет в том, что на плечах у тебя кафтан, видавший всякие виды. Имея денежки в любом виде можно сойти с лестницы, никто не укорит. А без денежки, и в хорошем кафтане можно получить по зубам.
Радовался про себя, потягивал горькое винцо.
На площади он уже был, среди народа толкался, военные суда на Неве видел. Честно говоря, на площади Ивану даже не понравилось. Там шумно кричали виват, там гремели литавры, били барабаны. Там с ужасной силой грохотали пушки с Петропавловской крепости, с военных судов и с Адмиралтейства. Там ждали фейерверка. Казалось, Усатый и в день мира хочет напомнить о жестоком военном огне. А вот в австерии уютно. Не зазорно русскому человеку выпить горького винца в такой день.
Вот Иван и радовался.
Почему не радоваться?
Беременные бочки с вином и с пивом тяжело и надежно утверждены на специальном возвышенном месте, они, большие бочки, не шумят, не толкаются, как люди на площади. И разговоры в австерии много интереснее и богаче, чем на площади. Мир-то, говорят, миром, а вот что теперь будет, когда наступил мир? Одни утешают, что к санкт-петербурхским окладам, в сравнении с московскими, теперь начнут доплачивать не двадцать пять процентов, а все тридцать, другие пугают, что пусть не на войну, а все равно волею Усатого погонят молодых робят в школы, а то еще и дальше — к немцам, к голландцам. Тоже чего хорошего? Наши робята от того портятся.
Иван приглядывался, прислушивался.
Еще вчера людишки смиренно, как тараканы, прятались по углам, боялись лишний раз выглянуть на улицу, а сегодня как наводнение случилось, как Нева выплеснулась на берега и пошла по улицам с шипом-гулом — пей-гуляй! — всех несло в одном общем водовороте. Хочешь, пробивайся сквозь орущую толпу на площади к дареному вину, к остаткам жареных быков с позолоченными рогами, а хочешь, пей на свои. Кафтаны не марки, поблаговести в малые чарки. Позвони к вечеришки в полведришки пивишки. Всем известно, что глас пустошный подобен вседневному обнажению. Целовальники нарадоваться не могут богатому празднику, они от великой радости выкатывают людишкам бочонки застоявшегося винца — не жалко, мол, радуйтесь! Не дураки, знают — все к ним вернется.
Иван усмехнулся.
Раньше на дармовщинку подносили рюмку водки с огурчиком только в кунсткамере. Простому человеку просто так войти в кунсткамеру страшно. Государь, учитывая это, специально учредил: явился человек взглянуть на уродство, какое производится иногда Натурой, такому человеку непременно сразу рюмку очищенной! Не выпив очищенной, и осматривать кунсткамеру тошно. Правда, ее осматривать тошно и после очищенной, не такая уж она очищенная. Однажды, правда, на большом безденежье, Иван целых три раза умудрился пройти в кунсткамеру, целых три раза умудрился принять от служителя по рюмке, и, может, принял бы еще, но образовался над Иваном плотный тяжкий запах перегорелого винца. Вот тебе и очищенная.
Странно вот, подумал он, поглядывая на матросов, на ярыг, на казаков напротив, все вроде радостны, все чему-то смеются, все о чем-то разговаривают, только у меня, у секретного дьяка, на душе смутно.
И усмехнулся презрительно. Уж прямо так — почему-то? Уж прямо не знаешь правды?
Укорил себя: знаешь, знаешь!
Ведь сказано в умных книгах, что пьяницы и бражники царствия божьего никогда не наследуют. Они без воды тонут на суше. В кабак — со всем, обратно ни с чем. Перстень на пальце тяжело носить, зато портки на пиво легко меняются. Пьешь с красой, проснешься с позором. В кабаке всякому дашь выпить, а завтра сам будешь просить. Так что, знаешь!.. Все знаешь, Иван!..
Четвертого сентября одна тысяча семьсот двадцать первого года государь Петр Алексеевич неожиданно явился с моря в Санкт-Петербурх. Говорят, сам вел шаткую бригантину от Лисьего мыса, где стоят Дубки, та усадьба, что впрямь обсажена молодыми дубками. Бригантина ходко вошла в Неву, стреляя сразу из трех пушек, и сразу затрубили трубачи.
Боялись несчастий, а вышел мир.
По такому великому, по такому столь долгожданному случаю Усатый, наконец, принял от своих флагманов и главных министров чин адмирала от Красного флага. А Сенат и Синод поднесли государю титул Отца Отечества, Всероссийского Императора и Петра Великого. Говорят, Усатый не церемонился. Его левая щека счастливо и грозно дернулась: «Конец долгой войне!»
Так произнес, и сразу двенадцать драгун с развернутыми знаменами, с белыми через плечо перевязями, как бы гоня перед собой неистовых трубачей, пошли с шумом по плоским площадям и улицам Санкт-Петербурха, объявляя великий праздник: мир! мир со шведами!
Пятого сентября в почтовом доме всю ночь коптили сальные свечи, била по ушам сильная музыка — вместе с долгожданным миром в счастливо заключившейся войне приглашенные праздновали именины царевны Елизаветы Петровны. Думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев, заглянув к соломенной вдове Саплиной, рассказал: государь Петр Алексеевич, Отец Отечества, как бы стряхнул с плеч всю тяжесть военных будней, никак остановиться не мог. С удовольствием курил короткую голландскую трубку, пил, плясал, смеясь, срывал парики с сановников, широко расплескивал вино из чаши.
Мир!
А десятого сентября снова праздник.
На этот раз с карнавалом.
Иван несколько часов бродил в толпе, дивился: людишки в харях, в невиданных венках и одеждах скакали и прыгали на Троицкой площади под грохот пушек, под шипенье диковинных фейерверков. Говорили, что фейерверки, как всегда, зажигает сам царь. Безумный князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский явился перед народом в одежде древних владык: ехал на колеснице, облаченный в длинную мантию, подбитую горностаем, сверкала корона на голове, усыпанная не стеклом, а настоящими бриллиантами. На фигуру бога Вакха, мерзкого в своей наглой осатанелости, набросили благородную тигровую кожу. Страфокамилы, петухи, журавли — десятки и десятки ряженых кружили вокруг процессии. Одного царского шута целиком зашили в медвежью шкуру, он смертельно пугал зевак, вдруг бросаясь на них. Говорили (сам Иван того не видел), что на выходе Преображенского и Семеновского полков первым торжественно отбивал строевой шаг суровый великан в потрепанном зеленом полковничьем кафтане с небольшими красными отворотами, поверх которого была натянута кожаная портупея. На ногах великана зеленели простые чулки и такие же простые башмаки, стоптанные на многих дорогах. В одной руке палка, в другой шляпа.
С ужасом и восторгом узнали в великане царя.
Виват, прозвучавший при появлении Усатого, донесся до каждого кабака, забитого пьяницами-ярыгами. Не заглушили того вивата ни шипенье ракет, ни пушечные залпы. Да, не мало чего случилось в последнее время.
Иван внимательно разглядывал людишек, старался поймать каждое сказанное слово. Кто радуется? Кто опечален? Над чем задумываются? Чего хотят? Не упустил он и высокого человека в немецком кафтане, вдруг пробившегося к стойке, покрытой медным листом. Навстречу человеку сразу встал из-под грозного портрета государя, висящего на стене, целовальник в фартуке. Хорошо знал, кто и сколько может оставить в его заведении. Провел новоприбывшего в угол, усадил на скамью под окном, украшенным маленькими цветными стеклышками, поставил на дубовый стол объемистую рюмку анисовой, и положил рядом мягкий крендель. Ветер с залива время от времени с силой сотрясал мутные стеклышки, но в теплом заведении уютно вился дым, пахло хлебом и водкой.
Обычно ход Ивана начинался с маленьких кружал, где трудно встретить знакомого человека; или даже с Меншиковской австерии, той, что на набережной. Меншиковской ее прозвали потому, что генерал-губернатор Санкт-Петербурха, переправляясь на лодке через Неву, почти непременно заглядывал на огонек. Здесь следовало вести себя сдержанно, однако Ивану хозяин радовался: хорошо знал в свое время пехотного капитана Саплина. А вот в австерию Четырех фрегатов Иван заходил реже. А если заходил, то сидел тихо и недолго. Зато, нагрузясь, как хорошая барка, степенно отправлялся в долгий обход уже всех подряд кабаков и австерий, поставленных вдоль Крюкова канала. Часто заходил в кабаки совсем простые, где ярыги попривыкли к нему, где он никого не смущал и сам не смущался. На улицах ветер, сырость, холодно, в грязных переулках стерво, вонь, грязь, пока бредешь, укрываясь от ветра, весь перемажешься, а в кабаках сухо, уютно.
В австерию Четырех фрегатов Иван боялся ходить: сюда вполне мог заглянуть сам Усатый. Конечно, Иван никогда такого не видел, но некоторые ярыги клятвенно клялись, что видели Усатого в указанной австерии. А зачем встречать Усатого простому человеку? Лучше не надо. О государе ходили разные слухи. К примеру, Кузьма Петрович Матвеев, думный дьяк, сам говорил, что сильно строг царь. Когда назначал в свое время бомбардирского поручика Меншикова губернатором Шлиссельбурга, губернатором лифляндским, корельским и ингермландским, так и сказал: «Возвышая вас, думаю не о вашем счастье, но о пользе общей. Кабы знал кого достойнее, конечно, вас бы не произвел». И память, говорил Кузьма Петрович, у государя отменная — он помнит всех, кого видел в лицо.
Иван поежился.
Правда, не дай Господь, войдет Усатый, дернет щекой (в румянце), и укажет на Ивана: ублюдок, дескать, стрелецкий! Почему здесь? Весь род выведу!
Иван усмехнулся. Так дурак может сказать, убивая комара.
А что истинному царю до комара, что истинному царю до дитяти какого-то стрельца, высланного в Сибирь и давно убитого злыми шоромбойскими мужиками? Что истинному царю до какого-то мелкого секретного дьяка? Это тундрянной старик-шептун от убожества своего мог гадать: будешь, мол, отмечен вниманием царствующей особы.
— Тише, дурак!..
Иван вздрогнул. Но это не ему сказали. Это один казак сказал другому казаку. А тот зло ответил:
— Ты меня не тиши! Про что говорю, про то знаю. Сам есаул такое говорил, не помнишь? Так и говорил: немцы, дескать, Усатого испортили, немцы, дескать, Усатого подменили… — Голос упал до шепота: — Не русский он, говорят…
— Да как так?
— А так… Простой немки сын… Подменили, говорят, ребенком… Подкинули вместо настоящего ребенка немчуру. Потому Усатый и дергается всегда, что не по нраву ему истинный православный дух. — И выругался: — Пагаяро! Всю Россию вырядил в немецкое платье.
— Молчи, дурак!..
Иван невольно поежился.
Вот какие неосторожные люди, эти казаки. Таких и слушать опасно. Даже случайно слушать таких опасно. Лучше уж повернуть ухо к ярыгам.
Иван, правда, повернул ухо к ярыгам.
— Купи шапку, человек, — сказал один. — Смотри, какая шапка!
— Вижу, что мятая, — возразил другой.
— Да в мятости ль дело? Ты пощупай.
— Чай не баба!
— А ты все равно пощупай, не бойся. Я сроду тебя не обману. Шапка мяхкая, как травка. Совсем не простая шапка.
— Я вижу, что не простая. Старая, тертая. Потому-то, наверное, и мяхкая, что хорошо тертая.
— Это не овчина, сам погляди. Это шапка из баранца.
— Все одно, овчина.
— А я говорю, совсем не овчина. Не овчина, значит, а баранец!
— Да в чем разница?
— Да в том-то и разница, что шапка с низовьев Волги! Баранец только там растет. Это как бы животное-растение, и плод оно приносит, совсем похожий на ягненка. Стебель идет через пупок и возвышается на три пяди. Конечно, ноги мохнатые, рогов нет, передняя часть как у рака, а задняя — совершенное мясо. Всегда живет, не сходя с места. До тех пор живет, пока имеет вокруг себя пищу. А потом помирает, если охотники не возьмут.
Пряча в ладони плохо выбритый подбородок, Иван горбился на лавке, намертво врезанной в пол, чтобы ярыги не позволяли себе употребить ту лавку в драках. В теплом углу все слышно, в теплом углу все видно, в теплом углу тебя никто не видит, не замечает, можно сидеть да помалкивать. Ну, а сильно захочется, сам входи в разговор. Но с почтением входи. С уважением. А то, не дай Бог, ударят в лицо, выбросят на улицу. Не поможет тогда и портрет Усатого, вывешенный в кабаке для душевного усмирения.
Чувствовал, крепкое винцо туманит голову.
Еще не пьян, а уже туманит голову. И уже хочется чего-то. Как бы подергивают изнутри мелкие бесы. И застряло в голове произнесенное казаком ругательство — пагаяро. Вот что за словечко? Откуда? Будто уже слышал когда-то. Дикое словечко, нечеловеческое. По хорошему, вообще б уйти от греха, из кабака, спрятаться в опрятном домике доброй соломенной вдовы Саплиной, никого не трогать, и тебя чтоб никто не трогал. Читать негромко умные книги, замышлять неторопливо добрые дела. А пьяный… Всем известно, от пьяного человека ничего хорошего не жди. От пьяного человека удаляется ангел-хранитель, заступают на его место бесы, вводят в пустой кураж.
Хмыкнув, Иван отмахнулся: да ну, какие бесы? Сегодня же праздник! Зачем спешить домой? Разве он не человек? Зачем прятаться в четырех стенах? Он хочет по-человечески посидеть с людьми.
Но внутри Иван уже понимал: это бесы. Это они, окаянные, нашептывают, свое берут. Томят, собаки, с утра, жарко и хитро подогревают кровь, жадно и хитро гонят ее по жилам. Вот раньше, в Москве, с Иваном такого никогда не случалось. Ну, запивал, с кем такого не бывало? — но не так, не вкрутую. Москва сама по себе — город тихий. На холме Покровский собор. Внизу многие городские ворота — Тверские, Пречистенские, Арбатские, Никитские, Серпуховские. Через речку Неглинную переброшен деревянный мост. В Бабьем городке у Крымского моста лениво вертятся крылья мельниц, а с Кузнецкого моста несет нежным древесным дымом. После покойной белой Москвы, после старинных изб, бесчисленных искривленных переулков, после колоколен, палисадов и белых кремлевских стен, если мрачнеющих, то только на закате, мрачный солдатский Санкт-Петербурх, плоско простертый по островам, до сих пор казался Ивану нечеловеческим, все его пугало в Санкт-Петербурхе, но, вот странно, влекло. И неестественные плоскости низкого белесого неба, и простор белесой Невы, и всякая речь на площадях, часто нерусская. Игла крепости Петра и Павла отчетливо касалась низкого неба, берега бесконечно тянулись, выказывая устроенные на них пеньковые амбары, гарнизонные цейхгаузы, церкви с голландскими шпицами, мельницы, бедные мазанки, дворцы, смолокурни. И грязь везде. Топь да болота. У каждого въезжающего в город требуют булыжник с души, иначе — шум, наказание.
Нет, скушно подумал Иван, врал тот старик-шептун!
И завтра с ним, с Иваном, и послезавтра с ним ничего не случится. Какое уж тут внимание царствующей особы? Какая дикующая? Чухонка, что ли? Никогда ничего удивительного не случится со мной, скушно сказал себе Иван. Ты не маиор Саплин, ты даже не казак с какой-нибудь украины. Ты просто Пробирка. Ты просто дьяк, только называешься секретный. Вот и сиди, дурак Пробирка, в пыльной канцелярии, перетолмачивай чужие книги, учиняй чужие чертежи!
Думал так, а глаза все примечали. И мысли становились хитрей. Ну, плоский город, а все равно… Вот взять бы лодку…
Скушно усмехнулся. Ну, возьмешь лодку. Ну, даже поплывешь. А куда плыть? Близко нет никакого края света, только острова. А на каждом острове сидят в правительственных учреждениях чиновники, берут подарки, на пол сплевывают, в простоте своей забывая о политесе. Все врал старик-шептун! Погибнет он, Иван, здесь, в Санкт-Петербурхе. И погибнет ни от чего-то там грозного, даже не от того, что чужую жизнь проживет, а просто от пьянства. Видно, так у него на роду написано.
Вздохнул.
Как сидел годами над чужими отписками и чертежиками, так, наверное, и впредь буду сидеть. Как пил годами в самых смутных местах, так, наверное, и буду пить. Как попадал во всякие истории много лет, так и буду попадать. И однажды все кончится плохо. Известно, после одиннадцати часов вечера опускаются шлагбаумы на городских заставах. Если ты не лекарь, если ты не солдат по команде, если ты не знатное лицо или священник, так и не думай ходить по улицам. Тут тебе не Москва. Здесь ночи чернее грязи. А коли белая ночь, так еще хуже. Пропадешь где-нибудь на сырых деревянных набережных.
Но и вздыхая, Иван понимал — это бесы его томят. У них, у бесов, это главное дело — смущать ум слабого человека. И чтобы отогнать бесов, чтоб не томиться, выпил сразу двойную с махом. А сам все присматривался, прислушивался.
Вот странно устроен мир.
Думный дьяк Матвеев, добрейший Кузьма Петрович, дружен с самим Оракулом, с хитрым Остерманом, может, лучшим дипломатом при государе, да и сам Матвеев призван на все ассамблеи, пьет водку с перцем, играет в шашки с Усатым, а, например, вернуть деревеньки высланного в Сибирь и погибшего там старшего брата не может. Добрая соломенная вдова Саплина, добрейшая Елизавета Петровна, приходится родной сестрой того же думного дьяка, на устах соломенной вдовы сам Усатый запечатлел поцелуй однажды, а, например, обратиться к государю, напомнить ему о потерявшемся в Сибири маиоре не может.
Вот если бы он, Иван…
«Что ты! Что ты! — испугался собственных мыслей. — Разве можно?»
Знал, явись перед ним Усатый, испугался бы до смерти.
Говорят, лицо у царя круглое, с румянцем на щеках, голова высоко поставлена, глаза все видят. Глянет ужасно, пыхнет матросской махоркой, ткнет длинным пальцем в грудь: «Вот, дескать, ты, Ивана Матвеева сын, выблядок стрелецкий!.. — и крикнет: — В Сибирь его!.». А то еще пошлет каналы рыть. В России много роют каналов.
Ивана передернуло.
Остановись, строго сказал себе. Винца выпито уже не на одну денежку. Остановись, не потакай бесу!
Но остановиться не пожелал.
Глотнул рюмку мятной, заел кусочком паштета.
Остро жалел при этом добрую соломенную вдову Саплину. …Почему теперь веснами птички не стали красиво петь?
Доброй соломенной вдове Саплиной в голову не приходит, чем занимается сейчас ее сирота. Да и не надо, чтобы такое приходило в голову. Он, Иван, не позволит себе расстраивать добрейшую Елизавету Петровну. Вот еще один шкалик, и все!.. Один самый последний шкалик, и больше ни на мизинец. Он, Крестинин Иван, дьяк секретный, знает меру. А если еще захочется выпить, так выпьет дома. У него в канцелярии в шкапу с секретными маппами припрятан полуштоф, и дома, в уголку, куда не заглядывает даже девка Нюшка, еще один припрятан. Сейчас он, Иван, последнюю рюмку допьет и, радостный, пойдет к доброй вдове своими ногами. Не на чужой телеге пьяного привезут его, как с песком куль, а сам пойдет. Вдова так удивится, что сама выставит померанцевую. «Утешься, мол, сирота, пригуби рюмочку. Праздник! В мир вступила Россия, шведа побили. Выпей за здоровье государя императора и за здоровье неукротимого маиора Саплина. Ведь государь сегодня пускает фейейрверки и в его честь».
Врал старик-шептун.
Даже кулаком хотелось грохнуть об стол. Ну, зачем обещал старик край земли? Зачем обещал любовь дикующей? Зачем внимание царствующей особы? И еще это. «Чужую жизнь проживешь…» Какую чужую? Как можно прожить чужую жизнь?… И вообще… Ему, секретному дьяку Ивану Крестинину, как всякому другому божьему человеку, оставлять Санкт-Петербурх более чем на пять месяцев не разрешается, да и на те пять месяцев нужно испросить письменное согласие Сената. А до края земли, небось, скакать да скакать все три года!
Врал, старый дурак. Сидеть мне всю остатнюю жизнь за канцелярским столом, залитым чернилами. Я — мышь канцелярская. Я — лоскут ветхий. Еще точнее, Пробирка я.
Истинно, Пробирка.
А то так просто шуршун.
Усмехнулся презрительно: «Ну да, вот такой, как я, дойдет разве до края земли! Жди больше, дойдет!» И сказал себе строго: «Все, Иван, встаем. Самое время встать». И угрозил себе: «Смотри, как сейчас встану!»
Но не встал.
Стало жалко себя.
Вот он сейчас уйдет, а ничтожные ярыги останутся. Вот он уйдет, а казачий десятник, рассевшийся за столом напротив, так и будет бубнить — вот, дескать, еще при царевиче… Так почему я должен уйти?…
Капля к капле — наводнение.
Это кто сказал про наводнение?
А-а-а, это казаки шепчутся. Лиц не видно, низко пригнулись к столу.
— Видел, на берегу, рядом с Троицей, стоит ольха? — совсем негромко шептал один из казаков. — Знающие люди говорят, что нынче Нева подступит к самой ее вершине. Как ударят дожди, как повернет ветер с моря, так вода и подступит. Говорят, допреж такого не бывало.
А голос уже знакомый:
— Молчи, дурак!..
Все, встаю!
Твердо, окончательно решил встать Иван, но в глубине души, в самой глухой, в самой потаенной ее глубине, в темной бездне, куда даже сам старался не заглядывать, уже понимал — не встанет он, не поднимется со скамьи, никуда не пойдет. С восторгом и страхом чувствовал: подступает час тайный, ужасный. Боялся таких часов, но ждал их. Вдруг мгновенно отступает все святое, чистое, смутную душу скручивает водоворот, летишь, проваливаешься неведомо куда, моргаешь глазами.
Ох, понял с тоской, наверное, шум устрою. Ох, понял с тоской, впаду, наверное, в ничтожество. И сказал себе, смиряясь почти: вот немножко посижу, теперь совсем немножко. Мне ведь хватит глоточка.
Но что-то в нем уже повернулось, уютное тепло разлилось по телу.
Все чаще он поднимал голову, все чаще и внимательнее поглядывал на казачьего десятника, сидевшего напротив него.
Ишь, пагаяро!
Глотал горькое винцо, думал — много нынче водится занятного по санкт-петербурхским кабакам. Тот же казачий десятник напротив… Сразу видно, прибыл издалека… Платье на нем простое, морда обветренная, бритая, щеки побиты оспой. Ног под столом не видно, но спорить готов — сапоги на десятнике стоптаны. Издалека, видать, притопал в Санкт-Петербурх, и холщовый мешок при нем, брошен под лавку. Почти пустой мешок… Спрашивается, зачем таскает с собой?… И глаза острые. О царевиче, вишь, вспомнил…
Тряское болото — петербурхские кабаки.
В Санкт-Петербурхе все на болотах стоит.
Все в Санкт-Петербурхе как бы в плесени. Даже портрет Усатого на стене как бы немножко заплесневел. Правда, и на таком портрете государь строг, как всегда: глаза выпучены и бегают. Тоже присматривается к людишкам, не говорит ли кто лишнее? Подумал даже смиренно: вот бедное животное — человек. Все в нем всегда открыто, все в нем напоказ, ничего не скроешь.
И опять прислушался.
— Говорят, теперь готовятся в Персию… В Персии Гусейн-шах тиранствует… Сильно изможден вином и гаремом, бунты кипят вокруг него… Поход, говорят, готовят…
— А нам в Персию не надо, молчи!
— А чего молчать? Тут не как в якуцком кружале.
— Вот, вот, — указал десятник. И повторил свое: — Пагаяро!
Уже голоса в кабаке роились, как пчелы в улье. И Усатый еще хмурее присматривался с портрета. А я чего? — совсем запутался Иван. Я молчу. И даже нашел силы укорить себя: пьян ведь!.. А недавно хотел уйти… К доброй вдове… Своими ногами… И пьянство тут не в оправдание. Сам Усатый со стены строго указывает: кто пьян напьется и во пьянстве зло учинит, того не то что простить, того даже особо наказать надобно, потому что пьянство, особо свинское, никому никогда извинять нельзя.
Без бога ни до порога.
И опять услышал:
— Молчи, дурак! — так громко, будто ему сказали.
Но сказали, понятно, не ему; сказали казаку, который, хватив из кружки, забубнил, горячась:
— Да сам я видел бумаги… Сам подавал бумаги в съезжую…
— Вот сам и попадешь в съезжую!
— Ну, кто богу не грешен, кто бабушке не внук?… — не унимался казак. — Я ведь чего хочу?…
— Ну?
— Одномыслия… Одиначества… Чтоб всем хорошо было…
— Ишь, чего задумал! А было такое на твоей памяти?
— Сам молчи! Не пестун ты мне! — возмутился казак. И опять выругался: — Пагаяро!
Иван опустил глаза.
За десятником в простом платье и его приятелем увиделось вдруг далекое, всплыло как из тумана — Сибирь… Казаки, похоже, бывалые… Вон портрет перед ними, а они, хоть и бритые, не боятся Усатого. Видели, небось, многое. Ходили по Сибири, может, встречали неукротимого маиора Саплина… Он не мог там не нашуметь…
Спросить разве?
Остановись, сказал себе, не гневи Бога.
И сам себе возразил: так праздник ведь! Самый распоследний голяк пенником угощается. Самого шведа побили, не малость! Мир! Двадцать один год сплошная война, а тут сразу мир! Как не выпить на радостях?
И еще подумал: много чудесного в мире. Вот ему, например, старик-шептун такое нагадал!.. Может даже еще и сбудется, подумал весело, даже с некоторым внутренним бешенством. Это ведь только в канцелярии тишь. Там на больших столах зерцало, отписки, маппы, книги с кунштами, то есть с картинками. Он, Иван, некоторые такие книги домой приносил, вдове интересно. Он, Иван, совсем не простой дьяк, он имеет дело с секретными документами. Когда входит в канцелярию думный дьяк Матвеев, Иван не вздрагивает, не вскакивает, как другие. И Кузьма Петрович зовет его ласково, кличет не Пробиркой, а по имени. Уважает Ивана за ум, за умение, за порядок и чистоту.
Усмехнулся, подумал весело: а вот заговорю с десятником! Я ведь тоже бывал в Сибири. При мне убивцу брали. Дикий парнишка ссек мне палец, а мог голову. Я гусей над сендухой помню. Они летят черны от копоти, так много по Сибири горит костров. Почему, правда, не поговорить с простым десятником?
Молчи, приказал себе. Таким, как ты, язык режут.
Сам себя испугался: при таком кураже и еще не в Сибири?
Вообще-то Иван боялся нарушить размеренную жизнь — при доброй вдове, при строгой канцелярии. А то было однажды весной, в третий день запоя, что не в кружале, а в храме божием так впал в туман, что спокойно, на глазах у всех, с невозмутимой неспешностью, снял крышку с чаши святой воды и крышку ту поставил себе на голову. Хорошо, миряне просто выбросили шалуна вон, а могло кончиться Тайным приказом.
Но как быть, как быть? — снова пожалел себя. Как быть, если накатывает тоска, если сердце щемит, а дождь санкт-петербурхский бесконечен и беспросветен? В Сибири от такой тоски дикующие уходят в леса, садятся на пенек, неделями не берут в рот пищу, и так незаметно умирают. Там, в Сибири, никто дикующим мешать не станет — сиди на пеньке и умирай. Это в Санкт-Петербурхе надо от всех прятаться: от Усатого, от приказа Тайного, от строгого думного дьяка, даже от доброй соломенной вдовы.
Вдруг остро пожалел вдову.
Личико Елизаветы Петровны оспой немножко повреждено, но глаза синенькие, а душой добра, добродетельна, великодушна. Когда пьяного Ивана привозили на чужой телеге, всплескивала руками, догадывалась — в тоске сирота. Говорила вслух, руки прижав к щекам: «Это тоска в тебе, сирота! Это большая тоска в тебе тлеет, Ванюша! Чувствую, совершишь что-то!»
А что совершит — не говорила.
Может, сама не знала.
Всегда в заботах: полы в дому выскоблены и натерты, печи заново переложены, девки в занятости, дворовые люди при деле, кладовые полны, весело поблескивает чистая слюда в окошках, а кое-где цветные стеклышки. Утром, по доброте, сама отпаивала сироту Ванюшу брусничной водой и квасом. Догадывалась об ужасном: вот совершит что-то!..
Подняв левую руку, Иван согнул и разогнул пальцы.
Указательного, правда, не хватало… Зато, подумал, крест на мне серебряный. На чепи тоже серебряной. Как бы память о диком мальчишке… Незаметно поглядывал на выпившего десятника. Душа горела, хотелось сказать десятнику что-то такое звучное, очень восхитить казака, привлечь внимание, чтобы десятник сам спросил.
Что спросил? А, неважно.
Спроси, подумал, что хочешь, я отвечу!
Я многие книги читал, подумал, водился со знающими людьми. «Книгу, глаголемую…» почти наизусть знаю. В той книге много чудесного. Добрая вдова рот раскрывала, когда Иван говорил вслух об острове Макарийском, лежащем под самым востоком Солнца близ блаженного рая. Там молочные реки, кисельные берега. Там девка выйдет, одним концом коромысла ударит, готовый холст подденет; другим концом коромысла ударит, вытянет из реки нитку жемчуга. Там стоит на острове береза — золотые сучья, и пасется такая корова, у которой на одном рогу баня, а на другом котел. Там олень с финиковым деревом во лбу. И там птица сирин — перья непостижимой красоты, пение обаятельное.
Совсем хорошая книга. Такую прочтешь и проясняется в голове: сколько ни есть земель на земле, все делятся на ведомые и неведомые. Сам не заметил, как произнес вслух:
— С одной стороны земли ведомые, а с другой неведомые… С одной стороны как бы открытие, а с другой отыскание…
И значительно взглянул на казачьего десятника.
— Ну? — удивился десятник, но спутник его, человек малозаметный, выпивший не меньше, чем его приятель, но все время кутающийся зябко в серый потрепанный кафтан, толкнул его локтем в бок — не твое, мол, дело. И так посмотрел на Ивана, будто он у них кису-суму с серебряными ефимками сманивал.
— С Сибири, что ли?…
Десятник удивленно кивнул. Он был длинный, жилистый. Такой не явится из близи, он издалека прибыл.
— А не встречал ли там где маиора Саплина?
Десятник посмотрел на Ивана и зрачки у него расширились:
— Сибирь велика… Где я ходил, там маиоры не водятся… — И откровенно удивился, толкнул своего спутника в бок: — Ты глянь!.. Ну, прямо вылитый Шепелявый!.. — И сразу потерял интерес к Ивану, наверное, понял его. Принял, наверное, за ярыгу.
Это Ивана обидело.
Хлебнув крепкого винца, он пригнул голову, и прислушался сердито.
Кажется, про остров теперь бубнил десятник… Про какую-то пищаль казенную… То ли потеряли они пищаль, то ли украли… А потом спилили с пищали железный ствол и употребили как виноваренную посуду, потому как находились на пустом острове… Может, сами высаживались, а может, высаживали кого… До Ивана не сразу дошла разница — высаживались и высаживали. А ведь сам только что проводил различия — открытие и отыскание… Главное, впрочем, уловил: где-то далеко в Акияне есть пустой остров, а на тот остров все равно ходят или ходили казаки. Может, высаживались, может, высаживали кого.
Теперь уже Иван удивился: если, скажем, высаживали, то как? Силой, что ли? И заметил, как бы про себя, но с таким расчетом, что бы его услышали:
— Ишь, высаживали… Душа-то, небось, живая, крещенная…
Жилистый десятник поднял голову.
В его темных глазах, затуманенных винцом, вспыхнул непонятный огонек, хмыкнув, он снова толкнул в бок приятеля: «Ну, в точь Шепелявый!» И, будто сдерживая себя, будто понимая что-то важное, будто специально забывая об Иване, но тем самым, конечно, выказывая свое небрежение к нему, опустил голову, забубнил про свое. Вот вроде привезли в Санкт-Петербурх челобитную… Издалека привезли… Или хотели привезти… Попробуй, разберись, если с площади беспрерывно виват несется.
Да еще рядом ярыга вспыхнул.
Сидел на скамье побоку от десятника безвредно, пенник глотал, молчал, а потом сразу вспыхнул. Наверное, винцо внезапно зажглось внутри. Сидел ярыга, впрочем, в нательной рубашке, потому как верхнее платье уже пропил. Нос рулем, правый глаз совсем не видит того, что примечает левый. Должно быть толковый смышленый человек, коли нос такой, не следовало бы с таким носом шум учинять, сидел бы спокойно, а вот нет, вспыхнул. Сразу, как сухая солома. Глупую голову задрал, весь напыжился, поглядывая на ближайших людишек то правым глазом, то левым. Ну, как не случиться драке, если на тебя посматривают то одним, то другим глазом?…
А десятник рядом бубнил и бубнил… Какая-то челобитная… Какой-то Игнатий в смыках… Бубнил: какой-то там Яков на острову… Бубнил: того Якова, наверное, мохнатые убьют, а, может, он сам бросится в море… …Пагаяро!
— Маиора Саплина, спрашиваю, не встречал ли где в Сибири? — повторил, уже начиная сердиться, Иван.
Вместо ответа ударила вдалеке пушка.
Собственно, Иван и не ждал ответа. Знал, что на такой трудный вопрос трудно легко ответить. Да и сам чувствовал, что не истинный интерес подтолкнул его к вопросу, а нечто такое, что тайно, пьяным хитрым соображением он даже сам себе не мог объяснить.
И действительно.
Зря, что ль, вместо десятника ответила ему пушка?
Знак, наверное. Знак тайный. Он, Иван, совсем дураком будет, если не поймет тайный знак. Ведь у него уже было когда-то. Сидел в корчме со случайным дьячком — весь в умных рассуждениях. Умильно говорили об основах природы, о том, что чистый месяц — он от духа и от престола господня, а земля — от пены морской. Ангелы, стало быть, ту пену с морей собрали, а господь сделал землю. А потом заговорили о том, как гром делается. В этом Иван уступить дьячку не мог, и в тот раз, как вот сейчас, тоже близко пушка в крепости грянула. Говорили умильно о громе, о природе его, и вдруг пушка — бах! на тебе! Ивану тогда тоже показалось — вот знак. И раз уж показалось, раздумывать не стал — жестоко прибил неумного дьячка за его неправильные рассуждения о громе. Калугер, почтенный монах в камилавке, в спор вмешался. Иван и почтенного монаха выбил за дверь корчмы. Потом от стражи бежал, земли не касаясь, как аггел грешный.
Но ведь правильно понял — знак! И тут тоже пушка грянула. И человек какой-то на острову. Его скоро мохнатые убьют, а, может, он сам с тоски в море бросится. Как не спросить?
Спросил.
А дальше — понятно.
Оно ведь как в таких случаях?
Слово за словом. В кабаке шум. Ярыга, который с носом, как руль, винца потребовал. Ему в винце отказали, он затих, но Иван случайно увидел: ножичком острым, маленьким, этот пропившийся уже полураздетый ярыга незаметно срезал сзади медные пуговки с простого кафтана, в каком сидел рядом с ним казачий десятник. А вот ведь и продаст, все равно не хватит на выпивку, — пожалел ярыгу Иван. А десятник как раз провел рукой по кафтану. Ткань вроде топырится, а медных пуговок начищенных, веселых, нет. Зато рядом ярыга с большим носом, сильно разделившим его глаза, довольно сжимает пальцы в кулак.
Вот и началось! — весело подумал Иван.
И угадал.
Десятник, каким-то своим особенным звериным, наверное, сибирским чутьем правду почувствовал и, почти не оборачиваясь, внезапно поймал за ухо человека с носом-рулем и уже своим, выхваченным из-за пояса ножичком, коротко отхватил ему ухо. Почти по корень. «Вишь, носатый, — сказал обиженно, показывая отрезанное ухо своему приятелю. — Что удумал! Пуговицы красть!»
— Да ты што!.. Да ты што!.. — опоздав, растерялся вор. Одной рукой он зажимал обильно сочившуюся кровью рану, другой протягивал казаку пуговки. — Да вот они твои пуговки, пошутил я… Пришей пуговицы обратно…
— Ну, тогда и ты пришей! — не оборачиваясь, десятник бросил обидчику отрезанное ухо.
С того и началось.
Первым, как следовало ожидать, пострадал одноухий. Его сразу чем-то ударили, — болезного всегда поучить полезно. Самого Ивана завалили под стол, там и лежал, пока наверху над ним ломали столы и лавки. А хуже всего получилось с десятником: когда стража набежала, он портретом Усатого, строгим государевым портретом, дерзко сорванным со стены, отмахивался от ярыжек, решивших его убить. Понятно, слово государево крикнули. Десятника увели, и спутника его увели, и носатого-одноухого увели, из ранее пьянствовавших кто сам по себе разбежался, а кого вышибли за дверь. А Ивана хозяин пожалел — узнал его. Когда все ушли, попинал сапогом: «Вылазь из-под стола… И с глаз долой!.». И самолично выбил Ивана из кабака, запустив вслед казачьим мешком. Убирайся, мол, и борошнишко свое забирай! Решил, наверное, что мешок принадлежал Ивану.
А у Ивана сил не нашлось.
Как упал, так и лежал на улице.
Тогда хозяин вернулся, сочувственно выгреб из кармана последние денежки, и опять же от доброго сердца телегу нанял: отвезите, мол, болезного в Мокрушину слободу, к домику соломенной вдовы Саплиной.
Ивана и привезли. Вместе с чужим мешком. И сейчас, после слов доброй вдовы, Ивана ледяным холодком обдало. Что в том мешке? И где теперь тот казачий десятник?
Глава III. «А веры там никакой…»
— Да ты, голубчик, совсем бледный, — изумилась вдова. — Сядь на лавку, сделай милость, не дай Господь, упадешь. — И пожаловалась: — Вот день какой! Сперва кликушу, странницу божью, существо убогое бьет падучая, теперь ты сильно бледнеешь. — И обернулась к окнам террасы, прислушалась к некоему новому сильному шуму, родившемуся во дворе, даже удивленно прижала ладонь к тому месту на грудях, где билось доброе вдовье сердце: — Кто же так рано изволят быть? — Даже красивым ротиком шевельнула, на коем когда-то сам государь поцелуй сердешный запечатлел.
Иван не успел ответить. По ржанию сытых лошадей, по особенному стуку коляски, вдова сама догадалась:
— Так это ж Кузьма Петрович! Дьяк думный!
Не сказала — брат родной, или как-то еще, а именно так — дьяк думный, и уважительно по батюшке, подчеркнув тем особенное уважение к старшему брату, сама побледнела даже:
— Вдруг привез весточку от маиора? А, Ванюша? Зачем молчишь? Ты ведь знавал Сибирь. Может оттуль донестись какая-то весточка?
— Может, матушка, — кивнул Иван.
А вдова от неожиданной мысли вдруг всплеснула руками:
— Ванюша, голубчик! Ну, зачем ездят в Сибирь? Это ж так далеко! Там, наверное, и народов не существует таких, чтобы к ним надобность была ехать. Всякие нехристи, агаряне, язычники. Я слышала, что они все поныне глупы — золота не приемлют, деревянным харям молятся, лепят идолов из глины. Ну, зачем туда ехать?
— А земли государевы расширять? Разве ж, матушка, не обязаны мы преуспеть в расширении земель государевых? — довольно мрачно ответил Иван, хотя сердце его, наконец, дрогнуло — ведь не может так быть, ведь совсем не может так быть, чтобы родная сестра ничем не встретила брата, пусть даже утром! Да поставит она наливку!.. Дожить бы… И несколько веселея от такой мысли, от души пожалел далекого, потерянного в Сибири неукротимого маиора Саплина: его, небось, давно съели дикующие… Не могли не съесть… Пусть маиор и мал ростом, только голодному и от малого откусить всегда найдется…
Вслух однако сказал:
— Нынче государь многого хочет, Елизавета Петровна. У него на все обширный взгляд. Кузьма Петрович говорил, что даже особенное посольство на двух фрегатах посылают на остров Мадагаскар к пиратам. Хотят принять пиратов в русское подданство, пускай наладят торговлю с Индией. — Сам не понимал, что несет: — Может, уплыли уже фрегаты.
— Страсти какие! — испуганно перекрестилась вдова, с жалостью разглядывая Ивана. Она понимала причину его бледности, но не шла навстречу, хотела по доброте преподать Ивану урок. — Ох, да с чем думный дьяк пожаловали? С какой новостью? — Крикнула громко: — Нюшка! Неси померанцевую!.. И анисовую неси!..
Объяснила, понизив стыдливо голос, будто секрет:
— Кузьма Петрович любит анисовую.
Хотела добавить — как государь, но забоялась.
— И индюшку неси!.. Индюшку взгрей!.. — крикнула. — И неси паштеты, грибки, яблоки моченые!.. Нюшка!.. — Укорила Ивана: — Это ты путаешь девку. Она смеется невпопад и в голове одни глупости… — И заговорила, заговорила, руки прижимая к грудям, ясно, без всяких обиняков показывая, что в их разговоре главное: — Вот земли, говоришь, расширять. Да разве мало у нас земель? И в ту сторону лежат, и в эту, и в другую! К соседям под Москву съездить, и то, подумай, сколько дён надо! Мыслимо ли иметь такую страну?
— Нельзя не расширять, — уже увереннее возразил Иван. У него даже плечи слегка расправились. — Страна живет, пока расширяется. Посмотрите, сколько указов издано государем в последние годы, и все о Сибири! О прииске новых землиц, о серебряных рудах, о не продаже крепкого винца в ведрах… — Спохватился. — Да и души живые!.. Вы же сами подумайте, матушка Елизавета Петровна, кому-то надо эти души спасать! Ведь пока не было в Сибири веры христианской, никто на всей той огромной земле от сотворения мира не слыхивал гласа псаломского.
Теперь, когда девка Нюшка, глупо хихикая в ладошку, выставила на стол и анисовку и померанцевую, Ивана внезапно пробило потом. От слабости, от собственного ничтожества, конечно. Незаметно перекрестился и сказал сам себе — все! Сейчас сниму ужасную тяжесть с сердца, и все! Ни глотка больше! Никогда! Не надо мне больше ничего такого. Никаких этих наливок не надо, никакого винца. Только один глоток. Сейчас. Для общего здоровья… Но, конечно, большой глоток, на всякий случай поправил он себя. Единый не сокрушит.
У него даже во рту пересохло. Больше никогда в жизни ни в один кабак ни ногой! Вообще ни в один! — твердо решил. Ни по каким праздникам! Сейчас сделаю один глоток и — все! Отныне буду жить тихо, мирно, ни в чем не обманывая добрую вдову. Это ж как хорошо тихо жить! — обрадовался он. Зима, к примеру. Снег упадет. Холод такой, что птички мерзнут на лету, разбиваются о дорогу, как стеклянные, а в деревянном дому соломенной вдовы Елизаветы Петровны тепло, печи истоплены. При огне можно неспешно беседовать с доброй вдовой. О неукротимом маиоре Саплине, потерявшемся в ужасной Сибири, о разных чудных вещах, о знамениях божьих, о звездах с хвостами. А можно вслух читать книгу «Хронограф». Вдова любит, когда ей читают вслух. Добрая вдова живо представляет себе далекое. Ей читаешь, а она все как будто перед собой видит. Будто прямо перед нею открываются пространства… Вот пробивается сквозь снега маиор верхом на олене, как на рогатом коне, и стрелы дикующих густо летят… О чем бы ни читал Иван, добрая вдова все приводила к неукротимому маиору.
Один глоток, и все! Начну новую жизнь — тихую, пристойную. В канцелярии думного дьяка много столов, шкапов, шкапчиков, полок; из всех тайных мест выброшу припрятанные шкалики, чтобы не было соблазнов. Или отдам те шкалики подьячим. В каждом шкапу теперь, как положено, буду хранить только маппы и книги.
Даже жаром обдало Ивана от таких добрых мыслей.
Ясно представил. За окнами дождь, сырость, гниль, а может, мороз, стужа, зато в канцелярии сухо, тепло. На столах и на лавках развернуты чертежи далеких земель и морей, даже тех земель и морей, что пока известны только по слухам. Толмачи шевелят губами, писари скрипят перьями — одни перекладывают на русский немецкие да голландские книги, другие переносят на чистые листы разные куншты, чертежи, маппы. А он, Иван Крестинин, особенный дьяк, занимается совсем особенным чертежом — секретным огромным подробнейшим, на котором указаны все пути, ведущие в Сибирь, и дальше Сибири.
Повел плечом, возбуждаясь. Он, как Иван Кириллович Кирилов, дождется своего часа. Иван Кириллович начинал когда-то в Ельце простым подьячим, а теперь сенатский секретарь. Усатый умеет подбирать к делу людей. Лучшие в России маппы на сегодня вычерчены Иваном Кирилловичем. Когда Усатому однажды понадобилась большая и точная маппа сибирских земель, из-за того, что китайцы и русские начали ссориться из-за перебещиков-мунгалов, именно Иван Кириллович рано утром положил перед государем нужную подробную маппу, выполнив ее всего за одну ночь.
Снова подумал о теплой печке, о пуржливой долгой зиме… Известно, под изразцовыми обогревателями тепло, к изразцам можно прижиматься всею спиною… А вот уж если совсем озябнешь… Нет, нет! — оборвал себя Иван и быстро перекрестился. Это бесы подсказывают, что следует делать, если у печки совсем озябнешь… А пока крестился, добрая вдова набросилась на глупую девку Нюшку, заворожено застывшую в дверях — та глупая девка глаз не могла отвести от Ивана.
— Ну, выпялилась, бесстыжая! — рассердилась вдова. — Иди встреть Кузьму Петровича… Видишь, я в простом.
— Да брат же, поди, — дерзко ответила Нюшка. — Простят.
— У, бесстыжая!
Нюшка бесстрашно фыркала:
— А чего они все щипаются? Ровно гуси.
И все показывала, показывала взглядом на Ивана.
— Ох, рада, батюшка!.. — всплеснула руками соломенная вдова. — Ох, рада вас видеть!..
— Не лукавь, — думный дьяк Матвеев, грузный, как перегруженный морской бот, приземистый, плечистый, в новом кафтане, в парике с косичками, который он сразу по-домашнему стянул с головы, неторопливо перекрестился на образа и покачал седой головой, заодно с укором глянув и на Ивана. — Ох, матушка, играешь с огнем!
— Да о чем ты? — испугалась вдова. — Или случилось что?
— Не лукавь, не лукавь, — строго покачал головой думный дьяк. — Опять принимаешь в доме кликуш да странниц? Опять стаями клюшницы у тебя пасутся? Забыла, что сказал государь? Кликуше, коль поймана в первый раз, плетей всыпать, а попадет на кликушестве второй раз — ободрать кнутом. А коли уж и этим не уймется, рвать язык, чтобы кликать впредь неповадно было!
— Да что ты, батюшка! Разве кликуши Богу не угодны?
— Они Отцу Отечества не угодны!
— Ох, Петрович, — вздохнула добрая соломенная вдова, как бы случайно, как бы одним своим хорошеньким синеньким глазом осторожно косясь в не задернутое окно закрытой террасы. Там два человека, сопровождавшие коляску думного дьяка, уверенно, как пастухи старых гусынь, грубо гнали со двора святых странниц. Странницы подбирали на ходу длинные полы ношеного не первый год платья, и негромко печально вскрикивали. — Ох, Петрович, ох, батюшка, знаю, умен ты, но мне-то, вдове, откуда знать разное? Ты вот придешь, расскажешь — я только и запомню. Или Ванюша что прочтет — тоже запомню. Но ведь одна я, совсем одна на свете живу, батюшка, от кого узнавать новости, как не от странных людей? Как могу оттолкнуть убогих? Ходючи по свету, много слышат. Опять же, видения у них.
— Видения? — еще строже свел темные брови дьяк. — У меня, матушка, тоже некоторые видения. Как веки сомкну, так качается перед глазами любезный князь Гагарин Матвей Петрович. Небось, проезжала, матушка, мимо Юстиц-коллегии, видела большой столб, видела, как истлелое тело обкручено цепями, чтобы раньше времени не развалиться? А ведь Матвей Петрович, матушка, так тебе скажу, был нам не чета. — Этим ужасным нам Кузьма Петрович незаметно, но все-таки подчеркнул свое доброе расположение к сестре и к племяннику: — Князь, губернатор сибирский, его сам государь любил, вот кем был Матвей Петрович Гагарин! А теперь мертв и числится вором… А ты, матушка? Коль уж сказано: не воруй! — держись правил. А то начнут все своевольничать… Сама подумай! Ведь случись что, никто тебе не поможет. И отсутствующий маиор тебе не поможет. Пройдется кнут по мяхкому телу — за непослушание, за то, что, нарушая государев указ, привечаешь кликуш. Что, ободранная, скажешь возвратившемуся маиору?
— Ой, страшное говоришь!
— А ты бойся, бойся, матушка. Помни и бойся. Чаще ходи к молитве. Во время молитвы возжигай больше лампадок перед иконами. Они озарят иконы и как бы восполнят недостаток внутреннего рвения. — Думный дьяк покачал головой: — Тебя, матушка, конечно, не повесят на столбе перед Юстиц-коллегией, но нежную спину тебе пожгут, ох, пожгут веничком подпаленным. — И быстро повторил вопрос: — Что потом возвратившемуся маиору скажешь?
Вдова так и замерла.
Представила, наверное, неукротимого маиора Саплина, вдруг вернувшегося домой, и спину свою, круто исполосованную кнутами. А думный дьяк между тем, не глядя на сестру, налил анисовки. Выпятил толстые губы: ишь, рюмки серебряные, черненные — сами просятся к губам. Хмыкнул, неодобрительно покосился на Ивана, тоже неловко наполнившего рюмку, и сразу выпил. Зажмурившись, аккуратно подцепил из глиняной чашки скользкий гриб. Все делал как бы еще с некоторым укором, как бы еще упрекая за некоторые нарушения, но уже отходя сердцем.
Сам перевел разговор.
Неторопливо перевел разговор, поглядывая пристально на Ивана:
— Ты, Иван, теперь будь готов. Хочу тебя строго предупредить: ничего лишнего. Блюди себя каждый час. Скоро много будет работы.
И объяснил:
— Государь сейчас особенно смотрит на восток. Войну со шведом, слава Богу, славно закончил, только дел у него меньше не стало. Часто говорит государь о востоке, и думает о нем. Думаю, что скоро понадобятся новые ландкарты и новые чертежи и маппы. Не подведи меня, Иван, держи под рукой инструмент, в любой момент может понадобиться. И главное, блюди себя. Не дай тебе Бог, Иван, забыть про мои слова.
Иван согласно кивнул.
Горячее живительное тепло, будто прижался животом к изразцам жарко протопленной печи, враз охватило его изнутри. Он даже перестал слышать думного дьяка. Дожил, дожил! — счастливо стучало в сердце… Дал господь, дожил!.. А завтра… Ну, что же завтра?… А завтра опять что-то случится…
И вдруг опять вспомнил: мешок!
Но сейчас это воспоминание испугало его меньше. Подумаешь, мешок! Вот велика пропажа! Казачий десятник сам виноват в проступке. Зачем отмахнул ножом ухо ярыге? Зачем схватился махать на людишек портретом Усатого?
Подумал тепло: еще одну рюмку выпью.
И еще подумал, с некоторым одобрением даже: ведь не с кем-то сидит, не в кабаке сидит, и выпьет рюмку сейчас не с кем-то, не с ярыгами подозрительными, а с самим Кузьмой Петровичем, с думным дьяком, с дядей родным. Кузьма Петрович плохому не научит. Да и остановиться ему, Ивану, в питии не великий труд. Ему, Ивану, все по плечу. Он только одну еще поднимет и остановится.
Почти не слыша, он кивал, простодушно глядя на думного дьяка светлыми, от крепости настойки повлажневшими глазами. И опять кивал. Чего, дескать… Конечно, понимаю… Понадобятся редкие маппы, выполним… Понадобятся ландкарты, вычертим… Я, Иван Крестинин, дьяк опытный, секретный, знаю свое дело.
Но что-то вдруг дошло до Ивана.
Что-то в голосе думного дьяка прозвучало не совсем так, как обычно. Что-то прорезалось тревожное. Добрая вдова это тоже отметила. Правда, думный дьяк, тянуть не стал, сам объяснил внутреннюю заботу:
— Людей не хватает, матушка. Государь нынче везде ищет умелых людей. Народу вроде бы много, а умелых людей не хватает. Один дурак, другой лентяй, третьего вообще надо держать под замком, чтоб глупостей не наделал. Самых лучших, матушка, извела война. Вот и срываем с мест то одного, то другого нужного человека. Каждому бы сидеть при своем главном деле, развивать его, а мы хватаем нужного на своем месте человека и шлем туда и сюда, потому что никак по-другому не получается. А особенно… — думный дьяк выпуклыми блестящими глазами уставился на Ивана, будто осуждая его, — особенно не хватает людей ученых… Вот наш маиор хорошо знал воинское дело, не просто напевал военные песни… — думный дьяк опять многозначительно покосился на Ивана. — Вот наш маиор обучал волонтеров воинскому делу, приносил этим большую пользу отечеству, а все равно пришлось отправить его в Сибирь, потому как на тот момент не нашлось под рукой у государя более надежного человека… А сейчас… — задумчиво повторил думный дьяк. — Сейчас, когда закончилась война, умных и умелых людей особенно не хватает… — Выпятив толстые губы, вяло пожевал гриб, и добавил несколько растерянно: — А государь говорит, что пора находить славу государству не только через кровавые баталии, но и через разные искусства и науки.
И опять несколько растерянно пожевал гриб, как бы прикидывая произнесенные государем слова на цвет и на вес.
Добрая вдова испуганно переспросила:
— Так и сказал? Да к чему б это?
Думный дьяк нахмурился:
— А к тому, матушка, что ты слова мои запоминай, да сама не будь дурой. Ни с кем не делись сказанными мною словами. Ни с сенными девками не делись, ни с дворней, ни, тем более, с клюшницами беззубыми. А сама готовь письмо. В том тебе поможет Иван. — И кивнул, как бы разрешая на этот раз окончательно: — Готовь большое письмо. Все расскажи о своей жизни, что хотела бы рассказать своему маиору. Бог даст, будет неукротимый маиор держать твое письмо в руках.
— Да как?! — одними губами выдохнула вдова.
— Бог милостив… — выдохнул Матвеев. — Ждем тайного указа — в Сибирь посылать людей. Готовится тайная экспедиция, матушка. За золотом, за серебром, за мяхкою рухлядью, за рыбьим зубом. Помнишь, как ходил на Камчатку Волотька Атласов? Только сейчас дело затевается куда серьезнее, сейчас государь сам шлет людей. Не по приказу воеводы якуцкого, и не по приказу прикащика анадырского, и не по своеволию пойдут люди в Сибирь, а по приказу самого государя и с его помощью. И пойдут дальше, чем ходил даже Волотька Атласов. Смотришь, непременно кто-то встретит маиора в снегах…
— В Сибирь? Снова в Сибирь? — тревожно перекрестилась вдова. — А я так слышала, что затевается поход в Персию.
— Не дай тебе Бог, матушка, сказать о таком кому другому! — окончательно рассердился думный дьяк. — Ох, не доведут тебя до добра глупые странницы да нелепые кликуши. Крикнут на тебя слово государево, матушка, попадешь в Тайный приказ!
— Молчу, молчу! — испуганно вскрикнула вдова, мелко перекрестив рот. — Молчу, Петрович. Ты меня прости. Ты говори, как говорил, я теперь никаким твоим словам мешать не стану.
— Ждем гонца из Сибири, — помедлив, объяснил Матвеев. — Как получим новости, так впрямую займемся походом. Тебе, матушка, большего знать не надо, я и без того лишнего наговорил. Хватит Сибири быть страной чужой и далекой. Пойдут в Сибирь сильные люди, а неукротимый маиор наоборот, вернется. Не верю, чтобы такой неукротимый человек где-то пропал, поддался дикующим.
— Найдете маиора? — с глубокой верой выдохнула вдова.
— Найдем, матушка. Крещеная кровь не пропадает. — И глянул внимательно на вдову: — Вижу, халат на тебе… Тот самый? Апонский?… Тот, что оставлен был Волотькой Атласовым?…
— Тот самый… — впала в краску соломенная вдова. — Волотька… Только теперь надеваю редко… Берегу для своего маиора… Вот только как защемит сердце, так надену. В нем как бы по особенному чувствую Сибирь. — Быстро перекрестила грешный рот, объяснила: — Вот надену, сразу вспомню Волотьку. Каким он был, когда приезжал… Он же останавливался у маменьки, я его хорошо помню… — Соломенная вдова мечтательно возвела глаза горе: — Я помню, Волотька был как медведь, покойная матушка сильно над ним смеялась. Но ловок… Всех служанок перещипал, глаза как синька… Ты помню, маменьку предупреждал, что, значит, зверовиден тот казачий пятидесятник, в обществе никогда не бывал, может не угодить, непристойные слова употребляет в беседе, дак Волотька ведь и не знал других слов, для него все были приличными, — вдруг разгорячилась вдова. — Только маменька сразу поняла Волотьку. Чего не рычать медведю, коль он приспособлен к рычанию? А особенно подарки Волотькины всем пришлись по душе… Бобры, лисицы красные… Только, помню, батюшка, что некоторые соболи были без хвосты и Волотька так маменьке объяснял: камчадалы, среди коих побывал, по дикости своей собольи хвосты подмешивают в глину, чтобы, значит, им, дурным, горшки покрепче лепить, чтобы глину с шерстью вязало… Мы сильно дивились. А халат этот… Волотька говорил, что из Апонии халат… Называл хирамоно… — Вдова покраснела, выговаривая трудное слово. — Говорил Волотька, что халат выменял у истинного апонца. То ли на серьгу выменял, то ли на деревянную ложку. Сейчас не помню. — И спросила с любопытством: — Ишь, Апония… Далеко, наверное, такая страна?
— Да кто ж ее знает, матушка? Говорят, где-то на восходе, туда никто пока не ходил, — ответил думный дьяк. — Но скоро пойдут, даст Бог, пойдут. Многие ведь живут, не думая ни о чем таком, а государю всегда интересно. Он как раз смотрит сейчас в сторону Апонии.
Добавил загадочно:
— Все узнаем…
И добавил:
— Помнишь, матушка, находился при Волотьке один агарянин — маленький, тощий человечек? С тем агарянином сам государь беседовал. Понимал, что вот пусть и маленький, а знает, наверное, путь в Апонию. А сейчас… — Вздохнул тяжело: — Сейчас все по новой надо начинать, матушка… Все по новой… Правда, сейчас всем будет легче…
Помолчал и объяснил мысль:
— Нет войны… Сейчас мир вечный.
Отставив витую серебряную рюмку, Матвеев исподлобья разглядывал охмелевшего, обмякшего Ивана. Слаб человек… А думал не об Иване, думал о Волотьке Атласове.
Странен народец русский.
Один слов, кроме как непристойных, никаких не знает, а другой от детства молчун. А третий, тот наоборот, пьет да веселится, трещит без умолку, нисколько не стыдясь содеянного. Маменька покойная насколько была строга, при ней молодые полковники криком шуметь стеснялись, а вот зверовидный анадырский прикащик Волотька Атласов сразу покорил покойницу. В силе был, белокур. Ходил на край земли, общался с дикующими, ел пищу скаредную. Где ему было набраться пристойных слов? Маменька — молодец, уши не затыкала, оказалась умнее всех. На Волотькины грешные слова, от которых другие падали в обморок, отвечала, смеясь: где ж мне, женщине бедной, понять такое? Зато и Волотька не сводил с нее глаз. По истинной дружбе не мало от своих богатств оставил Матвеевым.
Думный дьяк пригубил рюмку.
Он близко стоял к царю, способствовал Волотьке. Например, он сразу осознал, что анадырский прикащик говорит о значительном. Когда снимали скаски с прикащика в Сибирском приказе, сразу осознал, что грубый, но широкий прикащик говорит о совсем особенном крае. Там, на Камчатке, куда Волотька водил казаков, и климат совсем другой — снежный, но теплый. Там рыбы другие, сытные, их из рек берут прямо руками. И горы как огненные стога, из них искры сыплются, дым идет. Совсем новый край, богатый, а потому нуждающийся в крепкой хозяйской руке. А то все воровать горазды. Пошлешь честного человека в богатое место, а он там как заболеет: все под себя гребет, и жалуется беспрестанно, что вот де это не он виноват, это дикующие обоз разбили, это бурей затопило нагруженный коч, это заблудились в глухомани глупые служилые. А сам жирует, как пес, потеряв честность.
Вспомнил, как вызвали Атласова в Москву.
За свои тяжкие службы, за покорение новой страны Камчатки Волотька бил царю челом — просил пожаловать быть в Якуцке у казаков козачьим головою. И был пожалован. Никому тогда в голову не приходило, что окажется будущий голова дерзок более, чем казался.
На новый одна тысяча семьсот второй год все видные ворота в Москве были густо оплетены праздничными царскими вензелями из можжевельника и еловых лап. Пальба, шум, фейерверки. Заодно отметили победу под Ересфером, где Борис Петрович Шереметев крепко побил шведов, забрал в плен артиллерию и обозы. Правда, звонницы молчали, подавал голос только Иван Великий. По совету мудрого думного дьяка Виниуса все колокола с церквей были сняты и свезены к литейщикам, чтобы быть перелитыми на пушки. Волотька Атласов, бывший анадырский прикащик, пятидесятник с Камчатки, всему дивился — отвык. Увидел солдат — стройно шли в треуголках, в кафтанах по колено, к ружьям привинчены багинеты, аж побледнел от волнения: ему бы на Камчатку таких. Там все дикующие попадали бы с деревьев.
Рядом с Атласовым, еще сильнее дивясь на никогда прежде невиданное, прихрамывал маленький иноземец по кличке Денбей. Волотька подобрал того иноземца на реке Иче на новой земле Камчатке, и был тот иноземец не с Камчатки, а откуда-то еще дальше: сам, например, объявил, что он из далекого Узакинского княжества. Может, так и было. Плыл куда-то, а бусу, судно его, выбросило бурей на Камчатку.
— Мне бы таких… — вслух завидовал пятидесятник, глядя на новых русских солдат.
— Не говори так, — строго предупредил Матвеев. — То люди государевы.
— А мы разве нет?…
За смелость и дерзость вызвали Атласова в Преображенское.
Думный дьяк хорошо запомнил тот день. Снег кружило, морозец. Тесный двор в Преображенском забит возками, санями. У ворот почему-то стояла карета. Смеялись драгуны у коновязи, ласково похлопывали лошадей. Все по-простому, все как бы не по-царски. Атласова и иноземца думный дьяк провел в дворец особым путем — через заднее крыльцо прямо в государевы апартаменты. Дубовый паркет, степенные люди ходят, а в пустой комнате у окна — военный великан в форме бомбардира.
Атласов, увидев государя, смутился, но государь оказался прост — приказал водки выпить с дороги. Закусывали пастилой — кислой, терпкой. Пришел краснощекий толстяк в седом парике — Иоганн Тессинг, печатник. Он по особому разрешению царя продавал в России беспошлинно напечатанные в Амстердаме книги и карты; услышав о походах Атласова, очень просил о встрече.
— Это кто ж? — удивился государь, увидев маленького японца. — Несоразмерен по виду, наверное, в бедной стране растет?
— Индеец из Узакинского государства, — смело объяснил Атласов и непонятно добавил, чтобы, наверное, лишнего не сказать: — Пагаяро!
Выпуклые глаза царя остановились на Атласове:
— Что за слово?
Пятидесятник смело тряхнул светлыми кудрями, но думный дьяк вовремя вмешался:
— Это по-апонски. Так говорят в Узакинском государстве. Для народа слова. Совсем простое.
Царь понял, засмеялся.
На мгновение круглую, как яблоко (и с румянцем) щеку передернуло судорогой, дернулась родинка на той же правой щеке. Матвеев, предупреждая нетерпение государя, заговорил:
— Сего узакинского индейца сей пятидесятник, — указал на Атласова, — силой отбил у дикующих на Камчатке. Был апонец слаб, сильно заскорбел ногами от недоедания и холодов. Дикующие держали его у себя как полоненника. Индеец, увидев казаков, пал в ноги пятидесятнику, заплакал горюче. Вот де он есть Денбей, сын Диаса, важный барин из Нагасаки. А Нагасаки, сказал, город апонский, иначе нифонский. А в Апонии царь есть, сказал, звать Кубо-Сама, живет в Ендо, и еще у них есть царь, зовут Дайре-Сама, тот живет в Миаке. Умный оказался апонец, даже книжка при нем была — хитрые знаки на каждой странице, будто птицы лапками наследили…
— Денбей, индеец указанный, плыл на бусе из города Осаки в город Иеддо того же нифонского царства, — объяснил Матвеев государю. — Была нагружена его буса рисом, сарацинским пшеном, водкой рисовой, а еще сахаром и сандаловым деревом. Буря носила бусу по морю несколько недель, вышла из запасов пресная вода, рис варили на водке, камку дорогую пустили на парус, известно, за свой живот ничего не жалко. В тумане пригнало бусу к острову, там в тумане апонцев полонили дикующие. Самого Денбея ранили в руку стрелой, других убили, полотно и железо отобрали. Рис, сарацинское пшено, дикующие попробовали на зуб, не понравилось, выбросили в воду, совсем глупые. Туда же водку вылили, чтобы бочки под рыбу взять. Вот остался Денбей один, всех убили, а буса его, наверное, и сейчас лежит на отмели.
— Ну, врешь! Апонец? — царь взглядом измерил иноземца, как мелкого зверька. Щека от интереса страшно дрогнула, опять прыгнула взад-вперед темная родинка, ощетинились усы. Смотрел на апонца, как кот на хорька, потом спросил сладко: — Сосед, значит?
Приценился к ростику апонца, раздумчиво спросил, уже у Атласова:
— Грозен сосед?
Атласов усмехнулся:
— Мал да сморщен, там все такие. Видя кровь, стенают отчаянно, пагаяро. И заплаканные глаза широким рукавом закрывают. И падают на землю без чувств. Мне бы суденышко, государь, да пару пушек, да зелья порохового, я б ту Апонию за полгода насквозь прошел.
— Ну? Насквозь? — удивился царь, но поверил. — Богат сосед? — переспросил.
— Живут на разных островах, — задумался. Прикинул про себя Атласов. — Возят на продажу сахар да рис, платья шелковые, лаковую посуду. Везут золото.
— Врешь!
— Да ей Богу! — Атласов размашисто перекрестился. — Апонское золото, оно в пластинках. А на пластинках всякие значки. Как в книгах. Денбей говорит, у него на бусе было два ящика золотых пластинок.
— Где ж они?
— Дикующие отобрали.
— Дикующим они зачем?
— Малым детям отдают. Для игрушек.
— А путь? Как лежит путь в Апонию? Далеко?
Атласов усмехнулся:
— От Москвы, может, далеко.
Царь перебил гневно:
— Думай, дурак! И Сибирь — мои земли!
— Воистину так.
— Пушки дам, людей дам, отобьешь острова, возьмешь золото?
— Возьму, — быстро ответил Атласов. — С мыса Лопатка видел в море острова. Они гористы, в дымке лежат. Наверное, Апония за островами.
— Что за Лопатка?
— А нос камчатский. С него в ясную погоду далеко видно. Но те острова еще не Апония. Апония дальше. Может, три перехода.
— И золото есть? — повторил государь Петр Алексеевич, раздувая усы, въедливо рассматривая апонца.
— Говорят, много.
— Государь!.. — вдруг плачуще упал в ноги апонец, запричитал по-русски: — Вели отпустить домой!..
Улыбка слетела с круглого лица царя.
Долго смотрел на распростершегося у его ног маленького человечка, потом сказал, отворачиваясь:
— Ишь, научился…
И приказал:
— Окрестить апонца. Пусть научит своему языку трех-четырех наших русских робят. Тогда отпустим.
А на Волотьку глянул с одобрением.
Преодолев смущение, Атласов отвечал царю смело, часто по давней привычке вставлял в разговор не русское слово пагаяро. Потом в Сибирском приказе все сказанное еще раз повторил, только уже подробнее. Государь милостиво отпустил пятидесятника, позволил вернуться в Якуцк уже головой казачьим — со всеми правами, и Волотька на радостях не сдержался. Душа пела, силы играли. А край ведь огромный, пустой, людей мало, кураж над зверем не выкажешь. А у Волотьки было теперь право — получить в Сибири за счет правительства товаров разных на сто рублей в награду за присоединение Камчатки к России. Чем тащить товары на себе по всей Сибири, лучше было взять ближе к месту. На Верхней Тунгуске встретили судно богатого купца Логина Добрынина. «А ну, перегружай к нам товары!» — «Не буду. Это мои товары!» — «Ах, твои!» Свистнули люди Атласова, по-разбойничьему прыгнули на судно, побросали людей в воду. Все товары забрали вместе с судном. Из купеческих людей повезло только Фролу Есихину. Он, брошенный за борт, волею Провидения жив остался. Добравшись до Якуцка, пошел к воеводе Дорофею Афанасьевичу Трауернихту, бритому недоброму немцу. Дорофей Афанасьевич, дождавшись разбойников, посадил всех в железы, а сам новоприбылый казачий голова был пытан и брошен в тюрьму. Тогда же на Камчатку вместо Атласова отправили прикащиком Зиновьев — из казаков.
Лучше бы сидел Волотька в железах, подумал Матвеев печально. Из железа вытащить можно, из могилы не вытащишь. А Волотька нет, он все время рвался на Камчатку, любил силу, богатство, волю, а где же делают богатство, где проявляют силу, как не в новых краях? Когда, наконец, в седьмом году, по прощению вновь отправили Атласова на Камчатку, он там не пожил много. Зарезали Волотьку собственные казаки…
А в семьсот втором, в январе, в царском селе Преображенском кто мог угадать, какая у кого судьба впереди? Кто вообще в мире может это знать — у кого что впереди? Государю Петру Алексеевичу Атласов понравился, государь смеялся, слушая рассказы пятидесятника, жадно задавал вопросы. Рыба породистая, на семгу похожа, идет нереститься, а в море не возвращается? Да почему?… Соболь на Камчатке плох, тепло ему на Камчатке? Да почему?… Может, хлеб сажать можно на Камчатке, раз там не знают хлеба?… Ну, и все такое… Раздраженно дергалась царская щека: вот как велика собственная страна, никогда ее самолично не объедешь, не оглядишь!
Дергалась щека царя: море!
С Камчатки, наверное, можно пройти на Ламу, а с Ламы прямой путь в Китай. И с Камчатки же, наверное, нужно приискивать путь в Апонию. А то и в Индию. А то и в другие страны. Захлебывался от нетерпения: дальше что?…
Но об этом и Атласов сказать не мог.
Прощаясь, государь спросил:
— А вера? Есть на Камчатке вера?
— Нет, веры там никакой. Одне шаманы.
Пагаяро!
Думный дьяк прислушался к лепету вдовы.
— Ох, Волотька! — лепетала вдова. — Маменька-покойница все спускала Волотьке. Старинного склада был человек. А я боялась Волотьку, по младости лет думала — вдруг укусит! Зубы у него были большие, по краям выщерблены, будто впрямь грызся с кем-то. И пахло от него необычно… Как точно — сказать не могу, но пахло. Может, зверем… И взгляд — чистый дьявол… Я все присматривалась к Волотьке, может есть у него и рожки? Только зачем рожки к такой медвежьей силе? Боязно было мне, а вот тянуло меня к Волотьке. Он даже знамение шире, чем другие, от души клал… — Со значением глянула на Ивана: — Вот только на язык был не сдержан…
— И то, матушка, — подсказал Матвеев. — Ты тоже попридержи язык.
И пожалел Ивана.
Хорошо помнил гадание старика-шептуна (о том гадании знали все Саплины, да Матвеевы, да выжившие Крестинины), только давно перестал верить в то гадание — племянник поднялся слабым. Только в канцелярии и хорош, хоть там прозвали его Пробиркой. По настоящему ему бы сабелькой махать, шагать по жизни рядом с неукротимым маиором Саплиным, а он…
Слаб, слаб.
Особенно на винцо.
В самом нутре Ивана прячется слабость. Русская, вечная. Никогда такому не дойти до края земли, не обратить на себя внимание царствующей особы, даже дикующую не полюбить. А государь, вздохнул, как никогда, нуждается в умных людях. Жадно присматривается к каждому человеку. Сын плененного крестившегося еврея? Служил при дворе боярина Хитрова? Сидел в лавке московского купца? Да какое кому до этого дело, если это сам умный Шафиров?… Сын выехавшего из Литвы органиста лютеранской церкви? В детстве свиней пас? Да какое кому до этого дело, если это сам деловитый Ягужинский!.. Сын вестфальского пастора? Начинал толмачом в Посольском приказе? Да какое кому до этого дело, если это сам мудрый Остерман?…
О графе Остермане Андрее Ивановиче Матвеев думал особо.
Оракул- так прозвали графа.
И было за что.
Умел Андрей Иванович предугадывать большие события, умел быть осторожным. Особо отмечен был государем во время Прутского похода — на многое уговорил турков. Если надо, строго круглил бровки, внимательно всматривался в человека карими глазами, совсем как сова. А может, лисица… Некоторые так и звали его — лисица-немец. Зато понимающие жизнь называли Андрея Ивановича — Оракул! Судьба не раз сводила думного дьяка с графом Андреем Ивановичем, особенно по секретным делам, всегда встречались с приязнью.
Ладно, не о том речь…
Вздохнув, взглянул на Ивана.
Вот тоже способен. Ко многому способен. Но слаб, слаб. Всегда может перетолмачить немецкую книгу, учинить любую самую сложную ландкарту, но слаб, слаб. Не чета маиору Саплину.
Невольно мыслями перекинулся на маиора.
Где сейчас маиор?
Сибирь велика.
Два года назад под величайшим секретом государь Петр Алексеевич послал к Камчатке специальный наряд — геодезистов Евреинова да Лужина. Дал им задание, о котором не знали даже в Сенате: без шума прибыть в Охотск, там служивый человек Кузьма Соколов, отправленный еще ранее, довершит строительство большого судна. На указанном судне плыть через Ламское море к югу, приглядываясь к каждому новому берегу. Государь хоть и раздражается необъятными пространствами собственного отечества, но распространять пространства всегда готов. А для этого люди нужны. Уверенные сильные люди. Теперь, когда шведы не висят на загривке, можно подумать о многом, о чем раньше и мечтать не смели… Та же Апония… Вдруг даст серебро, золото? Вдруг начнется с Апонией хороший торг?… А лаской не дадутся, пушкой пугнуть…
Вздохнул, еще выпил рюмку.
Кириллов Иван Кириллович, сенатский секретарь, открыл недавно по секрету, что в бумагах царя уже несколько лет лежит проект о разыскании свободного морского пути от Двины-реки до самого Амурского устья и до Китая. Не зря, не зря приглядывается государь к востоку. Твердолобую Европу не обхитришь, к большому океану сквозь нее не проскочишь. Значит, остается Сибирь.
Заныло сердце.
Боялся, ткнет однажды государь прокуренным желтым пальцем: а ты, дескать, почему здесь, Матвеев? Почему тебе не сходить в Сибирь?… Знал: если ткнет пальцем, не откажешься. Это ведь только Волотька Атласов ничего не боялся, скор был на ногу. Сегодня здесь, завтра там. Пушку на санки и пошел до края земли. Где остановился, там и окружил себя стенами. А где остановился, там ему и добыча… Любил добычу… За то и был зарезан своими же казаками… Жалко Волотьку Атласова, он, Матвеев, большие виды имел на него. Знать бы, кто зарезал казачьего голову?
Вздохнул.
Сказал, поднимаясь:
— Готовь, матушка, письмо маиору. Кажется мне, что скоро будем иметь оказию.
Сказал, будто грех какой отпустил сестре.
Глава IV. Путь в Апонию
И появилась в жизни Ивана тайна.
Ветра вой, стужа в ночи, зимний Санкт-Петербурх занесен снегом, ветром просвистан, отпет воем собак, а в доме соломенной вдовы тепло, в свете свечей изразцы печные мерцают, как сахарные, в печи угольки потрескивают. Может, к гостю…
Впрочем, откуда бы поздний гость?
Соломенная вдова Саплина, уютно укутав ноги в меховую полость, рассеянно слушала чтение Ивана. Письмо маиору давно было сочинено и отдано думному дьяку, он о нем больше не говорил. Оставалось ждать, что и делала терпеливая вдова, рассеянно прислушиваясь к легкому всхрапыванию девки Нюшки, подремывающей за тонкой стеной — вдруг что понадобится барыне?
— «Изобильно в том Сибирском царстве зверей всяких. Соболи дорогие, лисицы черные, красные, и иного зверья бесчисленно…»
Читал Иван вдумчиво.
— «И в том же Сибирском царстве люди разноязычии. Первыи — татары, потом вогуличи, остяки, самоядь всякая, лопане, тунгусы, киргизы, колмаки, якуты, мундуки, шиляги, гаритили, имбаты, зеншаки, сымцы, аринцы, моторцы, точинцы, саянцы, чаландасцы, камасирцы…» И иных много, — сокращал чтение Иван.
— Придумываешь!.. — корила, дивясь, вдова. — Какие такие имбаты? Такое вслух произнести стыдно. Какие сымцы? Лопане какие? Зачем так не по-людски?
Задумывалась:
— Татар, тех знаю. И слышала, сколько сгибло татар, когда каналы вели! Государь велел в срок сделать все тяжелые работы, их и сделали в срок. Татары, они ведь жилистые. Все что-то лопочут, вроде как сердятся, но грузы всякие таскали как лошади.
Вдова непонятно вздохнула.
— «Сии же люди, — как бы объяснял Иван, — хоть и подобны образом человеку, но нравом и житием больше звери, ибо не имут никаких законов. А кланяются каменьям, кланяются медведям или деревьям, а то так и птицам. Сотворят из дерева птицу или зверя, вот им и кланяются…»
Вдова мелко крестила грешный рот, прислушивалась к Ивану и к вою ветра за ставнями. Представляла: такая, значит, страшная Сибирь… Пугалась: да, наверное, еще страшнее… Тут, в Санкт-Петербурхе, изразцовые печи, свои людишки; тут рядом Иван-голубчик; где-то вдали колотушка сторожа, а в страшной Сибири — только ледяная пустыня, пурга, волки… Это как же, думала, выжить неукротимому маиору в таких условиях?…
— «Имеет еще Сибирское царство реки великие и езера. В тех реках и езерах — рыб множество. Например, обретается в том царстве зверь, нареченный мамант, а по татарскому языку — кытр. Зело велик. Сего зверя не встречают почти, обретают только его кости на брегах речных. Сам видел голову младаго маманта весом на десять пуд. Рыло как у свиньи, над устами бивни долгие, а зубов ровно восемь. И рог на главе…»
— Свят! Свят! — крестилась вдова. — А коли маиор встретит такого?
Даже Нюшка во сне за стеной стихала от таких ужасных предположений.
— «В том же царстве Сибирском птиц много. Есть такие, у коих ноги подобны журавлиным, даже длиннее, а перья на телах алые, а в хвостах черные, а клюв вовсе черен, питаются всякой рыбой. На самом конце ног — лапы, как гусиные. Коль голову поднимет, так выше высокого человека…»
— Вот ясно вижу маиора среди алых птиц, — опечаленно вздыхала вдова. — Вот вижу маиора среди белых снегов. Мыслимое ли дело, выжить в таком краю? То зверь, то птица, то плохой человек! — И неожиданно, с острым интересом, прижав руки к груди, с глазами вспыхнувшими спрашивала: — Добрался ли дорогой маиор до той горы серебра? А, голубчик? Хранит ли маиор гору?
Иван кивал: конечно, добрался. Неукротим маиор. Никто ни кусочка не отщипнет от той горы.
Так кивал, а сам видел другое.
Не зверя маманта, который по-татарски кытр, и с рылом, как у свиньи; не птиц, ростом с высокого человека, с ногами, на которых лапы, как гусиные; даже не рыб разных; даже не дикующих; а видел совсем другую страну, открывшуюся ему нежданно-негаданно с помощью случайного казачьего десятника, так нелепо затеявшего дерзкую драку в австерии, куда с собой никакие вещи носить и не надобно.
Собственно, бумаг в кожаном мешке оказалось мало: челобитная, написанная уверенным быстрым почерком, рукой человека, явно привыкшего к письму, и чертеж вида маппы, учиненный весьма умело.
В первый раз заглянув в мешок Иван сгоряча хотел все сжечь — после встречи с думным дьяком Матвеевым померанцевая все еще кружила голову. Потом испугался, а вдруг сыщется тот казачий десятник? Вдруг он дал показания под пыткой, и теперь ищут его, Ивана?
Смутно припомнил десятника.
Вроде щеки обветрены. И кафтан простой. Человек с носом-рулем срезал с того кафтана медные пуговки… Будто приезжал десятник в Санкт-Петербурх жаловаться… Оно и понятно, поскольку нашлась в мешке челобитная… Еще вспомнил, что будто бы говорили казаки о каком-то человеке, высаженном на остров, но это могло Ивану и привидеться… А вот драка не привиделась, драка точно была. Дерзко махался казачий десятник сорванным со стены портретом Усатого…
Вспомнив про драку, Иван пожалел десятника. Ну, правда, можно ли покушаться на честь государя? Сгинет теперь на каторге несчастный десятник, или пойдет строить каналы, а это даже похуже, чем сразу на плаху лечь.
Ни денежек, ни рухляди мяхкой в мешке нисколько не завалялось.
Иван перещупал каждую складку.
Ничего.
Челобитная да чертежик-маппа, на котором чюдные острова с чюдными названиями, а поперек тех островов (у берегов их) теснились краткие пояснения. Аккуратная работа: ни разу не капнуто на чертеж орешковыми чернилами, нигде не помято, лист свернут в трубку. Сразу видно, что маппу хранили бережно, в целости хотели доставить в Санкт-Петербурх.
А вдруг самому государю?…
Ведь говорил думный дьяк: нынче государь внимательно смотрит в сторону востока. Усатый, наверное, ждет таких мапп.
Иван чуть не вынюхал тот мешок.
Получалось так.
Жил некий казачий десятник, совсем простой человек, вот как он, Иван. И так жил, что выпало ему необычное. В челобитной сам признался, что «… в 1713 году до монашества своего посылан был за проливы против Камчатского носа для проведывания островов Апонского государства, а также землиц всяких других народов».
Да так ли уж вольно жил? — начинал сомневаться Иван. Почему — до монашества?… Или посылан за проливы был вовсе не тот казачий десятник, на которого в кабаке крикнули государево слово? Или был все же монахом, да расстрижен за какие грехи?
Дух захватывало.
Проведывание Апонского государства… Землицы всяких народов…
Получалось, что доходил тот десятник чуть не до самого до края земли… Но почему — до монашества? На брата во Христе казачий десятник в австерии нисколько не походил. Если даже перерядился, взор никак не выдавал смирения, и хлебное винцо с жадностью пил… Может, специально скинул рясу, чтобы войти в кружало? Монахи ведь тоже разные попадаются, а этот, смотри, посылан был в свое время для проведывания новых островов, Апонского государства, а также разных незнакомых землиц!..
Иван опять напомнил себе — до монашества!
Может, подумал, в плаванье том сей нескромный монах допустил какой великий грех, а потом дал строгий обет господу? С трепетом вчитывался в челобитную. …«Следовал к островам мелкими судами, без мореходов, компасов, снастей и якорей…
На ближних островах живут самовластные иноземцы, которые уговорам нашим не поверив, сразу вступили в спор…
В воинском деле они жестоки, имеют сабли, копья, луки со стрелами…
Милостью Господа Бога и счастьем Его Императорского Величества тех немирных иноземцев мы погромили, взяв за обиды платья шелковые, и дабинные, и кропивные, и всякое золото…»
А мешок пуст, усмехнулся Иван. …«И полонили одного иноземца по имени Иттаная с далекого острова Итурты…»
Иттаная!.. Апонец, наверное, несмело подумал Иван, разглаживая на колене лист бумаги. Вишь, Итурта!.. Вот как странно жизнь поворачивается. Ему, Ивану, старик-шептун много чего нагадал, а вместо тех гаданий приходит в Санкт-Петербурх некий казачий десятник и впадает в драку неистовую, чтобы чужой мешок с бумагами, описывающими истинный край земли, попал в руки Ивана…
Почему так?
Или вот думный дьяк Кузьма Петрович рассказывает: пятидесятник, а потом казачий голова Волотька Атласов, расширивший Россию Камчаткой, всю жизнь догадывался о пути в Апонию, о чем даже говорил Усатому, а все равно куда-то совсем далеко прошел не Атласов, а какой-то неизвестный десятник. А бумаги десятника попали в руки Ивана Крестинина, секретного дьяка, прозябающего в Санкт-Петербурхе.
Правда, почему так?
Не знак ли это?
Сладко и страшно вздрагивало сердце: а вдруг сбудется гадание старика-шептуна, вдруг вправду дойду до края земли?
Еще раз глянул на подпись под челобитной.
Имя Иван. Совсем как у него. А вот фамилию не разобрать. Может, Кози… Или Козы… Может, Козырь, кто знает?… Только все же длинней… Жалко, подумал. Такая знатная бумага должна была попасть в руки людей знающих.
Вспомнил — пагаяро!
Что бы значило это? Почему говорил казачий десятник — пагаяро? Вдруг почувствовал: да мало ли, что он, Иван, простой дьяк, мало ли, что он выпивает. Он бы тоже мог плыть через бурные перелевы, жечь костры, отбиваться от дикующих, открывать новые острова… Явственно увидел: накатывается на берег высокая волна, зеленая в изломе, бросается на камни, шумят долгие берега, забитые толпами вовсе не мирных иноземцев…
Вот мог бы?
Покачал головой.
А волнение на море? Разве он, Иван, не загадит все судно? Судно не кабак, а его, Ивана, случалось, укачивало и в кабаке… А немирные иноземцы с кривыми луками да сабельками? Неужели он, Иван, сумел бы от них отбиться? Неужели он, Иван, сумел бы по живому рубить?…
Нет, перекрестился. На такое способны Волотька Атласов да тот казачий десятник. А я способен книжки вдове читать.
Затосковал. …«А какой через вышеозначенные острова путь лежит к городу Матмаю на Нифонской земле, — читал, — и в какое время надо идти морем и на каких судах, и с какими запасами и оружием, и сколько для того понадобится воинских людей, о том готов самолично объявить в Якуцкой канцелярии или в Санкт-Петербурхе судьям Коллегии…»
Ох, важное знал казак! И многое видел. …«В прошлом 720 году вышел я из Камчатки в Якуцк, откуда сильно хотел проследовать в сибирский город Тобольск для благословения Преосвященным Архиереем построения на Камчатке новой пустыни, а также для челобитья Великому Государю о выдаче денег за положенные мною в казну соболи, лисицы и бобры — на всякие церковные потребы и на пустынное строение, а также об открытом объявлении в том Тобольске о ближних от Камчатки островах, о самовольных иноземцах и о новом городе Матмае. Но архимандрит Феофан в неправедной своей сердитости силой удержал меня в Якуцке, в Тобольск не пустил, самолично определил в Покровский монастырь строителем, где держал на всякой скаредной пище, почему и бью челом в опасении истинного ареста — отпустить меня из Якуцка-города на казенном коште, в чем дать мне поручную запись…»
И опять подпись, разобрать которую Иван никак не мог. Имя читалось ясно, но фамилия растянулась как длинный бич, витиевато, далеко растянулась. Может, до самой Камчатки.
Иван даже обиделся.
Шел человек по Санкт-Петербурху, нес под мышкой мешок с чертежиком и описанием островов Апонии, а желания его не сбылись. Хотя ведь добрался от далеких земель не в Якуцк даже, и не в Тобольск, а в самую новую столицу империи!
Очень не малый путь.
Описания при чертежике тоже оказались таинственными, и взволновали Ивана. За зиму выучил все описания наизусть. …«Его Императорского Величества указом велено проведать разные острова Апонского государства…
А то государство стоит в великой губе над рекою, а званием — Нифонское, а люди в нем называются государственные городовые нифонцы. А морские суда вплоть к берегу не подходят, стоят только на устье реки, к берегу все товары везут мелкими особенными судами…
Зимы в Нифонском государстве совсем нет, а каменных городов — два…
Царя простым людям видеть не полагается, а коль выезд царя назначен, падают люди наземь и смотреть не смеют. А звание тому царю — Кобосома Телка…
А вкруг Нифонта-острова море. Ходят по тому морю даже в Узакинское государство — лес продают. А, продав, покупают вино, горох, табак и возвращаются, путь к своему острову не указывая…
Город Какокунии — особливое владение. Много в нем лесу, золота, а в губе морской неподалеку лежит еще одно особливое владение — город званием Ища. А владеет им царь Уат Етвемя, совсем почти как царь Кобосома Телка…
Из Нифонского государства в Узакинское ходят морем. Там пути месяц-два, коли бурь нету. А узакинскому царю имя Пкубо Накама Телка. Ходят туда и из других государств, например, из китайского. Товары везут — серебро, посуду лаковую, шелк и разные другие товары…
А на Нифонте-острове есть монастырь, в котором чернецов много. Жалованье им посылает царь, а за моления воздают люди. Хлеб на том острову родится по трижды в год, и всякия овощи родятся, и плоды. Табак сеют, он тоже родится. Пашут на быках, платья носят шелковые и бумажные, а делают то платье сами бабы и мужики…
А войны на острове никогда нет, только вечный мир между всеми…
А все ли владельцы городов каменных находятся в подданстве у одного царя, про то не уведомлен. Но полоненные нифонцы говорили — особливых владетелей там близ осьмидесяти. А вера их — Фоносома, бог их. Этому богу другие цари и властители поклоняются и честь ему отдают…
Есть остров особый, на который съезжаются ради мольбищ и приносят Фоносоме дары — всякое золото, и серебро, и лаковую посуду. А ежели кто украдет што, Фоносома сам тому вору жилы корчит и тело сушит. И то же делает с теми, кто, молясь, обуви при нем не снимает…
А коров не бьют, их мяс не едят…
Оружия в домах держать строго не велено, кроме сабель, и то у знатных людей. А в службу выбирают и обучают отдельно. Все равно к воинскому делу нифонцы много искусства не проявляют — боязливы…
Еще город Найбу стоит близ моря, оттуда бусы-суда, апонское прозвание фуне, ходят в Матмай и в другие города. А близ морской губы стоит город Сынари, который миновать никак невозможно. В том городе осматривают приезжих людей, их оружие, их товары, а на товары дают специальные выписи. А тот ли это остров, на котором поклоняются богу Фонасоме, того не знаю. Везде по дороге многие караулы, попасть никуда нельзя…
А город Матмай — он подданный Нифонскому государству. Он такой, что ежели люди вину в чем проявят, тех людей сразу ссылают для наказания в указанный город. А в городе везде пушки, ружья, снаряды…
А меж Матмайским и Нифонским островами в проливе много всяких высоких мысов. Когда ветер боковой, а вода прибылая или убылая, тогда тот путь и для бусов не прост. А многие бусы совсем разбиваются…
Есть жители островов — мохнатые…
А от Камчатского носу до того Матмайского острова малых и пустых островов — двадцать два. А живут на островах тихие народы, а апонские иноземцы не живут, разве только на зверином промыслу их зима застигнет…
А учинил чертеж…»
И снова имя — Иван.
И дальше не прочитать — Козы…
Подступала ночь, сгущались сумерки, затихала Мокрушина слободка, затихал уютный домик вдовы Саплиной, — весь Санкт-Петербурх погружался во тьму, колеблемую лишь сырым ветром. Спать бы да спать, но не было сил, тянула гибельно тайна! Иван неслышно зажигал ранее припасенную свечу и, волнуясь, склонялся над чертежиком, испещренным диковинными, как растения на халате вдовы, названиями.
Шумчю…
Остров первый. За ним пролив.
«Сей пролив, — указано было на чертежике гусиным пером, — шириной версты две или меньше».
Ну, не велик пролив, осваиваясь, думал Иван. Хороший пловец, есть такие, руками запросто отмахает две версты. Если не тронет, конечно, какой морской зверь и не унесет в пучину течение.
Уяхкупа… …«Великая и высокая сопка. А люди не живут, только с первого и с другого острова приезжают сюда ради промыслу. Земной плод сарану копают, птицу промышляют, також морских зверей».
Морские звери представлялись Ивану непременно ужасными, вроде морского монаха или морской девы, а то и бабки-пужанки, тинной бабушки, о какой не раз слышал еще в Сибири.
Пурумушир… …«Живут иноземцы. Язык имеют один и веру, на дальние острова ходят. Привозят котлы и сабли, а у сабель круги медные, обогнуты края кованым серебром. На этом острову дали нам иноземцы бой крепкий и на разговор не дались».
Малый остров Сиринки…
Остров Муша, он же Онникутан… …«Живут там те же мохнатые, иначе курилы».
Малой остров Кукумива…
Остров Араумакутан… …«Сильно горит, дымом пахнет, люди к тому острову не идут».
Да что ж это такое? Зачем горит остров? Как может гореть целый каменный остров? Зачем никто не потушит?
Дивился.
Остров Сияскутан…
И малый Игайту…
И острова Мотого, Шашово, и Ушишир. А дальше Машаучю. Все птичьи какие-то названия. И Симусир. И Чирпой — великая сопка. И тот Итурпу, куда плавают люди далекого Нифонского государства. И вновь перелевы, и вновь дымящие сопки, и вновь высокие берега — до самого острова Матмая, где русский человек еще ни разу ногой не ступал.
Иван задумчиво перебирал губами. Сиринки… Онникутан… Симусир… Итурпу… Как мохнатые выговаривают такое?… Дивился, как тесно толпятся на чертежике острова — ставь мачту на малый коч, и плыви, объясачивай иноземцев… Он бы, Иван, поплыл. Мало ль, что иноземцы драчливы. И на самых драчливых пушка найдется… Вдруг понимал, что нынче во всем Санкт-Петербурхе, во всем заснеженном заветренном Парадизе, где так много всяких умных людей, может, только он один знает истинный путь к Апонии. Может, только он один знает, как пройти от одного острова к другому, и где чего бояться, а где высаживаться смело, не боясь копий и стрел… При этом, правда, и другое понимал с тоской: может, он и знает путь к загадочным островам, но ему-то этот путь заказа. Никогда он, секретный дьяк Иван Крестинин, не будет допущен к тем загадочным островам…
Долгими вечерами, уединясь, досконально изучил маппу. Как бы сам, самолично, прошел от Камчатских берегов до острова Матмай, туда, в далекое Нифонское государство, к городовым нифонским людям. И часто представлялось Ивану: вот маленькие робкие люди-нифонцы стоят на низком песчаном берегу и на каждом шелковые халаты, украшенные необыкновенными растениями, как на халате-хирамоно соломенной вдовы Саплиной. И, видя кровь, стенают те робкие апонцы отчаянно, и заплаканные глаза закрывают широкими рукавами…
Мечталось Ивану: показывает он маппу думному дьяку Матвееву, а думный дьяк в свою очередь показывает маппу государю. Усатый горяч, он любит все новое. Он крепко схватывает Матвеева за плечо и коротко приказывает: лодки дам, пушки дам, приобщи к России Апонию! А думный дьяк, пыхтя, с солидностью отвечает: я уже стар, я уже не могу, но на то есть у меня верный человек… Да кто таков?… А дьяк секретный, Иван Крестинин. Умен, верен, знает иноземные языки. Он и укажет прямую дорогу в Апонию, очень уж крепкий и умный дьяк…
А море?… — спохватывался Иван. А Сибирь — ее необъятность, гнус, опасности?… А варнаки, пурги, медведи, долгие переходы, зверье?… Ведь там, за Якуцком, за ледяными каменными хребтами, за Камчатской землей, на самом краю земли — разве там будет проще?
Аж весь холодел. От недостижимости сущего впадал в тоску. С ним такое уже случалось. Однажды как-то вышел из кабака, несло поземку, дул бесприютный ветер. И из этого пронизывающего бесприютного ветра, из белых взвивов мокрого снега вылетела вдруг бесшумно карета, копыта лошадей, ступая по снегу, не производили никаких звуков. И в окошечке кареты отодвинулась занавеска и глянули на пьяного Ивана льдистые голубые глаза — женщина, каких только во сне видят.
И сразу исчезло видение — за ветром, за снегом.
Разве можно когда-нибудь снова увидеть такие глаза?
Да нет, конечно. Ему, секретному дьяку Ивану Крестинину, суждено до самой смерти просидеть в сыром Санкт-Петербурхе. Ему, тихому секретному дьяку Ивану Крестинину, суждено до самой смерти ходить в одиночестве по кабакам, или сидеть в канцелярии над чужими маппами…
С печалью подумал: неужто нет никакого выхода? Неужто истинно важное дело навсегда останется далеко от него, как тот взгляд льдистых голубых глаз из-за отодвинувшейся занавесочки?…
С надеждой подумал: можно ведь по-другому сделать. Раз нельзя сразу двинуться в дальний путь, можно собрать все слухи о Нифонте-острове и о восточных островах, и уже по-своему, все сверив, все перепроверив на много раз, на основе чертежика, найденного в мешке неизвестного казачьего десятника, сочинить свой собственный капитальный чертеж. Пусть не дано ему, дьяку Крестинину, дойти до края земли, пусть врал все старик-шептун, может, пригодится все же кому-то такой капитальный чертеж? Вспомнил, как говорил думный дьяк: теперь, когда войны нет, устремляет государь взоры к востоку… Ведь устремляет!.. А тут он — Крестинин с чертежом… Может, Усатый вернет ему отцовские деревеньки?…
Выучив бумаги наизусть, Иван твердо решил от них избавиться, но потом передумал — не дело палить чужой труд. Надежно спрятал бумаги в валенке за печью, а о дерзком казачьем десятнике решил твердо забыть. В самом деле, мало ли всяких людей пропадает каждый день в Санкт-Петербурхе? Тот казачий десятник не первый и не последний.
Иногда снилось странное.
Острова… Лес темный… Мрачный зверь мамант, по татарски — кытр… А на берегах робкие апонские воины в необыкновенных халатах-хирамоно. Они нелепо махаются сабельками, почти игрушечными, окованными мягким серебром, и так же нелепо вскрикивают: пагаяро! А потом широкими рукавами закрывают заплаканные глаза…
Странные сны.
Острова, мысы — голубые, как вечернее небо.
А за островами и мысами еще большая, совсем бездонная голубизна.
А на высоком мысу вдруг одиноко сидит человек, похожий на маиора Саплина, и тоже широким рукавом закрывает заплаканные глаза.
Впрочем, не мог быть тот человек неукротимым маиором Саплиным. Неукротимый маиор Саплин не умел плакать. Ему слез не было дано природой, только уверенность. Это он, бедный секретный дьяк Иван Крестинин, лишенный Усатым отцовских деревенек, часто просыпается в слезах, так ему жаль неизвестного человека, оставленного казаками на высоком мысу. Как-то даже рассказал о своих снах вдове, она руками всплеснула:
— Много воды? Ну, голубчик… Снится такое к амурному приключению!..
И почему-то покраснела.
Глава V. День на божьего Алексея
В левом ухе звенит — к радости.
В день на Алексея, человека божия, у Ивана с утра сильно звенело в левом ухе. И не зря, оказалось. Разбирая темный канцелярский шкап, густо дышущий запахом пыли, клея и залежалых бумаг, Иван напал на неполный шкалик. Кто и когда сунул тот шкалик в шкап — неведомо, но сунули шкалик в шкап не день и не два назад, это было ясно — стеклянную посуду обнесло паутиной.
С неясным удовольствием Иван подумал — вот совсем забытый шкалик.
И нахмурился.
Не понравилось ему его неясное удовольствие, вдруг испытанное. Не хотел думать о винце. Не пил почти всю зиму. Сам держался, и добрая вдова держала, и таинственный чертежик казачьего десятника держал. Боялся заглядывать в австерии, в кабаки, в кружала: выпьешь, не дай Бог, а там вновь появится сердитый десятник. Увидит Ивана, ухватит железной рукой за ворот и ссекёт ему ножом одно ухо. А то и другое. Где, спросит, мешок с чертежиком? Верни, бумагу, указывающую путь в Апонию! И, не ожидая ответа, крикнет государево слово. Набегут солдаты, повлекут Ивана в Тайный приказ! А, может, тот десятник и кричать не станет. Зарежет на месте.
С ума можно сойти от таких мыслей.
Хорошо, думный дьяк Матвеев завалил Ивана работой.
Не зря намекал доброй соломенной вдове о тайном походе в Сибирь, что-то такое готовилось на самом верху. То неожиданно приходилось Ивану переводить немецкие и голландские записи, глупые и скучные, а то вдруг сидел, не разгибая спины, составлял по приказу думного дьяка многочисленные экстракты из множества казачьих выписок, тоже скучных и не всегда умных. Случалось, занимался и чертежиками корабельных мастеров. А вот куда, в чьи руки уходили обработанные бумаги, этого не знал. Да его это и не интересовало. Какой, собственно, интерес? В чьи бы руки ни попала бумага, он, секретный дьяк, все равно ни к каким большим делам не причастен, и никогда ни к каким большим делам причастен не будет.
Но томительное что-то витало в воздухе.
Ни с того, ни с сего вспоминалось пророчество старика-шептуна.
Странно и непонятно предсказал старик. Жить, дескать, будешь долго. Обратишь на себя внимание царствующей особы. Полюбишь дикующую. Дойдешь до края земли. Но жизнь, предсказал, проживешь чужую.
Как это — прожить чужую жизнь?
Иван часто ломал голову над непонятным предсказанием, да так ничего и не придумал. Зато незаметно изучил все известные маппы и чертежи, на которых указывался северо-восточный угол России.
Дивился: вся Сибирь изрезана великими реками.
Известно: если есть где какая река, то на той реке непременно сядут люди, поставят города, остроги, а в Сибири рек много, великие они, а никаких городов не видно. Ближе к России имеются, правда, некоторые остроги, но на север и на восток все пусто, будто там и находится настоящий край земли, за которым плещется в Акияне и в одиночестве великий левиафан. Даже о Нифонском государстве и об острове Матмай Иван ничего не нашел ни на одном сколько-нибудь серьезном чертежике. Только в скасках Волотьки Атласова наткнулся на предположение, что к югу от Камчатской лопатки могут лежат какие-то острова. Но такое можно предположить и не покидая Санкт-Петербурха.
За зиму Иван перерыл все известные Сибирскому приказу бумаги. Сам убедился: никто и никогда не упоминал ни о каком морском ходе в Апонию, кроме, конечно, только ему, Ивану, известного казака, а может монаха, подписывающегося длинно, но непонятно, вроде как Козырь. Правда, по строгому допросу, снятому в 1710 году якутским воеводой Дорофеем Афанасьевичем Трауернихтом с плававших по Северному океану, а потом побывавших на Камчатке людишек Никифора Мальгина, Ивана Шамаева, Михаила Наседкина да некоего казака Поротова, стало известно, что в Пенжинской губе может существовать обширный остров. Но к Апонии этот остров вряд ли принадлежал.
Сердясь на неточность казенных мапп, Иван потихонечку сочинял свою собственную, понятно, сообразуясь с отписками знающих казаков, промышленных людей, служилых, а главное, челобитной неизвестного казачьего десятника — сочинял совсем новую маппу, долженствующую стать лучшим другом любого путешествующего по Сибири человека. Отчетливо, как пузырьки на воде, убегали на новой маппе к югу от Камчатской дикой землицы круглые островки — счетом ровно двадцать два. И лежало за островками Нифонское государство, богатое золотом, серебром и красивой лаковой деревянной посудой. Не смущаясь, Иван подробно обозначил на своей маппе каменные города, пашни, горы, реки — все так, как писал неизвестный Козырь. Сердцем чувствовал, что если существует истинный путь в страну Апонию, то должен он быть именно таким, каким он изображен на чертежике. С тоской, правда, понимал — как ни красив чертежик, все равно он во многом плод фантазии. Посидев над сочиненным, вздыхал, прятал чертежик, вздыхая, принимался за казенные дела. Но если выпадала свободная минута, снова вытаскивал свой чертежик.
К тайной работе тянуло, как раньше тянуло к вину.
Да и как не тянуть?
В канцелярии сухо, уютно пахнет мышами и книжной пылью — знакомо, хорошо пахнет. Иван то раздумывал над чертежиком, тщательно сверяя его со многими другими известными маппами, то неторопливо прогуливался между шкапов по скрипучим половицам. Радуясь, что в его помещение, в помещение секретного дьяка, нет никому хода, кроме крупных начальных людей, прикидывал — вот, дойдя до Апонии, что следует, в первую голову, смотреть там для ввоза в Россию? Мяхкую рухлядь? Или красивую лаковую посуду? Или тяжелый шелк? Или золото в пластинах, испещренных непонятными письменами? И что брать из самой России — для апонцев? Чем можно заинтересовать робких иноземных людей? Светлыми стеклянными зеркалами? Железом кухонным или бусами? А может, крепким ржаным винцом? За что, думал, начнут без ропота отдавать робкие апонцы мяхкую рухлядь, золото, серебро?
Об опасности не думал.
Верил казачьему десятнику: «…к воинскому делу нифонцы искусства не проявляют — боязливы». Насвистывая негромко военную песню, терпеливо выписывал на полях своей секретной маппы предполагаемые богатства Апонии — золото в пластинах, испещренных непонятными письменами, мягкое темное серебро, дабинные и шелковые платья, белый сахар, пшено сарацинское…
Задумывался.
А есть крепкое винцо у апонцев? Хворают робкие люди с сильного перепоя?
Давно не держал во рту даже капли, а вот вдруг задумывался, вспоминал о винце.
В канцелярии тихо, уютно.
Канцелярия не австерия, никто тебе не помешает, трудись и трудись. Да ведь, известно, что бесу всегда неймется. Небось, тот неполный шкалик в шкап сам бес подбросил. Подбросил и теперь подталкивает Ивана под ребро: иди, дескать, дьяк, займись этим…
Ох, не вовремя попался на глаза шкалик.
Смущение, как змея, обвило робкое сердце Крестинина.
Вот уже три месяца во рту ни капли! Увлеченный тайной маппой и многочисленными делами думного дьяка, Иван даже домашнюю наливку не пригублял, чем возбудил к себе крайнее уважение и даже умиление доброй соломенной вдовы Саплиной.
Боязливо оглянувшись, Иван сунул шкалик обратно в шкап, и как можно глубже. Уходя от соблазна, прикрыл деревянные дверцы, отошел к столу, потом остановился напротив полки с книгами, где и бумага чистая лежала стопами, и играли неясные блики на гранях медных приборов.
От греха подальше!
Отгоняя странные мысли, порылся в старых маппах, хотя точно знал, что ни на кирилловских, ни на «Чертежах вновь камчадальской земли», ни на картах думного дьяка Виниуса не обозначены знаемые им острова, а значит, в самом деле никто, кроме него, секретного дьяка Ивана Крестинина, не знает истинного пути в Апонию. Только он, сын несчастливого стрельца, высланного царем в сендуху и убитого там злыми шоромбойскими мужиками, владеет большим государственным секретом!
Ну, разве еще тот казачий десятник…
Впрочем, где он? Может, бежал? Может, давно погиб на дыбе? А то запороли десятника в Тайном приказе? Ведь легко сказать, что придумал — махаться в кабаке государевым портретом!.. Вздыхая, стараясь не думать о початом шкалике, упрятанном в темную пыльную бездну шкапа, осторожно касался тяжелых книг.
Вот Гюбнер.
«Земноводного круга краткое описание из старых и новых географий по вопросам и ответам».
Многое знал хитроумный немец Гюбнер, изучивший сотни научных трудов, но и у него не было ответа, где лежит путь в Апонию?… Такой ответ есть только у него, у Ивана… Про Тихое море, по латыни Маре пацификум, немец Гюбнер сказал только то, что эта великая вода лежит между Азиею и Америкою, а Азия и Америка либо смежны, либо разделены рекою пролива. Что же касаемо Апонии, то по немцу Гюбнеру выходило, что это, возможно, земля Иедзо, найденная еще в прошлом секуле, то есть в прошлом веке, некими неизвестными голландцами. Но как добраться до Апонии, и где она истинно расположена, про то немец Гюбнер не знал. Неизвестно даже, писал он, остров ли есть земля Иедзо, или соединена некоей сушей с Сибирью, например, или с Америкой? Край земли вообще недостижим, писал немец Гюбнер, ибо «…ради великой стужи не можно к сему краю никак пройти».
А вот «Книга, глаголемая Козмография».
Эту книгу Иван изучил очень внимательно.
Описывались в «Книге» многочисленные государства и страны, все известные умным людям острова, проливы, перешейки. Правда, Матмая-острова Иван и в «Книге» не нашел. Ядовитые звери, монахи морские, сирены, губители матрозов — это все было, но на остальное, на неизвестное, книга «Козмография» только намекала. Например, на то, что существуют в мире такие края, которые одному Богу доступны. «Азия от Сима, Африка от Хама, Европа от Иафета, Америка — в недавних летах изыскана» — так было начертано на маппах, вложенных в «Козмографию». Очень тянуло сказать думному дьяку Матвееву доверительно: «Вот, Кузьма Петрович, прознал я один путь. Никто пока не знает о таком пути. А случись что, будет от того пути польза великая государству и прибыль». — «Голубчик, да куда путь?» — удивится думный дьяк. «А в Апонию». Думный дьяк, наверное, рассердится, сердито затрясет седой головой: «Голубчик, пить надо меньше!»
И правильно.
Простой секретный дьяк, бедный сирота, сильно пьющий, лишь в детстве видевший по несчастию Сибирь, и вдруг на тебе — путь в Апонию! В каком сне привиделось?
Но томило сердце. Ох, томило.
Вставали перед глазами неизвестные острова — счетом ровно двадцать два. От Камчатского носу ставь русские паруса и правь на юг, как делал когда-то некой Козырь (фамилия неразборчива) — рано или поздно уткнешься носом лодки в Апонию. А в Апонии — шелка, украшенные рисунками необыкновенных растений, лаковая посуда, золото пластинами, там резная кость, там робкие воины с серебряными сабельками…
Помечтав, Иван надежно припрятывал свой чертеж. Понимал: государственный секрет… Не может такой секрет быть ничьим, кроме как государственным…
Грехи, грехи…
Бес, известно, не дремлет, он все подталкивал и подталкивал Ивана. И дотолкался. Не замечая, что делает, даже не задумываясь, Иван робко, но все-таки сунул руку в шкап, прикинул на глазок содержимое кем-то початого шкалика и, перекрестившись, сделал большой глоток.
Глотку обожгло. Сладкая истома прошла горячей волной по телу.
Усмехнулся: он ведь только один глоток и сделает, чтобы легче было думать о странном. Читал, например, в умных книгах: в морях, в тех, что лежат далеко к северу и на восток, чем дальше плывешь, тем больше удивительного. Можно даже заплыть так далеко, что летом будет вокруг один только день без ночи, а зимой наоборот — ночь без лучика света. Вот и думай, как там жить? Ежели плыть дальше, то совсем погибнешь. Там дальше воздух от мороза становится твердым, как коровье масло, хоть ножом его режь.
Задумался.
Это как же? Получается, что в году всего один день и всего одна ночь? А вечер? Как думающему человеку жить без вечера? Или утро? Как узнать, когда надо подниматься? Представил для ясности пропавшего в Сибири неукротимого маиора Саплина. Наверное, маиор идет по колено в снегу, сильно озяб, борода курчавится инеем. И диво дивное видится неукротимому маиору: ночь жгучая и темная, и никуда дальше идти нельзя, так плотен от хлада воздух. Конечно, кострами в воздухе можно выжигать коридоры, но это же сколько понадобится дров даже на то, чтобы пройти полверсты? И вообще, растут там дрова?
Думая так, порадовался тихо и умиленно: хорошо прошел глоток из найденного в шкапу шкалика.
Неторопливо вытянул из бумаг заветный чертежик, развернул на столе, умно в него уставился. Острова, островки… Иван каждый островок отдельно тушью обвел. Всего, как и положено, двадцать две штуки… А за ними — Матмай, Нифонское государство с робкими солдатиками… Может, именно на острове Матмай стоит большая гора серебра, найти которую приказано маиору Саплину. Ох, далеко получается. Не добраться до той горы… Но если уж доберется до горы маиор, вздохнул, какое выйдет облегчение государству!.. Топорами будем рубить то серебро, Усатый доволен будет. Даст маиору дышать.
Подумал озабоченно: надо, очень даже надо плыть в Апонию!
А после еще одного большого глотка совсем почувствовал себя сильным, плечи раздвинул. Ну, что с того, что он простой секретный дьяк? Многие начинали в простоте. Например, Волотька Атласов всего-то сын якутского казака, а присоединил к России Камчатку, принят был самим государем.
Зябко повел плечом.
Понимал, что он не Волотька Атласов, а всего лишь Иван Крестинин. Он даже не сын якутского казака, он сын московского стрельца, что гораздо хуже. Думный дьяк Матвеев говорит, что у Усатого отменная память. Однажды случайно глянет на Ивана и сразу поймет, кто перед ним. Это ведь твой отец-стрелец, спросит, бегал на поклон к лютой царице Софье? Это ведь твой отец хотел сжечь Москву, истребить немцев, убить истинного царя и возвести на престол царевну Софью?… Тут не до милости, тут бы голову сохранить… У царя Петра Алексеевича при одном только воспоминании о царице Софье страшно дергается щека, перекашивает шею от гнева. Оно, конечно, Иван к отцу, убитому шоромбойскими мужиками, уже давно не имеет никакого отношения, но ведь отец… А яблоко от яблони…
Вздрогнул испуганно, затрепетал, судорожно сунул секретную маппу под груду бумаг — сильно, будто ее выбили ногой, открылась входная дверь.
Услышал громкое: — …немцы, Петрович, обыкли говорить много и длинно. Нам так нельзя. Нам некогда говорить длинно. Секи, Петрович, нещадно своих толмачей. У сеченого дьяка ум тоньше. Помни, Петрович, в длинных немецких рассказах суть тонет. Заставляй толмачей придерживаться краткости.
Голос сиплый и сильный.
Мундир полковничий, преображенский, потертый.
Рост под потолок, плечи при этом узкие, а в руках мерзкая глиняная трубка — издалека пахнет табаком.
Иван сразу решил: привел, наверное, думный дьяк Матвеев одного из тех полковников, которые собирают поход в Сибирь. Раньше посылали маиоров, теперь мирные дни, можно послать полковника. Даже преображенского. Да и куда, как не в Сибирь, посылать таких долгоногих?… Успокаиваясь, незаметно усмехнулся своей мысли. Вишь, как красиво подумал: раньше маиоров посылали в Сибирь, а теперь полковников. — …не жалей толмачей, Петрович! Немцы пустыми историями любят заполнять свои книги, чтобы самая ничтожная немецкая книга казалась великой. А нам суть важна. Ничего, кроме краткого перед всякою вещью разговора, вообще переводить не надо. Всякий праздный разговор отсекай напрочь. Если какой разговор писан только ради красоты, так вообще не воспроизводи его. Пусть толмачи дают только то, что впрямую служит для вразумления и направления к делу. Я, Петрович, сам намедни выправил трактат о хлебопашестве. Возьми как пример… — Выпустив клуб вонючего дыма, грубый преображенский полковник повторил, сердито топнув при этом долгой ногой: — Так и запомни, Петрович, ничего лишнего! Не разрешаю толмачам тратить время на всякие красивые рассказы! Дело прежде всего. Запомнил?
Думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев охотно кивнул, почтительно дрейфуя за преображенским полковником вдоль канцелярии. Как палубный корабль за многопалубным, опять красиво подумал Крестинин. Одергивал почтительно зеленый венгерский кафтан, весь колебался от усердия, как жирное морское создание медуза, изображенное на кунштах к известной книжке Олауса Магнуса.
А вот полковник держался как дома.
Оно, конечно, преображенский мундир. Темно-зеленый, украшенный медными пуговицами и красными отворотами. Уверенно держался в канцелярии полковник, трогал руками все, что хотел потрогать. Сразу видно, что указ о всяких секретах писался не для таких, как он. Глаза пронзительные, круглые, полные ночи, лицо одутловато, но обветренно, и усы встопорщены, как ночные кусты. Ни о чем полковник слова не произнес спокойно — то ли злился на кого, то ли от природы не был наделен миролюбием.
Вдруг увидел Ивана.
Глаза черные, страшные, вонзились, будто таракан перед ним. Зато губы, удивился Иван, совсем как у сенной девки Нюшки — по-женски тонкие.
— Кто таков?
— Секретный дьяк Иван Крестинин, — охотно пояснил думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев, незаметно подмаргивая Ивану из-за высокого, но узкого полковничьего плеча. — Зело усердный и аккуратный дьяк. Очень способен к совершенству. Новым ученым вещам как бы даже не учится, а как бы просто их вспоминает. Многих уже превзошел в учении. Если в чем ему еще не хватает совершенства, так я не сержусь. Учится. — И опять странно и непонятно подморгнул Ивану. Видно было, что побаивается полковника.
А почему нет? — подумал Иван. Вполне могло быть, что полковник посылан к Матвееву в Сибирский приказ самим Усатым.
Полковник тем временем, досадливо оглядев Ивана, потянул на себя первую из лежащих на столе бумаг.
Зачел вслух:
— «Ослов и мулов — ноль. Верблюдов и быков — ноль. Католиков — ноль. Протестантов — ноль. Посеяно ржи — ноль. Собрано ржи — ноль. Посеяно овса — ноль. Собрано овса — ноль. Кожевенных заводов — ноль. Салотопенных заводов — ноль. Медных рудников — ноль. Поденная плата мужская — ноль. Поденная плата женская — ноль. Итого всего — ноль».
Ничего не поняв, выдернул другую бумагу:
— «Матвей Репа — пятидесяти лет от роду. Сиверов Лука — тридцати семи лет от роду. Серебряников Иван — сорока семи лет от роду. Сорокина Лушка — тридцати трех лет от роду. Рыжов Степка — семнадцати лет от роду. Шуршунов Петр — сорока семи лет от роду. Селиверстов Иван — тридцати лет от роду. Богомолов Иван — двадцати трех лет от роду…»
Полковник изумленно задрал брови:
— «Итого, всей деревне — две тысячи тридцать лет от роду».
— Это как? — полковник побагровел и страшно выпучил черные, сразу обезумевшие глаза. — Что сие значит, Матвеев? От чего это?
— От дикости, — охотно пожаловался Матвеев. — От беспрестанной дикости и скуки. Сидит некий дьяк-фантаст в далеком Якуцке, ведет книги анбарные да статистику, и скучает. Ну, похоже, совсем задичал статистик. Такому все по уму.
— Стар?
— Да ну. Под тридцать, — сразу ответил Матвеев. — А именем Тюнька. В дурном ни разу не замечен, только фантаст. Сам, просматривая Тюнькины отписки, сильно дивлюсь. Он как бы, правда, фантаст. Он как бы даже монстр некий. В Якуцке все знают дьяка-фантаста Тюньку.
— Монстр?
Преображенский полковник моргнул и вдруг захохотал — густо и неожиданно. Правда, острые усы дергались без всякого добродушия. Сощуренными глазами, взгляд которых так и ввертывался в замирающее сердце Ивана, уставился на него. Будто враз забыл дьяка-фантаста. Теперь, как на монстра, поглядывал на Ивана, пытаясь взглядом пронзить его. Так поглядывая, пронзая, вытянул из-под груды бумаг торчащий уголком тайный чертежик. Иван сразу заледенел. А думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев, не зная, что там снова уцепили цепкие руки преображенского полковника — вдруг очередное сочинение все того же монстра якуцкого дьяка-фантаста Тюньки? — быстро заговорил, пытаясь заглянуть в чертежик через высокое, но узкое плечо полковника:
— У нас работа над маппами… У нас всякий чертежик в дело… Тайные отписки с мест, скаски… Ходил какой казак в новый лес, видел какие новые речки — все к нам, с каждого ходка отбираем скаску… — Даже потянулся, чтобы самому перехватить незнакомый чертеж, но полковник просипел, оттолкнув его руку:
— Помолчи, Петрович. Бедный времени не терпит. Если захочу что узнать, сам спрошу.
А сам прокуренным до желтизны пальцем уже стремительно путешествовал по чертежику Ивана через башкиров к калмыкам, от калмыков к самоедам — минуя волости Кипчанскую, Капканинскую, Бардаковскую, Байгульскую и все прочие на маппе отмеченные дистрикты. Задержался секундно на Камне, но дальше, дальше, дальше пошел, попав сразу за туманный Урал. Спешил, досадливо ведя прокуренным пальцем по Сибири, распугал, наверное, местных птиц. Густо несло от полковника голландским табаком, водошным перегаром, крепким мужским потом, и еще чем-то, чего заледеневший от ужаса Иван никак не мог определить. Одна только мысль и билась в голове Ивана — вот как бы сейчас для смелости приложиться к шкалику!..
Потом подумал: чего боюсь?
Что, собственно, может понимать в маппах какой-то полковник, пусть даже преображенский? Полковник обязан быть способным к военному делу, а мои маппы ему, наверное, непонятны. Если сейчас полковник спросит о чем-то его, он, конечно, ответит. От внезапного ощущения своей безопасности Иван даже чуть раздражился: вишь, как быстро ведет по маппе пальцем полковник, будто впрямь можно всю страну пробежать за одну минуту!
А ведь это еще не вся страна, подумал снисходительно.
Если брать всю страну Россию, она лежит до самого океана.
Не каждому полковнику, даже преображенскому, дано такое постигнуть.
И опять подумал снисходительно: если прокуренный палец полковника и доберется до обозначенных им таинственных островов, глупый полковник не обратит на них никакого внимания. Откуда ему знать о землях, лежащих далеко — там, куда не ходил ни один полковник?
Даже обидно стало.
Вот почему так?
Вот почему он, простой секретный дьяк, знает далекий путь в богатую серебром и деревянной лаковой посудой Апонию, а высокий преображенский полковник, явно приближенный к царю, ничего такого не знает? И думный дьяк Сибирского приказа дядя родной Кузьма Петрович Матвеев тоже ничего такого не знает. И тот, и другой ходят рядом с царем, скачут на ассамблеях козлами, водошным перегаром от них несет, а спроси Усатый: как, мол, козлы, побыстрее попасть в Апонию? — никто из них, небось, не ответит, ни преображенский полковник, ни думный дьяк.
Прокуренный палец вдруг наткнулся на цепочку островов. Полковник сразу вскинул голову:
— Евреинов да Лужин подали весточку?
— Недавно докладывали, — кивнул, обрадовавшись, Матвеев. — К ним сейчас Выродов, мореход, присоединился.
— Вышли в море?
— Должны были.
— Без уверенности говоришь, — недовольно покосился на Матвеева полковник.
— Вышли, — уже увереннее кивнул думный дьяк.
Почему-то сообщение Матвеева расстроило полковника.
— Мне бы хорошего штурмана, Петрович, ну, хотя бы подштурмана, но настоящего, — пожаловался он. — Кого-нибудь из тех, кто самолично ходил в Америку, кто видел американские берега. Смотрел вчера карту Гомана, Петрович, так на ней пролив Аниан указан у самых камчатских берегов. Верно ли это?… — Задумался, вперив взор в маппу, забормотал угрожающе: — Земля Эзонис… Земля Жуана де Гамы… Терра бореалис… — И вдруг замер. Потом ткнул прокуренным пальцем в острова, обозначенные Иваном на маппе: — Что такое? — Даже трубку изо рта вынул.
Думный дьяк Матвеев опасливо наклонился к бумаге, но Иван дерзко успел ответить:
— Новые острова.
Произведенный недавно большой глоток из найденного в темном шкапу шкалика сильно помог Ивану. Не произведи он того глотка, заробел бы отвечать строгому полковнику. А тут ответил:
— Новые острова. — И левой покалеченной рукой потянулся к карте.
Полковник недовольно дернул усами:
— Где палец потерял, дьяк?
Иван сам удивился дерзости ответа:
— В Сибири.
— Ну? — отрывисто удивился полковник. Подумал про себя, наверное: вот опытный дьяк. Но спросил нетерпеливо: — Почему новые острова? Ворочай, дьяк, языком!
А не все знать полковникам, хоть и преображенским, уверенно хмыкнул про себя Иван. Сильно поддержал его тот глоток из шкалика. Да и откуда знать какому-то полковнику про острова? Для такого полковника все острова — новые. Даже пожалел, что нельзя для пущей уверенности сделать еще глоток.
— Новые острова, — объяснил. — Густо заселены, но нами еще не объясачены. На том несем большие убытки, — солидно объяснил. — А лежат новые острова за камчатской Лопаткой. Коль плыть на юг от острова к острову, непременно приплывешь к Матмаю. — И добавил значительно, смеясь про себя над смятением думного дьяка Матвеева и над диковатым удивлением грубого преображенского полковника: — То есть путь в Апонию.
— Врешь, дьяк! Откуда тебе знать такое?
Матвеев испуганно вжал голову в плечи, будто это полковник на него накричал, но Иван нисколько не испугался. Хлебное винцо, оно и маленького человечка бодрит. Он, Иван, успел до прихода думного дьяка и преображенского полковника хорошо хлебнуть из найденного в шкапу шкалика и теперь чувствовал себя смело. Потому и повторил важно:
— То есть путь в Апонию.
Полковник быстро и грозно глянул на Матвеева.
Думный дьяк, как корабль под шквальным порывом, даже подался к шкапу, будто шкап мог его защитить. На Ивана, на родного племянника, думный дьяк больше не смотрел. Зачем ему смотреть на сумасшедшего? Понятно, что государству не может быть иначе, как только к вящей пользе и славе, ежели будут в нем люди, точно знающие течение тел небесных и времени, знающие мореплавание и географию всего света, и тем более путь в Апонию, но…
Но Иван-то!
Но племянник родной!
Подвел, подлец, любимый племянник!
Думный дьяк незаметно потянул носом. Неужто пьян Ванюша, голубчик, сыть мерзкая? Но попробуй уловить в густом перегаре, как облако окружившем высокого преображенского полковника, кто тут пил, а кто совсем трезв? Вроде везде пахнет горьким винцом, подумал тоскливо. Не повезло милой сестре, соломенной вдове Саплиной. Сперва неукротимый маиор сгинул в сендухе, наверное, не дошел до горы серебра, теперь дурака сироту Ванюшу прикажут бить плетями до умопомрачения…
Но заслужил!
Но заслужил, подлец, изобразил что-то на маппе!
И это правда. Думный дьяк Матвеев боялся не напрасно.
Совсем недавно государь Петр Алексеевич в своем кабинете в присутствии генерал-адмирала Апраксина Федора Матвеевича сказал следующее. «Худое здоровье нынче часто заставляет меня сидеть дома. Зато думаю много. Вот вспомнил о деле, которым всегда мечтал заняться: об отыскании пути, который через Ледовитый океан может нас соединить с Китаем и Индией. Известно, что на некоторых маппах обозначен пролив, называемый Анианом. Так думаю, что обозначен он там не напрасно. Должен быть такой пролив. Нужно проверить только. Так что, оградя славное отечество безопасностью от неприятеля, надлежит теперь находить славу государству через различные мирные искусства и науки. Может, в отыскании новых путей окажемся мы гораздо счастливее голландцев и англичан, которые многократно покушались обыскивать те же американские берега?»
И раздраженно повел глазами.
Генерал-адмирал Федор Матвеевич согласно и успокаивающе пожевал сухими губами. А чего ж? — означало это. С востока много доходит слухов. И с северо-востока много доходит слухов. О диковинных зверях, о целых горах серебра, даже об очень горючем камне, коим впору заменить дрова. Государь на это кивнул, но и фыркнул раздраженно — вот как пространна Россия! Нелегко владеть страной, во многих уголках которой никогда не бывал и никогда уже не побываешь.
Вот почему сейчас думный дьяк Матвеев в испуге отшатнулся.
— Врешь! — преображенский полковник на глазах думного дьяка ухватил сироту Ивана за кафтан и сильно притянул на себя. В лицо Ивана пыхнуло табаком и водошным перегаром. Из-за высокого, но узкого полковничьего плеча страшно и непонятно подмаргивал непонятливому племяннику думный дьяк. То ли давал знак — дурак, мол, кайся! — то ли приказывал не сдаваться, стоять на своем.
Иван выбрал второе.
Не пытаясь вырваться из крепких рук, только скашивая глаза на чертеж, объяснил смиренно:
— Вот, путем горького опыта составил новую маппу. Путь опыта горек, но правилен. Знаю точно, что лежат за камчатским носом Лопатка новые острова, а за ними страна Апония.
— Так близко? — не поверил полковник.
— Так близко, — подтвердил Иван, осторожно высвобождаясь из вдруг ослабевших полковничьих рук.
— А путь? — одними узкими губами спросил полковник. — Какой срок тебе надобен, глупый дьяк, чтобы добраться от Парадиза до берегов острова, который ты называешь Матмай?
— Ну, тысяча верст до Тобольска, может, немного больше… — послушно посчитал Иван. — А от Тобольска сибирскими реками до Якуцкого городка… Оттуда по рекам Лене, Алдану, Мае, Юдоме… В Охотске бусы поставим и двинем морем вдоль новых островов… А можно поставить бусы на самом юге Камчатки, — сказал рассудительно, — там лес богатый, получится быстрее. На Камчатке строить суда можно прямо на берегу. Смотришь, через год, через два… Ну, может, через три…
Сказал честно:
— Не знаю.
Полковник аж застонал:
— Три года, глупый дьяк! Да как буду знать о развитии предприятия? Как будут доходить вести? — И крикнул нетерпеливо: — Петрович! Водки!
Думный дьяк Матвеев побледнел. Весь заколыхался, как морское животное, не решаясь броситься к дверям, боясь оставить строгого полковника наедине с несчастным Ванюшей, явно сошедшим с ума.
— Не побрезгуйте… — пожалел родного дядю, смиренно произнес Иван и нетвердо, но решительно приоткрыл книжный шкап. — У нас на случай скорой болезни… Оно ведь известно как… Шкалик…
— Пьешь? — от страшного удивления круглые глаза полковника еще более округлились, правая щека дернулась.
— Не пью, только употребляю, — смиренно оправдался Иван и уважительно отступил на шаг от стола, на который выставил початый шкалик. Никак не мог понять, почему думный дьяк Матвеев так боится полковника? Дюж, конечно, так ведь и шкалик дюж.
Крепко приложившись к початому шкалику, полковник хорошо сплюнул, занюхал выпитое потертым рукавом, и протянул оставшееся Ивану:
— Допей. Разрешаю.
— Да мы ж…
— Допей!
— Да мы ж… — смиренно покачал головой Иван и на глазах умирающего от ужаса думного дьяка Матвеева под дьявольскую одобрительную усмешку странного полковника решительно опорожнил посудинку. — Мы ж знаем меру…
От выпитого сразу стало хорошо.
— Ну? — быстро сказал полковник. — Говори, дьяк. Дойдешь до Апонии? Много в Апонии военных людей?
— Может и много, только в большинстве они робки, стеснительны, стараются мир чинить и военного артикулу совсем не знают. — Откуда у Ивана и слова находились? Уверенно говорил. — Апонцы все больше выращивают сорочинское зерно, им и питаются, а от того малы ростом. Головы и бороды у мущин бриты, оставляют только длинные волосы над затылком и на висках. Эти волосы собирают вместе и на самой маковке, перевязав крепко тонким белым шнурком, загибают на перед пучком вершка в полтора. Так и ходят.
И для себя неожиданно добавил:
— И водка у них из риса.
— Из риса? — преображенский полковник поморгал изумленно. — А пушки? А флот? Коль по соседству с нами живут, почему ничего не знаю? Почему не слышал о чужих парусах?
— Не стремятся, — с особым значением объяснил Иван. — Все у них есть — и флот, и пушки, однако не стремятся. К себе иноземцев не приглашают, и сами никуда в гости не ходят. Думаю так, — твердо сказал он полковнику, явно пораженному выложенными перед ним сведениями. — Думаю так, что следует вывести к Матмаю-острову пять или шесть судов и дать сразу залп всеми бортами. Они, апонцы, и возражать не станут, сразу ясак понесут.
— Ну? — нетерпеливо требовал полковник. — Сразу ясак принесут? Говори, дьяк! Что есть у апонцев?
— Золото, серебро, ткани шелковые, посуда лаковая, железо…
— Ну, золото! Ну, серебро! — дернул щекой полковник. — А как потом такой груз доставить в Россию?
— А что ж, Сибирь не Россия? — дерзко спросил Иван. — В Сибирь доставить, станет богаче одна часть страны. А будет богаче одна часть страны, вся страна станет богаче.
Полковник ошеломленно посмотрел на Ивана. Потом ощетинившиеся усы дернулись:
— Дай поцелую тебя, дьяк!
И, правда, наклонился, придавил к жесткой груди, сильно сжал, уколол встопорщенными усами, обдал запахом крепкого табака и тяжкого водошного перегара. Потом круто повернулся, на ходу бросив Матвееву:
— Сними, Матвеев, допрос, отбери с дьяка скаску. Так думаю, большого ума человек твой дьяк.
В дверях обернулся еще раз:
— А монстра статистика, который скучает в Якуцке, повесить. Повесить того дьяка-фантаста, чтобы впредь дело знал! — Дернул плечом, усы шевельнулись. Добавил, леденящими глазами не мигая глядя на Ивана, с угрозой, ничем не скрываемой: — Видел, как воров вешают, дьяк? Коль окажешься заворуем, повешу на самом видном месте. Чтобы и ты, Петрович, видел вора в окне.
И вышел так, что дверь за ним хлопнула.
Сразу раздались во дворе голоса:
— Карету государю!
Глава VI. Предчувствие беды
— Государь! — ослабев, ахнул Иван.
А думный дьяк мешком осел на скамью и затрясся, как морское животное, случайно волной выброшенное на берег:
— Совсем погубил, подлец!
И пожаловался, как в полусне:
— Сколько корил, сколько указывал, толку нет. Кого ни учи доброму, каждый живет собственным дурным пониманием, умных слов не слышит. Ною потоп за сто лет предвестили, а и он, старый дурень, не сильно торопился. Каждому подьячему в канцелярии, каждому писцу волосы по пять раз в день обрывал, просил жить как можно внимательнее, а они, малоумные, водку держат в шкапу.
— Пользы общей для, — слабо возразил Иван.
Думный дьяк пожаловался еще горше:
— Теперь тебя, упырь, и выпороть невозможно. Вдруг государю Петру Алексеичу блажь придет в голову вновь потолковать с тобой о твоих фантазиях? Не могу ж тащить драного к государю.
Задумался:
— Может, выдать за шутку? Строг государь, но шутку любит. Однажды, было, самолично сочинил на холсте большую маппу Азиатской России. Все на маппе было как всамаделишное, только написано понарошку — наверху море Индейское и Песчаное, внизу Север и Ледовитое море, и Акиан, а к западу Камчатка и царство Гилянское на берегу Амура с надписью для куриозете: «До сего места Александр Македонский доходил, ружье спрятал, колокол оставил». Так ведь и ту шуточную маппу государь использовал для дела, принимал по ней ученый экзамен, и сердился незнайкам и нерадивым.
Освирепел:
— Глупость не учит. Был такой господин Соколов. В Тобольске в бытность несчастного губернатора Матвея Петровича Гагарина в буйном пьянстве похвалялся у светлейшего, что свободно может с Ламы на Камчатку судном пройти. Князь Матвей Петрович на другое утро вызвал того господина и строго спросил — помнит ли тот, что правда может пройти с Ламы на Камчатку? Господин Соколов, испугавшись платить большой штраф за пустую похвальбу, неохотно объявил, что, правда, может. Тогда покойный князь Матвей Петрович дал ему известных в Тобольске плотников и мореходов, а тот господин Соколов сделал на Ламе русскую лодью, вышел на море и такой счастливый путь имел, что в третий день прибежал на Конпакову реку. Вот повезло, хранил его господь… А ты?… Помнишь ли, что сказал апостол Павел? «Не упивайтеся вином, несть в нем спасения. Хмель душу пьяного смрадной делает, ум — мерзким и непотребным». — Думный дьяк страшно ткнул толстым пальцем в Ивана и заскучал, прикидывая вслух: — А вот утопить в Неве… Прямо в полынью с головой… Рогожный мешок сверху… Мало ль, скажут, пил глупый дьяк. Совсем небольшого ума был. И ходил по тонкому льду. А матушке Неве все равно.
— О ком это вы, Кузьма Петрович? — встревожился Иван.
— О тебе, Ванюша, голубчик. О тебе, сирота.
— Да что ж я за птица такая?
— Да птица ты небольшая, это точно, — согласился думный дьяк. — Но потому-то и должен хорошо помнить, какая необычная на плясовой площади перед домиком коменданта стоит деревянная лошадь с острою спиною, а рядом столб вкопан с цепью и весь утыкан спицами… — С угрозой посмотрел в глаза: — Знаешь, зачем все это?…
— Да Бог с вами, Кузьма Петрович. Христианская чай душа!
— А ты меня пожалел?
Растерянно помолчали.
Думный дьяк Матвеев, наклонив тяжелую голову на круглое плечо, внимательно и со страхом разглядывал Ивана.
— И высечь нельзя… — горько вслух рассуждал он. — И оставить с миром нельзя… Ты мне, Ванюша, теперь, как кость в горле… А ведь я не до малого дошел… Всем Матвеевым да Крестининым в миру нелегко пришлось, мир праху отца твоего, а я все равно дошел не до малого… С Остерманом Андреем Ивановичем на вольной ноге… А теперь? Спросят — чей это пьющий дьяк, откуда пошел такой? Так и ответят — отпрыск стрелецкий…
Побледнел.
Наверное, представил виселицу. Ту самую, на которой еще недавно висело перед окнами Юстиц-коллегии истлелое тело Матвея Петровича Гагарина — воеводы сибирского. Не сумел жадный воевода заглотать того, что откусилось. А теперь перед окнами Юстиц-коллегии его, думного дьяка Кузьму Петровича Матвеева, распнут.
Покачал седой головой.
— Ну, — сказал вслух. — Не молчи теперь. Слышал, сказано отобрать с тебя скаску? Теперь говори всю правду, что за новые острова? Кто придумал? Откуда такая маппа?
Добавил:
— Пока все не скажешь, ничего не прощу.
Устроился на скамье уютно, надежно, будто вовсе и не сердился, даже дверь на крюк запер; видно было — готов слушать Ивана хоть до утра, а Иван как стоял, так и продолжал стоять.
Ведь как сядешь?
Разве апостол Павел не говорил: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать»? Не окажись шкалик в шкапу, может, он, Иван, и промолчал бы, но шкалик оказался в шкапу, и он, Иван, действительно невесть что наплел государю, не признал в преображенском грубом полковнике своего государя.
Это бес шутит, подумал беспомощно. Это неудача такая в судьбе.
Но вслух, сам тому дивясь, искренне стоял на своем, преданно смотрел в не верящие глаза думного дьяка — да знаю я, знаю путь в Апонию! Упрямство такое напало на Крестинина, что язык как бы сам по себе жил, мотался сам по себе. Ему, такому языку, только под нож, ничего иного не остается, а он дразнился, он дразнил думного дьяка, стоял на своем в дьявольском упрямстве — вот, дескать, знаю путь в Апонию!
— Молчи! — наконец, прошипел думный дьяк. — Много слов — мало правды. Где сыскал маппу? Откуда взялась маппа?
— Казак привез с Сибири.
— С Сибири?…
Иван, дивясь злым усталым глазам Матвеева, повторил:
— Точно так.
— Ну, и где тот казак? — голос думного дьяка был ядовит и холоден, как жало змеи. — Он что, прискакал в Санкт-Петербурх прямо из Апонии?
Иван задумался:
— Может, и из Апонии…
И объяснил зачем-то:
— Сперва морем, потом посуху…
— Ты водки выпьешь, тоже идешь по лужам, ако посуху. Только бываешь мокрый. — Было видно, что терпения думного дьяка надолго не хватит. Стукнул пухлым кулаком по столу: — Сам придумал глупую маппу? Признайся! Сам выдумал острова?
— Да не так! — Иван перекрестился. — Видел истинный чертеж. В руках держал.
— А где он?
— Сжег, — зачем-то соврал Иван.
— Ну, сжег? — Матвеев нисколько не удивился, только презрительно повел мясистым носом. — Не противное ль дело, сжигать такие бумаги?
— Противное, — стоял на своем Иван. — Но сжег. Потому, как боялся. Долго терпел, держал при себе бумаги, даже выучил на память, а потом сжег. Подумал, что я интереснее перенесу новые острова на маппу, лучший учиню чертежик.
— Ладно, — Матвеев плотно утвердился на скамье. — Рассказывай.
И Иван рассказал.
Все рассказал.
Как его ломает ночами тоска, рассказал. И как он ничего не может поделать с тоской. И о черных сибирских снах рассказал, и о странном пророчестве старика-шептуна. И о книгах и маппах, которым отдал почти всю жизнь, а они подводят его своей неточностью. И рассказал, как он честен, как работает, как учиняет новые маппы, ничего не прибавляя от себя, а беря только от чьих-то знаний. Он ведь своею злосчастной маппой не козырял, он прятал свою злосчастную маппу, совсем не хотел, чтобы, попав на глаза, его маппа смутила бы кого-нибудь, тем более, государя.
Покаялся, это бес попутал. Дескать, вся его, Ивана, несчастливая жизнь — сплошной спор с бесом, непрерывная борьба с бесами. То указанные бесы тянут его в кружало, как на веревке, то заставляют на смех добрым людям пить винцо да куражиться, а то подкинут шкалик, не куда-нибудь, а прямо в рабочий шкап. Лезешь за бумагами, в мыслях никакого дурна нет, а вместо бумаг угадываешь под рукой шкалик. Ну, разве не бесовские штучки? Хорошо хоть, пошло на пользу — угодили государю. И даже рассказал, что с некоторых пор он, простой секретный дьяк Иван Крестинин, чувствует в себе некую тайну.
Печальная в нем есть тайна, сказал.
— А вот выбьют из тебя тайну палеными веничками, — угрюмо пообещал думный дьяк.
— Выбьют, — удрученно согласился Иван.
И прямо рассказал, как в октябре сидел в кабаке на Троицкой, и случайно услышал, как рядом два казака говорят о Сибири. Сразу вспомнил про неукротимого маиора Саплина. Говорил там все больше казачий десятник, ему, Ивану, запомнилось одно странное слово — пагаяро, он, Иван, даже не знает, что может означать такое слово. И еще о всяком другом говорил десятник. О море, например, большом.
— Погоди, — жадно насторожился Матвеев. — Какое, говоришь, слово произносил десятник?
— Пагаяро.
— Прямо вот так произносил?
— Истинный крест!
— Ну? — теперь думный дьяк слушал жадно, даже посунулся со скамьи в сторону Ивана.
Так вот и получилось, объяснил Иван, совсем огорчившись. Кто ж с первого взгляда разберет, что за люди сидят в кружале? Одно было видно сразу, что те казаки издалека. Ну, он и вспомнил о маиоре. Решил спросить, может, встречали где казаки неукротимого маиора Саплина? Я тихо обратился, с полным уважением, на всякий случай приврал Иван. А десятник и другой казак обиделись. Там в кружале оказался вор, ярыга, он срезал пуговички с десятничьего кафтана. А десятник ухо срезал с ярыги. Прямо вот так отхватил ухо ножом. Больше того, десятник так рассердился, что пошел махаться портретом государя. Вот он, Иван, и боится говорить о случившемся. А на казака крикнули государево слово.
— А ты как выпутался?
— Я плохо помню. Хозяин вступился, — совсем застыдился Иван. — Хозяин выставил меня из кружала, и бросил за мной мешок. — О подводе, на которой его, мертвецки пьяного, привезли ко вдове, и о военных песнях, которые он пел, лежа на телеге, Иван умолчал. — Так чужой мешок и остался при мне. И ничего не было в том мешке, кроме челобитной да чертежика.
— Где мешок?
— Спрятал, — признался Иван. — Шибко боялся, потому и спрятал.
— Говори, что было в мешке?
— Так я уже сказал. Челобитная да чертежик. Ни денег, ни барахла.
— Молчи, дурак! — противоречиво приказал думный дьяк. — Как выглядел казачий десятник? Была при нем сабелька?
— Не было сабельки при десятнике, — припомнил Иван. — Его бы с сабелькой не пустили в кружало. А в самом мешке тоже не было ничего. Только челобитная да чертежик.
— Слова челобитной помнишь? — тихо спросил Матвеев.
— Выучил наизусть! — обрадовался Иван. — «Следовал к островам мелкими судами, без мореходов, компасов, снастей и якорей… На ближних островах живут самовластные иноземцы, которые уговорам нашим не поверив, сразу вступили в спор… Милостью Господа Бога и счастьем Его Императорского Величества тех немирных иноземцев мы погромили, взяв за обиды платья шелковые, и дабинные, и кропивные, и всякое золото…»
— И золото?
— Ну да, и золото. Я ж говорю, — совсем обрадовался Иван. — «И полонили одного иноземца по имени Иттаная с далекого острова Итурты…»
— Итурта? Не слыхал о таком острове.
— Да и я раньше не слыхал, — простодушно ответил Иван.
И вспомнил дальше, наморщив лоб, положив для верности ладонь на щеку:
— «А какой через вышеозначенные острова путь лежит к городу Матмаю на Нифонской земле, и в какое время надо идти морем и на каких судах, и с какими запасами и оружием, и сколько для того понадобится воинских людей, о том готов самолично объявить в Якуцкой канцелярии или в Санкт-Петербурхе судьям Коллегии…»
Думный дьяк даже застонал, приложив ладони к вискам.
— «В прошлом 720 году, — наизусть продолжал Иван, — вышел из Камчатки в Якуцк, откуда сильно хотел проследовать в сибирский город Тобольск для благословения Преосвященным Архиереем построения на Камчатке новой пустыни…»
— Хватит, — прервал Матвеев. — Изложишь на бумаге. Все подробно изложишь до последней буквицы. — И жадно спросил: — Кто подписал челобитную?
— Не разобрал, — повинился Иван. — Богом клянусь, не разобрал. Имя совсем как у меня — Иван, а фамилия длинная, написана хитро, всякими завитушками. Вроде — Козырь… Но это не вся фамилия, это только ее начало…
— Козырь?!
Иван удивился волнению думного дьяка:
— Истинно так. Неужто знаком вам такой человек?
Думный дьяк покачал головой:
— Я, может, уже десяток лет охочусь на того Козыря…
— Да зачем?
— Может, и скажу… — неопределенно и странно, с некоторой даже угрозой в голосе пообещал Матвеев. — Может, и скажу. Теперь от тебя зависит… Если солгал, Иван, завидовать тебе не будет никто… Пойман ты Богом и царем Петром Алексичем, а еще собственной глупостью… И если солгал, если придумал хоть одно слово, если сам наобум изобрел чертежик, и ничем не подтвердишь свои слова, совсем плохо придется тебе…
— Да ни слова не придумал, — совсем уже робко ответил Иван. — Память у меня такая, что я все помню. Тот козак, он сам проведывал Апонское государство. Писал в своих бумагах, что лежит оно на морской губе, званием — Нифонское. И люди там зовутся — государственные городовые нифонцы. И царя у них не полагается видеть. И имена царей в той стране нечеловеческие. Коль назначен там выезд царя, все встречные падают наземь и не смеют смотреть на своего царя.
— Неужто добрался?… — негромко, как бы сам себя спросил Матвеев. — Неужто обошел всех?… — И задохнулся, ударив кулаком по скамье: — Было там имя?
— Так я ж говорю, что было… Совсем явственное — Иван… А дальше длинно, кудряво…
— При зоркости-то твоей, Иван, при постыдном твоем любопытстве, неужто полностью не разобрал имя?
— Не смог разобрать… Только самое начало — Козырь…
— А если под пыткой? Вспомнишь? — сказал, будто холоду напустил в комнату.
— Да как, дядя? — вскрикнул Иван. — Почему ж под пыткой? Я все рассказал! — И испугался, вспомнив казачьего десятника: — Это что же за опасный такой человек? Почему страшен?
— Да потому, что этого человека давно ждут плаха и виселица, — медленно произнес Матвеев. — Мне этот человек Волотьку должен.
И добавил глухо:
— Атласова.
Часть II. Путешествие из Санкт-Петербурга в Якутск
Что ветры мне и сине море?
Что гром и шторм и океан?
Где ужасы и где здесь горе,
Когда в руках с вином стакан?
Спасет ли нас компас, руль, снасти?
Нет! сила в том, чтоб дух пылал.
Я пью! и не боюсь напасти,
Приди хотя девятый вал!
Приди, и волн зияй утроба!
Мне лучше пьяным утонуть,
Чем трезвым доживать до гроба
И с плачем плыть в столь дальный путь.
Г. Державин
Глава I. Дар безмолвия
— Гони!
Пока крепкое винцо плескалось в плоской дорожной баклаге, пока крепкое ржаное винцо обдавало желудок жаром и радужно махом согревало кровь, даже само постоянное и постепенное отдаление от Москвы радовало душу. А о Санкт-Петербурхе и вспоминать не хотелось. Дальше!.. Как можно дальше!.. Хотелось как можно дальше умчаться от низкого плоского Санкт-Петербурха, от страшного, серого! Схватывало льдом сердце при одной мысли о том, что кто-то мог потребовать возвращения в Парадиз, что кто-то мог вернуть в серый нечеловеческий город…
Ни за что!
Подальше от Парадиза! Подальше от мрачных подвалов, в которых томятся сотни всяких людей — от самых безвинных до страшных воров! Замирая от ужаса, впадая в отчаяние и в ничтожество, самого себя не умея понять, Иван совал потную руку под полость, которой кутал зябнущие ноги, вынимал деревянную дорожную баклагу и, пугливо отворачиваясь от господина Чепесюка, но при этом как бы нисколько его не боясь, всем видом показывая, что совсем не боится названного господина, делал большой глоток.
Скушные заставы, проломленные мосты, редкие колодцы, иногда с высокими деревянными журавлями, полосатые пыльные шлагбаумы, непролазная грязь, всякие броды, займища, деревушки, заброшенные погосты, и вдруг — какое крупное село. А потом опять — лес, грязные проселки, дикие гати, расчистки. Сам черт не разберет пути, однако, ямщики разбирали.
Некоторые области Иван проехал зажмурившись, как во сне.
Да и чего жалеть? Как ни вспоминай, как ни жди чудесного и возвышенного, появляющееся впереди все время напоминало оставленное за спиной: скушные заставы, проломленные плохие мосты, колодцы, иногда с деревянными журавлями, полосатые шлагбаумы, непролазная грязь, всякие броды, займища, деревушки, заброшенные погосты, и вдруг — какое крупное село. А потом опять — лес, проселки, расчистки, гати. И ямщики везде похожи — носят на простых нитяных поясах мошну с кресалом да нож, и одинаково взвизгивают, вдруг вырывая из-за пояса короткий кнут. Так же одинаково, услышав визг, вздрагивают и ускоряют бег лошади. Только господин Чепесюк всегда сидел молча, как чугунная статуя. …За Могилою Рябою… Над рекою Прутовою… Было, было во-о-ойско в страшном бою…
Входя на очередном яме к смотрителю, господин Чепесюк молча бросал бумаги на стол, и отворачивался. И никогда ни разу не случилось так, чтобы господину Чепесюку отказали в лошадях. Правда, три казака предусмотрительно скакали впереди, вырвавшись на сутки вперед, и заранее оповещали смотрителей о скором появлении господина Чепесюка. Из тех трех скакавших впереди казаков Иван позже двоих увидел в Якуцке, а третий, говорили, разбился в дороге, умер где-то под Илимском. Иван даже не знал их имен. В голову не приходило спросить имена скачущих впереди казаков. Зачем? Он, Иван, одного хотел: как можно дальше отдалиться от страшного Санкт-Петербурха. Глотнув ржаного винца, печально затягивал военную песню, потом не выдерживал, прерывал песню и поворачивал голову. Прикрыв грешный рот ладошкой, соразмеряясь с тряской возка, спрашивал растерянно:
— Как же так, господин Чепесюк?…
И все.
На большее смелости не хватало.
Впрочем, господин Чепесюк все равно не откликался, сидел неподвижно, будто чугунная статуя, на которую накинули черный дорожный плащ. Такую же черную дорожную шляпу господин Чепесюк низко опускал на лоб, пряча под шляпой страшное изрубленное сабелькой лицо, не отвечал страждущему Ивану даже пожатием плеча.
Тогда Иван оборачивался к ямщику:
— Когда ж станция? Почему, ямщик, нет никакой станции?
— Верст через десять непременно будет, — охотно откликался очередной ямщик. — Вишь, сколько проехали, теперь осталось меньше. Они, ямы-то, так и идут друг от друга — не тридцать, так пятьдесят верст. Чтобы, значит, лошадь чувствовала себя в работе. А здесь, — тыкал кнутовищем в какую-нибудь особенно дикую избу, не к месту торчащую на обочине или совсем в стороне от дороги, — живут зимовщики. Провиант запасают, фураж для лошадок. Ба-а-альшие у нас дороги. Ка-а-аждая далека.
— Далека? Каждая? Почему так говоришь? — пугался Иван.
— Да это песня, — пояснял ямщик: — Так в песне поется.
— Так и сказал бы.
— Если поешь, как скажешь? — совсем запутывал Ивана.
Но, собравшись с мыслями, Иван вновь лез с вопросами к ямщику. Все казалось, что вот-вот услышит какую-то правду.
Но ямщик правды не говорил.
Зато серый Санкт-Петербурх, его плоские прешпекты и линии, тесная канцелярия, деревянный шкап с книгами и маппами, и даже дружные кабаки на сумеречных сырых площадях — все это осталось далеко позади. …В день недельный ополудны… Стался нам час ве-е-елми трудный… При-и-йшел ту-у-урчин многолюдный…
Сделав очередной глоток, пропев несколько строк военной песни, Иван впадал в тоску, снова приставал:
— Трудно тебе, ямщик?
— Трудно.
— Всякое, небось, видел?
— Всякое.
— Ты расскажи! — требовал Иван и вновь, уже не торопясь, прикладывался к дорожной баклаге.
Ямщик привставал, раскручивал кнут, лошади дружно вздрагивали, ускоряли ход. Ощерив крупные зубы, ямщик смеялся, оборачиваясь: мы всяко умеем. Зимой, к примеру, в сильные морозы так умеем править санями, что полозья сами поскрипывают, сами наигрывают веселую песню, а то печальную.
А еще, оборачивался, черти балуют…
Вот летит тройка, а на ней нечистый в виде ямщика. Увидит крестьянина, обязательно пригласит сесть, подвезти по дороге. Особенно любит, когда крестьянин пьян. Ну, а по дороге, понятно, завяжется такой разговор. «Вот смотри, — скажет нечистый крестьянину, — у меня ведь не лошади». — «А кто?» — удивится крестьянин. «А только горькие пьяницы, — усмехнется нечистый. — Как умрет какой пьяница насильственной смертью, так его сразу ко мне. А я уж умею, я уж обкатываю пьяниц. — И спрашивает: — Небось, видишь кого?» Крестьянин присматривается, впрямь узнает: вон питух Лука из Грибной, а вон Савелий из Пятова, тоже питух знатный. Даже окликнет: «Да как же так, Савелий? Да как же случилось, что ты попал в лапы нечистого?» И, теряя хмель, жалуется: «Да неужто на том свете вот так вот ездят на людях?» — «А чего баловать? — весело отвечает нечистый. — Нам куда девать таких?»
— И что?… Пропадает человек?…
— Эх, не балуй! — ямщик оборачивался, зубасто, как щелкунчик, щерился, свистел лихо, и лошади брали в карьер.
Иван мучился.
Вот говорит, пропадают от пития… Но как не выпить, если вся жизнь — дорога? Вот тянется и тянется жизнь — совсем как дорога. Вот всю жизнь едешь, и остановиться нельзя. Бежит и бежит дорога.
— А что за тем поворотом? — спрашивал вслух. — Или за тем? Или вон за этим? Куда дорога бежит?
— К смерти, — вдруг пронзало ледяным холодком.
Это господин Чепесюк, не поднимая головы, даже не глянув на Ивана, глухо, как из бочки, чугунным голосом без всякого выражения замечал:
— К смерти.
И сразу становилось скушно и ясно: как ни крутись, даже самая длинная из дорог, как она ни вейся, все равно к смерти. И никогда по-другому не бывает.
Все равно не хотелось верить в такое.
— Да почему к смерти? — пугался, борясь с ледяным холодком. — Почему непременно к смерти? Всем известно, одна дорога ведет к Москве, другая к Якуцку? Так и ямщик говорит.
— К смерти.
Иван мелко крестил обожженные водкой и ветром губы, отворачивался с ненавистью от проклятого спутника. Вот поговори с таким. Чугунный идол, может, каменный. И фамилия соответствующая — господин Чепесюк. По-другому к господину Чепесюку никто никогда не обращался. Наверное, уже в детстве все к нему так обращались — господин Чепесюк. Говорят, сам Усатый, никогда не позволявший офицерам иметь даже подобие какого-либо братства с солдатами, мог, тем не менее, любого из солдат приобнять, ободрить, подарить ему табаку, а то и собственную глиняную трубку, а вот господин Чепесюк никогда и никого не замечал. Хоть толпа окружи его, молчал часами, будто вообще не знал никаких человеческих слов. Сутками мог молчать, из повозки неподвижно, как чугунная статуя, взирая на окрестности, будто, правда, видел там что-то невидимое неподвижным чугунным взглядом. Светлые, по краям уже совсем как инеем подернутые брови сведены, на переносице совсем срослись, глаза как мутное олово, ничего не отражают, а лоб, щеки, все белое, как береста, все лицо густо расписано неровно заросшими сабельными шрамами. С первого взгляда белое лицо господина Чепесюка походило на лоскутное одеяло. Даже нос у него был изрублен, — сильно, видать, рассердил когда-то господин Чепесюк неизвестного злодея.
Думный дьяк Матвеев, отправляя обоз, так сказал Ивану:
— Как далеко идете, о том знают только два человека — ты и господин Чепесюк. А об истинной цели пути — один только господин Чепесюк. Даже Сенат, Ванюша, голубчик, не знает того, что доверено государем господину Чепесюку. У него бумаги… — Матвеев оглянулся через плечо, будто боялся, что его подслушают: — У него такие бумаги, каких ни у кого нет… Ему, Ванюша, голубчик, воеводы и губернаторы не указ, он любому приказать может. Имеет личное секретное предписание от государя… — Усмехнулся: — Говорят, господин Чепесюк и раньше не просто так махал сабелькой, а помогал государю чем-то важным, чем-то таким, о чем государь не забывает и в крепком сне… Впрочем, тебе, Ванюша, голубчик, знать о том вовсе не надобно. Ты всегда помни главное: пока жив господин Чепесюк, ты, наверное, тоже будешь жив. А один — пропадешь. Отстанешь по дороге — никто тебя не спасет, и спасать не будет, сам погибнешь в лесу. Вздумаешь сбежать — от господина Чепесюка не сбежишь. Я просил господина Чепесюка внимательно следить за тобой. Не дай тебе Бог, Ванюша, голубчик, перечить в чем господину Чепесюку. Вы оба с ним теперь начальные люди, но ты, Ванюша, голубчик, будь все же благоразумен: все, что скажет господин Чепесюк, выполняй сразу, незамедлительно.
— А скажет — убить кого?
— Сразу убей.
— Ты что, дядя?
— Убей! — повторил думный дьяк, сердясь.
— А скажет, построй корабль?
— Сразу начинай строить.
— Да не умею!
— Пока строишь, научишься. Господин Чепесюк подскажет.
— Он что ж, все умеет?
— Все! — моргнул думный дьяк. — Он все умеет. Особенно молчать. И ты рядом с ним молчи. Захочется поговорить, все равно молчи.
— Так люди же на дорогах! Обязательно начнут расспрашивать — кто да откуда? Обязательно начнут спрашивать — куда да зачем?
— Врать умеешь, придумаешь. Вот случай, когда правду не говори.
— Так ведь и не знаю всей правды.
— И хорошо, что не знаешь. Может, обережет Господь, не отрежут тебе язык… — Подсказал: — Где станут люди надоедать, так прямо и говори, Ванюша, голубчик, что едете, мол, на изыскания, интересную руду искать. Например, железо сильно нужно России.
— Да какую руду, какое железо? У нас телегах якоря лежат, снасть морская!
— А ты думай! — сердился Матвеев. — Врать горазд, придумаешь, что сказать. Твое дело живым дойти до Якуцка… — Поджал толстые губы: — А с господином Чепесюком, коль будешь молчать, может, до Камчатки дойдешь…
А почему?
С чего столько веры чугунному идолу?
Почему личное предписание государя дано господину Чепесюку, если вся секретная экспедиция затеяна по маппе Ивана Крестинина? Почему он, Иван Крестинин, головой отвечает за все перед Усатым, а командует отрядом господин Чепесюк? Почему, наконец, молчит все время?
Про последнее думный дьяк Матвеев совсем ничего не объяснил, а сам Иван не спрашивал. Не успевал. Или пьян был, или боялся. Из-за той боязни ловил себя на странных вещах. Ел, например, господин Чепесюк только левой рукой. Быстро ел, ловко, и через несколько времени Иван заметил — сам он пытается, как господин Чепесюк, есть левой рукой! Как забудется, так перехватывает ложку в левую руку, будто заколдовали его.
Господина Чепесюка Иван боялся до дрожи.
При этом знал, что без господина Чепесюка, без его казаков и гренадеров сам действительно бы погиб на первых же перегонах. Может, не доехал бы и до первых станций, выпал бы из дорожного возка, упал под дождем, под молнией, застыл в канаве. Одно дело, прижавшись к теплому обогревателю русской печи, в зимние ночи под сонное посвистывание сверчка грезить о том, как победишь долгий путь, как облака над тобой будут долго красиво плыть и птицы кричать, встречая рассвет над каким-нибудь хребтом горным, который ты пересек, поднялся аж к самым льдам, торжествуя, и совсем другое — клопы на станциях, жирная грязь на дорогах, вода, протухшая от жары, дорога, растоптанная сотнями ног, кромешный гнус, да вдруг живот схватит, да ноги натер, да невозможно уже и сидеть в возке — отбиты все внутренности…
А господин Чепесюк — рядом, всегда молчит.
С господином Чепесюком шли на Камчатку четыре гренадера, хорошо обученные военному делу — Карп Агеев да Пров Агеев — братья, Семен Паламошный, обладающий ложным провидческим даром, и Потап Маслов. А в обозе с прочими людьми — десять матросов, всякие мастеровые, плотники.
«Зачем столько плотников?» — спросил Иван у господина Чепесюка.
«Ставить виселицы, — без улыбки ответил господин Чепесюк. — Производит отрадное впечатление».
Плохо было Ивану.
Пил.
А господин Чепесюк молчал, будто так надо.
Гренадеры, освоившись, перестали подходить к Крестинину, с любым делом шли к господину Чепесюку. От главного обоза давно оторвались, спешили вперед малым поездом из семи возков. В одном к полу был прикован ящик, обшитый железными полосами. Что в ящике — знал только господин Чепесюк. Наверное, деньги, может, золото. Выслушав гренадеров, господин Чепесюк, как правило, молча кивал. Этого было достаточно, чтобы гренадеры могли самостоятельно закупать провиант, сменить лошадей, телегу. Наверное, и Иван мог бы рассудить какую проблему, только в это никто не верил, и никто к Ивану не шел. Зато с самого выезда из Москвы Ивана бесы терзали. То подсунут под руку баклажку с ржаным винцом, то в придорожной корчме, к изумлению самого Ивана, подставят вместо квасу чего-то такого, из-за чего встать из-за стола нет сил. Можно только ругать тех бесов — сильно издевались над слабым человеком.
Вдоволь насмотревшись на странные причуды бесов, на то, как крутят они Иваном, один возок господин Чепесюк приказал отдать только для Крестинина. Передняя часть возка закрывалась кожаным фартуком, а сверху можно было опустить небольшую кожаную занавеску на случай дождя или метели, правда, Иван почти никогда не опускал занавеску, иначе было темно и душно.
Получив отдельный возок, Иван несколько приутих.
Во-первых, видно стало теперь, что не простым человеком идет в поход, а во-вторых, упал на дно возка — и вообще тебя не видно. А все равно после первых ста верст братья-гренадеры Агеевы начали между собой держать спор: доберется государственный секретный дьяк Иван Крестинин хотя бы до Камня или где раньше придется его хоронить?
Иван сам слышал.
На какой-то станции орали лягушки, толпилось над болотом непрозрачное облачко мошкары, теплая ночь позванивала редкими комарами. Гренадеры во дворе у костерка варили кулеш. Один Агеев, кажется, старший — Карп, сказал, отмахиваясь от редких комаров: «Ну и дорога. Длинная». А другой Агеев, Пров, младший, как бы слегка придурошный, вечно все придумывал, ответил: «А какой еще быть дороге в Индию?»
«Как в Индию? — вмешался в разговор Семен Паламошный, человек на вид неуклюжий, грубый, но сильно отличившийся в прошлой свейской войне. С удивлением вмешался: — Совсем даже не в Индию. Есть такой остров в океане, на нем — птицы величиной с лошадь, и морские разбойники. Известно, царь любит все морское. Царю Петру Алексеевичу те морские разбойники поклялись в вечной дружбе. К ним и идем. От новой земли Камчатки повернем к острову с ужасными птицами. Там строгий господин Чепесюк возьмет на себя командование разбойниками. В пользу России».
«Да зачем?» — удивился Карп.
«Как зачем? Торговые пути крепко держать в руках, шведа отпугивать, брать золотишко».
«Нет, — твердо возразил Пров. — Я сам слышал — в Индию!»
«А если в Китай? — неожиданно ввернул свое молчавший до того Потап Маслов. — Есть такая величественная страна Китай. Произносишь название, и по звуку слышно, добра не мало в той стране».
«Ты што? Какой Китай! — обиделся Паламошный. — Нас всего-то — четыре багинета да господин Чепесюк! А китайцев сколько? Ты прикинь!»
«Ну, што прикидывать, — стоял на своем Потап Маслов. — Еще этот есть… Ну, значит, господин Крестинин…»
Братья Агеевы обидно засмеялись, а Паламошный сказал:
«"Тоже мне, господин… Нам скоро хоронить придется того Крестинина. Он много не сдюжит. Ну, прямо не дьяк, а доходяга какой-то. Скоро помрет. Вот чувствую, скоро помрет. Не от ржаного винца, так от огорчений».
«Да нет, знал я дьяков, — возразил Потап. — Всяких знал. Были среди них и такие, что выглядели похуже нашего. Душа вроде в них ни в чем не держится, а все пили больше, чем маиор Рябов».
Вспомнив про никому не известного маиора Рябова, Потап от уважения даже глаза выпучил. Но все поняли его по-своему. В основном так поняли, что дьяк Иван Крестинин — не жилец на этом свете. Пусть он и секретный дьяк, а все равно не жилец. Даже поспорили: похоронят дьяка Крестинина еще до Камня или все же увидит высокие горы дьяк?
Ивану разговор гренадеров страшно не понравился. И так было ему не по себе, а тут такое. Никакой веры у людей! Одним, правда, утешился: что бы там ни болтали умные гренадеры умного господина Чепесюка, а он, секретный дьяк Иван Крестинин, дальше Камня идти и не собирался. Еще выезжая из Москвы, твердо решил: сбегу! Так и решил: сбегу! Чего не видел я в Сибири? И тайный бес тоже точил, назойливо нашептывал Ивану: сбеги, сбеги!.. Не слушай никого, сбеги!.. Гренадеры, им что? Они сами по себе как лошади, с ними ничего нигде не сделается, в них шведы стреляли зажигательными бомбами, а они выжили, а ты?… Вспомни, Иван, маиора Саплина, бес нашептывал. Неукротимый был маиор, а и его сжевала Сибирь… …Зоря с моря выходила… Ажно по-о-оганская сила… В тыл обозу защемила…
Точил, нашептывал бес.
Стоило отпить большой глоток, прикрыть глаза, как бес начинал рисовать блаженные картинки. Вот домик соломенной вдовы Саплиной — тих, уютен, клюшницы переругиваются, над мазаной трубой дым, во дворе тетю Нютю падучая бьет… А вот тихая канцелярия думного дьяка Матвеева — любимый темный шкап с маппами, всякие интересные книги, шкалик припрятанный… Многое рисовал хитрый бес перед мысленным взором Ивана. Сладкую сенную девку Нюшку, например, рисовал, ее крутой бок… Но возки, влекомые сильными лошадями, неслись и неслись на восток — навстречу Солнцу. И чугунно молчал на ветру посеченный саблями, похожий на памятник господин Чепесюк… Если ехали вместе, Иван возьмет небольшой вес, отуманит себя, разбудит способность к внутреннему разговору, к мечтаниям, к картинкам, встающим перед умственным взором, и начинает проборматывать военную песню или что-нибудь свое — про свою неудавшуюся жизнь… А господин Чепесюк молчит… Иван порой так увлечется, что даже господину Чепесюку готов протянуть деревянную баклажку без всякой жадности: причаститесь, мол, господин Чепесюк, пожалееем друг друга, как только русский человек может пожалеть!.. Но господин Чепесюк молчал. Явного презрения не выражал, но молчал чугунно, каменно.
Сидит рядом, и молчит.
Как понять странного человека?
У Ивана вдруг вспыхивали глаза, но это только бес играл, настоящий дьявол, видать, в нем еще не проснулся. Еще недалеко отъехали от России, от царского Парадиза, от зловонной Москвы, — рано.
Потом!..
Все потом!..
Однажды на Бабиновской дороге сломалась ось.
Огляделись, пусто, местность неприютная, никого нет. Раньше, говорят, от Соликамска до Верхотурья и дальше в Сибирь ходили мимо Чердыни, поднимались по реке Вишере и уже там через Камень направлялись в Лезву-реку, это ею уже в Туру, потом Тавдою вниз до Тобола, и везде, говорят, можно было какую-никакую церквушку встретить, поставленную мужикам за их благочестие, а уж кузницу и кузнеца непременно, а здесь…
Иван растерялся.
Орали лягушки. Шел дождь.
— Распрягать? — спросил кто-то из гренадеров.
Господин Чепесюк молча, но запрещающе мотнул головой.
Господин Чепесюк подошел к подводе, заставил гренадеров слегка приподнять ее, сам нашел запасную ось и сам заменил ее — без помощи кузницы, считай голыми руками. Потом снова влез в свой возок, не ежась зябко, как все, от измороси. И спал себе в возке как самый простой мужик, его даже будить не хотели. Но на очередной станции смотритель язвительно ухмыльнулся в ответ на слова гренадеров о свежих лошадях:
«А нет лошадей. Ускакали лошади. С фельдъегерем ускакали».
«Да разве не извещали тебя о нас?» — грозно спросил Семен Паламошный.
«Да кто ж известит? Сибирь здесь».
«Да разве не являлись казаки? Разве не говорили о лошадях для господина Чепесюка?»
«Это ж кто таков?»
«А ты подойди к возку».
Смотрителя подвели к возку.
Господин Чепесюк почувствовал чужого и приоткрыл один оловянный глаз.
— Вот… — заробев сказал господину Чепесюку Семен Паламошный, — не дают, значит, лошадей… Вот они не дают, — конкретно указал Паламошный на смотрителя. — Говорят, двое суток придется ждать. А, может, трое.
Господин Чепесюк медленно перевел взгляд на смотрителя, и тощий суровый человечек в мундире затрепетал. Собственно, господин Чепесюк и слова не произнес. Его чугунное лицо, страшно иссеченное шрамами, ничего не успело выразить. Ни один шрам на его лице не дрогнул, никаким особенным блеском не налились оловянные глаза, но, похоже, впечатление на строгого смотрителя было произведено самое отрадное: смотритель сорвался с места, и боком-боком сам побежал по деревне, заранее уже зная, у кого из местных мужиков есть свежие лошади. Неизвестно ведь, что может сказать, окончательно проснувшись, такой человек, как господин Чепесюк. Может, лучше не слышать того, что может сказать такой человек, проснувшись.
А господин Чепесюк, вздохнув, снова уснул.
— Господи, господи!.. — причитал, поспешая по деревне смотритель. — Да где ж это так искалечили русского человека?… Ровно с налета в битое стекло сунули всем лицом! Такой захочет, меня самого припряжет к тройке!
Три месяца после встречи с Усатым прошли для Ивана как сон.
Будто совсем другая жизнь началась. Старика-шептуна почему-то стал вспоминать часто. Оказался в одном прав старик: он, секретный дьяк, вниманием царствующей особы отмечен!
Содрогался при этом: как бы впрямь ни послали на край земли!
Никогда в жизни Иван не чувствовал себя таким несчастным и одиноким, как в те зимние месяцы. Все вроде по-прежнему: уютный дом, теплый приказ, вечерние выходы. А все равно все не так, будто какой-то зоркий, не спящий, никогда не уходящий в сторону глаз появился и тайно жадно следит за ним. Не божий, не вдовы, даже не царский глаз, и не думного дьяка Матвеева, а вот именно — чей-то… Не знал — чей, но чувствовал: есть такой особенный глаз, следит за ним… От такого хоть за семью дверями запрись, хоть тыном отгородись, все едино — ничего не скроешь, никакого движения.
Еще сильнее стал пить Иван. Бывало, набирался теперь до анчуток.
Никогда не любил водить компанию, всегда пил одиноко, теперь стал еще осторожнее. Припрятывал дома шкалик, так, чтобы девка Нюшка, прибирая комнату, не наткнулась, и шел в трактир, в кабак, в какую-нибудь австерию, след путал — боялся наткнуться на каких знакомых или просто на людей думного дьяка Матвеева. В кабаке занимал лавку в самом темном углу, сидел молча. Только когда винцо будило кровь, как бы просыпался, как бы чувствовал — от вливания винца в желудок чей-то глаз страшный, ненасытный, постоянно за ним следящий, пусть и совсем на малость, но слепнет, устает, становится не столь бдительным.
Учитывая это, с оглядкой отводил душу.
— Вот… — произносил негромко, как бы про себя, не глядя на какого сидящего напротив пьяного человечка. — Сибирь-то большая…
На Ивана взглядывали. Бывало, любопытствовали:
— Ну, большая. Но далеко.
— А и далеко, да большая… — значительно понижал голос Иван. Следящий за ним зоркий таинственный страшный глаз как бы почти слеп, зато бесы со страшной силой начинали тянуть за язык. — Далеко, конечно… — подтверждал загадочно. — Но от дальности всякое происходит… Даже в Сибири… Там было раз, заворовал воевода. Так сильно заворовал, что решил еще дальше уйти.
— Куда ж дальше?
— Да в Китай… — Вздыхал медленно: — Или в Апонию…
— Это где ж такое?
— А это не такое… Это живая страна… Все в Апонии ходят в хирамоно. Это как лензовый халат, только из шелка. И ругаются не по-нашему — пагаяро. Сущие варнаки, но робки. Так робки, что боятся собственных пушек. Себя увидят в зеркале, тоже пугаются.
— Зачем же воевода бежал к таким?
— Среди робких решил прижиться.
— А выйдет у него?
— Выйдет, но вряд ли, — отвечал Иван.
— Как так?
— Там есть гора серебра, — доверительно сообщал Иван заинтересовавшемуся, втянутому в беседу человечку. — Прямо цельная гора… Серебро висит натеками, как сопли, можно рубить топориком… Это и хорошо, что далеко. Будь Апония поблизости, давно растащили бы все серебро… Известно, наши людишки падки на бесплатное.
Сидел в кружале опрятный, худощавый, глаза светлые, жаловался мягко, намекал загадочно: вот, мол, жизнь у него не простая. Вот намекал, не богат, имею всего один сосуд, в котором сам стряпаю пищу. Но умен, загадочно намекал, сам сочинил суммы знаний, секреты мне доверяют. Может, время придет, сам пойду в Апонию.
— Ну, сам?
Молча кивал. Он де не из болтунов.
Но наступала такая минута, когда вправду начинал думать — сам.
В пьяном мозгу вертелось — ведь уже был, был в Сибири, по настоящему был, палец мне отрубили, сын жестокого убивцы отрубил палец. Сам слышал и видел — верховые олешки в сендухе мекали, пахло в урасе дымом! Сразу напрочь забывал о вдове соломенной доброй, о страшном Санкт-Петербурхе, и о думном дьяке. Забывал даже об умных книгах.
Сам!
Сам видел!
Вот сам, а не кто другой, встречал след саней в беспредельной сендухе. От края до края ничего, только снег-снег, вся сендуха ровная, как стол, до хруста выстыла, ледяная, ломкая, хоть не наступай, лопается наст под ногами звездами; а лучики звезд, тех, что над головой, ну, прямо серебряная солома! И след саней под звездами черен как сажа — самоядь прошла.
Сам, а не кто-то, видел — летят низкие лебеди над ржавцами, пустое небо, простор такой, что иди хоть век, все равно никуда не придешь, ног никаких не хватит.
Сам видел дикующих — не по-человечески смеются, бросаются каменьем, пращами, обостренными обожженными кольями бьются, а над ними огнедышащие горы стоят, как стога, мещут яркие искры. Каждая гора как пожар, даже непонятно, как может такое быть.
Все сам!
Намекал пьяно и загадочно, чувствуя — от ржаного винца и от удивления закрылся на время ужасный таинственный, внимательно призирающий за ним глаз, значительно щурился, вот сам знает — есть в Апонии гора, не простая, а, как и говорил, вся из серебра. Внизу река долгая, на берегу острог, тын из бревен, заостренных кверху, может, рубленые деревянные стены с башнями. А владетель и строитель того необыкновенного острога — неукротимый маиор Саплин, герой свейской войны, он при горе стоит на часах, не позволяет дикующим ценности отщипывать от горы.
— Врешь, наверное.
А чего ему, Ивану, врать, если, правда, маиор стоит где-то на часах? Чувствовал Иван — жив неукротимый маиор. Сильно чувствовал — добрался неукротимый маиор по приказу царя до какого-то особенного места в Сибири, а то и в Апонии, и теперь накрепко стережет его. За это сильное чувство добрая соломенная вдова Саплина все прощала Ивану. Смотрела на него, как на дитя малое, кормила, жалела, девку Нюшку ругала за невнимание — вон снова пыль в Ванюшиной комнате! Девка Нюшка злилась, а малый мальчик, брат ее, утром поливая руки Ивану ледяной, но чистой водой, шипел, как маленький гусь: «Барыне все шкажу…»
А Иван не слышал мальчика.
Протрезвев, ощущал: призирает за ним ужасный глаз.
А потом, в феврале надолго исчез из Санкт-Петербурха думный дьяк Матвеев.
Такое и раньше случалось, но тут думный дьяк внезапно исчез сразу на два месяца. Без прямого начальства подьячие да писцы с толмачами разбаловались. Никто не считал, что секретного дьяка Крестинина (по ихнему — Пробирку) можно слушаться. А он и не настаивал. Сам внезапно уходил из канцелярии, степенно раскланивался со знакомыми на прешпекте, а потом незаметно нырял за угол — поближе, поближе к очередному кабаку, к корчме, к кружалу, где можно ржаным крепким винцом залить странное отчаяние, пусть на время, но забыть про страшный, таинственный, следящий за его судьбой глаз. Правда, по утрам, дело святое, Иван аккуратно являлся на службу. Сопел в углу, пытался работой отвлечься от холодка, пробегающего меж лопаток.
А чего боялся? Сам не понимал.
Вот государь-император Петр Алексеевич нечаянно пожаловали в канцелярию, где наткнулись на него, на Ивана… Ну, так, известное дело, они, государь-император, могли наткнуться в канцелярии на кого угодно… А что шкалик под рукой оказался, так ведь шкалик просто в шкапу лежал…
Но пил, пил. Боялся, что вспомнит его Усатый.
Крикнули как-то: «А ну, Крестинина!» — он сперва вздрогнул, потом обрадовался.
В канцелярии скушно, душно, за окнами метет. Редко посторонний явится, обязательно по делу; иногда дежурный офицер привозил в канцелярию секретные маппы. Принимал бумаги Иван, много расспрашивал, разворачивал бумаги неторопливо. Первый взгляд бросал на восточные окраины — голландцы да англичане, известно, много плавают, может, набрели ненароком на цепь островов, ведущих к Апонии?
Радовался, ничего такого не увидев.
И сейчас радовался, ожидая посыланного. Предчувствовал, что голландцы да англичане не дошли до Апонии. Несколько занемогши чувствовал себя со вчерашнего загула, в глазах туманилось, но знал — увидит новую маппу, зрение сразу придет в порядок. Думал, войдет сейчас офицер или нарочный в венгерском кафтане. Соблюдая правила, шаркнет ногой, париком помашет.
А вышло не так.
От входа, прямо держась, прошел к столу невысокий, почти квадратный человек, прямо чугунный, под взглядом которого подьячие и толмачи дружно замерли, а кто так даже выпятился комнаты. Остальные низко опустили головы над столами и замолчали. И пока неизвестный человек находился в канцелярии, никто не поднял головы.
Неизвестный человек назвался господином Чепесюком.
Сердце нехорошо дрогнуло, когда разглядел Иван названного господина.
Невысок, чрезвычайно широк в плечах, лицо в шрамах, сросшихся весьма неровно, а глаза, будто оловянные пятаки, только орлов не видно, — вместо орлов смутная оловянная тусклость, завораживающая, как вид бездны.
Бездну Иван и почувствовал, когда неизвестный господин Чепесюк, отпустив рукой полу длинного плаща, кивнул: собирайся, дьяк!
До Ивана дошло не сразу.
А когда дошло, то засуетился. Если собираться, то как? Одеваться тепло, надолго? Или мы на минутку выйдем, можно в кафтане?
Господин Чепесюк на эти его вопросы не ответил.
Может, он от думного дьяка? — леденея, думал Иван. Вокруг думного дьяка Матвеева много людей, на все способных. Может у дяди сложное дело, решил Ивана срочно увидеть? Вот прислал человека…
Но господина Чепесюка и человеком трудно было назвать. Совсем квадратный, чугунный, бессловесно взглядом приказывающий. Иван так и понял приказывающий взгляд господина Чепесюка — дескать, все едино, как ты оденешься. Теперь, дескать, какая разница? Сам понимал, что неправильно так думать, протестовал против таких своих нехороших дум, и все же, как зачарованный, оглядываясь на молчащих подьячих и толмачей, так и не поднявших голов, оделся тепло и молча вышел за квадратным человеком. Именно то, что ни один подьячий, ни один самый отчаянный писарь не посмел поднять голову от столов или хотя бы кивнуть вослед, безумно испугало Ивана — чуть не до смерти. Может, маппы увижу новые, подумал беспомощно. Но тут же вспомнил о нечаянной встрече с Усатым.
О той нечаянной встрече никто в канцелярии не знал. В самом сильном запое, когда Иван даже на добрую соломенную вдову мог возвести поклеп, этой встречи не помнил. Ведь скажи вслух: с Усатым из одного шкалика пил, на тебя сразу крикнут слово и дело государево! Молчал, считал суеверно: если уж он сам крепко забыл, выбросил все из головы, то Усатому-то как помнить? Дел у него нет других? Да и думный дьяк Матвеев, любя племянника, не уставал напоминать: коль не хочешь, Ванюша, голубчик, париться паленым веничком да кряхтеть на дыбе, коль не хочешь, чтоб уши тебе ссекли да ноздри вырвали, да воровскую тамгу навечно выжгли на плече, — не помни! Коль хочешь еще пожить немного, коль хочешь, чтобы не таскали тебя в Тайный приказ, не допытывались вкрадчиво о помыслах тайных — даже в дурном сне не надо кричать, даже в большом счастье не следует помнить о нечаянной встрече с государем. Он, думный дьяк Матвеев, дядя родной, не знает пока, как выручить любимого племянника, так что молчи!
Иван и молчал.
Понимал, лучше тихо пересидеть, паучком незаметным заткаться в паутину, зарыться в бумагах пыльных, в маппах. Пусть о нем, об Иване, все забудут. Он потому и в кабаках прятался в самых темных углах, лицо в руки прятал. И вот к нему, к такому тихому, всегда молчавшему — тревожный квадратный гость с густо посеченным лицом, в квадратной накидке до полу.
Сердце стукнуло.
Нет, отчаянно цеплялся за последнюю надежду, это думный дьяк Кузьма Петрович откуда-то вернулся, чем-то недоволен, послал за племянником первого попавшегося под руку человека, а первым под руку попался такой… Не может быть иначе… Не могут туда вызвать из-за моего чертежика…
Кольнуло нехорошо: из-за моего…
И в то же время с неожиданной подлостию вдруг подумал: да мой, мой чертежик! Пусть не я его сочинил, он — мой!
Собрался с духом, коря себя за слабые мысли.
Не надо думать о плохом. Наверное, правда, вернулся Кузьма Петрович.
Но санки, противно повизгивая по смерзшимся комьям грязи, пролетели мимо Адмиралтейства и свернули за угол. Квадратный человек загораживал спиною вид, не давал понять, куда везут. Остановились только перед глухой кирпичной стеной, в которой неприятно желтела ржавым железом окованная дверца. Никого перед дверцей не было, только снег хорошо утоптан, но сердце Ивана дрогнуло.
Привязав лошадей, так ни разу и не глянув на Ивана, квадратный человек вынул из кармана собственный ключ и открыл дверцу.
Двор затоптанный, места много.
Глухой кирпичный корпус. Некоторые пристройки к нему — бревенчатые, какие-то торопливые, будто все время места не хватает хозяину. А хозяин, может, не из простых — у запертых ворот стоял на часах солдат, у коновязи фыркали верховые лошади.
Впрочем, осмотреться не дали.
Господин Чепесюк, легонько, но подтолкнув Ивана, ввел его в низенький флигель, совсем темный со света, и тщательно запер тяжелую, задубелую от сырости и холода дверь. Затем, не оборачиваясь, указал во тьму. Из темного коридорчика, оштукатуренного, но сильно замызганного, втолкнул в следующую комнатку, тоже оштукатуренную и замызганную.
— Дьяк я… Секретный… — теряясь в страшных догадках, пытался выговорить Иван, но квадратный человек, ничего не сказав, вышел.
Темная комнатенка, слепое оконце, в которое ребенок не влезет, убогая лавка у стены, накрепко врезанная в бревенчатую стену, — простота обстановки вдруг ошеломила Ивана. Нет, понял, не думный дьяк меня вытребовал. Это мой собственный язык привел меня сюда, дурость собственная. Не зря предупреждала вдова, чуяло беду ее доброе сердце.
В отчаянии присел на лавку.
А что ж?… Не заслужил разве?… Казака неизвестного не спас, чужую маппу держит как свою, самого Усатого обманул… Потому, наверное, и доставили его в Тайный приказ.
Ужаснулся: как так?
Вот соломенная вдова Саплина, существо робкое, даже пугливое, открыто принимает клюшниц. Государь строго-настрого запретил принимать клюшниц, а соломенная вдова Саплина все равно принимает. Клюшницы ей сплетни несут, а вдова слушает. Петербурху быть пусту… Вода поднимется до вторых этажей… Войны жди новой… Чего только не несут клюшницы, а добрая вдова не боится. У нее, наверное, и сил потому много. Она и в монастырь, она и в больницу, она и в скорби всех привечала… Вот чего ему, Ивану, было не жить с такой доброй женщиной? Покойно, тепло, уютно… И брат родной Кузьма Петрович ее любит. Вдова выйдет к нему в китайчатом сарафане малинового цвета, а то в халате таком, на котором невиданные растения цветут, в хирамоно, а на розовой шее нитка жемчуга… Выйдет, и видно, что спокойно на сердце у вдовы. Сам государь запечатлел поцелуй… А он, Иван…
С ненавистью вспомнил якутского старика-шептуна. Врал старик! Вот кого повесить на дереве! Вот кого доставить в Тайный приказ!.. От ужаса, сильно пронзившего тело, готов был бежать на край земли. Да куда угодно, только бы не оставаться в убогой комнатке. Это, наверное, понял, и есть вход в ад, о котором в Санкт-Петербурхе говорят только шепотом…
Прислушивался томительно, вздрагивал при каждом шорохе. Окончательно пришел к мысли: врал старик-шептун! Может, он, Иван, и отмечен вниманием царствующей особы, только никакой дикующей, никакого края земли ему теперь не видать. И жизнь, похоже, даже чужую, не проживет. Кажется, и своей может лишиться.
А все оказалось еще страшнее.
Снова вошел в комнатку господин Чепесюк в квадратной накидке с лицом ужасным и хмурым, и молча вывел Ивана в коридор, в сумерки. Шли, высоко поднимая ноги, боясь запнуться, а все равно Иван спотыкался — ноги не слушались. Господин Чепесюк, не отворяя рта, помогал, потом втолкнул куда-то.
Несло горелым из тьмы.
Оказалось, от масляных фонарей, коптящих на грубом деревянном столе, а также из вместительного каменного камина, в закопченном зеве которого горячо тлели поленья. Свету фонари и камин давали мало, поэтому в светцах, в железных грубых треножниках, стояли еще и оплывшие свечи. Все равно было темно. Правда, различались желтые опилки, которыми был посыпан пол, и тяжелый деревянный стол, за которым дружно сидели три человека, низко наклонив большие головы в простых париках.
Вон какие парики! — пронзило Ивана. Вон как сильно задумались! Вон какие тяжелые железы лежат перед камином — и клещи, и кандалы, и цепи. И отсветы, падающие из каминного зева, страшно и томительно играют на железах. А в полутьме, Иван увидел, как бы специально удалена от входа, — виска, иначе дыба.
И тело на ней.
Большое обмяклое тело.
Не человек, а вот именно тело. Небось, уже никакой боли не чувствует.
— А ну, подойди, Ванюша, голубчик…
Голос так ласково прозвучал в темной пытошной, в свечном чаду, в потрескивании каминном, что жизнь как бы заново ласково и издалека поманила Ивана — а ну, подойди, Ванюша, голубчик… Темный ужас, как сквозняк, улетучился, ведь звал Ивана дядька родной думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев. Он был в парике, как у всех, потому Иван не сразу узнал его. А рядом сидели двое — тяжелый пожилой человек, и угрюмый писец с пером в руке, с медной чернильницею на шее. Нехорошо пахло потом, мочой… Может, кровью… Еще чем-то неопределимым… И, конечно, прелыми опилками… А все равно на миг полегчало…
— Ты пока ничего не пиши, Макарий… — строго предупредил думный дьяк, но посмотрел не на писца, а на человека рядом, который неторопливо стянул с головы парик, будто в пытошной стало душно. — А ты, Ванюша, голубчик, отвечай честно… — Думный дьяк даже головой покивал. — Мы же знаем про твою слабость, Ванюша, голубчик. Оно завсегда интересно посидеть в австерии или в другом каком царском кружале. Выпил винца на несколько денежек, вот тебе и хорошо… — Думный дьяк даже недоуменно повел круглым плечом, дескать, в самом деле, чего плохого? — Мы же знаем, что ты в собственное время посещал те кружала. Правда, Ванюша, голубчик? Ведь было такое? Дело сделал, и пошел. Правда? Мы же знаем, что ты о дисциплине имеешь понятие. Нет у нас к тебе обид, Ванюша, голубчик. Если ты и пошумишь немного, так ведь русский человек не может не пошуметь. Правда? Зато потом и мучается сильно. Мы твоим делом довольны. Твои маппы, Ванюша, голубчик, угодны государю, а государь наш знает, какая маппа стоит внимания. Он это очень даже хорошо знает… — с каким-то тайным, но теперь уже и с каким-то нехорошим значением повторил думный дьяк. — Вот и нам, Ванюша, голубчик, нравится, как ты делаешь свое дело. И мы, Ванюша, голубчик, так же служим государю. Чего тут плохого, правда?
— Ага, — несмело кивнул Иван.
— Ну, вот и хорошо, — неведомо чему обрадовался думный дьяк. — Вот ты нам таперича и помоги. Ты ведь поможешь?
— Ага, — все еще робко, но уже приободряясь ответил Иван. — Да коль в силах, да непременно…
И повторил эти простые слова два, а, может, три раза. Хотел, наверное, чтобы они дошли даже до квадратного чугунного господина Чепесюка, застывшего у дверей.
— Ну вот и скажи нам, Ванюша, голубчик, — вкрадчивым ласковым голосом, какого Иван от него никогда не слыхал, сказал думный дьяк. — Горазд ты по кабакам шляться. Сам про себя думаешь, наверное, что сильно ловок, что никто о том и не знает. Только так не бывает, Ванюша, потому что есть в мире особое око, невидимое, незримое, государственное. И русский орел двуглав, он все видит. Оттого мы и требуем от каждого человека полной честности, поскольку все живем под орлом.
Вот он глаз невидимый, неведомый! — понял, как в ледяную полынью провалился, Иван. А думный дьяк продолжил неторопливо:
— Сейчас не в укор говорю. Сейчас надеемся, что ты нам поможешь. Мы тут, Ванюша, голубчик, никак не можем сыскать одного человека. Вот знаем, что явился он в Санкт-Петербурх, а найти не можем. Ну, как пропал. А, может, и правда пропал… — думный дьяк неодобрительно почмокал губами. — Может, лучше бы ему и пропасть, кто знает, только мы должны в том убедиться… Потому и позвали тебя, Ванюша, голубчик, ведь ты мастак шляться по кабакам.
— Да что? Что надо-то? — вырвалось у Ивана.
Сам устыдился, так быстро вырвалось.
— А вот не встречал ли где в кабаках, в кружалах царских, в вертепах мерзких некоего казака в хороший рост, видного, и усы при нем, и может сабельку носить у пояса, и, может, шепелявит чуть-чуть?… А еще, — добавил думный дьяк, внимательно глядя прямо в глаза помертвевшему Ивану, — а еще, выпив, любит этот казак устраивать крупный шум…
— Да как же в кабаках без шума, дядя? Сами же говорили.
— А ты не торопись, — мягко укорил думный дьяк, как бы этим вдруг холодно отталкиваясь от Ивана. — Ты не торопись, отвечай только на вопрос, никаких лишних слов не произноси. И еще… Ты меня сейчас дядей, Ванюша, голубчик, не называй, а то что же получается? Тебя, может, сейчас потащат на виску, я, может, сейчас сам прикажу такое, а ты мне — дядя… Так что, не торопись, отвечай просто. Пусть каждый твой ответ будет правдив. Вот совсем правдив, как на духу. И каждое слово пусть будет ясным. — Думный дьяк посмотрел на угрюмого писца: — Вот и Макарию записывать будет проще.
Иван, похолодев, кивнул.
— Видел ты в кабаке такого казака? Собой видный. Скорее всего, в сентябре быть мог, может, в октябре. Имея дерзкий характер, мог прельстительные речи вести, рассказывать о далеких краях, упоминать разные имена.
Ивана как обожгло — дознались! Вот вышли на след тайной маппы! Уж кому не знать о ней, как не думному дьяку? Теперь нельзя, теперь точно нельзя лгать! И робко кивнул:
— Было.
— Ну? Какие такие имена поминал казак?
— Яков какой-то, с какого-то острова… Может, в Акияне… Еще говорил про какого-то шепелявого… Даже говорил, что, дескать, я похож на того шепелявого… А других не слышал…
— А не поминал искомый человек казачьего голову Волотьку Атласова? — думный дьяк значительно глянул на мрачного соседа, снявшего парик, и тот согласно кивнул.
— Казачьего голову не поминал… Если при мне, то ни разу не поминал… Говорил только про какого-то Якова… Будто был высажен какой-то Яков на далеком острову…
— А знаешь ли ты, Ванюша, голубчик, что когда-то на Камчатке воры зарезали государственного человека казачьего голову Волотьку Атласова?
— Знаю.
— Откуда знаешь? — грубо спросил человек, снявший парик.
— По делам Сибирского приказа.
— А знаешь ты, кто зарезал того государственного человека? — так же грубо спросил человек без парика.
— Воры, наверное.
Ивана вдруг осенила догадка.
Там, в глубине пытошной, осенила его догадка, что висит, наверное, на виске, на дыбе, в беспамятстве тот самый казак, который махался в кабаке портретом Усатого! С ужасом вдруг соединил в сознании чертежик, найденный в чужом мешке, и казака, висящего на дыбе.
— Ну, шепелявого вспоминали… — напомнил дрогнувшим голосом. — Говорили, что похож на какого-то шепелявого…
— Имя произносили?
— При мне нет, — от ужаса, от собственной слабости, от презрения к себе задохнулся.
— А еще про что говорили? — спросил грубый человек, утирая париком вспотевшее лицо.
— Больше об островах… О каких-то островах… Может, сами ходили туда, даже кого-то там оставили…
— Кто больше говорил?
— Да вроде казачий десятник.
— Этот? — вдруг страшно спросил человек без парика, поворачивая голову к дыбе.
— А разве сам не сказал?
— Воры, Ванюша, голубчик, сами ничего не говорят, — совсем уже нехорошо усмехнулся думный дьяк. — Палач на этого десятника десяток веников уже извел в пытке, все косточки ему повывернул, а он молчит. Дан, значит, такой дар ему. Дар безмолвия. — И спросил страшно: — Он?
— Кажется… — ужасаясь, всмотрелся Иван в полумрак. И уже увереннее произнес: — Он…
Глава II. Бабиновская дорога
Ох, санкт-петербурхские прешпекты, московский Пожар, ох, злая Бабиновская дорога! Иван стал подмечать, что чем ближе к Сибири, тем печальней глядят на тебя встречные люди. Спрашивал: «Господин Чепесюк, сколько идти до Камня?»
Господин Чепесюк не отвечал.
Иван боялся его молчания.
Вот, думал, вся жизнь так и пройдет. Старик-шептун нагадал когда-то — дойдешь до края земли; будешь идти, идти, а где он, незнаемый край, если вдали опять и опять появляется что-то?
— Господин Чепесюк, почему на дороге каторжных столько?
Не ожидая ответа — какой ответ? — с тоской оглядывал каторжных. Представлял себя таким же — в кандалах и в колодках. Думал, это ж понятно: не найду путь в Апонию, сяду в колодки. Звон цепей вгонял в тоску. Не выдерживая, слал ближайшему каторжному калачик, как бы пытался умилостивить собственную будущую судьбу. А то и луковку посылал — как себе. Господин Чепесюк вдруг пронзительно оглядывался на Ивана.
— Люди же… — разводил руками Иван.(Чепесюк молчал, ничем не выдавая своего отношения.) — Людям же подаю…
Ждал хоть слова в ответ, хоть звука. Сорвись хоть слово, хоть звук с чугунных губ господина Чепесюка, кинулся бы обнять его, а может наоборот кинулся бы с ножом, но Чепесюк молчал. Иван смирялся, лез дрогнувшей рукой под полость, нашаривал дорожную флягу, думал со смиренной тоской — пойдут глухие места, где брать винцо? А господин Чепесюк молчал, и Ивану от его молчания губы схватывало холодом.
А то леший начнет дразнить.
Сперва напугает каким непонятным шумом, а потом долго смеется за деревьями и хлопает в заскорузлые ладони. От страху волосы не убираются под шапку. Спросишь ямщика: откуда здесь леший? — ямщик усмехнется, вот, мол, пришел с казаками из России.
В деревнях к поезду набегали местные. Кто предлагал елку мха — мох на палках продавался, кто свежего молока или калачи. Всяко бабы стояли. Одна не просила милостыню, а просто прижимала к груди двух дитятей, говорила негромко, проникновенно: «Погляди, барин, какие у меня дети — один полоумный, другой совсем никаких звуков не выговаривает». И смотрела невыносимо, всю душу изорвала, дура. …Не судил Бог христианства… Освободить от поганства… Е-е-ще не дал сбить поганства…
Главный обоз, груженный снаряжением, провиантом, военным зельем, разрубленными на части якорями и канатами (в цельном виде нельзя было разместить такое снаряжение на подводах из-за тяжести и размеров) — давно отстал. Чепесюк и пять волонтеров, с собою таща Крестинина, торопились вперед. Хорошо бы, считали, придти в Якуцк к концу года. Сильно на это не надеялись, но радость была — июнь выдался сухой, теплый. Ржали лошади, ругались ямщики, братья Агеевы, специально на то назначенные, вечерами жгли костры — не хотелось кормить клопов в душных избах. Когда еще шли с основным обозом, встретили под Козлами некоторых людей гостиной сотни. Те сильно, даже с ревностью, начали пытать, да куда идет такой обширный поезд? Очень удивились, услышав по секрету, что в Сибирь. Некоторые сочли, что это где-то у реки, может, неподалеку… У той, может, Волги… Иначе зачем тащить с собой якоря?… А некоторые и совсем не поверили. Да ну, в Сибирь! Чего ж это в Сибирь тащить канаты? Олешков, что ль, останавливать на ходу? Один все качал головой: «Может, довезете десятую часть. Может, и из вас кто дойдет до места». — «Как десятую? — трезвея, спрашивал Крестинин. — Как не все дойдем?» И сам подумал: а как можно дойти в Сибирь на подводах? Я точно не дойду. Помру с тоски или с перепою, а то убегу, наконец… Пойду нищим босым по всяким дорогам. Пойду странствовать по окрестным монастырям. Может, песнопениям обучусь, думал томительно. Исхожу всю Россию. Где калачик подадут, где из шкалика капнут. Люди, они добрые. Однажды, подумал, в Мокрушиной слободке на Петербургской стороне загляну печально в уютный домик вдовы Саплиной. Там, пусть меня не узнают, зато накормят, напоят, а он добрую вдову увидит. И Нюшку… Сильно пожалел: Нюшку к тому времени. наверное, уже и не ущипнешь. Обрастет дура детьми, как опятами… «Как это десятую часть?… — пугался. Смотрел на людей гостиной сотни: — Как это не все дойдем?…»
Люди гостиной сотни, купчишки, знающе посмеивались, помаргивали:
— Ну, как? Да просто. Долга дорога! Усушка, утруска, порча от ветра и червоточины, мыши да плесень. А еще сырость, а еще засуха, плохие броды, наводнения, ветры, мор. В пути, опять же, пожары.
— Какие мыши в обозе? Какая засуха? Какие пожары в пути?
— А это уж такое дело, стихийное, — знающе перемаргивались люди гостиной сотни. — Вон ящички у вас, дерево, стружка… А мыши в ящик залезть — пара плюнуть. А то, смотришь, книжку найдет. Или свечу. Мышь сильно бумагу любит… А потом телега в яму на броде впадет… А потом осень зальет дождями… А потом ночью, когда спишь, огонек от костра занесет в солому. А еще зимой, кушая мороженые щи с убоиной, живот схватит. А еще всякие лихие люди. За Камнем-то дороги пусты, помощи не докричишься. Там, считай, вообще никаких дорог — бездорожье… Нет, — уверенно качали головами, — многих разбойники побьют, многого не довезете.
А ведь и не довезем, и побьют, думал Иван в печали.
И вдруг отчаивался: лучше пусть варнаки в Сибири зарежут, чем помирать в темной пытошной в Санкт-Петербурхе. Лучше, ноги сбивая, тащить на себе роги для пороха, свинец, котлы медные для дикующих, лучше умереть от плохого горячего винца посреди луговой равнины, пасть под кистенем безбожного разбойника, чем жить так, как он жил в плоском сыром Петербурхе после нечаянной встречи с государем… …Магомете, Христов враже… Да что да-а-альший час покаже… Кто от чьих рук поляже…
Чем дальше, тем глуше становилось и сумрачнее. Не верилось, что кто-то в Сибирь мог ходить по собственной воле. «Господин Чепесюк, — спрашивал. — Зачем человеку так далеко ходить?»
Господин Чепесюк молчал.
И уж совсем не верилось, что кто-то, забредя столь далеко (об Якуцке или Камчатке даже думать не смел), мог вернуться отсюда.
А ведь возвращались!
Даже с края земли возвращались!
Тот же Волотька Атласов…
Атласова Иван никогда не видел, и видеть не мог, но казачий пятидесятник, по рассказам соломенной вдовы, не раз появлялся в доме Матвеевых с богатыми подарками. Соломенная вдова Саплина, тогда еще не вдова, даже не мужняя жена, а просто пухленькая веселая девица, вспоминала о Волотьке с особенным вздохом, с особенным блеском в глазах. Еще бы, ведь видела пятидесятника молодыми глазами. Это уже потом неукротимый маиор Саплин сделал для нее геройство совсем обычным делом, а тогда девица Матвеева была еще совсем молодой, вся горела, с ужасом и восторгом смотрела на светловолосого голубоглазого человека, ходившего так далеко, что там никто и не слыхивал христианского голоса!.. Ох, запомнила Волотьку добрая соломенная вдова. Вслух часто произносила: «Волотька…» Так часто, что даже Иван его как бы видел.
По рассказам вдовы, Атласов был громок, в кабаках по углам не прятался, людей не боялся. Если входил в кабак, кабатчик сам бежал навстречу взволнованно — по осанке, по льняной бороде, по голубым холодным глазам и богатой одежде угадывал гостя. Ишь, какой! Царь Петр Алексеевич всем постриг бороды, а этот, гляди, в бороде, и нет на его платье лоскутьев красных и желтых, как полагается по государеву указу. Не пугался вслух говорить: «Творящие брадобритие ненавидимы от Бога, создавшего нас по образу своему!»
В канцелярии, работая с маппами, Иван внимательно изучил «Скаски» Атласова, отобранные у него в Якуцкой приказной избе еще в семьсот первом году. Понял, что тщательнее пятидесятника никто не вглядывался в далекий мир края земли, в который не каждому удавалось даже проникнуть. Случалось, конечно, что проникали, да там, на пороге неведомого мира и оставались — одни сраженные стрелой, другие — провалившись в ледяную полынью, третьи — сорвавшись с промерзлых скал. Известно, как легко собирать ясак: то ли сам умрешь, то ли дикующие в лесах зарубят.
Вот кто еще видел такое, как Волотька Атласов?
Те же дикующие, например. Они никакой ценности соболям не знают, режут хвосты, замешивают в глину, чтобы горшки были прочнее. Юрты у них легкие даже зимой, потому что земля постоянно трясется; построишь избу, так в ней тебя и задавит. Реки, перед которыми Нева кажется мелкой протокой. Горы, из их нутра дым идет, будто пережигают внутри каменья. Солнце, стоящее летом прямо против человеческой головы, даже тень не ложится под ноги. Птицы как пчелы, ягода как яблоко, деревья, величиной с гриб, и грибы, наоборот, поднимаются над деревьями — в сендухе. А с гор выпадают реки ключевые. Вода в них истинно зелена, а насквозь прозрачна. Брось в воду копейку — увидишь в глубину сажени на три.
Очнулся. Что ему до десятника Атласова? У того была своя жизнь.
Совал руку под полость, жадно нащупывал баклажку. По сторонам не глядел. Пусть глядит по сторонам чугунный господин Чепесюк. Что там увидишь? Покосившиеся поскотины, гнилые плетни, горбатые избы, грязные околицы. Твердо решил — сбегу! Ничто не удержит.
Бабиновская дорога долгая, старая.
По чертежикам знал. что идет Бабиновская дорога от Соликамска по верховьям Яйвы, дальше через Павдинский камень до реки Ляли. По лялинским берегам до устья Разсохиной, к речке Мостовой на Туру, и так до самого Тобольска.
На чертежике — интересно, а если въявь, то все те же размытые вешней водой мосты, покосившиеся поскотины, грязь, подводы с каторжными… Обдавало ужасным холодком, звал: «Господин Чепесюк!» — но чугунный человек не откликался. Одно утешение: сунешь руку под полость, а там баклажка… Твердо решил: даже до Камня терпеть не стану, сбегу. Назад все равно пути нет, и впереди смерть. Господин Чепесюк так иногда глядел, что становилось понятно — не видит господин Чепесюк Ивана, Иван для него только тень, может, для господина Чепесюка Иван уже умер.
Тогда тем более, чего тянуть? Вернешься в Парадиз — пытошная, с Чепесюком пойдешь — в пути сгинешь. Не хотел ни того, ни другого. В полузабытье светло мечтал: сбегу, сбегу! В рубище простом пойду каликою перехожим по дорогам. На папертях подадут, в деревне калач вынесут. Человек русский добр, на том и ломается. Думать буду много, смотреть, с разными людьми разговаривать.
Сразу светлее становилось на душе. Небо меньше пугало.
Вдруг вспоминал, в одном тонком сне было ему видение: облак мутный над головой. А над облаком еще что-то, тоже томительное и мутное, и куда взгляд не бросишь, вроде как сатанинское. Не положено так, не подсказано ничем, быть не может в божьем миру ничего такого, а вот смущенная душа точно угадывала — сатанинское…
Сам не знал, что о таком думать?
Смотрел с тряского возка на спокойное небо.
Небо светло стояло над миром, — видимо, аггел отвечал мыслям.
Тишь, благодать, лошади пыхтят, ветерком обдувает лицо, и вдруг снова за поворотом — каторжные. У кого ноздри рваные, чуть не кровоточат, у кого клеймо свежее на лбу — вор.
А впереди лес стеной.
Настоящий, темный, пугающий лес.
Такие вот варнаки каторжные сбегут из-под стражи, станет страшный лес еще страшней, чем при Соловье-разбойнике. Чувствовал, что если бежать, то уже сейчас, пока путь к Москве окончательно не потерян в лесах диких, нехоженых. Чувствовал, нельзя тянуть. Он не Волотька Атласов, чтобы смело рыскать среди дикующих. Часто думал с невыразимой обидой: дядя родной думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев любимого племянника погнал на смерть!.. Понимал, правда, при этом, что никак думный дьяк не мог спасти его: он ведь сам чего только ни наговорил государю!.. Так что, прав был дядя: пусть лучше зарежут племянника дикующие, чем замучает палач в пытошной.
Всю зиму изучал бумаги.
Лучше других изучил «Скаски» Атласова.
Прослужив в Сибири двадцать лет (все по своей воле), пятидесятник Атласов исходил ее вдоль и поперек, только за пять лет до нового календаря по указу якуцкого воеводы сел прикащиком в Анадырском остроге. Но сидеть на месте не мог, быстро заскучал. На собственные деньги собрал служилых да промышленных, прибавил к отряду шесть десятков юкагиров, их на севере волками зовут, и пошел неизвестным путем через Колымское нагорье, объясачивая по пути немирных коряков.
Пользу нес государству.
Спускаясь на юг к земле Камчатке, о которой был много наслышан, дошел до красивой реки Тигиль, а с нее повернул на реку, которую тоже звали Камчаткой. Там поставил на память простой деревянный крест с надписью: «205 году июля 18 дня поставил сей крест пятидесятник Володимер Атласов со товарыщи.»
Может, и сейчас стоит крест.
Правильное, хорошее дело — распространение земель. Но Волотька Атласов на достигнутом не остановился. Оставив под охраной оленей, построил струги, и со служилыми, а так же с новыми нанятыми дикующими поплыл вниз по реке Камчатке. Проплавал три дня. Когда вернулся, не нашел олешков, угнали их воинственные коряки. Пришлось гоняться за дикующими. Догнал уже у самого Пенжинского моря, весь день дрались. Наверное, полторы сотни, не меньше, убили коряков, зато вернули олешков.
В 1700 году пятидесятник появился в Якуцке, где в приказной избе воевода Трауернихт, бритый белобрысый немец, да долгогривый дьяк Максим Романов подробно расспросили его о походе. А на следующий год Атласов был уже в Москве — с большим, даже с великим богатством, с апонским пленником, и со славой человека, сильно расширившего русское государство. Сам государь Петр Алексеевич милостиво разговаривал с Волотькой, внимание ему оказал — приказал дать пятидесятнику чин казачьего головы по городу Якуцку за присоединение Камчатки к России. Значит, подумал Иван, Волотька сильно был отмечен вниманием царствующей особы. Совсем, как я. И дошел до края земли. Правда, там, на краю земли, его и зарезали.
От мыслей о смерти Иван отмахивался.
Сразу приходил в себя, оглядывался на квадратного господина Чепесюка, если ехали на одном возке. Но господин Чепесюк молчал, будто дал обещание господу. Ничего не видит, а только смотрит вдаль, рядом текущее ему не интересно. Глаза полузакрыты.
Иван тоже задумывался.
Чаще всего о маппах.
Вот зимой в Санкт-Петербурхе совсем устал от думного дьяка. Кузьма Петрович, как с ума сошел, — слал и слал ему, Ивану, на ревизию все новые и новые маппы, все новые и новые описания дальних земель. Иван страшился, но изучал, к новым чертежам его всегда тянуло. Несмотря на робость, зажигало его на новое. Самую любимую маппу, вычерченную по чертежику неведомого казака, может того самого, что умер на дыбе, а перед тем махался в кабаке портретом Усатого, помнил наизусть: вот они капельки островов, будто с божественной руки стряхнутые на воду… Дойти бы на самом деле до края земли, увидеть вдали туманные доброжелательные острова, сесть в лодку, поплыть к тем островам… Мало ли, что острова, может, на них еды, питья много. Стали бы плясать, шаманить, объедаться. Потом, с острова к острову, не торопясь, за день переплывая проливы, добрались до Апонии…
Пугался: ишь чего захотел!
Может, воины апонские малы ростом да душой робки, но, может, их как муравьев, а? И у каждого в руках сабелька? А может, их даже больше, чем муравьев, а? И у каждого своя пушечка? Робок, не робок, но когда порох зажжен, тебя даже великан пугается. Так страшно становилось Ивану, что снова запускал руку под полость, снова делал из баклажки большой глоток.
Выпив, смелел.
Судя по маппе, казачий десятник, махавшийся в кабаке портретом Усатого, вон куда добрался — до далеких островов. А Волотька Атласов всю новую страну Камчатку с боем прошел. Даже несчастливый стрелец Крестинин-старший, убитый в сендухе злыми шоромбойские мужики, и тот от Якуцка далеко уходил. Да и господин Чепесюк, хоть горазд молчать, тоже, наверное, много ходил далеко. И гренадеры не болтливы, хорошо идут. Может, правда дойдем куда? Может, правда дойдем до Апонии? Может, однажды государь вспомнит, кушая кофий на ассамблее: а где тот верный господин Чепесюк, а где тот умный достойный дьяк Крестинин?… И за совершенный подвиг каждому пожалует по паре-другой крепких деревенек со многими душами…
Сразу пугался: да какие деревеньки в Сибири!? Там дикующие, там холод, тьма, звери лихие! Мыслимое ли дело русскому человеку дойти до Апонии, от самого Санкт-Петербурха дойти? Маиор Саплин и тот, видно, не дошел. Вот неукротим был, а не дошел. И я тем более не дойду.
Решил: винцо кончится, сбегу.
Твердо решил: как кончится винцо, так сбегу. Обоз теперь далеко отстал, да и они уже далеко заехали. Как кончится винцо, так сбегу, пойду своими ногами по земле родной, русской, шагать по ее дорогам, дружить с людьми. С самыми простыми людьми начну дружить, навечно в себе затаю все то, что знаю. За пищу и воду буду помогать людям. Перехожим каликою забудусь в мире. Не груб, не жаден, как некоторые.
Но вдруг не к месту вспоминал: а государев наказ? Как с наказом быть царским? Разве не наказано секретному дьяку Крестинину искать то-то и то-то? «…В земле или в воде какие старые вещи, а именно: каменья необыкновенные, кости человеческие или скотские, рыбьи или птичьи, не такие, какие у нас ныне есть, или и такие да зело велики или малы пред обыкновенными, также какие старые подписи на каменьях, железе или меди, или какое старое необыкновенное ружье, посуду и прочее, все, что зело старо и необыкновенно…»
Сам Государь того требовал.
Думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев не зря намекал: помрешь, мол, Ванюша, голубчик, где в дороге, или зарежут тебя, это еще ничего, гораздо хуже, если вернешься, наказ не выполнив.
А как выполнить?
Будь Иван костист, широк и упрям, имей он руки и белокурую голову Волотьки Атласова, да характер, как у пятидесятника, да его опыт, да его умение управлять людьми, тогда может быть…
А так…
Он и гренадеров-то не всегда мог прикрикнуть.
Карп и Пров Агеевы смотрели только на господина Чепесюка, Потап Маслов Ивана вообще не принимал всерьез, а Семена Паламошного Иван сам презирал, боясь его ложного провидческого дара. Посмотрит в глаза Паламошный, пошепчет что-то, потом предскажет какую дурь и тут же, испугавшись, изменит ее на противоположную. Но если даже противоположную дурь он еще раз изменит наоборот, все равно ничего не получается. Таков человек. Но даже на Паламошного Иван не умел возвысить голос. Где уж дойти до края земли?
А ведь думный дьяк Матвеев ясно сказал.
Новую землю какую встретишь, Ванюша, голубчик, ясно сказал, покори. Людишек каких встретишь новых необъясаченных, — объясачь. Особенно тех, кто раньше никогда не слыхал об России. Такие с рожденья живут в долгах, совсем в долгах перед государем погрязли. Все народы платят ясак, а они даже не думают. Сидят у костров под северным сиянием, жарят гусей и совсем никому ничего не платят. Так нельзя. Ты заставь их, Ванюша, голубчик, с некоторым сомнением сказал, прощаясь, думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев, обнимая любимого племянника, но поглядывая при этом на верного человека господина Чепесюка. Скажи им, Ванюша, голубчик, скажи дикующим: очень на них государь за их такие безделицы сердится.
Сбегу! Точно сбегу!
Волотька Атласов, например, умел говорить с дикующими, а ведь и его зарезали! Будто сам чувствовал боль под нижним ребром, будто самому вдруг вошел нож под ребра. Странную боль снимая, много сразу хлебнул, затих на тряском возке. Показалось, будто бегут не припряженные лошади, а бегут, припряженные Семен Паламошный, братья Агеевы да сам господин Чепесюк!
Привидится же такое.
Сбегу!
Сам при этом, конечно, знал: далеко не уйдет, поймают. Да, наверное, и не сможет жить каликою перехожим. И все же, все же… Еще выпив какую меру, отряхнув вязкий страх, чувствовал — а может… Может, сделает все, к чему господь надоумит, о чем Усатый просил?…
От таких мыслей сердце начинало биться неровно, рука искала уже не дорожную баклажку, а толстую книгу. Писанная от руки, книга называлась: «Рассуждения о других вещах или Кратчайшее изъявление вещей, виденных и пережитых». Выдал ее в дорогу думный дьяк — вся книга на шнурах и каждая страница пронумерована. «Помни, Ванюша, голубчик, что в будущем читать эту книгу будет сам государь, — предупредил думный дьяк Матвеев. — Глупостей не пиши, отмечай все новое, таинственное и страшное, что к пользе можно расположить. Отмечай все, чего до тебя никто не видел, записывай слова дикующих, их привычки, цвет моря, его глубину, приметы животных плавающих и летающих, даже очень хищных. О чем людишки говорят в чужом краю, о том тоже записывай, — какие они фантазии высказывают, каких при дворе держат скотов. А особенно подробно записывай в книгу пройденный путь. Каждую гору, каждую реку. Тонуть будешь, в огонь тебя бросят — сам сгори или утони, но книга чтобы сохранилась, и чтобы каждое происшествие попало в нее. Лучше мяхкую рухлядь потеряй в пути, все припасы, все снаряжение, даже часть людей потеряй, куда ж без этого, но книга чтобы дошла до нас. Со всеми записями». И ничем не угрозил, но взглянул значительно.
В книге ж пока было немного записей.
Первыми шли слова песни, которую пытался записать Иван в каком-то селении, названия которого не упомнил: «Ох, Гагарин, ты, Гагарин, расканалья, голова!.». Других слов Иван не запомнил, да и на записанные взирал с удивлением: никак не приставлялись они ни к каким другим словам.
Неужто, думал, такая короткая песня?
Другая запись касалась камня, якобы упавшего с неба.
Рассказали о камне крестьяне, собравшиеся вечером у обоза в деревеньке Котлы. Думали, привезены на продажу товары. Удивились, ничего не найдя. Кто-то из местных и рассказал: недалеко в этих местах лет пять тому назад падал с неба камень. Величеством не менее воза с сеном, видом багров, сильно светился и ревел, падая. Сейчас его не достать — водой замыло, занесло землей. Но упал с неба, это точно. Местный священник может подтвердить. Пытались даже сбегать за священником, но Иван не согласился. Просто записал: …«Селенье Котлы. Камень спал с неба. Готов свидетельствовать священник, я поверил на слово».
С некоторым сомнением Иван разглядывал следующую запись. …«Село Усцы. Стоит над рекою. Место плоское, одна церковь, исправник грубиян. Бывали у отца духовного Дубинского, бокалов по десяти венгерского выпили и подпиахом. Я никогда еще не видел, чтобы пили столько венгерского. В том же дистрикте на восточном берегу безымянной речки, по-местному Говнянки, есть скала с разными языческими фигурами. Фигуры процарапаны явственно. Теплыми вечерами нагие девки пляшут на берегу, а фигуры отражаются в темной воде, которая, говорят, всегда тут темна, поскольку омут на омуте».
И дальше: …«Город довольно велик, многолюден и цветущ».
А какой город, Иван не записал: или не спросил, или забылось. Зато тут же указывалось: «За поднос огурца — три копейки».
Это ж где так дорого? — удивился Иван. …«Село Уголье. Ямщик сказывал: изымав змея, продернуть меж глаз нить, да бросить ту нить под определенную избу под порог. И чье имя наговорить, на женку или на девку, так каждая указанная, перейдя нить, сама к блуду приходить станет».
Однажды в книгу заглянул господин Чепесюк.
— Я думал… — робко начал Иван, но господин Чепесюк, отложив книгу, впервые ответил ему не взглядом страшных оловянных глаз, а внятным голосом:
— Умеешь рассуждать. Ты бы Апокалипсис сделал ясным. Но за умом не гоняйся. Владей тем, что тебе дано.
И ничего к сказанному не добавил.
Были в книге и повторяющиеся записи. Например: «Село такое-то. Живут татаре. Под видом некоего комплимента спрашивал о маиоре Саплине. Никто не помнит, где маиор».
Делая такие записи, Иван выполнял личное задание думного дьяка Матвеева.
Думный дьяк так приказал: «Начиная с Камня, Ванюша, голубчик, спрашивай о маиоре. Конечно, давно мог маиор Саплин голову сложить, но, может, жив, может, где в полоне. Ужасно жалко маиора, — неукротимый герой. Везде, Ванюша, голубчик, хоть до самой Апонии, спрашивай о нем. Где-то он есть, сердцем чувствую. И о старых камчатских прикащиках непременно спрашивай, которых зарезали вместе с Волотькой Атласовым. А особенно, про убивцев Волотьки. Двоих убивцев, слышал, что наказали, но точно не знаю. Во всяком случае, хоть один да ходит еще по свету. Может, это его называют шепелявым, как знать? Если встретишь шепелявого, да почувствуешь, что на нем Волотькина кровь — вешай смело, не раздумывай. Виселицы не окажется под рукой, вешай прямо на дереве, дерева не окажется, столь же смело вздергивай на оглобле. Ишь, нашли дело, государевых прикащиков убивать!.».
Зарезанные на Камчатке прикащики напрямую были связаны с Волотькой Атласовым, потому жаждал разобраться с их убивцами думный дьяк. Когда-то на Волотьку были у Матвеева особенные виды. Можно сказать, думный дьяк будущее строил на лихом казачьем голове. А взбунтовавшиеся воры все испортили.
Зарезав Атласова, казаки писали в Якуцк разное.
Вот, дескать, бунт их — не бунт, а воля к порядку. Волотька будто не давал им никаких съестных припасов, собранных с камчадалов. У самого де стоят разные корзины, мешки, туеса вкусных припасов, а казакам он ничего не давал. И аманатов будто отпустил по своей корысти. Будто наговорил аманатам такого, что, убежав в стойбища, дикующие сразу всех родимцев увели в глухие леса, оставив казаков без ясака и всяческого общения. Еще писали в Якуцк воеводе, что Волотька Атласов в пьяном беспамятстве прибил палашом до смерти служивого человека казака Данилу Беляева. На это казаки особенно обижались. Батогами, мол, бей, пожалуйста, только палашом зачем? Нельзя отнимать у казаков жизнь, мало нас на Камчатке, а грамотных, как был тот Данила, почитай, совсем нет. И зря Волотька на них, на добрых казаков, кричал: воры! Это мне, мол, в обычай говорить с самыми высокими людьми! Это, дескать, я разговаривал с самим государем! Мне, дескать, государь и того не поставит в вину, если всех вас зарежу!
Читая казенные бумаги, Иван сильно дивился.
Никак не сходились слова доброй соломенной вдовы и думного дьяка со словами бунтовщиков, писавших в Якуцк о своей вине. Если верить доброй соломенной вдове, тот Волотька Атласов был богатырь, весь белокурый, голубоглазый, никогда не жадный на дорогие подарки, всегда веселый, всегда взглядывающий на всех просто. Если верить думному дьяку, тот Волотька Атласов был умелец всезнающий, прошедший дикие края, расширивший Россию землею Камчаткою, и сильно пополнивший Россию богатством той земли. А вот если верить казакам, которые служили под началом Волотьки и против него взбунтовались, то был казачий голова прикащик Атласов тяжелый хмельной человек. Так и писали казаки: взбунтовались мы не против государя, взбунтовались мы против жадного прикащика. Такой был пьяница, что всю наличную медь перевел на виновареную посуду. Кто ему не нравился, тех прибивал. Некоторых до смерти. Драться начал еще с Москвы, будто насиделся зверь! Если у кого видел красивую лису — сразу отбирал. И не в пользу государя, а в свою. И держал при себе всю казенную подарочную казну, как собственную.
Вот так обстояло дело, если верить челобитной бунтовщиков.
Возмутившись, бунтовщики на сходе начисто лишили Атласова прикащичьего поста, и поставили командиром главного Верхнекамчатского острожка казака Семена Ломаева. Этот Семен стал ведать делами, а Волотьку посадили для острастки в тюрьму, в тесную комнатку для аманатов. Дескать, отпустил казенных аманатов, сам сиди!
Иван явственно видел: глухая бревенчатая стена без единого окошка, пазы заткнуты сухим седым мхом, все равно сквозь щели несет холодом… А есть дают только в том случае, когда не забудут…
Но Волотька, он что? Волотька и из тюрьмы выбрался. Такого русого да голубоглазого не удержишь в клетке. Без всякой помощи добрался до Нижнекамчатского острога, хотел там принять команду и строго наказать воров-ослушников, но прикащик Федор Ярыгин такого права Атласову не дал. Коль надо тебе людей, сказал усмехнувшись, возвращайся в Верхнекамчатск. А здесь мое место. Я на него поставлен государевым указом.
Томясь, стал ждать казачий голова прибытия совсем нового прикащика, назначенного на Камчатку — Петра Чирикова. Тот Чириков, говорили, узнав о волнениях в Верхнекамчатском, с отрядом из одного пятидесятника, четырех десятников да пяти десятков рядовых с двумя пушечками, срочно выслан из Якуцка и спешит к Камчатке, чтобы предупредить дальнейшее воровство.
Когда Чириков был уже в пути, в Якуцке получили новые письма с Камчатки, теперь уже от самого прикащика Атласова — о полном непослушании казаков. Вслед Чирикову срочно бросился гонец со строгим приказом провести на месте жестокое следствие. Однако в Анадыре донесение Чирикова не застало, а слать гонца через Олюторское или Пенжинское моря было опасно из-за множества отложившихся в то время коряков. Тогда их, отложившихся от России, было так много, что двадцатого июня семьсот девятого года они прямо днем не побоялись напасть на отряд Чирикова. В большом бою убили боярского сына Ивана Поклотина, а с ним еще десять казаков. Казну и амуницию разграбили, а живых казаков заставили сидеть в осаде на открытом неудобном месте. Правда, Чириков через два дня прогнал осаждавших, однако, явившись в Верхнекамчатск, провести истинное следствие новый прикащик никак не мог, потому что мало пришло с ним народу. Попробуй, разберись. Своих потом не сыщешь костей.
Осенью на смену Чирикову пришел из Якуцка пятидесятник Осип Миронов.
Так рядом и жили до октября в одном остроге, косясь друг на друга, а из Нижнекамчатского косился на них Атласов. Гадали и спорили, кто главней, кого надо слушаться.
В октябре Чириков сдал острог Осипу Миронову и на камчадальских лодках-батах поплыл со своими служивыми в Нижнекамчатск, чтобы, перезимовав там, уже навсегда уйти в Якуцк Пенжинским морем. В декабре туда же пришел и Миронов, оставив главным на время своего отсутствия казака Алексея Александровых.
Получилось плохо.
Когда, закончив дела, двадцать третьего января семьсот одиннадцатого года прикащики Петр Чириков и Осип Миронов, примирившись друг с другом, вместе возвращались в Верхний острожек, двадцать человек рассерженных казаков из бывшей команды Волотьки Атласова зарезали в пути Осипа Миронова, который осмелился поднять руку на казака Харитона Березина. «За такое мы даже Волотьку Атласова сместили, — сказали казаки Миронову, убивая его. — Неужто думаешь, что такое будем терпеть еще от тебя?» И тут же решили зарезать Петра Чирикова, но Чириков, упав на колени, слезно умолил казаков дать ему время для покаяния.
Дальше произошло то, о чем думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев мог говорить только с сопением и сердито.
Осмелев от пролитой крови, взбунтовавшиеся казаки отправились в Нижнекамчатск, чтобы убить, наконец, главного обидчика. Не доехав полверсты, выслали в острог трех человек со специальным письмом, а сами остались в укрытии. Посланным было строго настрого наказано убить Атласова во время чтения письма, однако посланные нашли прикащика спящим. Будить Волотьку они не стали, отняли душу у казачьего головы прямо во время сна. Только совершив такое, они вошли в Нижний острожек где встали по дворам десятками. А главными учинили казаков Данилу Анцыферова да Ивана Козыревского.
Может, казачий десятник, который был наделен даром молчания и умер в Санкт-Петербурхе на дыбе, и был бунтовщик Иван Козыревский? Может, чертежик новых земель, попавший в руки Ивана, и был выполнен Козыревским? Многое тут сходилось… Ведь прочитывалось на челобитной — Иван, а дальше смутно угадывалось — Козырь… Отправляя Ивана в Сибирь, думный дьяк сказал: «Говорят, Иван Козыревский — совсем неистовый человек. Говорят, он человек большого росту, и всегда при сабельке. А на сабельке высечено слово — кураж. Из ляхов он, значит. И отец, и дед, все у него были из ляхов, воры и убивцы. Двоих убивцев, зарезавших Волотьку, мы знаем по именам — Григорий Шибанко и Алексей Посников. Но третий неизвестен. Скрылся. Кличка, говорят, была у него — Пыха. Найди его, Ванюша, голубчик. Может, Пыха и был Козыревским, а? Непременно найди. Знаю, прошло с тех пор лет немало, но тем, может, даже лучше. Может, перестали таиться истинные убивцы. Встретишь, учини суд. Сразу с виселицей. Коль случится такое, много чего получишь с меня. Обещаю».
«Так в пытошной-то… — напоминал Иван. — Разве в пытошной умер не Козырь?…»
«Да кто ж его знает? Сильно молчал. Такой дар у него оказался. Тоже похож на Козыря, но подтвердить некому. Может, он, а может, и не он. Если вдруг он, то жалко, не успел с ним поговорить, — качал головой Матвеев. — Время, Ванюша, голубчик, все ставит на свои места, ты ищи убивцев. На всех поглядывай со вниманием. Народу в Сибири немного, все знают друг друга. Если вдруг жив тот Козыревский, если где жив и прячется где-то этот Пыха, непременно отыщи его для меня!»
Глава III. Хорошие мужики
Из всяких мелких поручений было у Ивана еще и такое — найти в Якуцке дерзкого статистика дьяка-фантаста, осмелившегося слать в Санкт-Петербурх нелепые отписки, так не понравившиеся Усатому, и там же, в Якуцке, указанного дьяка повесить, чтоб впредь знал дело!
Вот сколько поручений.
Дойти, значит, до Якуцка и повесить дьяка-фантаста. Разыскать по пути неукротимого маиора Саплина. Добраться до южного берега Камчатки, построить большое судно или несколько малых, и на тех судах высадиться на богатые апонские берега. Там взять ясак с робких апонцев, а если они сильны, вступить с ними в переговоры, выгодные государю. А заодно, по пути, как о том просил думный дьяк, разыскать, если окажется возможным, воров, зарезавших казачьего голову Волотьку Атласова.
Мыслимое ли дело?
Правда, позади не лучше.
Позади, в царском Парадизе — смерть страшная на дыбе, да еще с паленым веничком. Он же, Иван, кричать будет, он не казачий десятник, принявший свыше дар безмолвия, а от того и умерший безмолвно. Успел, правда, тот десятник выкрикнуть проклятие — шепотом. Проклял думного дьяка Матвеева, строго глядевшего на него из-за чадящей свечи, проклял тихого писца Макария, мучавшегося сомнениями, как лучше записать показания, которых так и не воспоследовало, проклял, наконец, неизвестного важного человека, от духоты в пытошной утиравшего лицо снятым париком.
Может, и его, Ивана…
Всех проклял!
А вот палача простил. Умер, не презирая палача, хотя палач не мало стегал его паленым веничком. Сунет веничек в камин, подпалит и пошел этак ровненько стегать по голой спине. А все равно казачий десятник простил палача. Молча смотрел, умирая, с дыбы так, будто видел вдалеке что-то свое, никем, кроме него, не видимое.
Может, неизвестные острова…
Море…
Думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев сильно жалел: вдруг, правда, умер на дыбе убивца казачьего головы Атласова, присоединившего к России богатый край Камчатку? Огорчался: «Так хотел мучить убивцу. Всегда думал, что если найду когда-нибудь Волотькиного убивцу, он у меня не умрет простой смертью». Вздыхал: «Ишь, нашли дело — резать государевых прикащиков!» И еще вздыхал: «Господь милостив. Говорят, вор Данила Анцыферов, вор и атаман воров, погиб лютой смертью. Сгорел в балагане. Сожгли его дикующие в балагане. А про Козыря ничего не знаю. Потерялся в Сибири след Козыря, об этом ходят всякие слухи. Не знаю, какой верен». И снова вздыхал, как тучное морское животное: «Жалко, если умер в пытошной Козырь. Жалко, что поздно меня позвали. В моих руках убивца мучился б дольше».
Было видно, что жалеет думный дьяк от души.
Да и то правда. Ему, может, судьба послала одного из убивцев Волотьки Атласова, из самых дебрей камчатских привела убивцу в Санкт-Петербурх, а он, думный дьяк Матвеев, оплошал — ничего о том не узнал вовремя. Конечно, обидно. Ведь собственными руками мог дотянуться до горла!
А еще чертежик.
Смотрел с сомнением на Ивана.
Казачий есаул вор Козыревский, может, впрямь ходил на неведомые острова. Может, не на самые далекие, но ходил. Кураж был у Козыревского, это верно, не только надпись на сабле. Достоверно известно, что, зарезав на Камчатке трех прикащиков, казаки стали жить вольно. Много гуляли, делили между собой добро убитых. Верхний острожек превратили в настоящий вертеп — проводили самозванные казачьи круги, самовольно выносили знамя, били в барабан, приглашали на круг всяких других казаков. Таким образом собрали воровской отряд аж в семьдесят человек. Вора Данилу Анцыферова выбрали атаманом, грамотного Ивана Козыревского — есаулом, сильно пили, а кто жевал мухомор. С Тигиля привезли богатые личные пожитки Атласова, их тоже разделили и пропили. А потом самые хитрые, вор Анцыферов да вор Козыревский, придумали послать в Якуцк челобитную. Повинны, мол, в том, что убили казенных прикащиков; так те прикащики донимали нас больше, чем мухи, вот и получили по чину! А мы, грешные, отмолим свое. Мы не против государя. Мы служим только государю и в ближайшее время проведаем, к примеру, Курильские острова. Много слышали, что те Курильские острова богаты и населены. Мы бы, может, раньше их объясачили, да мешали жадные прикащики… Всяко ругали за жадность Петра Чирикова и Осипа Миронова, а о Волотьке Атласове вообще молчок, будто никогда не было такого на свете. Посчитали, наверное, что даже говорит о таком не стоит. Прикащик, смещенный самими казаками, он ведь уже не прикащик, он хуже самого плохого казака.
Вспоминая про ту челобитную, думный дьяк Матвеев становился лицом сер.
Виня убиенных прикащиков в корыстолюбии, бунтовщики так выворачивали дело, будто главному государеву прикащику совсем нельзя никого убивать, а вот им, простым казакам, можно отнимать души у крещенных. Оно понятно, прикащики не без греха. Хорошо, наверное, ели за счет казны, не мало притесняли служивых да ясашных, принудительно выдавали товары казакам не по государевым, а по своим ценам, так ведь они кем? — они самим государем поставлены!
А ворам невдомек.
Нового казенного прикащика Василия Севастьянова, посланного якуцким воеводой навести на Камчатке порядок, воры, привыкнув к вольнице, совсем не испугались: ну, сколько там пришло с Севастьяновым людишек?… Данило Анцыферов, распоясавшись, вел себя полным хозяином Камчатки — сам собирал ясак, сам распоряжался казенными припасами, посмеиваясь да щурясь, присматривался к Севастьянову — не зарезать ли и этого?
Не успел. Самого дикующие сожгли.
Другие казаки, особенно воровской есаул Козыревский, тоже громко стучали кулаками в грудь: чего, мол, эти прикащики? Было ведь в старинные времена: резал прикащика казак Черниговский, так тому казаку были прощены все вины за его подвиги, посвященные государю. И мы так же сделаем! И мы совершим большой подвиг! Вот присоединим к России новые острова! «И ведь, правда, удалялись от камчатских берегов, — дивился думный дьяк Матвеев. — Чертежик, Ванюша, голубчик, который ты нашел в чужом мешке, он, может быть, составлен тем Козырем. Вот как далеко зашло. Ты, Ванюша, голубчик, все внимательно проверь на Камчатке. Может, лгал вор Козырь, может, не ходили бунтовщики в сторону Апонии, придумали маппу из пустого ума? Может, просто решил самозванный вор-есаул, по присущей всем ворам дерзости, удивить царский Парадиз таким вот чертежиком? Удивлю, подумал, тогда многое простят, даже убиение прикащиков простят. Более того, мог подумать, что дадут ему, храброму казаку, казенных людей, всяческие казенные припасы и прикажут крепить путь в Апонию. Может, даже дадут медные пушки, пугать робких ниффонцев. А он, храбрый казак, а на самом деле вор, вор, вор, примет пушки и снаряжение, и незаметно сядет где-нибудь есаулом на неизвестной речке».
— Да где? — изумленно спрашивал Иван.
— Где, где!.. Сибирь велика… А за Сибирью Камчатка… А за Камчаткой, небось, есть и другие земли…
Зимой, заезжая к соломенной вдове Саплиной, думный дьяк подолгу разговаривал с Иваном. И главным вопросом всегда был один: верна ли найденная в мешке неизвестного десятника маппа? Могло ли так быть, чтобы вор Козырь, он же, может, воровской есаул Козыревский, действительно ходил в сторону Апонии?
Иван пожимал плечами:
— Мог, наверное…
Тогда думный дьяк Матвеев добавлял страшное:
— Сам проверишь! — И сердито смотрел на Ивана, будто корил чем-то. А потом и впрямь корил: — Ты не бледней, Ванюша, голубчик, и голову не отворачивай в сторону. Сам виноват. Тебе ль не житье было? В хороший приказ ходил, чертил маппы, знал несколько языков. Работать умел, это говорю прямо. Глядишь, милостью Божией да старанием с течением времени заменил бы меня. А теперь — все. Не вернуть сказанных слов, не переделать сделанного дела. Как ни крути, а придется тебе, Ванюша, голубчик, идти в Сибирь. Государь уже дважды спрашивал: как там этот умный дьяк, знающий путь в Апонию? Готов ли двинуться в путь, чтобы вести секретную экспедицию?
Может, преувеличивал Матвеев, но Ивана при таких словах обдавало смертельным холодком. Тогда думный дьяк, колыхаясь тяжело, как морское животное, удовлетворенно усмехался:
— Нетерпелив государь. Несколько раздражен размерами собственного Отечества. Да и как не раздражаться, как управлять таким Отечеством? Пошлешь какую весть на окраину, а ответ оттуда через год, а то и через два приходит.
Вздыхал:
— Где еще есть такая страна?
Изучающе смотрел на Ивана:
— Твоя главная сила, Ванюша, голубчик, в том, что ты еще не старик. Когда Волотька Атласов устраивал поход на Камчатку, ему было чуть за тридцать. И тебе так же. Так что, если захочешь жить, многому научишься. А не научишься, зачем тогда вообще жить?
Грустно смотрел на Ивана, будто не верил в сказанное.
— Я так думаю, Ванюша, голубчик, что ты не выживешь в Сибири или убьют тебя. Даже, думаю, непременно убьют, ты ведь в дороге, несмотря на запрет, будешь прикладываться к ржаному винцу. Ты упрям, весь в отца. Твой отец несчастливый стрелец Иван был таким же. Но ты, боюсь, не дойдешь до Сибири. Мне тебя жалко, Ванюша, голубчик, тебя, наверное, еще в России убьют. Но идти нужно. Уже нельзя не идти. Для тебя сейчас оставаться в России страшнее. У государя особенная память на нужных людей. Он помнит даже о статистике дьяке-фантасте, который из Якуцка нелепые отписки шлет. Два раза вспоминал о нем, громко смеялся. Две тысячи лет, значит, той деревне? И все повторял: непременно повесить дьяка-фантаста! Все знают, какая особенная у государя память. Если ты, Ванюша, голубчик, вдруг вздумаешь сбежать по пути, даже старательно спрячешься где-нибудь, знай, что все равно нигде тебе не отсидеться, потому что Россия принадлежит не тебе, а государю. Как вспомнит государь, чего это, мол, мелкий дьяк Крестинин из Апонии никак не идет? — так и возьмут тебя. Где бы ты ни прятался, все равно возьмут. А виселиц в России много. В России, Ванюша, голубчик, все годится под виселицу, даже оглобля. Будешь пугать людей, тихо на ветру раскачиваясь.
Вздохнув, добавлял:
— А как иначе? Государь печется о государстве.
И качал головой:
— Характер у тебя вздорный, Ванюша, голубчик. Сам будишь Лихо, и всегда не ко времени. Ведь был уже раз в Сибири. Тогда, в первый раз, отделался мелочью — пальцем, а сейчас отделаться можешь головой.
Вздыхал:
— Ладно. Будет при тебе верный человек, Ванюша, голубчик. Сильный государев человек с личным государевым поручением. Ты таких, как этот человек, наверное, никогда не встречал. Зовут господин Чепесюк. Он мне лично верен. Что надо, все сделает. Пока будет жив, ты, Ванюша, голубчик, тоже, может, будешь жить. Правда, молчалив господин Чепесюк, но вы не болтать едете.
И добавил значительно:
— И строг.
В том, что господин Чепесюк строг, Иван убедился еще в России.
Всегда в широкой накидке, под накидкой немецкий кафтан, пояс с ножом и пистолетами, с лицом ужасным, сильно попорченным ударами сабельки, господин Чепесюк ни на что слов не тратил. Если надо, манил пальцем или молчаливо с вопросом взглядывал сразу обоими оловянными глазами — и тот, кого он пальцем манил, и тот, на кого он взглядывал сразу обоими оловянными глазами, старались все сделать хорошо.
Умел все.
А как иначе?
Известно, сам государь не брезгует никаким занятием, работает топором, вертит токарный станок, паникадило выточил из кости, чертит маппы, почему же господин Чепесюк должен чем-то брезговать?
Год идти до Якуцка? Бесконечен путь? Это тоже ничего. Видно, что ко всему такому господин Чепесюк относился ровно. Это Иван все мучился. Вот, дескать, идешь, идешь, а ничто не кончается. То лесок какой, то елань, то болотистая согра — вся кустиками поросла. То снова лесок на ржавцах, на рыжих лужах, много, видно, железа в местной земле. А в тихих лесах медвежьи тропы протоптаны к воде, справа и слева деревья, березы спутались ветвями, в чащах схоронились неизвестные деревни. В некоторых деревнях прикупали свежие припасы, спали не в избах, где клопы да тараканы на человека ходят стеной, а на лугу под телегами, под открытым небом. Аж сердце начинало щемить — куда ж это зашли?…
Уставая от тряски, Иван сходил с возка, шел рядом.
Дивился: это как так? Который месяц идем, а к цели еще и не приблизились!
От таких мыслей, от долгих пространств, от необъятности небес и земли нападала на Ивана бессонница. Да такая, что ночью, мучаясь, выпивал крепкого винца по два-три шкалика. А облегчения никакого. Только глаза сильно выпучивались и начинали как бы в темноте видеть. Всякое начинали видеть. И прожитую жизнь, и нынешнюю скорбную, и еще что-то такое, от чего еще ясней, еще непреклонней, еще страшнее, чем прошлое или настоящее, открывалось Ивану будущее.
Прошлое, ладно. Ведь в Сибирь ходил не по своей воле. Он просто был ребенком, а с отцом случилась беда. От той Сибири, думный дьяк прав, действительно отделался дешево — всего одним пальцем. Но ведь намек, намек! Сидеть бы Ивану тихо. В доме доброй соломенной вдовы Саплиной всегда тепло, изразцовые плитки сверкают, как леденцы. Возьми в руки книгу немецкую тяжелую и дремли. И хорошо, и покойно, и уважение от доброй вдовы — пригрела ученого близкого человека. И у сенной девки Нюшки зад крепкий, округлый, приятно ущипнуть сенную девку Нюшку за высокий бок. Нюшка мимо проходит, дыхание затая, старается не мешать, старается помнить строгий наказ барыни — к Ивану близко не приближаться, но всегда почему-то проходит близко, будто затем, чтобы мог дотянуться до высокого бока…
Вдруг удручался: где сейчас тот парнишка, который когда-то отнял у него палец на левой руке? Где сейчас сын убивцы, пойманный в сендухе под Якуцком? Что сделалось с тем парнишкой? Нащупывал на груди крест из темного серебра. Ведь как бы в уплату за собственный палец сорвал сей крест с дикого парнишки. Он, наверное, вырос, если его не убили… Поверстался, наверное, в казаки, ходит по студеным краям, усмиряет немирных дикующих…
Вспоминал Иван и старика-шептуна.
Много чего наговорил тот старик, уши б ему отрезать. И внимание царствующей особы… И поход до края земли… И любовь к дикующей… Не верил Иван гаданиям, смеялся над клюшницами да юродивыми, усмехался, когда предупреждала добрая соломенная вдова с нескрываемой боязнью — ты, дескать, Ванюша, не спеши, пророчества, они не сразу сбываются… Не верил, не верил… Все одно вранье… Только ворочаясь в бессонной ночи, вдруг спохватывался: а может, все-таки не вранье? Вот ведь отмечен вниманием царствующей особы, отмечен вниманием Усатого… Вот скрипят подводы, катятся на восток… И не куда-нибудь в деревню, даже не в Москву, даже не к плоскому солдатскому городу Санкт-Питербурху, а к настоящему краю земли!.. Не дай Бог, думал, глотнув из дорожной верной баклажки, если я когда-нибудь, как тот ученый богослов Козьма Индикоплов, достигну истинного края земли…
Но если достигну, так себе поклялся, то на этом не остановлюсь. Я дерзко, как тот богослов, загляну за хрустальный свод, — туда, где соприкасаются небо с землей. Если не окажется там никакой дырки, сам проверчу. Можно ведь в хрустальном своде провертеть дырку?… Там, за хрустальным сводом, подумал, дремлют, наверное, большие киты, на которых стоит мир…
Корил себя — грех так думать. Если учился наукам, зачем вспоминать каких-то китов? Но если был пьян (а пьян в дороге был постоянно), в голову непременно приходили древние киты, на которых стоит мир. Иногда думал совсем грешно: вот проверчу дырку в хрустальном своде и жахну по тем китам из пищали!..
Все надоело.
Подводы скрипели, ржали лошади, кричали птицы. Волк робкой рысцой пробегал вблизи. Деревеньки все реже, леса все глуше. Правильно раздражается Усатый — велика Россия. Все уходит, уходит в туман, в синеву, в марево, никто не может точно сказать, где лежит самая крайняя окраина России? Может, там, где с примкнутым к ружью багинетом охраняет гору серебра неукротимый маиор Саплин? Или там, где кончаются российские острова, еще неведомые России?
Заметки, найденные в казачьем мешке, который вслед за ним выкинули из санкт-петербурхского кабака, помнил наизусть. «Государство стоит в великой губе над рекою, а званием — Нифонское. А люди называются государственные городовые нифонцы. А морские суда вплоть к берегу не подходят, стоят на устье реки, товары везут мелкими особенными судами. Зимы там нет, а каменных городов немного — всего два. Царя видеть не полагается, а коль выезд назначен, падают люди наземь и смотреть не смеют. А звание тому царю — Кобосома Телка…»
Хоть не божье имя — Телка, да еще Кобосома, а насчет выездов правильно, пьяно одобрял Иван. Раз назначено падать наземь при появлении царя, пусть падают, смотреть нечего! Мало ли как выглядит тот Кобосома Телка… Вспоминал: «А город Какокунии — особливое владение, много лесу в нем, злата… А в губе морской недалеко еще город званием Ища, еще одно особливое владение. А владеет им Уат Етвемя…» И дальше хорошо: «…Совсем почти, как царь Кобосома Телка». То есть и его, простого царя Уата Етвемю, ниффонцам надо сильно страшиться. Как услышали, что кричат вдали охранники царские, сразу падай ниц, забудь обо всем, пусть проезжают мимо. И царь Кобосома Телка пусть проезжает, и царь Уат Етвемя тоже за ним.
Странный народец.
«Из Нифонского государства в Узакинское ходят морем. Пути месяц-два, если бурь нету. А узакинскому царю имя Пкубо Накама Телка…» Опять — Телка… Только Пкубо. И почему-то Накама. «И ходят туда и из других государств, например, из китайского… Товары везут — серебро, которое там родится, и шелк, и разные другие товары…»
Значит, и китайское государство… Значит, и Индия… Гордо думал: ведь вот как широко распространилась Россия, упирается локтями во все страны… Значит, все в Россию должно входить — и Китай, и Индия… Я, секретный дьяк, этому помогу…
Перекрестился.
Грех, грех.
Но сам со значением ухмыльнулся — вот, дескать, даст Бог, может, и правда дойду до края земли… Может, какую дикующую встречу, которая не самая страшная…
А чужая жизнь?
Вот этого не понимал.
Отказывался понимать.
Если жизнь проживет чужую, то как быть с собственной?
От непонимания приходил в себя, большим глотком из баклаги утушал душевный пожар. Опомнись, Иван! Какой край земли? Какая дикующая? Какая такая чужая жизнь? Твердо и окончательно решал — сбегу. Пойду по миру каликою перехожим. Милостынею продлю неудавшуюся жизнь… Глядя в темное небо, иногда покрытое сырыми быстро бегущими облаками, печально вспоминал санкт-петербурхскую пытошную и казачьего десятника, распятого на дыбе. Вот, дескать, сбегу, а меня поймают. А когда поймают, повлекут в пытошную. Так обещал думный дьяк дядя родной Кузьма Петрович. А ему зачем врать? Я не хочу в пытошную, лучше в омут… Может в омуте рай?… Для меня, так много страдавшего, теперь в любом омуте рай…
В Сибирь окончательно расхотелось Сибирь велика, неподвластна взгляду, а все равно тесна. В одном месте сказали, в другом сразу услышали. Птица ли передаст, баба ли, или охотник на лыжах перебежит снежную пустыню, неважно. Где что случись, везде о том все знают. Обоз выйдет из Москвы, будет идти год, а новости во все стороны сразу распространятся, еще за год до прихода обоза все будут знать, кто идет с тем обозом, и что лежит в санях. Давно уже, наверное, знают и про наш обоз. Давно, наверное, знают, что идет с обозом странный человек — секретный дьяк Иван Крестинин.
Обрывал себя. Велика птица!
Если о ком-то знают, то, скорее, о строгом господине Чепесюке.
Обреченность осознав, по-русски остро жалел якуцкого дьяка-фантаста. Сидит статистик под Якуцком, сочиняет лета деревне, тихий, ни о чем не догадывается, может, выпивает, как полагается хорошему статистику, и не знает, конечно, что и он теперь отмечен вниманием царствующей особы — ведь государь лично приказал за многие труды повесить того фантаста.
И кому приказал? Ивану! Странен мир.
Думал, совсем пьянея: а вдруг не буду сражен в походе стрелой дикующего, не буду убит холодом да голодом, миную горы и моря, действительно дойду до островов, на которые никто до меня не ходил? У государя память отменная. Вернусь, скажу скромно: вот я, секретный дьяк Иван Крестинин вернулся. Нашел многия горы из серебра, у России теперь отпала нужда в серебре. Усатый сильно обрадуется, он простой, он к собственному столу допускает офицеров, выслужившихся из низов, широко распахнет руки — на, возьми, ученый секретный дьяк, любые крепкие деревеньки! Хоть тыщу крепостных душ возьми! А то так и две! Заслужил.
И обнимет.
Иван поежился.
Обнимет, а потом как-нибудь на ассамблее, почетно посадив рядом Ивана, вспомнит: «А как там поживает якуцкий статистик некий дьяк-фантаст, многие лета приписавший деревне?» — «Да никак, — ответит Иван Усатому. — Повесил я дерзкого фантаста». — «Как повесил?» — «А за шею, как ты, государь, приказал». А Усатый обидится, изобразит багровость на круглом кошачьем лице — я, дескать, как приказал, глупый дьяк? Я тебе так приказа, статистика, чтобы статистик впредь знал дело!
И на дыбу Ивана.
За Апонию, дескать, большое спасибо, а вот за неправильность исполнения царских приказов — на дыбу. Ведь приказано было, чтобы впредь дело знал.
Строг Усатый.
Рассказывали, был однажды Усатый болен. Был так тяжел, что по старому московскому обычаю (случилась болезнь в Москве) больному государю предложили освободить из тюрем несколько человек преступников, приговоренных к смертной казни. Дескать, пускай прощенные преступники помолятся от всей души о полном царском выздоровлении. Но Усатый, хоть и умирал, с тем предложением не согласился, даже напротив, приказал незамедлительно казнить всех указанных преступников. И сразу пошел на поправку. Так что, чего жалеть какого-то секретного дьяка?
Однажды ночью Иван проснулся на постоялом дворе.
Дождь перестал, на улице было тихо. Он и проснулся от предутренней тишины. Из-за дождей все проезжие сбились в одном помещении. Куда ни повернись, кругом люди. Кто сушится, кто греется, кто просто лежит, а четвертые еще смешней — пытаются отпугнуть клопа. А простого клопа как отпугнешь, если он везде, если он ни на что не обращает внимания? В низкой почтовой избе духота, густой пар от мокрого платья. И отовсюду шепотки.
Иван прислушался.
Лиц не видел. Только голоса.
«Французу? — спрашивал кто-то. — Жалованье поболее? Это почему ж?»
«А он весельчак — отвечал другой. — Он все, что получит, все проживет в России. Чего такому жалеть?»
«Ну, а англичанину?»
«А англичанину надо давать более».
«Да почему же?»
«Да потому, что англичанин любит жить хорошо. Он и полученное оставит в России и еще к тому своего добавит».
«А немцу?»
«И немцу много. Он пить и есть любит. У него из заработанного мало что остается».
«Ну, а голландцу?»
«Вот голландцу можно и недодать. Голландец готов не есть, лишь бы поболее накопить деньжат. А нам это ни к чему».
«Ну, а итальянцам, к примеру?»
«Вот этим точно нужно срезать. Умеренно устроены люди, сами того не скрывают. Для них служба в чужих краях только затем и есть, чтобы поднакопить денежек да вернуться к себе. Вернуться и спокойно жить в своем раю, в Италии. В раю, я тебе скажу, в деньгах всегда недостаток».
Скушно.
Обороняясь от клопов, Иван никак не мог вспомнить, осталось ли винцо у него в баклажке? И вдруг подумал, пораженный тишиной во дворе и шепотками в душной низкой избе: а ведь нельзя больше жить как клоп, нехорошо это, не по-божески. А он, Иван, ведь истинно живет как клоп. Разве он не по собственной глупости оказался на Бабиновской дороге, в прелой избе? Неужто теперь так до конца жизни катиться без всякого ума и воли, только туда, куда укажет чугунный господин Чепесюк?
Почувствовал, если не выпьет сейчас — умрет. А выпьет — тоже, наверное, умрет. Может даже обязательно.
Пошатываясь, вышел в сенки, там тоже кто-то храпел. Потом остановился на невысоком деревянном крыльце. Господи, сказал тоскливо, подай знак. Я пойму, только подай. Если увижу знак, все решу правильно.
Накрапывал мелкий бесшумный дождь. Капли лопались в темноте, из внутренностей избы несло горелой лучиной, шерстью, человеческим потом, и хорошо печально пахло во дворе сырой теплой землей, листьями.
Вдруг сквозь ночь, сквозь печальную мокрую мглу сверкнула в глаза зарница.
Да бывает ли так? — подумал Иван. Ночь, как сырая подушка, все в ней слиплось. Как может пройти свет сквозь такую мокрую мглу?
Значит, знак! — понял. Это знак божий!
И подумав так, как был, даже ничего не набрасывая на плечи, побрел к возку.
А над миром вновь пробежало мерцание по небесам.
Капель негромкая, что-то мелкое, живое шуршит в мокрой траве, крикнул вдали петух. Сунул руку под полость, нащупал дорожную баклажку. Совсем немного осталось! На самом дне. А ведь скоро пойдут места, где не учинишь никаких запасов. Тут указ государя винцо не продавать ведрами не действует, а все равно ничего не купишь.
Шумно глотнул.
Обожгло.
И в небе все вспыхнуло, обожгло, высветило до дна.
Сделав еще глоток, Иван понял: все, кончился путь. Отныне никогда не видеть ему добрую соломенную вдову Саплину, никогда не знать ничего о думном дьяке Матвееве, не щипать сенную девку Нюшку за высокий бок, не ждать из Сибири неукротимого маиора. Никогда ничего такого теперь у него не будет.
Мысль была, как вспышка. Сразу зажегся. Сразу решил: теперь все, пойду по дорогам. Люди в России добрые. И не беря ничего, только хорошие сапоги натянув на ноги, да накинув на плечи кафтан, с одной почти пустой баклажкой в руках ушел в ночь.
Иван сидел на деревянном крылечке трактира, голова болела. Он ничего вокруг не узнавал и не помнил, все казалось странным. Ни дороги рядом, ни возков. Ни лошадей, ни братьев Агеевых. Ни даже страшного господина Чепесюка. Только мнилось, что недавно разговаривал с покойником. Может, и на кладбище, потому как была там яма. Он, Иван, тихо брел по кладбищу и услышал шум в земле. А из ямы комья летели. Иван так и решил: подойду. Если даже выкапывается кто, все равно подойду, поговорю с покойником. И спросил негромко, чтобы не напугать:
— Эй, покойник? Чего делаешь?
Из ямы высунулся испуганный человек. Подстрижен под скобку, аккуратен, в руках лопата:
— А ты кто таков?
— Вот сбился с дороги, — вроде бы объяснил Иван.
— Тогда иди вправо, — сказал человек из ямы. — Аккурат выйдешь в край улицы. Там и кабак.
— Да ты-то что делаешь?
— Известно что, копаю могилу.
— Да зачем ночью?
— Какая же ночь? Окстись.
А может, и померещилось… С чего бы стал покойник указывать дорогу к кабаку?
Еще помнил, что встретил на околице села древнего старца в клобуке, в черной рясе. Старец сурово взглянул на Ивана, терпеливо месящего грязь заплетающимися ногами, но несколько смирился, когда Иван припал к его натруженной в мозолях руке:
— Благослови, отче.
Старец нисколько не удивился, только спросил:
— Что ж ты, как тать, один, и в лице ни кровинки?
— Жизнью унижен жестоко.
— Чего ж не смиришься?
— Сил нет.
— А почему не спишь?
— Мысли замучили.
— На то воля божья. Чего удумал?
Сам того не желая, (бес тянул за язык), Иван ответил:
— До края света дойти.
— Это куда ж? — опять не удивился старец.
— В Апонию.
— А идешь совсем в другую сторону, — сурово покачал головой старец. — В той стороне Апонии нет. — И спросил: — Зачем тебе в Апонию?
— Знать хочется.
— Это от бесов, — еще суровее предупредил старец. — Желание узнать о том, что тебя не касается, это и есть пленение бесами. — И потребовал: — Кайся.
Иван покаялся.
Древний старец долго разглядывал Ивана.
На беглого Иван, конечно, не походил, руки белые, мягкие. Опять же, на плечах немецкий кафтан, хоть и измят, но нов. И сапоги не сбитые. Есть такие барины, что любят в ночь выходить пьяными, а потом много каются. Чего-то такого уж особенного в этом нет, но у Ивана сильно горели глаза. Старец так и решил, что Иван что-то задумал. Благословя, посоветовал:
— В той стороне Апонии нет. В той стороне только кабак. Не ходи туда. Возвращайся к своим. У меня глаза не сильные, но я вижу, что ты не тутошний. Не ходи в кабак, плохой здесь кабак.
Иван кивнул и послушно спросил:
— Почему плохой?
— А потому, что место нехорошее, — сурово объяснил старец. — Село большое, зовут Верхово. По понедельникам и пятницам большие базары, от того в кабаке много продается вина.
— А сегодня какой день? — безнадежно спросил Иван.
— Пятница, — еще суровее ответил старец. — Ты не ходи в кабак. Там тебя оберут. Там всех обирают. Такое место. Как вертеп. Там ни один целовальник подолгу никогда не мог усидеть, почему-то у всех является недобор в деньгах, а в вине большая усышка. И каждый жалуется, будто ночью является кто-то в кабак и цедит без спросу вино из бочек. А один целовальник догадался зажег свечу и увидел карбыша, кикимора такого, который сердито отбегал от огня и от бочки в дыру, прокрученную в полу. Это совсем всех напугало. Кому ни предлагали после такого дела кабак на откуп, никто не берет. Даже вот даром предлагали, никто не осмеливался.
— А сейчас?
— Сейчас нашелся один безбожник, — древний старец посмотрел на Ивана и строго положил Божие знамение. — Отдали кабак одному пьянице и моту. Ты туда не ходи. Этого целовальника не раз штрафовали. Он нездешний. И фамилия у него нездешняя, — старец сплюнул остатками сохранившейся в нем слюны. — Похабин. Вот какая фамилия. А какое имя, даже и не знаю. Может, нет у такого плохого человека имени.
— А карбыш? Ну, этот кикимор… Он как? Приходит к Похабину?
Старец кивнул:
— Говорят, в самую первую ночь пришел. А этот Похабин хорошо приготовился. Поставил на стол сальную свечу, положил рядом с лавкой вострый топор…
— Выпил, наверное… — с надеждой подсказал Иван.
— Он не может не выпить, — еще раз сплюнул древний старец. — А ночью услышал, впрямь кто-то цедит вино. Зажег свечу и прямо нарвался на карбыша. Даже занес над карбышем топор, а карбыш ласково говорит, давай, дескать, мужик, лучше выпьем вместе…
— И выпили? — с надеждой спросил Иван.
— Да, наверное, и сейчас пьют, — строго предупредил старец, перекрестясь. И опять предупредил: — Ты не ходи в кабак. Там место плохое, и люди плохие. Этот Похабин, да вор Мишка Серебряник, да бывший мельник Кончай. У него изба топитца, а он сидит в кабаке.
— Ты вот тоже хорош, — вдруг не согласился Иван. — Мне-то до всего какое дело?
Вот и сидел теперь на крылечке плохого кабака, мысленно представляя, как войдет сейчас, как неторопливо обожжет глотку первым глотком ржаного винца, как постепенно растает в сердце тревога, отпустит сердце. Старец вроде сказал, что мужики в селе, в общем, хорошие. Как не посидеть с хорошими мужиками, они ведь в России везде хорошие, мало ли что темные? Их жалеть надо. Как с ними не поговорить о своей мечте — идти на робких апонцев или не идти, оставить робких в покое?
В кабаке пойму, подумал.
Крикнула кукушка в лесу. Прислушался. Ну? Сколько мне жить?
Насчитал двести три раза и плюнул. Чокнутая кукушка!
Собравшись с силами, вошел, наконец, в трактир.
Крепкая изба на погребе, на дверях крючки железные. На стойке бочка в пять ведер, латунное военное ведро. Обычный кабак, изба питушная, ничего в ней святого, кроме как в углу образ пречистыя Богородицы казанской. Ну, еще стол дубовый, очень большой.
Обрадовался.
На лавках сидели за столом несколько мужиков. Гулящие, видно. Кто без рубахи, кто голову повязал бабьим платком. То ли проигрались в зернь, то ли просто давно не спали — рожи у всех опухшие. Особенно у рыжего целовальника. Только на целовальнике и был кафтан — недорогой, стеганый на бумаге, подбит камкою, когда-то, наверное, красною, а сейчас серой от времени. И пуговицы оловянные. Совсем бедный кафтан. Но все же кафтан. Не так, как у других мужиков.
Увидев Ивана, мужики начали качать головами, как гуси. Наверное, здоровались. Так Иван и подумал: вот хорошие мужики. В России ведь плохих нет. Это только так говорят — плохие, а на самом деле и все плохие мужики в России тоже хорошие. Если обидят, так ненароком, сами потом будут сильно каяться. В сущности, он, Иван, сам хотел стать таким мужиком. У одного немца читал: все люди когда-нибудь станут хорошими, всем будут делиться, и дружно и подолгу обсуждать всякие большие проблемы. К примеру, небесную механику, потому что небесная механика — она что? Она круг вечный вертящийся, как бы колесо, а хороший мужик всегда и в самом большом колесе разберется, ему любое колесо нипочем, ведь в нем, в русском мужике, мудрость веков, и с этим никому, кроме Господа, не справиться. Поговорить с хорошим русским мужиком всегда интересно, у хорошего русского мужика и мысли хорошие, русские.
Глянул на гулящих, перевел взгляд на кабатчика. Сердце сразу налилось жалостью, всем захотелось помочь. Сказал внятно рыжему целовальнику:
— Налей всем винца.
Гулящие враз оживились, толкая друг друга локтями, зашептались быстро, качая головами, как гуси, но рыжий целовальник глянул неласково:
— Разве за так, барин?
— Почему ж за так? Разве я сказал — за так?
И бросил перед рыжим целовальником несколько денежек.
Медны денежки гремят, во кабак идти велят, ой люди, ой люли!..У нас много денег есть, мы оставим деньги здесь, ой люли, ой люли!..Рыжий целовальник засуетился, смел тряпкой со стола крошки, выставил на стол штоф, горох моченый, грузди. Сказал весело: «Ломай шапки, робята!» Хорошие мужики, не переставая перемигиваться и толкаться локтями, привставали и быстро кланялись, жадно поглядывая на выставленный перед ними штоф: «Вот добрый барин…» — «А то всякие ездют…» — «Один пузатый ездил… Все врал… И был жадный…» Приглядывались к Ивану, смекали что-то свое. «Слышь, барин? У нас такое место, что ни разу не было в селе чуда. Уже деревья старые, и некоторые избы давно совсем прохудились, а чуда нет. Почему так? У всех где-нибудь было, а у нас нет».
А сами перемигивались, толкались локтями.
Кто-то, правда, возразил:
— Как не было? Говорят, под Калиновкой неизвестная девка роет по ночам пещеру. А когда роет, все вокруг освещается неестественно. — И вдумчиво предложил: — Пойдем, барин, посмотрим.
— Я не пойду, — отказался Иван. — Я пить хочу. — Но смиренность мужиков Ивану понравилась. Хорошие робкие мужики, землю, наверное, охаживают, и вопче душевная красота. Может, дудошника позовем, подумал Иван, пусть посипит в дудку, потешит мирских людей. Они, видно, и голодны, вон как смотрят на грузди, на моченый горох, на еду постную. Таких покормить, так дойдут до Апонии. Но прежде чем разрешить налить, спросил под подобревшим взглядом рыжего целовальника: — Чем край богат?
— Богатейший комарами наш край, — ответил кто-то с гордостью, не скрывая жадного нетерпения. — Летом бывает, хоть кулаком бей по гнусу! А вот с чудом, барин, никак. Никакого нет у нас чуда.
— А вот Похабин!.. — напомнил кто-то.
Ему возразили:
— А чего Похабин?…
— Так не утонул же! Вот сам стоит. Живой.
— Какое же это чудо? Это простая жизнь, — покачал головой Иван.
— Да нет, я мог утонуть, — степенно кивнул рыжий целовальник. — Правда, Господь не дал.
— Ну? — повел глазами Иван.
— Да я что, барин? Я тут как-то ходил к мельнику, поселился у нас новый мельник. Он часто сидит над колесом над водой и перешептывается с щуками. И тут гляжу, сидит. Только странный какой-то. Как бы не стриженный и весь в плесени. Я, барин, присмотрелся, и гляжу — водяной. Спрашиваю с уважением: «Куда собираешься?» А водяной ухмыляется: «Да вот в воду спать». Я говорю: «Возьмешь меня?» А он ухмыляется, дескать, чего же? И говорит: «Пойдем, мужик. Я не против. Только у меня строго. Пальцем ни на что не указывай, не то утонешь». Я согласился. Чего ж? В воде сыро, как в погребе, темно, рыбы великое множество. Я сперва смирно шел, а потом гляжу — щука. Саженей пять, не меньше, и глаз кривой. Мне жалко стало, я ткнул ее пальцем в остальной глаз. Чего, думаю, жить тебе одноглазой? А как ткнул, сразу залило меня водой со всех сторон. Если бы не настоящий мельник, который в то время пришел на берег, не стоял бы я сейчас перед тобой, барин.
Хорошие мужики дружно кивнули — точно, не стоял бы. А один, повязанный бабьим платком, сказал восхищенно:
— Похабин у нас чахотошный.
— Это как? — не понял Иван.
— Да он говорит, что его в детстве бил конь ногой. Через это и пьет, ради большого недуга. Похабина бабы за то жалеют. Он где выпил, там упал. Кабан его порол в канаве, лошадь била, а он пьет.
— Ну, раз пьет, — согласился Иван, — пусть себе нальет с махом. — И показал как это — две трети простой, значит, а на одну треть двойной водки.
Рыжий целовальник, широкоплечий, совсем не похожий на чахотошного, охотно налил себе с махом. И, глядя на все это, опять с тайным значением улыбнулись, перемигнулись, толкнулись локтями хорошие мужики.
— А куда же ты один, барин? — спросил кто-то с напускной робостью. — Вот дожди идут, кругом люди лихие. Смотри, не уберегешься.
— А я далеко, — строго ответил Иван, вспомнив древнего старца, пытавшегося не допустить его в кабак. И, вспомнив этого чюдного старца, наконец, разрешил всем выпить. Чувствовал, что просыпаются в нем санкт-петербурхские бесы, в жилах начинает играть. Он, конечно, пугался бесов, но по большой опытности как бы уже и пренебрегал. В самом деле. чего ему бесы? Он, бывший секретный дьяк, а ныне беглый человек Иван Крестинин, от всего отрекся. Он казенный обоз бросил, он угрюмого господина Чепесюка бросил. Казенный обоз ушел уже, наверное, на Камчатку, а господин Чепесюк сердится. Наморщив белесые бровки, сказал так: — Я не просто иду, я с государевым наказом иду… Мне много чего разрешено… Например, могу имать беглых… Имать, и в обоз без записи! Потому как имею от государя задание — идти далеко.
— А где ж это далеко? — с сомнением начали спрашивать хорошие мужики, и глаза их заблестели еще сильнее. Они все еще говорили смиренными голосами, но толкались локтями чаще, даже рыжий целовальник укоряюще покачал головой. — Где ж это далеко, барин?
— А все к востоку, к востоку, — строго и со значением объяснил Иван. — Я свой долгий путь потом подробно опишу в умной книге, а книгу самолично представлю государю.
— Ну? — дивились. — Отцу Отечества?
— Ему самому. Есть у меня право. Даже в бумаге записано. — Полез в карман, но его остановили:
— Да не надо, барин, не надо! Верим мы, да и не знаем по писаному. Мы все равно не поймем, хорошие там литеры написаны или плохие. Было видно, что хорошие мужики испугались даже упоминания о бумагах. — Мы неграмотные, барин, рассуждать о многом не можем. Ты лучше попроси еще штоф. Похабин плохого не предложит. Он, случалось, сам допивался до анчуток.
Рыжий целовальник охотно кивнул.
— Вот как жить простому человеку, барин? — пожаловался он, как бы примериваясь к чему-то. — У Мишки Серебряника трех сыновей взяли на войну, и всех убили. А теперь, говорят, будут забирать самых лучших в неметчину, чтобы учить всяким ученым фокусам. Зачем это?
— Государю нужны умные люди.
— Да это мы понимаем, — толкались локтями хорошие мужики. — Оно, конечно. Ты нам еще налей. Мы, барин, любим порассуждать. И ты порассуждай с нами. У нас, правда, такое село, что ни разу никакого не было чуда. От рассуждений, барин, голова чище, сердца добрее становятся. У русских людей всюду так заведено — выпить и порассуждать. — И поинтересовались: — Ты вот русский?
— А ты? — остро глянул Иван на рыжего целовальника.
— Я-то русский.
— Да какой ты русский? Ты рыжий.
— Да нет же, — возразил целовальник. — Я невыносимой храбрости человек.
— Ну, тогда русский, — согласился Иван.
— Я и память имею чрезвычайную, — продолжил рыжий. — Похабин меня зовут. Такая фамилия. Я помню все, что было когда-то. Хоть много лет назад! — и посмотрел на Ивана честными зеленоватыми глазами, пригладил ладонью широкие рыжие усы.
— Я верю.
— Нет, ты спроси, ты обязательно спроси! — уперся Похабин. И мужики тоже загудели: — Спроси! Спроси его!
— Ну, ладно, — согласился Иван. — Тогда спрашиваю. Чего вот было три дня назад?
Мужики засмеялись, Похабин смущенно потер голову:
— Ну, как… Приходил тут один дьячок… Пропили мы с ним серебряное яблоко от потира. Ну, дьячок и начал плакать, как де теперь пойдет к службе? Хорошо, случились рядом хорошие мужики, мы яблоко выкупили… — Снова удрученно потер рыжую голову: — Ну, и пропили во второй раз!
Хорошие мужики восхищенно засмеялись.
— А год назад? — спросил Иван.
— А чего ж… И это помню… Память у меня чрезвычайная… Изба год назад горела. Тут рядом. Точно! — он странно глянул на мужиков. — Совсем рядом горела изба, нас всех вытолкали, я в снег упал. Очнулся, гляжу, все бегают и одно кричат: «Воды! Воды!» Мне дивно на сердце стало, я сказал: «Винца мне!»
— Было, было такое! — восхищенно подтвердили хорошие мужики.
— Ну, а три года назад? — прищурился Иван.
— Ой, барин, не спрашивал бы… Три года назад отречься хотел от Господа. Вот свят крест, хотел отречься, такая стояла в сердце печаль. А известно, чтобы отречься, надо пойти на перекресток в полночь. Я и пошел. Да свалился в канаву, пьян был, чуть телега не задавила. Тем и спасся, не погубил душу.
Вот хорошие мужики, решил Иван. И Похабин совсем хорош. Вольные люди. С такими и пойду по дорогам, научусь какому ремеслу. Где ось подправлю, где землицу вспашу. На паперти кусок хлеба протянут, от хлеба не откажусь. Не чувствуя вкуса, пожую. Винца доброго двойного, может, и не удастся попить, но простого, дай Бог, всегда нацедят.
Сопливый мальчишка в длинной рубашонке, сопя, приоткрыл дверь, любопытствуя, стрельнул черным глазом в щелку.
— Кто таков?
— Дитя мое, — заробел один из мужиков, кажется, Мишка Серебряник.
— Звать как?
— Ваня.
Еще один мальчишка, так же сопя, любопытствуя, глянул в щель. И еще один. Много их скопилось за дверью. Совсем как взрослые перемигивались, толкались локтями, хихикали.
— А то чьи дитяти?
— А все мои.
— Каждого как звать?
— Так я ж говорю, Ваня.
— Каждого?
— А то!
— Да зачем так?
— Чтоб не путать.
Хорошие мужики, расслабленно подумал Иван, совсем простые. Может, с ними и пойду по дорогам. А то так останусь в этом селе… Такое село, что тут чудес не бывает… Срублю домишко, Ванек начну плодить. Всех назову Ваньками. Чтоб не путать. Потому что так народ делает.
Задумался, загрустил. И негромко донесло издалека грустную песенку. …Не ходи подглядывать, не ходи подслушивать игры наши девичьи…
Разволновался вдруг. Поднял голову, обеспокоено оглядел мужиков. Им ведь не идти на край света. А мне?… — попытался вспомнить. Мне идти?…
Вспомнил! — и ему не идти. Он ведь сбежал от чугунного господина Чепесюка, сбежал темной ночью. Каждый час разделяет в пространстве его, секретного дьяка, и строгого господина Чепесюка.
Вдруг рассердился.
Это уже винцо начало в нем играть.
Никаких этих погостов, никаких папертей! Догоню господина Чепесюка, со строгим господином Чепесюком пойду до края земли, проверчу дырку в хрустальном своде, жахну из пищали по ожиревшим китам! Пусть мир качнется. А осколочек хрустального свода привезу сенной девке Нюшке. У доброй соломенной вдовы есть хирамоно, халат с необыкновенными растениями, а у бедной девки Нюшки, кроме злого младшего братика, совсем ничего нет. А там…
Сладко заныло сердце.
Чувствовал, что грех так думать, но не мог. Не ходи подглядывать… Чувствовал, что вот совсем не надо так думать. Не ходи подслушивать… Это винцо во мне кипит, понимал, это мелко тешатся бесы, но остановиться не мог. Игры наши девичьи… Еще строже, даже грозно стал поглядывать на якобы смутившихся хороших мужиков, а рыжего целовальника Похабина, не в свою очередь потянувшегося к штофу, даже по руке ударил. В Якуцке, строго решил, первым делом повешу на воротах ближней избы статистика дьяка-фантаста! И услышал, как самонадеянно объясняет Похабин:
— И остров такой — Китай…
— Почему остров? — удивился кто-то.
— А водой окружен, — не растерялся Похабин.
— Почему ж караванами ходят в Китай?
— А плавают… Это плавающие караваны, — объяснил Похабин, ничуть и никого не смущаясь, будто и правда был чахотошный. — Там все плавают… И зверь-верблюд, и собаки, и купцы. Прямо вот так подошел и сразу поплыл.
— Да куда подошел?
— К акияну.
— Ты ополоумел, Похабин!
— Кыш! — грозно сказал Иван, требуя внимания. — А вот говорите, кто из вас, сибирских собак, встречал маиора Саплина? Неукротимый маиор, небольшого роста, но ходок!
Все почему-то посмотрели на Похабина.
— Это что ж за маиор такой?
— Самый геройский, — объяснил Иван. — Неукротимый. По своей воле и по приказу государя пошел в Сибирь искать гору серебра. — И добавил, подумав: — Гордый маиор.
— Так гордый что, — дерзко сказал Похабин. — Гордых много на кладбище.
От такого ответа Иван почему-то сразу упал духом.
Нет, подумал, не вернусь к господину Чепесюку, лучше пойду по дорогам. Однажды встречу богатую коляску, а в коляске добрая безутешная соломенная вдова… Не узнает!.. Чуть не заплакал: добрая соломенная вдова не узнает ведь не кого-нибудь, а его, Ивана!..
На оловянное блюдо с груздями садились мухи, тут же взлетали, дразнясь. Иван попытался одну схватить в ладонь, но промахнулся. «Однако вижу, что не только комарами богатейший ваш край». Хорошие мужики сразу насторожились, а рыжий целовальник незаметно подмигнул одному — очень наглому, в потной рубашке, голову обвязавшему бабьим платком.
— А чего ж, барин? Мы терпим. — Кто-то из мужиков встал, подошел к двери, осторожно выглянул за дверь и вернулся к столу. — Оно, конечно, пустой край, но терпим. Зато в стороне от дорог. И проезжих мало. Зачем корить-то?
Иван нехорошо ухмыльнулся.
Еще раз взмахнул рукой, ловя муху, и повалил штоф.
Рыжий целовальник тоже нехорошо ухмыльнулся:
— Ну, как? Поймал?
И сказал назидательно:
— Ты, барин, знаю, сейчас начнешь гулять. По твоим глазам вижу, сейчас ты начнешь гулять. Ты на трех штофах не остановишься, у меня глаз проницательный. Ты, барин, лучше заплати сразу, а потом гуляй.
— Так чего ж… — полез Иван в карман.
И удивился.
Вот только что был кошель и… нету! Как корова языком слизнула.
Глядя на Ивана, один из хороших мужиков, подмигнув хозяину, произнес:
— А ты не жалей, барин, ты лучше нам еще один штоф поставь. Мы люди простые, любим благодарить. — И вдруг спросил: — Ты, наверное, беглый барин? Говорят, был указ, доносить всякому начальству про беглых баринов. Которые служб не служат.
Иван омрачился.
Бесы водили его рукой, хитрыми волосатыми ладошками закрывали Ивану глаза. Аггел добрый отлетел в сторону с писком. Боясь себя, кивая печально, Иван только и повторил:
— А чего ж… Хорошие мужики… — И печально повторил: — Совсем хорошие…
Не хотел, но почему-то прозвучало обидно.
Хорошие мужики сразу сгрудились за столом, здоровые, потные, плечистые, наклонив головы, стали дышать тяжело. Дескать, ты чего, барин? Мы к тебе по хорошему, а ты чего? Иван тоже обиделся:
— Да я всей душой… Думал, пойду с вами по полям с пением… Птички и радость, природы свет… А вы? …Почему теперь веснами птички не стали красиво петь?
— А как же твое далеко, барин? — совсем осмелел мужик с бабьим платком на голове. — Ты нам недавно про далеко говорил!
— Молчи, дурак!
— Да как же так? — запричитал мужик в бабьем платке. — Да как же так? Почему я дурак-то?
— А таким уродился.
— Ты это легче, барин, — угрозил рыжий целовальник. — Вон бочка с водой, мы тебя в бочку всадим.
Иван тихонько, даже удрученно склонился к столу и поманил левой рукой рыжего целовальника. Пальца на левой руке Ивана не хватало, он поманил рыжего целовальника как бы отсутствующим. И почему-то Похабин, глядя на отсутствующий палец, послушно низко наклонился к столу. Наклонился и исподлобья уставился в глаза Ивана по козлиному гадко предвещая: а вот сейчас мы тебя, барин, гулять начнем!
Не ударить Похабина было невозможно.
Иван и ударил.
А потом той же левой рукой вверг Похабина лицом в оловянное блюдо с груздями.
— …Он же всех побил! — жалостливо плакался рыжий целовальник.
Гренадеры братья Агеевы и Потап Маслов внимательно стояли за спиной рыжего. Семен Паламошный тупо усмехался. Наверное, пользуясь своим ложным даром, уже провидел будущее рыжего целовальника. — …Мы за такое дело! — жалостливо плакался целовальник. — Да мы за такое дело государево слово, захочем, крикнем. По всем пунктам.
Господин Чепесюк сидел на возке и молчал.
Пустыми оловянными глазами господин Чепесюк скучно смотрел поверх головы избитого целовальника, усердно растирающего по лицу кровь. Ошибочно приняв скуку господина Чепесека за некую задумчивость, может, даже за скрытую робость перед обещанным государевым словом, рыжий целовальник подпустил в голос угрожающую нотку:
— Прямо вот так сейчас крикнем! Прямо по всем пунктам!
Господин Чепесюк медленно поднял взгляд на целовальника.
Наверное, Похабин никогда в жизни не видал таких глаз. Всякие битые, изрезанные морды видал, всякие пьяные наглые глаза тоже видал, но таких вот — тусклых, оловянных, не имеющих ни к чему интереса, зато пронизывающих все, как лунный свет, никогда не видал. Враз задохнулся от ужаса. Вдруг до него впервые дошло, что, может, наткнулись они совсем не на того барина, сделали что-то совсем не так, как надо, как-то не так поступили. Не оборачиваясь к телеге, на которой лежал повязанный Крестинин, Похабин упал на колени: — …Это же беглый барин! Он сам говорил! Так говорил, что идет в сторону Апонии по пустым дорогам, питается милостыней! Мы ж решили обратно его вернуть! Зачем барину одному ходить по дорогам?
Семен Паламошный, тупо усмехаясь и тем пугая рыжего целовальника, негромко сказал:
— Коль в селе Бунькове не сломался паром, ушли бы, потеряли…
И прикрикнул на целовальника:
— Просил о чем барин?
— Да где ж просить? Только дрался шибко, — сказал кто-то из хороших мужиков, столпившихся между братьями Агеевыми и Потапом Масловым, успевшими примкнуть багинеты к ружьям. — Мы и спросить не успели.
— Были при барине деньги? — спросил Паламошный уже строже.
— Так угощал ведь много…
— Я спрашиваю, были при барине деньги?
— Так он хотел заплатить за все… Он ведь беглый барин… Мы только хотели помочь… — рыжий целовальник, снова ошибочно принял молчание господина Чепесюка за вид тайной робости, и подпустил в голос угрозу: — За нами село… Никаких чудес… Как так?… Бить хороших мужиков безвозмездно…
— Молчи! — приказал Паламошный, хорошо научившийся понимать молчание господина Чепесюка. — За тобой село, а за нами казенный обоз. Скоро здесь будет. Там солдатики, служилые люди, пушки, зелье, припасы всякие. Мы не только твой кабак, мы все твое село сроем с земли, а тебя первым отдадим в съезжую. — Паламошный мечтательно полузакрыл глаза: — А через сто лет встанут на здешнем пустыре избы светлые из прозрачного стекла, телеги забегают своим ходом. Хорошая жизнь здесь начнется через сто лет.
И мрачно глянул на сгрудившихся за кабатчиком мужиков:
— Но только через сто лет!.. При вас ничего не будет!..
Хорошие мужики окончательно растерялись:
— Так мы чего? Мы только беглого барина привезли? Думали, заплатите хоть немного.
— Ага, привезли, — зловеще подбил итог Паламошный. — Всего обобрали, помяли ребра, ухо надорвали. А еще за усердие требуете денег, будто на продажу привезли барина.
— Так он же буйствовал… Он лавки в кабаке переломал… Мы кричали ему: что, мол, барин, воюешь, как с бусурманами? А он отвечал непотребное, бил нас и ломал лавки…
— Мужика бить — земле легче.
— Может, и так, — снова запричитал Похабин, боясь даже глянуть на молчащего господина Чепесюка и обращаясь исключительно к Паламошному. — Если б не мы, валялся бы барин сейчас в канаве… — И не выдержал, поднял испуганный взгляд на белое, иссеченное шрамами лицо господина Чепесюка, спрашивая при этом исключительно Паламошного: — Чего это он, а?…
— Думает.
— А зачем так бровями ведет?
— Тоже думает.
— Да зачем же так страшно думает?
— А может, хочет порешить вас всех, — объяснил Паламошный. — Вот поставит пушку и сметет все село с земли!
— Да как? — запричитал рыжий целовальник. — Разве ж так можно? Я, например, чахотошный.
— А можно!.. — оборвал его Паламошный, быстро взглядывая на господина Чепесюка. — Ты, чахотошный, больше людей не мути… Мы сейчас уходим, так догонишь нас за поскотиной, привезешь чего-нибудь от села. Ну, солонинки там, капусточки, чесноку… Ну, сам знаешь, догадаешься… — И добавил значительно: — Может, простим.
— Так мы что!.. — обрадовался, засуетился рыжий целовальник. — Мы подвезем… Мы моментом… Мы понимаем, казенная надобность… Мы на всю сумму подвезем, которую сумму барин потерял… Мы ж не знали… Мы думали, простой беглый барин…
— От кого ж бегать ему? — усмехнулся Паламошный.
— А нам как знать?
Иван, наконец, приоткрыл опухшие глаза.
Он, конечно, все видел и слышал, но смутно, как во сне. Он даже помнил, что действительно бил мужиков, но ведь такое от бесов… Как без их помощи один смог бы побить стольких?… Ему и самому попало. Ныла каждая косточка. Поддали ему хорошие мужики. Особенно, помнил, старался рыжий целовальник Похабин. Изловчась, даже обмакнул голову Ивана в квашню, в кислое тесто. Пришлось квашню разбить о того же Похабина. Вон стоит, распустил губы, и кафтан на нем лопнутый.
Спросил хрипло:
— Что? Обратно меня? В Тайный приказ? На пытки?
Совсем был готов принять муку, но Паламошный, быстро глянув на господина Чепесюка, тупо, но охотно разъяснил:
— Ты что! Ты нас ведешь, барин!
— Тогда развяжи руки.
Паламошный шевельнуться не успел. Рыжий целовальник, не вставая с колен, метнулся, и руками и зубами, улыбаясь счастливо, сноровисто распустил веревку. Черная ворона, оравшая на дереве, как в горячке, умолкла и с любопытством вывернула голову набок — не выдадут ли ей теперь валяющегося на телеге странного человека? …Не ходи подглядывать, не ходи подслушивать игры наши девичьи…
Нет, никто не собирался выдавать вороне человека.
— Выпить дай, — прохрипел Иван рыжему целовальнику.
— Да как же, барин? — растерялся тот. — Ты столько пил! Никогда я не видел, чтоб столько пили!
— Теперь еще сильнее хочу…
Остановил туманящийся взгляд на Похабине:
— Хочешь со мною, мужик?
— Выпить? — изумился доброте барина рыжий.
— Не выпить, дурак… В Сибирь!.. В Сибирь со мною хочешь?… Зачем тебе жить в кафтане посреди мужиков?…
— А-а-а, в Сибирь… — разочарованно протянул целовальник. И вдруг загорелся: — А как прикажешь, барин!
— В для начала прикажу — выпить.
С трудом приподнявшись на локте, Иван перехватил взгляд господина Чепесюка. Вот чего угодно ожидал. Даже укора, презрения, даже брезгливости, но в отталкивающих оловянных глазах господина Чепесюка будто тускло льдинка блеснула, что-то, как усмешка, впервые прострельнуло на малое мгновение, что-то такое, чего он, Иван, пока еще ни разу не видел в глазах господина Чепесюка. Охнув, сел, повел вывихнутым плечом:
— Вот… Хороших мужиков встретил…
— А чего ж, — тупо ответил Паламошный. — В самый раз мужики. Не дали тебе пропасть. Привезли, значит.
— А теперь?… — хрипло переспросил Иван. — Теперь, правда, в Сибирь?…
И посмотрел на господина Чепесюка.
Квадратный, чугунный, в квадратной черной накидке. Видно было, что о Тайном приказе господин Чепесюк даже и не думал. Он то ли впрямь произнес, то ли почудилось Ивану:
— Правда…
Глава IV. Доезды
— …Ты, барин, морду не вороти. Я для тебя говорю. Надо будет, возьмусь за сабельку, а надо, и за топор. Неважно, что голова болит, главное, совесть чистая. Я везде защищу тебя. Похабин плохо не служит. Ты, барин, как на человека посмотрел на меня, на то у меня нет обид, даже напротив, так что слушай внимательно. Похабин плохому не научит, не даст барину умереть. Даже если захочешь, не даст. Со мной, барин, дойдешь до самого края земли, никак не ближе. Ты ведь не простой барин. Я вижу. Ты только с виду кажешься простым. Вон господин Чепесюк едет в возке, он тоже совсем не простой барин. Он даже не смотрит на тебя никогда, а все равно на тебя трудится, барин. Я вижу. Не ты на него трудишься, а он на тебя. Похабин разницу знает. Вот и суди отсюда, кто проще? Господину Чепесюку наверху, наверное, приказали, господин Чепесюк нам вниз приказывает, а все равно трудится господин Чепесюк на тебя. Похабин все видит. Есть в тебе, барин, тайна. — Похабин изумленно присвистнул и на всякий случай предупредил: — А если суждено тебе умереть, при мне умрешь — хорошо, весело, без позора.
Вспомнил, изумленно вскинул рыжие брови:
— Такой тихий барин, а горазд махаться кулаками! Будто самого Люцыпера секлетарь. Наши мужики к такому не привыкли, думали — не боец, думали — легко оберем тихого барина, а потом выдадим тому же господину Чепесюку за небольшую сумму.
Нахмурился:
— Ты, барин, многое делаешь не так. Я, барин, буду тебя учить. Ты в Якуцк придешь знающим человеком. Я же вижу, что никто не занимается тобой, барин. Вон гренадеры должны стоять перед тобой по струнке, а они переминаются с ноги на ногу, а потом смеются за твоей спиной, непонятно называют Пробиркой. По всем статьям гренадеры должны слушаться тебя, а они морды воротят. Какое дело ни возникло, даже если схватит живот, бегут не к тебе, бегут непременно к господину Чепесюку. А господин Чепесюк, так скажу, барин, он тоже внимательно присматривается к тебе. Похабин лишнего не скажет. Я до смерти боюсь господина Чепесюка, барин, но господин Чепесюк внимательно присматривается к тебе. Наверное, ты ему нравишься, иначе давно бы казнил тебя. Такому, как господин Чепесюк, казнить кого-нибудь — совсем плевое дело. А тебя он почему-то никому не дает в обиду. Вроде не проявляет к тебе интереса, а в обиду не дает. Почему так, барин?
— Ну, как, — выдохнул Иван. — Я отряд веду.
— Ага, ведешь. По бумагам! — презрительно отмахнулся Похабин. — Если бы ты вел отряд, барин, в отряде все было бы пропито. Если господин Чепесюк захочет, он порвет бумаги, а тебя посадит на кол.
— Молчи, Похабин! Хочется язык почесать, поговори с господином Чепесюком.
— Ты што, барин! — испугался Похабин. — Я невыносимой храбрости человек, но господину Чепесюку сразу верю на слово. Что бы он ни сказал, я ему сразу верю. Чувствую, что господин Чепесюк не только военный господин, но еще и тайный. Совсем прямо держится, и табакерка у него, сам видел, сработана самим царем. За какие-то большие заслуги государь лично подарил табакерку господину Чепесюку. Видать, заслужил господин Чепесюк. И морда у него вся в шрамах, как у морского зверя.
Вздохнул завистливо:
— У господина Чепесюка две пары часов, а одни — морские. Мне так сказал Потап Маслов. У господина Чепесюка серебряная лохань с рукомойником, а тебе, барин, умываться дают из кружки. У господина Чепесюка нож в серебре, специальная ложка, серебряный поднос с двумя серебряными чарками, и шпага с тяжелой рукояткой, а у тебя, барин? Страшно подумать, что было бы с тобой, двинься ты в Сибирь без господина Чепесюка. Лежал бы давно в земле под тяжелым камнем. А ведь ты, барин, человек способный, в тебе тоже есть тайна. Вот и значит, барин, что надо кончать с винцом. Похабин лишнего не придумает. Будешь умываться, посмотри в таз. Вон какой стал — дряблый, как гриб, тощий. На короткую драку в кабаке тебя еще хватает, а если всерьез помахать сабелькой, сомлеешь, барин.
— А зачем махать сабелькой?
— Как зачем? Вот войдем в глухие леса, бросятся на обоз варнаки да дикующие!
— На лохань-то серебряную?
— И на лохань! — озлился Похабин. — Увидишь, барин, места скоро пойдут совсем дикие. В тех местах, барин, не только винца не сыскать, там духу русского не сыщешь!
— Молчи, Похабин! — выдохнул Иван. — Не рви душу.
— Не буду молчать, — жестоко отрезал Похабин. — Ты в Тобольске, барин, все выпил, все съел, всех поставил на уши. Стыдно оборачиваться в сторону Тобольска. Так что, до Якуцка теперь ни капли. Я, барин, сам далеко ходил, знаю: слабый в Сибири не жилец, он далеко не идет, погибает в пути. Винцо, барин, не прибавляет сил.
— Молчи, Похабин!
Похабин хмыкнул, приотвернулся, но не замолчал:
— Ты на меня погляди, барин. Меня тоже губило винцо. Я по Сибири ходил не мало, накопил мяхкой рухляди, богатым вернулся в Россию. Думал, сяду в тихом месте, и последнюю жизнь проживу спокойно. Поехал поближе к своим местам. Я ведь из Коломенского уезда, барин. Остановился в Клетовке, как человек. Местный барин долго меня обхаживал, ходил вокруг, присматривался. А потом присмотрелся, и так это, барин, спрашивает по-доброму: а ты из каких, душа-человек, как пишется твоя фамилия? Мне бы, дураку, соврать, да пьян был, душа нараспашку. Так и ответил, что себя не стыжусь, что, значит, я из Похабиных. А добрый барин пьет да смеется — это, мол, из каких Похабиных? Из тех самых, коломенских? А как же, говорю с гордостью, непременно из них! Ну, тогда точно, сказал добрый барин, я тебя узнал. Ты Похабин. И отец твой был Похабиным. И еще твой дед Похабин бегал от моего родителя! И позвал солдат. Увезли меня в суд, приказали отдаться барину, да дал бог удачи — сбежал из суда. Беглых ведь нынче возвращают, барин. Или берут в солдаты. Это мне повезло, что я встретил тебя. Правда, барин, и тебе повезло. Я теперь тебе умереть не дам. Но и пить тоже не дам. Понадобится, скажу господину Чепесюку, мы тебя привяжем к телеге.
— Молчи, Похабин! Зачем говоришь так много?
— Сам не знаю, барин.
— Молчи!
Сил не было у Крестинина.
В Тобольске три дня жил у местного приказного дьяка, человека искусного в чертежном деле. Дом приказного дьяка стоял на горе у собора, в окно виделась новая крепость, построенная в семнадцатом году пленными шведами. Указывая на башни и на ворота, выходящие на Прямской взвоз, приказной дьяк хвастался, что учился чертежному делу у известного знаменщика Ремизова, а плотную александрийскую бумагу получает из Москвы. «Если хочешь видеть нечто прекрасное в натуре, — добавил приказной дьяк, покручивая тоненькие усы, — сиди, смотри на Тобольск, радуйся. Потом я тебе покажу работу».
Работал дьяк в чистой горенке.
На широком деревянном столе валялись раскрытый календарь Иоганна Фохта, предсказывающий погоду, толстый том «Вхождения в историю» Пуффендорфия, многочисленный инструмент, и огромное количество всяческих чертежей.
Сели за стол по-доброму, как два добрых знающих дьяка.
Господин Чепесюк тогда по делам обоза отставал суток на трое. За эти время санкт-петербурхский секретный дьяк и тобольский приказной сильно сошлись характерами. Похабин на это сильно дивился, но ничему не мешал, ему интересно было.
«Как шли до Тобольска?» — интересовался тобольский приказной, закусывая крепкое винцо и густо дыша луком, которого, кажется, потреблял не мерянное количество.
«Как шли, неважно, ты покажи дальнейший путь, — отвечал санкт-петербурхский секретный, тоже закусывая крепкое винцо и густо дыша луком. Прикрывая огнедышащий рот ладошкой, аккуратно расправлял на столе дорожный чертеж. — Вот покажи, как дальше идет путь?»
Тобольский дьяк показывал:
«Команда, говоришь, у тебя? Матерьялы, говоришь, на двадцати пяти подводах? Ох, долго тянуться вам с подводами до Якуцка. Отсюда-то еще ничего, отсюда, из Тобольска, пойдете по Иртышу водой до Самаровского яму. На барках, понятно. Такие барки у нас называют дощаники. От Самаровского яму пойдете вверх рекой Обью до Сургута и до Нарыма, а потом Кетью до Маковского острога. Оттуда до Енисейска сухим путем по зимним дорогам, под волчий вой. А там Илимск, а там на Ускут к Лене. Построите барки и в Якуцк. Плотники вам на Лене понадобятся. Есть плотники?»
«Есть. С обозом идут».
«Тогда доберетесь, — приказной дьяк вновь тянулся к посуде. — А с Якуцка куда?»
«А то секрет».
«Да ну, секрет! — не верил приказной дьяк. — Все наслышаны о вашем обозе. Якоря везете, канаты… С Якуцка, все знают, повернете, наверное, к морю… А к какому?…»
«А то секрет».
Так и не выдал секрета.
Тобольский дьяк — друг, но пусть сам догадывается. А он, Иван, никогда не проговорится. Ни-ни! Сейчас трясясь в возке с откинутым верхом, угрюмо сказал:
— Вот ты красиво говоришь, Похабин, а сам, небось, сбежишь где-нибудь?
Похабин помотал головой:
— Я не сбегу. Мне дальний край снится. Тот самый, куда идем. Я теперь не сбегу. Раз уж пошел, барин, с тобой, считай, что это по повелению свыше.
— Ну да, по повеленью… — хмуро не поверил Иван. — Ты козявка, Похабин. А какое у козявки может быть повеление?
— Может, я и козявка, — не обиделся Похабин, — только и таким, бывает повеление свыше.
— Что ж это?
— Хочу одного человека сыскать, — туманно ответил Похабин, устраиваясь в возке удобнее, совсем не стесняясь Ивана. — Мне тот человек много чего должен. Прячется где-то.
— Мир велик, — покачал головой Иван. — Как можно найти в столь большом миру одного отдельного человека?
— Когда знаешь, где искать, мир не так уж велик, барин.
— Так найди выпить, Похабин! Выпить — это ж не человека найти. Мне надо выпить, Похабин, а баклажка пуста, и каждая косточка болит.
— А так и должно быть, — согласился Похабин, и твердо пообещал: — Хватит с тебя тобольского разгула. Ты, барин, в Тобольске даже с другом-дьяком подрался. Хватал его за бороду, брал за груди, нож рвал из-за голенища.
— Да неужто?
— А то! В кунсткамере тобольской пытался восьминогого барашка вынуть из сосуда. Кричал, что не кушамши восьминогих. Кричал, что даже в Кикиных палатах такого не видел. На рыбном торжище неизвестного человека бил по лицу живой рыбой. С горшечником Небарановым связывался в кабаке, он тебя повел в гости. Изба горшечника на краю города в пустом овраге, весь скотский и человеческий навоз сбрасывают в тот овраг, а ты и там драку затеял. Почему, дескать, ты Небаранов? В смысле, почему ты, дескать, не Баранов? Горшками бросались, как бомбами.
— Да неужто?
— А то! — воскликнул Похабин. — Так красиво все начиналось. Пока господин Чепесюк не подъехали, мы вроде как обустроились. Остановились при гостином дворе — на базарной площади верхнего посада у самой крепости. Горница на подклети. Приезжие торговцы приходили с товарищами, ты им чуть казенный канат не продал. Потом упал в погреб. На Никольском взвозе шум устроил у входа в часовню. Совсем буйный взбежал к монастырским воротам, разогнал сабелькой караул. Гренадерам Агеевым крикнул, чтобы заряжали ружья, чтобы смело стреляли в монастырских старцев. Я спрашиваю: зачем, барин? А ты говоришь: потом разберемся! Хорошо, господин Чепесюк подъехали вовремя.
— А бил кого?
— Меня, — уважительно ответил Похабин.
— А и ты, выходит, шумел?
— Не шумел. Тебя останавливал. — Ухмыльнулся понимающе: — Ты, барин, сильней, чем на вид кажешься. Если не попьешь, можешь тягаться с кем хочешь. Я ведь говорил, что скоро начнутся совсем дикие места. А когда идешь по диким местам, надо быть уверенным в своем соседе, барин. Коль не уверен в соседе, с таким лучше не ходить. Кому охота наткнуться по чужой дурости на стрелу, на нож, а то просто блудить в тайге? Я тебе говорил, я Сибирь знаю. Меня Сибирь сделала богатым. Я, барин, когда вернулся в Россию с богатою мяхкой рухлядью, сразу решил, что теперь тихо, хорошо заживу. Только как? Отца нет, и матери нет, и три брата убиты на свейской войне. Да еще барин клетовский. Ишь, вспомнил, что еще мой дед бегал от него, от дурака. И правильно бегал, если бегал. На воле просторней. Я из-за того клетовского барина впал в тоску. Сильно запил. Тоска. Знаешь, наверное. — Похабин перекрестился. — В Сибири думал: вернусь в Россию, все будет хорошо. Сколько служб нес, столько и мечтал: в Россию вернусь, припаду к земле. А вернулся, в деревне пусто, и не на кого опереться. Кто врет, кто пьет. Неужто везде так?
И повторил:
— Такая тоска, барин… У русского человека она ведь особенная. Коряка, к примеру, заставь умыться, он все равно так сильно не затоскует. Ни коряк, ни одул, ни камчадал, ни какой-нибудь там шоромбоец, — все они не знают русской тоски. У них все по-своему. Олешки мекают, детишки кричат, поземка метет — им от того только радостно. А если заскучает коряк, или одул, или те же камчадал и шоромбоец, если темно и душно им покажется жить, они вскочат на нарту, поедут и убьют соседа. То же и нымылане, и чюхчи. Я разных, барин, в жизни встречал дикующих, знаю их тоску. А наша русская тоска, барин, она вся изнутри, она ни от чего внешнего не зависит. Хоть молнии, хоть тьма, хоть ты в грязи лежишь, если нет в сердце тоски, сердце русского человека чувственно радуется. Пусть нет у тебя ни крыши, ни харчей, ни питья, пусть подвесят тебя на дыбу, отнимут бабу — русский человек все равно от этого не в тоске, он просто страдает. Но однажды в самый добрый солнечный день, барин, среди радости, среди чад милых, на берегу веселой речушки, на коей родился, среди воздвиженья, радости, хлопот и многих дел, вдруг как колесико какое съезжает в твоей голове, и вот — затосковал русский человек, затосковал страшно!..
— Знаю! Молчи, Похабин!
Похабин покивал, но было видно, что он не слышит Крестинина. И, может, даже не видит неба над головой. И вообще не врал: есть у него какое-то повеленье свыше. Этот дойдет, невольно подумал Крестинин. Этот до самой Камчатки дойдет. А раз сам дойдет, значит, и меня дотащит.
А Похабин наклонился загадочно и снизил голос:
— Я, барин, как узнал, что ты идешь в сторону Камчатки, так все во мне вздрогнуло. Так сразу и решил: коль не врет такой хороший барин, пойду с ним до конца.
— Ну, а коли так… — хрипло спросил Иван. — Ну, а коли так, то почему в той деревне хотел меня обобрать?
— Так то привычка, барин. Ты же с виду, как бы это сказать, глуп… Но, конечно. исключительно с виду… Я так сперва и подумал: вот совсем глупый барин.
— А получилось — нет?
— А получилось нет.
— Ну, обобрали, ладно. А зачем повезли к господину Чепесюку?
— Ну, как? Продать решили. Зачем теряться? Ты многих у нас обидел. Тому же Мишке Серебрянику чуть не вынул глаз. Хорошие мужики обиделись. Решили, ты бежишь от какой службы. Может, решили, боишься идти на войну.
— Так кончилась же война?
— Какая разница? Одна кончилась, другая начнется.
— Типун тебе на язык!
— Да почему? Слухи ходят, что пойдут русские в Персию. А то и еще куда. Пока порох есть, почему не воевать? Так и решили хорошие мужики, что ты, барин, беглый, войны боишься. А мы слышали, что движется казенный обоз в сторону Сибири. Вот и повезли тебя. Думали, предадим беглого барина закону. И нам хорошо, и барина пристроят к какому делу. Кто ж знал, что так повернется? Знали бы, не повезли. Знали бы, бросили в канаву.
— Застудился бы, умер…
— Так ведь сколько людей в России каждый день застуживаются да умирают. Одним больше, другим меньше.
— Ни на что у тебя, Похабин, нет разницы, — укорил Иван. — Я от души вас поил винцом, а вы обобрать решили.
— А ты, барин, как? Ты меня мордой ткнул в соленые грузди!
— Так я обиделся.
— И хорошие мужики обиделись. Они же не бить хотели тебя, а так… Поучить слегка… Видят, что глупый барин, почему не поучить? А потом, я же говорю, слышали, что идет казенный обоз. Вот и решили — сдадим барина. Беглый, наверное, скрывается от войны.
Иван застонал, схватившись за голову. Вспомнил, будто издали отчетливо прозвучало: …Не ходи подглядывать, не ходи подслушивать игры наши девичьи…
Что ж это такое? Как жить?
— Ты не свисти, барин, в свисте нет правды. — Похабин понизил голос: — Я тебя никак не пойму. Говоришь, что всем заправлять должен, а заправляет всем господин Чепесюк. Почему так?
Не ожидая ответа, сам ответил:
— А я знаю, почему. Тебе не то, что власть, тебе шкалик в руках удержать трудно.
Прибавил, подумав:
— К Якуцку сделаю тебя человеком.
— Не смей, — прохрипел Иван.
— Если ты даже умрешь, барин, то умрешь человеком, и на моих руках.
— Не смей, Похабин!
— Мне сам господин Чепесюк тебя поручил.
— Замолчи, пожалей меня, Похабин.
— Да потому и говорю всю правду, что жалею.
— А винцо прячешь… — горько протянул Иван.
— Ага, винцо прячу, — кивнул Похабин, и твердо пообещал: — И впредь буду прятать.
Помолчали.
Скрипела ось, взволнованно вскрикнула на обочине птица. По голосу крупная, а в кустах не видно.
— Может, бумагами займешься, барин?
— Какими еще бумагами?
— Ну, как. Пишут…
— Кто пишет?
— Да люди…
— Да с какой стати?
— Ну, как с какой? Ты круто берешь. За Тобольском помнишь острог? Каменный, стоит на горе, как гнездо чудное. А при нем монастырь. Я-то думал, ты в возке будешь отлеживаться, ведь перед тем весь вечер прощались с приказным дьяком. С лавки на лавку прыгали, языки показывали друг другу, сильно были веселые. Ан нет. Перед самым монастырем тебя, барин, как специально снесло с возка. Ворота большие, тесовые. На створах прибиты кресты. Тихо кругом, печально, в келье особо задумчивые монахи похлебку из одной чашки хлебают. А ты ударил ногой и закричал неистово — «Открывай врата!» — «Не твои те врата, — смиренно ответствовали старцы. — Те святые врата». А ты им в голос: «Врете, мол, старцы! Какие святые? Совсем тесовые!» И в неистовстве с петель те врата чуть не сорвал…
Иван горестно застонал.
— Потому люди и пишут, — понимающе покачал головой Похабин. — Так издавна ведется, что один человек шумит, а другой на него пишет. Один человек счастливо продолжает путь, а другой жадно пишет начальству. Вот господин Чепесюк не простой человек. Я сам видел: строгий господин Чепесюк за небольшие, но деньги, скупал почту у ямщиков. А потом выбрасывал, чтобы тебя спасти. А я некоторое, видишь, подобрал. Не мало накопилось, а, барин? — Похабин показал несколько пакетов.
— Дай сюда.
С отвращение разорвал бумагу. Прочел вслух:
— «К настоятелю якутскому…» — Спросил: — Это почему ж к настоятелю?
— Так, видно, батюшка пишет. Ты гостевал как-то у батюшки. Нехорошо у него вышло, колом.
— Как это?
— А ты сам прочти. И мне интересно. Дай Бог, никто не услышит. Вместе и подумаем. А коль сочтем нужным, сами передадим по адресу.
— Я те передам! — простонал Иван, и монотонно, как дьячок над «Минеями», завел вслух: — «Сего 1722 года ноября 1 дня находился в доме моем в гостях у меня посыланный в Сибирь по казенным делам господин секретный дьяк Иван Иванов Крестинин с протчими находившимися при нем людьми. А была у меня кумпания, которая все наше благородное опчество отразила… Но тот господин секретный дьяк, сильно от напитков разгорячась, между протчими разговорами вступил в нескромный разговор с женской персоной здешнего секретаря Аггея Кравина с законною женою его Стефанидой Петровной и стал говорить ей всякие неподобные речи, и стал ту святую женщину бесчестить всякою великою непотребной бранью, равно называть дикующей, и требовать от нее сладких услуг…»
Похабин, слушая, довольно перекрестился:
— Ты, барин, так и сказал. Ты, барин, смело сказал. Все, что думал, то и сказал, наверное, ничего не скрыл. А потом стал девок лапать, спрашивал зачем-то, нет ли среди них дикующих. Прямо страсть!
— Да что ты? — удивился Иван.
— И не посмели к тебе подступать люди, барин, — рыжий Похабин в восторге закатил хитрые прищуренные глаза. — Ты прямо ироем был. Ты на иконе поклялся, что с самим государем водку кушамши, а потом хозяина недоверчивого священника-батюшку за бороду взял, хотел убить за недостаток доверия, но Стефанида Петровна вас отговорили. Так вы и страдали — то священника возьмете за бороду, то Стефаниду Петровну за грудь. А потом перекинулись на местного купца Хренова.
— Чего ж ты не остановил? — простонал Иван.
— Как это не остановил? Я всяко останавливал. Я всех останавливал. Особо тех, которые самовольно хотели выйти из избы. Вы сами поставили меня в дверях с двумя пистолетами.
— А господин Чепесюк? — простонал Иван.
— А чего господин Чепесюк? Господин Чепесюк человек казенный, неразговорчивый. Когда гренадер Маслов прибежал и сказал господину Чепесюку, что тебя, барин, наверное, сейчас убьют, господин Чепесюк только и сказали: «Не думаю», и никаких больше распоряжений не последовало.
— Совсем никаких? — несколько приободрился Иван.
— Совсем никаких.
— А батюшка, да тот купец?… — с надеждой спросил Иван. — Они, наверное, все врут?…
— А ты почитай, — мирно предложил Похабин. — Ты почитай, почитай. Мы правду-то вычислим.
— «…И тот господин секретный дьяк Иван Иванов Крестинин выхватил сабельку и такое бешенство учинил в доме моем, меня за хозяина уже не считая, что только не приказал в окно из пушек стрелять, сказал, что такое будет пожже, когда подойдет главный обоз с пушками да с пороховым припасом. И уговаривал я всячески гостя, говорил, что прислушаться надо к совести, а он не прислушивался и с азартом подступал к Стефаниде Петровне, нескромно ее хватая, а дерзкий волонтер Похабин с пистолетами в руках стоял в дверях на охране, рожа зверская. И я сбежал в страхе и заперся на дворишке в простых хоромах, а тот господин секретный дьяк и пакостный его волонтер Похабин военными сабельками страшно бряцали за окном и песни богомерзкие громко пели, обещая с рассветом полное пушками и пищалями разбитие крыши над моей головой произвести…»
— Все правда, барин, — подумав, подтвердил Похабин.
— «…А тот волонтер, рожа мерзкая, прозвищем Похабин, в ту ночь дерзко, не соблюдая никакого законного порядку, влез в один дом, где ночевала одинокая молодая девка Ефросиния, да много шуму там понаделал. И прознали мы, что тот волонтер Похабин только называется так, а на деле он беглый дворовый человек, которого давно ищут по Сибири. А чего его искать, если его запросто взять можно? Он в обозе того господина секретного дьяка идет. А я побои терпел, да имею на лице боевые знаки?…»
— А тут врет поп, — рассердился Похабин. — Этот местный батюшка, барин, совсем дурак. Так скажу, что сильно отстал он в мыслительной силе от своей супруги.
— «…А потому нижайше прошу за выше прописанные резоны от такого господина секретного дьяка Ивана Иванова Крестинина и от его зловредных горячих чувств меня тихого человека защитить по причине отдаленности здешнего места».
— И это все? — удивился Похабин.
— Нет. Тут еще другой рукой что-то нацарапано.
— Ну вот, я же чувствую… Не мог не дописать двух слов купец Хренов. Он сильно сердит был.
Иван прочел: … — «…И порвал на мне кафтан камчатой луданой малиновый, подкладка крашенинная, красная, а стеган на бумаге, подпушка у пол кафтана желтая, по подолу опушено песошным, кругом того кафтана снурок золотой с серебром, а у ворота пуговка маленькая серебряная».
— Какой подробный купец, — одобрительно удивился Иван, заметно приободрившись. — И письмо грамотное. Настоятель, сию жалобу получив, ужаснется. Волосы у него встанут дыбом.
— А для того и писалось.
— А рожа у тебя, Похабин, точно разбойничья. Как тебе господин Чепесюк верит? Ты, небось, людей убивал?
— А кто не убивал людей? — удивился Похабин. — Но я, считай, с тринадцатого года не убивал.
— Почему с тринадцатого?
— А на то воля божья.
— А до тринадцатого?
— Так то когда было!.. — недовольно протянул Похабин. — Да и по обязанности убивал. Не я, так меня бы убили. Чего хорошего? Я и сейчас жить хочу, а тогда молод был.
— Ладно, Похабин, — с тоской сказал Иван, рассматривая свои растасканные уже сапоги. — Живи. Бог все видит. А батюшку того давай, наверное, простим. Выбросим его глупое письмо, чтобы не расстраивать настоятеля. — Иван провел пальцем по сапогу: — Совсем растоптал… Скоро лопнут…
— Не беда, — бодро сказал Похабин. — Под Якуцком много людей. Кого первого встретим, с того и снимем.
И выругался весело:
— Пагаяро!
До Ивана не сразу дошло.
Какое-то время он смотрел в веселые варначьи глаза Похабина, потом медленно, со значением приказал:
— А ну, повтори… — с него даже похмелье слетело.
Похабин удивился:
— Чего повторить?
— Слово повтори.
— Какое?
— Какое произнес только что.
— А какое слово?
— А какое сказал! — в бешенстве крикнул Иван и рванул Похабина за кафтан. — Повтори, говорю!
— Пагаяро, что ль?
— Вот, вот! Пагаяро! От кого такое слышал?
— Так от прикащика Атласова. Очень жадный был… Давно, еще на Камчатке… Там на реке Жупановой под Шипунским носом бусу выкинуло апонскую, даже апонец остался жив. Остальных иноземцев местные камчадалы по себе разобрали в работники, а этот спрятался. Свели его к прикащику, апонец сильно ругался, это словечко не сходило с апонских уст. Вот и мы научились.
— Когда служил у Атласова?
— Давно. Может, с седьмого года… Тогда Атласов пришел на Камчатку во второй раз. Он Исака Таратина послал на Бобровое море, а я служил у Таратина. Было нас семьдесят человек да при каждом по камчадалу. До самой Авачинской губы никого людей не видели, никого не встречали. Как оказалось не зря — камчадалы, прослышав про отряд, скопились в губе. Такое множество батов да байдар было, как мураши шевелились на воде. Так много дикующих оказалось, барин, что, мнением о себе вознесясь, по бесчисленности своей даже убивать нас не захотели. Так много их было, что решили они нас, казаков, людей казенных государевых, взять живыми, развесть по разным своим острожкам, и там держать в холопах. Для такого нехорошего дела каждый камчадал, сильно вознесясь, имел при себе, кроме оружия, один длинный ремень, чтобы нас, казаков, вязать. Мы потом долго пользовались этими ремнями.
— Ты же говоришь, вас было мало.
Похабин махнул рукой:
— Эх, барин! На Камчатке по иному и быть не может. Мы десятками туда шли, а дикующие нас встречали тысячами. Мы в тот раз специально вперед выслали ертаульщиков, чтобы шли с шумом, с боем, чтоб издали казалось — вот идет весь отряд. Ну, дикующие так и решили, кинулись ремнями вязать людей. А мы что? У нас пищали. Пищалей дикующие боятся до смерти. По дикующим разок шаркнешь из пищали, все, как один, валятся на землю. Думают, что гром. Думают, что это им их дурной бог Кутха изменил, перешел на сторону русских. А нам что? Мы просто шли и лежачих кололи сабельками. Как моржей. Так много оказалось лежащих, что мы сильно устали. А ведь дела этого, барин, никак не оставишь — надо колоть. Совсем устал, а все равно коли. Отпустить живыми страшно: дикующие придут в себя — сами всех перережут. Ведь столько людишек сразу не возьмешь в полон! Они не пойдут. Вот и кололи. Шепелявый сильно старался… Что ты вздрагиваешь, барин?… Правду говорю, был у нас такой. Он всегда наперед смотрел, имел характер особенный. То снимет с себя последнюю рубашку, то у тебя отберет последнюю. Иногда смиренно пел псалмы, а в другой раз впадал в буйство. Такой человек. Дружил с Исаком Таратиным. Вечером устроятся у костра и шипят как змеи между собой, потому как оба были из ляхов. Длинные, ловкие, шипят, шипят, и все про прикащика Атласова. Не любили казачьего голову, тянулся меж ними старинный спор. Пагаяро!.. А с похода вернулись, к нам присоединился Данила Анцыферов. Этот тоже как огонь. Договорились они втроем и сбросили Атласова с прикащиков. А чтобы бывший прикащик не шумел, заперли его в казенке. Казаки, они же как дети, — Похабин засмеялся и широко развел руки. — У них глаза горят, так они радуются воле. Сбросив прикащика, стали много пить, жевать мухомор. Ну, бывший прикащик, воспользовавшись всем этим, сбежал. Может, думаю, кто-то выпустил его, по пьяной русской жалости. Добежал он до Нижнекамчатска, только там его власть признать не захотели. Жить живи, сказали, а прикащик у нас свой.
— Не послушали Атласова?
— Ну, конечно, не послушали. Оно ведь как? — рассудительно пояснил Похабин. — С одной стороны, ничего не скажешь, Атласов известный был казак. До него на Камчатку ходил только один Лука Морозко. Но Лука ведь простой человек, он прошел по тем краям, как в потемках, даже рассказать по настоящему ничего не мог, а прикащик все запоминал по порядку. Если пришел на какое место, сразу рубил острог. Из не струганных бревен, каждое бревно стоймя и впритык. От случайностей военной жизни берегся. Умел хорошо говорить с аманатами. Был удачлив. Вот только характер… — Похабин сердито сплюнул: — Ведь вот что надо русскому человеку? Харч есть, крыша над головой есть, пришли в новые земли, живи и радуйся. Но русский человек так устроен, что ему непременно надо повластвовать. Пусть над дикующими, но лучше над своими. Отсюда и темные дела. Не любили на Камчатке Атласова. Только сын Ванька жалел отца. Я потом с Ванькой служил в Оглукоминском селении. Ванька мне уши насквозь прошептал: вот каким де хорошим был отец. Вот если бы не шепелявый, все шептал, может, не зарезали бы отца… В том, думаю, ошибался… Зарезали бы… Такое время вышло для Атласова… А Ванька клялся разыскать шепелявого. Говорил, что хоть двадцать лет будет искать, а найдет шепелявого, и тоже зарежет. Я из осторожности не признал, что знал такого, даже наоборот сказал Ваньке, что я, мол, тоже зарежу шепелявого, если встречу. А Ванька рассердился: не смей, не трожь! Этот шепелявый, дескать, он для его ножа. А я в этом сомневаюсь, барин. Ванька, конечно, крепок, весь вышел в отца, да ведь и шепелявый не курица. Высок, руки сильные. Хорошо стрелял, от души махался сабелькой. А на сабельке, помню, было выбито слово. Как сейчас вижу — кураж.
Крестинин перекрестился. Тесен мир.
Сперва он, секретный дьяк, пересекся в пространстве с неведомым шепелявым. Потом Матвеев сказал: «Он мне Волотьку должен». А теперь Похабин говорит о каком-то долге. Похоже, сильно шепелявый задолжал людям.
Спросил:
— Как выглядел шепелявый?
Похабин приосанился:
— А вот подкормить тебя, барин, ты очень даже похож.
Сердце толкнулось.
Ведь и несчастливый казачий десятник в санкт-петербухском кабаке (потом замученный на дыбе) так говорил. И все несчастья Ивана начались с того десятника. Спросил осторожно:
— А не тот это шепелявый, который ходил с ворами на острова?
Похабин неохотно ответил:
— Ну, всякое говорят…
Но Иван при слове острова, как в тумане, как всегда, увидел приглубый берег, а вокруг много воды… От края до края… Вдали вода серая, у ног зеленая, и нигде больше не видать земли, только вода, только птицы, да еще что-то в волнах. Может, буса апонская, веселая, как лаковая посуда… Никак не мог по-настоящему представить сразу все море. Спросил негромко:
— Похабин… А об убивстве?… Что знаешь об убивстве прикащика?
— Какого? — ушел от прямого ответа Похабин.
— Прикащика Атласова, дурак.
— Так то давно было… Груб он был… Случалось, и меня доставал плетью…
— А ты?
— А я что?… Другие терпят, и я терпел… Вокруг одни дикующие да чужой край. Кому пожалуешься? Повздоришь с прикащиком, он убьет тебя. А в лес убежишь — убьют дикующие.
— Значит, характерный был человек?
— А как иначе? — прямо ответил Похабин. — Сам жил с бабой-ясыркой, а другим намертво запрещал. Давежное вино гнал, другим ни капли. Только ведь казака так просто не ущемишь. Чуть прикащик задумался, в ясашных избах уже кипит кипрейное пиво, мухомор жуют, ставят в зернь или в кости меха и ясырей, пленников, добытых в походах. У молодой бабы-ясырки за один вечер случалось по пять, а то по восемь хозяев. Игра, понятно, втихую от прикащика… Атласова и не тронули бы, не зверствуй он так да не впадай в жадность… А он не понял. Мог отобрать у простого казака последнюю лисицу. Объяснял разбой просто. Государь, мол, требует с Сибири да с Камчатки мяхкой рухляди на восемьсот тысяч рублей, чтобы шведа воевать, а вы, дескать, сволота, прячете рухлядь!.. Под это и отбирал… А сам, пия вино, упустил в тот год рыбную пору, остались казаки без рыбы. Потом пьяный на глазах у казаков зверски зарубил палашом Данилу Беляева… Казаки жили в полуземлянках, а для себя Атласов поставил избу. Горница, как у посадского в Якутске, шкура медведя на полу, в углу иконы в золотых ризах. Ездовых собак кормил только галками, у собак от такой пищи нюх тоньше. Держал лучшую упряжку на Камчатке. Не дай бог, узнавал, что если у кого собаки лучше, незамедлительно отбирал. Мяхкой рухляди для себя накопил многие мешки, а у казаков отбирал даже Божьи меха, посвященные какому храму… Записывал на себя те меха… Один шепелявый не боялся Атласова… Ну, еще, может, Данила Анцыферов… Потому прикащик и мучил обоих, особенно шепелявого. Случалось, не выпускал его неделями из смыков. Прикует к стене под окном, а сам пьет вино. Иногда плюнет в окно. Твой дед, скажет шепелявому, полонен нами в польскую войну, взят как враг под Смоленском. И ты у меня на Камчатке попал в полон. И снова плюнет…
Похабин даже засопел, вспомнив нехорошее.
По словам Похабина получалось так.
Вернувшись в острог с Бобрового моря, где он усмирял дикующих, Исак Таратин изгнал Волотьку Атласова из прикащиков. Поставил в укор, что сердцем ожесточился, совсем перестал думать о казаках. А надо начинать большой поход на дальние реки, собирать новый ясак, вязать шертью дальних дикующих. А еще важнее, спуститься бы до Лопатки, там построить байдары или бусу какую да сплавиться на острова, про которые слышали от дикующих. Похабин, например, сам видел с Лопатки — далеко, в синеве океанской, в голубизне безмерной чернеет что-то неопределенное, может, земля. А о той морской земле у каждого ходят свои рассказы. И что много там золота, и что живут там люди-куши мохнатые, иногда торгуют с камчадалами. И что оттуда иногда приносит штормами, прибивает к берегам деревянные апонские бусы. Может, там, за островами, еще лежит какая страна. Отследить бы к ней путь. Вот, сместив Атласова, казаки и поставили временным прикащиком Семена Ломаева, человека грубого, но понятливого, и гораздого до походов. А Волотьку за все его непотребства заперли в пустой казенке.
Только Атласов он и есть Атласов.
Как уже говорилось, сбежал.
Добравшись до Нижнего Камчатского острожка, сказал с укором: вот вы тут жируете, а в Верхнем казаки бунтуют, совсем заворовали. Федор Ярыгин, закащик Нижнекамчатского, покивал Атласову, но людей не дал, разрешил только отправить в Якуцк челобитную. Это по той челобитной, объяснил Ивану Похабин, и послали из Якуцка на Камчатку нового царского прикащика сына боярского Петра Чирикова с целью строгое следствие учинить. Ну, Чириков пришел, осмотрелся, но со следствием из осторожности решил повременить. Повел для начала казаков под Конаповской дикий острожек. Отняли его у камчадалов, многих дикующих перекололи, других привели к шерти — ясак платить. У меня после похода, ухмыльнулся Похабин, десять ясырей образовалось, среди них три бабы. Я двух пропил, остальных, каюсь, проиграл в карты.
Как-то весело зажили. Не как при Атласове.
Чириков тоже был жадный, зато на проказы смотрел сквозь пальцы, и водил казаков до самой Островной реки. С той реки однажды отправил Ивана Харитонова в сорока человеках для взятия другой — Большой реки. Я, сказал Похабин, тоже был в том отряде, только там мы не кололи дикующих. Пару раз шаркнули из пищали, вот камчадалы и растворили ворота. Заходи, дружески сказали Харитонову, у нас вино травное давежное, вызывает много фантазий.
Дружили.
А снизу наезжали тойоны из всяких мест, тоже выпивали с Харитоновым, и подсказывали — сшел бы ты с острожка, русский тойон, да встал на низу, туда всем удобно ездить с ясаком. И как бы уговорили Харитонова: тот для виду с тойонами согласился, но втихомолку все шептался с казаками, и, наконец, разрешил дикующим везти себя вниз батами.
Изменные дикующие, которые правили лодками, завезли казаков в глухую протоку, очень быструю и тесную и, вдруг выскочив на берег из батов, стали побивать служивых копьями. А на берегах скопились другие дикующие. Те палили из луков, убили сразу двенадцать человек. Этим только и испортили замысел Харитонова. Он, значит, сам хотел побить расшалившихся камчадалов и окончательно привести к шерти, а теперь пришлось бежать, потому что многих казаков переранили, в том числе и шепелявого, и Похабина. Ночным временем побежали к Верхнему острожку, по дороге от истощения потеряли еще троих. Он, Похабин, хорошо запомнил, как кого-то тащил, а тот на нем умер.
А между тем в сентябре семьсот десятого года из Якуцка приехал на смену Чирикову пятидесятник Осип Миронов, тяжелый человек с тяжелым казенным взглядом. Первым в Верхний острожек после несчастья на Большой реке вернулся шепелявый. Сразу бросился искать помощи, а вместо помощи тот казенный человек Осип Миронов запер его в казенке. А других вернувшихся казаков для науки ободрал плетью. Зачем, дескать, ходите без приказа? Зачем поднимали руку на законного государева прикащика Атласова?
Разобравшись, как он думал, с местными ворами, Осип Миронов так сказал.
Схожу сейчас в Нижний острожек, сказал, там с остальными бунтовщиками, покусившимися на казенного прикащика, разберусь детально. А потом, вернувшись, от всего сердца передеру плетью всех, а самых дерзких, может, повешу, чтоб не теряли уважения к старшим. Новые русские земли всегда стояли и будут стоять на строгой дисциплине! Сегодня вы незаконно сместили государева человека, а завтра незаконно соберете на себя государев ясак!
Зря пригрозил. Лучше было бы не дразнить казаков.
Сразу по отбытии прикащика человек двадцать, среди них Данило Анцыферов, Харитон Березин, с ними Иван, который шепелявый, да еще Григорий Шибанко, да Алексей Посников и другие сошлись в тайный круг, и на том тайном казачьем кругу твердо порешили. Камчатка — край далекий, туманный, они сами его открыли. Прикащиков сюда не очень допосылаешься, но коль уж прислали, то все равно нельзя достойным людям терпеть такие унижения. Это как же так, сказали казаки, мы, открыватели Камчатки, столько скорбевшие от разных бед, начнем подставлять спины каким-то Чириковым да Мироновым! Да что они видели, эти прикащики? Таких прикащиков полезнее сразу убить.
В январе одиннадцатого года (несчастливый выдался год), когда Осип Миронов возвращался из Нижнекамчатска, его, не подпустив на полверсты до острога, Харитон Березин зарезал вострым ножом. А Петра Чирикова, который в это время находился в Верхнем, тоже вывели убивать. Но жалостно пал Чириков на колени, и, зная многих казаков, душевно стал просить, чтобы дали ему некоторое время, чтобы достойно приготовиться к смерти. Казаки позволили. Дескать, Бог с тобой, молись, все же христианская кровь. Оставили кающегося Чирикова под присмотром братьев Лазаря и Кирила Бекеревых, а сами пошли в Нижний острожек, чтобы в свете таких светлых произошедших событий прямо посмотреть в наглые глаза главного своего обидчика — бывшего прикащика Атласова. Некоторые даже знали, что ему скажут, когда увидят. Очень уж много обид накопилось у них на бывшего прикащика. А особенно обидело письмо, перехваченное у тайного посыльного. …«…Вор Анцыферов, да вор Козыревский, — писал в том письме Атласов, — забыв страх божий, преступив крестное целование, государевых прикащиков Осипа Липкина и Петра Чирикова жестоко побили до смерти, и пожитки их по себе разделили. А нас, рабов твоих, было в то время в Верхнем Камчатском остроге совсем малое число, из того числа половина не моглых, а иные служилые и промышленные люди находились в посылках для ясачного сбора, и того ради малолюдства убойцев смирить не смогли. Государь милостивый, вели всех воров и бунтовщиков, пущих к злому умыслу заводчиков и смертных убойцев, сыскать и расспросить и казнить, чтобы впредь в такой дальней стране, как Камчатка, иные так воровать не помышляли, и к такому злу не приставали, и приказчиков до смерти не дерзали».
Ох, дальний край.
Придя под Нижний острог бунтовщики тайно встали за протокой реки Камчатки и там составили ложную грамотку к бывшему прикащику, чтобы послать с тремя служилыми — с Григорием Шибанкою, да с Алексеем Посниковым, да с еще одним казаком.
— Имя его? — спросил Иван.
— Не знаю, — уклонился Похабин. — Я там не был.
— Неужто даже не слышал прозвища?
— Прозвище слышал.
— Как?
— Пыха.
— Просто Пыха?
— Ну да. Так втроем и пришли к Атласову. Говорят, Григорий зарезал прикащика. Ножом в бок.
— Какой Григорий?
— Шибанко.
— А остальные?
— Наверное, резали и остальные.
— А ты не знаешь?
— Я не знаю.
А потом, сказал Похабин, пришли казаки в Нижний и выбрали себе лучшие квартиры, и разделили между собой богатые пожитки Атласова — примерно сто сум с мехами. Обид местным жителям старались не делать. Если что надо было купить — покупали дорогой ценой, не гнушались. За добрых собак давали по двадцать лисиц. Чего ж, грех жаловаться на такую цену… И, может, жили бы хорошо, да вдруг шепелявый, выбранный на кругу есаулом, потребовал вместе с Данилой Анциферовым снова пойти в Верхнекамчатск. Там, смеясь сказал шепелявый, прикащик Чириков уже, наверное, приготовился к смерти. И, придя в Верхний острожек, бросили скованного прикащика в Камчатку-реку. Шепелявый так и крикнул Чирикову: «Выплывешь, жить будешь». А прикащик, хоть и в цепях, хоть задыхаясь, но добился к берегу. Шепелявый почему-то осердился на это и приказал утопить прикащика. Его и утопили… Длинным шестом… А чего ж, если казаки гуляют…
— Сильно гуляли?
— Говорят, сильно, — пожал плечами Похабин. — Меня там не было. К тому времени сшел с Камчатки.
— Говоришь, ножом в бок прикащика Атласова ударил Шибанко?
— Так слышал.
— Где сейчас тот Шибанко?
— В сентябре двенадцатого новый камчатский прикащик Василий Колесов отрубил ему голову.
— А Харитон Березин?
— Говорят, Колесов и Харитона повесил.
— А этот… Как его? Пыха.
— И того, может, повесили.
— А шепелявый?
— Ну, шепелявый! Откуда знать? Шепелявый всегда был хитр! — Похабин странно глянул на Ивана: — Говорят, ушел в монастырь… Постригся, клобук получил, рясу… — Задумчиво почесал рыжую голову: — Через того шепелявого тебе неприятно будет на Камчатке, барин… Там еще живут старые люди, они его помнят…
— А я при чем?
— Похож сильно… Я раньше не говорил, но, увидев тебя, сразу подумал — ну, вылитый шепелявый!
— Разве я шепелявлю?
— Да нет… Я про образ… Шипеть ты не шипишь, а вот глаза светлые… Опять же, особенная дерзость… Кто, кроме шепелявого, мог броситься на хороших мужиков, когда они идут скопом?… И грамотен…
— Было у него имя?
— А как же? Крещен.
— Как звали?
— Иван.
— Козырь?… — негромко спросил Иван, наклонясь к Похабину.
— Ну, не совсем так… Но похоже…
— Ну!
— Да что говорить?… Козыревский… Все знают.
Иван даже застонал: «Ох, выживем, Похабин, повешу!»
А Похабин развел руками:
— Уж больно похож…
Глава V. Якутские сны
Под Якуцком, верстах в семи от города, выехал навстречу обозу суровый верховой монах, с сумою на груди и с ружьем за плечами. Из-под долгой рясы, поддернутой к седлу, выглядывала длинная сабелька. Зорко глянул, надвинув низко на глаза куколь:
— Кто такие?
Даже господин Чепесюк не смутил монаха. Ну, сидит на возке чугунный человек, будто идол. Молчит, лицо в шрамах. Что такого? Наверное, монах многих видел в жизни. Иван сам спросил:
— В духовном звании, а почему при оружии? Почему на дороге?
Что-то не понравилось ему в монахе. Встретить такого — плохая примета. И смотрит так, будто впрямь может не пустить в город.
— Шалят… — уклончиво ответил монах, и увидев, как рука Похабина легла на пищаль, успокоил: — Ты не бойся, человек божий, я плохого никому не делаю.
Иван усмехнулся:
— На что ружье монаху?
— У нас не смирно, — ответил монах так же уклончиво, переводя взгляд с господина Чепесюка на Ивана, а с Ивана на Похабина, а потом на гренадеров, идущих за повозками. Что-то прикинул про себя: — Бывает, что плохие люди нападают на проезжающих.
— А вот застрелишь кого, тебя расстригут.
— Это правда, — ответил монах. — Но лучше кого-нибудь застрелить, чем самому быть застреленным. — И, гикнув, лихо полетел на лошади в сторону виднеющихся вдали домиков.
Крестинин оглянулся на Похабина.
— Ишь, разросся Якуцк… — покачал головой Похабин. — Вон там ярманка. Так и называют — старое место… А там слобода торговых людей… А там, — указал он, — посад иноземного списка. Видишь, на стене стоит солдат с алебардой, и пушечка у его ног раскорячилась, как лягушка. Все как у людей. Немирные иноземцы на такой город не нападут, заробеют.
Крестинин прислушивался, как в полусне.
Не верил никак: да неужто добрался до Якуцка?
Ведь и городом не считал Якуцк, считал — это не город, а так себе, точка на маппе. А тут стена, срубленная забором в лапу, и проезжая башня, над воротами которой чернеют старые образа. Совсем жилой, совсем большой город!.. А я не умер, стучало в мозгу. А я не умер, не потерялся, не пропал, не убит зверем или человеком, не заблудился в Сибири…
А ведь как шли!
Было, возчики убегали, не выдержав трудов.
Было, проваливались зимой под лед, зимовали на заброшенных станках, питались замороженными в круги кислыми щами, тонули всем обозом на неизвестных бродах. Так далеко зашли, что вернуться обратно в Россию, о таком и подумать страшно. Теперь уже Санкт-Петербурх и Москва казались издали не городами с живыми людьми, а так, точками на маппе, а Якуцк наоборот приблизился, несет от него дымом, навозом.
И река.
Большая, как море. Приснится такая, не поверишь.
А еще гнус. Вьется с жадностью. У лошадей, отмахиваясь, скоро совсем хвосты отвинтятся. Не веря, спросил:
— Есть ли кабак в Якуцке?
— Будет тебе кабак, барин, — весело ответил Похабин. — Все будет. Раз дошел до Якуцка, теперь, наверное, голову теперь не пропьешь. Завтра пойдем в кабак.
— Зачем завтра? — потребовал Иван. — Прямо сейчас.
— А постой? А обоз? А квартиры?
— Паламошный займется. Веди!
Похабин, подумав, кивнул:
— Ладно. Идем. Только помни, как говорили в дороге.
— Это о чем?
— Да о шепелявом.
С того и началось.
Город оказался не на самой реке, а примерно в версте, наверное, боялись разливов. Узкая улица тянулась, выставляя напоказ глухие заборы из тяжелых лиственничных бревен, за которыми, как в отдельных острожках, прятались в деревянных домах живые люди. На воротах крепкие запоры. Похабин обьяснил: а как не запираться? Бывает, что голытьба гуляет. В Якуцк ведь всякий бежит — кто от плети боярской, кто от каторжного клейма, кто от насильственного царского брадобрития. Указ ведь каков? Бородачам, сидящим под караулом, за неимением, чем заплатить пошлину, выбрить бороду — и отпустить. А всех ведь не перебреешь. Отсюда и осторожность.
Долго шли вдоль заборов.
Дома выходили на улицу, в основном, торцами, отсвечивали в мелких окошечках слюдяные пластины, некоторые окошечки вообще были закрыты ставнями. Похабин всех знал. Смело указывал, где кто живет.
— Вон там, — указывал, — живет стрелец Долгий, зовут Сенька. Раньше всегда ходил в оленьем колпаке и в нагольном полушубке. Никогда не снимал с себя тот колпак… А вон там, — смело указывал, — изба сына боярского Курбата Иванова. Он раньше любил носить вязаные шарфы… А вон, — опять указывал, — живет пеший казак Второв, очень пучеглазый. Раньше умел гнать тайком крепкую водку. Так ее в Якуцке и называли — пучеглазовка. Даже, наверное, не надо объяснять, почему… А дальше дом крепкого посадского человека Ярыгина. С ним, с Ярыгиным, служил на Камчатке.
— Ты? — быстро спросил Иван.
— Я.
— Покажешь Ярыгина. Поговорю с ним.
— Он уже стар, барин.
— С таким особенно надо говорить.
— А вон там, — никак не мог остановиться Похабин, — изба конного казака Волотьки Челышева. У него один глаз. Другой глаз выстрелили стрелой немирные коряки… А дальше, за Троицкую церкву, проживает, если живой, тюремный сторож Нехорошко… А в соседстве с ним голова якуцких конных казаков. Вот какие разные люди.
В распашном, потертом, помятом в дороге, но все же приталенном, все еще имеющем вид кафтане, правая пола заходила за левую, а по борту весело блестели посеребренные пуговки, Иван, ведомый Похабиным, поднялся на высокое деревянное крыльцо кабака. Сапоги от грязи пришлось очищать о специальный скребок. Оглядываясь на высокий забор, на котором сушилась сеть, сплетенная из конского волоса, Похабин объяснил:
— Тут всегда сидел Устинов… Имя забыл… Если не убили по пьяному делу, если сам не спился, значит, и сейчас сидит. Курит вино, веселит народ и всякое такое прочее. Правда, жадный. Его, Устинова, трясет от вида копейки. Так всегда и говорил, что, дескать, денежка к денежке набежит — вот тебе и копейка… Нет такого человека в Якуцке, который бы не заглянул в кабак Устинова. Ты, барин, спроси потом Устинова о своем маиоре. Если проходил маиор через Якуцк, обязательно отметился у Устинова.
— Спрошу, — сказал Иван, распахивая дверь и смутно волнуясь.
Не верилось, неужто впрямь после долгого перерыва спросит сейчас чашку крепкого? Три месяца не слышал даже запаха, проклятый Похабин завел в такие места, где о ржаном винце и не слышали. Зато вид у Ивана стал другой, сам чувствовал. Руки крепче, ноги не ныли. С ясной головой глядел на дикие степи и горы, тоже дикие, которые к полночи становились все выше и выше. Как ехали через Россию, ничего и не помнил, кроме ужасного похмелья, а здесь, в Сибири, проснешься, голова свежая, все впитывает, а вдали возвышается какая-нибудь величественная гора. Или река течет такой ширины, что и говорить вслух не надо — не поверят. Или звезды светятся над хвойными деревьями, столь яркие, что иголку можно в сене найти.
А почему все такое отчетливое? А от трезвости.
И вдруг — кабак. Настоящий.
Твердо решил: я только попробую. Теперь-то уж знаю, как хорошо бывает, когда голова чистая. Коли уж привык к новой жизни, сумел добраться до далекого Якуцка, нарушать не буду. Теперь, наверное, могу дойти и до края земли. Может, не врал старик-шептун?
Сплюнув для смелости, толкнул дверь.
Пахнуло в нос теплыми щами, запахом табака. Мелькнули некие радуги на окошках — пластины слюды веселят глаз. Деревянный стол, деревянные лавки. На столе самовар гудит, а в углу образ тает в тихом сиянии, прикрыт серенькой занавесочкой.
И — никого.
Может, время такое? — удивился Иван. Может, в Якуцке в кабак сходятся, где под вечер? Сидел, правда, немолодой плотный за столом, сложив на столе сильные руки. Услышав скрип открываемой двери, поднял ничем не покрытую голову с остатками седых волос по вискам, и остолбенело уставился на вошедших.
— Здравствуй, божий человек, — ласково произнес Иван. И усмехнулся ласково. Вот, дескать, пришли новые люди. Пришли из самой России, радуйся. Сейчас себе возьмем и тебе поставим.
Но на добрые слова божий человек почему-то ничего не ответил, только тяжело засопел и сжал кулаки. При этом нижняя толстая губа божьего человека обидчиво дрогнула. Он даже отвернул в сторону ничем не покрытую голову, как бы не веря увиденному, или вообще не желая видеть такого.
Иван обидчиво повел плечом:
— Зачем отворачиваешься от живого человека?
Казак свирепо оскалился:
— А ты человек?!
— А почему ж нет? — еще больше удивился Иван. — Ты человек, и я человек. И вот он человек, — ткнул он в Похабина. — Мы все человеки, все рабы божьи. А простое внимание человеков друг к другу, оно и благочестию не чуждо и богу не противно.
— Молчи! — странным голосом произнес казак. Его сжатые тяжелые кулаки лежали на столе. Он невидяще и остро смотрел на Ивана.
— Вот какой! — не стерпел Иван. — Чем плох тебе показался?
Не успел закончить, как божий человек казак легко с подъема скользнул правой рукой за голенище сапога. Широкий нож, блеснув, вспыхнул перед Иваном. Охнул, отклонясь, как бы уже чувствуя боль и ужас раны, но ловкий Похабин вмешался. Пустой чугунок сам лег ему в руку, этим чугунком Похабин ударил сверху божьего человека. Осколки весело брызнули, а казак сомлел, закосил сразу подурневшим глазом, и лег грудью на стол.
Вынув из руки казака нож, Похабин кинул его на стойку, из-за которой вдруг бесшумно, но без испуга приподнялся пожилой человек якутского вида, явно не русский. Жиденькая светлая борода, такие же жиденькие светлые волосы, повисшие из-под повязанной на голове косынки. Рубашка в белый горошек, заношенная до серости, и такой же серый меховой жилет. Но главное, у светловолосого кабатчика были такие длинные руки, что он запросто брал посуду с края стола, даже не выходя для этого из-за стойки.
— Чего это он? — запоздало расстроился Иван, глядя на сомлевшего казака.
— А то я не говорил? — сплюнул Похабин. И уверенно крикнул кабатчику: — Слышь, Устинов! Ты жив? Ну. и слава Богу. Это я — Похабин вернулся.
Кабатчик неопределенно перекрестился, мигнул узкими глазами:
— А и то…
— Да чего это он? — непонимающе повторил Иван, все еще рассматривая сомлевшего, лежащего лицом в стол казака, но обращаясь к кабатчику, а не к Похабину.
Кабатчик нехорошо засопел.
— Я же к нему ласково, — непонимающе повторил Иван, — а он сразу за нож.
— А как жил, так тебя и встречают, — непонятно, но нехорошо ответил кабатчик. Каждое слово кабатчик он явственно, но некоторые звуки пропускал. Может, недоставало зубов. — Вы дверь прикройте, — крикнул он. — Зачем теперь стоять на пороге?
— Дурак! — рассердился Иван. — Не говори грубо. Не варнаки явились. Я человек казенный, при деле. Больше не сметь бросаться на меня с ножом. — И спросил, оглядываясь на сомлевшего казака: — Кто таков?
— А то не знаешь? — неохотно ответил кабатчик.
— Откуда мне знать?
Кабатчик неопределенно пожал плечами.
— Звать как? — спросил Иван уже казака, со стоном, наконец, приоткрывшего один глаз.
— А то забыл?… — казак, кряхтя, держась руками за голову, умащивался на лавке.
— Да откуда мне помнить? — совсем рассердился Иван. — Я из России пришел, тебя виду впервые. Раньше никогда не встречал. Если б встречал, запечатлелось бы в голове.
Теперь и раненый казак, и кабатчик Устинов в четыре глаза уставились на Ивана.
— Выходит, что не он… — выговорил Устинов. И поклонился, не выходя из-за стойки: — Прости, божий человек. Выходит, что обознались… — И крикнул удивленно: — Похабин! Кого привез?
— Казенных людей с государевым делом.
— Чего ж не проходите? — всплеснул руками кабатчик. Лицо его оживилось, светлые морщинки весело запрыгали по бледному лбу. — Да проходите. Вон стол. Садитесь за стол.
— Мы сядем, а вы опять за ножи…
— Да зачем? Никаких ножей! Правду говорю, обознались. Садись, барин, садись, угощу, чего душа хочет. Вот слышу, Похабин зовет тебя барином, и я буду так звать. Не обидишься? Ко мне все ходят. Ты у меня всех увидишь. Сейчас, правда, пусто, так это потому, что многие служилые ушли в поход на отколовшихся одулов. Если теперь срочно понадобятся лошади, вам придется людей посылать по самым отдаленным юртам. — И добавил, засмеявшись, поглядывая то на Ивана, то на покряхтывающего, все еще держащегося за голову казака: — Выходит, что обознались… А рост один, и голос… И личиком вышел… Аж сердце заходится, брата родней… — Закончил уверенно, кивнув казаку: — Не он это… Зря за нож хватался, Стефаний.
— А то! — сказал казак. — Теперь сам вижу.
— Ладно, — сел, наконец, Иван. — Подать всем винца. И поесть тоже. — И быстро спросил: — Почему обознались?
— Больно ты похож на одного человека… — покачал головой кабатчик — Мы совсем собрались повесить его, да он скрылся. Такой человек, что, как змея, укусит и сразу удачно скроется. Его половина Якуцка ищет. Пять раз кричали на него слово и дело государево, а он пять раз вывертывался, как змея. — Кабатчик огорченно развел руками: — А ты похож на него… Ну, сильно похож! Как две полукопейки.
— Эй! — грозно напомнил Иван.
— Да к слову я, к слову, — замахал руками кабатчик. — Уж больно похож. — И обнадежил: — Это ничего, что Стефаний схватился за нож. Вот кто другой, так за пищаль схватится. Пулю не остановишь.
— Что, правда, так похож?
— Вылитый.
— На кого же? Кто он?
— Совсем плохой человек.
— Я чувствую. Но имя-то есть у него?
— Есть. Почему не быть? Все-таки мать рожала. Зато отец был чистый убивец, убил собственную жену. И дед у него был убивцем, и сам он убивец. Лучше б такому человеку не рождаться на свет, все равно кончит плохо. Может, в петле, может, на дыбе. Не знаю. Но не жилец он, так скажу.
— Многие уже так говорили, а он многих пережил, — хрипло возразил казак за столом, все еще потирая руками разбитую голову.
— Имя забыл сказать.
— Иван.
— А по отцу?
— Да всем известно, из Козыревских.
— Из Козыревских?… — Крестинин быстро переглянулся с Похабиным, покачал головой и кивнул обиженному казаку: — Ты, божий человек, зря на меня кидался, впредь поумерь прыть. Сразу скажу, что, может, уже нет в живых того Козыревского, что когда-то был есаулом у воров, бунтовавших на Камчатке. Может, это его некоторое время назад по суду замучили в Санкт-Петербурхе. Точно не могу сказать, но думаю, что, может, его.
Казак недоверчиво поджал губы:
— Сколько раз уже говорили такое, а Козырь жив. То говорят, утонул в море за перелевами, то застрелен на юге Камчатки, а то, как Данило Анцыферов, сожжен в балагане собственными людьми. А он возьмет да объявится. — Казак поднял глаза на Ивана: — Но вообще-то, про Санкт-Петербурх ты прав… Говорили, что собирался Козырь в Россию. Говорили, что грозился донести челобитную до Сената. У него один прикащик, по имени Петриловский, племяш Ярофейки Хабарова, вымучил богатые пожитки, жалко, что не повесил. Козырь от того сердит, как волк. Но чтоб до смерти его замучили… — Казак недоверчиво покачал разбитой головой: — Пока сам не увижу на колу голову Козыря, никому не поверю.
— Чего ж это он? Неужто только ради пожитков рвался в Санкт-Питербурх? — Иван с нетерпением оглядел выставленную на стол посуду.
Пустобородый кабатчик засмеялся:
— Почему ж только ради? Хотел всем доказать, что далеко ходил, что был якобы за проливами.
— А что, не ходил?
— Ну, говорят, ходил, — неохотно признал кабатчик. — А другие оспаривают. А он сам уши всем прозвенел, как гнус, знает будто наикратчайший путь в Апонию. А я так думаю, что он врет. Вообще Козырь к вранью сильно способен. Это и Гришка подтвердит. Он один раз уже подтвердил — на пытке.
— Какой Гришка?
— Да Переломов! Из старых бунтовщиков. Из тех, что в одиннадцатом году зарезали камчатских прикащиков, а потом бегали на острова с Козырем да Анцыферовым. Хотели, значит, замолить вину. Писали в челобитной, что прошли сразу на многие новые острова, а Гришка Переломов признался на пытке, что высаживались воры только на ближний остров, который лежит сразу за Лопаткой. А чтобы многие острова… Или чтобы до Апонии… Врет Козырь!
— Ну?
Душа Крестинина ликовала.
Во-первых, горло, наконец, горячо обожгло крепким винцом. С отвычки пошла по всему телу волна дивного жара. Во-вторых, как и думал втайне, получалось, что не ходил тот проклятый Козырь в Апонию! Туда, в Апонию первым теперь явится он, Крестинин! Раз дошел до Якуцка, значит, и до Камчатки дойду. А там и до Апонии!
— Как? — спросил вслух с нарочитой обидой. — Неужто ходил Козырь только на один остров? У Козыря, я слышал, были разные умственные чертежики. Он мог далеко уйти.
— Нет, Гришка честно признал на пытке, что ходили воры только на первый остров, — возразил кабатчик, все еще с удивлением разглядывая Ивана. — А Гришке спину жгли паленым веничком, врать под веничком трудно. А он, Гришка, твердо стоял на своем. Вот де ходили они, воры, но только на первый остров, а про другие острова Козырь врал в челобитной. Хотел, дескать, выслужиться за убийство прикащиков.
Казак за столом вдруг сощурился подозрительно:
— Да как это вдруг замучили Козыря в Санкт-Петербурхе? Неужто добрался до царского города? Я слышал, что видели его как-то в Тобольске. Говорят, в том краю обозы грабил. А потом видели на Лене. Вроде заболел Козырь на каком-то волоке, и в монахи постригся по обещанию.
— Много для одного человека.
— С Козыря меньше и не бывает.
— Ладно, — согласился Иван. — Козырь мне человек неизвестный. Мало ли, что похож.
И прищурился.
Хватив горячего, врать легче.
— Ну, всякое на свете бывает, — рассудительно покачал головой кабатчик. — Но ты, барин, в Якуцке на первую пору остерегись. Уж больно похож на Козыря. А народ у нас горяч. Сперва бьют ножом, потом спрашивают имя. Ты ешь, пей, но остерегайся. И так еще скажу, барин, что в Якуцке много таких, кто, не раздумывая, бросится на Козыря.
— Чем он так насолил всем?
— Нравом.
В тот день на Ивана бросались трижды.
Сперва сидели втроем — Иван, казак Евсей Евсеев, которого Похабин чуть не прибил чугунком, и Похабин. Сидели мирно, даже чинно сидели — обсуждали путь от Якуцка к морю. Кабатчик, налив и себе, рассудительно заметил: сейчас-то что! Сейчас путь до моря хорошо прознали, известен путь. От силы месяц, ну, полтора. С возами, конечно, дольше, и все равно не так долго, как ходили когда-то. Ведь самые первые промышленники начинали путь с Лены вверх по рекам Алдану, Мае и Юдоме, и так до самого Юдомского волоку. Там и волоку-то верст двадцать, но на сплав по реке Урак уходило не меньше трех-четырех недель. Ну, а там уж Камчатка, рукой подать.
На Камчатке лиственница, березняк, вспомнил Похабин. Деревянные болваны стоят под скалами. Дикующие считают болванов за сильных богов, для того мажут им губы кровью. А главный бог Кутха у них совсем глупый — то воюет с мышами, то насылает на людей грозу. А гамулы, мелкие духи, бросают из своей небесной юрты горящие головешки, отсюда и молоньи. А гром грохочет, это когда глупый бог Кутха лодку тащит по волоку.
Вот совсем глупый бог, добавил Похабин. Когда Камчатку делал, все перерыл, оставил одни горы. Куда не сунешься, одни горы. Ну, зачем так много гор? Мог подумать о людях.
— Какие люди? — возразил кабатчик понимающе. — Дикующие.
— И ты ходил на Камчатку? — спросил Иван.
— И я, — кивнул Устинов.
— Не встречал ли где маиора Саплина?
— Такого не помню.
— А может, — кровь уже горела в жилах Ивана. — Может, ты и прикащиков камчатских не знал?
— Бог с тобой, барин! О прикащиках говори с Похабиным. Он служил на Камчатке. — И обернулся к Похабину: — Искали тебя.
— Кто?
— Да так… Одни люди…
— Смотри, барин, — усмехнулся Похабин. — Всегда врут в кабаках.
— А и в храмах врут, — непонятно рассердился кабатчик.
Слушая Устинова и Похабина, принимая винцо в себя, Иван смутно вспомнил, как в детстве, где-то здесь, под Якуцком, бегал к лиственнице. Черное дерево, ондушей одулы его зовут. Бежал до ближайшей ондуши, думал — от нее что-то откроется вдали… Сейчас вот один вид, а добежишь до ондуши — там откроется совсем другой… Добегал до ближней лиственницы-ондуши, а впереди почему-то ничего не менялось. Как видел увалы и синеву, так и за ондушей видел увалы и синеву…
Резнуло по сердцу: жил здесь маленький, сильно страдал от гнуса, дышал воздухом. Подумал, от того опечалясь: сегодня много выпью винца. И сладко засосало сердце, — не скоро, небось, придется теперь сидеть в кабаке. Если вообще придется… Так чего же не выпить? Ведь столько терпел. Если б не хорошие мужики в одной деревне, может, сбежал бы, дурак, от господина Чепесюка, ходил бы сейчас, одичав, босиком по дорогам…
Задумавшись, не заметил, как в кабак вошли трое, а за ними еще.
Сидел спиною к дверям, не обратил внимания.
Похабина узнали.
— Люди, — сказал Похабин, шумно поднимаясь над столом. — Не пугайтесь, люди, что хочу сказать вам! — И поднял руку: — Пришел со мной человек…
Иван оглянулся.
— Козырь! — изумленно выдохнул кто-то. И все уставились на Ивана, схватились за ножи. И глаза у всех стали нехорошие, как у мерзлой рыбы.
— Да вовсе нет! — поднял руку Похабин. — То не Козырь, то совсем другой Иван. Даже фамилия другая — Крестинин. Только похож на Козыря. А сам — государственный человек из Санкт-Петербурха, посылан в дальнюю дорогу государем.
— Да Козырь это! — крикнул кто-то. А кто-то попытался сзади ударить Ивана крынкой, стоявшей на стойке, правда, задел о притолоку — на Ивана посыпались коричневые черепки. Не оборачиваясь, сунул кулаком в чье-то разгоряченное, сразу отпрянувшее лицо.
— Ну, в точь Козырь! — дивились казаки разобравшись. Но шепотки так и плавали по темному теплому кабаку. «Он!.. Он!.. Да нет говорю…» И от шепотков грозных, темных, много чего обещающих, в Иване снова заиграл бес. Столько месяцев шел в Якуцк, скорбел в дороге, но ведь сам шел! И добрался сам до Якуцка. А его, смотри, принимают за кого-то… Вроде сам себе козырь, а все равно принимают за того, за другого Козыря… Обидно…
— Откушай, барин.
Сердито обернулся.
Кабатчик в косынке, завязанной на голове, смирно помаргивая, выставил на стол оловянное блюдо с мясом. Выпив, Иван занюхал. Не понравилось — мясо суховатое, с запахом. Сплюнул:
— Как собачина!
— Что продается на торгу, то ешь без исследования… — вспомнил кабатчик что-то из священного, но Иван больше прислушивался к шепоткам, плавающим за его спиной. «Да голос-то!.. Так ведь не шепелявит!.. А шрам? Шрам был над бровью… Где шрам?…»
Поддаваясь лукавому, Иван медленно повернулся и в упор взглянул в зеленоватые глаза самого сердитого, самого растерянного казака. Потом так же медленно поднял чашку и выпил горячее винцо до самого донышка, ни на секунду не отводя глаз от глаз казака.
Тот сплюнул.
— Не заграждай рта у вола молотящего, — тоже вспомнил из священного Иван. И потребовал: — Устинов! Налей всем.
Кабатчик засуетился.
Похабин предусмотрительно сел рядом с Иваном, спиной в угол, чтобы видеть всех. В дверь заглядывали. «Мне продолжить ли?» — зачем-то спросил кабатчик. Может, боялся, что уйдет Иван, а с ним уйдет выручка. Иван кивнул, кабатчик кинулся к стойке.
— Не ты, значит? — выдохнул казак напротив.
— Не я.
— А кто?
Иван невежливо сплюнул.
Казак налился багровостью, но его, опять же, перехватили.
На столе незаметно возникла зеленая четверть. Принесли гуся — горячий, так и дышал испарениями черемши, чеснока дикого. Воспользовавшись этим, Похабин заявил:
— Говорят, кончили Козыря. Может, на дыбе в Санкт-Петербурхе.
— В первый ли раз?
Казаки зашумели.
Как же, кончишь такого! Козыря прикащик Атласов неделями держал в смыках, смеясь, колол палашом. Дикующие пускали в Козыря стрелы. Много раз жестоко дрался с разными казаками, получая увечья. Прикащик Петриловский сажал Козыря на железную чепь, как медведя, беспощадно мучил, а Козырю все нипочем! Только отдышится, и пошел дальше.
Качали головами, выпив.
Бог знает, качали головами. Бог, делает людей такими, какие они есть.
Дышали чесноком, придвигались ближе. Козыря, говорят, видели под Тобольском — людей грабил. Козыря, говорят, заточили в монастырской избе. Козырь, говорят, тайком ушел на Камчатку, ставить в глухом краю пустыню для страждущих казаков. Козырь, говорят, украл казну, вывез в Россию пожитки, награбленные у прикащиков. Известно, что у одного только убиенного прикащика Петра Чирикова хранилось на Камчатке восемьдесят сороков соболей и до пятисот красных лисиц.
— Врут, наверное…
Кто-то, входя в кабак, узнавал, пытался броситься на Крестинина, но теперь, разобравшись, защищал Ивана не только Похабин. Сами казаки защищали. Кабак или не кабак, это дело второе. Раз пришел к людям, сними шапку, потом хватайся за нож. А это, указывали на Ивана, т вовсе не Козырь. Не лайся волком, проверено. И остынь, остынь, это государев человек. А почему пьет? А почему не пить государеву человеку? Кто-то, войдя, сказал, что только что видел в съезжей у воеводы необычного приезжего. Видом квадратный, как чугунный, глаза тяжелые, и фамилия странная — господин Чепесюк. Этот господин Чепесюк такие показал в съезжей бумаги, что сам воевода незамедлительно и самолично приложил к ним печать города Якуцка, на которой орел держит в когтях соболя. А в бумагах, говорят, такие строгости, о каких в Якуцке никогда не слышали.
В споре забывались.
Кто-то из прибывающих, не зная правды, снова, конечно, пытался дотянуться до Крестинина, но Похабин перенимал удары. За утомительную дерзость одного такого новоприбывшего даже выбросили из кабака, и впустили обратно только по приказу Ивана. «Он же не знал, — пожалел Иван новоприбывшего. — Может, я, правда, так сильно похож на человека, который вам неугоден. Пусть посидит казак с людьми, может, что полезное скажет». Казак, которого выбрасывали из кабака, сел за стол, но ничего полезного не сказал, только, выпив, с изумлением глядел на Ивана. Да Козырь же это! — читалось на круглом, обветренном в сендухе, не совсем умном лице.
Угарно стало в кабаке.
Хозяин, любуясь удачным гостем, руками ощупывал иногда карман. Втайне жалел: тот Козырь был ему должен больше. А Крестинин, отойдя душой, уже намекал значительно: туда, дескать, куда он идет, еще никто не ходил… Некоторым особенно понравившимся казакам подмаргивал тайно: мы, мол, потом наедине поговорим… А Похабину сказал:
— Со мной дальше не пойдешь, брошу тебя в Якуцке.
— Это почему ж? — опешил Похабин.
— Плохо служишь.
— Да как плохо? Я всей душой.
— А где дьяк-фантаст? Где монстр якуцкий статистик?
— Ну вот, — всплеснул руками Похабин. — Вспомнил!
И объяснил заинтересовавшимся казакам:
— В Санкт-Петербурхе прослышали, что есть в Якуцке монстр статистик настоящий дьяк-фантаст.
— Да ну? Кто такой? — удивились казаки, но тут же догадались: — Да это Тюнька! Неужто жалована Тюньке милость какая царская? — Вмиг крикнули: — Зови Тюньку! — И придвинулись ближе: знаем, мол, статистика дьяка-фантаста Тюньку! Он сильно грамотный. Изучил все литеры. Ну, известный умственный человек! Пьет, конечно, как монстр, но это кому как. Царю такое, наверное, не интересно.
Кто-то вспомнил:
— Тюнька в Якуцк сам пришел. Может, били его кнутом в Москве, а может, еще что, но в Якуцк пришел самолично. Говорят, в Москве сильно пил, хотел даже предаться дьяволу по пьяному делу. Проигрался в карты, а был писарем в одном полку. Вот написал на бумаге ночью кровью прошение. Дескать, великий князь тьмы Люцыпер, дескать, тебя покорно прошу о не оставлении меня обогащением деньгами. Обнищал, впал в ничтожество, пошли ко мне своих служебников, я с ними на тебя век буду служить. А сам сильно запил и потерял в казарме ту записку. А нашел ее умный человек. Вот за ту самую записку и били Тюньку кнутом, зато душу спасли.
— А теперь смотри, вспомнили Тюньку при дворе! — радовался кабатчик, ласково поглядывая на Ивана. — Я ведь сам сколько раз наливал Тюньке! Может, теперь от его удач и мне что-то представится.
Галдели, не слушали друг друга.
Почему-то сразу решили, что вышла какая-то большая удача статистику Тюньке, монстру, дьяку-фантасту, за большие его труды, решили, вышла Тюньке от самого государя какая-то очень большая удача. Наступила на минуту в кабаке та благость, когда самый плохой человек вспоминает только о добром, когда горят открытые добру сердца. Всех приходящих в кабак сразу подводили к Ивану, строго предупреждали — не тот! А самые умные да ловкие давно сидели на лавке рядом с Иваном.
Хлопнула дверь.
Все, галдя, обернулись.
В дверь, задирая голову, не снявши шапку, вошел сухой, длинный дьяк. Шел коромыслом, где-то поддал уже. В козлиных желтых штанах калматцкого дела, в зеленых сафьяновых сапогах, в кафтане, пусть простом, но украшенном оловянными крупными пуговицами. Вид у якуцкого монстра статистика дьяка-фантаста был такой, будто он только что вырвался из холодного чулана, но шел дьяк гордо, был уже наслышан от некоторых благожелателей, что сам государь император Петр Алексеевич, Отец Отечества отметил его многия труды вниманием, специально прислал в Якуцк специального человека. Робея, шли вслед за дьяком-фантастом посыланные за ним казаки.
Задирая высоко голову, Тюнька важно, как и подобает человеку, отмеченному царским вниманием, остановился перед Иваном, оглядел высокомерно:
— Ты, что ль, из Санкт-Петербурха? Ты, что ль, ко мне с царским указом?
Иван не сразу ответил.
Прикидывал про себя, теряясь: как такого длинного повесить в кабаке удачно, чтобы впредь дело знал? Опять, подумал печально, идет кругом голова из-за этого дьяка. Наглый, видать, и глупый. Вспомнил отписку, изумившую царя: «Матвей Репа — пятидесяти лет от роду. Сиверов Лука — тридцати семи лет от роду. Серебряников Иван — сорока семи лет от роду. Сорокина Лушка — тридцати трех лет от роду. Рыжов Степка — семнадцати лет от роду…» Так ведь и писал, а смотрит на меня, как на чужой предмет, всяко презирает. Высокая понадобится виселица, подумал, раз ростом одарил господь монстра-фантаста. Глядя, как ловко, как по-хозяйски, не спросясь никого, Тюнька хлопнул большую чашу белого винца, Иван спросил лукаво, как бы робея при этом, как бы даже стесняясь такой большой фигуры:
— Да неужто и впрямь итог всей деревне — две тысячи тридцать лет от роду?
Казаки не поняли, но дьяк-фантаст ответил гордо:
— Ты не поймешь.
Казаки притихли.
С тайной завистью смотрели на Тюньку: известное дело, большой грамотей. На заезжего барина, столь нелепо напоминавшего Козыря, поглядывали теперь уже с некоторой усмешечкой: вот де наш Тюнька любому утрет нос.
— Да неужто я не пойму? — еще лукавее, и как бы еще робче, как бы совсем застеснявшись, спросил Иван.
— Ты не поймешь, — повторил дьяк гордо. — По глазам вижу. Давай не тяни время. Доставай грамоту, или что там еще есть?
Дьяк-фантаст еще сильнее надулся, задрал голову со спесью, на Ивана уже и не смотрел. Зато строго взглянул на кабатчика, и тот опрометью бросился на кухню за новым гусем и за новой четвертью. Бежал, придумывая: вот какой удачный день получается! Тюнька — дьяк простой, а смотри, с робостью разговаривает с ним важный барин из Санкт-Петербурха!
— Похабин! — позвал Иван.
— Я здесь, — не сразу из-за шума ответил Похабин.
— Похабин! — заорал, наливаясь гневом Иван.
— Чего? — с готовностью вскочил.
— Возьми людей и вздерни монстра статистика прямо на входе!
— Как так? — смертельно побледнел Тюнька, вдруг поняв что-то. Смутно, конечно, он подозревал, что впадает в заблуждение насчет больших наград и милостей, явленных ему из Санкт-Петербурха, но только сейчас что-то по настоящему понял. С чего бы действительно государю императору, Отцу Отечества, победителю в свейской войне, интересоваться монстром Тюнькой, слать наказы в Якуцк?
И повторил, еще сильнее бледнея:
— Как так?
— А ордер у меня, — громко объяснил Иван. — Лично государь приказал повесить указанного якуцкого монстра так, чтоб впредь дело знал.
— Так, может, это не меня? — с надеждою спросил Тюнька. — Может, это какого другого монстра?
— Тебя, тебя, — успокоил Иван. И заорал во весь голос: — Похабин! Возьми людей да вздерни дьяка в дверях!
Хмель гудел в Иване.
Дьяк глупый какой, а все ему верят.
Это всей деревне сколько получается лет? Две тысячи тридцать. А если сложить возраст всех покойных и живых русских людей, это же сколько лет окажется всей России?
А Похабин уже заломил дьяку руки. «Поистине государев человек», — вздохнул кто-то. А дьяк закричал страшно:
— Так я ж служил!
— А вот за добрую службу налейте дьяку. Полную чашу налейте! За добрую службу тебя хвалю, — сурово сказал Иван. И добавил беспощадно: — А как выпьет, повесьте!
Дьяку налили, он выпил и закричал совсем устрашено:
— Всем животом служил!
— Живота и лишаем, — сурово кивнул Иван. И махнул рукой: — Вешайте.
Сразу трое казаков дружно бросились на монстра, появилась веревка. Кабатчик запричитал:
— Да уведите на площадь! Там место есть. Зачем в кабаке? У меня и притолока низкая!
— Не медля, и здесь! — твердо приказал Иван.
Но вдруг все стихло.
Откинув ногой дверь, вступил на порог господин Чепесюк — квадратный чугунный человек с изрубленным лицом. Ледяной взгляд тусклых оловянных глаз неспешно следовал от одного казака к другому, и тот, на ком взгляд задерживался хотя бы на секунду, заморожено притихал, прикидывался совсем пьяным. Впрочем, кому и не надо было прикидываться, уже был пьян.
— Это как же так, барин? — один только кабатчик не растерялся. — Это почему здесь, барин? Видишь, как у меня низко? Гости ко мне придут, а в дверях повешенный!
Иван задумался.
Может, показалось ему, но в ледяном взгляде тусклых оловянных глаз господина Чепесюка опять, как когда-то в деревне, где дрался он с хорошими мужиками, уловил что-то такое… Ну, неизвестно, что… Может, одобряющее…
— Ладно, — разрешил. — Отпустите дьяка. Пусть садится за стол, потом повесим.
Кабатчик облегченно вздохнул.
Иван спал.
Снилась ему тундра-сендуха и ураса, крытая коричневыми шкурами олешков. В урасе катались, рыча, по полу неизвестный убивец и отец Ивана стрелец Крестинин. «Ударь его!» — кричал отец, возясь с взрослым убивцем, и отталкивая от себя ногой отощавшего злого парнишку. Иван, страшась отца, вновь и вновь кидался на сына убивцы, но только сорвал с него крест, а тот, извернувшись, ударил его ножом по пальцам.
Иван просыпался.
Отрубленный палец ныл.
Вот нет пальца, а ноет, как настоящий.
Сделав глоток из штофа, поставленного прямо на полу в изголовье низкой постели, Иван взглядывал в сторону невидимого слюдяного окошечка, вздыхал, снова проваливался в сон. «Он мне Волотьку Атласова должен!» — страшно кричал во сне думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев. Почему-то такое же повторял, смеясь в усы, низкорослый, но неукротимый маиор Саплин. Совсем оловянными глазами вглядывался в происходящее квадратный господин Чепесюк. Просыпаясь, думал: вот казаки, говоря о Козыре, упирали на длинный рост, на его шепелявость. Конечно, это не тот человек, который в санкт-петербурхской австерии гораздый был махаться портретом государя махаться…
Потом казачий голова от города Якуцка прикащик Волотька Атласов явился во сне. Вот в жизни не встречал никогда этого прикащика, а сразу его узнал — крепкий, непокрытая русая голова, нагольный полушубок, сабелька на боку, весь синеглазый. «Говорил тебе, не режь, — сказал Атласов, грозя кривым сильным пальцем. — Теперь по ночам буду являться».
«Я, что ли, резал тебя?» — удивился Иван.
«А зачем так похож?»
«Так разве виноват в том?»
Атласов пожимал сильными плечами, русый, голубоглазый, упрямо качал головой:
«Буду тебе являться».
«Да почему мне? Я не Козырь. И не предсказывал мне такого старик-шептун».
«А где Козырь?»
«Откуда ж мне знать?»
«Найди!»
«Зачем?»
«Для моего спокойствия, — непонятно ответил Атласов. И спросил: — Данило-убивец где? Где убивец Анцыферов?»
«Говорят, убит… Сожжен камчадалами в специальном балагане…»
«А Григорий Шибанко?… А Алексей Посников?… А подлый Пыха?…»
«Не знаю… Говорят, их тоже зарезали…»
Атласов усмехался:
«Тебя, Иван, тоже зарежут».
«Зачем говоришь такое?»
«А чтобы помнил», — усмехался казачий голова.
«Не ходи ко мне больше, — попросил Иван, дуя на ноющий отрезанный палец. — Ты не к тому ходишь, прикащик. Я другой. Мне надо в Апонию. Я в Якуцк зашел по дороге».
«Служения наши различны, а Господь один…», — загадочно ответил Атласов.
«Да к чему ж это?» — совсем испугался Иван.
И проснулся.
Потянулся со стоном. Попытался, не вставая, ухватить рукой шкалик, но не нашел.
Тогда повернул голову.
Слабо мерцала свеча в подсвечнике. Напротив постели сидел на лавке монах в черной рясе, куколь с головы сброшен, длинные волосы подвязаны сзади хвостиком. Очень откровенно, даже с неподобающей жадностью присосался к шкалику Ивана, потом спросил:
— Нельзя ли чего поесть?
— Нет ничего, отче.
Иван смутился, но все же понял, что видит уже не сон, а настоящего монаха. Даже узнал его. Этот монах ехал под стенами Якуцка с сумою на груди и с ружьем за плечами. Из-под долгой рясы, поддернутой к седлу, выглядывала длинная сабелька. Оружие объяснил тогда так: плохие люди нападают на проезжающих.
Припомнив все это, Иван на всякий случай сказал:
— Благослови, отче. Не по себе мне.
Монах молча благословил.
— А хорошее ль дело к чужому винцу прикладываться? — несколько осмелел Иван.
Монах понял Ивана по-своему и усмехнулся:
— Когда и пьян батюшка в храме, ничего в том страшного. За него сам Господь служит.
— А кто стать желает епископом, доброго дела желает…
— Вижу, знаешь писание, — похвалил монах.
Иван кивнул, сел в постели и опустил босые ноги на холодный пол:
— Ты не с плохим ли пришел, отче? Коли хочешь, что взять, так тут все не мое. Тут все принадлежит казне. Страшись.
— Зачем повесил монстра статистика?
— А я повесил? — Иван вдруг засомневался, но так не смог вспомнить правильное. Ответил уклончиво: — Хочу дойти до Апонии.
— Это большое дело! — глаза монаха ярко вспыхнули, он сам протянул Ивану шкалик: — На, глотни. Помощник тебе нужен. Пропадешь без умного помощника.
— Да где взять?
— А я на что?
Удивился:
— Ты?
— Ну, я, — ответил монах. — Звать Игнатий. Много сущностей знаю.
— Тогда приходи со светом. Сейчас ночь.
— Приду, — строго пообещал монах. — А строить судно лучше на камчатской Лопатке, там нужный лес есть. Найду тебя на Лопатке. Сейчас забудь меня. Но помни: ночные обещания угодны Богу. — И, не вставая, дунул на свечу.
Пока Иван шарил во тьме руками, заново зажигал свечу, в комнатке стало пусто. Дверь распахнута, а никого нет, и шкалик тоже пуст. Вздохнув, поставил шкалик на пол со стуком: «Сны тяжкие».
И вздрогнул.
В открытую дверь сонно заглянул полураздетый Похабин:
— Не спится, барин?
— Сны… Сны…
Похабин издали перекрестил Ивана, зевнув, прикрыл дверь. Скоро послышался мощный храп. «Вот все ходят, да ходят, — с некоторым опозданием рассердился Иван. — То прикащик, то монах, то теперь Похабин…» И подумал: а ведь никто ко мне не ходил, никто мне спать не мешал, пока не было винца, пока не прикладывался я к шкалику…
И решил: «Все! Не надо мне больше пить!»
Часть III. Язык для потерпевших кораблекрушение
В тебе вся вера благочестивым,
В тебе примесу нет нечестивым;
В тебе не будет веры двойныя,
К тебе не смеют приступить злые.
Твои все люди суть православны
И храбростию повсюду славны:
Чада достойны таковыя мати,
Везде готовы за тебя стати.
Чем ты, Россия, не изобильна?
Где ты, Россия, не была сильна?
Сокровище всех добр ты едина,
Всегда богата, славе причина.
В. Тредиаковский
Глава I. Остров Симусир
Туман снесло.
Из ничего, из белесой холодной мглы, из смутного влажного молчания постепенно выявились, выступили плоские, голые, ободранные всеми ветрами высокие береговые террасы, над которыми ужасным белым конусом возвышалась заснеженная, несмотря на лето, гора, занявшая, наверное, полмира. Обрубистые мысы, полузатопленные скальные отпрядыши, угловатые камни, убеленные пеной наката, казались ничем в сравнении с ужасной горой, но даже рыжий Похабин, всегда сильно боявшийся моря, понимал, что страшиться следует не ужасной снежной горы, пусть и занявшей собою полмира, а именно этих угловатых камней, жадно выглядывающих из пенных разворотов волн. Всадить каменные клыки в разбухшее дерево бусы! Выбросить тяжелое судно на вымет, на мель, на убитую полосу отлива! В щепы разнести бусу в черных водоворотах!
А гора, она что?
Стоит, покрытая снегом, никому не мешает. Никто никогда не поднимался к ее ужасным белым снегам, да и не надо такого ни зверю, ни человеку. Вот тяжелую бусу раскачивает на длинной волне, захлестывает пеной, бьет ветром, — ей многое угрожает, только не гора. Ну, может, холоднее стало в тени горы, так иначе и не могло быть: тень горы оказалась такой широкой, что никто и не надеялся выйти из нее до сумерек. Монстр бывший якуцкий статистик дьяк-фантаст Тюнька, например, напряженно застыл на носу бусы рядом с молодыми казаками с Камчатки Щербаком и Уховым — готовился по первому знаку монаха брата Игнатия, жадно всматривающегося в берег, бросить за борт самодельный якорь, поскольку настоящий потеряли еще недели две назад. Нашили на дерево все найденные на борту чугунные сковороды, накрутили на дерево свинцовые полосы, предназначенные для разливки пуль — вот и якорь! Даст Бог, выдержит, коли бросить в правильном месте.
Правильное место никак не находилось.
Шли так близко к резко очерченным берегам, что Иван, левой рукой обхватив мачту, явственно видел невдалеке манящую светлую полоску песка, но одновременно видел и страшную отпугивающую полосу пенных бурунов, преграждающих подход к берегу. Вал с засыпью шел вдоль берега, с голых каменных обрывов срывались белые, как молоко, пряди водопадов, будто какой-то местный идол наверху побил горшки с молоком. Обхватив рукой ствол мачты, заляпанный выцветающей зеленью плесени и бурыми налетами соли, Иван в оторопи и нетерпении, в самом величайшем, в самом невероятнейшем нетерпении вглядывался в берега, оглушенный жалобными воплями чаек.
Вот чьи берега?
Неужто сказочная Америка, повернувшаяся к Сибири?
Или, может, совсем безымянная земля, за которой, по слухам, сразу начинаются вечные льды, вон сколько снегу на горе? Или выход к Матмаю-острову, давно искомая Апония, край живой земли, за которым нет уже ничего, только одни волны?
Не знал, что думать.
Смотрел с нетерпением, с жадностью вглядывался в беспрерывную игру влажных радуг — некоторые самые высокие водопады рассеивало в воздухе, так высоки были обрывы. Вода не достигала земли, зато зажигала в воздухе широкие радуги. Всматривался до боли в глазах: а вдруг из-за водопадов выскочат на берег апонцы?! Смуглые, ростом малы, все одеты в роскошные халаты хирамоно, украшенные нелепыми нерусскими цветами, выскочат и начнут бегать по плоскому берегу, начнут робко вскрикивать — пагаяро! — и приседать приветственно, видя перед собой чужую бусу; а на щеках румянец, а лбы бледные.
В трех шагах от Крестинина на самом носу бусы в открытой поварне с особой кирпичной печью, еще не совсем разрушенной частыми бурями, но густо потрескавшейся, рыжий Похабин, тоже в некоторой оторопи, тоже с нетерпением оглядываясь на близкий берег, вздувал огонь. Кирпичная печь, по-морскому алаж, совсем отсырела, ее ни разу не зажигали весь последний штормовой месяц. Дым не хотел идти в железную трубу и густо выбивался через дверцу и щели. Похабин перхал и ругался. Боялся, наверное, что явившийся перед людьми остров исчезнет, как видение, — так уже случалось в пути.
Хмурый жилистый брат Игнатий, в черном куколе, в черной рясе, замер на правом борту, остро всматривался в каждый камень, выискивал взглядом проход к берегу, держа в напряжении ожидающих первого его знака Тюньку, Щербака и Ухова. Пришептывал про себя, но слышно:
— Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!.. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага…
Обычно брат Игнатий бормотал псалмы раздумчиво, с размышлениями, задумываясь над многими словами. И собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря… А сейчас видно было, что нашептывает слова, может, совсем не вдумываясь в них, почти машинально. И блуждали в пустыне по безлюдному пути, и не находили населенного города… Острым взглядом выслеживал каждый камень, вспарывающий пенную воду, не спускал глаз с пены, бьющейся вокруг угловатых камней. Смотрел так, будто вспомнить что-то пытался.
— Терпели голод и жажду, и душа их истаевала в них… — В море, в аду кромешном брат Игнатий разве что к чугунному господину Чепесюку не подступал с пением псалмов и с размышлениями. — Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их… — В намертво врезанном в палубу специальном деревянном кресле господин Чепесюк дневал и ночевал. В специальном, только для него врезанном в палубу кресле провел многие недели, в течение которых бусу, по-апонски фуне, носило в бурях и в туманах. Никогда чугунный господин Чепесюк не покидал своего специального кресла, кутаясь в черный плащ, пугая казаков черным молчанием, упрямством и невыразимым терпением. О многом перешептывались казаки, поглядывая со стороны на такого чугунного человека. Вот, перешептывались, большой человек… Или, перешептывались, наоборот, может, виноват в чем, а потому посылан Усатым на край земли — не славы для, а для усмирения нрава… Но если даже и так, если для усмирения нрава, все равно знали, что перед чугунным господином Чепесюком везде и всегда трепетали даже воеводы…
— И повел их прямым путем, чтобы шли они к населенному городу… Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!..
Иван зябко повел плечом.
— Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбию и железом…
Зачем, брат Игнатий? — хотелось спросить Ивану. Почему железом? Почему скорбию?
— И Он вывел их из тьмы и тени смертной, и спас их от бедствий…
Иван перекрестился.
— От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти…
— Да не гуди, монах, — не выдержал, наконец, Иван, не чувствуя никакой радости в словах брата Игнатия.
— Псалом есть тишина души, псалом есть раздаятель мира, — назидательно, не оборачиваясь, укорил Ивана монах. — Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине… Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны его… Восходят до небес, нисходят до бездны; душа их истаевает в бедствии… Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает…
— Где пристань, монах?
Не оборачиваясь, брат Игнатий уверенно ткнул кулаком в неширокий, но спокойный, вдруг открывшийся меж бурунов проход.
Впрямь увидели: неширокая речка задумчиво выпала с берега в море, мирно струилась по светлому камешнику, не по мяхкой земле. Весь берег здесь был песок и рассыпанный светлый камешник, и никакого лесу, никакой особенной травы, — только все камешник, камешник, и чистая речная вода, пусть неглубокая, но даже издали столь чистая, что хотелось черпать руками, и рыжие бамбуки, разбегающиеся вдоль подножья горы.
— Кто мудр, тот заметит сие, и уразумеет милость Господа…
— Да не гуди, монах, — повторил Иван. — Птиц распугаешь.
Брат Игнатий не ответил. Он внимательно высматривал пенный путь. Он даже руку поднял, готовясь дать сигнал монстру бывшему якуцкому статистику дьяку-фантасту Тюньке с молодыми казаками Щербаком и Уховым, вцепившимся в якорь, но все медлил, чего-то боялся… Черный куколь свалился с головы на плечо, темные волосы с сильно проступающей сединой растрепало ветром… Впрочем, это не смущало монаха: известно, что господь не обижается на простоту… Казаки и гренадеры тоже столпились у бортов, пораженные: буса, выйдя из пенных струй, вдруг как бы повисла над невероятно призрачными и прозрачными подводными садами глубокой бухты. Кого-то от качки вырвало за борт, но и это не испоганило и не замутило прозрачной воды.
Прав монах, Господь не бросил путешествующих, Господь вывел полуразбитую, низко сидящую в воде бусу из сулоев, из мертвой зыби, из беспросветных густых туманов, из подлых тайных течений, неделями влачивших беспомощное судно неизвестно куда, и теперь они, правда, будто повисли над бездной — над призрачной морской мглой, казавшейся совсем другим миром. Глубоко, глубоко внизу отчетливо распускались медленные подводные леса водорослей. Наверное, там и рыбы ходили, но рыб не видели, так хотелось Господу.
Почувствовав внимательный взгляд Ивана, брат Игнатий поднял голову и полы подрясника, подоткнутые под широкий пояс, будто устыдясь, быстро одернул. В черных глазах промелькнула непонятная усмешка:
— Пагаяро!
Всклубился, наконец, над кирпичным алажем густой жирный дым, такой густой, такой неожиданный, будто его выдохнул из себя задохнувшийся этим же дымом Похабин. Как та гора на неизвестном высоком острове, что явился им как-то сквозь непогоду в кипящем море — высокая черная гора вся в чудовищном шлейфе удушающего черного дыма.
Какое-то время буря носила бусу вблизи страшного острова.
Ночью сквозь тьму и глухой туман прорывались ужасные огненные отблески, доходили, заглушая свирепый свист ветра и удары волн, странные звуки, как бы зловещее погромыхивание. Так перемещаются прибоем прибрежные подводные камни, или накатываются издалека громы. Казаки испугались, потом привыкли. Чего сделаешь, такая сторона… Да и сил не было шибко пугаться… Некоторые казаки даже уснули, только Иван и брат Игнатий, привязавшись из-за большой качки к мачте, пытливо всматривались в кромешную тьму, ловили глазами огненные сполохи. Как будто специально для них туман на время снесло и совсем вблизи от бусы они увидели все тот же черный дым, стоявший над горой в лунном свете — как ужасная кривая метла. Плыть к такому острову страшно, а терять его в ночи и в тумане и того страшней. Какая никакая, а все же земля. Пусть огненная, пусть в дыму, пусть и трясет ее… Правда, казаки, которые не спали, вполголоса перешептывались — долго такая земля не может в море стоять. Такие огненные острова, шептались они, как грибы, стоят в море на тонких каменных ножках. Море сильней вздохнет, ветер сильнее дунет, и все — переламывается тонкая каменная ножка. Весь остров, вместе с жителями и лесами, с бесчисленными птицами и зверьем идет ко дну. Жители, побарахтавшись, правда, всплывут потом, привыкли к такому, а все равно страх.
Буря, вынесшая бусу к неизвестному острову, сорвала руль, снесла снасть, все якорные канаты. Мачта, правда, уцелела, но парус тоже снесло. Умирая от качки, казаки полагались только на Провидение. Многие подолгу не могли встать, валялись, как безмолвные чурбаны, в мокрой каморке. Один только чугунный господин Чепесюк никогда не покидал специального деревянного кресла, сидел в нем чугунно под звездами и в тумане, может, видел что-то свое — видимое им в развале дикующих волн, в свисте ветра. Может, и к стихиям были у господина Чепесюка тайные поручения от Усатого, как знать?
Достигнув земли, вглядываясь в раскачивающееся перед глазами хмурое пространство моря, в крепкие каменные террасы, в счастливую радужную игру влажных радуг, теней и пены, Иван вдруг подумал: а если, правда, дошли?… Совсем разные люди, ни один на другого не похож, а вдруг дошли? И рыжий Похабин, мужик из беглых, и чугунный господин Чепесюк, погруженный в тайну, и крепкие гренадеры братья Агеевы, и казаки, взятые в Якуцке и на Камчатке, и монстр Тюнька, даже, наконец, Игнатий, оказавшийся человеком, хорошо знающим морское дело…
Неужто, правда, дошли?
Иван усмехнулся. Ну, если и дошли? Что с того? Разве самолично вели Иван да монах бусу по морю? Разве знали, куда их несут неизвестные течения и ветры? Разве кто-нибудь на борту знал, где они находились вчера и где находятся сегодня? Разве кто-нибудь мог указать на маппе место, куда попали? …Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?…
Гладкое морское существо сивуч, усатое, наглое, как Похабин, лениво раскачивалось на волне под бортом бусы, сложив серые ласты на такой же серой мокрой груди, и круглыми глазами с любопытством оглядывало русских. Наверное, никогда раньше не видело.
Вот куда попали? Куда пришли?
О Санкт-Петербурхе теперь Иван почти и не вспоминал.
От Якуцка к Алдану шли через безмолвные предзимние луга.
Стоял сентябрь, на бледную траву ночью густо падали заморозки. Совсем побелевшая от инея трава ломко шуршала под ногами, казаки зябко кутались в теплые овчины, ржали лошади. Впереди поднимался неприютный хребет весь в белых снегах, как известью выпачкан, страшно чернели только провалы, да траурные лиственницы, да выцветшее небо, да еще черная вода в колее. «Там оставим кого-то», — перекрестился гренадер Пров Агеев, указывая на хребет. И оказался прав. В одной из расселин исчез, сорвавшись, испытанный гренадер Семен Паламошный. Никто никогда больше не видел Паламошного на этом свете, никто не слышал о нем и о его ложном провидческом даре.
Как не было человека.
С реки Алдан в больших трудах прошли к бурным верховьям Индигирки, большой собачьей реки. С названной Индигирки совершили ужасный переход на зимнюю Колыму с выходом через новый ужасный каменный хребет на еще более ужасный Анадырь; уже оттуда, из последних сил, двинулись по голодным местам к Пенжине. Только на Камчатке, на мысе Лопатка, спустясь на юг от Большерецкого острожка, наткнулись на березовую рощу.
Там и разбили лагерь.
Березовые деревья оказались столь велики, что бусу, по апонскому образцу, целиком построили из березы. Кто строгал дерево, кто пилил доски, сушил пеньку — работа двигалась споро. Правда, буса, спущенная, наконец, на воду, села так низко, будто наполнили ее тяжелым грузом. Иван удивился:
— Я сейчас взойду и буса затонет подо мной.
— Совсем мокрое дерево, — мрачно подтвердил рыжий Похабин. При всей своей невыносимой храбрости Похабин боялся моря. — Захлестнет бусу первой волной. — И подвел итог: — Буса не рыба, чтобы сидеть так низко!
Дьяк-фантаст тоже удивился:
— Будет ли такая поворачиваться? Будет ли такая слушаться паруса и руля?
— Конечно, не будет, — мрачно подтвердил Похабин. И обернулся к Ивану: — Как плыть, барин, на столь низком судне? Это ж рыба начнет прыгать прямо в алаж, морские звери начнут греться на палубу!
— Безопасно только такое судно, которое стоит у причала и определено на слом, — смиренно, но несколько противоречиво успокоил Похабина брат Игнатий, по якуцкому договору с Крестининым догнавший отряд на Камчатке и самолично командовавший постройкой бусы. Он-то знал, что буса будет надежной. Даже приняв большой груз и восемнадцать человек казаков, она ни на вершок больше не села в воде, и на ходу оказалась устойчивой и послушной.
Зато не повезло с погодой.
От камчатского мыса Лопатка до первого курильского острова Шумчю рукой подать, однако главный кормщик монах брат Игнатий не сумел правильно рассчитать время: вышли в самый отлив, и чудовищная толчея сулоев сразу увлекла бусу в туман к зюйд-весту, как в сырой погреб, в нескончаемую череду белых, как молоко, волглых туманов.
«Неужто в море всегда так?… — растерянно спрашивал рыжий Похабин, почти невидимый в тумане, а стоял ведь рядом с Иваном. — Неужто в море всегда темно и сыро, как в погребе? Неужто никогда не кончится плохая погода?»
«Молчи, — укорил брат Игнатий. — Святые отцы запрещают жаловаться на плохую погоду. Человеку свойственно согрешать, но не должно ему унывать и приходить в чрезмерное от того расстройство. Молчи, Похабин, не должен Господь знать, что ты на борту — утопит».
Строго укорил. Казаки прислушивались со страхом.
«Читай „Отче“, — довершил монах. — Все время читай „Отче“. Сия молитва дана людям самим Христом».
«Брат Игнатий, — позвал из мглы кто-то испуганным голосом. — А я?… Кругом грешен… Как быть?»
«А лошадей крал?» — строго спросил монах.
«Лошадей не приходилось».
«Вот видишь, не во всем грешен, — успокоил брат Игнатий отчаявшегося. — Плавать это как сидеть на пороховой бочке. Привыкай».
«Куда идем-то?»
Голос спрашивающего еще не смолк, а из тумана выявился пугающий черностью своей силуэт, это господин Чепесюк молча привстал в кресле, напомнил о своем присутствии. Каждого сразу будто водой захлестнуло. Решили: не посмеет море принять такого чугунного господина, не посмеет поднять волну на тайного посланника самого Усатого. …Куда идем?…
Иван замечал, что монах брат Игнатий о многом, кажется, догадывается, многое видит насквозь. Не раз казалось Ивану, что брат Игнатий знает что-то и свое, тайное, не зря оказался столь сведущ в морском деле. На камчатском мысе Лопатка, у костра, разведенного рыжим Похабиным, как-то остановился за спиной Ивана. Иван, бросивший пить в Якуцке и жестоко навязавший то же казакам, сидел у костра уверенно. Плечи развернулись, глаза ясные. Никто не узнал бы в обветренном крепком человеке бледного санкт-петербурхского секретного дьяка — тихого, сильно пьющего. Одной рукой Иван разглаживал маппу, развернутую на коленях, другой прикрывал глаза от бьющего кострового света. Неизвестно, что увидел на маппе Ивана брат Игнатий, но нагнулся, задышал густо, не по-монашески:
— Чего это?
— А маппа, — просто ответил Иван.
— Как маппа? — не сразу дошло до монаха. — А что за край изображен на такой маппе?
— Много хочешь знать, монах, — неодобрительно покосился Иван.
Брат Игнатий как бы согласился с таким мнением, но ничуть от того не остыл:
— Где взята такая маппа?
— Сам вычертил, — не без гордости ответил Иван.
— Ну? Сам? — не поверил брат Игнатий. — Да неужто ходил в Апонию?
Ивана как обожгло. Схватился рукой за рясу, привлек к себе монаха, невольно почувствовав его силу, дохнул в лицо:
— Откуда знаешь?
— Об чем?
— Об Апонии.
Монах усмехнулся, освобождаясь:
— А где живем, сам подумай? На Камчатке! Здесь самый последний казак слышал об Апонии.
— А с чего взял, что на маппе Апония изображена?
— Так острова же… — смиренно заметил брат Игнатий, отводя в сторону черные, как уголь, глаза. — Я ж вижу, что одни острова изображены на твоей маппе. А Апония, говорят, остров. И лежит за многими островами… — Все же не вытерпел, повторил вопрос: — Неужто, правда, бывал в тех краях?
Иван покачал головой.
— Тогда как мог начертить такое? — не отставал брат Игнатий. — Разве можно придумать то, чего никогда не видел?
Мрачный огонь в черных глазах монаха Ивану не понравился.
— Опомнись! — оборвал монаха. — Я человек государственный, секретный. Тебе, монах, не дозволено пытать меня. И вообще… Может, сам плавал?
— Плавал.
— Где?
— Да в разных местах… — неохотно объяснил брат Игнатий. — На Камчатке… И в море Пенжинском… Церковное добро переправлял на бусе. Умею работать с веслами, ставил паруса, держал руль, знаю компас и румбы… — И не вытерпел, не вытерпел, снова повторил вопрос: — Неужто мы теперь пойдем в сторону Апонии?
— Молчи, дурак! — Иван быстро огляделся, но никто не прислушивался к их разговору.
— Молчу! Молчу! — Брат Игнатий страшно оскалился, как в большой ненависти, даже глаза заледенели, но тут же оттаял, будто согретый изнутри радостью: — Совсем молчу.
— Зачем оказался на Камчатке?
Брат Игнатий загадочно сощурился:
— Даже растения путешествуют. Размножением. Здесь, смотришь, пророс малый корешок, а там отнесло ветром какое зерно в сторону, а там пробились сквозь песок еще какие ростки. Так одно дерево и отдаляется от другого, разрастается, распространяется густой лес, только не рассуждает о том. А живой человек, он способен и к путешествию и к рассуждению. Это угодно Господу. Он позволил человеку ходить далеко и возвращаться обратно, чтобы всем остальным можно было рассказать об увиденном. Известно, что много святых людей внесло свою лепту в дело постижения далеких краев.
— И ты внести хочешь?
Монах переборол себя. Сказал со смирением:
— Как Он позволит.
До знака, поданного братом Игнатием, почти три часа несло бусу вдоль долгого берега. Неужели пронесет мимо? — гадали казаки. Неужели отбросит в море, а то разобьет на камнях? Не отходили от бортов. Вот вроде живы, а куда занесло? Выше всех торчала на носу бусы голова монстра бывшего якуцкого статистика дьяка-фантаста Тюньки. Вместо того, чтобы повесить Тюньку, Иван, с согласия господина Чепесюка, забрал Тюньку в море. Монстр работал, как вол, радовался жизни, сильно дивился миру. Лет десять, считай, безвыездно провел в Якуцке. От того радовался и дивился еще сильнее.
Туман.
На зюйд и на вест под туманом лежала одна вода, ничего кроме воды, и на ост тоже одна вода. Неизвестно, как обстояло дело к северу, но и там, наверное, плескалась вода. Везде одно большое волнующееся пространство. Уже думали, что так и будет до самой смерти — только туман и вода. И вдруг — остров.
А на островом гора заснеженная.
А над вершиной горы белое тоненькое кольцо тумана.
Когда бусу поднесло ближе к берегу, белое кольцо вокруг заснеженной вершины обернулось еще одним. Ну, а совсем вблизи повисли над вершиной, похожей на перевернутую воронку, одно в одном, уже три белых кольца. Одно вложено в другое, как разной величины баранки. Брат Игнатий кротко перекрестился:
— Даст Бог, к добру.
А длинный Тюнька отчаянно крикнул с носа:
— Дикующие!..
Сквозь чистый бурей промытый воздух явственно увидели — на верхней террасе, наклонной, а потому открытой к морю, по темной траве перед легкими летними балаганами, дергаясь и шумя, взволнованно двигались две возбужденных толпы. Дикующие высоко подпрыгивали, воинственно шли друг на друга. В руках — луки, сабельки, может, ножи, того и гляди, перебьют друг друга, каждый в большом нетерпении перебирал коротенькими ногами. Правда, криков почти не слышали — накат, буруны, да скоро и течение вынесло бусу, низко сидящую в воде, за высокий мыс. Как специально скрыло бусу от глаз дикующих.
— Война у них? — удивился Иван.
Похабин кивнул согласно:
— Война.
Казаки помолчали, переглядываясь, только монах брат Игнатий смиренно возразил:
— Может, праздник какой? — И положил крестное знамение: — Может, поклоняются каким деревянным болванам?
И подвел итог:
— Грех!
И предложил:
— Остров невелик, дикующих не должно быть много. Те, которых увидели, может, все и есть. Когда торкнемся в берег, первым делом надо исправить руль. А потом в море. Уже утром можем оказаться на той стороне острова. Половину людей оставим здесь, пусть пойдут пеши и обьясачат дикующих. Перевал невысок, тропа видна даже отсюда. — Брат Игнатий смиренно кивнул в сторону заснеженного, заледенелого до голубизны пика: — Дикующие сильно удивятся и без бою дадут ясак. А встретимся на той стороне острова.
Повторил убежденно:
— Если с моря зайти, можно врасплох захватить плотбище дикующих, захватить все их байдары. А без байдар дикующие сразу успокоятся. А не успокоятся, так те наши люди, что пойдут пеши, выгонят дикующих к берегу прямо под нашу пушку. Один раз выпалим, они все поймут.
— А просто договориться? Дать подарки?
— К тому и клоню, — сурово сказал монах. — Один раз выпалим, сразу и договоримся. Они потом согласятся на любые подарки.
Иван негромко спросил:
— А не апонцы на острову, брат Игнатий?
Монах понимающе покачал головой:
— Не апонцы. Дикующие. Видишь, парки на них. Настоящие парки из птичьих шкурок. Я разглядел. Апонцы сроду не наденут такую одежду, сочтут за большой позор. Они, апонцы, носят шелка да дабиновые ткани. А это дикующие. Это, наверное, куши, так называют дальних курильцев. Еще их зовут мохнатыми. Говорят, бороды у них большие, как у русских старых бояр, и по всему телу густой волос. Я сам видел таких куши в одиннадцатом году. Приходили к родимцам на юг Камчатки.
— Почему ж не Апония? — не верил Иван. — Нас сколько времени все несло на юг?
— А может, не на юг? — ревниво возразил брат Игнатий. — Может, все время носило вокруг острова? — И кивнул убежденно: — Это куши. Это мохнатые, не апонцы. Дикие. Истинной веры не знают.
— Не торопись, брат Игнатий, — упрямо мотнул головой Иван. — Знают или не знают, не торопись. Поймем, когда побываем на берегу. — Не оборачиваясь, он чувствовал тяжелый взгляд господина Чепесюка, по-прежнему кутающегося в черный плащ в своем деревянном кресле. Пытался понять, что думает о происходящем господин Чепесюк, но господин Чепесюк ничем не выдавал своих мыслей.
То, чего так долго ждали, наконец, произошло. Буса мягко толкнулась в пески широкого низкого берега, недалеко за которым опять поднимались береговые террасы. Круглая бухта, заснеженная гора над миром. Пять человек казаков живо кинулись искать нужное дерево для руля, но монах их остановил:
— Нам нужное дерево там, за мысом. Здесь только бамбук растет.
Казаки неохотно остановились. К борту бусы без страха подплывали морские звери сивучи с любопытством. «Вот жиру нам дадут, — жадно облизнулся Похабин. — Вот какие круглые!»
Иван досадливо отмахнулся.
Прикидывал.
Наверное, монах прав, надо разделиться на два отряда. Еще в море обсуждали такой вариант. Обсуждали даже когда совсем не верили, что кончится море… Послать на бусе десяток человек, восьмерых оставить на берегу… Сразу решил: сам на берегу останусь. Думать уже не мог о море. Возьмем две пищали, на борту оставим пушку-тюфяк. На той стороне острова каждому найдется работа — веками дикующие не платили ясак, сильно задолжали Усатому. Оглядывая с берега заснеженную гору, отметил: узкая тропа через плечо горы идет набитая, четкая, вьется изощренно, не теряется ни в стланике, ни на осыпях. Сразу видно, что натоптана человеком, животное не ищет хитрых путей.
Торопясь, радуясь земле под ногами, казаки, по пояс в холодной воде, вынесли на берег необходимые снаряжение и припасы, бросили мешки на песок, в траву, жадно вдыхая теплый острый запах пыльцы, осыпающейся с коленчатых бамбуков, покрывших, как густая щетка, все подходы к обрывам. Под сапогами сминались, шуршали бурые валы, наметенные морем — морская трава. Тревожно и сладко пахло рыжим бамбуком, песком, раздавленными ракушками, гниющей морской травой.
Переглядывались тревожно.
И не зря.
Не успели разбить лагерь, как свистнула в воздухе стрела.
Из травы на одно мгновение поднялся в небольшой рост маленький человек, как выпрыгнул. Действительно, дикующий, — в птичей парке, кое-где даже перо не снято, в руках лук туго натянут, наверное, натянул лук еще прячась в траве.
— А вот тя! — страшно крикнул Похабин.
Дикующий заробел, стрела свистнула без цели, а сам дикующий так же быстро, как выпрыгнул, впрыгнул в траву, будто его в землю втянуло.
— Тюнька! — приказал Иван. — Возьми кого-нибудь, приведи стрелка.
— Так убежал, наверное.
— Там некуда убежать. Видишь, непропуск, обрывы прижимаются к высокой воде… Чтобы убежать, надо дождаться отлива или подняться на крутой обрыв, а как поднимешься?… — Строго предупредил: — Смотри, Тюнька! Живым приведи стрелка! Если даже спорить начнет, не бей. А если баба окажется… Ох, смотри у меня, Тюнька! — И случайно перехватил странный взгляд господина Чепесюка, будто тот в чем-то одобрил его решение.
Кивнул монаху:
— Пойдешь на бусе, брат Игнатий.
Брат Игнатий тоже кивнул. Смиренно, но так, будто ни минуты не сомневался, что пойдет именно на бусе.
— А руль? — спросил Похабин, становясь близко к Крестинину.
— Здесь нет нужного дерева, — опять указал монах. — Зато за ближним мысом, который прошли, растет целая рощица. Там вырежем новый руль. А ждать вас будем на той стороне острова.
Иван глянул на господина Чепесюка, но в тусклых глазах чугунного человека ничего не отразилось.
— Похабин, — приказал Иван. — Тоже пойдешь на бусе с монахом.
— Да я… — испугался Похабин.
— Пойдешь на бусе, — твердо повторил Иван. — Рядом с монахом. — И понизил голос, чтобы никто не слышал. — Тебе доверяю. Следи за монахом в три глаза.
— Где ж взять третий?
— Понадобится, найдешь.
На берегу остались семь человек.
Младший брат Агеев — Пров, гренадер Потап Маслов, конечно, господин Чепесюк, без слов давший понять о своем на то согласии, монстр бывший якуцкий статистик дьяк-фантаст Тюнька, и казаки из молодых Щербак и Ухов.
Восьмым остался сам Крестинин.
Казаки послушно оттолкнули бусу от берега.
Рядом с черным монахом стоял на борту хмурый Похабин. Сердился, наверное, что не успел вдоволь почувствовать твердь земли, но все равно некоторая хитрость угадывалась в хмурых глазах, как тогда в Якуцке, когда Иван отправил Похабина в съезжую, чтоб всыпали ему плетей: днем раньше Похабин в пьяном кураже пропил запасные курки к казенной пищали. Узнав, что идет он на порку, Похабин жалостно попросил:
«Пусть Тюнька пойдет со мной».
«Зачем?»
«А как вернусь?… Поротый ходит плохо…»
Иван разрешил.
Поздно вечером рыжий Похабин притащил на себе монстра якуцкого статистика дьяка-фантаста Тюньку. Аккуратно положил на пол. «Как? — удивился Иван. — Тюньку пороли?… — И принюхался: — Пьян Тюнька?…»
«Ага… — бессмысленно лопотал Похабин, тоже крепко выпивший, но не поротый. — Совсем пьян… И пороли фантаста… — Успокаивал: — Да пороть, барин, это лучше, чем головой в петлю… Вот и пороли… А то как?… Казака не бить — шкуру губить, барин… Я Тюньке целую денежку дал… Падок на деньги якуцкий монстр…»
«Денежку? Какую денежку? Почему сам не бит?»
Похабин бессмысленно пожимал плечами:
«Какая разница, барин, кому ложиться под плеть?… Мы с Тюнькой теперь как братья… Тюнька сам захотел… Его тебе все равно вешать… Говорит, не дам тебя пороть, Похабин, ты хороший товарищ, пусть, сказал, меня выпорют… Вот и выпороли… А я, барин, его за то в кабак снес… Устинов к Тюньке со всем уважением… А Тюнька монстр, монстр, он пил лежа на животе…»
«А ты?»
«А я чего?… Там, в кабаке, люди гостиной сотни сидели… Совсем дурной народ, барин. Резались в винт, козыряли в три очка. Ну, и я с ними… С выкупом, с присыпкой, с пересадкой, с гвоздем и с ефиопом, и с треугольником, и по тысячной, и даже по четвертой части копейки… Аж в глазах рябит…»
Крестинин взбесился:
«Руки отрублю!»
«Так чего ж, барин… Я готов… Вот мои руки… — бессмысленно лопотал Похабин, действительно выкладывая на стол руки. — Только потом жалеть будешь… Тебя совесть загрызет… Я ж, барин, только при тебе очеловечиваюсь… А Тюньке что?… Он монстр, он вроде дикующего… Мы, наверное, не поведем его далеко, повесим…» …Пагаяро!
— Прощай, Похабин! — крикнул с берега Тюнька. — Запишу тебя в поминальник!
— Пошел, дурак!
— За умом не гонюсь, счастье было б.
Бусу быстро подхватило течением. Черный монах стоял на носу, как черное изваяние. Что-то тревожное тронуло сердце Ивана. Впервые оставались одни на чужой земле. Провожая бусу взглядом, прижался щекой к живому деревцу. Вот стоит малое, ростом в небольшого человека, ниже Ивана, ниже Тюньки, а лет ему, наверное, двести. Нисколько не меньше. Изверчено ветрами, изрублено песком, как господин Чепесюк саблями, со всех сторон обомшело, ветви вывернуты, как руки пытаемого на дыбе, а стоит, верит во что-то…
— Пушечку-тюфяк надо было оставить, — умно протянул Тюнька.
— Монаху тюфяк нужнее, — возразил кто-то. — Монах подойдет к берегу, шаркнет по дикующим важным зарядом дроби, они и полягут. А то запулит малым ядром по балагану, так даже интереснее. А нам что? На себе ее тащить?
— Тюнька! — нехорошо удивился Иван. — Ты еще здесь? Где дикий стрелок?
— Дак сам сказал, не деться ему никуда.
— А если он со страху умрет в кустах?… Тащи дикующего!.. Пусть посидит у костра, дружить будем. — И ткнул Тюньку кулаком: — Не забывай, что ты самого государя прогневил, Тюнька. Тащи дикующего, чтобы жив был и ничем не огорчен. Ничего ему не сломай, ни одной косточки. Он, может, поведет нас через остров самым коротким путем, может, укажет богатых родимцев. И вот еще что…
— Ну? — вытянулся Тюнька.
— Сильно наслышан о твоем хвастовстве, Тюнька. Наслышан, что с кереками, мол, умеешь болтать на птичьем керекском языке. И с коряками будто, и с камчадалами. Сейчас проверим… Бойся, если соврал!
— Не соврал. Со всеми могу помаленьку.
— А с курильцами?
— А чего ж? Смогу и с курильцами, наверное. Они же общаются с камчадалами, имеют общие слова.
— А с апонцами? — насмешливо спросил Крестинин.
— С апонцами, наверное, не могу.
— А скажи, как ты речь одну от другой отличаешь? Ну, вот, к примеру, одно говорит камчадал, а мохнатый другое… Как отличишь?
— А чего ж? Это ж просто, — усмехнулся дьяк-фантаст. — Кереки, к примеру, они как птицы. Они клекочут, шумят. А у камчадалов речь тихая, плавная, они говорят приятно, свободно, у них слова короткие, вместо р всегда произносят ж. Не корж, к примеру, а кожж. Чего не понять? А керек, тот важно стучит себя в грудь, всегда говорит — мы! — а получается у него — муру. Чего не понять? А если слово муру захочет сказать камчадал, то у него известно как получится — мужу. Чувствуешь? Совсем просто. Наверное, и у куши так.
Отговорив, Тюнька неохотно поманил за собой молодого казака Щербака и гренадера Потапа Маслова. Втроем сторожко двинулись к опасному месту, где спрятался мохнатый. Скрадывали расстояние под печальные стоны чаек, под шуршанье холодных волн на песке. Морской зверь сивуч охотно зарыдал за бурунами, пав в воде на спину. Конечно, веселее зарыдал, чем белые чайки, а все равно жалобно. Вот зачем зверю жаловаться? — подумал Крестинин. Зачем жаловаться птицам? Рыбам? Дом зверя в воде, и рыба живет в воде, и там их морские родимцы. А у птиц дом на скалах. Это мне, секретному дьяку, сироте, есть на что жаловаться. Это у меня дом далеко, в России. Считай, что и дома нет, так далеко. Где вообще Россия?
Голубовато, таинственно отсвечивало, отбрасывало блики море.
Жадно принюхался. Вот Солнце, отлив. От костра ни на что не похоже тянет попавшей в хворост морской травой. На откосах бамбук — рыжее, коленчатое растение. Такое раньше видел в Санкт-Петербурхе в Мокрушиной слободе — на халате вдовы, который халат достался от Волотьки Атласова, а Волотька Атласов, найдя Камчатку, был загублен неким вором Козырем, чьи бумаги, в свою очередь, его, секретного дьяка Ивана Крестинина, завели на Камчатку, и так далее…
Огляделся. Понял вдруг, что сердце точит.
Ясно до мучительности, до сладкого сосания в сердце вспомнил опрятный домик доброй соломенной вдовы Саплиной. Маленькие окошки заперты ставнями, но добрая вдова уже поднялась, накинула на плечи халат с нерусскими невиданными растениями, глянула синенькими глазами в окно — собрались ли во дворе клюшницы, не бьет ли падучая тетю Нютю? Прикрикнула, наверное, ангельская душа, для порядка на сонную сенную девку Нюшку, вздохнув, вспомнила Ванюшу, голубчика, да перекрестилась на чикающие да пощелкивающие образа во здравие неукротимого маиора. Кольнуло, вспомнил — в валенке за печкой, уезжая, оставил неполный шкалик. Нюшка, дура, нашла, наверное.
Ах, добрая вдова. Ах, широкая, бочонком, парчовая юбка. Ах, вздохнул, веселый богатый домашний стол. Осетрина в посуде, всякие вкусные пироги, закуски, капуста кислая с сельдями, и щука под чесноком, не простая, а живопросольная, и русские зайцы в рассоле, и грудь баранья верченая с шафраном, и голова свиная под чесноком, и всякий потрох лебяжий! Ах, стопки серебряные, витые чернью!
Огляделся изумленно. Как так? Он, дьяк простой, только мечтавший о чем-то особенном, тихо воспитывавшийся в доме доброй соломенной вдовы и любивший путешествовать по маппам и кабакам, вдруг так ужасно далеко зашел!.. Вон гора неизвестная, покрыта вечным снегом и с черными подпалинами по склону… Вон море, а на море звери морские гладкие, чайки… Ох, далеко зашли! Никакой русский не ходил так далеко! Даже Волотька Атласов!
Подумал не без гордости: бес Ваньку не обманет. У Ваньки на всякого беса есть молитва. Но тут же оборвал себя: ой, не гордись, Иван! Гордость, она тоже от беса. Дошел или не дошел куда, это дело второе. Если б, может, не чугунный господин Чепесюк, если б не рыжий Похабин, никогда не увидел бы ни Якуцка, ни Камчатки, и уж, конечно, загадочных островов. Давно истлел бы в глухих российских лесах.
С сомнением, но внимательно озирал Иван вечереющие берега, прислушивался к негромким голосам уставших казаков. Господин Чепесюк стоял в стороне от костра, не подавая голоса, на ужин съел кусок птицы, отваренный в простой воде. Как всегда, думал о чем-то, вызывая короткие, как бы случайные, взгляды казаков. Все ждали, а вдруг скажет что-нибудь господин Чепесюк, наконец? Вдруг объяснит новую землю? И, конечно, как всегда, ждали, не проговорится ли, не выдаст ли — зачем они здесь? С каким ужасным приказом?
Тишина.
Темная вечерняя тишина, подчеркнутая треском костра и никогда не утихающим накатом…
Устали, подумал Иван. Несколько недель шли во мгле, в тумане. В тесном помещении бусы не продохнуть, от качки половина казаков лежала пластом, а больше всего рыжий Похабин. Зато монстр Тюнька, как монах и сам Иван, оказался крепкий: по своей воле ухаживал за больными и падшими духом, вел долгие разговоры с Похабиным. «А и жизнь похожа на море», — умно и тяжело жаловался Похабин, отплевываясь в горшок, вовремя подставленный Тюнькой. «Да почему?» — недоумевал дьяк. «Откуда ж мне знать? Я не филозоф», — умно отвечал бледный Похабин, после чего, собственно, разговор заканчивался.
Однажды ночью порывом ветра сдернуло с моря сырой туман и перед измученными казаками открылось невероятное звездное небо с Большой Медведицей, к удивлению всех непривычно лежащей совсем по краю горизонта, как перевернутый пустой ковш. Пораженный таким зрелищем монстр Тюнька, расчувствовавшись, высказал Ивану самый главный, самый тайный грех своей жизни. Оказывается, он действительно служил когда-то военным писарем. Стоял с полком под Москвой, но служил плохо, поскольку постоянно употреблял ржаное винцо. Понятно, вследствие этого часто попадал на гауптвахту. Это Тюньку утомляло. Однажды в праздник, сидя под караулом, всерьез задумался: а зачем все так? зачем ему такие муки? зачем все люди гуляют, а он, несчастный писарь Тюнька, все свободное время теряет на гауптвахте, не имея ни денег в кармане, ни веселия в сердце? Может, бежать куда?
Сразу возник вопрос: если бежать, то куда? а, убежав, где прятаться? а, спрятавшись, на что жить? — ведь в беглом состоянии денег у Тюньки вовсе не должно было прибавиться, даже наоборот, правильно считал он, денег у него станет меньше. К тому ж, станут его ловить.
Ох, подумал Тюнька, хоть к дьяволу обращайся. С тем и уснул.
А во сне предстали пред Тюнькой три мелких прельстительных беса. Все трое в человеческом облике, простые, веселые, одеты в солдатское платье, но хвосты, конечно, наружу. ‘Ты, Тюнька, не дурак, — весело сказали, — ты, Тюнька, умный, ты глубоко смотришь. Вот выдай нам, Тюнька, своеручное специальное письмо, а мы тебе принесем деньги».
Обрадовавшись до глупости, писарь Тюнька, отсидев под караулом, уединился в пустой баньке, напустил в пузырек крови из собственного мизинца, и кровью написал на листке следующее: «Аз, раб божий, Тюнька, враз отрицаюся от бога, и неба, и земли, и святые божия веры, и соборныя божия церкви и не хощу более нарицаться христианином, для чего предаюсь во услужение диаволу и буду его волю творить, в чем письмо мое своеручное».
Еще кое-что добавил, а потом бросил письмо в омут при старой мельнице, считай, прямо в руки бесам. Но почему-то бесы в первую ночь не явились. А не явились они и во вторую ночь.
Тогда Тюнька вновь написал письмо.
С тем письмом не менее десяти раз ходил он в разные пустынные места, там читал письмо вслух, лично и громко призывал к себе Люцыпера. Призывая Люцыпера, громко требовал у него богатства и воли, но дьявол не явился к Тюньке. Зато ночью сквозь игру пьяных фантазий донесся до Тюньки строгий глас свыше: «Обратись, дурак, и помилует тя!»
Тюнька так испугался, что даже не решился пойти на исповедь.
Всего боясь, ни на что более не оглядываясь, побежал в сторону Сибири, пока не остановился в Якуцке. Как человек грамотный, начал новую жизнь. А беглый он или нет, почему-то никто в Якуцке не спросил Тюньку…
Иван обернулся к морю.
Горбатый мыс, похожий на скелет кита, падал в море, весь изъеденный водой и ветрами. Кое-где мыс превратился в подобие каменного моста, грузно обвисшего на тяжелых, источенных водою быках. Далеко в море, там, где мыс ножом входил в кипень двух прибрежных течений, прыгали, как кипящая вода в котле, буруны. Буса на малом сшитом из одежд парусе давно миновала мыс и ушла за его очертания.
Смотрел, дивясь: куда попали?
Скальные нагромождения, обрывы, коленчатое растение бамбук, грозной щетиной утыкавшее склоны, одинокие голые скалы над водой — кекуры, отпрядыши, и совсем близко, прямо над головой, нависает отвесная каменная стена — будто гора провалилась, образовав бухту, везде густо усеянную камнями.
Вот какая земля? Чья? Может, правда, прибило к Апонии? Может, за бамбуками на тихих полянах апонцы с румянцем на круглых щеках кормят с рук благородных оленей? Может, рядом во внутреннем, никому неизвестном средиземном апонском море, обсаженном кривыми сосенками, плавают бусы с робкими девушками?
Кто знает?
Так долго носило бусу в бурях и в туманах, что, может, в редкие минуты ясности кто-то видел русских в море и донес апонцам, а апонцы теперь, дождавшись их прихода, выгнали на склоны подвластных дикующих делать для устрашения военные артикулы? Может, за тем поворотом лежит веселый каменный город? Может, робкие апонцы, подвязав на затылке длинные волосы, бегут сейчас к медным пушечкам, готовясь залпом отметить появление русской бусы? Может, внимательно поглядывают на черную фигуру монаха?…
Стоял, смотрел на игру сивучей.
В плаванье много чего насмотрелся, много чего наслушался.
Одни казаки рассказывали о горной птице, живущей на реке Индигирке. Будто летает та птица даже в самый сильный мороз. Так сильно машет большими крылами, что теплом движений плавит затвердевший от хлада воздух. Другие рассказывали о большом красном черве. Кто-то из казаков, воюя на севере с чюхчами, якобы видел такого червя. Он может напасть из засады на целого оленя и убить его, сжав в кольцах. Красный червь проглатывает жертву целиком, потому как нет у него зубов. А потом долго спит. И крепко. Если наткнешься на спящего красного червя, никак не разбудишь такого червя, так крепко спит. Хоть руби червя на части, не просыпается.
Дивен мир.
Чувствуя мысли Ивана, гладкие морские звери сивучи, воротя усатые морды, подплывали близко к земле, щурясь, с улыбкой разглядывали непонятных людей, принюхивались к дымку, плывущему над берегом, над водой. С дымком сивучи, конечно, были знакомы, но дымок их тревожил. Это ведь вроде сперва просто дымок, а потом как грохнет гора, так и бежать некуда.
Сладко схватывало сердце: вот как далеко зашли!..
Ровный накат, выпученные стеклянные глаза морских зверей, воздух тихо плывет, насыщенный теплыми запахами земли и травы, хруст сухих ракушек, небо и море страшно распахнуты во все стороны, даже неизвестно, где еще могут быть русские? И есть ли где-нибудь русские?
Сладко сосало сердце: может, рядом Апония?
Вспомнил старика-шептуна. Не врал, получается. Предугадал, что простой секретный дьяк будет отмечен вниманием царствующей особы и преодолеет всяческие препоны, доберется до края земли!
По чертежику, который давно считал своим, знал на память все острова.
Первый Шумчю, на который, говорят, ходили когда-то вор Анциферов да вор Козыревский. Может, врали, все равно так говорят. Дальше маленький Уяхкупа, на который никто специально не ходит, даже курильцы заглядывают туда только на промысел. Весь тот остров одна крутая гора, которая так часто дымит, что небо над нею не бывает чистым. Еще дальше Пурумушир… Там горы… Говорят, воры Анцыферов да Козыревский побывали на Пурумушире…
И дальше, дальше — островок к островку…
Вот куда вынесло бусу бурей?
В море сам Иван превзошел многих. Когда самые сильные валялись плашмя, не могли смотреть ни на свет, ни на пищу, он, тихий секретный дьяк, был в силах стоять у руля. Иногда случалось так, что всех живых на борту оставались он, да чугунный господин Чепесюк, да еще монах брат Игнатий, да монстр бывший якуцкий статистик дьяк-фантаст Тюнька. Каждый выстаивал на руле по нескольку часов…
Обернулся.
Господин Чепесюк стоял на сером плоском камне у кромки моря.
Темная вода тяжелыми языками выкатывалась на берег, закручивалась, вскипала пеной, шумно взрывалась белой стеной, чтобы обрушиться на крепкого чугунного человека, смять его, унести без следа, но, встречая пески, камни, постепенно рушилась, рассыпалась, — лишь рваные клочья пены оставались под ногами человека.
Грубый Тюнька уже час шумел под обрывом, ломился сквозь кусты, потом на секунду установилась над берегом тишина, прерванная внезапным высоким криком, полным ужасного возмущения. Еще через минуту из кустов, как пружина, выскочил все тот же дикующий, сильно удивив казаков своей ловкостью. Мохнатый, в птичьих шкурках, в бороде, как маленький боярин, выскочил перед людьми и застыл возмущенно. Но лук на этот раз был опущен.
— Чего это он? — удивился Пров Агеев и, положив руку на нож, оглянулся на господина Чепесюка: — Может, зарезать?
Казаки повскакали, хватая оружие.
— Не трогать! — негромко приказал Иван. — Дикующий сам пришел. Не Тюнька его привел, а он сам пришел. — И рукой твердо остановил вырвавшегося из кустов Тюньку.
Вид у дьяка-фантаста был ужасен, одна щека расцарапана в кровь. За Тюнькой с ругательствами шли молодой казак Щербак и гренадер Потап Маслов. В руках у них поблескивали сабельки. То ли прорубались сквозь кусты, то ли хотели напасть на дикующего. «Вот оборотень! — ругался Тюнька. — Совсем загнали его под камень, а он вышел с неожиданной стороны». И спросил Ивана, оборачиваясь при этом к господину Чепесюку:
— Связать дикующего?
— Не надо, — снова поднял руку Иван. — Лучше, Тюнька, заговори с ним. Может, он родимец камчадалам?
Дикующий удивленно наклонил голову.
Бородатый, голова брита от уха до уха, зато позади оставлены длинные, связанные в косичку волосы, а в ушах костяные серьги. Немного успокоившись, смотрел на русских с тревогой, хотя и с любопытством. Так белка смотрит с ветки на что-то новое, даже поворачивал набок голову, как белка. Дескать, мне что? Я послушаю, а потом все равно убегу. Вот, дескать, сейчас послушаю и убегу.
Господин Чепесюк медленно повернул к дикующему ужасное порубленное саблей лицо. Дикующий вскрикнул.
— Вроде понимаю немного, — почесал голову дьяк-фантаст. — Еин-кмукаруа — это как бы он возмущается. Еин-кенкаруа — это он как бы жалуется. А киупи, киупи — это как бы угроза.
— Ну? — нетерпеливо подгонял Иван.
— А еще говорит, что самец он…
— Почему самец? — удивился Иван. — Это, наверное, твои фантазии, Тюнька!
— Нет, он сам так говорит.
— Да зачем? Как понимать его?
— Уверить хочет, что не баба он, а вовсе самец.
— Да зачем? Разве без слов не видно?
— Под обрывом не сильно разглядишь… — Тюнька ухмыльнулся. — Вишь, он какой круглый… Когда сквозь кусты лез, сзади казался совсем круглый, как баба… Я ж не знал… Я его немного схватил… Как такого не примешь за бабу?
— А борода?
— Так он бежал ко мне задом, — признался Тюнька.
— А ты его лапать? — Иван хмуро цыкнул на оживившихся казаков. — Повешу, Тюнька! — И нетерпеливо приказал: — Спроси, зачем ему борода? Почему ходит как боярин и кожа белая? Скажи дикующему, что государь у нас не любит бород. Носишь — плати. И еще спроси, точно ли он куши, мохнатый? И кто его родимцы на острове?
— Так много, наверное, не смогу сказать, — покачал головой Тюнька и громко прикрикнул на мохнатого: — Еин киток осива! — И еще что-то сказал, а потом пояснил Ивану: — Он говорит, что он — куши.
Иван нахмурился:
— Спроси, почему так? Вот мы плывем и плывем, а на островах только одни дикующие. Где апонцы?
Тюнька что-то сказал. Проворчал нескладно, как медведь, путаясь в загадочных звуках, но куши что-то понял. Не выпуская лука из рук, присел на корточки у костра, подозрительно оглянулся на Тюньку. Потом, не скрывая изумления, обежал взглядом русских и, остановившись на господине Чепесюке, уже не спускал с него глаз, сразу признал за ним силу.
Ивана это кольнуло.
Ох, дикий край.
По узкой отливной полосе, блестящей, как мокрое зеркало, ходили волны наката. Тяжелые пенящиеся языки жадно облизывали берег и вновь откатывались в море, все еще темное после шторма, заполоненное темными валами, толчеей — за мысом сталкивались сразу два течения, образуя сувой, толкушу, сквозь которую не так-то легко выскочить на чистую воду. А по берегу — сплошные непропуски, отвесные стены скального берега, падающего прямо в море, украшенные поверху разлохмаченными сосенками, выглядящими на все сто лет по своей узловатости, перекрученности, а ростом малые, ну в полтора человека, не более. Каждый ветер норовит их снести, и каждому ветру сосенки дают отпор…
— Спроси дикующего, зачем прыгают на той стороне его родимцы? Зачем копья у них? Не поделили чего?
Тюнька спросил. Куши отрицательно покачал круглой черной головой.
— У мохнатых все хорошо, — пояснил Тюнька. — Радуются празднику, ходят деревня на деревню, а копья в руках и луки напряжены, так это — танец такой.
— Сам зачем здесь?
— Говорит, проверял ловушки на лис.
— Спроси, есть ли у куши имена? А если есть, то как его имя?
— Говорит, он — Татал. Если по-нашему, то Черный. Или Черныш. Как хочешь.
— Зачем кличка такая?
— Говорит, родившись, запутался в материнской пуповине. Задохнулся до почернения, но все же остался жив. Потому и назвали его Таталом. По-нашему Чернышом.
Иван с сомнением оглядел мохнатого:
— Кожа белая.
— Ну, отошла, — за куши ответил Тюнька.
— Теперь спроси, как зовут остров?
Тюнька долго спрашивал, не понимал, переспрашивал, снова не понимал. Потом ответил:
— Симусир.
— Ишь, занесло куда! — выдохнул Иван. — Поистине рукой достать до Апонии.
— А деревенек здесь нет, — перевел слова куши Тюнька. — Совсем нет никаких деревенек.
— Да как нет? Сами видели балаганы.
— А Татал говорит, что совсем нет никаких деревенек. Куши сюда на время приплывают с других островов. С Итурпу, и с острова Чирпой, и с острова Ушишир. Вот на тех островах много деревенек. А сюда приплывают, чтобы меняться товарами, бить морского зверя.
— Много набил?
Куши кивнул, не отрывая испуганных глаз от чугунного господина Чепесюка. Чугунный господин Чепесюк его завораживал. Запустив пальцы во вьющуюся бороду, куши не спускал испуганных глаз с господина Чепесюка, наверное, никогда не видел таких людей.
— Сколько куши на острове?
— Говорит, немного. Приплыло, может, сто человек. Говорит, собираются уходить.
— Зачем торопятся?
— Непогоды боятся. Осенью здесь всегда непогода.
— А Татал? Ну, Черныш, значит… Он сам-то с какого острова?
— Говорит, с Итурпу.
— Тоже уходит? Тоже боится непогоды?
— Тоже боится. Но не уйдет, — не сразу понял ответ Черныша Тюнька. — Он, куши Татал, останется на острове. Говорит, останется на всю зиму. Говорит, что будет помогать духу. Сердитый дух Уни-Камуй требует себе помощника на зиму…
Переспросил, чего-то не поняв.
— Говорит, он, Татал, будет всю зиму помогать духу. Говорит, сердитый дух живет на горе. Зовут Уни-Камуй. Очень сердитый дух. Ходит зимой и летом вокруг горы, построил большой летний балаган, большую зимнюю полуземлянку, имеет некоторых переменных жен и робкого полоняника. Очень сердитый дух. Куши привозят ему пищу, дух ест.
— Разве духи едят пищу?
— Татал говорит, едят.
— Врешь! — возразил Иван. — Не едят духи.
Заспорили.
Молодой казак Щербак утверждал, что русские духи, и немецкие, и всякие другие совсем не едят пищу, а гренадер Потап Маслов сказал, что погибшим в его полку всегда ставили на ночь чашку с крепкой водкой и, как правило, к утру водка исчезала. То есть, он, гренадер Потап Маслов, не знает, едят ли русские духи, но пить они пьют.
— Да как им пить, есть? — возмутился Иван. — У духов разве бывает тело?
Задумались.
Куши тоже задумался.
Сидел на корточках перед костром, испуганно переводил взгляд с одного казака на другого, но чаще смотрел на господина Чепесюка, поразившего его воображение.
Хитрей всех оказался Тюнька.
— А зачем спорить? — сказал. — Посмотрите на Татала. Может, у них и духи такие, тоже дикуют.
— А зачем дух сидит на горе?
Тюнька долго, подбирая и путая чужие слова, расспрашивал Татала, потом пожал плечами:
— Татал говорит, что на горе дух сидит по своей воле. Как бы сам по себе сидит. Пришел и сидит. Волосы у него длинные, светлые, как стружка. Нравится духу сидеть на горе. Никого не пускает на гору — ни куши, ни апонцев.
— Апонцев? Он сказал апонцев?
— Ага.
— Они что, рядом? Они тут близко — апонцы?
— Говорит, близко. Говорит, что лучше бы находились подальше.
— Почему так говорит?
— Плохой народ апонцы. Приходят на деревянных бусах, на особенных судах. Кладовые грабят, котиков бьют. Никого не слушают, один только дух Уни-Камуй запрещает шалить апонцам. Говорит, специально для того сюда пришел. Однажды вечером духа Уни-Камуя не было, а утром уже сидел на горе. А с ним полоняник. Дух Уни-Камуй при ясном небе может ударить молнией. А полоняник пищу стряпает духу.
— Крупный дух? — встревожился Иван.
— Не совсем крупный. Но сердитый.
— Завтра, Тюнька, пойдем брать сердитого духа Уни-Камуя, так и скажи куши. Скажи, что мы русские. У нас с этим строго. Мы не какие-то апонцы, нас просто громом не напугаешь. Потому, как и пути у нас нет другого. Ведь пройти на ту сторону острова можно только через плечо горы. Спроси куши, проведет нас на ту сторону острова?
Тюнька спросил.
Куши, кажется, колебался.
— Уговорим, — твердо решил Иван. — Спроси, Тюнька, видел ли сердитый дух наше судно?
— Видел, — перевел Тюнька бормотание дикующего. — Сердитый дух Уни-Камуй думает, что апонцы пришли. Очень сердится. Говорит, сильно накажет апонцев. Очень сердитый дух.
— Скажи дикующему, пусть садится к котлу. — Иван глянул на казаков, собравшихся вокруг варева, и уже Тюньку спросил: — Не сбежит дикующий? Хочет с нами дружить против сердитого духа?
— Говорит, не сбежит. Говорит, проведет нас к родимцам. Только сердитого духа, говорит, не надо тревожить. Говорит, что проведет нас стороной, а то дух молнией ударит.
— Не верю, — негромко сказал молодой казак Щербак, все еще сердитый на пронырливого куши. — Он это все говорит для хитрости. Ляжем спать, а он зарежет кого-нибудь. Связать надо дикующего.
— Нехорошо, — покачал головой Иван. — Нехорошо связывать гостя. Он как бы согласился с нами дружить. — Кивнул задумчиво: — Может, дать дикующему чашку ржаного винца? Он к нашему винцу непривычен, думаю, сомлел бы, пролежал до утра.
Тюнька жадно облизнулся:
— Зачем дикующему? Ты мне дай. Я буду хорошо караулить. Я не сомлею. У меня мышь мимо не пробежит. — Повторил уверенно: — Мне дай.
— Никому не дам, — нахмурился Крестинин. — А дикующий и без винца не сбежит. Мы за ним присмотрим. И ты, Тюнька, не храбрись. Больно смелый. Ты лучше выспись. Нам завтра много чего предстоит. Я хочу, чтоб все отдохнули. — И перевел взгляд на дикующего: — Всем спать. Без шумства и хитростей.
Глава II. Cердитый дух Уни-Камуй
Утром дрогнула вода, вздохи стали слышней, начался отлив.
Оглядываясь, пересекли основание мыса, сильно засоренное морем.
Валялся под ногами бамбук — гибкий, заостренный, как копья, перевязанный иногда кропивной веревкой. Может, морская снасть, апонцы пользуются. На мокрых камнях зеленела неизвестная скользкая пузырчатая дрянь, как моченый горох. Ступи на нее — лопалась, как пищальный выстрел. Похрустывали ракушки. Но больше всего дивило казаков жидкое стекло медуз. На взгляд — чистый кисель, а не продавишь. В мелком озерце, оставшемся на отливе, встретили серенького, будто пылью присыпанного восьминога, зачем-то замешкавшегося. На казаков восьминог поглядел брезгливо, но с состраданием.
Шли осторожно, часто поминали сердитого духа Уни-Камуя.
Вот что за дух? Почему сердитый? Почему принимает пищу и живет с переменными женами? И ведь имя какое!
Шли настороженно, поглядывали на заснеженный, а где закопченный верх горы. Только к желтому бамбуку сразу привыкли. Руками его не сломаешь, шуршит, а под саблей все едино ложится. Шли, как подсказывал проводник. Дух Уни-Камуй всегда ходит по одной тропинке, объяснял он, испуганно оглядываясь на господина Чепесюка. У сердитого духа вытоптана вокруг горы тропинка, он ходит по ней. Ни один куши не смеет вступать на след духа, а тех, кто на такое решались, дух убил. Убил он и апонцев, которые пытались подняться на гору. А одного с давних пор держит при себе.
— Зачем? — громко спросил Тюнька.
Чувствовалось, что хочет, чтобы слышали его и господин Чепесюк, и секретный дьяк. Хотел, чтобы оценили его усердие. Видно, всем горлом ощущал Тюнька давно обещанную петлю, хотя про себя решил: если не заслужу прощенья — сбегу. Островов много, на каждом жить можно. У местных куши, говорят, женщины белые, можно жить с белыми женщинами, загорался Тюнька. Если дух с ними живет, значит, и он, Тюнька, сможет. Даже облизнулся. Переспросил громко:
— Зачем сердитый дух держит при себе апонца?
— А помогает апонец духу…
— Чем?
— Ну, стряпает пищу, ну, учит слова…
— Апонские? — уточнил Тюнька, оглядываясь на Ивана и на господина Чепесюка.
— А других у них нет.
Пока шли берегом, дивились — там и тут валялись легкие, истертые водой и песком лаковые апонские тапочки, принесенные морскими течениями. На некоторых сохранились картинки — то ветка сосны, то яркий цветок, то такое растение, о каком в России никогда не слышали. Но дело, конечно, не в рисунках, мало ли что можно нарисовать? Дивились другому: вон сколько тапочек, а все на одну ногу, на левую, никак не подберешь пару. И размером малы. Или, решили, апонцы всегда пользуются тапочком только на левую ногу (правая, может, велика, или густо мохната, или, может, совсем не надо для нее тапочка), либо это какое-то особенное колдовство сердитого духа.
До последнего додумался дьяк-фантаст. Казаки, пугаясь, ругали Тюньку. Иван тоже напомнил:
— Повешу.
Но если честно, то и сам не мог понять: почему, правда, все тапочки на одну ногу, на левую? Неужто апонцы активно пользуются только левой ногой?
Не верилось. В бумагах, относившихся к прикащику Атласову, читал, что апонец Денбей, барин из Осаки, привезенный Атласовым государю, ничем таким особенным не выделялся. Окрестили апонца, дали ему русское имя Гаврила, учил он русских робят апонскому языку, и в разности ног никем не был уличен.
Дивен мир, созданный тобой, Господи.
На плечо горы поднялись тропой, хорошо натоптанной в бамбуках.
Забусил легкий дождь, мир сразу потемнел, наливаясь влажноватой и теплой чернью. С плеча горы увидели длинный мыс, в его скалистой голове пенились сулои — вода вскипала, струи, рождающиеся на спорных течениях, образовывали плотную белую толчею. Глянув на безмерный горизонт, в пустоте которого, ничуть не разрежаемой воздухом и водными пространствами, все равно что-то угадывалось, Иван вдруг сильно затосковал, будто толкало его под сердце какое предчувствие. Это как же так велика Земля, если даже на ее краю снова впереди что-то угадывается?…
Решил: коль вернусь когда-нибудь в Санкт-Петербурх, прочно осяду в опрятном домике доброй соломенной вдовы Саплиной. За усердие получу крепкую деревеньку от государя, оценит Усатый мои труды. Жить стану на царскую милость, спокойно составлю такой чертеж земли, чтобы человек, даже неопытный, взглянув на него, мог сразу понять, куда и какие пути ведут, где какие острова имеются, где проживают люди, а где совсем никого нет, даже животных, одни только льды или наоборот пески, все живое сжигающие.
Усмехнулся. Чертежик, с которым шел на Камчатку, который сам начертал еще в Санкт-Петербурхе, оказался не совсем точен.
Укололо сердце: сам?
Ну, сам начертал, конечно… Это только составил его какой-то Козырь, бунтовщик, убивец государевых прикащиков, следы которого затерялись в Сибири… То есть, все равно как бы и не мой чертежик, но это ничего, утешал себя, это теперь не имеет значения… Теперь свой составлю!.. Но грыз, грыз в сердце ужасный червь: а вдруг жив тот Козырь, вдруг однажды объявится?
Огляделся.
Приказал Тюньке:
— Пусти Татала вперед.
И снова перехватил краткий взгляд чугунного господина Чепесюка.
В России господин Чепесюк на Ивана смотрел равнодушно, будто заранее знал, что с ним произойдет. Смотрел на Ивана не как на человека, а как на нечто такое, что не стоило сильного внимания. Только после драки в кабаке, когда Иван побил многих хороших мужиков, впервые уловил в оловянных глазах господина Чепесюка нечто вроде тайного удивления. И это удивление стало расти, потому что после Тобольска Иван стал пить мало, сорвался только в Якуцке. Будто увидел господин Чепесюк в Иване что-то такое, чего еще сам Иван не знал. И срыв в Якуцке, когда Иван попытался повесить дьяка-фантаста Тюньку, но при этом выгодно выбил у местного начальства припас и лошадей, уже не разочаровал его. Все чаще господин Чепесюк не вмешивался в распоряжения Ивана. А в Якуцке без слов дал понять, что нет у него к Ивану ни презрения, ни равнодушия, а есть только какой-то свой особенный, пусть и потаенный интерес.
Дорожную книгу, «Рассуждение о других вещах или Кратчайшее изъявление вещей, виденных и пережитых», Иван после Якуцка поручил вести монстру Тюньке. Подражая Ивану, монстр так писал: …«…В этом дистрикте на глухой речке имеется высокая скала с рисованными фигурами. Те фигуры будто объяты гневом. Каждая напоминает ангела, даже крыла за спиной видны, но ангелы так сильно разгневаны, что невозможно разглядывать их фигуры без явственного стеснения сердца, ибо сказано — в гневе ангелов дьявол рождается».
Тюньку волновал гнев ангелов. …«…И в том же дистрикте слышал такое поверие. Коль звенит в каком ухе — немедля перекрестись и ничего не задумывай. Когда звенит в ухе, это ангел-хранитель записывает твои грехи в книгу жизни, чтобы впоследствии представить Богу. Делая записи, ангел-хранитель спорит с сатаной, и если кто в тот момент немедля не перекрестится или задумает корыстное, то ангел неохотно уступает его душу сатане и отходит с рыданием».
И так далее.
Через плечо горы вела хорошо убитая тропинка.
Такая же тропинка двойным кольцом окружала вершину.
Каждый день, пугливо объяснил куши Татал, по верхней тропе неторопливо проходит сердитый дух Уни-Камуй. Сам маленький, только ноги у него большие. Крепко ставит большие ноги сердитый дух Уни-Камуй, идет неспешно, но непреклонно. А если отдых у сердитого духа, то посылает на некоторые специальные места своего полоняника апонца или какую из своих переменных жен — следить за состоянием моря. Обзор тут хорош. Если появится апонская буса, можно задолго вычислить, где именно может она торкнуться в берег. Торопиться сердитому духу некуда. Он кладет на плечо молонью и неукротимо идет туда, куда направляются апонцы. А затем наказывает их.
Дивны дела твои, Господи. Не солгал мохнатый.
Остановились, не дойдя до некоей стены, выложенной из цельных камней, — стена возвышалась по грудь взрослому человеку, закрывая единственный выход на широкую поляну, украшенную накрепко врытым в землю большим столом, высоким деревянным летним балаганом на сваях и подземной полуземлянкой, обложенной сверху дерном. Полуземлянка, показалось, совсем как у камчатских нымылан — ни окошек, ни дверей, только в куполе круглая дыра, сквозь нее можно спуститься вниз по лесенке. Дым очага выходит через то же отверстие. Дым, кстати, и сейчас легонько вился над полуземлянкой.
Дав знак затаиться, Иван метнул камешек через стену.
На легкий шум выглянула из полуземлянки страшная рожа и сразу спряталась внутрь, как втянулась в землю. Вот загадка, подумал Иван. Зачем духу полуземлянка? И казаки внимательно озирали увиденное.
Летний балаган рассохся, раззявил во все стороны широкие щели, но все равно казался обжитым. Да и не казался, а был обжитым. И щели не в упрек. Может, оставлены специально. Прильни к любой, сразу увидишь все, что захочешь. Если сердитый дух жил в балагане, то видел все, что творится на море и на этой стороне острова. А на середине поляны на деревянной перекладине, как на виселице, что сразу не понравилось дьяку-фантасту Тюньке, вялилась крупная красная рыба. Не знать бы, что здесь обитает сердитый дух, так и подумали бы, что человек.
— Ну, где дух? — шепотом спросил Иван. — Почему не мещет молоньи?
Куши Татал, пугливо спрятав голову в ладони, кивнул в сторону. Если, дескать, умру, подсказал этим кивком, то только так, головой в ладони, — страшного не увижу. И все, конечно, глянули в ту сторону, куда кивнул куши. …и увидели голый, засыпанный обломками камня, склон скалистой горы, величественной, похожей на перевернутую заиндевевшую воронку. И они — многие маленькие тщетные люди, стоят всего только на каменном плече горы перед неизвестной поляной. …и увидели снежный язык ледничка, черный от выпавшего откуда-то пепла, устоявший под неярким, но теплым курильским солнцем, только звонко, как слюну, пускающий из-под себя мутные струи ручьев. Звон воды был ледовит, внятен и слышен за много шагов. Даже не видя, легко было представить, как, достигнув обрыва, ручьи начинают свергаться вниз, окропляя берега и рассеиваясь в воздухе, как дождь. …и увидели неширокую натоптанную тропу, ведущую от бамбуков к ледничку. На ледничке тропа тоже была хорошо убита, слегка виясь вправо-влево, а, пересекая снежный язык, тропа таинственно уходила за край горы. …и увидели — из рыжих бамбуков, твердо ступая по льду короткими сильными ногами, слегка прихрамывая, точнее, слегка волоча левую ногу, наверное, не совсем хорошо сгибавшуюся в колене, неукротимо выдвинулся невысокий человек в мохнатом платье и с ружьем через плечо. Голова человека была в светлых и длинных кудряшками волосах, и очень большая. Багинет был примкнут к ружью по-военному, на боку висела настоящая сабелька. Издали было видно, что сильно сердитый дух. Хотя зачем духу вооружаться?
Твердо ступая по льду, хорошо, видимо, зная, что делает, сердитый дух или человек в мохнатом платье шел так, будто находился на казенной службе. В своей неукротимости неизвестный сердитый дух или человек казался собранным, деловитым, совсем не в пример другому странному существу, тоже облаченному в мохнатое платье, тоже старающемуся углядеть все вокруг, но при этом жалкому, согбенному, часто оглядывающемуся на море. Оба они — и сердитый дух Уни-Камуй, и согбенное существо — часто смотрели вниз, на берег, не замечая казаков, поднявшихся на плечо горы. И понятно было — смотрят они на море не просто так, не бесцельно. Они явно сознавали, что именно хотят увидеть на море.
— Неужто нас? — шепотом удивился Иван. И добавил изумленно: — Это ж не настоящая у духа голова! Это парик на сердитом духе!
И все посмотрели на господина Чепесюка, но господин Чепесеюк промолчал.
Существо, следовавшее за сердитым духом, прихрамывало, как и сам дух, но выглядело не столь неукротимо. Оно часто, чаще, чем дух, суетно поглядывало на море. И казаки смотрели на море. Но был пустынен его круг на всем протяжении. Ни бота, ни бусы, никакой камчадальской лодки… Ни русский, ни апонец, ни дикующий — никто не портил утренней ясности… От этого еще больше высветилось в сознании Ивана — да зачем же так делает сердитый дух? Почему зовут его Уни-Камуй, почему на вид он явно не русский, а несет на плече настоящее русское ружье? И зачем сердитому духу настоящая русская сабелька на поясе? И зачем при духе присутствует столь маленький, согбенный, странный человечек, что даже издали видно — это совсем не сильный человечек… Да и сам дух… Почему такой некрупный? Идет неукротимо, а на вид некрупный. От силы ростом по плечу Ивану, не больше.
Молча затаились за холодными камнями.
И сердитый дух Уни-Камуй, и согбенный его спутник шли нигде не останавливаясь, очень сердито оглядывали море и берега. Знали, что если подойдет к острову враг, то только с моря. Может, правда, видели вчера бусу, отправившуюся на ту сторону острова, — черного монаха на носу, рыжего Похабина на новом руле. Потому теперь и шли непреклонно, что в любой момент готовы были обречь врага на выстрел из пищали.
Монстр Тюнька жадно глянул на бугор полуземлянки. «Вот, — жадно шепнул? — cейчас гляну в полуземлянку. Не могут там обитать только одни самцы!»
«А чего глядеть?… — тоже шепотом возразил Иван. — Самцы на горе… Вон несут ружье с багинетом… За самцами надо следить…»
«Так я в полуземлянку?…»
«Повешу!.. — шепнул Иван. — Слушай меня… Свистни негромко… Посмотрим, испугается ли дух?»
Приподнявшись над каменной стеной, Тюнька негромко свистнул.
Обычно как бывает? Вот ты свистнул, и тот, кого хочешь испугать, согласно пугается. Сначала как бы застывает, а потом бросается в укрытие, где потихоньку приходит в себя. А здесь все произошло не так.
В разительном повороте, и доли секунды для того поворота не потребовалось, сердитый дух Уни-Камуй, только что неукротимо прихрамывавший по тропе, в каком-то неистовом повороте, совершенно не представимом при его мохнатом развевающемся платье, повернулся и страшно выпалил из пищали, разбив пулю о камень в каком-то вершке от лица безумно побледневшего монстра Тюньки. Такой белый на ледничке монстр дьяк-фантаст Тюнька, конечно, был бы мало заметен, но на фоне черной стены он теперь светился как фонарь. Не теряя ни мгновения, бросив пищаль для перезарядки в руки согбенному мохнатому спутнику, сердитый дух сразу бросился вверх на приступ с обнаженной сабелькою в руке.
Вот какой дух! — с одобрением подумал Иван. — Совсем сердитый.
Но откуда пищаль у духа? Зачем в парике дух?
Повинуясь знаку Ивана, казаки выпалили сразу из двух пищалей, чтобы сердитый дух мог одуматься. Приказ был не вредить сердитому первым залпом, но — присмотреться, что это за существо?
При грохоте выстрелов сердитый дух Уни-Камуй заученно бросился на землю. Так же заученно бросился на землю его согбенный спутник, не переставая возиться с пищалью. Наверное, скусывал патрон. И все это время маленький, но сердитый дух, сильно ругался.
— Чего это он?
— Молчи, Тюнька. Видишь, дух не в себе.
— Так зачем по-русски ругается? — потрясенно шепнул Тюнька.
— А я знаю?
Тюнька изумленно потряс головой.
На шум выстрелов выглянули из землянки теперь уже целых три ужасные рожи с распущенными волосами, наверное, самки, и завыли громко, уныло, впрочем, так же быстро спрятавшись, как только обнаружили во дворе Тюньку.
Переменные жены, решил Иван.
— Ишь, как ругается! — покачал головой Тюнька. — Сейчас распалит себя, схватит сабельку и кинется!
Но ни по одному пункту Тюнька не угадал.
— Апонцы!.. — крикнул по-русски дух из-за камня. — Сколько вас?… Зачем пришли?… Почему стреляете?… — И то же самое согбенный человечек прокричал на странном незнакомом языке, может, на апонском.
Иван глянул на господина Чепесюка и спросил тоже по-русски:
— Зачем стреляешь, товарищ?
— Какой я тебе, апонскому псу, товарищ? — сердито ответил дух. — Ни один апонец не должен всходить на сию гору. Пока я здесь, ни один апонец не взойдет на сию гору. Сия гора принадлежит моему государю, все то — его исконные земли. Коль попробуете подняться, всех убью.
— Не убьешь, Уни-Камуй, — стараясь не сердить духа, мирно ответил Иван. — Хоть ты и сердитый, да тебя мало. И спутник у тебя согбен, коромыслом ходит. А нас много, мы крепкие. Шалить начнешь, снимем с тебя шкуру и повесим на сушилку для рыб, чтобы другие духи добру учились.
Дух нехорошо, не по-товарищески выругался:
— Почему по-русски разговариваете? Совесть ваша где?
— У казака совесть не своя — государева! — на этот раз крикнул Тюнька, и, поняв, что стрелять больше не будут, совсем осмелел: — Сам зачем говоришь по-русски, дух Уни-Камуй? Тебе такое не полагается. — И добавил презрительно: — Побьем тебя!
— Апонцев против меня всегда было больше, — обидно засмеялся лежащий за камнем сердитый дух. — Только я их всегда побивал, потому как у меня понимание боя. — И кудряво, по-русски, совсем уже нехорошо, совсем уже не по-товарищески выругался.
— Ты кто? — крикнул Иван.
— Я верный раб государя. Куда он взглядом укажет, туда иду. Прикажет запытать меня, и это буду терпеть. Прикажет врагов побить, и это сделаю. Как верный раб государев, не потерплю на государевой земле никаких апонцев!
— Да какой государь-то?
— Один у меня государь — Петр Алексеич. Ему служу!
— А ты имя свое скажи, если ты не сердитый дух!
— Его императорского Батуринского полка маиор Яков Афанасьев Саплин!
— Маиор!.. — ахнул Иван.
Сколько раз мечтал, что вернет соломенной вдове неукротимого маиора, что сильно обрадуется добрая соломенная вдова, и вот — случилось! Даже испугался, что не может так быть. Слишком велика земля, чтобы так просто наткнуться на некоем уединенном острове на маиора.
А ведь наткнулся.
— Маиор! — крикнул. — Сколько вас на острове?
— Русских — один я, — настороженно ответил неукротимый маиор Саплин, искусно прячась за камнем. — А со мной полоняник-апонец да некоторые переменные жены.
— В чем нужду терпите?
— Мы ни в чем не терпим.
— Яков Афанасьич, да зачем стоишь на острову в одиночестве?
— Гору серебра охраняю. Хожу вокруг, растаскивать не даю гору апонцам. Гора наша русская, исконная, а те апонцы высаживаются и нагло отщипывают без спросу, наносят урон государству и государю. Волею государя Петра Алексеича воспретил всем путь через гору, жду русской помощи. — И сам крикнул неукротимым, но вдруг предательски дрогнувшим голосом: — Вы кто? Может, не апонцы?
— Мы, как и ты, государевы люди, Яков Афанасьич. Мы тоже люди императора Петра Алексеевича, Отца Отечества.
— Почему Отца?
— Русские адмиралы за великия победы его титул такой представили. Отец Отечества, Петр Великий, Император Всероссийский. Он шведа побил.
— Как?! — неистово вскрикнул, слегка приподнимаясь, сердитый дух, и в голосе его пробилась слеза гордости и умиления. — Победил государь, встал на море? Неужто, наконец, побил шведа?
— Побил.
— А матушка полковница, здорова ли?
— Очень здорова, маиор. А для тебя храню в кармане письмо.
— Да от кого?
— От доброй вдовы Саплиной.
— Да почему вдовы?
— Думали, погиб ты, Яков Афанасьич.
— Жив, жив я! — неукротимо вскричал маиор, смело поднимаясь во весь свой невеликий рост. И даже укорил Ивана: — Неверие — зло большое. После шведов, может, главное. — И спросил: — Как твое имя, человек из России?
— Иван Крестинин. Официальный секретный дьяк.
— Ну? Знал Крестининых. Отчего ж ты в секрете? Может, привез пудры для парика?
— Да какая ж у меня пудра?
— А ты поднимись над камнем.
— Не будешь ли стрелять, маиор?
— Не буду.
Иван без колебаний поднялся.
— Может, это и ты… — после долгого рассматривания раздумчиво произнес маиор. — Пока не знаю… Много прошло времени… — И спросил: — Где буса, на которой пришли?
— Пошла на ту сторону. Чиниться и дикующих придержать.
— Я видел вас вчера. Думал апонцы. Почему поп стоял на носу?
— Так то брат Игнатий. Хорошо смыслит в морском деле.
— Как? Поп поганый? — выругался маиор.
— Да почему ж поганый?
— Да потому, что я сразу его узнал! И кличка ему — Игнашка.
— Почему так говоришь?
— Да потому, что он поп поганый! — непреклонно повторил маиор. — Я чувствовал, что он здесь появится. Может, это и хорошо. Я слово дал повесить того попа! Мне такое право дано государем — вешать изменников! — Неукротимый маиор, прихрамывая, волоча левую ногу, с сабелькой на боку смело направился к казакам, за ним испуганно последовал полоняник-апонец с коротенькой косичкой на голове и в руках с тяжелой пищалью. — Я слово дал, что самолично смажу веревку для того попа поганого сайпой. Сайпа — это ворвань, хорошо прокипяченная с золой, — объяснил маиор, изумленно разглядывая господина Чепесюка, будто кого-то в нем узнавая. — Я слово дал, что самолично вздерну попа.
— Выходит, знал брата Игнатия?
— Даже очень знал!.. — маиор Саплин остановился напротив Ивана и смело уставился на настороженно поглядывающих в сторону полуземлянки казаков. Добавил, как сплюнул: — Он поп поганый, другим быть не может! В миру звали проще его. Козырем.
— Козырем? — изумился Иван.
— Да он, он! Вор и бунтовщик! Убивец камчатских прикащиков! Тварь, возмущающая мир божий.
— Быть такого не может, — сказал Иван на всякий случай. — Говорят, что вора Козыря запытали до смерти в Санкт-Петербурхе еще два года назад. А еще говорят, что раньше убили под Тобольском. А еще говорят, что и того раньше казнен он медленным копчением далеко в Сибири. А еще говорят, что до сих пор в смыках сидит в некой тюрьме. Не мог бы я не знать, что это Козырь. Служит со мной человек, знавший его.
— Как имя человека?
— Похабин.
— Ну, вот видишь? — засмеялся маиор и, странно, как птица, моргнув, уставился на господина Чепесюка: — Многие хотели бы закоптить вора Козыря до смерти. А он ловок. У него принсипов нет. Коль надо, наденет рясу монаха, а надо, человека убьет. Под Тобольском, например, не думая, убил священника за то, что тот не хотел его исповедать. В другом городе столкнул малого ребенка с моста за то, что ребенок побежал навстречу. Говорят, лукавым волшебством умеет разлучать людей, зимой ходит босиком и демоны у него в услужении. Не имей демонов, — сплюнул, — не попал бы я и на этот остров. Монах сегодня идет благостный, глядя на него, люди умиленно дивятся: «Вот брат Игнатий пошел на моление», а завтра, пьяный, спит тот поганый Игнашка в алтаре, таскает за бороду церковного сторожа за угар в церкви, самому архимандриту грозит: вот ты, дескать, хочешь в железную чепь меня заковать, а я сам тебя закую! — Маиор с чувством прижал кулаки к груди: — Такого человека, как вор Козырь, запытать трудно. Козырь — это зло. После шведов, может, главное.
И обнял Ивана.
Глава III. Неукротимый маиор
— …И стал я, как тот Мелхиседек, что жил в чаще леса на горе Фаворстей. Семь лет ел верхушки растений, лизал траву, но дерзко, по-старинному растущую бороду резал ножом, резал и длинные волосы, не нарушал приказ государя, помнил его отеческую аттенцию. Носил парик, хранил в сердце поучение государя, обращенное лично ко мне на одном куртаге. Без принсипов нельзя, маиор, сказал мне тогда доверительно государь. Он сильно в тот вечер был весел, выделывал прыжки-каприоли, всех увлекал в цепочку, чтобы без исключения веселились и дружески плясали кеттентанц, а потом, отдыхая, поднес чашу крепкого. Деятель без принсипов, маиор, сказал мне государь доверительно, при первой сложности впадает в десперацию, сильно теряется, а, значит, ему не управлять следует, а трудиться на ином поприще. Рыть каналы, к примеру, или валить лес. И то и другое, маиор, всегда будет надобиться России.
Неукротимый маиор обвел слушающих торжествующим взглядом, и особенно остановился на господине Чепесюке. — …И пошил я кафтан из легких шкур. Может, не похож на венгерский или немецкий, но пошит не ниже колен, как того требует государь, и производит благоприятное впечатление. И за все годы не пробовал ни капли никаких вин, никаких елексиров. Ни ренских, ни романеи, ни процеженных. И ни пива с кардамоном, и ни медов малиновых и вишневых, — с горечью добавил неукротимый маиор. — Сделав фриштык, при любом состоянии духа и атмосферы, каждый день бодрым шагом обхожу гору, тем самым вводя любого противника в сильную олтерацию. В сильной растерянности противник взирает на меня, боясь приблизиться к берегам, и всегда сильно пугается белого парика, долженствующего указывать на мои принсипы. Так частым обхождением с неприятелем и укрепляю врожденную смелость.
Поедая печеное мясо сивуча, казаки пораженно слушали маиора. — …Делай, что должно, и пусть будет, что будет! — заключил, ударив кулаком по столу, неукротимый маиор. — Отеческая аттенция моего государя так велика, что по-настоящему до сих не могу донести ее до сознания мохнатых куши, впрочем, согласившимися с давними долгами России.
Маиор гордо вскинул голову, одетую в свалявшийся, но когда-то светлый парик, и с некоторым сомнением оглядел казаков, прочно утвердившихся за деревянным столом, надежно, как в кабаке, врытым ножками в землю. — …А что касается нежных баб, — сказал он, кивнув в сторону летнего очага, вокруг которого толпились страшные рожи, выглядывавшие раньше из полуземлянки и при ближайшем рассмотрении оказавшиеся не столь уж и страшными. — Что касается нежных баб, так то сожительницы мои, иначе переменные жены. Как бы считаю их сервитьерками. Каждая принята мною в пользу России. Которая меньше, та Афака. А побольше — Заагшем. А та, которая воду льет в горшок, та Казукч, иначе Плачущая. Бывает так, что, как чайка, плачет на плохую погоду. Это большое зло. После шведов, может, главное.
Маиор стремительно вскинул голову, одетую в белый парик — не усмехнулся ли кто? Но никто не усмехнулся.
Как и все в хозяйстве неукротимого маиора, переменные жены Афака, Заагшем, и даже Казукч, Плачущая, оказались существами основательными, крепкими, в их раскосых пугливых глазах мелькало и совсем не пугливое, даже бесстыдное любопытство, особенно у меньшой Афаки, то и дело стреляющей взглядами то в сторону длинного жилистого монстра бывшего якуцкого статистика дьяка-фантаста Тюньки, то в сторону секретного дьяка Ивана Крестинина. Хихикая, бесстыдно прикрывая немытое лицо ладошкой, но почти не пряча полуоткрытую круглую грудь, Афака, как действительно искусная сервитьерка, положила перед маиором небольшую курительную трубку, выточенную из корешка березы и мамонтовой кости. Табак стоял тут же в лакированной ступе. Когда маиор разжег трубку, на казаков пахнуло дьявольским ароматным дымком.
— Уйди! — гневно прикрикнул неукротимый маиор, перехватив бесстыдный взгляд Афаки, брошенный на дьяка Тюньку. — Спрячься в полуземлянку!
Иван усмехнулся.
— Не думай о плохом, Яков Афанасьич, — успокоил он маиора. — Человек, на которого так нескромно смотрит меньшая Афака, это монстр Тюнька, бывший якуцкий статистик и дьяк-фантаст. Виновен в нанесении огорчения государю. У меня приказ повесить дьяка-фантаста, чтобы впредь дело лучше знал.
— Так почему не повесить? — горячо вскричал маиор, вскакивая. — Зачем тянуть?
— Успеем, маиор, — кивнул Иван успокаивающе. — Тюнька многое знает и хорошо говорит. Не чужд последних веяний, а так же многое может рассказать. Потом уж повесим.
Тюнька, опустив голову, смиренно кивнул.
Маиор успокоился. — …Сожительницы мои просты, как морские звери, — пуская ароматный дым, пояснил он, грозно озирая казаков. — Дни проводят в экзерцициях и в трудах. Меньшая Афака, хоть и меньшая, но так воинственна, что сам посылаю ее к досмотру горы. При выходе на досмотр строевым шагом отзывается послушно на военный пароль Селебен, что значит Серебряная. — Маиор грозно повел плечом: — Так поначалу я гору назвал — Селебен, вся в серебряных потеках, как в соплях. Потом на такой пароль перевел воинственную Афаку. Когда открыл гору серебра, сразу решил, что теперь не потеряется ни одного кусочка. Sie ist meine! — сказал себе. Она теперь моя, иначе, России! Без принсипов никак нельзя, — покачал головой маиор. — Без принсипов тяжело даже дикующим. Случалось, в один день отгонял от острова сразу по две апонских бусы. Выходил на берег, сильно стрелял. От моей стрельбы апонцы приходили в полную десперацию. А если выходил кто-то на берег, бросались на него с сабельками — я и переменная жена Афака.
— Ну? — не поверил Иван. — И Афака с сабелькой?
— Зарубила не менее двух апонцев, — гордо кивнул неукротимый маиор, и Афака издали бесстыдно улыбнулась, прикрывая маленькой ладошкой не полуобнаженную грудь, а темную щеку.
— Без принсипов нельзя, — подтвердил неукротимый маиор. — К дикующим, как велел государь, питаю отеческую аттенцию. Если кому не нравятся мои переменные жены, пусть не смотрят, — маиор Саплин, как небольшой орел, резко повел маленькой головой вправо и влево. Для убедительности сдернул свалявшийся парик. — По ордеру имею право на денщиков. Раньше брали в денщики татарских мальчиков, — маиор строго взглянул на господина Чепесюка. — Теперь затруднения. Но официи своей не забыл: пусть бабы, но служат как денщики. Сказано одним умным человеком: «Кому воду носить? Бабе… Кому биту бить? Бабе… А за что? А за то, что баба…» — Маиор неукротимо осмотрел казаков: — Баба — зло. После шведа, может, главное зло. Держу переменных жен как денщиков, как сервитьеров, ни в чем не даю воли. Ну, иногда только разбрасывают по полу свежие стружки, почитая их за своих глупых богов. Если захотят, даже приносят глупым богам мелкую жертву. Кричат негромко — ту! ту! А Казукч плачет при этом. Как чайка на непогоду. Совсем глупые. Только я своей официи не забыл. Строго охраняю богатую русскую гору Селебен, чтобы не расхитили апонцы богатства.
— Неужто вся гора из серебра? — удивился Тюнька. Спрашивал маиора, а сам, как монстр, косился на меньшую Афаку, на дикующую девку Селебен, часто и пугливо поглядывающую на него издали.
— Вся из серебра, — подтвердил маиор. — Потому и подбирался к ней вор Козырь. Не поп, а чистая сволочь! — крикнул маиор, впиваясь взглядом в чугунного, ни разу не дрогнувшего страшным изрубленным лицом господина Чепесюка. — Когда собирался на острова, тот поп поганый Игнашка в Нижнем острожке меня полгода уламывал. Показывал прельстительные чертежики, рассказывал о пути до Апонии, говорил, что не раз ходил в море. — В голосе маиора проскользнула нотка ревности: — Говорил, что сам учинил подробный чертежик каждому острову, лежащему за Камчаткой, и, дескать, сам не мало пострадал в боях от курильских мужиков на устье Худушагана-реки. Может и плавал, поганый, только зря я ему поверил. Известно, языками клятвопреступников играет дьявол. Только позже узнал, что тот поп, будучи еще Ивашкой в миру, жестоко убивал камчатских прикащиков. Может, потому и бегал на острова, что боялся наказания.
В глазах маиора вспыхнул неукротимый огонь:
— В бумагах хвастливо утверждал поп Игнашка, что никто так далеко, как он, не ходил на острова. Но я прошел дальше! Русских дальше меня совсем никого не было, — маиор с гордостью обвел взглядом лица примолкших казаков, пораженных его неукротимостью. — Если пойти на юг, уткнешься прямо в остров Матмай, по нему бегают апонцы. Туда, к Матмаю, и рвется поп поганый. Я знаю. Он весь в крови. На нем кровь прикащичья. Его друга вора Данилку сожгли дикующие в балагане. Его другу вору Гришке Шибанке голову отрубили, других повесили, а он, главный вор и заводчик, плавает по воде и ходит по суше, преступая все божьи законы. Вор Козырь — большое зло. После шведа, может, главное.
Маиор неожиданно нахмурился:
— Зачем-то держит господь такого вора на земле. Не знаю, зачем, но вот держит. Может, специально, чтобы ввергнуть потом в самые жестокие муки? — маиор внимательно осмотрел казаков. — Идя на мое судно, поп поганый многое обещал. Мне бы правду о нем понять, а я не успел, впал в конфузию. Думал, никогда больше не увижу поганого, а он глядь, опять стоит на носу бусы.
Быстро спросил:
— Куда пошел поп?
— На ту сторону острова.
— Зачем?
— Дикующих караулить. Отнять у них лодки.
— Когда встречается с вами?
— Когда выйдем на берег и испугаем дикующих.
— Будет ждать?
— Так решили.
— Обманет, — твердо сказал маиор. — И быстро добавил: — Но если дождется, сам наложу тяжелую чепь на ноги, колодку на шею, прикую поганого попа к железному кольцу на носу бусы. А когда выстудится душой и телом, повешу.
Млел огонь в очаге. Монстр Тюнька, дьяк-фантаст, слушая маиора, испуганно ежился, но не забывал поглядывать на Афаку. Афака, дикующая девка Селебен, маленькая, плотная, в короткой парке из птичьих шкурок, что-то кипятила в горшках, ставила на стол лаковую деревянную посуду. По гнутым бокам посуды вились необычные растения. В балагане пахло незнакомо, тревожно. Взмахивал руками неукротимый маиор Саплин, помогая себе объяснить то, чего никогда не объяснишь словами. Только у Ивана билась в голове некая тревожная мысль: а как объяснит неукротимый маиор доброй соломенной вдове присутствие рядом с ним трех денщиков, трех сервитьеров, у которых у всех круглые женские груди, и выговор, как у птичек? Хотел подробно расспросить маиора о воре Козыре, но тревожно думал почему-то об этом: вернувшись, как объяснит неукротимый маиор доброй вдове существование таких денщиков? Ведь не один год, надо полагать, живет с ними. Язычницы!
Афака тем временем, бросая бесстыдные взгляды на монстра Тюньку, принесла на широком деревянном блюде новые, черные, как уголь, куски горячего сивучьего мяса. Вкусно запахло пищей, как в тихий праздник пахнет в русском дому. Только мясо на блюде было черное, как угль, а само блюдо покрыто лаком.
Над щелястым балаганом небо.
Вдали море без берегов.
Вдруг, кланяясь низко, подошел к столу полоняник. Волосы на голове бритые, только на затылке торчал пучок, перевитый белым снурком, неведомо каким маслом мазанный, так весь и блестел.
— А это апонец Сан, — сказал маиор, сыто, но зорко щурясь. — Тоже денщик. Человек из подлых, но самый верный. Свою официю понимает. У них, в Апонии, подлые люди ходят наги, только срам прикрывают пестрядью. Я запретил. Берегу его. Робкий. — Он хлопнул в ладони и полоняник действительно упал на колени. — Весьма робкий народ, — кивнул маиор. — Было, пытался поить полоняника винцом. Сам выгонял крепкое винцо, думал, угощу робкого полоняника, он осмелеет и расскажет, как баре живут в Апонии. Напоил его как скота, но он даже в скотстве остался робок, только все пытался зарубить сабелькой Казукч, Плачущую, видно, виды на нее имел.
Твердо глянул на Ивана:
— Зря поверил попу Игнашке. Он всю жизнь искал для себя судно. Говорили, что на Пенжине пытался силой захватить судно. Теперь обманет.
— Да зачем?
— Да чтобы уйти с России. У него мечта сделать так, чтобы первым войти в Апонию. Он всех вас бросит.
— У нас на бусе верные люди.
— Он уговорит, — возразил маиор. — Он умеет. А кто не захочет, тех зарежет или бросит в воду.
— Да разве мы не христиане? — не поверил Иван. — Разве бросит монах братьев-христиан посреди дикующих?
— Обязательно бросит, как меня бросил, — уверенно подтвердил маиор. — Если мы сами силой и неожиданно не взойдем на палубу бусы, поп поганый не станет никого ждать. Теперь буса в его руках, он всегда о таком мечтал. В нелепом неистовстве пойдет теперь только в сторону Апонии.
— Да почему не с нами?
— А зачем? — удивился маиор. — Он один хочет!
— Так с ним же наши люди, — напомнил Иван, тревожно вспомнив Похабина.
— Бросит за борт. Чтобы исполнить воровскую мечту, все сделает. Чтобы получить бусу и средства, вор Козырь тайно доходил до самого Санкт-Петербурха, томился в Тобольске, просил, убеждал государевых людей, только ничего не выпросил и никого не убедил. Нрав подлый явственно отражен в его глазах. Гордыня нечеловеческая. Гордыни в Игнашке больше, чем серебра в моей горе. Издали чувствую в воре страшное. Если сейчас подойдет невидимо, я все равно почувствую. А если почувствую, ждать не стану, сразу выхвачу нож.
Кивнул полонянику:
— Вверх поднимись. Глянь, не вернулась ли буса? Если что увидишь, сразу ко мне.
Апонец понимающе поклонился.
— Не изменит? — спросил Иван.
— Никогда!
А Тюнька спросил испуганно:
— Коль брат Игнатий действительно обманул, как жить будем?
— Построим новую бусу, — ответил маиор. — Правда, не сразу. Теперь уже зима на носу. А зима — зло большое. После шведов, может, главное.
— Зимовать придется? — совсем испугался Тюнька. — Как?
— А как я зимовал, — обьяснил маиор. — Терпеливо, и не забывая официи. В государственных делах спешка ни к чему.
На восточную сторону острова вышли к обеду следующего дня.
Ночь неукротимый маиор Саплин почти не спал. Все думал, с чем можно расстаться, а что непременно взять с собой. Решили так, что, отбив бусу у попа поганого, вернутся морем к полуземлянке, и заберут на борт все, что захочет забрать маиор. Но все равно даже сейчас кое-что маиор не захотел оставлять. На птичьем языке дикующих отрывисто отдавал приказы переменным женам. Растерянно всхлипывая, меньшая Афака, большая Заагшем, и Казукч, Плачущая, увязывали шкурки лис, прятали в кожаные мешочки образцы серебра и камней, собирали в одно место необычную лаковую посуду и выгнутые сабельки, когда-то с боем отнятые у заезжих апонцев.
Неужто маиор собирается везти в Санкт-Петербург не только нажитое, но и своих переменных жен? — дивился Иван, наблюдая за метаниями неукротимого маиора. Неужто не оставит язычниц на острове? Неужто не побоится отлучения от церкви? Да и по-христиански ли это — отрывать язычниц от их родимцев, остающихся на острове? Простит ли такое маиору его любящая вдова? А если простит, то как будут смотреть на иностранных дикующих, на денщиков женского пола, на сервитьерок мохнатых в Мокрушиной слободе? Что скажет, узнав о таком, сам Усатый, уважающий маиора за великое геройство, но при этом строгий христианин, обязанный строго печься о величии и чистоте православия? Куда, наконец, добрая соломенная вдова будет укладывать на ночь диких переменных жен неукротимого маиора, привыкших к плачу чаек, к свежему ветерку с моря, к вяленой рыбе, и к морю, всегда стоящему вокруг острова, ну и само собой, к одной с маиором цыновке?
Не знал, как на такое ответить. Зато, наверное, маиор знал.
И меньшая Афака, и большая Заагшем, и Казукч, Плачущая, всхлипывали, как чайки на непогоду, но беспрекословно выполняли каждый приказ неукротимого маиора. Утром приготовили пищу, почистили одежду. Занимаясь чисткой, горестно пели заунывными птичьими голосами, и слышалась в их песне неведомая тоска. Боялись, наверное, что после нелегкой, но счастливой жизни с маиором, владеющим искусством пускать молоньи и управлять миром, придется вернуться к неряшливым родимцам, делить с ними нечистую скаредную пищу, жить в тесных балаганах, рожать мохнатых младенцев, никогда при этом не забывая строгого, но справедливого неукротимого русского маиора, известного на островах под именем сердитого духа Уни-Камуя…
Судьба с детства испытывала маиора Саплина.
Например, родился он дитем совсем небольшим, зато сразу с зубами. Маленькие, но крепкие зубы будущего маиора хорошо запомнила его кормилица. А чуть поумнев, набрав силу, заметно подрастая, будущий маиор начал много мечтать о победе государя над шведом, справедливо полагая шведа главным для государства злом. Так попал в резервный батальон Первого Батуринского полка. Через несколько лет неукротимый маленький человек, не раз огорчавший шведов, был уже капитаном. Ни в какой другой стране, кроме как в России, не смог бы стать капитаном так быстро. Но затем случилась с капитаном Саплиным незадача.
Военная незадача, коротко объяснил маиор.
В шестнадцатом году при высадке десанта в шведскую провинцию Сконе молодой русский капитан был ранен в голову и попал в плен. Сердитые шведы загнали его вместе с другими пленными на тяжелые каменные работы. Но даже в плену в маленьком вражеском городке Равенбурге пленный русский капитан Саплин не впал в десперацию и не растерял твердых принсипов. Крепостная стена, укрепляемая под руководством пленного капитана, выглядела грозно и неприступно, однако имела некоторые незаметные изъяны — в ключевых связках стен, как бы по некоторому недосмотру, но на самом деле, по тайному тщанию русского капитана, употреблялось лежалое дерево. Такая стена может стоять годами, как истинная твердыня, но пальни в нее из пушки, она рухнет, будто слепленная из песка. Маиор немало был убежден, что некоторые победы в свейской войне дались государю Петру Алексеевичу благодаря и его, капитана Саплина, неустанной работе по возведению шведских твердынь.
Сбежав из плена на захваченном им вражеском корабле, капитан Саплин вручил корабль русскому флоту и заслуженно получил чин маиора. Отмеченный государем, неукротимым козлом скакал на шумных и дымных ассамблеях, пил водку на куртагах, дымил голландской глиняной трубкой, пугал дам и собственную робкую супругу простыми армейскими историями. Зато, когда настало время отправить в Сибирь верного человека, царь Петр вспомнил именно о нем — о маленьком, но неукротимом маиоре. В присутствии думного дьяка Матвеева так и сказал: «Вот не вышел ты, маиор, ростом, ничего обидного в этом нет, зато вышел ты духом, а это дается не каждому». И приказал: «Пойдешь в Сибирь!»
Объяснил, дрогнув щекой, дернув правым усом:
«Это далеко. Сам знаешь, что далеко. Это, может, даже дальше, чем думаешь. Это, может, уже Камчатка. Сам определишь. Есть там, маиор, гора из чистого серебра. Лежит серебро прямо под ногами без всякой пользы. Говорят, приплывают к горе апонцы, рубят русское серебро кусками, отщипывают, кто сколько может, а потом жгут костры на серебре, дерзко, без всякого на то соизволения сидят на корточках, любуясь видом на море. Такое апонское баловство следует прекратить. Указанное богатство принадлежит России. Конечно, некому сейчас разрабатывать гору и везти серебро через всю Сибирь, швед проклятый висит на шее, но кончится война, маиор, все нашим будет».
И добавил, страшно дрогнув щекой:
«Узнаю, что заворовал, лично повешу. Мне не жалко, сам знаешь. Жестоко накажу весь род твой. А сделаешь правильно, окажешься в милости, отличу тебя».
И маиор пошел.
В Сибирь. Искать для царя гору серебра.
А думный дьяк Матвеев, прощаясь, сделал маиору напутствие. «Сестру жалко, — сказал. — Ее жизнь пуста без тебя. Только ты себя тем не мучай, я пригляжу за сестрой. Хочу, чтобы ты вернулся. Лучше бы, конечно, вообще не ходить тебе в Сибирь, но на то приказ государя. Он теперь часто будет спрашивать о тебе, никогда в занятости своей не забывает такого. Нетерпелив государь. Непременно шли с дороги отписки. Старайся найти гору. Война кончится, все получишь, маиор, только найди гору. Про нее всякое говорят. Кто указывает на Погычу, на страшный студеный край, а кто наоборот, на реку Вамур теплую. Все проверь. Если придется плыть на юг, начинай плыть от Камчатки. Мне Волотька Атласов говорил, что может быть такая гора. Если, конечно, ее еще не расхитили».
Обнял маиора, расцеловал.
«Дело секретное, помни. Для всех теперь ты отписан в Сибирь, несешь в Сибири государеву службу. А где будешь находиться на самом деле, куда поведут тебя дороги, о том, маиор, должен знать только я. Обо всем буду докладывать лично государю. Совсем секретное дело. Даже якуцкий воевода не должен знать твоих истинных намерений».
И добавил:
«Про обидчиков моих тоже не забывай. При всяком случае спрашивай про убивцев Волотьки Атласова. Не все пойманы, не все наказаны. Именем государя имеешь право вешать воров без суда. Не гнушайся вешать, маиор. Только так можно производить благодатное впечатление. В России, маиор, люди без строгости быстро впадают в блаженство лени и порока».
И встали перед маиором вопросы.
Как ехать? Как определяться в дороге? Как отбиваться от многочисленных разбойников? Как, храня секрет, вовремя получать лошадей, людей? Как сохранить снаряжение, не растерять казенный припас?
Твердо решил: строгостью!
Поддерживая официю, еще до Камня повесил на дереве двух солдат, пристрастившихся к выпивке. Пристрастившись к выпивке, те солдаты тайком начали продавать в селениях казенный припас. В собственных руках держал все бумаги, все деньги, солдаты при маиоре всегда были с ружьями. Время от время заставлял их навинчивать на ружья багинеты и ходить друг на друга в учебный бой на потеху деревенским жителям, сбегающимся к лесным полянам, выбранным для боевой учебы. Поэтому и слава бежала далеко впереди маиора. Приняв строгость за принсип, на станциях уже легко выбивал лошадей. Рост малый, голос сиплый, зато в глазах неукротимость, в карманах казенные бумаги, под рукой четыре, без повешенных, верных солдата, испытанных на войне. За своего маиора те солдаты всегда готовы были обратить багинеты хоть против какого губернатора. По дороге в Сибирь маиор заодно утишал немирные села, от души порол встреченных на дороге ослушников.
Там, где побывал маиор, его долго помнили.
В доме тобольского губернатора увидел на стене картину, на коей спасшиеся русские моряки, стоя на коленях на сыром песке, уныло взирали на то, как горит в море подожженный шведами русский линейный корабль.
Увидев такое, маиор сам заплакал.
Да как могло такое случиться? Да почему горит русский корабль? Где твердые принсипы? Где нечестивый мазила, что придумал такой сюжет? Уж не к шведам ли перекинулся? А главное, видно, что спаслись матрозы на шлюпке. Не бросились подлецы на абордаж, не кинулись на гнусного шведа с топорами и крючьями, а к берегу, подлецы, повернули шлюпку!
В неукротимости, даже в бешенстве бросился маиор на картину. Сабелькой порубил холст в клочья. Губернатор-патриот смеялся с участием, разделяя глубокие чувства маиора. Даже обнял его. Частично по искренности, частично по умыслу, потому что помнил судьбу многих несчастных, даже губернаторов, вот так как бы по случайности впавших в немилость государя. Обнимая маиора, при всех гостях обещал сердечно: на обратном пути, маиор, непременно будет висеть на стене совсем другая картина. И взирать на свои горящие корабли будут на ней шведы.
— А мазилу, маиор, выпорю!
В Илимске неукротимый маиор публично засек казака, укравшего фунт пороху из государева припаса. Это немного нехорошо сказалось на слухах, тем не менее, к маиору приходили разные люди, просились с ним в дорогу. Маиор прямо спрашивал:
— Известно ли вам, куда следует мой отряд?
Ему так же прямо отвечали:
— А как же, знаем.
— Ну-с?
— Искать гору серебра.
— Кто сказал?! — хватался маиор за кафтаны.
— Да все говорят, — отвечали.
В один пасмурный день в Якуцке маиора навестил черный монах.
Маиор в тот день был в особом гневе. Почему-то все знали о секретной миссии его отряда, но почему-то никто не слыхал об убивцах камчатских прикащиков. И к Камчатке маиор все никак не мог выйти. Апонцы, возможно, разнесли уже половину серебряной горы, совсем разбаловались, а он, государев человек, никак не мог сыскать умелых охотников двинуться к известной горе. Приходили всякие, умелых не находилось. Когда монах разложил на столе чертеж дальних островов, маиор сразу спросил:
— Хочешь пойти со мной?
Брат Игнатий вздохнул, постно повел темными глазами, как бы никуда не торопясь, потом сам спросил:
— А сколько людей у тебя, маиор?
Маиор ответил:
— Четыре солдата. Было семь, но двоих повесил за воровство, а еще одного запорол за хищения.
Тогда монах кивнул.
Как затмение нашло с этим монахом.
Доходили до маиора некоторые слухи. Дескать, дерзок брат Игнатий, властолюбив, замечен в странных историях. Но маиор почему-то верил монаху. Жилистый, длинный. Никогда не стеснялся натягивать на рясу кафтан, если следовало заниматься тяжелыми грузами. Вообще не стеснялся подлого дела. Сам взялся набирать нужных людей. Обещал, что найдет людей умелых: и бусу срубят, и сами ее поведут. На вид, может, покажутся суровыми, зверовидными, да кто в Сибири не зверовиден? Правда, люди, отобранные монахом, добирались до Камчатки самостоятельно, но, может, так было проще.
Действительно, как затмение нашло. С некоторых пор маиор стал сильно прислушиваться к монаху. Если кто-то пытался намекнуть, что вот де каков тот монах, и то-то у него не то, и это не так, маиор обрывал намекающего. Ведь сам видел, что опытен зело монах брат Игнатий! Ну, а что у монаха сзади, о том пусть думают в съезжей.
Монах, кстати, не скрывал прошлого.
Сам не раз говорил маиору, что прожил трудную жизнь.
Сам признался, что одно время после казенных служб, после трудных хождений к северу и к востоку, и к югу морем, сильно устал и почувствовал большое желание напрямую послужить Богу. Когда в последний раз ходил на юг Камчатки, дал обещание Господу, что, мол, если вернусь живым, то постригусь. Так и поступил, не обманул. Под Большерецким острожком самолично с несколькими поверившими в его дело казаками связал малую церковку, пошел в послушники, искал любую возможность послужить господу. И когда постригли, отличался особенным послушанием. Тоже сам признался маиору. Истово ходил на молитвы, руками глупо не махал, глядел только под ноги, всегда шел в затылок переднему, дышал плавно. И скоро стал известен. В пустынь к брату Игнатию на Камчатке начали охотно приходить разные люди — послушать святое. …Телеса наши, в гробах согнившие и в прах рассыпавшиеся, возникнут от земли, как трава весною, и по соединению с душами восстанут, и укажутся всему небу перед очами ангелов и человеков, перед очами предков наших и потомков, одни яко пшеница, другие же яко плевелы, ожидая серпов ангельских, и того места, которое назначено, особо для пшеницы, и особо для плевел…
Приходили казаки, приходили промышленные, приходили крещенные инородцы. С изумлением слушали брата Игнатия, дивились — ведь, будучи в миру обычным казаком, он немало жертвовал мяхкой рухляди на нужды церкви. Вот был в казаках неустрашим, и в монахах стал ласков. Видно, насмотрелся слез и бед. Кто бы ни обращался к брату Игнатию, он душевно расспрашивал: как сей божий человек попал на Камчатку? И что привело сего божьего человека на Камчатку? И каким он шел путем, и с каким атаманом, и что встречал на своем пути, и не ходил ли случаем на юг от Камчатки? Расспрашивал, а потом записывал услышанное в специальную тетрадь. Сам, кстати, создал синодик, в который вписал без всяких отступлений имена всех православных, пострадавших на Камчатке за святую божию христианскую веру. И в святой Великий пост, в неделю Правословия, после поминовения благочестивых царей и великих князей, и святейших патриархов, и преосвященных митрополитов, и архиепископов, и епископов, и всего священного собора, князей, и бояр, и всего христолюбивого воинства возглашал каждому павшему на Камчатке, внесенному в синодик, вечную память.
Сердечно возглашал, громко. …Да будет каждому во Христе ве-е-ечная па-а-амять!..
Маиор восхищался.
Какое реяние к горнему! Какие парящие крыла!
С большой охотой слушал добрые мечты брата Игнатия.
Вот со временем воздвигнет брат Игнатий на Камчатке большую пустынь. Пустынь, известно, прямые врата в царство божье. А, может, мечтал, пойдем вместе на острова, найдем гору серебра. Тогда совсем, мечтал, посвящу себя Богу. Поставлю большой монастырь. Покрою стены росписями, с обоих клиросов — певчие. К монастырю пристрою дом призрения — для инвалидов, для сирот, для израненных воинов. Во дворе колодец со святой водой, над ним часовня, в саду яблоньки северные, скамьи вокруг. Дикующие холопы унавозят, оживят землю, злаки посеют. Щедрые пятачки полетят в монастырскую кружку. А он, смиренный брат Игнатий, во славу божью и для пользы России однажды, может, снова, уже на специальном монастырском судне, отправится на юг от Камчатки, чтобы найти, наконец, загадочную страну Апонию и спасти ее бесчисленных язычников, закосневших в безверии, незнакомых с истинным Господом.
Маиор только кивал. Видел, что брат Игнатий добрый человек. Видел, что брат Игнатий говорит правду. Ну, а всякие слухи… Слухи, известно, распространяются в миру пакостниками. Если и убивал когда-то монах, то по праву. Сердце брата Игнатия широко раскрыто доброму, он кается, он молитвами заполняет время, он сутками не встает с колен. Да и кто на Камчатке не проливал человеческой крови? А кается один брат Игнатий.
Набрать команду маиор доверил брату Игнатию.
Нуждался в людях. Последних приведенных из России верных солдат потерял на Камчатке.
Первым, с кем такое случилось, оказался солдат Иван Оконник.
Ивана Оконника маиор держал при себе в особой строгости, зато и доверял ему. Когда однажды брат Игнатий, опустив долу постные очи, сказал, что Иван Оконник замечен в некоем очень плохом деле, маиор поначалу даже не поверил. Как так? Верный солдат увлекся поганым хмельным грибом? Как? Он и винцом не злоупотреблял, а жует хмельной мухомор? Как? Верный солдат, привыкший к воинской дисциплине, впадает в фантазии?
Да нет, решил. Кто-то оговаривает Ивана.
Но через день после жалоб брата Игнатия солдата Ивана Оконника нашли зарезанным в бане. А, может, он сам, употребив гриб, зарезался. Такое бывает. Когда человек нажуется хмельного мухомора и находится в сильном опьянении, он способен вбежать даже в святую церковь и обнажить нож: ишь, дескать, сволота, щас порежу! А еще к такому человеку может явиться в фантазиях сам поганый гриб-мухомор и явственно приказать: убей себя!
Второй солдат, Матвей Изотов, тоже пришедший из России, строил бусу.
Был он грамотен, читал чертежи, привезенные из Санкт-Петербурха, знал, что к чему, что строгать и как ставить. Всегда был прост, ни с кем не ссорился, в пьянстве, в азартных играх никогда не был уличен. Единственная слабость: часто жаловался на жизнь. И короткий кафтан ему неудобен, и бритое лицо вызывает неприязнь, и некоторые словечки не нравятся. Жаловался: самым простым вещам напопридумывали немецких названий! То гоофттовен, то штагген. Такая официя. Вот, жаловался, через те немецкие названия даже мастера перестают разбираться в собственном деле. Простых дворянских робят везут в Гаагу да в Амстердам, там их дурнине учат. Вместо слова корабль начинают тянуть чуждое слово ши-и-ип. А надо бы по-русски, так тоже выходит нехорошо. Вместо одного слова астролябия сразу получается много слов: кольцо для смотрения по солнцу морского бегу, круг медный для смотрения Солнца и звезд. Разве от того проще? Или, скажем, юфферс. Юфферс он всегда и есть юфферс, его от природы считают юфферсом, а если по-русски: юфферс есть блок без шиивен, железом обкованы, где гоофттовен и штагген купно посаждаютца, гаанепоотен чрез сие обстриженны". А? Тоже запомни! С ума сдернешься.
Больше всех грамотный солдат сдружился с братом Игнатием. Вместе лазали по растущему судну. То ныряют в поварню, то смотрят, как шьется парус. Один не успеет доделать работу, другой доделает. Вместе обдумывали путевой припас. В море от тяжелого воздуха люди цынжают, значит, нужен настой на сосновых шишках. Не разлей вода — мастер-солдат и простой монах.
Оттого, может, и учинилось плохое.
Почувствовав себя единственным по-настоящему понимающим в корабельном деле, Матвей Изотов увлекся — пусть по делу, но прямо на глазах у казаков, а главное, на глазах у брата Игнатия начал понемногу дерзить маиору. Твое дело, дескать, Яков Афанасьевич, командовать простыми людьми, а я командую строительством бусы. Ну, чтобы впредь не допускать такого, маиор приказал жестоко выпороть Матвея Изотова.
Выпороли. А на другой день он исчез.
Сбежал?
Только как может сбежать человек, высеченный столь жестоко?
Но потерялся, с тех пор совсем потерялся, совсем исчез грамотный солдат Матвей Изотов, оставив после себя последнего грамотного в команде — брата Игнатия. Темная история.
А вот солдат Лука Юрьев, тот, напротив, сразу невзлюбил монаха. Ко всему придирался, тайно следил за каждым шагом, маиору таинственно обещал открыть что-то известное только ему, Луке, но все не открывал, все тянул, все тайно присматривался к монаху. А к окончанию строительства с лесов сорвалось лиственничное бревно и насмерть Луку зашибло. Шевелил губами, что-то пытался сказать, а не смог.
А последнего солдата-семеновца Фильку Лукьянова маиор сам отправил с отписками в Якуцк. Это брат Игнатий ему подсказал: казаки де на Камчатке разные. Кто честно быстро пойдет, а кто надолго задержится в сендухе по личным нуждам. Иногда на год, а то на три. Коль нужно отправить важные новости, секретно рапортовать, подсказал брат Игнатий, то нужно делать через верного человека. А самый верный кто? Да Филька Лукьянов! Он еще из Санкт-Петербурха с маиором пришел.
Фильку и отправили.
Письма, увезенные солдатом Лукьяновым, были последней весточкой, полученной в Санкт-Петербурхе от неукротимого маиора Саплина. Не осталось с маиором людей, которых знал раньше, от того еще больше доверился брату Игнатию. Тот, сам здоровый, здоровую команду набрал. Рожи у всех, как у медведей, но монаха слушались, как отца. Пробил колокол на молитву, все дружно текли к молельному месту. А если что приказал брат Игнатий, любое дело бросали на полубукве. Майор Саплин, знавший толк в дисциплине, высоко оценил рвение монаха.
Еще умел говорить монах.
На проповедях брата Игнатия казаки никогда не шептались, каждое слово выслушивали благоговейно, поднимали брови в раздумье. …Неверующему чудесам мы смело можем сказать: «Большее из всех чудес есть то, что два-на-десять человек, безкнижных, безоружных, проповедывавших крест, победили не только владык и сильных земли, но и самих богов языческих, и целый свет Христу покорили».
Кажется, уж такие варнаки на вид, сами, лишь отвернись, залезут жадной рукой в церковную кружку, а они — слушали.
Один раз маиор, правда, насторожился.
В неурочный час, когда стемнело, и дождь хлестал, и в природе и на душе скопилась некоторая сумрачность, заглянул к казакам в большой балаган, и сразу странным охватило душу. Во-первых, кто-то в другой выход выскочил. Весь в черном. Если, скажем, монах, то зачем бежать брату Игнатию? Да и не зазорно монаху общаться с дружной командой.
И второе не понравилось.
На стене вроде как доска, вроде как некую икону повторяет, а на той доске углем насмешливо начертано: идут в геенну огненную важные люди. Один идущий впереди — с лицом круглым, как у кота, и усы широко отставлены. Ну, совсем нехорошее дело.
А в-третьих, некоторые из набранной братом Игнатием команды оказались как во хмелю, — глаза блестят, руки в движении и шепот громкий. Маиор вошел, а его не все видят. Один свалился на пол и лежит раскорячившись, пускает долгие слюни, другой сам с собой разговаривает. Сразу видно, что нажевался запрещенного корешка, от души попользовался грибом-мухомором. Вид мерзкий, отмахивается рукой, кричит, как баба: «Боюсь! Боюсь!» — «Чего ж боишься, подлец?» — «Боюсь, что в щель провалюсь!»
— А ты возьми ухват, Федя, — подсказал кто-то из казаков и, дерзко смеясь, совсем не боясь маиора, правда, бросил истекающему слюной Феде ухват. — Ты перекинь ухват поперек щели, не провалишься!
Маиор хотел кинуться, в укор другим заколоть сабелькой хоть одного дерзкого, но сзади повисли на маиоре. Так держали неукротимого, пока не появился брат Игнатий.
— Всех прости, — смиренно сказал. — Трудно людям.
Вышли из балагана молча, впервые настороженно поглядывая друг на друга.
К счастью, уже через три дня читали на берегу молитву отправления. Среди людей ни одного отравленного, вид суров, смотрят строго — все-таки в море идут. Не на один день.
— Грядем во имя твое, спаситель наш, Иисус Христос, сын божий, в путь. Благослови творение твое и помилуй: во дни наши, в нощи, полунощи и во все двадцать четыре часа, всю надежду на тебя, Господи, уповаем и в случае наших, от морских бурь или злых людей происходимых бедствий и несчастий, пошли, Господи, своего спасителя и скорого помощника Николая-чюдотворца, и избавишь нас, грешных, аминь!
Короткая молитва, но нужная.
Плыли. Держали на юг. В тумане не раз теряли дорогу.
Как разобраться в тумане? Несет и несет куда-то, не видно нигде берегов. Если бы не монах, казаки могли взбунтоваться, а так слушали брата Игнатия, терпели, варили кашу. На придирки неукротимого маиора сердились, но тоже терпели. Видно, так монах приказал.
А потом маиор почувствовал неладное.
Перестал лишний раз задевать казаков, чаще хоронился в крошечной каморке, в которой можно отлежаться при качке, спрятаться от пронизывающего ветра. В соседней каморке за тонкой переборкой прятался брат Игнатий. Сами казаки размещались в носовом помещении бусы — в поварне. Монах много молился, но бывало, сквозь тонкую переборку что-то рассказывал маиору. Все у монаха получалось необычно.
— Вот куда заплыли? — спросил маиор, когда однажды разнесло ветром туман. Чувствовал себя в большой олтерации. — Неужто заброшены течениями за край земли?
— Узнаем, — смиренно объявил брат Игнатий, разглядывая вставшую посреди моря гористую землю. — Дай Бог, скоро узнаем… — И добавил, покачивая головой: — Так думаю, что недалеко ушли от Камчатки. Так думаю, что в тумане носило бусу кругами.
— И ладно, что недалеко. Легче будет вернуться.
— Чем дальше занесет, тем больше узнаем, — смиренно возразил монах.
— А путь обратный?
— Обратный путь отыскать легко. Держи в море на полночь, всегда на полночь, и непременно уткнешься в землю.
Маиор всмотрелся из-под ладони:
— Что за земля?
— Может, Пурумушир-остров, — ответил монах все так же смиренно. — Если так, то места известные. Ходили на Пурумушир казаки.
— Чьи?
— Данилы Анцыферова.
— Вора и бунтовщика?
Видно было, что брат Игнатий хотел смиренно кивнуть, но кто-то из казаков, все слышавших, крикнул:
— Совсем не вора, а законного атамана!
— Какой шельмец крикнул такие неистовые слова? — схватился маиор за саблю.
Только зря схватился. В тот день Бог не помог маиору. Навалились на него, в один миг отобрали оружие. Связанного по ногам и рукам бросили в лодку. Со смехом свезли пленника на каменистый берег, хотели сорвать с головы парик, но того брат Игнатий не позволил. «Пусть сидит в парике, — сказал, посмотрев на маиора. — Так прельстительнее». И заставил посадить связанного маиора на большой плоский камень. Рядом на тряпочке разложил синий одекуй-бисер, некоторые дешевые ножи и дешевые украшения.
— Чего ж это будет, поп поганый? — изумился маиор.
— Так думаю, что обмен, — смиренно, но и с некоторым торжеством в голосе объяснил брат Игнатий, нисколько не обидевшись на новую кличку. — Мы, маиор, пошли с тобой в море не для того, чтобы дикующих загонять под государеву шерть. В этом ты, маиор, ошибся. Мы с тобой пошли, чтобы заполучить бусу.
— Зачем вам буса?
— Хотим достигнуть Апонии.
— Зачем вам Апония?
— Хотим достигнуть Апонии, да взять приступом какой городок. И жить будем там тихо, смирно. Жен заведем апонских, детишек наделаем, может, со временем, обратно присоединимся к России вместе с островом. А если Апония, не дай Бог, окажется страной не робкой, то и не будем брать приступом городок, а просто объявим себя государевыми посланцами. Разузнаем подходы к Апонии, ее силу, ее ценность — государь потом все простит. Может, еще тебя заберем на обратном пути. Если выживешь.
— В Апонию? Брать приступами городки? — еще больше изумился маиор. — Да как так? Чужая страна!
— Станет исконной.
— Каналы строить пойдешь! — выкрикнул неукротимый маиор. — Государя хочешь обмануть!
— Знал, что не согласишься, потому и не зову с собой, — смиренно, но и с торжеством усмехнулся монах. — Нужны были нам припасы, пищали, пороховое зелье, маиор. Теперь, благодаря тебе, все имеем. И бусу, что главное. — Покачал головой. — Это даже хорошо, маиор, что ты не идешь с нами в Апонию. Я много тебя слушал. Голова у тебя как ядро, такое ж тугое, хоть и покрыто париком. Куда тебя выстрелили, маиор, туда и летишь.
— Воры! Всех на виселицу! — задыхаясь повторил маиор.
— Какая виселица? Оставим тебя дикующим.
— Собака!
— Это ничего, — смиренно, но теперь уже с открытым торжеством разрешил поп поганый. — Это ничего. Ты ругайся. Русскому человеку всегда легче, когда он ругается. И нас прости.
— Ну, понимаю теперь, — поздно, но дошло до маиора. — Ну, понимаю, о чем хотел сообщить Лука. Ты, поп поганый, нарушил все принсипы! Небось, не случайно придавило Луку бревном?
Брат Игнатий смиренно сознался:
— Не случайно. Чего ж?… И Оконник, маиор, тоже не случайно… И твой Изотов… И Лукьянов глупый… В таком деле случайностей нельзя терпеть… Я же говорю, маиор, что голова у тебя как ядро. Живи дальше, как сможешь. Скоро придут дикующие. Не знаю, может договоришься с ними.
— Это что же? — глянул маиор на синий одекуй-бисер, на дешевые ножи и украшения, разложенные на камне. — Выходит, продаешь дикующим чистую христианскую душу?
— Уж очень ты неукротимый, — рассудительно ответил монах. — Отпускать такого нельзя. Ты лучше оставайся среди дикующих, они сделают тебя холопом. И на нас не будет крови, и сам наберешься ума. Ты мне много вопросов задал, я на все ответил. Теперь ухожу. Задавай теперь вопросы дикующим.
— Языка не знаю.
— Научишься.
Маиор ужаснулся:
— Да кто ты, монах?
— Тебе того знать не следует.
— Вор! Вор! Небось убивал прикащиков?
— Великое дело прикащиков на Камчатке убивать!
— Слово и дело! — в отчаянии закричал майор, пытаясь подняться.
Казаки обидно захохотали. Кто-то предложил: «Зарезать его!» — но говорящего не поддержали: «Пусть сам умрет».
Но маиор Саплин не умер.
Правда, о жизни на острове говорил уклончиво, только иногда прорывалось.
Вот, прорывалось, коль даст Бог счастье, если пойду еще когда-нибудь на бусе мимо нечестивого острова Пурумушир, то непременно выстрелю из всех пушечек и пищалей, которые окажутся на борту, по балаганам людей совсем задиковавшего князца Туги. А потом буду курить трубку и весело смотреть, как полыхают огнем балаганы и сухой лес. И пусть над островом Пурумушир встанут густые непрерывающиеся тучи, черные, как смола, и пусть тугой знойный ветер пожара принесет из пекла запах тоски и страха, а сизый сухой дым выдавит слезы из глаз самого свирепого дикаря!
Не пожар, прямо казнь египетская.
Наверное, неукротимого маиора обижали на острове.
Правда, князец Туга будто бы принял связанного майора с уважением, честно заплатил за него заворовавшим казакам шкурками лис и копченой рыбой, но ведь все равно — осужден в рабство, преследование и всемерное гонение. А казаки, уходя, пальнули из озорства по берегу из пушечки-тюфяка.
Гулкое эхо пронеслось над островом.
Дикующие упали на камни, полежали опасливо.
Потом поднялись и, оглядываясь, уважительно понесли купленного маиора в деревню. Уже там развязали руки-ноги. Видели по глазам, что неукротимое существо, а с другой стороны, куда побежит? Дивились, будто бы с уважением трогая маиора пальцами — на вид невелик, а голова большая. Решили, что парик это такие волосы. Когда маиор попытался снять парик, сильно испугались, и не позволили. Кто ж снимает волосы, когда ему жарко? И каких-то особенных споров из-за нового холопа между дикующими не возникло — отныне маиор обязан был помогать местному князцу Туге. Ловить рыбу, собирать дрова — все у него получалось. Да и не могло не получиться. Птиц на острове много, морской зверь сивуч нисколько не пугается человека, даже сам ругается на него, а в любое озеро пусти стрелу, стрела всплывет с рыбой на наконечнике.
Правда, князец Туга оказался не совсем щедрым, первое время старался кормить маиора битой и кислой рыбой. Идя на нерест, красная рыба меняет цвет, телом худеет, приходит в крайнее безобразие. Нос у таких рыб загибается как сабля, не позволяя прикрыть рта, по всему телу идут серые пятна. Сам князец Туга сидит в балагане, дикует, кушает дымлянку — копченую чистую пищу, приготовленную из гонцов кеты, а холопу своему, бывшему русскому геройскому маиору Саплину, отмеченному многими наградами и благодарностью самого государя, пусть с уважением, но бросает битую рыбу. Да еще требует, чтобы маиор свой костерчик разжигал в стороне. А то, мол, передашь с дымом какую заразу. Ведь неведомо, дескать, откуда завезли тебя на остров и продали по цене в двадцать лисиц, правда, одну крестовку.
Сам князец Туга ходил в богатой одежде, но неряшливо. Убив нерпушку, непременно взваливал прямо на плечо, не боялся испачкаться.
Одно утешение было у маиора: робкий апонец Сан.
Недалеко от деревни в устье речушки выбросило бурей на камни апонскую бусу. Оказались на ней несколько робких мореходов. Попав к князцу Туге, рассказали, что путь их лежал из города Сатцума в город Еддо, но буря вынесла бусу в море, где несчастных носило двадцать восемь дней. Из-за сильного ветра, боясь крушения, апонцы побросили за борт все товары, снасти, якоря, срубили мачту. Пищу, полотно, писчую бумагу, шелк, обувь — все выбросили за борт, плача и утирая кулачками робкие слезы. Под конец руль оторвало. Все же бог моря Фандома расслышал сквозь бурю робкие голоса. Вняв просьбам, выбросил бусу на Пурумушир. Некоторых апонцев дикующие сразу убили, а трое сами умерли через некоторое время от непривычной кислой пищи. Только Сан выжил. По робости своей не винил апонского бога в произошедшем. Они ведь, апонские мореплаватели, обращаясь с мольбой, просили у Фандомы не вкусной и полезной пищи на острове, а просто спасения. Вот бог моря Фандома их и спас. Хорошо, что еще не рассердился на то, что не всегда держали бусу в чистоте. Если по правде, то иногда буса бывала столь грязной, что по чистой воде плыла как бы в окружении грязного и жирного пятна.
Холопствовал апонец у того же местного князца Туги.
Неукротимый маиор, скоро придя в себя и вспомнив о своей официи, будто бы быстро научил апонца некоторым сильным русским словам. Дивясь робости апонца, твердо пообещал — спасу тебя! И такая сила и неукротимость прозвучали в голосе маиора Саплина, что с тех пор, глядя на него, апонец всегда низко кланялся и тряс косичкой. Кланялся даже ниже, чем своему прямому хозяину дикующему князцу Туге.
Вечерами у огня разговаривали о многом.
«Вот ты, Сан, апонец. Я, тебя увидев, сразу понял, что ты апонец. Я, Сан, любую нацию определяю на глазок. Нам с тобой надо дружить. Ты с апонской стороны, а я с русской. Без принсипов, Сан, нельзя. Без принсипов легко впасть в десперацию. Говорят, Сан, есть в Апонии гора из серебра, много о ней наслышан. Знаешь такое место?»
Робкий апонец, конечно, знал.
Низко кланяясь, тряся косичкой, заверял: «Есть такое место на острове». Но на каком именно, сказать не мог, только кланялся и показывал рукой на юг.
Дикующий князец Туга с интересом прислушивался к рассказам холопов.
Сильно своих холопов он не притеснял, только несколько дивился их дикости и отсталости, а еще их больному воображению. Строя значительные гримасы, выслушивал дикие сказки про каменные города, про большие мосты над большими реками, про большие коляски с колесами, влекомые настоящими живыми животными, на ногах которых есть специальные роговые наросты. Вот какие необычные фантазии! — хвастался дикующий князец перед заглядывающими к нему родимцами.
«Если слезы мои собрать, большую корчагу наполнить можно…», — жаловался, рассказывая, маиор. В тяжкой невольной жизни с Саном сдружился, стали они как схимники, известные особенными подвигами — тел своих почти не мыли, питались рыбой, жили под балаганом, как псы, а дикующий князец Туга будто бы и уважал их, но ведь и смеялся над фантазиями. А еще почему-то во снах стал являться неукротимому маиору Саплину убитый на Камчатке прикащик Волотька Атласов, с которым маиор встречался когда-то в Москве в гостеприимном доме думного дьяка Кузьмы Петровича Матвеева.
Придет во сне, сядет на корточки и молчит.
Глаза синие, светел волосом. Смотрит и жалуется молчаливо. Вот, дескать, маиор, зарезали меня воры, умер без покаяния. И не только жалуется, но еще и укоряет маиора. Вот, дескать, ты — герой свейской войны, человек, сильно отличенный государем, так почему не смог разгадать суть подлого монаха Игнашки? Как укрылся смердящий ад от твоего чистого взгляда? Как мог допустить, что до сих пор ходит по земле подлый убивца?
Маиор сперва защищался: откуда ж, мол, знать мне про то, Волотька? Даже сам упрекал прикащика: ты, Волотька, сам имел в сердце жесточь. Вот Данила Беляев тоже умер без покаяния. А это ты зарубил его палашом.
Убиенный прикащик понимающе кивал светлой кудрявой головой, но твердил одно: убит я.
Совсем замучил.
Маиор даже спать стал бояться.
И боялся, пока не научил его робкий апонец Сан некоторой восточной хитрости. Ты, дескать, когда придет твой мертвец, сразу крикни ему в лицо — ступай прочь, поймаю я твоего убивцу! И когда так научил, стало маиору многое ясно. По крайней мере, окончательно понял, что, наверное, это и поп поганый Игнашка резал Волотьку Атласова среди других. Потому, дождавшись казачьего голову в очередной раз, прямо крикнул в лицо: «Уймись, Волотька! Дай спать. Поймаю я твоего убивцу!»
«Тогда спи, — обрадовался Атласов. — Верю тебе». И загадочно наказал: «Только не привыкай к холопству». Кивнул, и больше не появлялся.
А еще через месяц в бурную ночь, в гневе и в отчаянии, помня наказ прикащика Атласова, неукротимый маиор зарезал ножом глупого дикующего князца Тугу, забрал послушного апонца и некоторые припасы, и, как был в тряпье да с грязным париком на тугой голове, бежал на байдаре в море.
Глава IV. Все украшения земли
Прямо днем сорвалась с неба, все вокруг ослепив невероятным светом, яркая, как солнце, звезда. Будто пушка ударила, а потом музыка странная взволновала сгустившийся плотный воздух, темный, но весь изнутри лучащийся призрачным голубым светом.
Длинно вспыхивали, идя к берегу, волны.
Иван перекрестился: считать ли падение звезды знаком? А если считать, то добрый ли знак?
Обернувшись, увидел господина Чепесюка.
Господин Чепесюк стоял на высоком камне, смотрел на море в сторону России, но ничего, конечно, не видел — пусто. Ни лодочки русской, ни апонского паруса, ни даже облачка, чтобы оно было таким же плоским и серым, как облачки над потерянным в пространстве и во времени Санкт-Петербурхом. Стоял господин Чепесюк, молча думал, может, о всех украшениях земли, которые им пришлось увидеть…
А и то, многое видели…
Огнедышащие горы, и морские течения, и стеклянные луны медуз в вечереющих волнах… Островерхие сопки, усыпанные снегом под самое небо, а то целый огромный горный хребет в седом инее, на котором скользят, разбиваются насмерть лошади… А то опять море, так широко открывающееся с такого вот перевала, что от его широты страшно спирает дыхание…
Пожилая птица неспешно присела на ветку корявой сосенки, так же неспешно присмотрелась к господину Чепесюку, и вскрикнула изумленно. Зная привычку господина Чепесюка всегда держаться как бы в стороне, Иван хотел отвернуться, оставить его наедине с пожилой птицей, однако господин Чепесюк перехватил его взгляд. Ничего особенного Иван не отметил, — привычные тьма и бездна, но вдруг пахнуло на Ивана чем-то непонятным, даже ужасным, прощальным, будто, перехватывая его взгляд, господин Чепесюк к чему-то примеривался в Иване, что-то искал в нем.
Сердце защемило.
Вот почему не спит ночами господин Чепесюк? Какую тайну хранит его жестоко изрубленное лицо? Почему именно он послан Усатым искать гору серебра? Почему упала днем яркая звезда с неба? Почему плотный воздух над островом до сих пор взволнован неясной музыкой? Наконец, почему даже неспешная пожилая птица смотрит на господина Чепесюка с изумлением?
По неширокой, но нахоженной тропе поднялись так высоко, что берег остался внизу, как бы в провале.
Гора, похожая на заиндевевшую воронку, как всегда, была вдета острой вершиной в белое колечко тумана, а, может, светлого дыма. За нею истаяли летний балаган и полуземлянка сердитого духа Уни-Камуя со всем добром и тремя переменными женами. Всю ночь перебирая немудреное добро, неукротимый маиор в итоге взял с собой только некоторую лаковую посуду, три квадратных пластинки черного серебра с таинственными знаками, широкий веер, расписанный сказочными птицами и растениями, да кривую апонскую сабельку.
Подумав, бросил в мешок единственную имевшуюся у него апонскую книгу: белые рисовые листы, а по белым рисовым листам будто следы странных птиц, на редкость хитрые знаки. Никаких литер, только хитрые знаки. А между знаками немногие рисунки — то косоглазые люди с кривыми, как колеса, ногами, очень хищные на взгляд и нисколько не робкие, даже наоборот; то красивая морская трава, красиво выброшенная волнами на морской берег; то пенный морской вал, пенно и высоко, как гора, накатывающийся на белые пески.
Все остальное добро маиор решил забрать позже, когда будет отбита буса.
Отбирая нужное, впал в олтерацию, несмотря на прирожденную твердость характера. Вот он кто, маиор Саплин? А он, маиор Саплин, военный человек. Он лично государем приставлен к горе Селебен, охранять серебро. Он несколько лет верно несет службу, не жалуется, время проводит не в задумчивых экзерцициях, потому апонцы и перестали подходить к острову. А раз направил маиора Саплина к горе серебра государь, то только сам государь и может снять его с поста. Ведь отправляя маиора на край земли, государь прямо сказал: терпи, дескать! Вот война кончится, пришлю за тобой русский корабль. Тогда горные рабочие пробьют в горе шурфы, нарежут много пластин серебра, а военные люди покорят окрестности. Вот тогда, маиор, можно будет тебе вернуться в Россию.
А где приказ государя? Где военный русский корабль? Не рассердится ли государь, увидев без приказа вернувшегося маиора?
Отчаявшись убедить неукротимого маиора, Иван решил пустить в ход последний самый сильный довод: знаю, знаю, мол, маиор, хочешь задержаться на острове. Только ведь не ради серебра, не гора Селебен увлекает тебя, а дикующие девки! Не хочешь ты оставить некрещеных переменных жен, оттого и не спешишь в Россию!
Сильный довод, но и опасный.
В неукротимости своей маиор мог не посмотреть на то, что Иван его родственник. Вполне мог уколоть кривой апонской саблей или натравить на него воинственную Афаку, а то и всех сразу переменных жен.
Впрочем, обошлось.
Сам господин Чепесюк проявил интерес к маиору.
Неизвестно, о чем говорили господин Чепесюк и неукротимый маиор Саплин, укрывшись за корявой, как жизнь простого казака, сосной. Неизвестно, говорили ли вообще. Но в летний балаган неукротимый маиор вернулся совсем успокоенным. Он насвистывал военный марш и строго прикрикивал на рыдающих Афаку, Заагшем и Казукч, Плачущую. А Ивану крикнул весело: «Повесим скоро попа поганого! Может, завтра!»
Такой срок дал на осуществление мечты.
Сейчас, взойдя на плечо горы, Иван задохнулся.
Так широко распахнулся мир, что уже не вмещался в дыхание. Приходилось жадно хватать воздух губами, но, опять же, не потому, что забрались высоко, под самое небо, а потому, что вид широкого моря, остро разрубленного внизу длинным каменным мысом, пьянил сильнее вина.
А, может, не одно море было?
Может, это два разных моря омывали берега острова?
Может, на юге, там, где вонзались в небо три грозных вершины, посыпанные серым печальным пеплом, голые, без единого кустика на склонах, может, за теми пепельными горами лежала уже Апония? Может, ее видно с тех гор? Может, видны рыжие потрепанные ветрами сосны и каменные города? И робкие жители в халатах-хирамоно, в тапочках на одну левую ногу?
— Где следы дикующих? Почему не видно следов? — дивился Иван, приглядываясь к узкой тропе. — Не смята трава, камни не потревожены…
Уверенно ступая по камням, маиор Саплин ответил:
— Следы увидишь у моря. Здесь я воспретил всему живому ходить.
Взяв перевал, спустились в долину, где по левую руку сразу резко возвысились ужасные скалистые обрывы, изрезанные водой, сырые от сочащейся влаги, а от того поблескивающие, как огромные зеленоватые зеркала, а по правую руку туманился чудовищный провал под землю, будто сама земля, ахнув, просела, образовав такой чудовищный провал со стенами, отвесно падающими вниз, полосатыми, разного цвета, а совсем далеко внизу взгляд неясно угадывал в колеблющейся голубоватой дымке неяркое водяное сердечко бирюзового озерца, над которым бесшумно клубился и пыхал пар, как будто то озеро кипятили.
— А оно и вправду кипит, — объяснил маиор Саплин. — Так сильно кипит, что в воде можно варить мясо. Только такое мясо есть нельзя, все покрывается оно вредной накипью.
Смеясь, крикнул по-русски:
— Хочешь в Апонию, Сан?
И без того согбенный апонец, улыбаясь, начал кланяться быстро, как бамбук под ветром.
— Вот видишь, — безжалостно сказал маиор. — Ты, Сан, хочешь в Апонию, а пойдешь со мною в Россию, то есть совсем в другую сторону. Так жизнь, Сан, устроена. — Вздохнув, добавил: — Я вот шведа бил истово… Знал, когда победим — отдохну в деревеньке, непременно, считал, крепкую деревеньку получу от государя… А что на деле? На краю земли охраняю гору серебра… Так и ты, Сан. Плыл на бусе, хотел обобрать дикующих и быстро вернуться к себе в Апонию богатым, а тебя вон куда занесло!..
Пообещал:
— А занесет еще дальше!.. Повезу тебя, Сан, в Россию… В Санкт-Петербурхе представлю самому государю. Будешь учить русских гардемаринов апонскому языку. Мы скоро, Сан, широко распространимся по всему миру.
Мечтательно прикрыл неукротимые глаза:
— И по суше распространимся. И по морям… От Балтийских волн до сказочной Америки… И на юг, где моря теплые. Плохо, что ль, омыть пыльные сапоги в таких теплых морях?…
Выдохлись.
Особенно тяжело дался выход к морю, когда пришлось пробиваться сквозь молодой бамбук. Тропа заросла густо, часто терялась. Только куши Татал верно определял направление.
Но вышли.
На песчаном берегу оглушил унылый вопль чаек, нелепые вскрики сивуча, залегшего на близких камнях. Неожиданные порывы ветра срывали с волн пену, бросали в казаков. Зато на песке враз обнаружились следы.
— Здесь много прошло людей, — удивился Тюнька. — Будто с моря сошли, а потом снова ушли в море.
Маиор подтвердил:
— Верно.
И отрывисто приказал:
— Следить за берегом впереди!
Дьяк-фантаст еще больше удивился:
— Почему следить за берегом впереди? Следы-то с моря. И уходят обратно в море. Кто-то высаживался на берег, а потом отступил.
— Молчи, Тюнька! Думаешь, если не повесили, то тебе все можно?
Дьяк-фантаст не обиделся и не испугался, но, присматриваясь, удивился еще сильней:
— В сапогах топтались на берегу. В русских сапогах.
— Как в русских?
— А так… Видишь, вмятины?… — но на всякий случай уточнил у мохнатого проводника: — Твои родимцы в сапогах ходят?
Куши долго что-то объяснял, делал руками сложные знаки.
— Ну? — не выдержал Иван. — Что говорит?
— А он не говорит, он показывает, — развел руками Тюнька, почти ничего не понявший из взволнованных слов Татала. — Он показывает, что тут высаживались на берег не мохнатые.
Спросил Татала:
— Апонцы? — и, не дослушав, кивнул Ивану: — Может, апонцы…
— Тюнька! — покачал головой Иван. — Плохо служишь.
— Да почему?
— Возьми Агеева, следуйте впереди осторожно, как говорит маиор, заглядывайте за каждую скалу, за каждый каменный выступ. Увидите что подозрительное, сразу дайте отмашку. — А казакам приказал: — Ни звука!.. Тихо идти, на цыпочках!..
Далеко идти не пришлось.
Уже с первого поворота, оборотясь, прижав руку к губам, монстр бывший якуцкий статистик дьяк-фантаст Тюнька дал отмашку.
— Ну, чего там? — приблизившись, шепнул Иван.
— Голова лежит.
— Ты чё, Тюнька! Чё несешь такое?
Тюнька растерянно перекрестился:
— Вот те крест! — и присмирнел неожиданно: — Знакомая, кажись, голова.
— Как знакомая?
— Да Похабина, кажись, голова.
— Спятил?
Оттолкнув локтем дьяка-фантаста, Иван легонько глянул в щель между растрескавшимися, густо поросшими мхом камнями. Досадливо оттолкнул локтем прильнувшего сбоку Щербака.
За каменной осыпью, неряшливо попортившей низ обрыва, начинался долгий и широкий песчаный пляж. Ровный, как стекло, хорошо убитый, пляж тускло отсвечивал, как влажное зеркало. Море, вздыхая, накатывало на песок длинные плоские языки, взбивало мутную пену. Длинные языки, вкрадчиво шурша, с двух сторон, играючи, обходили голову Похабина, торчавшую так, будто Похабин вдруг в пески провалился. Еще полчаса, отметил про себя Иван, и захлебнется голова рыжего Похабина.
Сплюнул.
Как может захлебнуться мертвая голова?
А она мертвая?…
Иван присмотрелся, но крови нигде не увидел. Да и какая на песке кровь? Да и голову, выкатило, наверное, волнами.
Пожалел рыжего. Вот ведь как чувствовал рыжий. Вот сильно не хотел подниматься на борт бусы, плыть с монахом. Что случилось на бусе, если голову Похабина выкатило волнами на песок? Не могла голова сама оторваться.
Шагах в трех от рыжей головы Похабина остановилась, выбежав из-за камней, тоже рыжая лиса. Настороженно приподняла правую переднюю ногу, тявкнула, как собака, сделала неуверенный шажок.
Потом еще один.
Вытянув нос, жадно втягивала в себя влажные запахи.
Голова Похабина чихнула. Лиса отскочила, а Иван вздрогнул.
Чихнув, голова Похабина, обращенная бледным лицом в сторону Ивана, сморщилась жалобно, отплюнула набившийся в бороду песок, и выругалась. Да так кудряво, что лиса отступила еще на пару шагов. Иван перекрестился и спросил:
— Зачем ругаешься?
Голова Похабина медленно открыла глаза и снова выругалась.
Крепко сторожась, толкая друг друга локтями, часто кладя крестное знамение, казаки спустились на пляж и обступили голову.
— С небрежением жизнь творишь… — укорил Похабина Иван, останавливаясь над самой головой. — Когда-то сам говорил, что из чахотошных… — И догадался: — Стоя, что ль, вкопан?…
Голова моргнула, отплюнула песок и выругалась. «А говорил, убивать не будет! — услышал Иван хриплый сердитый шепот. — А говорил, что оставит жизнь!»
— Да кто говорил?
— А брат Игнатий.
— Да ты погоди, Похабин, — удивился дьяк-фантаст Тюнька, попытавшись за уши приподнять говорящую голову. — У тебя что, и тело есть?
Похабин обиделся:
— Почему ж нет? Есть. Только временно закопанное.
— Тогда чего жалуешься? — укорил Похабина дьяк-фантаст. — Сказали тебе, что убивать не будут, так ведь и не убили. Вот радуйся, живой ты. Если ты, конечно, живой.
— Отрыть меня надо, — беспокойно моргнул Похабин. — Вода скоро рот зальет, и спина чешется.
Пожаловался:
— Озяб я.
— А буса где?
— В море?
— А ты почему на берегу?
— Выброшен.
— Как такое случилось? — спросил Иван, чувствуя холодный взгляд чугунного господина Чепесюка.
— А так случилось… — непонятно прохрипел Похабин, отплевывая попадающий в бороду песок. — Монах, значит, один затеял уйти в море… Мне сказал, что, дескать, не будет убивать. Не хочешь идти с нами, сказал, сиди на берегу, дурак. Жив останешься, когда-нибудь отыщем… Я говорю, а чего ж не останусь жив на берегу? Я обязательно останусь. А брат Игнатий засмеялся. До этого вообще хотел бросить меня в море, да воспротивились казаки. Похабин, сказали, плохому нас не учил, надо по-человечески поступить с Похабиным. И поступили по-человечески, не бросили в море. Вывезли на берег, для надежности всадили в яму… — Похабин отплюнул набивающийся в рот песок и выругался: — Еще полчаса и затопило бы приливом…
— Погоди, Похабин, — остановил Иван говорящую голову. — Кто вывез тебя на берег?
— Я ж говорю, монах.
— Брат Игнатий?
— Ну да. Гореть ему в аду!
— Да почему же он вывез тебя на берег?
— А я на него кричал. Просил казаков не ходить с ним.
— Куда не ходить? Почему кричал?
— Монах брат Игнатий, подведя бусу к берегу, прямо с утра ударил по дикующим, — хрипло объяснил Похабин. — Сказал, что возьмем у дикующих припас и сразу уйдем. Сказал, что не будем ждать ни тебя, ни господина Чепесюка. Загрузимся съестным, сказал, отнимем у мохнатых мяхкую рухлядь, и уйдем… А вышло совсем не так. На выстрел из пушечки набежало столько дикующих, что пришлось отводить бусу от берега… Алешку Ихина убило стрелой… Я стал кричать на монаха, зачем он порушил общий план? Теперь дикующие обиделись, кричал я на него, они барина Крестинина не пропустят к берегу, а строгий господин Чепесюк вырежет тебе язык, брат Игнатий, чтобы не брался больше командовать!.. А монах в ответ приставил саблю мне к горлу. Ему, дескать, не указ отныне ни строгий господин Чепесюк, ни барин Крестинин. Пускай сперва поймают!.. И обидно захохотал… И по лицу ударил… Хорошо, что не сабелькой, — Похабин снизу вверх испуганно покосился в сторону господина Чепесюка. — А потом брат Игнатий приказал свезти меня на берег и вбить в яму.
— Повесить! — выкрикнул маиор, с ненавистью втыкая сабельку в песок.
— Кого? — испугался дьяк-фантаст.
— Попа поганого!
Тюнька успокоился, а Похабин вяло пожевал губами:
— Теперь не повесишь… Теперь уйдет…
— Куда собрался монах?
— В сторону Апонии.
— А люди?
— Чего ж люди?… Людей он подбирал сам…
— А Карп Агеев?
— А Карп молчит… Он один… — Похабин пожевал губами, отплюнул долетевшую до него пену, и прохрипел с укором: — А ты оставил меня на бусе, барин…
— Откопайте Похабина!
Палками и обломками дерева, в изобилии валявшимися на берегу, потом просто руками казаки начали торопливо отрывать Похабина из песка, а он плевался слюной:
— Не будет ждать брат Игнатий… Сказал, что уйдет в Апонию… Сказал, что нам Бог поможет… — Вдруг вычислил среди казаков незнакомого человека в парике: — Это кто ж будет?
— Маиор его императорского Батуринского полка Яков Афанасьев Саплин, — охотно подсказал монстр Тюнька.
— Чего ж не похож на русского человека?
— Чего мелешь, дурак? — ногой замахнулся маиор.
— Меня сегодня все бьют… — хрипло пожаловался Похабин, скашивая глаза на чугунного господина Чепесюка. — Но я не ропщу… Наверное, так Богу угодно…
Похабина, наконец, вынули из ямы. Он весь дрожал, одежда на нем промокла. Кто-то вытащил сухие портки, чистую рубаху, нашелся потертый кафтан из запасных. Похабин, дрожа, одевался, отвертываясь от казаков. Кто-то легонько подтолкнул Крестинина.
Иван обернулся.
Тяжелый взгляд господина Чепесюка был направлен на Похабина. Кажется, господин Чепесюк видел что-то такое, чего пока не видел Иван. Пришлось незаметно передвинуться на шаг, тогда и Иван увидел белое голое плечо Похабина, которым он отворачивался от казаков. И не зря отворачивался. На том белом плече синели пороховые литеры — вор!
— Пагаяро!
«Молчи!» — взглядом приказал господин Чепесюк.
Под прикрытием скал вздули огонь, согрели чай. Похабин ел и пил жадно.
— Как отошли от берега, — рассказал, — монах брат Игнатий сразу стал командиром. Не зря Тюнька крикнул, прощай, мол, Похабин, запишу тебя в поминальник. Теперь многих можно записать туда… Только отошли от берега, монах собрал людей на палубе. Вот, сказал, как договаривались, так и получилось. Крови христианской на нас нет, и Апония близко. А господина Чепесюка да барина Крестинина жалеть не следует. Они явились на Камчатку за вашими жизнями, особенно господин Чепесюк, тайный человек. Он сам тайный и указ у него тайный — хватать всех и каждого, кто окажется вблизи. На всех на вас, казаки, выданы ему бумаги, на каждого выписан специальный лист. В тех бумагах, засмеялся, есть и твое имя, Похабин… Только я монаху не поверил, — громко объяснил Похабин, глядя только на господина Чепесюка. — Я стал кричать, что сволокут его за такие слова на виску. И вас, дураков, крикнул остальным казакам, сволокут на виску! А казаки что? Они народ темный. Они дружно крикнули брату Игнатию: правильно! И все, как один, решили, что возьмут припас и уйдут на юг. Монах брат Игнатий им грамотно разъяснил: коль вернемся в Россию с апонским богатством, сам государь скажет спасибо. А не захотим вернуться, займем какой теплый остров, как хотел когда-то атаман Данила Анцыферов. Жизнь вольная, привлечем в холопы дикующих. И так грозно брат Игнатий посмотрел на казаков: сказано де в Писании: «И пусть будет ответ твой — да, а нет — нет, и что сверх того — то все от лукавого».
— Что ж ответили казаки?
— Мы верим, сказали.
— Лукавишь, Похабин… — негромко предупредил Иван. — Неужто все так и сказали?… Обратно вкопаю в землю!..
— Так и сказали! — Похабин упал на колени, трясло его уже не от холода. Перехватив взгляд господина Чепесюка, зарыдал: — Правду говорю! Так сказали казаки.
— А Карп Агеев?
— И Карп так сказал. Не мог не сказать. Зарежут!
— Где сейчас буса?
— Думаю, что в бухте уединенной. Вон за тем мысом. Думаю, ждет сейчас монах ночи. Хочет ударить по дикующим. Как ему уйти без припаса? — И быстро сказал, не вставая с колен и все так же не спуская глаз с господина Чепесюка: — Знаю, что надо делать…
— Ну?
— Уходить надо.
— Куда?
— В море.
— На чем?
— А там, за мысом, много байдар… Дикующие сошлись на праздник с других островов… У них хорошие байдары, в таких даже в бурю можно ходить по морю… Тайно обойдем мыс и возьмем две больших байдары, а у остальных прорубим днища. Уйдем на байдарах за остров, на отмелях наколем морского зверя, запасемся водой… Или ночью нападем на бусу… Если подойти тихо, то можно схватить дерзкого монаха. А казаки… Они что? Они убоятся… На них господин Чепесюк один раз взглянет, они и убоятся…
— Как думаешь, Яков Афанасьич?
— Думаю, правду говорит, собака, — пнул Похабина неукротимый маиор. — Нас государь учил: из любой конфузии можно сотворить викторию. А вот схватить попа поганого! — Огляделся: — А до ночи нужно укрыться. Силы скопить. Дикующего Татала при себе придержим, чтоб не сбежал.
— Брат Игнатий хитер, — покачал головой Иван. — Он не подпустит к себе байдары. Даже если подойдем ночью. Расстреляет из пушечки-тюфячка.
— А можно так сделать… — предложил, все еще дрожа, Похабин. — Пусть монстр Тюнька громко крикнет с байдары, что вот де скинули мы господина Чепесюка да барина Крестинина! Они, мол, хотели повесить его, а мы скинули и теперь хотим идти с ним, с монахом!..
— Да нет! — в ужасе крикнул монстр.
Иван отмахнулся от монстра:
— А дикующие?… Услышат они…
— Если попортим байдары, пусть слушают. Вплавь к боту не ринешься, холодно.
— Охрана, наверное, у байдар…
— А как же.
— Значит…
— Значит, зарежем троих, а то четверых, — неукротимо вмешался в разговор маиор Саплин. — Мохнатых от того меньше не станет. Только резать их надо тихо, не то набегут… — И выругался, как Иван: — Пагаяро!
…«…И бросились на нас иноземцы, больше сотни, и берег весь отняли, оттеснили к воде. А бой у иноземцев каменный и лучный. Стали бить каменьем стрелять из луков, даже щит пробивали, так сильно. А буса вора и бунтовщика монаха брата Игнатия стояла на якоре на большой воде, никто оттуда даже внимания нам не выказал. И мы по берегу с трудом пробились к ручью до больших балаганов, и там выстрелили сразу из двух пищалей. И иноземцы побежали как бы прочь, а потом снова выскочили со всех сторон. Такая у них была иноземская хитрость. И пришлось рубить днища лодок, только две из них увели. А вор и бунтовщик монах брат Игнатий, глядя на то наше бедствие, жестокосердно оставил нас, ушел в море». («Рассуждения о других вещах или Кратчайшее изъявление вещей, виденных и пережитых» в записях дьяка-фантаста Тюньки.)
— Поджигай балаганы! — крикнул маиор, шумно выстрелив из пищали в набегающих куши.
— Да Божеское ли дело? Там в балаганах всякая детская мелюзга! — из летних балаганов впрямь доносились вопли и крики женщин, писк и плач детских голосов.
— Поджигай! — неукротимо крикнул маиор, и сам первый бросил огонь в плетеные из сухих прутьев стены балагана. — Бог не допустит бабам да мелюзге сгореть, зато дикующие задержатся. Начнут выхватывать из огня родимцев, вот и задержатся.
Балаганы вспыхнули сразу в трех местах.
В темной влажной ночи, освещаемой высокими столбами огня, казаки шумно скатились на берег, где одна к одной, как сонные рыбы, лежали на песке высоко вытащенные тяжелые байдары. «Скатывай в море! — командовал маиор. — Руби лишним днища!»
Застучали топоры.
Из тьмы набегали тихие волны, забрасывали песок пеной.
Светился в море слабый огонь, там, наверное, гадали люди брата Игнатия, что такое творится на берегу, почему шум и гам, и большой огонь? Гадали, дивились, но не решались подойти близко.
На фоне пылающих балаганов бежали дикующие. Как медведи поднялись на дыбы, подумал Иван.
Свистнуло несколько стрел.
Господин Чепесюк, устав, наверное, махать топором, осел на песок, припал чугунной головой к перевернутой байдаре, приложился ухом к днищу. Иван отметил это случайно, краем глаза, но удивился. Что можно услышать ночью на чужом берегу, прижавшись ухом к днищу пустой байдары?
— Прыгай в байдары! — скомандовал маиор. — Отталкивайся!
— Пора… — нерешительно тронул Иван чугунное плечо прильнувшего к байдаре господина Чепесюка. Даже сейчас не знал, надо ли мешать тайному человеку? Правда, Похабин, по колено в ледяной воде удерживая раскачивающуюся на волне байдару, тоже закричал страшно:
— Пора, барин!.. Поторопись!..
Невдалеке байдара, оттолкнутая от берега гренадером Провом Агеевым, бесшумно скользнула по долгой волне, сгинула в ночном мраке.
— Господин Чепесюк… — обожгло Ивана.
Вдруг увидел: из-под лопатки господина Чепесюка торчит обломок стрелы. Растерялся:
— Как же так? Пора нам…
— После… — загадочно выдохнул господин Чепесюк, слегка приподняв голову. Слышать его голос было странно. Из уголка черных губ тянулась струйка черной слюны. — После…
— Что после? — совсем растерялся Иван.
— Пусть все отдаст… — Силы заметно покинули господина Чепесюка. — После…
— Господин Чепесюк!.. — Иван ошеломленно обтирал ладонью кровь и песок с мокрого лица господина Чепесюка. — Ты ж при мне никогда ранен не был!..
С отчаянием закричал:
— Ну, господин Чепесюк!..
— После…
Огонь наверху разгорался, жадно перекинувшись на сухой лес. Сухие сосенки светились, как зажженные свечи. Похабин по колено в ледяной воде, ругаясь, звал Ивана и господина Чепесюка. Дьяк-фантаст Тюнька выпалил из пищали в сторону идущих, как медведи, мохнатых теней — страшный ночной гром прокатился над островом, будто злой дух Уни-Камуй вправду, наконец, рассердился.
— Что после?… — в отчаянии закричал Иван. — Господин Чепесюк, что после?… Как буду без тебя?… Ты меня не раз спасал!.. — Иван сам не понимал, почему столько боли вызывает в нем вид умирающего господина Чепесюка? — Не надо тебе умирать! Молчи, как молчал!
Господин Чепесюк не ответил.
Упал лицом в песок и больше не шевельнулся.
С обрывов, вопя, валили мохнатые тени. Кто-то рванул Ивана, потащил в сторону от умершего, почти силком бросил в байдару. С уверенностью не мог сказать, действительно ли шептал ему чугунный господин Чепесюк: «После…» Не успел даже легким платком отгородить Чепесюка от мира. «Господи, — отбивался от тянущих его рук. — Прими его душу!»
Глава V. В море
…Нисс — небо.
Кеера — ветер.
Камуй-сиууне — молния.
Упаш — снег.
Кета — звезда.
Чип — байдара.
Сиппу — соль.
Еин киток осива — молчи!.. («Рассуждения о других вещах или Кратчайшее изъявление вещей, виденных и пережитых» в записях дьяка-фантаста Тюньки.)
Туман.
Влажный туман.
Неистребимый, белый вечный туман.
Иван слепо смотрел перед собой, сил не было. Руку протянешь, все равно ничего не видно — одни неопределенные мутные пятна. Шепнул с усилием невидимому в тумане, а потому как бы несуществующему, хотя где-то рядом обретающемуся маиору:
— Я, наверное, умер, Яков Афанасьич… Даже прикащик Волотька Атласов перестал являться… А я ведь просьбу его не выполнил… — Помолчав, добавил главное: — А если не умер, то хочу умереть… Пусть в тумане, но тихо, как христианин…
— Грех так говорить, барин!.. — из ничего, из белой мглы прохрипел голос тоже где-то рядом обретающегося Похабина. — Грех себе желать смерти… Никогда ничего такого не желай. Господь лучше знает, что кому надо…
— Устал…
Неслышно, медлительно наклонился к борту. Упадешь в воду и не станет ничего, подумал. Буду плыть в воде как апонский тапочек на левую ногу… Зато никаких мук не станет… И не надо будет медлительно всматриваться в туман, к чему-то прислушиваться, надеяться… Если дурак Похабин не ухватит за руку, сразу придет конец…
Вдруг вспомнил.
После… Пусть все отдаст…
Но что хотел сказать этими словами господин Чепесюк? Какая тайна стояла за ними? Кому предназначались?… Устал… Упаду за борт и не будет никаких тайн… Даже тумана мяхкого, волглого, от которого чувствуешь себя навсегда заключенным в сыром подвале, не будет…
Наклонился к борту.
Еще немного и можно ткнуться лицом в густую волну, но из тумана с силой выскользнул сжатый кулачок маиора Саплина и отбросил ослабевшего Ивана на дно байдары. Маиор, неясным пятном выступив из сырого тумана, шепнул хрипло, но неукротимо:
— Делай, что должно, и пусть будет, что будет!.. На все воля Господня, Иван… Пока Он не объявит свою волю, терпи… — Силой усадил на скамью: — Берись за весла!..
С тех пор, как опустили за борт умершего от ран казака из молодых Ухова, с тех пор, как в тумане умер на руках Похабина монстр бывший якуцкий статистик дьяк-фантаст Тюнька, остались в байдаре только трое — вконец обессилевшие Иван Крестинин и Похабин, и совсем впавший в неистовство неукротимый маиор Саплин. Любое движение, любой знак маиор встречал теперь как вызов своей судьбе. То начинал рычать, как зверь, пугал Ивана, требовал соблюдения важных принсипов, пытался разорвать руками туман, то пугал Ивана и Похабина, что если, мол, помрете, всех прокляну! Если, мол, помрете, оставите одного в байдаре, не предам ваши тела вечному покою! Что-нибудь ужасное сделаю с вашими телами! И заставлял двигаться Ивана и Похабина, силой усаживал на весла:
— Греби!
А куда грести?
Нигде ничего не видно.
Силой заставлял сосать кусочки изловленной за бортом пучеглазой рыбы.
В великой неукротимости спрашивал сам себя: «Мнилось ли когда, что буду плыть по столь большому морю?…»
И сам себе не верил: «А раньше разве не плавал?…»
И сам себе отвечал: «Какое море?… Один туман…»
И добавлял привычно: «Туман — большое зло… После шведа, может, главное…»
А жалел об одном: «Попа поганого не повесили!.».
Туман…
Буря, раскидавшая байдары, давно утишилось. Тюнька и молодой казак Ухов умерли, господина Чепесюка убило стрелой. Вместе с другой байдарой пропали казак из молодых Щербак, с ним маленький апонец Сан, гренадеры Потап Маслов и младший брат Агеев — Пров. Может, уже и умерли, о том никто не знал.
Молча прислушивались, как в молочной мгле неслышно влечет байдару течением на край света. Иногда сквозь белую мглу высвечивалось неясное зарево. Может, скирда горела на невидимом острову, а может, какая гора огнем дышала. Еще шумно что-то плюхалось в воде, сопело, возилось, гоня волну.
— Может, кит? — слабо дивился Иван. — Их, наверное, ловить можно?
— Кого? — спрашивал из тумана Похабин.
— Китов.
— Ну, поймаешь? А дальше что?
— В Апонию повезем.
— А в Апонии что?
— В Апонии теплое средиземное море, невиданные деревья. Там непуганые олени берут пищу из рук человека. Там толстый бог Фанасома сидит посреди травы, утешает робких апонцев… — Обессилено добавлял: — Вот куда занесло?… Может, давно плывем по апонским водам?…
— Смирись, барин, — советовал из тумана Похабин. — Раз не убило стрелами, не затянуло в морские водовороты, не заморило голодом до смерти, значит, кому-то мы еще нужны. Вот Тюнька помер, и Ухов помер, и самого господина Чепесюка убило стрелой. Они свое дело сделали, а мы живы, несет куда-то… Маиор парик потерял, а нас все несет и несет… Значит, задумано так… Значит, мы еще нужны Господу…
— Да зачем?
— Как зачем? — пугался Похабин. — Разве можно спрашивать такое?
— Может, случайно живем, Похабин?
— Как это случайно? — еще сильнее пугался Похабин. — Не бывает ничего случайного. Лес валится в бурю, падают дерево на дерево, образуется сплошной бурелом, а разве случалось так, барин, чтобы хоть раз сложилась из таких случайностей хотя бы маленькая, хотя бы самая простенькая, даже самая кривая избушка?
Истово клал крестное знамение:
— Все благое от господа, а от человека одно зло. …Каани — железо.
Онууман — вечер.
Алааль — лето.
Киупи — брат.
Ани — огонь.
Насиаата — завтра.
Ешичум — дождь.
Еин кмукаруа — не сплю.
Произносил медленно вслух:
— Насиаата…
— Ты чего, барин? — пугался не видимый Похабин.
— Так дикующие говорят… — А сам помнил: после…пусть все отдаст… — Ну, жалко Тюньку монстра… Большого ума был дьяк… А я его даже не повесил… — И медленно, чтобы каждый слышал каждое слово, читал из книги «Рассуждений о других вещах»: … — «…Объявитель сего билета дикующий мохнатый куши Татал, а по-русски Черныш, вступил в российское подданство текущего сего 1724 года, в чем во уверение учинил присягу с обязательством с его рода платить, когда спрошен быть имеет, ясак с каждого взрослого человека, луком владеющего, и когда потребуется безоговорочно отдавать лис и морского зверя человеку из казны Его Императорского Величества, за что сего дикующего мохнатого куши Татала, а по-русски Черныша, принимать и почитать за верноподданного».
— Умный был дьяк… Полезный государеву делу… — от всего утомленного сердца жалел Иван. — Пусть постоянно подозревал между согласными твердый знак, прямо так и писал — всегъда… взъгляд… и протъчее… а крайне полезный был государству человек…
Всматривался в отсыревшую слипающуюся бумагу. Видел название, написанное собственной рукой: «Рассуждения о других вещах или Кратчайшее изъявление вещей, виденных и пережитых». А ниже Тюнькой добавленное: «Язык для потерпевших кораблекрушение».
— Умный был дьяк, какие длинные знал слова… Был длинный и слова любил длинные… Жаль, нет монстра…
— Зачем жалеть? — смиренно отвечал не видимый, только слабо угадывающийся в тумане Похабин. — Будь Тюнька жив, давно бы, наверное, умер.
Иван без удивления качал головой:
— Может, и умер бы… Но еще всякое записал бы в книгу… Всякие умные рассуждения бы внес в нее, и многие новые слова из языка дикующих… У апонца Сана и у куши Татала узнавал слова, вносил в книгу… Зачем-то записал длинно — язык… И не простой, а для потерпевших кораблекрушение… Понял, Похабин?… Про нас, наверное, думал… Боялся, что занесет нас еще на какой остров…
— Да хватит уж, сколько можно?…
— Этого мы знать не можем… — качал головой Иван. — А у Тюньки был ум… Он, как дьяк-фантаст, широко прозревал будущее… — Намекал строго: — Учи язык дикующих, Похабин. Вдруг пригодится?
— Да где?
— Откуда ж мне знать?
И невидимый маиор доставал из мглы:
— Учи, учи язык дикующих, Похабин… Не может быть, чтобы не приткнуло байдару к берегу…
…А луки из лиственишного дерева оклеены берестой.
А названия стрел: пенш — костяная, уаллакал — железная, каухлачь — каменная, ком — костяной томар, тылшкум — деревянный томар, англьпынш — тож костянуха…
Иван медлительно вглядывался в Тюнькины записи.
Все было там вперемешку — и слова апонские, и слова мохнатых. И просто разные слова были, иногда странные. Например, чуппу. Слово не длинное, а означает сразу и Луну и Солнце. Как так?… Или слово усиху — слуга, а рядом кусиуге — служанка… Откуда у дикующих слуги или служанки, серветьерки, как иначе говорят?… Хотел спросить маиора, потом раздумал. Обидится.
Туман…
Грести уже не могли.
Валялись на дне байдары, сохраняя последние силы.
Окончательно потеряли счет дням. Сколько носит по морю? Может, уже месяц? Может, год? Может, давно занесло байдару туда, где не водится ничего живого? Мысленно вписывал в Тюнькину книгу: …«…Бытность на море всегда в смертельной опасности. Ужасные нужды, труд великий, а еще большой страх. Страх от того, что проходит плаванье в незнаемом море, никаких вокруг берегов, даже неизвестных — одни туманы. Пить нечего. Немного росы с утра, и сок пойманной в море рыбы. Было ли так, что когда-то кушали горячий чай, при этом помногу чашек?»
В тумане пронзительно плакала чайка.
Может, это Казукч, Плачущая, одна из брошенных переменных жен, призывала неукротимого маиора вернуться на свой остров?… …Имена женския:
Каналам — враговка,
Кенилля — мышеловка, ведьма,
Кымхач — не разрожается,
Кайруч — колотье,
Якын — так просто,
Ямга — мор,
Кепион — так просто…
Туман…
Все, что имели (небольшой походный запас муки и вяленого мяса) давно съели. Съели и найденное в байдаре тесто на пресной воде, которое мохнатые куши берут с собой в плаванье.
Иногда чудились острова в тумане. Иногда тенью что-то проходило сквозь мглу. Может, остров… А, может, дьявол дразнится… Иногда вдруг вспоминали: а монах? Где монах? Где поп поганый? Где брат Игнатий, что звался в миру Иваном? Может, видит сейчас каменные городки Апонии? Может, выбирает для приступа совсем какой-нибудь счастливый островок, что позеленей да потеплее — для долгой счастливой жизни?… Твердо решили, что если кто-нибудь выживет, неважно, маиор ли, Иван, или даже Похабин, то выживший непременно отыщет брата Игнатия, сорвет с мерзкого монаха рясу, и повесит попа на первом встречном дереве, никому ничего не объясняя.
А как иначе? Кровь на том монахе! Большая кровь.
Когда Иван совсем ослабел, опять пришел к нему в полузабытье казачий голова камчатский прикащик Атласов. Хмурясь, присел на борт, ни разу не качнув байдару, потом опустил ногу в сапоге за борт и совсем нахмурился. Знаю, мол, о чем думаешь, Иван. Только не бойся, не случится с тобой беды. Ты не утонешь, и с голоду не умрешь, и не съедят тебя дикующие. И на меня так не смотри. Это только кажется, что я пьян или нажевался гриба. Это я от ненависти такой. Верь мне. А гриб жевал вор Козырь, крикнутый бунтовщиками есаулом. Вот Козырю никогда нельзя было верить. Он придет, сядет у огня и похвастается: вот де ходил на собаках зимним путем аж до дальних коряков, и даже дальше. А сам никуда не ходил, сам весь месяц валялся в теплой полуземлянке, жевал мухомор. А если и ходил далеко, то только в болезненных видениях…
Придя и сев на борт не дрогнувшей от того байдары, камчатский прикащик хмуро покачал головой: «Что? Упустили вора?»
Сил не было, но Иван ответил.
«Молчи! — рассердился казачий голова. — Знаю вас. Много роптали, суетой порабощали сердца. Небрежничали в молитвах, об истинной вере легко судили. Не посещали храмы, не исполняли тайных обещаний, данных Господу. Не раз впадали в нечеловеческую ярость, отчего служили причиной чужого горя. Искали господства, разрушали себя пьянством, ложью, невежеством. Не употребляли во благо богом данные таланты…»
— А сам? — медлительно спросил Иван, чтобы отвязаться.
Атласов замолчал, растаял в тумане. И чугунного господина Чепесюка нигде нет. Иван твердо верил, что находись господин Чепесюк в байдаре, давно ткнулись бы носом в какую землицу. Смутно дивился, не понимал, обдумывая последние слова таинственного человека господина Чепесюка. Вот молчал всю жизнь, а в последнюю минуту выговорился.
После… Пусть все отдаст…
Зачем так шептал?
Известно было, что строгий господин Чепесюк и раньше не просто так махал сабелькой, за что порубили ему лицо, а помогал государю чем-то важным, чем-то таким, о чем лично государь до сих пор помнит даже во сне. И если он, Иван, бедный секретный дьяк, выжил в трудной дороге, то опять только благодаря господину Чепесюку. «А скажет господин Чепесюк — убить кого?» — вспомнил Иван свое прощание с думным дьяком Матвеевым. «Сразу убей!» — «А скажет, построй корабль?» — «Сразу начинай строить!» — «Да не умею!» — «Начнешь строить, научишься. И господин Чепесюк подскажет». — «Он что ж, все умеет?» — «Господин Чепесюк умеет все!»
После…Пусть все отдаст…
Горел лес, горели балаганы. Шли дикующие, как медведи на задних лапах. Палил из пищали верный гренадер Потап Маслов. Видно, смешались в последний момент мысли господина Чепесюка. «Пусть все отдаст…»
Зачем так сказал?
Не мог понять Чепесюка.
Спрашивал маиора, неукротимый маиор задумывался.
Сильный человек, отвечал наконец. Сильный и простой. Совсем как тот ученик, в котором нет ни тени лукавства. Господь, говорят, таких видит под смоковницей. И вдруг сам спрашивал:
— Если дальше ничего нет, зачем летят туда птицы?…
— Какие птицы, маиор? …Имена мужския:
Кешкея — не умирай,
Камак — озерная букашка,
Лемшинга — земляной,
Шикуйка — паук,
Чакач — просто так,
Кана — враг,
Имаркин — трава, быстро сгорающая,
Быргач — скорбный,
Талач — кот морской,
Гайчале — просто так…
Туман…
Замерзая во влажной ночи, лист за листом сожгли умную дорожную книгу «Рассуждения о других вещах или Кратчайшее изъявление вещей, виденных и пережитых». И сразу за этим посыпал из тумана снег. Иван заплакал: «Все, маиор… Не могу больше…»
— Молчи, — шепотом приказал неукротимый маиор. — Похабин молчит, и ты молчи.
— Может, умер уже Похабин?
— Он жив… Я чувствую… Молчи, не то ударю тебя… Видишь, рассеивается туман, потому и похолодало…
Услышали шум.
Приподняв головы, жадно всматривались в плывущее молоко.
Правда, рассеивался туман… Поплыли смутные тени, проявились разрывы в тумане. Потом сразу вдруг, хоть закрывай глаза, высветило — берег высокий, каменный, в расщелинах снег, буруны с шумом разбиваются о прибрежные камни, а в разрывах тумана небо темное… Пена белым покрывала полоску берега под скалами, оглушенные морские бобры ныряли в морскую глубь — поскорей забиться в заросли длинной морской капусты, там уютно…
И гора вблизи.
Такая большая, такая в снегу, что страшно. Прямо как на апонских рисунках.
— Уж не Апония ли?
Неукротимый маиор слабо покачал головой. «Теперь все равно… — сказал. — Теперь разобьет в бурунах…» Но в последний раз пересилил себя и скомандовал: «Встать!» И заорал, пинками поднимая сомлевшего Похабина: «Всем встать!.. Весла в руки!.. Я тебя убью, Похабин, если не встанешь!.. И тебя, Иван, убью!.. Но пока жив, никому умереть не позволю!.».
Пахло морем и снегом.
Медленный снег кружился над неизвестным берегом.
Часть IV. Дресвяная река
Годы, люди и народы убегают навсегда, как текучая вода.
В гибком зеркале природы звезды — невод, рыбы — мы, боги — призраки у тьмы.
В. Хлебников
Глава I. Сговор
— Хамшарен!.. Пагаяро!..
Похабин изумленно моргал и негромко ругался сразу на нескольких языках.
Крошечные оконца бани-полуземлянки, затянутые пленкой из сухих медвежьих кишок, слепо и мутно, будто бельмами, смотрели на курящуюся от тепла реку Уйулен. Горбатая крыша пленительно зеленела нежной травой, и тоже курилась. В воздухе далеко пахло древесным дымком. Дым был легче пера, а может, даже еще легче, но звери на другом берегу реки все равно останавливались. Забывая дело, по которому шли, они твердо ставили лапы в жирную влажную землю, поворачивали мохнатые головы в сторону бани-полуземлянки, укрывшейся на подошве чудовищной, белой от снега горы, и принюхивались с любопытством, с осторожностью. Хорошо знали, что нымыланская полуземлянка пахнет берлогой. А тут запах странен, настораживал.
— Нала-коша!.. Илага-пылачиган!..
Похабин сидел на ровдуге, на потертой оленьей шкуре, брошенной прямо в траву. На нем был распахнутый медвежий кафтан, наброшенный на голое распаренное тело. Сидел Похабин по-нымылански, так, что ноги под ним переплелись. Он изумленно моргал, в голове все смешалось от жара. Известное дело: баня парит, баня правит, баня все поправит, но только глупым нымыланам приходит в голову водить дружбу через баню; очень истово, даже очень и очень истово топил баню неукротимый маиор Саплин. Шагни вовнутрь, спирает дыхание. Как при входе в ад.
— Хамшарен!..
Похабин сплюнул.
Подняв мокрую голову, с привычным изумлением, с привычной тоской уставился на ужасную по величине снежную гору.
Богатейшая страна Камчатка. И не только горами.
Летом на версту от берегов — вонь. Так много идет рыбы в реках, что лесной зверь брезгует ступать в воду, рыба сама выпирает себя из переполненного русла. А в море богатый зверь — сивуч… А на берегах — олешки… Нигде не жил так спокойно, так сытно Похабин, как на тихой камчатской реке Уйулен, под ужасной снежной горой, закрывшей собой полмира. А все одно — тоска.
Год прошел, как вышли к балаганам нымылана Айги неукротимый маиор Саплин, секретный дьяк Иван Крестинин и простой человек с пищалью в руках Федька Похабин, а трудно было привыкнуть, такой оказался край.
Айга, увидев Крестинина, изумленно вскинул над головой руки:
— Аймаклау!
Изумленно развел руками:
— Брыхтатын!
Такими словами хотел выказать свое большое удивление, даже немного страх. Вот, хотел выказать, пришел к балаганам из падающих снегов истинный брыхтатын — бородатый огненный человек, большой, жилистый, с огненным взором.
И даже не один.
Сразу три огненных человека.
Об огненных людях нымылане только слышали, это дальние нымылане изредка встречали их. Назывались огненные люди — русскими. Айга знал, что приходят они издалека. Наверное, дома у них все плохо, подумал Айга, увидев жилистого Крестинина и его спутников. Вот какой большой, вон какой сильный, вон какой бородатый брыхтатын, а видно, что у них там дома, где они живут, все плохо. Если бы хорошо жили, так далеко не ходили бы. Наверное, жирной оленины у них мало, подумал Айга, потому и идут к нам. И одновременно восхитился:
— Аймаклау!.. Большой!..
Так и стали звать Ивана на тихой реке Уйулен, от дальних ее истоков до дальнего мыса Атвалык. Когда-то называли Пробиркой — за общую тихость и особенную бледность лица, которую пьющий человек может приобрести только в Санкт-Петербурхе, а теперь — Аймаклау!
К Айге с моря поднимались тяжело.
Питались мясом оленя, убившегося на их глазах, — сорвался с берегового обрыва. Дважды видели на берегах осенней реки камчадалов: один раз бабу в мужичьих штанах, в другой раз мужика в хоньбах — тоже как бы в штанах, но пришитых прямо к душегрейке. Бабу хотели схватить, но баба убежала. Хотели схватить мужика, чтобы показал дорогу к людям, и тоже не смогли. Мужик ловко прятался за деревьями, вскрикивал как леший, в руки не давался, и некоторое время даже следовал за их байдарой по берегу. Правда, леса по берегам оказались такими густыми, что мужик в хоньбах отстал.
Байдару сбивало течением, на фоне высоких белых облаков плыли тучи, черные, как вода в омуте. Похабин сказал печально: «Помрем… Зима скоро…» Даже неукротимый маиор поежился: «Зима — подкоп под фортецию чувств… Отеческой аттенцией государя… Надо зимовье ставить…»
— Балаганы, — подсказал Иван.
— Нет, не балаганы, — упрямо возразил маиор. — Зимовье.
Без особого выражения, не усмехнувшись, Иван повторил:
— Говорю, балаганы…
Обернувшись, поняли, о чем говорит Иван. Увидели на берегу широкую травяную поляну, открытую на реку, а на поляне полуземлянку и несколько балаганов. Там же, на берегу, под шестами для вяления больших рыб стояло несколько камчадалов, в основном бабы. Лица круглые, посредственной ширины, а брови густые и широкие. Только у одного камчадала угадывалась борода, совсем узкая, жидкая, в отличие от островных куши, а волос на всех был черный. При первом взгляде чувствовалось, что вообще человеческий волос в этих местах густ, как в лошадиных хвостах, но на головах баб заплетено много косичек. Глядя на огненных людей, возникших на реке, камчадалы испуганно жались в кучку, но за оружие не хватались — только перекрикивались друг с другом с нелепым протяжением в голосах и с разными удивительными телодвижениями.
— Дикующие! — удивился Похабин, и потянулся к пищали.
— Молчи, Похабин, и убери руку с пищали… — негромко предупредил Иван. — Сил у нас нет ссориться с дикующими… Если выстрелишь, некуда будет деться… Нам дружба нужна, Похабин, чтобы не одним зимовать в лесу. Сиди смирно, сделай приятное лицо, и не пугай дикуюших.
Оглаживая бороду, Иван первым, не торопясь, поднялся на берег.
Так же не торопясь, знаками показал Айге и его дочерям, что вот они на байдаре — совсем простые люди, а пришли с моря. Сильно жалел в тот момент, что нет рядом монстра якуцкого дьяка-фантаста Тюньки, тот умел говорить хоть с коряками, хоть с куши, хоть с камчадалами. Без дьяка-фантаста самим надо было учиться чужому языку, даже самому трудному. Понимали, что уйти с неизвестной реки без помощи проводников невозможно, а проводниками могли быть только дикующие. Позже, зимой, когда подружились с Айгой, с удивлением узнали, что Айга никуда не согласился бы их вести. Например, к корякам вести — убьют. Коряки всегда убивают русских. Да и вообще всех чужих убивают. Увидев чужого, сразу начинают орать всем горлом, сами себя пугаются и начинают драться… И к керекам вести нельзя. Кереки тоже всех чужих убивают… И к другим нымыланам, к таким, как он, Айга не мог вести. Так объяснил: и дальние и ближние нымылане пугливы, себя называют просто жителями, никуда далеко не ходят, а русских боятся, называют их — брыхтатын, огненными людьми. Он, Айга, и сам раньше от многих нымылан слышал, что у русских усы торчат, как у моржей, наконечники их копий длиной в локоть, не меньше, а глаза из железа — круглые и черные. А нымылане, они пугливы. Увидя таких страшных людей, от природной робости бросятся в реку и утонут… А вот если идти к чюхчам, доходчиво объяснил Айга, то уж лучше самим сразу броситься в реку. Чюхчи русских людьми никак не признают, считают их — хамшарен, собачьим отродьем. Увидев русского, немедленно стараются его убить…
Например, такое рассказывают.
Жила маленькая чюхочья девочка, по имени Гынкныт.
Однажды сторонние люди, не чюхчи, собрались в шатре для благодарственного жертвоприношения. Они закрыли дымовое отверстие и стали петь. Некоторые весело пели — кеу, кеу, кеу, а другие совсем как лаяли — коон, коон, коон. Услышав такое, хозяйка шатра, которая стояла снаружи, сказала чюхочьей девочке Гынкныт: «Посмотри туда. Зачем так поют?» Девочка Гынкныт нашла маленькую щель и заглянула в шатер. А в шатре людей уже не было. Там были только одни собаки. Тогда чюхчи избили их. Часть собак испугалась, убежала на запад и там сделались русскими. А некоторые остались собаками, чтобы чюхчи могли использовать их для езды.
Зимовали у Айги.
Сперва никому старались не попадать на глаза.
С самим Айгой подружились, подробно вызнали все известные пути к югу и к западу, в те места, где, по слухам, появляются русские. Вернуться к морю было, конечно, проще — спускайся да и спускайся вниз по реке, но что делать на море без большого припаса? Да и не уйдешь далеко на старой байдаре.
А хотелось уйти.
Иногда сильно хотелось.
Если бы не Иван…
«Хамшарен!.. — Похабин изумленно качал горячей всклоченной головой: — Ох, барин!.».
Как только ни уговаривали Ивана, что только ни говорили, у него ответ был еа все один — рано уходить! Еще не всех дикуюших обьясачили, не со всеми нымыланами свели дружбу, не осмотрели земли, что лежат вдоль реки! Еще даже не проверили необычный слух, что якобы на мысу Атвалык, чуть ли не у родимцев Айги, появился недавно странный человек — выплеснуло его из моря. Строг, бородат, говорит по-своему. Вдруг, думали, это кто-то из своих людей, которые ушли с острова Симусир второй байдарой?… Или кто-то из людей с бусы, уведенной попом поганым Игнашкой?…
— Сипанг!.. — изумленно ругался Похабин. — Нала-коша!.. Пагаяро!..
Если б не баба!
О, если б не баба, давно ушли!
Моргнул изумленно. Вот скоро вернется барин, сильно удивится переменам.
Месяц назад Иван оставил Похабина и маиора в самом простом балагане, а теперь на берегу стояло настоящее зимовье. Пусть тесная, пусть невысокая, но деревянная изба, а не какая-то сырая полуземлянка. Рубить начинали вместе, но довершили дело Похабин и маиор.
А еще больше, сплюнул Похабин, удивится барин другому.
Сойдет на берег, громко крикнет друга сердешного Айгу, а сердешного друга нет, сшел с родных мест друг сердешный и шишиг своих свел с собою. Ну, ни одной не оставил шишиги, и сам не остался!
А как зимовать без Айги?
Да никак.
Похабин изумленно моргнул.
Увидит барин, что остались на реке совсем одни, ни баб, ни Айги, сразу поймет — пора уходить. И не куда-нибудь, а к русским. Пора искать русских на юге или на западе. Не сидеть же всю жизнь среди дикующих! Ох, удивится барин, подумал Похабин, впадая в некоторое сомнение. Как это, дескать, сшел сердешный друг Айга? Как это свел куда-то своих шишиг? Как это свел куда-то меньшую Кенилля — белоголовку с белой прядкой в густых, черных, как сажа, волосах?
Кенилля…
Ужас как ловко выбегала Кенилля из балагана.
Круглая, крепкая, выбегала из балагана, кричала высоким птичкиным голосом, заставляла Ивана вздрагивать. На маленького неукротимого маиора всегда смотрела с испугом, на рыжего Похабина с отвращением, плевалась, воздевала руки к небу, снова пряталась в балаган, нашептывала колдовство на рыбью голову, а потом убегала на речной остров, колдовала на острове над деревянным болваном. Сестрам-простыгам постоянно твердила (Похабин сам слышал), что русские, они как голодные чайки. На Ивана глядит жадно, а сама твердит, что русские, они де всегда не сыты, всегда ищут пищу. Наша еда, олешки, сама на ногах ходит, наша еда, коренья, сама в земле растет, а у брыхтатын, у русских, нет ничего такого, поэтому у них глаза всегда голодные и всегда блестят.
Дивилась.
Люди — разные.
Ительмены, например, лживы, спесивы, много едят, много похваляются. Вот убьем всех, похваляются. Одулы, наоборот, простодушны. Увидят, что тебя комар мучает, из простого простодушия, пожалев, могут тебя убить. Им, к слову, старую собаку легче удавить, чем из урасы ее выгнать. А коряки, наоборот, жестоки. Те коряки совсем как чюхчи, только чюхчи еще жесточе. И русские умеют так смотреть на тебя, будто ты дерево или балаган.
А Иван другим казался.
Кенилля смотрела на Ивана особенно.
Думая так, Похабин изумленно чихнул. Вот край такой!
Ужасные горелые сопки под небо, снаружи покрыты снегом, а внутри, наверное, горячие — дымят, как старые очаги, иногда шум изнутри слышен, треск и будто сильными мехами раздувание, от чего дрожат все ближние места. Лопухи вымахивают в человечий рост, земля заросла травой-шеламайником, в которой, как в лесу, можно потеряться, вода в некоторых ручьях горяча, земля так дрожит, что падают самые крепкие балаганы. Чего ни коснись, все устроено богато, но как бы на короткое время, не навсегда, все как бы на скорую руку. Так бог Кутха работает. И камчадалы от такой его работы — пустобороды, узки плечами, легкомысленны нравом. И веры у них никакой — шаманят. Бьют в бубны, громко кричат. Обувь носят оленью, подошвы нерпичьи, в такой обуви можно долго плясать, а парки у них, зимние балахоны, из нерпичьей шкуры — рукава перехватывают узорами, подолы расшиты.
И всегда камчадалы как бы торопятся.
Даже когда ничего не делают, все равно как бы торопятся.
«Уга! Уга!» — кричат на собак, хотя можно и не кричать. К берегу подплывая, издалека обращают внимание: «Намкын толухтат!» Теплого дня, значит. И Кенилля, ведьма малая, белоголовка, мышеловка проклятая, тоже, как птичка, кричит по утрам: «Намкын! Намкын!» Вернется барин, сильно удивится, покачал головой Похабин. Может, сгоряча схватится за нож. Зачем, дескать, поторопился, зачем поспешил покинуть богатую знакомую реку, зачем сшел со знакомой реки сердешный друг Айга?
А мы так ответим:
«Дела у Айги».
И скажем прямо:
«Пора, Иван. Пора возвращаться в Россию!»
Барин, конечно, скрипнет зубами, но тогда скажет маиор:
«Ты не балуй, Иван. Сшел на нос Атвалык Айга, чтоб взглянуть на человека, будто вынесенного морем к его родимцам. Такова официя. А то вдруг русский? Сам знаешь, как трудно среди чужих одному».
Барин еще раз скрипнет зубами, но официя такова.
Похабин сплюнул.
Не сшел пока Айга.
Кричит пока по утрам птичкиным голосом белоголовка Кенилля.
А барин где-то плывет по реке. Месяц назад ушел навестить нымылана Кеку, большого умельца по охоте на красных лис, и вот все плывет, плывет, наверное, скоро вернется.
Не сшел пока Айга.
Задыхаясь, сидит в облаке жгучего пара, заполнившего баню-полуземлянку.
А в таком же облаке сидит перед Айгой маленький, но неукротимый маиор Саплин. Поддаст воды на раскаленные камни, ухнет, укорит Айгу:
— Как так? Сам прямой, а девок рожаешь с ногами круглыми, как колеса.
— То не я… — шипит Айга от жара, пряча хитрые глаза под ладони. — То бабы рожают…
— Ну да, бабы, — соглашается неукротимый маиор. — Ты бы, конечно, других родил!
Сидит Айга, отец шишиг, отец простыг, дикующих девок, прямой родимец ведьмы белоголовки Кенилля, сидит в баньке напротив неукротимого маиора, задыхается от жары, потеет, жадно пожирает жирную пищу, совсем голый, как положено гостю, и неукротимый маиор перед ним — в чем мать родила, как принято среди нымыланов. Известно: решил свести дружбу с нымыланами, поступай как они. А они всегда так поступают.
Похабин сплюнул.
Кенилля, ведьма, нинвит, выглянула из недалекого отцовского балагана, сверкнула черным ведьминым глазом. Будто чувствует, что решают ее судьбу. Сглазила барина, к себе привязала, привязала к дикой земле, засыпанной горами, заросшей лесом, иссеченной многочисленными реками. И он, Похабин, застрял тут из-за ведьмы Кенилля, белоголовки дикующей. И неукротимый маиор Саплин. Бросили бы барина, одни ушли, да жалко — вместе проделали такой путь. Барин — русский, как бросишь?
Изумленно моргнул, отмахиваясь от ленивого комарья.
Слов нет, Камчатка не худший край. Болезней мало, болотной горячки вовсе нет, молнии, правда, часто бьют, но ведь не целят специально в человека. Березка в лесу плотная, черная, а все ж березка. И рябина есть, и черемха. Вся подошва черной горелой сопки — долгая, уходящая вдаль в дымку, поросла черемхой, березкой, упругим ольховником. А другая сторона сопки… Айга не раз говорил, что обратная сторона резко падает в море, такое большое, что даже с гор не видно никаких островов.
«Как не видно? — сердился маиор Саплин. — А те острова, с которых нас пригнало? Неужто и с гор не видно?»
«Ни одного, — уверенно отвечал Айга. — Совсем ни одного».
«А вот ножом ударю!» — сердился маиор.
Айга смеялся на такую шутку, покачивал круглой, как кочка, головой.
Переносица вся иссечена шрамами, будто рубили ее ножом, глаза влажные, черные. По простоте рассказывал все, что знал. Например, рассказывал: горелая сопка круто обрывается в море. Если от ее подножья идти на полночь морем, непременно наткнешься на чюхоч. Такого, правда, никто в здравом уме не делает. Да и спуститься к морю можно только по реке. Через гору тоже никто в здравом уме не ходит — нет там троп, одни болота-ржавцы да заросли стланика.
Ходят по рекам.
Реки на Камчатке как улицы в русском городе.
По берегам — брусника, шикша, жимолость. Встречается еще ягода, что крупней куриного яйца, а на вид зелена, а на вкус — настоящая малина. На деревьях, правда, пусто, никакого овоща нет. И хлеба нигде никакого нет. Ничего такого не произрастает.
Вот хорош край, а пустой.
Спрашивается, зачем такой край человеку?
Слушать шум волн, смотреть на белые снега, густо покрывшие горелую сопку? Следить за течением реки? Читать молитвы, среди ягод и грибов упав на колени? Нет, покачал головой Похабин, с нас хватит. Оторвем барина от ведьмы Кенилля, сведем в Якуцк. Оно понятно, вернувшись, барин будет сердиться, будет вскрикивать — куда, мол, сшел друг сердешный Айга? Куда, мол, свел белоголовку Кенниля?
А кто знает?
Известно, дикующим все равно куда идти, у них на всех сторонах родимцы да балаганы. Барин пошумит, пошумит, а потом согласится, не дурак — пора домой, пора в Россию. Поймет, что без ведьмы Кенилля нет на Камчатке никаких особенных дел.
— Аан гич!.. — диковинным голосом крикнула какая-то птица на реке. И Похабин от того крика очнулся, изумленно моргая, обернулся к баньке.
Из облака пара, как из взрыва, вывалился на ровдугу нагой и дымящийся маиор. Нижняя губа неукротимого маиора была неистово оттопырена, он хватал ртом воздух, серьга в оттопыренном ухе тряслась. Пластом упал на ровдугу, на губах запеклась пена, руки жирные, скользкие — он ими только что жир пластал. С отвращением оттер о траву руки. «Это как же так, Похабин? — пожаловался. — Это как ответить на эскапады? Айга во всю дикует. Ест и ест, на него жар не действует, жир не действует. Он щерпы таз выхлебал, теперь жрет оленину. Подкоп ведет под фортецию чувств, и все щурится, всем доволен».
Спросил:
— Может, зарезать Айгу?
— Ты что! — перекрестился Похабин. — Нам так надо, чтоб Айга не умер, а сам мирно сшел с реки… — Махнул рукой: — Угощай Айгу жиром. И пару поддавай больше. Совсем, маиор, не жалей жаркого пару.
Маиор, прищурясь, снова нырнул в жгучее жерло баньки.
Копя силы, Похабин раскинулся на ровдуге. Знал: в баньке темно, в баньке камни раскалены, жар плотен. Айга на полу — весь распотелый, в пятнах пепельных да багровых, рот набит жирной пищей, а маленький, жилистый, неукротимый маиор, скалясь, тоже весь голый, на коленях потчует гостя. В левой руке маиора ремень китового жира, накроил целый тазик таких ремней, в правой — нож. Не на утренний завтрак, не на фриштык зазвал дикующего. «На! — кричит с сердцем маиор. — Вот тебе надо все съесть! От души угощаю!» И в рот Айге вложив, сколь можно, режет жир у самых губ гостя: «На, Айга! На!»
А иначе как? Иначе нужного не добьешься.
Свести дружбу с Айгой предложил маиору Похабин.
Маиор сперва удивился:
«Без Ивана? Зачем?»
«Да для барина, — ухмыльнулся Похабин, почесывая пальцем заросшую рыжей бородой щеку. — Пока ходит по реке, мы по местному сведем дружбу с Айгой. Сам знаешь, пока сидит здесь ведьма Кенилля, барин никуда не пойдет. А мы с Айгой сведем дружбу по-нымылански — с банькой, с жирной едой. Подарки дадим Айге. А за те подарки твердо потребуем — иди вниз, Айга! Иди к морю, друг сердешный! Сам говорил, что у моря сидят родимцы. И шишиг своих сведи к родимцам. Заодно узнаешь для нас, какого человека выметнуло морем на берег. Так и уйдет Айга со своими простыгами. А без ведьмы затоскует барин. Поймет, что не нужен больше никому».
Похабин вздохнул.
Ох, пора и ему нырять в баньку, гудящую от жара.
Вот вроде и отдышался, а все равно перед глазами марево.
Айга просто объяснял — это от тесноты духов. Айга так объяснял: у них, у нымылан, так много духов, что в солнечную погоду рябит в глазах. Когда плывут перед глазами темные пятна — это летают многие нымыланские духи. Они везде — и в болоте, и в лесу, и в воде. Они и на горе, и в озере, и в воздухе. Разве может быть пуст воздух? Разве может никого не быть в колоде гнилой? Разве можно смеяться над огнем? — в огне мириады духов, больше, чем звезд на небе. Везде духи! Не заручившись настоящей дружбой с Айгой, нечего и думать пробиться сквозь такие страшные сонмища — заворотят, собьют с пути, как лешие в русском лесу. Не заручившись дружбой с Айгой, нечего и думать просить его покинуть стойбище, увести шишиг, в крайнем случае, хотя бы белоголовку.
Похабин ухмыльнулся: Айга, наверное, думает, что мы по глупости хотим свести с ним дружбу. Наверное, уже прикидывает, какой такой подарок попросят глупые брыхтатын, русские. Думает, наверное, что попросят русские олешка. Или двух. А может, даже трех олешков попросят недалекие русские, чтобы каждому вышло по одному.
А мы нет, ухмыльнулся Похабин. Мы совсем другое попросим.
Знал, если хочешь получить от нымылана что-то нужное — заручись его дружбой, заручись крепким его согласием. Зови выбранного нымылана в гости, веди в балаган, сажай в жаркую баню-полуземлянку. Вежливо говори: койон! Улыбайся вежливо: на пол садись, сюда! Вежливо говори: катваган, то есть, садись на пол, садись сюда поудобней! И с гостем, раздевшись, берись за разное заранее приуготовленное кушанье, шумно потчуй гостя, шумно радуйся вместе с ним, веди беседу, не забывай обдавать водой раскаленные камни. Чем жарче банька, чем жирней пища, тем лучше. Потчуй гостя так, чтоб пот обильно стекал по лбу, чтоб пища сама садилась в желудок, а тело горячо обмякало от сытости и жара. Потчуй так, чтобы гость, сомлев, сам первый запросил свободы и воздуха, чтобы сам первый признал себя побежденным…
А сомлел гость — все!
Сомлел гость — смело требуй желаемого.
Гость обязан отдать все, что ты у него попросишь. Хоть дочь родную. У них, у нымылан, такой закон. Собаки, меха, домашнее борошнишко, олешки, ягоды, переменные жены — все твое, на что укажешь. Ни один нымылан никогда не пойдет против обычаев.
Но, понятно, нужны отдарки…
Богатые отдарки Похабин и маиор приготовили заранее, чтобы Айга не надул губы, не почувствовал себя обиженным — русский ремень кожаный с выдавленным на нем рисунком, да две русских надломленные деревянные ложки с остатками цветной росписи, да немножко бисеру голубого. Вот Айга угорит, наестся жирной пищи, напьется тяжкого давежного вина, сдастся — потребует прохлады, воздуха, воли, тогда они, маиор и Похабин, стребуют с Айги подарок.
Айга сильно удивится, узнав, чего от него хотят. Всего-то увести к родимцам Кенилля? Всего-то шишигу, нинвит, ведьму, дочку глазастую, черную, с белой прядкой на голове, черной как сажа, увести к родимцам? Не отдать навсегда, или там на год или на два в переменные жены, а всего лишь увести к родимцам на берег моря? А на берегу посмотреть на человека, которого выметнуло волной на берег? Всего-то?
Айга удивится.
Глупые русские! Всего-то шишигу Кенилля увести к родимцам! Поднимет в изумлении брови, как бы не понимая:
— Ну?
Тогда Похабин повторит, не смущаясь. Дескать, ты, Айга, сам говорил: есть нос у моря под прозванием Атвалык, а на том носу живет твоя другая переменная жена. И еще ты говорил, Айга, на тот нос якобы выкинуло волной какого-то человека. Вот и пойди к своим родимцам с шишигами, проведи зиму у моря. Мы так желаем, Айга. Это твой нам подарок.
Сперва Айга из уважения как бы не поймет. Будет куражиться, будет нелепо чихать, щурясь на Солнце. Всем голосом, с клекотом, как известная водяная птица гусь, будет спрашивать — зачем идти так далеко? Я лучший другой подарок дам. Я вам жирного олешка дам. Я трех лисиц дам. Буду помогать на охоте. Балаган поставлю новый. А на нос Атвалык пошлем какую другую шишигу.
Тогда скажет неукротимый маиор:
— Молчи, Айга! Мы дружбу с тобой свели. Нарушать обычаи — зло. После шведа, может, главное. Веди белоголовку на нос Атвалык, пусть там кричит своим птичкиным голосом. Клянусь пушками, так будет лучше. Пусть поживет шишига среди родимцев. Принсипы, Айга, прежде всего! Никак нам нельзя, Айга, без принсипов!
Айга еще сильней удивится, но не станет переспрашивать, зачем надо идти на мыс Атвалык. Он даже не будет переспрашивать, зачем брать с собой Кенилля. Он только обрадуется — ну, совсем глупые русские! Могли жирных олешков взять, могли быстрых собачек взять, могли лисиц взять, а вместо этого говорят — иди к родимцам!
Считать такое подарком!
Конечно, имени Кенилля никто во все время переговоров вслух не произнесет. Речь у нымылан о бабах всегда сторонняя, всегда как бы стороной, не впрямую. Они вообще не будут называть никаких имен. Издалека только, стороной, всякими такими далекими намеками. А то, не дай Бог, подслушают злые духи. У нымыланов с этим строго.
Похабин вздрогнул.
Из пыхнувшей паром баньки, неукротимо охнув, вывалился, упал на вытертую ровдугу маиор. Мокрая борода неукротимого маиора сбилась на бок, мокрые волосы облепили лоб, глаза горели чернью и страстью.
— Угорел? — испугался Похабин.
— Айгу кормлю. Сильно ест Айга.
— А ты вина ему подливай! Вина давежного подливай!
— За вином и вышел, — жадно хватая губами воздух объяснил маиор. — Выпили все вино.
— Ты сам не пей, — напомнил Похабин, указывая на берестяную корчагу. — Здоровье разрушишь.
Не зря напоминал. Травное вино на Камчатке зовут давежным. Оно тяжкое, едкое, сердце нещадно давит. Кровь от него в жилах садится, чернеет, а все равно пьют травное вино, прислушаться чтоб к фантазиям. Напомнил:
— Ты Айге подливай чаще. Надо, чтобы Айга побольше пил. Жарко да пьяно, да жирной пищи по горло, тогда запросит Айга пощады.
Забрав корчагу, перекрестившись, распаренный маиор, как в жаркую печь, вновь нырнул под закрышку бани, стреляющую струйками пара. Но тут же выглянул:
— Похабин, Айга зовет!
— Свободы просит?
— Да нет, бодр дикующий. Тебя хочет видеть. Пускай, говорит, придет второй бородатый. Дружбу, говорит, желаю сразу свести с обоими.
— Зачем? Это нам отдарки удвоит.
— Молчи, Похабин! Иди, угоди дикующему.
Похабин с неохотой поднялся. Багровый, потный, нырнул под закрышку. Сразу полыхнуло в лицо огнем, обожгло влажным жаром. Еле выговорил — лицемерно, с укором:
— Не жарко в баньке у вас, маиор!.. Гостя холодом мучаешь, совсем захолодил гостя… Потчуешь плохо. Жиру, вина мало даешь… — И попросил: — Поддай!..
Вода шумно взорвалась на раскаленных камнях. Айга, блаженно рыгнув, выкрикнул:
— Акхалалай!
Это он по-своему, по-нымылански выкрикнул: акхалалай — вот хорошо! По своему дал понять: вот его, Айгу, голого небогатого человека, от всей души принимают! Брыхтатын, настоящие огненные люди принимают! Даже потер в волнении порубленную, всю в шрамах переносицу. Сидел на полу криво, вывалив на колени плотный, в пепельных и в красных пятнах живот. Уже несколько раз высвобождал переполненный желудок, но неукротимый маиор вновь и вновь, задыхаясь, выставлял перед ним тазик отварной рыбы и юколы, корни сараны и специальную сладкую травку, пластал на ремни в берестяном тазу нерпичий и китовый жир, подталкивал корчагу с вином — на, Айга, ешь!.. Тебе, Айга, ничего не жалко!.. Желаем с тобой свести настоящую дружбу по нымыланским обычаям! Видишь, как горячо встречаем, от души кормим.
— Ешь!
Глаза Айги, черные, влажные, полные понимания, вдруг обессмысливались, разрисованное диковинными узорами, испорченное шрамами на переносице лицо темнело, толстые губы неуклюже отвисали, но Айга себя пересиливал, пощады не просил, ел, пил, хитро жмурился — вот как хорошо, вот как горячо его, Айгу, встречают!.. Вот, взмахивал руками, как хорошо живем!.. Вот какое у нас состояние человеческое хорошее!.. Плевал в сторону полночи: там чюхчи, там враги. Сильно сердился: там чюхчи! Загорался, сердясь: чюхчи — обманные люди. Перед плаваньем в море ветер в узелках покупают у шаманов. Развяжешь такой узелок, выпустишь ветер — плывешь. А не хочешь плыть, не развязываешь… Плевался: чюхчи совсем обманные люди. И всегда полны жесточи. Нымылана поймают, намотают на руки сухую бересту и жгут. А если в гости придешь, может, и угостят чем, зато потом скажут: «Ну, хватит! Убьем тебя!» Плевал в сторону юга: там ительмены, лжецы. Воровски приходят на тихую реку Уйулен, на тихую дресвяную реку, воровски уводят чужих зверей. Приходят на олешках, на лодках-батах. Почему приходят? Да плохо живут. Совсем как русские. Жили бы хорошо, никуда не ходили. Вот нымылане на реке Уйулен хорошо живут, они никуда не ходят.
Сытно отрыгивая, Айга делал глоток травного вина, со вкусом жевал ремень китового жира. Маиор быстро, а Похабин не торопясь, в жгучей полутьме баньки пихали под руку Айге другие жирные куски. На, Айга!.. Только для тебя!.. Хотим только с тобой дружить… Ешь, пей, мы тебе еще дадим… Мы тебе китового жиру дадим, жирной оленятины, травного вина…
Айга ел.
Айгв пил.
Айга лукаво подмигивал неукротимому маиору и рыжему Похабину, объяснял на пальцах: вот всем известно, что любой якут за жирную кобылятину родную дочь отдаст, еще радоваться будет — всего-то там дочь отдал за жирную кобылятину!.. Вот всем известно, что любой чюхча за жирную собачку собственную ярангу отдаст, собственную байдару отдаст, еще радоваться будет — всего-то ярангу, всего-то там байдару отдал за жирную собачку!.. А нымылане, они другие. Они все готовы отдать, но только за дружбу!..
Маиор неукротимо кивал: это верно, без принсипов нельзя! И рыжий Похабин кивал: это верно! Острым ножом отхватывал у самых губ ремень китового жира, пихал Айге в рот — ешь!
Влажные глаза Айги обессмысливались.
Иногда терял на минуту соображение, припадал к горячему полу баньки, но спохватывался, выпрямлялся, для душевной опоры неистово ругал главных врагов — чюхоч. У них, у чюхоч, ругал — очень плохое человеческое состояние. Будь у них хорошее человеческое состояние, чюхочи не ходили бы войной на тихих нымыланов. Серел от жары, в волнении тер израненную переносицу — очень не любил чюхчей, даже в баньке боялся чюхчей. Ну, плохой народ! Всегда приходят с оружием, отбирают олешков, уводят дочерей. У него пять дочерей, пять простыг, всех могут увести. Жалко. Он лучше смело встанет перед чюхчами и будет драться… Кая вычиган!.. Он не отдаст в полон Каналам, не отдаст в полон Кыгмач, не отдаст старшую Кайруч, не отдаст чюхчам черную Чекаву, не отдаст и младшую Кенилля — чистую, тоже черную, с белой прядкой в густых волосах.
Враговка твоя Каналам, беззлобно подумал Похабин, окуная горящее лицо в холодную воду, стоявшую в особом чане. Твою Каналам даже чюхчи боятся. Как и старшую. Не зря ее назвали Кайруч — колотье.
Ухмыльнулся, глядя на явственно сомлевающего Айгу.
Ты, ухмыльнулся, не чюхоч ругаешь, беззлобно подумал, ты нас ругаешь. Боишься, задружим с тобой сильно, возьмем все твое стадо, возьмем балаганы, возьмем собачек и дочерей. Это ты нас разжалобить хочешь, Айга, а мы к тебе просто с добром без всякой хитрости… Всего-то делов по горячей дружбе — взять ту меньшую шишигу, что по имени Кенилля, да и увести от греха по реке… И не куда-нибудь, а к родимцам…
А мы тоже уйдем.
Тихо и спокойно. В сторону русских.
Мы ведь тоже хотим к своим родимцам, Айга.
Моргнул изумленно, представив, как онемеет Айга, услышав, какой именно подарок потребуют от него. Небось подумает — совсем глупые! Айга, он ведь чего угодно ждет, только не такой просьбы. Будет радоваться, будет думать — вот свел дружбу с глупыми русскими, а они ничего не взяли, зато теперь он отдарок возьмет большой.
— Акхалалай!
Айга обильно потел, шумно отрыгивал, шумно похвалялся.
Вот олешки у него! Вот собачки! Вот переменные жены, дочери! Вот, шумно похвалялся, большие балаганы у него. Очень чистые. Плевал презрительно в сторону полночи: там чюхчи — враги, людишки плохие, не знают чистоты! Ронял кусок жира на влажный земляной пол, поднимал, смахивал ладонью приставший сор, ел жадно — выказывал уважение. У чюхоч, ругался, все бабы нечистые, лиц никогда не моют. Иногда мочой моют. Даже волосы заплетут, все равно волосы висят на них как космы. И платье на чюхчах всегда несвежее, залосклое. Шумно ругал чюхоч, наклоняя блестящие от пота плечи — у чюхоч всегда бедно. У них плохие дрова. Они очаг топят, а земля под очагом тает, дым стелется по мокрому полу. А у нымылан тепло, сухо, весь дым уходит в проушину полуземлянки. А для света нымыланы мох специальный жгут в жире. У нымылан так тепло, похвалялся Айга, что бабы в балаганах сидят нагие, пяткою только прикрыв срам. А узоры на теле нымылан, поводил Айга разрисованными плечами, как богатое платье.
Шумно похвалялся: нам, намыланам, лучше умереть, чем жить так плохо, как живут чюхчи! Махал рукой: дескать, хамшарен!.. Дескать, коэнем-коша!.. Дескать, илага-пылачиган!.. Бог Кутха, бог дикующих, поначалу так и создал чюхоч — собаками. Зря они говорят про русских всякое. Были собаками, потом самовольно переродились, теперь сами едят собачек.
— Сьешь жиру, Айга! — щедро потчевал неукротимый маиор. — Ты правильно говоришь, Айга. Чюхчи большое зло. После шведа, может, главное. — Вскрикивал с сердцем: — Ешь, Айга!
— Акхалалай!
— Вот и хорошо, — истово радовался маиор. — Вот и славно. Я к тебе со всею отеческою аттенцией. Я, Айга, еще жирных ремней нарежу. И рыбу не жалей. Много ешь, Айга, сытно.
От сытости и жары глаза Айги обессмысливались.
— Вот правильно говоришь, чисто живешь, богато, — издали заходил неукротимый маиор. — Балаган на реке имеешь, олешков на берегу. Опять же, шишиги у тебя, простыг много.
Айга оживал, улавливая смысл слов, вспоминал про дочерей, начинал озабоченно пересчитывать дочерей на пальцах: «Еннен… — пересчитывал. — Нинег… Ниокын… Ниакен… Мылленге…» Всего, насчитал пять девок. Плюнул в сторону полночи: никогда нечистым чюхчам не достанутся его девки!
Это верно, истово подтверждал неукротимый маиор. Мы в том, Айга, тебе поможем. Мы тебя защитим. Отеческой аттенцией государя. У нас, Айга, огненный бой, ты видел. Выстрелишь, самый большой олешек на колени падает от испуга. На любой дистанции. А нымылане — друзья. Многие нами уже подведены под шерть, многие принесли присягу государю. А то раньше-то как? Все российские народы государю ясак платили, а нымылане нет… Живут на государевой земле, промышляют государева зверя, с государем одним воздухом дышут, а ясак не платят… Нельзя без принсипов жить, Айга!.. Тоже подсчитывал на пальцах, сколько нымылан приведено к присяге. Потом показывал на пальцах — десять… двадцать… тридцать один!.. А к этим, показывал еще три пальца, еще трое… Зимой подвели их под шерть. Значит, всего тридцать четыре государевых нымылана… Например, проезжий Кека с двумя родимцами случайно заехал к Айге зимой, даже не знал, что у Айги живут русские. Сперва сильно испугался, потом привык. Дал клятву государю, что он и его родимцы пойдут под шерть. Вот к доброму нымылану Кеке и ушел неделю назад Крестинин, посмотреть, как живут родимцы…
Когда впервые ступили на берег, даже не знали — Камчатка ли перед ними? Думали, может, снова какой остров или неведомая земля?
Очень боялись зимы.
Все, что сохранилось в байдаре — пищаль, да небольшой припас к ней… Ну. какие-то случайные вещи… Маиор, например, парик потерял. Долго скучал, щупал руками маленькую голую голову.
Пошли на байдаре вверх по реке.
Однажды сладко и тревожно запахло дымом.
Сперва подумали, не без опаски, что, наверное, где-то рядом жилье, потом поняли — горит лес. Тяжело поднимались по тихой реке Уйулен. По деревьям, срубленным топором, видели — бывают здесь люди. По тем же деревьям видели, что зимой выпадает здесь много снегу — некоторые деревья срублены на высоте человеческого роста.
Шли вверх по реке.
На высоком берегу под огромной страшной горой впервые попали в снежный заряд. Весь мир внезапно залило ледяным молоком. «Смотри! — в беспамятстве пал на колени Иван, тыча холодной рукой в белую замять, в странные тени: — Это Тюнька! Это монстр дьяк-фантаст!»
«Ну? — удивился неукротимый маиор. — Что делает?»
«В зернь играет».
«Да с кем?»
«Наверное, со смертью».
«Наверное… — подтвердил неукротимый маиор, вглядываясь в снежные заряды. — Но так думаю, то не смерть…»
«А кто же?…» — испуганно выдавил сквозь обледеневшую бороду Похабин, слышавший весь этот странный спор. Маиор сурово ответил:
«Так думаю, что не дьяк-фантаст… Скорее, государственный человек господин Чепесюк!.».
В снежной замяти, замерзая, каждый видел свое, но господь не оставил русских — почти умирая, наткнулись на балаганы и полуземлянку Айги. Чужие собачки бились, бросались грызть страшных бородатых пришельцев. Айга девок попрятал, но страшных пришельцев принял. Обмыл раны. Согрел, накормил, выходил. Бывало, что призывал других нымыланов: приходите посмотреть на русских, на брыхтатын. Другие нымылане охотно приходили, стояли над русскими, как столбы, ковыряли пальцем в носу, — дивились. Неукротимый маиор в свою очередь клал крестное знамение, сипло объяснял: вот пришли защитить вас от врагов, пришли наладить связь с государем. Такова диспозиция… Сипло напоминал: без принсипов нельзя… Великий государь Петр Алексеевич денно и нощно думает о дикующих. Его отеческой аттенцией… Следует вам, нымылане, собирать для государя и казны российской мяхкую рухлядь. А вам за то будут подарки.
Дотянувшись до сумы, высыпал перед онемевшими нымыланами горстку сохранившегося бисера-одекуя.
Нымылане дивились: вот русские глупые! Соболь — зверек почти совсем ненужный, никто не станет есть мясо соболя, на хвосте такого зверька для крепости замешивают глину, идущую на горшки, а русские за стопку тех же соболиных шкурок дают несколько бисеринок, сверкающих будто звезды!
Так сильно дивясь: а какие еще будут подарки? — шли под шерть, приносили государю клятву.
Тут было страшно.
Ударил страшно огненный бой, спугнул олешков, зверей, людей, может, даже рыбу спугнул в ручьях, но этого не видели. Каждый нымылан, робея, подходил к пищали. Неукротимый маиор, важно раздувая ноздри, сильно выпрямясь, строго указывал на пищальное дуло: вместо Креста и Евангелия брал присягу с простосердных. Доходчиво объяснял: ни одному отступнику не миновать пули. Подходящие к дулу клялись: «Инмокон кеим метынметик…» — что означало: «Правда, что я тебе не солгу…»
Собаки, услышав такое, выли.
Случайный проезжий Кека тоже пораженно произнес перед пищальным дулом: «Правда, что я тебе не солгу…» Но той же ночью тихо-тихо, прямо в ночь, уехал Кека на собачках вверх по реке Уйулен, разнося невероятные слухи о бородатых, но не курильцах, не куши, приплывших с моря, а вообще не островитянах. А еще всем рассказывал — есть у русских, у бородатых страшный огненный бой. Правда, непременно добавлял Кека, русские — глупые. За собольи никому не нужные шкурки дают волшебное — одекуй!
Месяц назад уплыл Иван к нымылану Кеке.
Уже многих нымылан узнал, но томило его любопытство. Как в детстве, в тундре, в сендухе, не унимался, все пытался понять — а там, за горой, что?… А если спуститься вниз по тихой реке, что увидишь там?… А если пойти за гору прямо на полночь, что встретишь на полночи?… На лоскутах чистой бересты учинял чертежи. Маиор сердился:
— Зачем ходить на полночь? Зачем спускаться по реке? Зачем лазать на гору? Разве Россия в той стороне?
— Она и в той, — твердо отвечал Иван. — Россия большая. Куда мы пришли, там и Россия. Так думаю, что куда ни иди, непременно наткнешься на Россию. — И кивал: — Вот сплаваю к нымылану Кеке, тогда будем думать.
— Пока сплаваешь, зима ляжет!
— А что нам зима? — отговаривался Крестинин, думая, наверное, о ведьме белоголовке. — Что нам зима?
— Опять зимовать? — пугался Похабин. А неукротимый маиор сердился: — смотри, уйдем без тебя!
— Куда ж без меня? — возражал Иван. — Куда ж без меня да без пищали? Вас сразу ительмены побьют. Или чюхчи возьмут в полон. Или коряки. Айга говорит, что коряки и ительмены уже встречались с русскими. Он говорит, что корякам и ительменам русские не понравились. А чюхчам русские давно не нравятся. — Обещал: — Я быстро вернусь. Только взгляну, как течет река, да взгляну на гору со стороны нымылана Кеки.
Добавлял значительно:
— Я свою официю помню…
Усмехался:
— «Уйдем без тебя…» Как можно?… Нас государь послал!..
Так научился произносить слова, будто все упиралось в тайный приказ государя, а не в то, что он, Иван Крестинин, секретный дьяк, никак не хотел оставить Кенилля. Потому и вступили в сговор: в отсутствие Ивана решили свести дружбу с нымыланом Айгой. Пусть Айга отправит подальше свою ведьму-белоголовку, тогда ничто не станет удерживать Крестинина на реке Уйулен, тогда Крестинин сам потянется к русским.
Айга, обильно потея, жадно жевал жир, пересчитывал по пальцам шишиг, теперь, правда, по пальцам ног: «Еннен… Нинег… Ниокын… Ниакен… Мылленге…» Все равно получалось пять.
Маиор покачал головой: «Много шишиг…» Айга важно кивнул: «Это правда». И добавил: «Особенно Кенилля!.».
Рыжий Похабин нахмурился.
Кенилля, правда, круглая, вохкая.
Под взглядом барина Кенилля стала еще круглей. Она с каждым днем становится все круглее. Но ведь вовсе не главное дело ловить круглую шишигу на речных островках. Уж сильно хочется, так помни девку! Зачем из-за какой-то простыги сидеть на далекой от России реке? Вон у неукротимого маиора было три переменных жены, всех держал в денщиках, в сервитьерках, а все равно каждую оставил без раздумий.
— Чего это он?
Похабин уставился на Айгу.
Круглые плечи нымылана вдруг безвольно обвисли, и сам он покосился на сторону. Бормотал неразборчивое. Вот вроде как он, Айга, похваляется крепкой дружбой с глупыми русскими. Получается так, что вроде как он, Айга, теперь даже злым духам не дается. Злые духи прилетают к нему во сне, а он им не дается, потому что свел крепкую дружбу с русскими. Вот вроде разные духи пытаются уморить за то Айгу во сне. Иные приходят из моря, другие прилетают с горелой сопки. Одни большие, другие совсем малые. Бывают даже такие, что как бы опалились в огне — безрукие, копченые, обгорелые, даже такие, что об одном полубоке. Самые богатые, конечно, из моря — у них палатки из травы, что на дне моря растет…
— Сомлел! — обрадовался маиор. — Поддай, Похабин!
Похабин, шипя, даже чуть подвывая от жара, плеснул на раскаленные камни. Как от взрыва припал в испуге к земляному полу. Майор, сидя на полу по-нымылански, отирал локтем пот и важно, очень одобрительно смотрел, как жестоко рвало Айгу. Дождавшись некоторого покоя, когда Айга на минуту застыл в неуверенности, маиор неукротимо сунул в рот гостя новый ремень белого китового жира:
— Потчуйся.
Айга слабо жевал, глаза подернулись пеплом.
— Акхалалай, — прошептал слабо. — Вот горячо, вот жарко угощаете. Вот сытно угощаете.
— Да ты ешь!
— Акхалалай, — слабо отмахнулся Айга.
— Ну?… — смягчаясь спросил маиор, дивясь страшным отметинам на переносице Айги. — Дышать хочешь?…
— Дышать хочу, — наконец согласился Айга и, слабо икнув, по собачьему пополз под закрышку.
Втроем, нагие, жаром пышущие, устало упали на ровдугу.
Августовское солнце. Горелая сопка в полнеба. Вскрикнула птичка: зачем лежат на ровдуге голые люди? Может умерли?
Но нет, сели, поджали под себя ноги.
— Вот, Айга, — сказал маиор важно, стараясь не выказать какого-то своего особенного интереса. — Вот ты говорил, Айга, что морской нос есть под именем Атвалык. И тот нос якобы населен. И там якобы есть у тебя некоторая переменная жена, чтобы тебе, кочуя на тот нос, никаких неудобств не чувствовать. И еще ты говорил, что вынесло на тот нос крепкого человека. У него даже борода растет. Говорил?
Айга слабо кивнул.
— Было у того человека имя?
Слабо кивнул: было, наверное… Он не помнит… Зачем ему чужое имя?… У него своих шишиг сколько!.. Он слышал, что на человека, вынесенного из моря, долго смотрела шаманка. А потом нымылане плясали вокруг человека, вынесенного волной, шаманка собачку убила. Посадила убитую собачку на кол, мордой к горелой сопке — хотела лечить вынесенного…
— Вылечила?
Айга блаженно повел горячим нагим плечом: вот он, Айга, жив, вот он дышит… И тот человек, наверное, жив… Улыбался бессмысленно, озирая маиора с Похабиным. Вот он, Айга, с какими русскими дружбу свел!..
Маиор искоса глянул на Похабина.
— Вот сходишь, Айга, на морской нос, — строго сказал Похабин. — Посмотришь на выметнутого морем человека, пальцем попробуешь — не русский ли? Если русский, нам пришлешь весточку.
Айга слабо икнул:
— Зачем сам не пойдешь?
— Нам в другую сторону… — махнул Похабин рукой. — Нам в Россию… Слышал, небось, государь ждет от нас известий. Думаю, от тех известий вам, нымыланам, выйдет облегчение. — И повторил строго: — Пойдешь на нос Атвалык.
— А как не отпустят нымылане бородатого, вынесенного морем?
— Нам что за дело? Купи, — подсказал неукротимый майор.
— А коль умер бородатый?
— Вот и узнаешь.
— А коль болен?
— Привезешь на собачках. По снегу и привезешь.
Айга сел раздумчиво, подставляя пышущее жаром тело легкому ветерку, покопался рукой в теплой влажной земле, выщипнул сочную травинку, вяло пожевал:
— Ну, когда привести?
Маиор переглянулся с Похабиным:
— А к самым сильным холодам…
— Я раньше приведу.
— Нет, нам раньше не надо. К самым сильным холодам приведи.
— Как один пойду?
— Зачем один? У тебя шишиг много.
Айга задумался, начал что-то понимать:
— Ну, я Кыгмач возьму… Сильная… Трудно рождалась, зато сильная… Кыгмач возьму с собой…
Маиор нахмурился:
— Сильных в балагане оставь. Кто оставшимся шишигам помогать будет?
Что-то уже совсем почти понимая, Айга кивнул:
— Ну, Каналам возьму… Она враговка, ее людишки боятся…
— Зачем тебе враговка в пути?
— Тогда Кенилля возьму… Тогда Белоголовку возьму… — пытался угадать Айга.
И угадал.
— Вот возьми Кенилля, — в один голос сказали Похабин и неукротимый маиор. — В дороге такая нужней. И родимцев своих увидит у моря.
— И родимцев своих увидит у моря… — как эхо повторил Айга и потер пальцами страшную переносицу.
Глупые русские, подумал. Дают за никчемные шкурки бисер. Дружбу начав, к самому себе посылают в гости. А ведь с них отдарки потребуются. Подивился про себя: глупые. Сказал утвердительно:
— Акхалалай!
— Ишь, лает как песец… — неодобрительно отозвался маиор. Его уже отпустил жар, он потянул на себя одежду: — Не застудись, Похабин. Солнце греет, а край все равно чужой.
Переглянулись.
Айга голый, разрисованный, подобрав одежду, весь нагой, пошатываясь, побрел к сторону балагана. По дороге Айгу рвало, он останавливался, опять икал, снова шел. Из балагана выглянула круглая голова в косичках. Крикнула что-то. Неукротимый маиор сплюнул: «Ведьма!» И попросил жалобно:
— Похабин! Простой воды дай.
Глава II. Чигей-вай
Река Уйулен струилась меж каменных островков, лениво выплескивалась на зеркальные отмели, сердилась в узинах, таинственно шуршала в камышах, окружавших устье незаметных боковых речушек.
Тихая, темная река.
Прозрачная до дна, но тихая, темная.
Папоротниковые береговые низины перемежались увалами, на каменных кручах важно, как старики, стояли деревья. В одном месте Иван увидел утесную гору, всю изрезанную временем, каменные пики торчали, как поставленные на попа байдары. Еще дальше громоздились в голубоватой дымке черные кручи ужасной горелой сопки, по самому верху все лето покрытые белыми, иногда не совсем чистыми складками снега.
Иван знал, что подол горелой сопки распространился далеко, падает в море.
Слышал от Айги, что было время, когда горелая сопка сильно сердилась — из вершины шел дым, из большой дыры летели искры и камни, земля вокруг вздрагивала, как котел с кипящей водой. Айга слышал от стариков — в горелой сопке живут умершие. Топят сопку, как зимнюю полуземлянку, едят сладкий китовый жир, а ночами тайком летают на охоту — ловить китов. Когда летят, вокруг них рождаются тайные звуки. Слышал ночью? — спрашивал Айга. Проснешься, все вроде тихо, а в то же время — шуршанье неясное, как бы движение воздуха, тайные звуки. Это умершие летят — несут пойманного кита, а на каждом пальце у них еще по большой рыбе. Потом празднуют — жгут огонь, пьют травное вино, радуясь, колеблют землю.
Слышал от Айги, что однажды горелая сопка выплюнула страшный огненный шар. В несколько секунд он стал черным, потом пепельным, но при этом все равно светился изнутри. И так светясь, покатился вниз по склону, сжигая все живое на своем пути. «Неживое тоже, — сказал Айга и ткнул пальцем в гору. — Видишь, склон до сих пор покрыт закопченными пнями, даже стланик не может скрыть место большого пожара».
Но живое сильнее мертвого.
Если верить Айге, еще в его детстве склон горелой сопки был гол и мрачен, а теперь почти до самых снегов покрыт пятна зелени. Ветер дует, семя разносит. Так всегда… Не случись на свете бумаг неизвестного казака, замученного на дыбе в Санкт-Петербурхе, никогда, наверное, не увидел бы Иван горелую сопку, никогда не смог бы уйти так далеко, не узнал чугунного господина Чепесюка, павшего на острове Симусир от стрелы дикующих… Видать, не зря все-таки пророчил старик-шептун. Вот и вниманием царствующей особы был отмечен, и дошел до края земли, и дикующую полюби…
Усмехнулся, глядя на лесинку, ныряющую впереди лодки.
Привязанная, легкая, лесинка летит впереди лодки — по стрежню. Следи за ней, да работай веслом.
Дивен мир.
Однажды на бусе монах брат Игнатий, поп поганый, вперив черные глаза в отблески света, играющие на некрутой волне, сказал:
— В пустыне Нижнего Египта безмолвствовал Иосиф. Пришел к нему Лот и спросил: «Авва! По мере сил моих исполняю малое молитвенное правило, соблюдаю умеренный пост, блюду чистоту, не принимаю греховных помыслов. Скажи, авва, что мне еще надлежит делать?» — брат Игнатий с тайным значением глянул на Ивана и загадочно заключил, повторяя мудрый ответ старца Иосифа: — «Если хочешь, будь весь — огонь!»
Усмехнулся.
В чужой стране опасно быть огнем…
И опять усмехнулся. Почему в чужой? Совсем не чужая.
Ну, а что горы трясутся, так это из-за злых духов. У нымылан много духов. Гамулы называются. Выпив травного вина, вместе с умершими любят раскачивать гору. Это ничего. Время придет, явятся на Камчатку многие святые отцы, обратят дикующих, прогонят духов, срубят в лесах пустыньки, в тихих келийках начнут отмаливать грехи нымыланов, вот тогда они сами отрешатся от неправильных, от нелепых богов.
Покачал головой, глядя в воду. Вспомнил: Кенилля…
Не мог понять себя, но, работая веслом, правя лодкой, занимаясь делом будничным, почему-то счастливо рассмеялся, почему-то обрадовался тихой реке, ее бесчисленным поворотам.
В одном месте белку спугнул.
Сидела белка, распушив хвост, на черной березе, низко наклонившейся к воде, а Иван ее спугнул.
Вот зачем сидит на черной березе? Рядом старое пожарище, все затянутое кедровником, на старом пожарище много орехов. Вот зачем сидит на березе, не ест орехи? Спугнул белку и, когда она метнулась к кедровнику, опять счастливо рассмеялся.
Сразу ответный смех донесся со стороны горы.
Наверное, нымыланские духи боялись близко приближаться к бородатому русскому, но издали следили за Иваном, передразнивали его голос.
На поворотах лодку выносило к крутому берегу. Веслом выправлял ход, ноги упирались в брошенные на дно лодки медвежьи сумы.
Не пустые!
Возвращается домой не пустой.
Соболей, правда, мало, зато много лис. С сибирскими не сравнить, а все равно веселые — огненки, сиводушки. Даже пара крестовок есть, а одна лиса совсем белая.
Вот тоже, зачем лиса вырядилась в белое?
Может, не сидит на одном месте? Может, ходит поверху, часто бегает к леднику, охотится на вечных снегах, покрывающих горелую сопку?
Нымылан Чегага, недавно подведенный под шерть, говорит так: чем, дескать, умней расцветка, тем умнее лиса. И прав, наверное. Дивый край.
Вот луг роскошный, можно поставить деревню, кормить многий скот.
Вот озеро на берегу — темное, неприветное. Видно, какая вода в озере черная, и лес подступает к самому берегу.
На островах, конечно, тоже есть тайны, но на островах тесней. На островах всегда знаешь, как-то по особенному чувствуешь, что куда бы ни пошел, все равно выйдешь к морю. И запах на островах другой, морской запах.
Потянул носом.
Вот необычно, — нынче даже на реке запах. Вчера еще не было никакого особенного запаха, а в последние дни появился. Однажды такой запах Иван уже встречал — под горелой сопкой. Там лежал один узкий ложок. Сперва как бы небольшой, потом он еще больше сужался, превращался в ущелье, зеленоватые стены которого отвесно поднимались вверх. Мрачные камни, подобные пушечным ядрам, все в черных кожурах, как луковицы, страшно нависли над головой, закрыв небо. Озираясь, шел по влажной глине, устлавшей дно ущелья, медленно и глубоко впечатывал след во влажную глину. Вдруг — сразу! — увидел хорошо вытоптанную площадку, как бы натертую, как бы блестящую от нежной сырости, охватившей все вокруг. Торчала старая ольха посреди площадки, непонятно как выжившая в ущелье без солнца. И была ольха вся истыкана стрелами. Некоторые вонзились так глубоко в узловатое деревце, что их никто обратно не требовал. Вот там, в мрачном ущелье, Иван впервые вдохнул удушающий запах серы, запах нехорошего.
Сплюнул.
Знал от Айги: в мрачных узких местах любят жить недобрые духи. Варят внутри горы, разбрасывают по горе кости. Если мимо проезжает дикующий, то непременно завернет в ущелье, пустит стрелу в узловатое деревце. От удара стрелы недобрых духов меньше не станет, но все-таки…
Кенилля…
Птичкин голос!
В том мрачном месте, остро пропахшем серой, Иван наткнулся на непонятный след, будто детский. Или будто девка босиком пробежала. А кто пустит дитя или босую девку в столь плохое место?… Осенив себя крестным знамением, Иван в том же ущелье, свернул в одно из его темных ответвлений. Что там?
А там оказалась еще одна площадка, только неровная.
А посреди той площадки темнела воронка — глухая, тоже глинистая, но как бы огнем оплавленная по краям. По самый край воронку заполняло горячее озерцо и все камни вокруг были размягчены, легко разминались под пальцами. И все вокруг было серым, лишь кое-где отдавало желтью.
Отгоняя видения, вспомнил: Кенилля…
У Кенилля левый глаз отдает желтью, а сама вся круглая, теплая.
Усмехнулся, сплюнул в воду. У Кенилля лицо круглое, и сама круглая, и вся густо расшита всякими разными диковинными узорами.
Усмехнулся.
В России лица тоже расписывают. Накладывают белила да румяна, сурьмой подводят глаза… Как вернусь, так сразу поднимусь к балаганам Айге. Скажу сердешному другу: вот, Айга, насовсем забираю у тебя девку, теперь со мной пойдет девка Кенилля. Куда я пойду, туда и она пойдет. Может, даже в Россию.
Вот только, задумался, как жить с некрещеной? Ведь нымылане бога не знают. Они собственных лет не знают. Они совсем простые, а от этого склонны ко всякой болтовне, как старинные греки, когда читал в Санкт-Петербурхе древних филозофов. Неукротимый маиор Саплин любовных басен совсем не терпел, зимой не раз обрывал болтающего беспрерывно Айгу. Все, дескать, хватит! Все, дескать, хватит болтать, будем нынче, Айга, учить серьезное. Будем учить «Отче». «Отче», Айга, — это молитва, принятая от самого господа!.. И начинал, узнав за зиму нымыланскую речь:
— Апач бурын кизег итзун…
Требовал:
— Повторяй за мной громко!
Смотрел строго:
— Кииг тоуренч теге битель… Да святится имя твое… Пыгн гуллс суглкаизен… Как на небе, так и на земле…
Рыжий Похабин не выдерживал, неодобрительно качал головой: вот, дескать, хуже басен. А неукротимый маиор сердился:
— Плохого не делаем. Не подкоп ведем под фортецию души, живую душу спасаем.
— Как спасаете? Ведь не крещен Айга, не знаком с богом.
— Пусть хоть приблизится.
Похабин снова качал головой.
Чтобы остановить маиора, вспоминал под вой камчатской метели.
В сендухе, вспоминал, далеко за Якуцком, служил Похабин в отряде казачьего пятидесятника Ивана Котаря. Ходили собирали ясак с немирных одулов. С отрядом ходил крепкий священник отец Евлогий. Он однажды крестил семью дикующих.
Одулы оказались совсем простые, сами пришли. Смотрели бехитростно, как олешки. Пытались потрогать у русских бороды, ведь у них, у одулов, на подбородке ничего не растет. Отец Евлогий, человек в тех местах известный, крепко угостил одулов огненной водой, потом спросил старшего:
— Ну, будешь креститься?
— Покажи, — попросил захмелевший одул. — Как будет?
— Ну, хорошо будет! — заявил отец Евлогий, тоже успевший пропустить чашку. — Я тебе покажу.
— Покажи, — согласился одул, поглаживая рукой голый подбородок. — Если хорошо будет — крести.
Похабин, вспоминая, смеялся:
— Накинули на отца Евлогия одеяние, одулы вздрогнули. Когда свечи зажгли, одулы еще сильнее вздрогнули. А крест над собой поднял отец Евлогий, вздрогнули совсем сильно.
Айга, слушая Похабина, ничего не понимал. Простодушно повторял за маиором слова молитвы. Нарезанная копченая оленина лежала в берестяной посуде перед Айгой. Он откусывал, повторял непонятные слова. У нымыланов в балаганах стоят болванчики — ажулуначь, караульщики, они охраняют балаганы от врагов. Это понятно. Нымылане мажут болванчиков рыбой, обвязывают пучками сладкой травы. Тоже понятно. Если нымылану потребуется что-то от болванчиков, он похлопает в ладоши, чтобы обратить на себя внимание. А слов неукротимого маиора Саплина друг сердешный Айга совсем не понимал. И оставления долгов не понял, и избавления от лукавого не понял. А не поняв, повел одну из своих бессмысленных басен про глупого бога Кутху:
— Вот гром, это что? Это Кутха батть тускерет… Это Кутха лодку вытягивает на каменистый берег…
Ржавцы на болотах.
В теплом мире томление.
Ночь над рекой. Кричит в ночи невидимая глазу утка: «Ахама-хама-хама». Вдруг смолкает: «Ик!»
Ивана истомила зима.
В полуземлянке тесно, дымно, запахи застоялись. С первым светом рвался уйти из полуземлянки — охотился, ездил на собачках сердешного друга Айги к ближним нымыланам. Наконец, дождался лета.
Однажды летом увидел, как бесчисленные девки Айги бегут по ржавцам к маленьким речным островкам, брали на островках прошлогоднюю перезимовавшую под снегом ягоду. Кайруч, Каналай, Чекава, Кыгмач, и пятая — Кенилля. Лицом круглая, в камлейке тонкой, смеялась, вскрикивала высоким птичкиным голосом.
Волнение беспричинное.
На малом каменном островке, там и здесь утыканном то березками, то черемхой, специально встретил Кенилля… …Если хочешь, будь весь — огонь!
Женские волосы счастье приносят, волосы беречь надо — Кенилля на островке деревянным гребнем внимательно приглаживала волосы, чтобы не путались. Сидела на камне, у ног — берестяная чашка, в черных волосах — белая прядка. Известно, белоголовка.
Вдруг застыла.
Не шевелясь, потянула носом.
Нюх у нымыланов тоньше, чем у собак. По запаху знают, кто входил в балаган, чей остался след на тропинке. Айга не раз похвалялся: вот покажи ему кости мертвые, сухие, обветренные, он по запаху высохших костей сразу скажет — то нымылан был убит или чюхчу когда-то убили.
— Ахама-хама-хама!
Кенилля медленно повернула голову. Запах Ивана тревожил девку. Вдали, на другом малом островке, гортанно, как невидимые утки, перекликались дикие сестры — Кыгмач, Чекава, Каналай, Кайруч. Перекликались высоко, обиженно. Вот камчатские медведи не сердиты, только если обидишь, могут помять. Ну, завернут лапой с затылка кожу, глаза тебе закроют и уйдут смирно — не смотри, дескать, за нами, за медведями. А баб медведи вообще не трогают. Вот и сейчас. Нашли девки хорошую ягодную полянку, а медведь вышел. Сперва недовольно прищурился на девок, потом подумал и стал ругаться, отнял у девок наполненные ягодой берестяные чумашки, сам все съел. Девки в сторону отбежали, сели на корточки, черные, расписанные, тоже сердито корили медведя…
Мхом пахнет, камнями.
Солнце над головой, тени совсем короткие.
Не спуская с круглой Кенилля глаз, Иван сделал шаг.
Кенилля не убежала. Стояла, опустив руки, резные тонкие ноздри слегка подрагивали.
Тогда сделал еще шаг. …Не ходи подслушивать, не ходи подглядывать игры наши девичьи…
И третий шаг.
Кенилля не вскрикнула, не отбежала.
Лет своих не знает, круглая, вохкая. Совсем еще молода, а вся в жадности. Иван, как медведь, мял девку. Кенилля пискнула, впрямь мышонок, а потом стала дышать часто, глубоко, а потом уже, ну, совсем потом двумя руками оправила спутавшиеся, заплетенные в многочисленные косицы волосы, оправила тонкую камлейку, сшитую из тюленьих кишок. Махнула рукой:
— Видишь островок?… Весь изрытый, и будто ров к самому берегу?…
— Копали что-нибудь?
Засмеялась. Русские большие, чуть не до ног в бороде, а совсем ничего в мире не знают. Искала слова, стараясь понятно объяснить. Тот ров, объяснила, не людьми копан. Это бог Кутха по весне искал птичьи яйца. Везде смотрел, а ни одного яйца не мог найти…
Иван согласно кивал, чтобы не сердить Кенилля. Странный у нымыланов бог. Вроде сильный, сердитый, умеет метать молнии, насылать непогоду, но при этом так прост, что на него мыши ходят войной. А то подсунут Кутхе гнилушку, он думает — рыба, пока не попробует на зуб. В воде увидит свое отражение, идет знакомиться. Весь до нитки измокнет, пока поймет, что к чему…
Вот и на том островке.
Искал бог Кутха птичьи яйца, ни одного не нашел, а его жена Илькхум за то же время набрала полную берестяную корзину. Глупый Кутха, сердясь, оттаскал жену за волосы. К самому берегу волоком притащил, вот и остался на островке глубокий ров…
— Я тебя за волосы таскать не буду, — сказал Иван без улыбки.
Кенилля глянула косо, дико, как птичка. Крепко обняла руками себя за плечи, замерла в задумчивости. Иван давно подметил: нымыланы любопытны, как дети, сильно задумываются над многим. Если чего-то не понимают, будут сильно страдать, пока не выяснят природу вещей. Не стал ждать, пока Кениллся до чего-то додумается, опять, как медведь, смял девку…
Островков на реке много.
Кажется, пуст край, везде пуст, а крикни летом в сторону какого островка — кто-нибудь непременно да отзовется.
Кенилля…
Неукротимый маиор сердится: пора в Россию. Неукротимый маиор сердится: дескать, Камчатка — зло. После шведа, может, главное. Рыжий Похабин согласно кивает, дескать, прав маиор. И тоже сердится.
Но как уходить? Почему уходить?
Кенилля…
Изредка ударял веслом, счастливо озирал медленно проплывающие во тьме берега. Все стояло в памяти. Островок каменный, высокий, хорошо солнцем прогрет, украшен травой, а там, где камни — мхи сухие, особые. Волос на Кенилля черен, голос высок. Упадет в траву, не дает тени. Сломит линялый ирис, начнет учить Ивана нымыланским словам.
Слова разные.
Одни похожи на чюхочьи, другие на одульские.
Соболь, например, звучит по чюхочьи — кыттыгым, а рыба, наоборот, по одульски, хоть не говори, а высвистывай такое слово — уюувай. Такая рыба летом красна, похожа на семгу, только больше семги. В реку идет, в море не возвращается — помирает в реке, в тех заводях, где когда-то родилась. Видишь, не раз говорил Ивану неукротимый маиор, даже рыба и та возвращается в родные места. Плавала где-то в морях, а умирать все равно вернулась в родную реку! Пора, Иван! Пора уходить в Россию!
— К смерти вернемся, — смеялся Иван.
Кенилля лежала на спине, круглое лицо обернув к солнцу. Жмурилась, как птичка, учила Ивана всяким нымыланским и коряцким словам.
Береза, например, лугун.
И это правда. Ведь на лугу растет.
А олешек — лугак. Тоже правда. На лугах пасется.
Утро звучит как колокольчик, не сразу выговоришь — емкололю. А младенец — паачучь. Так и слышишь плачущего младенца. А борода — елун. Да может и правда елун. Почему нет?
А были и долгие слова, красивые. Например, леляпичан. Это одинокая звезда в небе — леляпичан. Про такую звезду еще можно сказать — еженичь, и это тоже будет одинокая звезда в небе. Но так говорят выше по реке.
Красиво.
Мял девку.
Грех, грех! Но Кенилля сама шептала в ухо: «Аймаклау…»
Вечером ветер с полночи, небо чисто. Сухими мхами пахнет, повсюду травной дух. Кенилля шепчет: «Кукамлилиначь-кулеч…»
— Остановись, что ты! — ругается Иван. — Не может быть такого длинного слова!
Как зверь, жадно ловя запахи ноздрями, Иван дивился: ведь всего несколько лет назад, кроме запаха дрянного винца ничего другого не знал в жизни! Еще несколько лет назад почитал за высшее счастье валяться пьяным в грязной канаве, а сейчас чувствовал силу. В сером Санкт-Петербурхе боялся перейти с острова на остров, боялся варнаков и прохожих, а на Камчатке ни враги не страшили, ни расстояния.
Кенилля…
Переворачивался на спину, упирался взглядом в звездное небо. Дыхание терял, волнуясь — вон она над ним, долгая звездная река, долгий путь к далекой недостижимой Апонии… А там Большая Медведица на горизонте — Елуе-кыинг… А там Утиное гнездышко — Атага…
Жадно всматривался в звезды.
Вон красная звезда, как фонарь, как стрела огненная, ее нымыланы так и зовут — Ичиваламак… А там, где все небо в матовом свете, где через все небо как бы пролили много белого молока — это Путь Млечный, река дресвяная — Чигей-вай…
Задумывался, прижимая к груди еле дышащую девку. Гусь неподалеку линял, вскрикивал, а Кенилля лежала тихо. Лежит совсем тихая, лицо расшито сажей. И на груди дикие узоры, и на животе… А так, совсем как русская… Вот только язык другой… От души дивился: почему у Кенилля — каинга, а у него, у Ивана — медведь?… Почему у него — Путь Млечный, а у Кенилля — река дресвяная, Чигей-вай?…
Повторял вслух:
— Чигей-вай…
От мягких звуков, ни на что не похожих, начинало щемить сердце. Почему-то вспоминал девку Нюшку. Добрая соломенная вдова уже выдала, наверное, сенную девку замуж… Вспоминал добрую соломенную вдову Саплину, ведь клятвенно обещал ей вернуть маиора… Широк господь — все возвращает…
— Аймаклау…
Это Кенилля шепнет, а он повернет голову:
— Чего тебе?
— Аймаклау… — повторит, как птичка.
И глаза закроет.
И больше ни слова, больше ни звука. Грех… Грех…
А в ночном небе, бездонном, как море, река дресвяная, белая — Чигей-вай… Вся мерцает… Бесконечная, поросла быльем, как травой, поросла любовными баснями и легендами…
Девка дикая рядом шепнет:
— Аймаклау… Дитя хочу… Паачучь хочу…
Ишь, усмехался Иван, дитя она хочет! Кенилля, мышеловка.
— Аймаклау… — шепчет. — Я паука ела…
Очнется:
— Как паука?
— А темного паука… Такой бегает по стволу дерева… Если хочешь дитя, надо съесть такого…
Глаза желтоватые, как лед-яснец, только немножко разного цвета. Лет себе не знает, а в любви жадная. И дикует, конечно, — вот паука съела. Сердце заходилось: как оставить такую? Вздыхая, учил слова. Катву-гынгай, сразу понятно — буря. В самом слове что-то бурное есть, не ошибешься. А вот — анкан… Прислушивался к звучанию… Море…
Однажды с горелой сопки видел настоящее море вдали — все синее, будто везде только небо. И вдали, и внизу, и вверху — все синее. Вспомнил, как будучи секретным дьяком еще в Санкт-Петербурге хотел заглянуть за свод небесный, пробить в небесном хрустале дыру. Там, наверное, тоже должно быть все синим. Только вот не дошел еще до края небес. До края земли дошел, а до края небес еще не дотронулся. Может, подумал. и Апония так создана? Чем ближе к ней подходишь, тем сильней удаляется от тебя?…
Анкан… Море…
Путь в Россию. И в Апонию путь.
Лодку выносило к высокому берегу. На обрыве, в кедровнике, прямо под луной, нисколько не прячась, на задних лапах скучно сидел медведь. Вон как пусто в природе, подумал Иван. Совсем пусто. Ну, гусь вскрикнет. Ну, лиса выругается, тявкнет. А так — совсем пусто.
Нымыланы тихи, человеколюбивы.
Это сильно повезло, что вышли к нымыланам. Могли выйти к ительменам, уже встречавшимся с русскими. Выбрось байдару немного южнее, точно вышли бы к ительменам, пришлось бы учить другие слова, если бы, конечно, ительмены позволили. Вора Данилу Анциферова, например, ительмены сожгли живьем в специальном балагане. Правда, Анцыферов сам был недобр к ительменам.
Вспомнил монстра бывшего якуцкого статистика дьяка-фантаста Тюньку.
В книге, которую вел монстр, было много самых разных слов. Дьяк-фантаст так и объяснял: пусть будет в книге много самых разных слов. Пусть будут слова куши и коряков, ительменов и нымыланов, кереков и одулов. Пусть книга послужит в будущем на пользу всем людям, где либо потерпевшим кораблекрушение. В той книге, объяснял, для такого потерпевшего всегда найдутся нужные слова, к какому бы краю его ни прибило. К чюхчам попадешь — поговоришь с чюхчами, к апонцам попадешь — с апонцами. И коряки тебя поймут, и кереки, и камчадалы, и мохнатые курильцы. Даже швед из провинции Сконе, имея ту книгу, мог бы объясниться с любым дикующим, вот какую сильную книгу вел дьяк-фантаст. Знал монстр: если обращаешься к какому человеку на его природном языке, тот человек всем сердцем добреет…
Перекрестился.
Не пора ли про все забыть? И про Россию забыть, и про Апонию… Ведь убедился, что чем дальше идешь, тем меньше находишь… Может, вообще никуда больше не надо ходить? Вот большая гора, над нею небо… Если дальше идти — выйдешь к морю. А зачем? И в лесу хорошо. Можно слушать гусей, дружить с Айгой, жить с Кенилля…
Усмехнулся.
Греб, сильно ударяя веслом.
Хотел поскорее увидеть знакомый берег.
Он, Иван, подплывет, привяжет лодку к корню нависшего над рекой дерева, поднимется к балаганам, навстречу выглянет Чекава, или Кымгач, или какая другая девка. Кенилля застесняется, не станет выглядывать. Лицо круглое, закроет его ладонями, будет из балагана голоса слушать. А выйдет навстречу Айга. Переносица у друга сердешного страшно порублена ножом, вид у Айги страшный, но всегда смеется.
— Ну?
Айга ответит гортанно:
«Елко!»
Он, Иван, войдет в балаган, девки испугаются, а сердешный друг Айга обрадуется:
«Койон!»
Пригласит, укажет на пол:
«Садись».
В балагане сердешного друга Айги просторно, посреди четырьмя колышками обозначен очаг, угли тлеют, тепло. Нагие девки сидят, прикрыв стыд пятками, скромно опустив головы.
Вздохнул.
Тюньку жалко.
Он для Тюньки так ничего и не сделал, даже не повесил его. Вся жизнь Тюньки была как кораблекрушение.
Глава III. Ночные берега
В сумерках Иван правил лодку по лунной дорожке, смутно подрагивающей на ленивой воде. Сколько раз видел такое — ночь, луна, дорожки на воде, а все равно смотрел с волнением.
Раньше как?
Раньше думал просто: природа — это то, что лежит вокруг. Например, виселицы на дороге под Санкт-Петербурхом — тоже природа. «Чего это?» — спросишь. «Главный санкт-петербурхский лесничий удерживает подлых людишек от порубок». — «А чего рубят?» — «Дубы».
Так и считал: природа — это то, что лежит вокруг.
Изучал описания Светониуса, Курциуса, а то Эродотуса: в одной стране Солнце высоко, в другой низко, спорил в австериях с такими умными, как сам, почему в одной стране все вот так происходит, а в другой вот этак? И тоже думал — природа.
А тут тьма, ночь, в небесах свет тайный. Замирающий, нежный, почти неуловимый, но свет, похожий на тот, что бывает над иконами в старинных золотых окладах. Намекающий как бы…
Но на что?
Был когда-то плоский Санкт-Петербурх, дом Меншикова, похожий на кирху, каменная баба у дома Меншикова, такая красивая, что рядом приставлен часовой, пузатые шнявы на воде, по берегам многочисленные дворцы, шалаши и хижины, улицы, вымощенные хворостом, грязь топкая, вечная, палая лошадь на обочине, собаки не успели труп растащить, низкие дымы над бесчисленными трубами, мосты на плашкоутах, кликуши, солдаты, чухонки, запах пеньки, гнилой воды, пота, смолы, кабаки, конечно… Тоже считал — природа.
А где это все? Приснилось?
Зябко повел плечами. И увидел впереди огонь.
— Для тебя жжем! — радостно крикнул с берега Похабин.
— Как узнали?
— Нымылан Лула подсказал. Был третьего дня, подсказал, что видел на воде плывущую плашку. Ровная плашка, такую можно выстрогать только железом. Сказал, что бородатый по реке идет. Сказал, Аймаклау идет.
— Ну? Лула? Он же кос. Он ветх очень.
— А чего ж? — ухмыльнулся Похабин. — Может, кос, может, ветх, а вырос-то на реке. Чуть что, сразу видит.
Костерчик освещал перед деревянной избы, дальше начиналась темь, как черный заплот до неба.
Нымылана Лулу Иван знал — дальний старший брат Айги, действительно ветх, хром, косит левым глазом, с детства болен загадочной болезнью, от того еще более ветх. Поистине загадочная болезнь: можно бить того Лулу камнем, резать ножом, лить кипяток, он нисколько не почувствует боли. Совсем нигде ничего у него не болит, только вид тяжел, смотреть на Лулу страшно.
Иван весело покрутил головой. Вот край какой! Даже болезни особенные.
Но больше всего тронула Ивана деревянная изба.
Давно не жили в русской избе.
Немного низкая, углы в обло, в нижних венцах вырублены чашки и пазы, отчего на углах бревна красиво выпирают наружу, — и зимой не промерзнет такая изба. А крыша у нее под дерном.
Иван радостно потянул воздух носом.
Счастливо пахло от избы — сухим мхом, смолой, дымом.
— Вот, — сказал рыжий Похабин без хвастовства. — Даже печь из камня сложили. С самым прямым дымоходом, но печь. В глину соболиную шерсть мешали для крепости. Правда, нымылан Лула пригрозил: тряхнет бог Кутха землю, все развалится. Не любит, дескать, Кутха, чтобы ставили на Камчатке каменное. Сам-то всю жизнь обходится очагом. — И добавил, странно стрельнув глазом в Ивана: — Крепкая печь… Жалко оставлять будет…
— А чего ж оставлять? — весело ответил Иван, сам незаметно поглядывая в сторону темного тихого балагана Айги. — Жить будем. Еще казенку поставим. Кто не принесет ясак, того в казенку. — А сам опять незаметно глянул в сторону балагана Айги.
Вот Айга — друг.
Айга — друг сердешный.
Всегда встречал на берегу, даже если Иван возвращался ночью. Всегда пугался обещаниям русских совсем уйти. Хитро намекал: если останетесь, прославится род Айги. Известно, русские — сильные, у них огненный бой. Хитро намекал: если останетесь — станете богато жить, поставите новые балаганы, выроете просторные полуземлянки, возьмете переменных жен. Родимцы отовсюду понесут вам подарки. Со всеми вступите в родство. От всякого будете иметь пользу. Намекал: есть, к примеру, родимец Чегага. На вид снулый, как рыба, а не было и нет среди нымыланов такого хорошего лисичника. Пойдет за одной лисой, непременно принесет две. Ну, а скучно станет, хитро намекал Айга, позовем шаманку — у того Чегаги в роду все бабы шаманки. И в бубен умеют бить, и прыгать вокруг костра, и, специальное платье одев, хорошо нашептывают на разные предметы — на рыбьи жаберные сухие крышки или на траву, и тем лечат всякие болезни, отвращают несчастья, предвещают будущее. Будете жить богато, хитро щурил глаза Айга, будете иметь многих переменных жен, думать о будущем.
Усмехаясь, головой одобрительно качая, Иван заглянул в избу, с наслаждением вдохнул запах нежного древесного дыма от недавно протопленной печи. Тронул пальцем стену — совсем чистая, лишь редко, как пот, выступили на бревнах капельки смолы. Зимой, понятно, все закоптится, жирно повиснет под потолком сажа, но пока чисто.
Обернулся к майору.
Удивился, как бледен неукротимый маиор. И глаза блестят необычно. Спросил:
— Давежное вино пили? — а сам прислушивался с удивлением, сам поглядывал незаметно в сторону темных балаганов — это как так? Это почему не слышно сердешного друга Айгу? Раньше Айга всегда встречал Ивана на берегу. Прошлый раз встречал — как раз земля тряслась. Айга тогда сказал: совсем выжил из ума нымыланский бог Кутха, все у него плохо стоит, трясется. Столько наделал гор и долин, оврагов и возвышенностей, а ничего хорошенько не закрепил.
Дивый край.
День назад сам видел на реке странное.
Вдруг булькнуло, с темного дна, не мутя воду, но раздвигая зеленую подводную траву, медленно поднялись серые пузыри. Совсем как нарывы. Достигнув поверхности, пузыри полопались, пошел от них плохой дух. Тоже, наверное, вредничал Кутха, а может, его помощники.
— Хорошая изба, — похвалил Похабина, ждавшего похвалы.
Глянув на маиора Саплина, настороженно застывшего под деревянной сушилкой для рыб, вернулся к костерку, руками оторвал кусок копченой оленины с выставленного Похабиным блюда, а сам опять незаметно глянул в сторону темных балаганов Айги — вот почему не встречает сердешный друг?… Даже усмехнулся: спит Айга… Стареть начал… Подумал, сильно жуя оленину: сойду утром на каменистый островок, где нымыланский бог Кутха свою жену Илькхум таскал за волосы, а Кенилля уже там, прячется в траве… Кто-то страшно закричит на другом берегу — ушиа! ушиа! — Кенилля испугается, прижмется к Ивану… Подумал неодобрительно: вот спит Айга, сильно умаялся. Все лето брал рыбу, вялил кету, горбушу, нерку с маленькой головой. Все лето много трудился ради близкой зимы. Теперь голода не боится, работы не боится, охоты не боится, ничего не боится, кроме чюхоч, потому спит… А чюхоч всегда боится… Не может не бояться. Те чюхчи или коряки приходят — побивают мужчин, отбирают женщин.
Кенилля отберут…
Перекрестил грудь, глянул одобрительно от костра на избу:
— Хорошая изба. Пересидим зиму.
— А зачем сидеть? — спросил неукротимый маиор. — Одну зиму уже пережили, хватит. В полуземлянке, в сырости, в тесноте, при свете лучины, но пережили, спасибо Айге. Сильно помог. Пусть теперь отдохнет Айга, пусть поживет в русской избе.
— Почему Айга?
— А кто еще? — удивился Похабин, но маиор перебил его:
— Уходить надо. Нымылан Лула говорит, что видел в низах реки чюхоч. Опасно сидеть на реке. У нас к пищали, считай, нет зелья.
— А Айга?
— Айге что? — удивился маиор. — Он здесь вырос. Для него, что олень, что чюхча — все из одного ряду. Он голову ломать не будет. Он заберет шишиг и откочует к родимцам.
Иван засмеялся:
— Зачем откочует?
— А почему ж Айге не откочевать?
— Да почему ж откочует? — Иван начал сердиться. Чувствовал в воздухе что-то неясное. Махнул рукой: — Зачем ему откочевывать? Стойбище удобное, теперь даже изба есть. Сами позовем сюда русских. Дадим весточку через дальних нымыланов, пусть идут русские на новую тихую реку Уйулен. Придут, возьмут жен, пойдет богатый приплод. Расширение державе.
— Хамшарен! — неукротимо выругался маиор. — Да от кого приплод?
— От баб.
— От дикующих?
Иван нехорошо сощурился:
— Сам разве, маиор, не содержал дикующих жен?
— То не жены, то сервитьерки были.
— Ну, ладно, пусть сервитьерки, — усмехнулся Иван. И спросил быстро: — Зачем рубили избу, если в голове одно — уйти, все бросить?
— Руки надо было занять. Изба Айге сгодится.
— Он привык к балагану. Ему просторнее в полуземлянке. Не пойдет Айга в избу.
Маиор не ответил.
В прыгающем свете костра деревянная изба то выдвигалась из мрака, то снова проваливалась во мрак. Как бы зарницы тайные опрокидывали мир в черное, как в тоску. Иван вспомнил почему-то: Кенилля грому боится. Гром прогремит, она круглым лицом ткнется в грудь Ивану: «Спрячь, Аймаклау! Бог Кутха гремит, сердится. Бог Кутха лодку на перекате через камни перетаскивает. Вот попал на мелкое место». — «И пусть. Нам что?» — «Так не говори? Кутха услышит».
Повел плечом:
— Почему тихо?
Похабин отозвался простодушно:
— Так кому ж шуметь?
— Раньше Айга всегда выходил навстречу…
— Так то раньше, — все так же простодушно отозвался Похабин. — А нынче некому. — И, помолчав, объяснил: — Сшел Айга.
— Как так?
— Ну, как… — пожал Похабин круглыми плечами. — Он же не на цепи… Он и раньше уходил, и сейчас сшел. Может, захотел дробь показать родимцам. Мы Айге подарили свинцовую дробину, он пробовал на зуб, дивился: как так, зачем, мол, металл мягкий? Теперь, пока не обойдет всех, не вернется. А, может, сшел на нос Атвалык. Он собирался на нос Атвалык. Мы ему сказали, что если пойдешь, то иди с пользой. Слухи ходят по стране, что выплеснуло на мыс нового человека. Говорят, весь в бороде. Узнай, сказали Айге, вдруг русский? — И добавил, оглянувшись на маиора: — Если вдруг выплеснуло на берег попа поганого, повесим!
Щека Ивана дернулась:
— Как сшел Айга? Один?
— Не один… С шишигой… — Похабин даже пожал плечами. Вот, дескать, какой оказался сердешный друг — не стал ждать Ивана. Он, Похабин, как бы даже не ожидал такого.
Но Иван не смотрел на Похабина. Нырнул во тьму, как в воду, жадно крикнул:
— Айга!..
На голос Ивана никто не ответил, но шевеление началось в невидимых балаганах, тревожно зашуршали испуганные голоса, потом услышал — заплакали девки.
— Кенилля!
— Нет Кенилля, — ответили.
— Это ты, Кайруч?
— Я, Аймаклау.
— Куда сшел Айга?
— Нос Атвалык есть.
— Зачем сшел так рано?
— Дружбу крепил с русскими.
Иван скрипнул зубами. Как обожгло. «Дружбу крепил с русскими!» Значит, сами отправили Айгу к морю! Сами решили, что без сердешного друга и без его шишиг он сразу обернется в сторону России. Снова скрипнул зубами: будто прост путь! Будто хорошо знают, как правильно переходить снежные горы, как правильно миновать стойбища немирных коряков, как не замерзнуть в лесах, не утонуть в быстрых реках.
Пнул сапогом головню.
Искры брызнули по поляне, в трех-четырех местах сразу дружно взялась сухая трава. Из выпрыгнувшего из тьмы балагана в свою очередь выпрыгнули страшные девки. Умело гасили траву, громко плакали.
— Дай топор! — крикнул Иван маиору, торопливо суя в пустую суму куски копченого мяса.
— Пищаль не дадим, и топор не дадим, — сурово ответил неукротимый маиор. — Остатки зелья нам в походе понадобятся. Нам еще до России идти, Иван. А это далеко. Ты сейчас глупость делаешь.
— Где мы, там Россия! Брось топор в лодку!
— Топор не дадим.
— Вы свое срубили…
— А тебе зачем?
— Иду на нос Атвалык… — Иван шагнул к топору, загнанному в колоду, но неукротимый маиор выдернул топор из колоды и махнул им вправо и влево:
— Топор не возьмешь!
Иван опешил:
— «Дивен Бог во святых Своих…»
— Это, Иван, по тебе споют.
Крестинин не ответил.
По сухой траве, не оборачиваясь, сбежал к берегу, в бешенстве швырнул на дно лодки полупустой мешок, прыгнул, оттолкнулся веслом от берега, река сразу занесла лодку за поворот — огонь на берегу исчез, как погас.
Похабин мрачно сказал:
— Ранить надо барина…
— Как — ранить?… — изумился маиор, вгоняя топор в колоду.
— Да просто… — сплюнул Похабин. — Нагнать барина на лодке да ранить несильно, чтобы остатнего ума не лишился… Или поцарапать, чтобы на баб не тянуло… Баба не калач, один не съешь… Тогда барин одумается… — Заключил твердо: — Нельзя оставлять барина…
— Хамшарен! — выругался неукротимый маиор.
Похабин возразил:
— Барина жалко.
Глава IV. Один в гневе
Хамшарен!
Нос Атвалык! С шишигою сшел!.. Разве не угождал Богу? Разве не принимал истязаний в тяжких путях? Все, что было за спиной греховного — разве не оставил давно? А если впадал в какой грех, то разве не по необходимости?… Вот уйти решили! Перестали бояться немирных дикующих, как раньше… Перестали бояться зимних снегов, чужих стран, больших расстояний!.. Только б уйти!..
Скрипел зубами, со страстью бил веслом по воде.
С весла срывало стеклянные струйки, брызги летели в лодку.
Река ни с того ни с сего начинала круто петлять, а то раздваивалась, даже расстраивалась, разделяемая почти невидимыми островками. Только при вспышках ночных зарниц успевал замечать то низкую аянскую ель, наклонившуюся над темным обрывом, как жилистыми пальцами вцепившуюся судорожно всеми корнями в камни, то острую скалу, омытую водой, то просто переломленную ветром березу. Эта даже ни за что уже и не цеплялась, безвольно нависая над темной водой…
Хамшарен!
Он, Иван Крестинин, секретный дьяк, волей своей добился до дальнего острова Симусир, разыскал среди дикующих неукротимого русского маиора, все силы положил на то, чтобы, выжив на море, выжить теперь на суше, а маиор Саплин и вор Похабин вдруг сговорились…
Смириться не мог. «Сшел Айга…»
Стучало в висках, левую щеку дергало, томительно ныл палец на руке, отрубленный еще много лет назад, стреляло иглами в сердце.
Кенилля…
Летом лежишь в траве, островок каменный, день жаркий. Багульник душен, запах от него густ. На плоских камнях, в траве, во мхах — везде сухо. Лежишь, а на веточке рядом со ртом дрожит ягода — алая, крупная. Если крикнуть, никто не отзовется, все в лени, во благе. Разве любопытный медведь приподнимется на задние лапы да глянет через куст с укором — зачем губишь тишину? Морда у медведя тоже мокрая, сытая. Ягод нажевался, хочет покоя. Дивый край.
Иван скрипнул зубами.
Нымылане, может, глупы. Даже своему главному богу Кутхе не всегда должное воздают, рассказывают про Кутху смешное. Раз спросил Айгу: видишь, Айга, звезды над головой, Луна светит, работает небесная механика, зимой встает над лесами северное сияние, летом идут дожди, в балаганах и в полуземлянках у смеются дети и переменные жены, а вот скажи, Айга, кто есть всему творец, от чего все это?…
Айга выслушал, засмеялся, впрямь дикий, и ответил просто: а это все от сплошной бесполезности. Так и ответил: это сам глупый бог Кутха не знает, что творит.
А сам Айга не глупый. Если его переспросить, если снова указать на звездное небо, снова напомнить о северном сиянии, о зарницах и молниях, о летних дождях, о горелых сопках, он, конечно, даст объяснение каждой вещи…
Таковы все нымылане.
Дымом обкурены, ростом не вышли, часто покладисты, часто робки, — не в пример воинственным ительменам. Брови навислые, как корешки трав на обрывах, в руках короткие копья, от робости кричат громко, зато умелы, многое могут. Например, кочевать в лесах, травить хитрых лис, собирать разные корешки. Другие нымыланы умеют пасти веселых олешков. А есть такие, что давно осели на берегу, умеют колоть копьями морского зверя. Есть, говорят, даже такие, что не боятся выходить в море на больших байдарах и там, в море, нападать на китов. В каждой байдаре умещается почти по тридцать человек, и все шумят, и все кидают в кита отравленные стрелы и копья — любят китовый жир.
Кенилля…
Скрипнул зубами.
Ночная река несла лодку то впритык к лесному берегу, только успевай отталкиваться, то выносила под скалы.
Нала-коша! Иван сердился. Не мог понять. Совсем недавно тихая река Уйулен струилась медленно, почти не мешала подниматься вверх на веслах, лениво струилась в протоках, а сейчас ни с того, ни с сего взялась мощно, неистово.
Вдруг вспыхивало все небо.
Это мое нетерпение вспыхивает, подумал, поднимая голову.
Задохнулся.
Всего-то и переждать зиму! Сколько зим прошло с той поры, как оставили Россию, неужто невозможно потерпеть еще одну?
А там уйдем.
Может, уже летом уйдет.
Айга непременно сыщет опытного проводника. Если уж столько лет ходили по самому краю земли, то почему не провести на краю земли еще одну зиму?
Оно, конечно… Тесная полуземлянка, сажа по потолку… Запах дыма и сырости, за стенами — пурга, ночь… Печаль многих убила, пользы в ней нет. Но — уйти… Так сразу!.. А Кенилля?… Она ж паука ела…
Задохнулся, так сильно, так остро захотелось увидеть Кенилля — черную, с белой прядкой на голове. Вот, правда, зачем бежать с реки? Сжал кулаки. Догоню Айгу! Придет рассвет, выступят из тьмы берега. Днем можно будет поспать, не выходя на берег. Река сама работает за человека. Айга, как все нымылане, нетороплив, Айга будет спускаться с Кенилля к морю неторопливо. Будет останавливаться, будет смотреть следы разного зверя. А если даже не нагонит Айгу на реке, то непременно встретит у моря.
Насторожился. Наклонил голову к темной воде.
Сперва показалось, что где-то далеко кричит птица вострохвост. Голос у нее диковинный — аан гич! аан гич! Но ведь птица не может выговаривать человеческие слова. Изумился. Явственно прозвучало над водой слово маиор.
Как так?
Прислушался еще внимательнее, оставил весло. Действительно звучали над водой негромкие слова:
— Маиора коказол… Таалагек кирхул… Кукурэт тамбезен…
Получалось: «Если бы служил маиору… Если бы служил такому сильному… Снимал бы с огня… Снимал бы с огня всякие вкусные кушанья…»
Вслушивался изумленно.
Знал, слухи о русских распространились по реке Уйулен очень далеко, может, дошли до дальних рек, может, даже русские казаки в южных камчатских острожках уже прослышали о бородатых, дикующих на реке Уйулен, но впервые услышал такую песнь.
— Похабин теелизик… Чачало чулкил кинигизик…
Получалось: «Если бы служил Похабину… Если бы служил такому рыжему… Носил бы на ногах рыжие чулки…»
Изумился.
— Иван теелезик… Аймаклау киллизин…
Получалось: «Если бы служил Ивану… Если бы служил Аймаклау… Если бы служил такому умному… Все стали бы моими девки…»
Еще сильней изумился. Как так? В ночи, на реке? Кто?
Увидел — вдали мелькнул огонек. Опять удивился: кому подан знак в непроглядной ночной мгле?…
Да нет, подумал, просто огонек. Не знак.
Потом догадался — факел. Лодку медленно несло на ночного рыбака.
Сердце трепыхнулось и стихло: не Айга, к сожалению, ловил рыбу. Ловил ее нымылан Экын — лицо драное. Так и звали: Экын, драный. Известно, медведь на реке Уйулен сер, простодушен, сердится редко. А если все же рассердится и начнет драть человека, то дерет все равно не до конца. Засмеется и уйдет. Так однажды не уберегся и Экын — губы кривые, глаза сбиты в левую сторону, медведь, известно, левша. И веки красные, вывернутые.
Лодки медленно покачивало. Соприкасаясь, они с деревянным стуком толкались бортами, смоляной факел трещал на носу нымыланской лодки. Поднимется из глубины рыба, посмотрит на Экына выпуклыми глупыми глазами и Экын так же на рыбу посмотрит. А понравится рыба — ударит острогой.
Помолчали.
Поглядывая сбитыми налево глазами, странно подмигивая, Экын опять продолжил бесконечную песню. Не смотрел на русского, приглядывался к призрачным ночным безднам, из которых на свет факела всплывала очередная глупая рыба:
— Гнаноеде олосконга ворока… Бине зотес комчул беллон…
— Что значит? — не поняв, удивился Иван. Решил, что они с Экыном достаточно помолчали, достаточно уважили друг друга, поэтому и спросил. Нымылане не любят начинать разговор сразу. Сперва помолчат, потом немного поговорят о глупостях, потом еще помолчат, и только потом заговаривают о деле.
Улавливал, понимал слова:
— Русские уйдут, сильные уйдут… Беда придет, печаль придет… Отправится Экын в лес с печалью…
Не каждое слово понимал, но общий смысл улавливал.
— Русские уйдут, чюхчи придут… Некому защитить нымыланов, никто не защитит нымыланов… Баб уведут, мужчин побьют… Старый Экын отправится в лес с печалью…
— Кыгумаги! Молчи, старик!
Помолчали.
Как во лодочке, во лодочкекрасна девица сидит пригорюнившись…Как во озере, во озерезелена лягушка расквакалась…И чего ты лягушка расквакалась, расквакалась жалобнехонко? Али мне без тебя не тошнехонько?… — Кыгумаги! — с горечью повторил Иван. — Совсем пустая река. — Сдерживал себя, боялся неистовых бесов. Боялся — вот не выдержит, закричит в гневе. Боялся, схватит Экына за грудь, ножом подопрет снизу. Где, страшно закричит, Айга? Торопливо отвечай, закричит, когда прошел по реке нымылан Айга? С кем прошел по реке?
Экын отворачивал в сторону страшное лицо, стеснялся, кивал неторопливо, соглашался — да, совсем пустая река. Только он, Экын, ловит рыбу, только Аймаклау один плывет по реке. Ну, вот еще одиноко поднимается со дна реки совсем глупая рыба. А так, соглашался, пусто на реке. Соглашался, кивая:
— Совсем пустая река.
И вдруг воодушевлялся, начинал разводить руками — дескать, вот он, Экын, правду говорит. Вот рыба в воде, ее не видно. Зверь в лесу, зверя тоже не видно. Птицы спят, только утром вспорхнут на ветки. Совсем пустая река. Только он, одинокий Экын, поет. Объяснил медлительно: у каждого человека на реке Уйулен есть своя песня. Даже у такого одинокого, как он, Экын. По той песне издалека можно узнать — какой человек поет на реке.
— Зверь не спешит. Рыба не спешит. Птица не спешит. Никто не спешит. И ты не спеши, Аймаклау, — все так же медлительно напомнил Экын. — Ты, вижу, спешишь, ты, вижу, идешь в нетерпении. У тебя в глазах нетерпение, Аймаклау, у тебя жилка на шее дрожит, ты готов схватиться за нож. По твоим глазам вижу, Аймаклау, ты давно не спал. Можешь еще не спать, ты сильный. Но это неправильно. А правильно сделать так — сойти вот на берег. Там летний балаган, в нем сухая трава. Ночью надо спать, Аймаклау. Ночью нельзя спешить, ночью нельзя идти в нетерпении. Правильно — сейчас сойти на берег. Ложись, Аймаклау, к тебе сон придет. А завтра снова поплывешь быстро.
Лодки покачивались, деревянно перестукивались бортами. Тихие пучеглазые рыбы поднимались со дна, прислушивались к говорливым людям: один страшный, наказанный медведем, другой вовсе не нымылан — давно такого не видали.
Иван закаменел, пытаясь не крикнуть.
Только кивал иногда. Верно, дескать, Экын. У каждого на реке своя песня.
Объяснял Экыну, стараясь тоже неторопливо выговаривать слова. Вот верно ты говоришь. У каждого на реке своя песня. Например, он, Аймаклау, хорошо знает — у Айги тоже есть песня. Долгая, протяжная… И у шишиг Айги есть песни. Тоже долгие и протяжные, но каждую можно узнать издалека… Ты, Экын, не раз, наверное, слышал песню Айги, закаменело сказал. Совсем недавно мог слышать. Говорят, сшел Айга вниз по реке, а с ним сшла шишига Кенилля. У нее птичкин голос, она высоко поет. Так, Экын? Верно?
Экын, стесняясь русского, отворачивал в сторону драное медведем лицо, бормотал, кивая, неспешно.
Мир большой, бормотал. Олешек бегает, трава растет, волк зубы точит. Все к месту, все в свой час, торопиться не надо. Никому не надо торопиться, никому не надо ходить по реке в нетерпении, в страсти. Если вдруг бежишь в страсти и в нетерпении, значит, жизнь спасаешь. Иначе быть не может. Ни человек, ни зверь не должны бежать по реке со страстью. «А ты сильно идешь, ты в нетерпении идешь, — укорил Ивана Экын. — Ты идешь со страстью».
И кивал неспешно: ступай в балаган, ложись на траву. Уйми сном нетерпение. Утром встанешь, голова ясная, по уму пойдешь. А сейчас ты в нетерпении, так нельзя. Сейчас ты дразнишь доброго бога Кутху. Сейчас ты дразнишь злобного бога Белюкая.
Реку высветило зарницей.
Природа нетороплива. Склон горы крут, а камни на склоне торчат, не падают. Упадут только в свое время. Дерево подмыто, но стоит над рекой, потому как живет не в нетерпении, не в страсти. Тоже упадет, но в свое время. «А ты со страстью идешь, — повторил Экын. — Айга шел, пел песню без нетерпения. Шла Кенилля, мышеловка, тоже без нетерпения. Круглая очень, в себя вслушивается. Некоторое число дней назад шли здесь по реке, пели песню…»
Боясь, что рука сама схватится за нож, Иван оттолкнул лодку.
…вторые сутки не спал. Смирял себя, бил веслом, не давал векам смыкаться. Воспаленно всматривался: вот поворот, за поворотом островки, протока… Стремился угадать самую короткую… Поистине шел в нетерпении, искал знаков — быстро иду!
А зачем? — вдруг мрачно дивился. Правда, зачем со страстью иду? Если сшел Айга на нос Атвалык, все равно найду Айгу.
И еще нетерпеливее бил по воде веслом.
Вдруг показалось, будто смутно стало в природе. Ничто вроде не движется, везде тишина, не качаются высокие берега, а с обрыва сами собой выпали в воду камни…
Еще обратил внимание: в первый день, когда плыл к балаганам Айги, река текла чисто, мирно, видел под лодкой густые зеленые водоросли — целые подводные леса таинственно колыхались под лодкой. А тут, после ночи, вода помутнела, выгнулась, понесло по стрежню щепки, корье, траву, будто в верховьях прошли большие дожди…
Вспомнил басню Айги.
Касатки однажды резали в море кита, а кит ушел от них с ножом вместе. Потом означенный кит умер, выкинуло его на берег. Нымылане обрадовались, стали срезать с кита ремни вкусного жира и нашли в ките нож. Скоро узнали про то касатки и потребовали свой нож обратно, но нымылане не дали. Касатки рассердились и так сильно приступили к берегу, что вода замутилась, а некоторые утесы рухнули. Так что, все знают: если вдруг мутнеет вода, это касатки идут требовать потерянный нож.
А почему замутилась вода?
Смирял себя. Догоню Айгу! Догоню Кенилля!
Думал: вот всю жизнь себя смиряю. В сыром Санкт-Петербурхе смирял, в далекой Сибири смирял, на дальних островах, теперь на Камчатке себя смиряю…
Кенилля…
Вода быстрая, мутная.
Толкаясь веслом, вспомнил.
Год назад в снежных зарядах вышли к балаганам Айги.
В полуземлянке темно, дым, девки прятались под пологом, сильно боялись русских. Айга тоже сперва боялся. Слышал о русских, но сам русских никогда не видел. Сидел у очага, оглядывался робко, прикармливал небольшой огонь. Ветки смолистые — вспыхнут с треском, сразу все видно в полуземлянке, а в вое ветра снаружи прокатывается далекий подземный гром и полуземлянку колышет, как лодку на волне. Похабин с непривычки, совсем одурев от дыма и усталости, даже попытался выброситься из полуземлянки, только маиор крикнул: «Держи Похабина!» Схватили. Сказали: остынь, ничего более не бойся. Это земля трясется, но все равно — земля. В такой стране мы еще много чего услышим и увидим странного, Похабин. Крепись духом, терпи.
Глава V. Погоня
Река Уйулен — путь млечный.
— Раним немножко барина… — предлагал Похабин, веслом подгоняя лодку. — Не захочет вернуться в Россию, раним немножко барина. В руку, например, чтобы драться не мог. И такого поведем к русским. Нельзя оставлять барина одного среди дикующих. Мне строгий покойный государев человек господин Чепесюк так и наказывал: следи за каждым шагом барина, Похабин, ничего не смей упускать! Наверное, сильно хотел, чтобы барин вернулся в Россию… — Неодобрительно покачивал рыжей головой, отталкивал веслом сносимые по мутной воде коряги: — Ведь вот что задумал барин, ну, просто умом занемог: стремится в дикующие!
— Диковать — зло. После шведа, может, главное зло, — согласился маиор. — Я убивал за такое.
— Ну? — дивился Похабин.
— А то! — сурово ответил маиор. — Помни свою официю! — И кивнул: — Боюсь, что не пойдет в Россию Иван… Шишига у него…
— Как не пойдет?
— А так! — неукротимо объяснил маиор. — Упрям. Коль отнять у него шишигу, Иван спрячется в лесах, начнет курить вино. Раньше был склонен к такому. А не сможет курить вино, начнет жевать мухомор. Что-нибудь да найдет. Может, и вернется в Россию, но когда сам надумает. Не раньше.
— А дикующий?
— Вот я и говорю, Похабин, работай веслами! Нам Айга сейчас нужен больше, чем Иван. Нам надо первыми выйти на Айгу. Отеческой аттенцией не оставить дикующего, отправить его с шишигой как можно дальше… Так далеко, куда не дойдет даже Иван… Хоть к чюхчам…
— К чюхчам не пойдет Айга.
— Это я к слову, — согласился маиор.
— Смотри, — удивился Похабин. — Баба!
На берегу, правда, приплясывала, подпрыгивала, вся трясясь, темная нымыланская баба. Голос непомерно высок, вскрикивала визгливо. Вскочит, потрясется, попрыгает, потом сядет на землю, но долго не сидит — снова вскочит, снова потрясется, попрыгает. На плечах камлейка из птичьих шкурок, вытертая до блеска, а ноги босые. И никакой лодки у берега, никаких на берегу балаганов. Непонятно, как попала на берег. Может, пришла пешком?
— Чего это она? — удивился Похабин, придерживая бег лодки.
— А ты спроси, — загадочно позволил неукротимый маиор. — Только вплотную не подгоняй лодку к берегу. Видишь, коряга торчит из воды? Цепляйся веслом за корягу.
— Почему нельзя к берегу?
— А глянь.
Не вставая, маиор Саплин вскинул над собой руку.
Баба на берегу, страшная, как пужанка, приплясывая, подпрыгивая, тоже вскинула над собой руку.
Маиор резко согнул руку в локте, так же резко мотнул маленькой головой, и баба на берегу в точности повторила все движения.
Маиор хитро покрутил головой, лихо подбоченился, изогнулся, и так же подпрыгивая, приплясывая, страшная баба-пужанка лихо и подбоченясь с удивительной точностью повторила каждое движение маиора.
— Чего дразнится? — растерялся Похабин.
— А ты спроси, — все так же загадочно подсказал маиор.
— А ответит?
— Непременно.
— Имя-то есть у бабы? — подозрительно покосился Похабин.
— Ямгой звать, — ответил маиор. — Однажды видел ее на стойбище нымылана Екыма. Помнишь Екыма? Он лисичек нам привозил.
— Помню.
— Ямга — баба болезная. Ее так и называют. — И ухмыльнулся: — Спроси, спроси бабу, Похабин. Может, видела Айгу? Или Ивана?
— Кышь шишич, Ямга? — крикнул Похабин с лодки. — Зачем одна стоишь на берегу?
— Кышь шишич!.. — высоким голосом ответила баба, ни на секунду не прекращая ужасные подпрыгивания. — На берегу!..
Похабин удивился:
— Почему так говоришь, Ямга?
— Так говоришь!.. — как эхо повторила баба.
— Шаманит она? — оглянулся Похабин на маиора.
— А ты не бойся, Похабин, ты спрашивай, — успокоил маиор. — Большого вреда не будет, только лодку не подгоняй к берегу.
Похабин спросил по-нымылански:
— Шел вчера бородатый по реке? Шел русский?
— По реке!.. — приплясывая, ответила Ямга. — Русский!..
— Сама видела?
— Видела!..
Похабин, глядя на прыжки и ужимки, усомнился:
— Впрямь видела?
— Видела!.. — нисколько не усомнилась Ямга, ни на секунду не прекращая нелепых телодвижений.
— Может, не вчера видела? — допытывался до правды Похабин, удерживая лодку веслом. — Может, видела русского третьего дня? Кыхы-корат?
— Третьего дня!.. — как эхо подтвердила баба. — Кыхы-корат!..
— Зачем дразнишься? — обиделся Похабин.
— Дразнишься!..
— Ну, отцепляйся, — смеясь, приказал маиор. — Я же сказал, что Ямга — болезная. Ее так и зовут. Что скажешь, то она повторит слово в слово. Что покажешь, то же проделает.
Течение враз вынесло лодку на стрежень. Похабин изумленно оглядывался:
— Страсть какая!.. Коты морские, нерпушки, птицы, все по-своему говорят, а Ямга только повторяет чужое… — Повел боязливо веслом: — Давай, маиор, торопиться…
Так плыли.
— Дожди вверху, что ли? — удивился утром Похабин, ладонью протирая уставшие глаза. — Смотри, маиор, вода мутная. Так бывает, когда в верховье прольется большой дождь. А какие сейчас дожди?
— Такое бывает и при подземном громе, — кивнул маиор. — Землю тряхнет, вода мутнеет, приходит в полную олтерацию.
— Не трясло, вроде, землю.
— Мы в лодке могли не заметить, — объяснил маиор, внимательно присматриваясь к берегам. — Видишь вон там… Чуть левее… За соснами… Там склон обнажился и камни сползли… Совсем недавно сползли… По какой причине?… Может, правда, тряхнуло землю?… Мы в лодке могли не почувствовать, а ил поднялся со дна. — Неистово сплюнул за борт: — Уходить надо! — Потом удивился водоворотам в быстрой протоке: — Смотри, как крутит!
Подумав, покачал маленькой головой:
— Дивый край.
Так плыли.
А в природе, правда, что-то сделалось.
Как бы дымком понесло, но не было дыма. Как бы скверным запахом понесло, но откуда?
Оглядывались, ничего не могли понять.
Совсем недавно вода бурно торопилась, ворчала, входила с шумом в протоки, раскручивала водовороты, будто решив раздвинуть каменные острова, а тут совсем остановилась, медленно кружила по воде листву, сорванные ветки. Ночью, при свете луны, видели на мелких местах осклизлые камни, поросшие подводной травой, видели стеклянные глаза рыб, без суеты взирающих на людей снизу, а сейчас вода как бы вспухла, выгнулась на стрежне горбом, вяло выдавилась из берегов, грозя хлынуть дальше, и помутнела так, что сунь руку в воду — не увидишь.
А потом река остановилась совсем.
Бьешь веслом, а с места почти не движешься.
Запах серы, адом запахло, рыба поплыла вверх брюхом.
Похабин испуганно оглянулся на маиора. Отчего это лодка стоит? Может, держит снизу лодку шаманка? Может, договорилась какая дикующая, теперь лодку держит, не желает допускать до барина? Спросил шепотом:
— Вернемся, может?
— Молчи, Похабин! — неукротимо сказал майор. — Под фортецию чувств! Ударю!
Глава VI. Черная гусеница
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………стланик перекрывал узкую тропу, цеплялся за ноги. Накипь лишайников красила плоскость скал седым, в сизой дымной полумгле, густо закоптившей небо, ужасная горелая сопка казалась призрачной. Как бы приподнятая, зависла в воздухе.
Пусто.
Иван поправил нож, заткнутый за пояс.
Впереди, там, куда он шел, из-за зубчатой кромки низкого леса, с близкого моря, наверное, с большой воды выпячивались, вспухали круглые белые облака, а, может, клубы тумана. Странные белые испарения медленно воздымались, пытаясь отнять у занимающей полнеба горелой сопки оставшуюся часть неба. Будто кто-то, невидимый, может, бог Кутха, пускал из-за леса ужасные белые пузыри.
А еще тропа… Неизвестная тропа…
Наверное, коряки ходили, решил Иван, вспомнив рассказы Айги о зимних и летних путях. Нымылане не легки на подъем, а коряки — они непоседы. Коряка можно встретить на горе, на море, на берегу, везде, где может жить человек. Потому коряк и коряк, что не сидит на месте.
Спешно шел по тропе, чувствовал — выйдет к морю.
На странные, всплывающие над морем клубы испарений старался не смотреть. Белые клубы нехорошо ширились, занимали пространство, в их сумрачном нутре что-то посверкивало. Неопределенные, как бы даже слегка размазанные, они стеной поднимались в небо, в самую его сизость. Может, это сам бог Кутха, устав, развел огонь и протянул руки к белому дыму, а может, мертвые, которые живут в камнях горелой сопки, рассорились и теперь бросались друг в друга пеплом из очага, выпускали пары, дышали туманом.
Иван торопился.
Помнил заворожено, что никуда не денется Айга.
Помнил заворожено, что круглая Кенилля не денется никуда.
Сядут сейчас у родимцев на берегу моря, думал, там их и найдет. А если даже ушли куда-то, то ненадолго, за близкие речки, потому что нымылане не ходят далеко, боятся встретить немирных коряков, а того хуже — чюхоч.
Все помнил.
Говорил себе: старый Экын прав, не надо идти так горячо, не надо идти так страстно, так в нетерпении. Старый Экын правильно предупреждал — не надо идти со страстью. Но никак не мог. Торопился. Острая тоска обжигала душу, обдавала сердце паленым веничком, все вокруг казалось нехорошо. Никогда в жизни не видел такого сизого неба, никогда не видел таких круглых, таких странных испарений над морем и над горелой сопкой, никогда не видел такого мрачного, такого сизого пепельного неба.
Чувствовал: в мире нехорошо.
Потому, наверное, и шел со страстью.
Подумал: вот плыл, плыл вверх по реке, вот вез на стойбище красивых лис, радовался миру — скоро увижу Айгу. Вот сильно радовался — скоро увижу друга сердешного Айгу, увижу Кенилля. Радовался — увижу неукротимого маиора Саплина и рыжего Похабина. Светило солнце, голубело небо, вода в реке была прозрачная, и не висели над головой пепельные облака. А увидел балаганы, совсем пустые от того, что нигде рядом не было Кенилля.
И топор не дали…
Сжал кулаки.
Дружбу крепили с Айгой…
Сперва дружбу крепили, потом отправили сердешного друга к морю, чтобы, значит, не мешал. Решили, что без Айги, без Кенилля он, Крестинин, секретный дьяк, прямиком пойдет в сторону России.
А прост путь? О том подумали? Кто подскажет, как миновать стойбища немирных коряков, как не замерзнуть в снегах, не утонуть в быстрых речках? Это в море можно неделями лежать на дне байдары и медленно умирать, там течение все равно будет нести байдару.
Шел как в беспамятстве.
В голове горело. Так бывает, когда нажуешься гриба-мухомора.
Одни говорят, у них легкость отменная во всех членах появляется — за день столько могут пройти, как другие за два дня не пройдут! Другие наоборот начинают бредить, всего пугаются, трясутся, как в огневице, а потом, что бы ни делали, ничего не помнят. Как в беспамятстве, как в огне, могут часами вертеться на одной ноге, как волчки, или пытаются пролезть в узкую щель, она им кажется широкой. А бывает так, что гриб убедительно советует некоторым мужикам удавиться. Является и говорит: ну, все, мужики, вам больше ничего не надо, теперь можете удавиться! И радостно кивает красивой пятнистой головой: многих де удивит такой диковинный поступок!
Скрипнул зубами.
Глухо. Сизость неверная, духота. Испарения мрачные, пепельные. А снизу, с моря, другие испарения. Весь мир клубится, белый, как молоко, а одновременно пепельный. Шел, мял траву ногами, спотыкался о камни, клял густой стланик. Горелая сопка в душной, в какой-то неправильной сизости казалась как бы насквозь прозрачной. Ткни пальцем, проткнешь.
И эти белые сумрачные клубы…
Белые сумрачные клубы росли над морем, как чудовищные седые грибы. Внутри грибов что-то варилось, потом взрывалось бесшумно. Мир сразу замирал, прислушиваясь: почему взрывается что-то бесшумно?
Потом увидел медведя.
Подумал: загостился, наверное, мохнатый на сопке — давил глупых евражек, лущил орехи, искал заветную травку, отдыхал; но медведь почему-то спешил, трусил по тропе деловито, был явно чем-то обеспокоен. А ведь не спросишь — куда?
Грешен, без смирения перекрестился Иван. Это от грехов моих мир так страшно замирает, впадает в безмолвие. Это от грехов моих река страшно остановилась. Это от грехов моих река совсем перестала течь, так что пришлось бросить лодку.
Кенилля…
Понять не мог, зачем друг сердешный сшел со стойбища, зачем не оставил какого знака? Зачем Кенилля не оставила знака? Сердешный друг Айга раньше обещал: вместе сходим к большой воде, Аймаклау. С родимцами поплывем бить бить китов.
Иван дивился: как так? Кит огромен. Как можно убить огромного?
Айга хитро смеялся. Кит огромен, но неуклюж. Кит никогда не торопится. Вот он входит в залив, горбатая спина торчит над водой, чайки смело садятся на обсушенную ветром спину, как на остров. Склевывают со спины ракушки. Кит не гонит чаек, он простодушно лежит на воде, пускает медлительные фонтаны, иногда впадает в сон. Тогда береговые нымыланы на байдарах, сразу по много человек в каждой, спешат к спящему киту, бьют огромного ядовитыми стрелами. Везде бьют, где могут, а особенно стараются попасть в глаз. Если попадут в глаз, кит начинает сердиться, начинает кувыркаться в воде, начинает выказывать к людям неуважение, потом млеет от сильной боли и садится на мель…
Тропа пересекла ржавые аранцы.
Прыгая с камня на камень, Иван ни на секунду не забывал о белой пепельной стене то ли теплых испарений, то ли тумана, вставшей теперь так высоко, что почти перегородила эта стена пешую дорогу к морю. Вот рухнет, думал, ускоряя шаг, совсем потеряюсь.
Но прежде, чем стена действительно рухнула, успел увидеть необычное.
По краю широкой скалы, нависшей над ржавыми аранцами, по обрывистому краю, седому от накипи лишайников, смешно приседая, подпрыгивая, плотно зажав под мышками короткие копья, скользнули одна за другой многие темные фигурки — быстрые, спешащие, а от того спешащие как-то скрытно, тайно.
А может, походка была такая — скрытная.
При этом ни один не споткнулся, ни один не вскрикнул. Шли деловито, слаженно. Вот один, кажущийся издали совсем маленьким, поднимает ногу, вот другой в это время опускает ногу, вот еще один наклоняется, уже завершая шаг, а следующий только еще собирается шагнуть. Неизвестные человечки шли гуськом, будто по краю скалы ползла черная гусеница.
Почему-то сразу понял: чюхчи!
Невольно приостановился, выглядывая убежище, но прятаться уже не надо было. Седая стена тумана или теплых испарений, достигнув какой-то ужасной невообразимой высоты, не выдержала собственной тяжести и рухнула, мгновенно затопив мир влажной белесой мглой.
Конечно, чюхчи!..
Быстры и настороженны, уверенны и деловиты, под мышками копья, ножи за поясами, — зачем к морю идут?
А, может, не к морю? — пытался успокоить себя. Может, обходят горелую сопку? Сейчас обойдут, спустятся на берег, и всем отрядом, как черная гусеница, уползут на полночь?
Подумал: там, в сторону полночи, всегда страшно. Там живет красный червь. Еще там живет зверь келилгу.
Зверь келилгу высокий, всегда ходит с широко раскрытой пастью, а на лапах у него когти. Когда видит чюхчу или коряка, бросается. Увидев такое, чюхча или коряк, убегая, кричат зверю: «Засмейся келилгу! Я жирный, ты скоро съешь меня. Мои олени очень жирные, ты скоро съешь оленей. Засмейся!» Зверь не выдерживает таких слов и от удовольствия смеется. Пасть раскрывается так широко, что верхняя челюсть касается спины, а нижняя достигает груди. Таким образом хитрый чюхча или коряк убегает от зверя келилгу.
Чюхчи!..
Схватился за нож.
Вспомнил: сильно порубленная переносица Айги — дело чюхоч.
В детстве, когда Айга считал весь мир добрым, вот так же неожиданно увидел чюхоч, движущихся, как черная гусеница, к стойбищу. Был Айга так молод, что воины-чюхчи им даже не заинтересовались, зато заинтересовалась им чюхочья старуха. Не имея сил увести Айгу, несколько раз ударила его ножом, попав по переносице. Айга из рук чюхочьей старухи вырвался и убежал.
Чюхчи!..
Торопясь, Иван брел сквозь белесую мглу.
Решил: если встретит какой ручей, двинется к морю прямо по руслу ручья. Тропу легко потерять в густом тумане, а русло не потеряешь. Все ручьи упираются в море.
Торопился.
Но торопился теперь обдуманно.
Чюхчи — большая опасность. Увидев чюхоч, нельзя не торопиться.
Внимательно вслушивался в туман — не слышны ль близко чюхочьи голоса? Вдруг успели его заметить? Подстерегут на тропе, накинут сеть, запутают, как рыбу, потом уколят копьем.
Обрадовался редким каплям дождя.
Дождь умеет сажать туман. Дождь скоро посадит туман на землю.
Кенилля…
Чюхчи — народ строгий, всегда ходят с копьями. Вот, радуется отец-чюхча после хорошего удара, нанесенного сыном зверю, и я создал сильного сына, и я создал сильного воина! Вот вырастет сын — возьмет чужие стада, возьмет чужих женщин!
Кенилля…
Начавшийся дождь действительно посадил туман на камни.
Туман на глазах разваливался, как разъедаемое молью тряпье.
Отсырела тропа, потемнели каменные утесы, только горелая сопка вздымалась в небо все так же ужасно — никакой туман, никакие испарения не могли дотянуться до снежной вершины. И дохнуло вдруг на Ивана странно знакомым, широким, мощным, как бы даже соленым на вкус. С перевала сквозь темный, как стекло, воздух увидел вдали невообразимую синеву моря.
Анкан!
Большая вода.
Всей грудью вдохнул соленый запах, пристально оглядел горизонт — не видны ли где гребешки островов? Но островов не увидел, все тонуло в бесконечности, в синеве. А сама синева была такая большая, что вмещала в себя сразу всех толстых китов, сразу всех рыб, все подводные растения, все россыпи хрупких ракушек. Синева пахла илом и солью, пахло тинной бабушкой, пахло пеной и бабами-пужанками, кутающимися в морскую траву.
А берег внизу был опоясан белой полоской пены…
А на тропе, ведущей к берегу, снова увидел чюхоч — живую черную гусеницу, ощетинившуюся копьями. Черная гусеница смело ползла вниз — к нымыланским балаганам. Правда, балаганы тоже казались странными. Они были кривые, будто их ставили в большой спешке, и какое-то борошнишко валялось в траве. И там же беспорядочно перемещались с места на место некоторые отдельные олешки и отдельные люди…
Иван внимательно осмотрел берег.
Что-то не понравилось ему в каменных очертаниях, в его обломах, но никак не мог понять — что? Вот валуны, песок… Вот снова развалы камня… Перепутанные валы морской травы, озерца, лужи… Все выглядело так, будто скалы и бухточки почистили и помыли, а потом основательно прополоскали ливнем, вода не вся успела стечь в море…
Обернувшись, снова увидел черных чюхочьих воинов.
Сразу забыл про тайны берега — чюхчи страшней.
Отметил про себя: смело идут, твердо. И знают, куда идут. Выбрали не самую короткую тропу, зато выйдут к нымыланским балаганам скрытно, с неожиданной стороны. Снизу чюхоч совсем не видно. Вот и идут смело.
Лингульх!
Выругавшись, пожалел, что нет рядом неукротимого маиора, полного врожденного мужества, и нет рядом рыжего Похабина с пищалью. Значит, решил, скрываться от чюхоч нет смысла. Отсюда, подумал, быстрее, чем чюхчи, сойду на берег. Успею нымыланам дать знак.
— Хэ! — крикнул.
Так кричат псам, поворачивая упряжку.
Иван хотел крикнуть громко. Так громко, чтобы нымыланы услышали его голос, но почему-то громко у него не получилось. Щуря воспаленные от бессонницы глаза, торопливо бежал вниз к балаганам, хрипло вскрикивал на бегу:
— Хэ!
Хотел, чтобы Айга и Кенилля издали узнали его.
Хотел, чтобы Кенилля или Айга с гордостью сказали родимцам: «А вот бежит брыхтатын. Вот бежит огненный человек. Вот бежит Аймаклау, чтобы спасти нас». Сильно хотел, чтобы нымыланы услышали его. Бежал, вскрикивая:
— Хэ!
Глава VII. Статки в море
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… какой-то не такой берег.
Похабин озирался в недоумении.
Лодку они бросили давно, последние несколько часов шли пешком и, спустившись на берег, чего-то не поняли.
Все было знакомым, и вот все как-то не так.
А, может, такими они всегда и были, эти берега? Замыты песком, забросаны плавником и ракушками, забрызганы стеклом медуз, беспорядочно завалены морской травой.
Ага, морская трава!..
Обычно подводная морская трава выбрасывается на берег длинными узкими валами, как ее выносит прибой. А здесь диковинный беспорядок, будто морскую траву неведомые крестьяне вилами растаскали, бросили подсушить, а она наоборот промокла.
И бревно торчит над головами.
Высоко над головами торчит из расщелины мокрое бревно.
Действительно высоко — три человека встанут друг другу на плечи, и не достанут. К тому же, расщепилось от удара. Кто с такой силой и так высоко бревно швырнул? И мертвая нерпушка на песке — об камни ее разбило. Одинокий линяющий песец жадно вытанцовывает над нерпушкой. А волны в море — в изломах, дикие. Вода то зелена в прогибах, то совсем прозрачна, то мутно выбрасывается на каменистый берег, исходит желтоватой несвежей пеной, шипит, потом откатывается обратно, будто не принимает ее земля.
И снова морщится море.
Вспучивается, а потом проваливается от собственной тяжести.
Анкан. Большая вода. Берега крутые.
Поднимались, давили ногами хрупкие раковины — мышиные байдары, как считают дикующие. Папоротник по склону редок, желт, часто обломан, вывернут с корнями, а тот, что еще торчит — совсем измочален, склонен к земле, будто тянули его из земли бабы-пужанки.
Только зачем бабам-пужанкам папоротник?
— Волной тянуло, — объяснил, подумав, Похабин. Не нравилось ему на берегу. — Похоже, волна высоко взбегала. Так высоко, что весь берег объяла. Вон куда выбросило бревно.
Вздохнул. Ну, правда, что за мир? Ракушки белые, морская трава… Краб в камнях дразнится, помавает клешнями… Медузы…
А мыс Атвалык оказался крутым мысом.
Еще издали увидели, как входит мыс острием, как нож, в море, тонет в мутной пене. Со слов Айги помнили, что коли взойти на мыс, то внизу откроются полуземлянки и балаганы. Совсем хорошее место выбрали родимцы Айги: с востока подходы закрыты морем, с запада отрезают путь скалы, отроги горелой сопки, и с полночи — скалы, а с полдня в общем никто не страшен, чюхчи и коряки приходят не с полдня.
— Под фортецию чувств… — начал было маиор, но Похабин осторожно прервал:
— Давай, маиор, посторожимся. Не надо нам быть на виду. Надо посмотреть с мыса, с нымыланами ль барин?
Еще быстрей, не скользя и не оступаясь, двинулись по крутому склону, отмечая опытным глазом непонятное. Например, плавник, выброшенный на скалы. Люди не потащат так высоко плавник, ни к чему им это, да и сил никаких не хватит. Значит, выбросило волной.
— Не бывает таких больших волн… — Похабин подозрительно огляделся.
Длинные лужи на берегу, целые озера… Неопрятными грудами, набросанными как попало, наваляна подводная морская трава… Столько травы за одну ночь не натаскают даже бабы-пужанки… А вон линяющий песец танцует над дохлой нерпушкой, распустил кишки морскому зверю… Этот зверь сам издох? Или разбился о скалы?…
Чайки над водой.
Вода у берега страшная, взбаламученная.
Чувствуется, что не малая глубина, а вода все равно мутная, взбаламученная. А чайки белые, крупные, сильно жалобятся. Их крик пронзителен, отдается в ушах. Море вдали, где зеленое, тяжкое, а где совсем стеклянное в ледяной голубизне, и ходит круто, совсем успокаиваться не хочет. Холодом, силой несет от страшной воды. Вздувается, крутится.
Далеко зашли, привычно удивился маиор.
На каменной террасе, плоско по камням выложенной мхами, некрасиво торчали кусты шиповника. Листья, ягоды — все безжалостно оборвано. Обычно так не поступают ни люди, ни медведи.
Присели на корточки под кустами.
Верх горелой сопки, снегами мощно ушедшей в небо, вновь окутало белыми испарениями. Рассматривая бревно, заброшенное в скальную расщелину, Похабин покачал головой:
— Загадочно попало туда бревно…
А маиор уже догадался.
Неукротимый маиор Саплин много думал о природе вещей. На острове Симусир нашлось у него время и для этого. Бревно на скалы вбросило большой волной, объяснил он Похабину. Иногда тут землю так изнутри трясет, что поднимается на море волна, которая выше берега во много раз. Если от такой волны не убежать, она убьет, всех смоет. Перед такой волной ничто не может устоять. Ему, неукротимому маиору, мохнатые рассказывали на Симусире: есть в море острова, на которых никто не живет. Раньше многие жили, а потом живое смыло волной. Вот и здесь, похоже, прошла такая волна.
— Наверное… — согласился Похабин. — Вон видно, внизу у нымылан сильно покосились бадаганы… А некоторые упали… Это не от волны, это, наверное, от земного трясения, но все равно… Сильно суетятся нымыланы, спасают бедное борошнишко…
С каменистой террасы, поросшей ободранным шиповником, маиор и Похабин как на ладони увидели нымыланское стойбище. Многие балаганы там действительно были испорчены. Совсем кривые, как в таких жить? А поляну перед испорченными балаганами занимали живые люди. Большая часть стояла широким кругом, внутри которого шумно скакали другие. Потрясали короткими копьями, подпрыгивали, как птицы, взметывали вверх разом ноги, крича нелепыми зверообразными голосами. Крики нымылан мешались с криками чаек. Сразу не различишь: человек кричит или птица?
— Чего это они?
— Волнуются… Подкоп ведут под фортецию чувств…
— Нас увидели? Пугают? — испугался Похабин.
— Не нас… — перекрестился маиор. — В чем-то своем справляют нужду.
— В чем?
Но теперь Похабин и сам увидел: в центре круга среди дикующих прыгали дети, шишиги-девки, бабы-простыги, всякая шелуха. Прыгали и вскрикивали особенно нелепо и очень громко, и что-то передавали из рук в руки, будто боясь потерять.
— Чего там?
— Тихо… — шепнул маиор, пожирая глазами зрелище. И предположил: — Может, Ивана зарезали?…
— Ты што?… — зашипел Похабин. — Не могут барина зарезать… Он им родимец почти… — И вдруг сбавил голос, толкнул маиора: — Слышь, шебуршит кто-то… Как бы на нас не свалился…
Упали под куст.
Голый колючий куст насквозь просвечивал, но все же укрыл Похабина и маиора. Лежали, не выпуская из виду нымылан, диковинно скачущих под кривыми балаганами. «Да это ж у них дитя! — ахнул, присмотревшись, Похабин. — Смотри, маиор, дитя у них на руках!»
— Так то ж не наше дитя, не русское.
— Я не о том. Заморят они дитя. Оно ведь совсем малое, и плохо одето. Зачем им прыгать с дитем?
— Шаманят.
— Зачем?
— Как-то слышал о таком на острову, — подумав, ответил маиор. — Мохнатые говорят, что дитя, рожденное в бурю, требует особенного внимания. Так сказать, под фортецию чувств… Без отеческой аттенции государя…
Похабин удивленно повернул голову.
Какая разница? Пусть даже рожденное в бурю, все равно дитя. Зачем шаманить? Зачем дитя малое, тщетное носить под холодным ветром?
— Если дитя в бурю родится, — неукротимо объяснил майор, — дикующие раздевают такое дитя донага, а в руки дают простую морскую раковину. Мне так рассказывали.
— Не вижу раковину, — всмотрелся Похабин.
— И не увидишь. Это мелкая раковина. Бедное дитя раздевают, носят по кругу, от души корят бога Кутху, что вот де раковина привыкла жить в соленой, не пресной воде, глупый Кутха, зачем выбрасываешь раковину на берег? Что вот де волна должна накатываться только на край берега, а ты гонишь волну, глупый Кутха, прямо на скалы! Что вот де любое малое человечье дитя обязано жить в тепле и в покое, глупый Кутха, зачем ты шумишь, зачем ты землю трясешь со страстью, зачем бурю устраиваешь?
— Тихо…
Опять затаились.
Вниз по склону с верхней терраски, удалясь сильно от балаганов, шумно сползал вниз, осыпая из-под ног камни, дикующий. Капор меховой парки поднят, не разглядишь — мужик спускается или баба? Но спускался без опаски, наверное, знал место, куда идет. И тащил узелок кожаного тряпья.
Затаились.
Помогло, что у дикующего был поднят капор — ничего не видел вокруг.
Дождавшись момента, Похабин от души дернул дикующего на себя, потом придушил рукой, заткнув рот грубой ладонью. Дикующий подергался, похрипел, потом затих. Приготовился, наверное, смерть встретить.
Откинули капор:
— Айга!..
Айга посинелый, страшный, задыхаясь, пучил на Похабина и на маиора обесцвеченные испугом глаза.
— Чего шляешься здесь? — неловко спросил Похабин.
— Сипанг… Беда… — просипел, держась за горло, Айга. — Статки в море несу…
— Какие статки?
Айга печально просипел:
— Кенилля…
— Почему Кенилля? — не понял Похабин. — Почему беда? Куда несешь статки Кенилля?
— К воде несу. Хочу разметать статки в море. Так все нымылане делают.
— Да зачем, Айга?
— Нет Кенилля… — голос Айги прервался. — Большая беда… Нет больше Кенилля…
Объяснил, закрывая глаза руками.
Три дня назад начало трясти землю.
Сильно трясло, бог Кутха сердился, камни падали с обрывов, катились по берегу, балаганы покосились, некоторые попадали, завалились полуземлянки. Сопка, которая неподалеку, стала дергаться, как живая, потом плюнула страшным огнем и стала выпускать клубы дыма. Наверное, мертвые затопили очаг, хотят коптить большого кита. День сразу стал темным.
А потом было так.
Море испугалось шума, поднятого Кутхой, и откатилось далеко от берега. Испуганные нымылане с изумлением увидели илистое дно бухты, которого до того не видел ни один человек на свете. Известно, что не к добру видеть то, чего никто никогда не видел. Шевелились среди ослизлых валунов серые морские звезды, перепуталась с камнями темная подводная морская трава, в траве копошились крабы. Увидели: даже дерево лежит на морском дне, может, обломки погибшей апонской бусы…
Вот была вода, и не стало воды.
Камчатские собачки мохнаты, никого не охраняют, никого не боятся, всегда хотят есть. Любой человек приходи, они не будут кусаться, люди для них друзья. А если предложишь кусок рыбы, станут сильно радоваться. А тут самая разная рыба красиво трепещет в лужах, хватай любую, грызи прямо на берегу, а собачки, взвыв жалобно, бросились почему-то от моря в сторону от живой рыбы. Кто-то из нымыланов, удивившись, бросился было грести из ям трепещущую рыбу, да крикнули умные старики:
— Хех! В гору!
И побежали нымыланы в гору.
Как-то враз поняли, что морская вода не насовсем отошла, скоро вернется. А когда вернется, то доброй не будет. Взмутят ее морские бабы-пужанки, сама тинная бабушка отомстит за то, что многие люди вдруг увидели ее неприбранный подводный дом — дно морское, и рыб беспомощных. Разъяренная тинная бабушка все снесет.
Когда взбежали на гору, недосчитались Кенилля.
Всех детей сообща несли, стариков, баб слабых вели под руки, никого не потеряли, а Кенилля потеряли. Он, Айга, хотел побежать навстречу ревущей, вставшей на горизонте стене воде, только родимцы удержали.
Страшно было на мысу Атвалык!
Ветер с моря бьет, сбивает с ног, воют перепуганные собачки, рыдают младенцы, а снизу, с берега, несется ужасный шум — может, из-под земли, может, из-под моря. Вода давно опомнилась, вернулась сердитая, одним ударом смела камни с земли, изломала нижний лес, выкинула бревна на скалы. Такого ни один нымылан не помнит.
А потом дождь пошел.
Дождем волну немного успокоило.
А нымылане сидели на террасе тихо, пятна от побоев сводили с тел морской травой — падали, когда бежали. Дивились, что нет с ними Кенилля… Отстала, наверное, мышеловка, смело Кенилля волной… Дивились: вот как сразу большой мир умаляется. когда исчезает даже один человек. Всего-то там какой-то птичкин голос, а жалко…
— Смыло? — засопев, спросил Похабин.
Айга кивнул.
Бормотал, спрятав лицо в ладони: смыло Кенилля, смыло малую шишигу… Взяла девку к себе тинная бабушка, сделает со временем бабу-пужанку… Ему, Айге, от этого не хочется жить… Объяснял, пряча лицо, что вот несет в море статки Кенилля, всякую одежонку. Сейчас бросит одежонку в море. Тут хорошая одежонка. Кенилля не в самом худшем придет к богу Кутхе. Он, Айга, думает, что бог Кутха, увидев Кенилля, обрадуется и заберет шишигу у тинной бабушки. Там у Кутхи все хорошо — птицы кричат негромко, трава по пояс. Пряча лицо, объяснял странным голосом: вот он, Айга, совсем не жаден. Сейчас бросит статки в воду, бог Кутха то увидит, и когда придет к нему когда-нибудь сам нымылан Айга, скажет: ты молодец, Айга, ты тогда ничего не пожалел для своей шишиги, хорошей одежды не пожалел для нее! — а потому бог Кутха и к нему, к нымылану Айге, хорошо отнесется, притеснять не станет, даст там теплую полуземлянку.
Отнял ладони от лица.
Лицо серое, взгляд нездешний.
Вздрогнул нымылан, с тоской подумал Похабин. Есть у камчадалов такая болезнь, называют — вздрогнул. Живет себе человек здоровый, веселый. Носит дрова, гоняет олешков, ловит рыбу. Вот смеется, вот жадно шарит ложкой в котле, вылавливая самые крупные куски мяса, зажигает его на живое, и вдруг в один миг что-то делается с таким человеком. Его лицо стареет, а взгляд становится нездешним. Встает он задумчиво и уходит прочь от котла, уходит глубоко в лес или к морю, неважно куда, там садится на камень или на старый пень и начинает горько плакать. Если спросить такого — почему плачешь? — он не ответит. Будет, плача, сидеть, пока не замерзнет или не умрет с голоду. А то станет добычей какого зверя.
— А дитя, Айга? Чье там дитя? — негромко спросил маиор. — Чье дитя носят нымыланы у балаганов?
— То Кенилля опросталась дитем.
— Кенилля?!
Айга сумеречно кивнул:
— Она…
Пояснил сумеречно:
— Когда бежали, отдельно несли дитя… А Кенилля потерялась… Отдельно принесли дитя, а Кенилля нет…
Маиор перекрестился:
— Что будете делать с дитем?
— Девки присмотрят.
— А Иван? Нашел тебя Аймаклау? — негромко, но истово спросил маиор, даже рукой потянул на себя Айгу.
— Нашел… — сумеречно кивнул Айга, почти не видя маиора. — Пришел Аймаклау… Сразу после волны пришел…Он чюхоч первый заметил, шли чюхчи грабить нымыланские балаганы. Аймаклау вовремя нымыланам крикнул, тех чюхоч немного было, испугались крика, ушли… Решили, наверное, что здесь русские с огненным боем… Теперь говорим Аймаклау: с нами живи, всегда живи, тебя чюхчи сильно боятся. Твое дитя вырастим, будешь нашим родимцем. Ясак принесем твоему царю…
— Нашему, — строго поправил маиор.
— И вашему принесем… — не понял маиора Айга. И погрозил в сторону полночи: — Чюхчи как волки… Ходят вокруг, всех хотят свести…
Встал, подошел к обрыву, побросал вниз борошнишко Кенилля. Что-то там сразу утонуло, что-то понесло волной. На это не смотрел. Бог Кутха да тинная бабушка, они все приберут.
— Идем, — негромко сказал маиор, вставая. — Идем, Похабин.
И крикнул:
— Айга, не тронут нас твои родимцы?… Идем!..
Глава VIII. Дресвяная река
Смеркалось.
Северный ветер, подув с обеда, снес последние обрывки тумана, прочистил смутное небо. Вкусно пахло дымом. Низкая звезда Ичваламак, отразившись в тяжелой переваливающейся волне, выпустила колеблющийся лучик. Волна переливалась, лучик изгибался, а то совсем гас. Зато от тяжелых ударов о берег неожиданно вспыхивала вся волна.
И вдали что-то вспыхивало. Может, призраки.
Скользнет что-то в сумерках, дохнет тоской. Плывут, наверное, на байдарах сумеречные ламуты. Вот переселились за море, а снедает ламутов тоска. Как сумерки, так пытаются плыть домой. Совсем безвредные ламуты, тихие, от долгого пребывания на воде наросли между пальцами перепонки.
Смещение теней, времени дым.
Вот, Иван, сказал себе горько. Вниманием царствующей особы был отмечен. До края света дошел. Даже дикующую полюбил. А вот сидишь один на краю света…
Вот, Иван, сказал себе, ты шел, думал, правда думал, что впереди — край земли, что ничего уже и нет за тем краем. А за тем краем оказались новые острова, а с тех островов еще что-то можно увидеть…
А плывут сумеречные ламуты. Да дым стелется.
Все — дым, подумал.
Где чугунный господин Чепесюк, никогда не произносивший слов? Где хитрые хорошие мужики? Где монстр бывший якуцкий статистик дьяк-фантаст Тюнька? Где верные гренадеры братья Агеевы? Где гренадер Семен Паламошный с его ложным провидческим даром? Где черный монах брат Игнатий?…
А Волотька Атласов, государев прикащик, присоединивший к России новый край? Кто помнит Волотьку? Может, только думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев в Санкт-Петербурхе и помнит, если жив… Или добрая соломенная вдова Саплина, видевшая Волотьку в своем малолетстве…
Все — дым.
Откинувшись спиной на теплый, еще не остывший в сумерках камень, Крестинин видел перед собой смутное море, раскачивающееся тяжело. Закинув голову, видел небо — все в звездных веселых россыпях, как знаки на птичьей камлейке Кенилля… Вон, видел, красная стрела — звезда Ичиваламак, ярко стреляющая красным светом… А там олень — Елуе-Кыинг. Вечный олень, бежит по вечному кругу…
Все дым.
Дым шелковый, темный, как апонские ткани… Беспрерывно текущий в ночи, как Млечный путь…
Чигей-вай. Река дресвяная.
Как бы услышал высокий голосок Кенилля.
Как страшно, подумал, как широко распространился мир… В детстве знал — есть Якуцк, есть плоская сендуха, в плоской сендухе кочуют дикующие и прячутся страшные люди-убивцы. Потом знал — есть Санкт-Петербурх, сырой плоский город, весь в дымах, плывущих над черепичными и деревянными крышами, машущий крыльями ветряных мельниц. Потом…
А потом ссорились в дымных острожках, умирали в море.
Все дым.
Чего ж ты, Иван? — сказал себе. Чего ж ты один? Ведь многое нашел, первым вышел на острова. Многих иноземцев подвел под шерть, они поклялись на стволе пищали…
Задохнулся: Кенилля!..
Дым, дым.
Море в дыму, в сумеречности, небо в звездном дыму. Дресвяная река, Чигей-вай, как дым, течет через небо. Светлая, долгая, тайная, как река Уйелен, несущая долгие воды в море.
Кенилля…
Вот ты, Иван, жил. Вот ты шумно шел в сторону большой воды, не глядя тыкал ножом в человека, которого считал врагом, жадно пил травное вино, грех за тобой над всеми дорогами стоял витыми столбами пыли, а сидишь вот один — на краю земли… Почему?… И почему так сердце сосет?… Получается, ты идешь, ты ищешь, ты, осердясь, бежишь от державы, а тем только распространяешь ее… Бежишь от державы, сердишься на державу, отмахиваешься, а отмахнуться нельзя, потому что держава заключена в тебе…
Как такое понять?
Вот ты, Иван, жил. Ты в пургу ходил по сендухе, в безвестности сплавлялся по безымянным рекам, бил всякого зверя, плыл по воде, широкой как небо, сияющей, как Млечный путь, Чигей-вай, скорбел сердцем и ел нечистое, терпел раны и кровь, забывал чтить святых, а сидишь один на краю света…
Смирись, сказал себе. Что потеряно, то взял Господь. Ты же знаешь теперь, что ничего не надо просить у Господа. Он лучше знает, в чем мы нуждаемся. Смирись. Раз взял Господь, значит, надо.
Но Кенилля… Голос птичкин…
Все равно смирись! Обязательно смирись. Ведь все равно, как мог жить с некрещеной?…
Волны медленно шли к берегу, замедлялись на отмелях, начинали вспухать, расти. Совсем сердитые подгребали под себя воду, вдруг обнажая дно. Краб, тоже сердясь, мотал тяжелой клешней, сердитая рыба, завалившись на бок, била хвостом по камню, а волны уже поднимались — над крабом, над рыбой, над камнями. Росли, росли и, наконец, взрывалась чудовищными фонтанами.
Почему так? Вот встает вода, видишь воду. Вот падает вода, опять видишь воду. Кенилля…
Сердце сосало.
Зачем новые земли, новые острова, зачем казенка, в которой аманат стонет, зачем жирный олешек, сендуха, пузатая буса, диковинная трава бамбук, колючая соль на камне, зачем берега Апонии? Зачем Селебен — гора из чистого серебра? Зачем толстые рыбы, пугливый зверь, шорох дождя, звезды в небе, сумеречные ламуты на воде?
Ах, Кенилля… Может, тут бежала — от балаганов… Руки вытянув, бежала, птичкиным высоким голосом окрикивала дитё… «Явалет!» — окрикивала, зная уже: слаба, никак не добежит, ужасная волна встает за спиною. «Явалет! — окрикивала. — Дите!.». И, оборачиваясь, видела встающую за спиной ужасную волну, видела камни бывшего дна, краб сердито помавал клешнями, рыба, смутившись, хвостом колотила по дну, а за спиной — эта огромная, выше неба, выше туч, все затмевающая ужасная волна…
Так не бежать, может? Не в беге, может, дело? Не в рвущемся дыхании, не в неистовом нетерпении, не в новых звездах над головой?…
А в чем тогда?
Дым.
Посыпались камешки. Кто-то подошел, тяжело опустился рядом на камень. Глазом косо без удивления увидел — Похабин. Перекрестился, и вдруг, не узнавая себя, выдохнул:
— Похабин!.. Как там узнаю Кенилля?… Ведь не крещена, не знакома с Богом!..
Похабин пожал круглым плечом, подтвердил:
— Наверное, не узнаешь.
Еще кто-то подошел. Голос неукротимый:
— Неверие — зло. После шведа, может, главное. Захочешь — узнаешь, Иван. Я своих денщиков всех узнаю. — Подумав, маиор добавил утешительно: — Военным артикулам научу тебя.
Иван не ответил.
Сердце сосет, море под ногами, дым, сумерки, звезды в небе.
Спросил:
— Как вы здесь?
— За тебя боялись.
— Хотели же уйти в Россию?
— Только с тобой уйдем.
Вздохнув странно, Похабин наклонился к Ивану. Так близко, что пахнуло на Похабина от Ивана жаром.
— Ты весь пылаешь, — сказал.
Иван не расслышал. И не мог расслышать. Ткнувшись пылающим лбом в плечо Похабина, в отчаянии спросил:
— А вдруг узнаю?…
Ответа не ждал.
Какой ответ, если всюду ночь? Но Похабин ответил:
— Ты, барин, встань. Пойдем с нами. Это в тебе сейчас жар говорит. Ты болен, и не спал сколько! А нам еще в Россию идти.
Ничего как бы особенного и не сказал, но прозвучало значительно. Чего, дескать, барин? — прозвучало. Ну, чего теперь? Кто, дескать, такое может знать, кроме Господа? Но уж если сошлись в этом миру, то в том, может, и не такое случится.
Часть V. Черный монах
Река времен в своем стремленье уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей.
А если что и остается чрез звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы.
Г. Державин
Глава I. Ночной посланец
Человек думного дьяка Матвеева прискакал в Крестиновку ночью.
Ржали лошади, злобились тощие кобели, в метельной мгле метались огни фонарей. Подойдя к окну, Иван продышал туманное пятно во льду, волшебно утолстившем стекло, сонно поежился.
Зима.
Глухо, как на Камчатке.
С тех пор, как указом императрицы Анны Иоанновны за трудный поход, учиненный еще по приказу покойного императора Петра Великого к островам, лежащим в некоторой близости от России, Крестинину-младшему были возвращены некоторые деревеньки, отобранные когда-то у его отца, он жил в Крестиновке, в небольшой деревеньке, совсем утонувшей в снегах. Речку сковало льдом, сугробы нанесло выше крыш. Деревенский дурачок, обычно ночевавший по дворам, теперь облюбовал новое место — при крошечной церкви. Дурачка не гнали. Сходясь на расчистке дорог, крепостные не мало дивились тому, как много выпало в Крестиновке снегу! Но еще больше дивились хозяину, сыскавшемуся неожиданно для всех.
Раньше про хозяина ходили всякие слухи.
Одни говорили, что еще малолетним умер несчастный барин Ванька Крестинин в Сибири, жестоко высланный туда вместе с родителями, другие говорили, что барин не умер, а просто слетел с ума, сильно спивается, и даже не в Сибири, а в сыром Санкт-Петербурхе. А кто-то наоборот видел барина Ивана живым и веселым, но только в Москве — якобы услужает большому дьяку. Но все равно говорили, что если и жив несчастный барин, то весь в беспутстве, в пьянстве, весь в нищете.
И вдруг — на!
Приехал осенью с целым обозом, приехал не пьяным Ванькой, а совсем не пьющим барином господином Крестининым в богатой бобровой шубе, рядом шагал плечистый слуга рыжий Похабин с варначьей рожей и с ножом на поясе; в санках валялась медвежья полость ровного белого цвета. Значит, поняли, увидев полость, есть на свете и такие медведи — шкура истинно оказалась белой, не перекрашенной. И еще странно: хоть держался хозяин строго и ни разу не был замечен ни в каком, даже в самом малом подпитии, крепостные, увидев белую медвежью полость и варначью рожу Похабина, все равно почему-то сошлись на том, что проюрдонит барин свои деревеньки.
Ну, обязательно проюрдонит.
Вот зачем, спрашивается, везти в затерянную в лесах усадьбу несколько сундуков книг да кучу бумаг, которые барин называл маппами? Не в канцелярию же приехал, в самом деле! Нет, нет, шептались, теперь дело ясное, проюрдонит барин свои деревеньки.
— Федька! — крикнул в темноту Иван. — Кто там?
— Человек от думного дьяка Кузьмы Петровича, — зевая в кулак, выступил из темноты, спал за стеной, сонный Похабин. Вот сонный не сонный, а успел перекликнуться с конюхом. Переминаясь босиком на холодном полу, прижал большие руки к теплому обогревателю изразцовой печи, потом поправил свечу на светце, железном треножнике, поставленном у дверей, объяснил подробнее: — Человек с личным пакетом от думного дьяка Кузьмы Петровича. Сил нет, как замерз. Отправили его во флигель, он с ног валится. Что пытать полумертвого?
Добавил рассудительно:
— Если уж прибыл, никуда не денется. Назад из Крестиновки не ускачет, все дороги густо перемело, а умереть не дадим. Даже не знаю, как доскакал до нас человек, в наши-то апеннины.
— В апеннины? — вытаращил глаза Иван, но вовремя вспомнил, что любопытный не в меру Похабин все схватывает на лету. Чаще неверно, зато крепко. Иван однажды и такое видел: стоит Похабин перед столом и водит толстым пальцем по разостланной по столу маппе — никак не может поверить, что мелкие точки на бумаге и есть острова, по которым сам ходил.
И сейчас вот.
Услышал ненароком непонятное слово пенаты, вот и употребил — по своему.
— В Камчатку сошлю, — сказал Иван сурово. — Не в Апеннинах живешь, на родине!
— Да какая ж Крестиновка родина? — изумился Похабин, часто моргая и, наверное, по-своему понимая и это слово. — Деревенька как деревенька, как многие другие. Мхи да болота, ну еще лес.
— Мхи да болота, — передразнил Иван. — Это и есть родина, дурак. Разве не щемит сердце?
Накинул сюртук, набил трубку. Выдохнул:
— Человека думного дьяка, как обогреется, приведи в гостиную. Горячий пунш приготовь. Горячие закуски. А мне подай воды клюквенной.
Не спеша умылся под рукомойником, потер лоб ладонью.
Сны замучали. В последнее время часто просыпался с криком: «Поть-поть!» Снилось, что гонит мохнатых собак по заснеженным берегам тихой реки Уйулен. Горячо билось сердце. А то снился друг сердешный нымылан Айга сразу со всеми своими шишигами. А то так и ужасная водная волна, идущая на берег, все сметающая перед собой…
К чему такое?
Вздохнул.
Долго не был в России.
Так долго не был в России, что успели за это время почить в бозе два императора и одна императрица. Сама жизнь стала другой. Сумрачно подумал: если высота башни измеряется собственной тенью, то величие людей — прежде всего их завистниками. Император Петр Алексеевич, пусть Усатый, многих научил понимать, что все люди — люди. Строг был, жесток, но умел отыскивать помощников. Не гнушался никакими простыми людьми, имели бы голову. Говорят, например, что господин Девиер, бывший генерал-полицмейстер Санкт-Петербурха, прибыл в Россию не как-нибудь, а обыкновенным юнгой на португальском корабле; а первый генерал-прокурор Сената господин Ягужинский в свое время пас в Литве свиней; а бывший вице-канцлер Шафиров вырос не в роскоши, а проводил дни в лавке простым сидельцем… И одни разве они?
Вздохнул, прислонясь лбом к промороженному окну.
Вернувшись с Камчатки, действительно как в другую страну попал.
Где многие люди, которые отбрасывали такие густые тени? Один жестоко казнен, другой выслан, третьего вообще след простыл. В возрожденном Тайном приказе не ведут никаких бумаг. Все стоит на доносах. На какого человека укажут, того человека и берут. Поговорили с человеком и исчезает человек, будто его никогда и не было.
Новиков, казенный офицер, возвращавшийся в Москву с Камчатки, куда был послан еще Усатым для исполнения специальной комиссии, касавшейся секретной экспедиции капитана-командора Витеза Беринга, по секрету рассказал думному дьяку Матвееву странное и ужасное. Он, офицер Новиков, в юные годы служил при светлейшем князе Александре Даниловиче Меншикове, столь отличившимся во времена Усатого. Возвращаясь с Камчатки, на каком-то сибирском постоялом дворе, Новиков обратил внимание на человека в простом мужицком платье, с бородой, сильно тронутой сивыми прядями. Войдя в избу, приучив глаза к потемкам, странный мужик долго и внимательно смотрел на Новикова. Но мало ли как кто на кого смотрит в дороге? Каждому интересно встретить знакомое лицо. Спасаясь от любопытства, Новиков даже отвернулся, но мужик показал характер. Он сперва окликнул офицера, а потом назвал Новикова по имени.
«По какому случаю знаешь мое имя, мужик?»
«А ты не узнаешь меня?»
«Да как мне узнать? Вижу тебя впервые. Имя скажи».
«Да Александр я».
«Ну, Александр, — рассердился Новиков. — Мало ли какие Александры есть на свете! Вот Македонский был, ходил в Индию… — И пригрозил усмехнувшемуся мужику: — Ты не балуй! Я человек государев, еду по служебному делу».
«Да Александр я… Должен ты меня помнить, — все с той же странной усмешкой повторил сивобородый мужик. — Александр Данилович… Меншиков… Неужто не помнишь, Новиков, светлейшего князя?…»
«Молчи, мужик! — испугался, оглядываясь, Новиков. — Как могу не помнить светлейшего?… Только он — не ты…»
«Нет, я!»
Новиков опечалился.
Ночь. Сибирь. Край дикий.
Полумрак на постоялом дворе.
Из тряпья, грудой лежавшего на скамье, вынырнула чья-то сонная взлохмаченная голова, широко зевнула и снова исчезла. Много в мире непонятного. Может, болен мужик, дерзко назвавший себя Александром Даниловичем Меншиковым? Может, специально оговорился?…
Но что-то смутило Новикова.
Взяв сивобородого за руку, подвел к маленькому окну, в которое проникал слабый свет. Мужик не спорил, не сопротивлялся, не стал вырывать руку, нисколько не отвернулся, а смотрел на Новикова все с тою же непонятной усмешкой. Потом смиренно сказал:
«Ну, вглядись в меня хорошенько, Новиков… Припомни черты твоего прежнего генерала…»
«Князь! — в ужасе ахнул Новиков, медленно узнавая. — Как подверглись вы, ваша светлость, столь печальному состоянию?»
«Оставим князя и светлость в покое, — смиренно, но вовсе не униженно ответил опальный князь. — Порядочного человека, Новиков, выделяет не чин, а опала. Я теперь простой мужик, каким когда-то родился… Господь, возведший меня на высоту суетного величия, передумал, наверное, и сам низверг меня в мое прежнее первобытное состояние…»
Вот как верить такому?…
Иван вздохнул.
В такое время вернулся, все не так в России.
Из прежних людей — почти никого, а те, кто живы — повержены.
Только и слышно из испуганных шепотков, что тот совсем пропал, и тот пропал, и этот… Только и слышно об особенной жестокости господина Ушакова, заведующего московской Канцелярией тайных розыскных дел… Шепчутся по углам о жестоких казнях и пытках. Причин для казней и пыток столько, что уже ничего и не надо придумывать: сказал нечто непочтительное о немцах, этого достаточно, а другой просто дурак… А и те, кто лукаво попрятались в дальних деревеньках, не могут слышать без трепета звона колокольчиков. А вдруг как выдергивают в Парадиз хмурый?…
Думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев, страшась, рассказал по секрету.
Во время коронации новая государыня Анна Иоанновна, когда все перешли из Успенского собора в Грановитую палату, с самим князем Василием Лукичом Долгоруковым обошлась просто. Никто не ждал, а она поднялась с трона и сошла с важностию по ступеням. Все изумились: никто прежде в церемониале такого не знал. А государыня с улыбкой доверчивой подошла к князю Василию Лукичу Долгорукому, человеку столь древнего рода, что и подумать страшно, сам Усатый не отучил к таким родам относиться без уважения… Государыня подошла к князю Василию Лукичу и белыми пальчиками взяла его за хрящеватый нос и так повела родовитого князя вокруг среднего столба, которым поддерживаются своды. В полном изумлении присутствующих обвела кругом столба и остановилась против портрета Иоанна Грозного.
«Князь Василий Лукич, знаешь ли ты, чей это портрет?»
«Знаю, матушка-государыня», — гнусаво, но смиренно ответил князь Василий Лукич.
«Да чей же?»
«Великого государя Иоанна Васильевича, матушка».
«Ну, так знай, старый дурак, что хоть и баба, но буду строгой, как он, — грозно произнесла новая государыня. — Ты вот хотел править с родственниками страной вместо меня, законной наследницы, ты мои права хотел ограничить, а я вот всех провела. — И отпустив хрящеватый нос князя, сказала: — Езжай в свои деревеньки, князь. Мне в Москве Долгоруковых совсем не нужно».
Вот в какое время вернулся Иван с Камчатки.
Вспомнил с тоской кликушу тетю Нютю, проводившую когда-то целые дни во дворе доброй соломенной вдовы Саплиной. Бывшая вдова прятала кликушу от думного дьяка, от стражников и от солдат, очень ценила слова о последнем времени, хотя и страшилась. «Се уж глаголю тебе, чадо, вот приидут дни, когда рассыпати примутся христиане книги святые… И не будет священников по церквям, и изсякнет любовь от многих, и будет скорбь не мала… И будут игумени презирающе свое спасение и стадо, усердни вси и дерзки на трапези, и лениви на молитвы, и готови на всякое оклеветание…»
Права, права оказалась кликуша.
В Санкт-Петербурхе, в той же Москве, куда ни шагни, на каждом углу тайные глаза, тайные уши. Не успел обмолвиться, не успел поговорить со встречным человеком, как крикнут на тебя слово и дело государево. А жизнь при дворе — сплошной политес. Пусть в страхе и волнении, но все равно политес. При государыне Анне Иоанновне все стали вы говорить друг другу. На роскошных куртагах фаворита герцога Бирона кудрявые дамы обсуждают наряды, ни о чем больше не говорят, боятся. Жалуются испуганно, что новые наряды так дороги, что хоть нагой ходи.
И ходили бы, дай волю.
А что касается всяких орденов…
Ну, с орденами вообще стало все просто.
Про недавнего кавалера ордена святого Андрея, про некоего малого фаворита дворянина С., даже осторожный думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев выразился изумленно: вот, дескать, дали орден малому фавориту за некоторые его морские службы. «Да какие морские? — удивился Иван. — Разве подымался тот С. хоть на какое судно?» — «А он с него никогда не сходил, — сердито хмыкнул думный дьяк. — Он всю жизнь просидел на судне».
Снова припал к морозному стеклу.
Успокоились собаки, утихла ночь. Свет прояснел, чисто увиделось небо в морозных звездах. Такие крупные звезды видел когда-то на островах, только там они были не так повернуты. С ревностью и с печалью подумал о капитане-командоре Витезе Беринге, о небывалой экспедиции которого услышал еще в Якуцке, когда возвращался в Россию. Уже тогда знал, что собственной рукою, совсем незадолго до своей смерти, может, даже всего недели за три до смерти, государь император Петр Алексеевич набросал некую инструкцию капитану-командору Витезу Берингу, сразу и точно определив главную цель его тайной и небывалой до того экспедиции. Надлежит, дескать, ему, капитану-командору Витезу Берингу построить на Камчатке или еще в каком другом удобном месте два больших бота с палубами. И идти прямо туда, где тянется известная по слухам земля Америка. И там искать, сошлась ли русская Сибирь с той известной по слухам землей или разделяет Сибирь и Америку какой пролив? А если разделяет пролив, то можно ли, пройдя тот пролив, добраться водой хоть до каких-нибудь городов европейских владений?
И еще кое-что добавил.
Например, обозреть Анианский пролив, если такой существует. И высмотреть новый выход через море к Европе. И определить самый близкий морской путь к Индии и Китаю, а, коль окажется возможным, то и к Апонии. И описать морские берега и морские глубины, и положить на карту все удобные якорные места. Каждому понятно, что к берегам Индии или Китая удобнее и ближе ходить морем от берегов Сибири, а совсем не так, как делают это (понятно, по нужде) голландцы — обходят ужасную Африку, по много раз пересекая экватор, где часто мрут от жары, безветрия и безводия. А от берегов Камчатки плыть прохладнее.
Всматриваясь в ночь, Иван вспомнил последнюю камчатскую зиму.
Вой пурги, нымыланские полуземлянки с верхом засыпаны снегом, у входа в избу, срубленную маиором Саплиным и Похабиным, зарывшись в снег, спят камчатские длинношерстные собаки.
Снег и снег.
Один снег. Ничего, кроме снега.
Но сумели сквозь пургу пробиться на тихую реку Уйулен русские казаки с юга. Поставили балаганы, кто избушку срубил. Правда, первое время служб не служили, только гуляли и пили, несколько человек совсем потерялось, замерзли в лесу, зато робких родимцев Айги казаки гулянием привлекли к себе.
Все делали с нетерпением, с жадной страстью.
Говорят, вспомнил Иван ревниво, это капитан-командор Беринг всегда поступал не так, как все. Никогда не торопился, даже наоборот медлил. Если было можно, мог выжидать столько, сколько другой никогда не вытерпит. А если и было нельзя, все равно мог выжидать. Если чугунный человек господин Чепесюк всего за несколько лет прошел половину земли, то капитан-командор Витез Беринг до одной только Камчатки шел целых два года. Добравшись до Лены, остановился, неторопливо начал строить нужные для перехода суда. Люди, силком согнанные из окрестных сел на стройку, убоявшись строгостей, бежали толпами. Усатый, например, сам бы взял в руки топор, но неторопливый капитан-командор поступил иначе — приказал для предотвращения последующих побегов везде, где можно, ставить военные караулы, а вдоль берегов Лены через каждые двадцать верст воздвигнуть высокие виселицы. Такое его мероприятие, как ни странно, произвело прекрасное впечатление — народ перестал бечь.
Неужто ревность? — поймал себя Иван на мысли.
Но почему? Ведь прав оказался старик-шептун! Все сбылось именно так, как предсказал когда-то. Он, Иван Крестинин, простой секретный дьяк, вниманием царствующей особы был отмечен, до самого края земли дошел, и дикующую полюбил… …Кенилля…
Ему ли, видевшему столь многое, ревновать к казенному предприятию капитана-командора Витеза Беринга?
Покачал головой. «Чужую жизнь проживешь…» Вот что странно. Все сбылось, как предсказывал старик-шептун, только и осталось вот это: «Чужую жизнь проживешь…» Этого не понимал. Не мог понять. Как чужую? Он, Иван, и свою, считай, уже доживает.
Подумал: может, чугунный господин Чепесюк понимал?…
Но чугунного господина Чепесюка не спросишь. Шел по свету с тайной, и ушел с тайной. Не зря, наверное, в Москве, отбирая у Ивана скаску о путешествии, специальный казенный человек много расспрашивал о господине Чепесюке. Расспрашивал и угрожал: дескать, утаишь что, передам тебя господину Ушакову! А что Ивану таить? Все выложил, что знал. Подробно описал дикий остров Симусир, и то место на берегу, где стрелы дикующих настигли господина Чепесюка. Только не передал последних слов господина Чепесюка. После… Пусть все отдаст… Сам не понимал этих слов, а казенный человек так строго расспрашивал, будто собирался искать на острове тело господина Чепесюка…
А пока носило Ивана по Камчатке да по далеким островам, люди капитана-командора Витеза Беринга плавали, оказывается, в сторону Америки. Правда, по словам думного дьяка, в целом адмиралтейств-коллегия осталась недовольна плаваньем командора. Подробное донесение, полученное императрицей, вызвало скорее недовольство, чем одобрение. Даже Кириллов Иван Кириллович, обер-секретарь Сената, обычно поддерживавший все начинания покойного государя Петра Алексеевича, заметил с чувством, что по донесению капитана-командора Витеза Беринга нельзя ясно судить — соединяется все-таки Сибирь с Америкой или нет?…
И еще много вопросов.
Почему, например, внимательно не занимался капитан-командор Витез Беринг иноземцами? Где суть всяких народов? Какие у них границы, какие пределы, под которыми звездами живут, раздельны ли родом или хотя бы видом? Откуда их начала, какие у них предания, жилища, пути? Каково благочестие, ежели имеется? Какое о бозе и вещах, ко спасению надлежащих, имеют рассуждение? Какие, наконец, у них плоды земные, реки, языки? Какие названия стран и рек, и всякого рода каменные или разваленные от веков здания? И старые гробы, статуи, сосуды скудельные, идолы и болваны? Где все это? Почему не собрано, не срисовано? Почему на ботах не привезено?
Ведь можно было.
Сотни лошадей, целые санные поезда везли амуницию и огромные грузы съестных и казенных припасов через Якуцкую область дальше к Охотску. Конечно, большая часть лошадей в пути погибла, как и немалая часть людей, взятая к тем лошадям, но, делая доклад императрице Анне Иоанновне, капитан-командор Витез Беринг не удержался и произнес с гордостью: «До сего времени не было, матушка-государыня, никакой другой экспедиции, столь славной и огромной, прошедшей бы через всю Сибирь». На такие гордые слова Анна Иоанновна, чуть отвернув в сторону нежное лицо, красиво крытое белилами и румянами, ответила: «Дай бог, командор, из жалости к бедному краю, чтоб грядущие дни не увидели бы славы столь разрушительной».
И, правда, разве не разорительным оказалось для страны столь огромное предприятие?
Иван усмехнулся.
Это, наверное, ревность в нем говорит.
Пересказывая слова императрицы думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев, сильно постаревший, но все еще твердый в своих устремлениях, задумчиво жевал толстыми губами:
— Государь Петр Алексеевич тебя не раз вспоминал, Ванюша, голубчик. Не забыл твое малое имя. Где, часто спрашивал, умный дьяк, который знал дорогу в Апонию? Не вернулся ли? Тебе, Ванюша, голубчик, может, повезло, что ходил так долго.
Чего-то не договаривал.
Хмурился. Переходил как бы на другое.
— Можно и так сказать, Ванюша, голубчик, что государь всю жизнь правил страной из походной кибитки. Такого двора, как теперь, при Петре Алексеевиче в помине не было. А сам государь всегда был неустанен. В Амстердаме, например, тотчас побежал смотреть кунсткамеру. Изучил каждый математический инструмент, каждый минцкабинет. Даже зазорные дома посетил. И дома сиротские, и дом сумасшедших, и собрание ученых. В Роттердам, в Лейден, в Дельфт — везде съездил. А родную Русь исколесил от Архангельска до Невы, от Прута до Азова, от Астрахани до Дербента, при этом всегда понимал, что все это только кусочек державы. Изумлялся, что волей Божией досталась ему такая большая страна — хоть три жизни проживи, из края в край всю не проедешь. Но при этом старался, всемерно расширял державу. Может, слишком был скор, может, слишком сразу всего хотел?… Кто знает?… Может, там, где его родитель неспешно строил, гнушаясь ожидания, он слишком быстро рубил с плеча?… Так ведь опять, кто знает? Может, поэтому и прозван Великим?
Презрительно жевал губами:
— Нынче во власть ходят как на мельницу. Кланяйся ниже, поднимешься выше. Фаворит государыни императрицы господин Бирон, — опасливо понижал голос, — в восемнадцатом году впервые принес Анне Иоанновне на подпись какие-то бумаги. Герцогиня курляндская, — еще опасливее понижал голос, — жила тогда в Анненгофе под Митавой. Однажды вошел в кабинет на доклад с бумагами вместо заболевшего Петра Михайловича Бестужева, так вот с того утра будущая государыня и велела приходить к ней господина Бирона каждый день. Все над этим посмеивались, один только умный граф Остерман Андрей Иванович, понял, куда глядит мелкий немец… Оказывается, он в будущее глядел… Это ведь только дураки считают, что немцы все делают столь обстоятельно, что в дурном обществе сами непременно становятся самыми дурными…
— Дядя…
— Молчи! — было видно, что думному дьяку хочется выговориться.
— Молчи! — повторил. — Если хочешь жить долго, должен понять, как сильно изменилась жизнь при дворе. Оракул, граф Андрей Иванович, погубил светлейшего князя Меншикова, по недопониманию они грызли друг друга, как два льва. И не мог не погубить, ведь Андрей Иванович хитер, как змей. Начал при Петре Алексеевиче, так и рос, и никто никогда не называл его петровским ублюдком. Наоборот, уважительно называли оракулом — за умение заглянуть вперед. Отличился во время Прутского похода, участвовал в заключении Аландского и Ништадского мирных договоров. Работал над составлением Табели о рангах, создании Коллегии иностранных дел. При матушке Екатерине стал вице-канцлером, главным начальником почт, президентом Коммерц-коллегии, членом Верховного тайного совета. При большом уме приходился ко всем дворам. Граф Андрей Иванович один такой, потому и угрызть стараются его со всех сторон. Известно, нам, русским, не надо хлебушка, мы друг друга едим. — Подсказал, нахмурясь (разговор происходил еще в Москве): — Ты поезжай, Ванюша, голубчик, в свою деревеньку… В Санкт-Петербурхе страшно, в Москве неспокойно, один Бог знает, что ждет… Граф Андрей Иванович вторую неделю никого не принимает, лежит в постели. А всем известно, что если прихворнул умный оракул, непременно жди событий… На этот раз, Ванюша, голубчик, не надо оставаться в Москве — или батогами отдуют, или сошлют, куда даже ты не ходил… Держись того, что уже получено… Государыня изрядно отметила твой труд, спрячься на время…
Сам себя оборвал:
— Завистников нынче много… Езжай, Ванюша, голубчик, в деревню, заканчивай начатые чертежи. В Москву или в Санкт-Петербурх без вызова не являйся. Сейчас не любят тех, кто начинал с государем Петром Алексеичем… Вот капитан-командор Витез Беринг собирает вторую экспедицию, но, думаю, трудно придется командору. На него смотрят при дворе косо, считают ублюдком Петра… Но если вдруг у него получится, Ванюша, голубчик, уходи с командором. Так здоровее будет для тебя. Рано или поздно вспомнят господина Чепесюка, это сейчас о нем как бы забыли… А вспомнят, тебя сразу призовут… А призовут, непременно спросят…
— Да что спросят?
— Откуда мне знать? Спросят, ответишь.
— Да что отвечу?
— Что-нибудь да ответишь, — печально покачал головой думный дьяк. — В Канцелярии тайных розыскных дел у господина Ушакова сидят большие мастера получать ответы. И не будешь знать, а ответишь… Матушка государыня Анна Иоанновна любит тонко шутить. Посмотрит на какого человека и скажет: «А ну, позовите мне Ушакова!» А зачем нужен господин Ушаков, никому заранее не объяснит. И пока ходят звать господина Ушакова, мило улыбается… Не дай тебе Бог, Ванюша, голубчик, услышать когда-нибудь такую шутку…
— Да почему спросят о господине Чепесюке?
— Молчи! — понижал голос думный дьяк. — Лучше тебе уехать! Царь Петр строго спрашивал, но по делу. Шафирова лишил чинов и имения, при всем Сенате разругал по матерну обер-прокурора Скорнякова-Писарева, так ведь было за что!.. А тебя жизни лишат… Забудь про господина Чепесюка. Это не твоего ума дело…
— Да кто же он такой?
— Молчи! — совсем пугался думный дьяк. — Даже во сне не произноси упомянутое имя!.. — Тяжело вздыхал, как морское животное: — Это плохо, что так далеко от Санкт-Петербурха лежит господин Чепесюк… Не проверишь… — Но вдруг спрашивал с надеждой: — Может, съели дикующие господина Чепесюка?
— Они там не едят людей.
— А жаль… — мрачно качал головой думный дьяк. — Лучше бы съели… Вот мы, русские, все время едим друг друга… — Пристально глядел на Ивана: — Если добьемся аудиенции, Ванюша, голубчик, все подробно донесешь матушке государыне, как ходил и куда. Но, конечно, с осторожностию… Это при государе Петре Алексеиче любой человек мог явиться ко двору и объявить свой ум. Государь Петр Алексеич и с маиором Саплиным играл в шахматы, не гнушался пить пиво с простыми матрозами… Сейчас не то. Сейчас главное при дворе — политес. Сейчас каждая дама кудрява, как овца, а у входов во дворец возвышаются не медные фигуры умных богов с книгой или со шпагой в руках, как раньше, а некие нежные человекообразные бабы… А кругом карлицы болтают без умолку, дамы крутятся в белилах и в румянах. Сплошной грех… Немцы, опять же… Кругом одни немцы… И со стен бабы нагие…
Сердито сплюнул.
Сказал, имея в виду графа Остермана и обер-секретаря Сената Кирилова:
— Кабы не Андрей Иванович да не Иван Кириллович, глядишь, Ванюша, голубчик, ты не сидел бы сейчас в деревеньке, а ехал опять в сторону Сибири… Может, в смыках… Это в лучшем случае… При дворе сейчас не ум главное, а деликатное обхождение… Чтобы все говорили изысканно, чтобы всякую знали учтивость…
Вздохнул:
— Чувствую, не понравишься ты при дворе…
Добавил, подумав:
— Но опять же, хоть и советую, в деревеньке тоже нельзя все время торчать… Подозрение вызывает…
— Опять из-за господина Чепесюка?
— Забудь это имя!
— Так скажи, дядя! Мне легче будет, — взмолился Иван. — Ведь все, что слышал от умирающего господина Чепесюка, всего три слова. После… Пусть все отдаст… Как такое понять? — Просительно взглянул на отвернувшегося думного дьяка: — Догадывались в Сибири, что есть у господина Чепесюка личный тайный наказ государя, наверное, устный: воеводы дрожали перед господином Чепесюком, а почему, этого никто мне не объяснил.
Думный дьяк сильно прижал палец к губам:
— И не надо! И забудь! И лучше тебе не знать! Если спросят, все равно скажешь.
— А если солгу невольно?
— Не все ли равно, правду ты говоришь или ложь, если под пыткой?
— Как это понять?
Но думный дьяк, покачав головой, многозначительно перевел разговор на другое.
— Капитана-командора Витеза Беринга в дворце приняли немилостиво, — сказал он. — В лицо говорили, что мало, мол, плавал, а больше времени в неторопливых экзерцициях проводил. Впрочем, капитан-командор человек лукавый, он сам хорошо знает, где его выгода. Мог сослаться на то, что не помогли ему те, кто обязан был помогать, но капитан-командор, по внутреннему своему лукавству, а, может, по мудрости, о людях вообще ничего не говорит, чем, кстати, производит полезное для себя впечатление. В своем неуспехе ссылается не на людей, а на туман, на ветер, на сильное волнение в дальних морях. Не о невзгодах говорит, а о непогоде. Вот всем известно, как сильно ссорился капитан-командор с собственным помощником господином лейтенантом Шпанбергом, но и о том при дворе капитан-командор не произнес ни слова. Все, говорит, туманы стояли, все, говорит, мешала непогода. Может, говорит, проходили в полуверсте от берегов Америки, так все равно ничего не видно в тумане. Такая мягкость подкупила даже матушку государыню. Все дни, рассказал ей капитан-командор, стоял в море туман, ну, как в сыром погребе, совсем не видели берегов… Чувствую, Ванюша, голубчик, убедит капитан-командор матушку государыню… И граф Андрей Иванович этому потакает… Графу Андрею Ивановичу Остерману во всем такое удобно: с одной стороны, как бы продолжается исследование новых земель, на чем всегда настаивал, а с другой стороны, как бы отсылает он из Санкт-Петербурхе одного из приспешников царя Петра… Если добьемся аудиенции, Ванюша, голубчик, просись к капитану-командору. Мой тебе совет. Боюсь за тебя.
Вздохнул:
— Капитан-командор уверен, что Америка лежит совсем близко к Камчатке. Считает, что плыть там миль, может, сто пятьдесят. Утверждает, что восточнее Камчатки волна на море всегда ниже, чем за Камчаткою к югу, а на берегах острова Карагинского сам видел древесину, какая не встречается ни на Камчатке, ни в ближних местах. Вот и рвется снять сомнения.
— А пустят? — недоверчиво спросил Иван.
Думный дьяк устало покачал головой:
— Наверное, пустят… Капитан-командор Беринг в записке, поданной на имя матушки государыни, сильно просит утвердить особое Охотское управление, независимое от Якуцка, ну, может, с подчинением Иркутской канцелярии. Как бы заранее осваивает будущую территорию, вот какой обстоятельный немец. Понимает, что проще неспешно властвовать где-нибудь в дальнем Охотске, чем кланяться на приемах, каждый раз чувствуя на себе взгляд Ушакова. И тебе проще было бы жить в Охотске, а не под Москвой.
— Но почему, дядя?
Матвеев усмехнулся:
— Просись с капитаном-командором, вот мой совет. И граф Андрей Иванович поможет, и Кириллов. Времена нынче такие, Ванюша, голубчик, что чем дальше от двора находятся бывшие петровские люди, тем мягче к ним отношение. Капитан-командор это понял. Попробуй понять и ты.
Оторвавшись от промороженного окна, Иван обернулся на покашливание Похабина:
— Ну?
— Бумаги принес.
Похабин был уже одет, кафтан, правда, застегнут вольно, принесенные бумаги осторожно положил на край стола:
— Человек думного дьяка ждет ответа, барин. Совсем выбился из сил, а все равно ждет ответа. Писать, говорит, ничего не надо, он передаст на словах. Боится не поспеть. Я ему говорю: ложись, куда торопиться? А он тычет помороженными руками, некогда, мол, спать. — Похабин ухмыльнулся: — Я ему пунш сварил. Думаю, сморит человека после пунша.
— Смотри, Похабин, отдам в барабанщики!
— Да за что, барин? Я пунш нисколько не пробовал. — Завистливо причмокнул губами: — Холодно!
— Холодно на улице, не в дому, — отрезал Иван. — Опять напьешься, отдам в барабанщики, смешить людей на старости лет. Я, сам знаешь, не терплю пьянства, такой страшный порок вообще терпеть не хочу. Отдую палкой и в барабанщики! Один да в ночи, знаешь, кто пьет, Похабин?
Похабин, может, и не знал, но не заинтересовался. Засопел сердито:
— Я что? Я принес бумаги.
И добавил уже другим голосом:
— Прикажи человеку отдохнуть до утра, барин. Не доедет ночью, замерзнет.
Крестинин кивнул:
— Иди, варнак. Приказываю.
Похабин исчез.
Поскрипывал за печью сверчок, от беленого известкой обогревателя ровно несло теплом. Иван не сразу, опасливо разорвал пакет. Осторожность думного дьяка Матвеева известна. Потому, наверное, удержался и при дворе Анны Иоанновны. Конечно, живется ему совсем не так, как жилось при Усатом, но все же лучше, чем жилось при внуке Усатого. Будучи осторожным, думный дьяк предпочитает даже от родного племянника получать устные сообщения.
Тревожно всмотрелся в бегущие буквы с характерным отлетом хвостика у буквы р, у той самой, которую от природы никак не могли выговаривать камчатские нымыланы.
Удивился, вчитавшись.
Думный дьяк Кузьма Петрович просил отпустить его человека сразу.
Хоть в мороз, пусть хоть волки, хоть что еще, а только сразу. Просил наказать его человеку скакать всю ночь в обход некоторых застав, минуя шлагбаумы.
Писал думный дьяк просто и ясно. И прежде всего — о неукротимом маиоре Саплине, доставляющем Кузьме Петровичу неслыханные трудности. Оказывается, привычка маиора к простому обращению еще сильней усугубилась многолетнею его жизнью среди дикующих. Вернувшись в Москву, куда перебралась добрая соломенная вдова Саплина, купив на Пречистенке большой каменный дом и обустроив его многими хозяйственными клетями, неукротимый маиор сильно дивился окружающему:
— Под фортецию чувств… Подкопы…
Говорил о чувствах, но очи нисколько не были умилены увиденным. Немцы кругом, сердился, одни немцы! Офицеров в полки набирают между ливонцами, эстами, курляндцами, почти не осталось русских офицеров. Особенно в Санкт-Петербурхе. Оно, конечно… Санкт-Петербурх и при государе Петре Алексеевиче казался немецким городом — плоский, прямой, на улицах речь немецкая да голландская, но ведь сейчас русской речи на прешпектах вообще не слышно, люди ходят сторожась, стараются лишний раз не открывать ртов. Знают, везде злые уши и языки.
Страна доносчиков.
Стоило маиору проиграть немного мяхкой рухляди в шнип-шнап, как через день о том знали в ужасном ведомстве Ушакова. А играли дома всего втроем, лишних никого не было… Однажды сам видел, как на Сретенке баба выпустила из рук купленного на Трубе зайца. Только и сказала: «Вот черт немецкий!» — а на нее тут же крикнули слово государево.
Чудно.
Маиор дивился.
Под фортецию чувств. Подкопы!
Фаворит Бирон при государыне императрице совсем не говорит по-русски, даже записки пишет немецкими буквами. Даже с собаками и лошадьми разговаривает по-немецки. Весь Измайловский полк составлен из наемников. Правда, убрали с площадей многие каменные столбы и колья, на которых раньше разлагались трупы казненных, но от этого не легче. Прогневишь государыню, в приказе у господина Ушакова много найдется железных спиц, которыми тебя прошпигуют. Однажды на куртаге у Густава Бирона, родного брата фаворита императрицы, неукротимый маиор имел несчастье вслух загадать загадку: «С одной стороны море, с другой горе, с третьей мох, а с четвертой — ох! Ну, что это?» Ответ знали многие, но каждый сделал вид, что не понял. А некоторые как бы даже и не услышали.
Опасно шутил маиор.
Не раз с сильным чувством говорил в обществе о Петре Алексеевиче, называя его Великим и Отцом Отечества. Покойную императрицу величал истинной матушкой полковницей. В пьяном кураже кричал, что при государе Петре Алексеевиче все дивным огнем сияло, все росло, все двигалось — можно было пойти на шведов, а то на турков, и вообще главным в жизни было — принсипы. В доме на Пречистенке неукротимый маиор завел красивую девушку под видом сервитьерки разливательницы чаю; на ней башмаки на тонких подошвах, волосы чисто вымыты квасом, тонко говорит и потупляет глазки. А недавно на улице близко к ночи напали на маиора сразу трое. Хотели, наверное, избить, отнять деньги. Маиор, осердившись, одного зарезал насмерть, а двоих жестоко избил, сам в свою очередь отняв у воров деньги — за обиду. Такая обида, пояснил маиор на разборе в казенном приказе, большое зло. После шведа, может, главное… Оно, понятно, может, и так, но почему-то ответ неукротимого маиора казенным людям в тайном приказе не понравился. Дескать, как это так, отбирать чужие деньги? Пусть даже вор… Ну, убей вора, а чужого не трогай!..
Верных людей у неукротимого маиора Саплина в Москве совсем не оказалось, от собственной супруги отвык, сильно скучал по далеким островам, не к месту поминал не крещенных переменных жен Афаку, Заагшем и Казукч, называя их военными денщиками и сервитьерками; многое, что видел вокруг, маиору совсем не нравилось, не ложилось на душу. Однажды в обществе некий сосед маиора по Пречистенке доверительно пожаловался: вот, дескать, он сильно страдает за государство. Сам посильно следит, чтобы все в Москве дышали одинаково. Вывел, например, начистоту одного скверного дворянина из новых, крикнул на него государево слово и дело, теперь бросили негодяя в застенок за неправильные и дерзкие речи против государыни — он при всех людях дерзко называл добрую матушку Анну Иоанновну толстой Нан! Вот, радостно пожаловался сосед, как он правильно поступил, а его, значит, такого честного, такого пекущегося о государстве обидели: выдали из добра, отнятого у брошенного в застенок преступника, только одну только корову. Да еще жена запытанного как бы для специального издевательства принесла к его дому вязанку сырых дров и нагло бросила у ворот, на, дескать, возьми!
Неукротимому маиору рассказ соседа не показался. Он выхватил шпагу, хотел прямо на глазах у общества насмерть запороть доносчика, только добрая супруга отвела разящую руку.
Потом еще хуже: в обществе грубо отозвался о немцах. Немцы, дескать, зло. После шведа, может, главное. Однажды (по настоянию супруги и думного дьяка Матвеева) пригласил в гости немца полковника Левенвольда. По каким-то причинам полковник прибыть не смог, тогда обиженный маиор приказал в кресло, приготовленное для почетного гостя, посадить, связав, большого жирного борова, и в течение вечера дерзко и громко не один раз пил перед смущенными гостями здоровье немецкого полковника. А служили борову, как почетному гостю, сразу три человека.
А еще такое было.
Оказался неукротимый маиор по казенному вызову перед специальным чиновником. Чиновник невелик, разговаривал вежливо, но с некоторым заметным немецким акцентом, что сразу не понравилось маиору. Еще не понравился ему вежливый чиновник тем, что за его равнодушными свиными глазками явственно угадывался зловещий взор костолома господина Ушакова. Совсем не грубо, но с заметным акцентом казенный чиновник спросил — правда ли, что на неких островах, являющихся продолжением Российской империи, найдена им, Его императорского Батуринского полка маиором Саплиным целая гора серебра?
Правда, ответил маиор.
А охранялась ли та гора от каких ненужных лишних людей?
Твердо охранялась, подтвердил маиор. И отдельно разъяснил, что ту цельную гору Селебен он лично нашел и охранял, поскольку был ему личный наказ от покойного императора Петра Великого, Отца Отечества, и он, неукротимый маиор Саплин, наказ Его императорского величества выполнил. Он так хорошо охранял гору Селебен, что апонцы и дикующие до сих пор, наверное, боятся ходить к той горе.
При имени императора чиновник нахмурился.
Если дело так обстоит, сказал он со вдруг усилившимся немецким акцентом, то почему гора Селебен оставлена сейчас без присмотра? Почему не стоит у подножия той горы русский солдат с примкнутым к ружью багинетом?
А потому не стоит сейчас у подножия русской горы Селебен русский солдат, дерзко ответил маиор, произнося каждое слово отчетливо и по-русски, что в тех русских краях побывал пока только один настоящий русский солдат, то есть он, неукротимый русский маиор Саплин, попавший на дикий русский остров по приказу покойного русского государя императора и волею различных обстоятельств.
Чиновник кивнул.
Лицо у казенного чиновника было равнодушное.
В мае двадцать первого года, объяснил он, шли на судне «Охота» вдоль новых островов геодезисты Иван Евреинов и Федор Лужин, тоже посланные в поход еще императором Петром Первым. Покойный государь так торопился узнать что-нибудь о далеких островах, что геодезистов Евреинова и Лужина из Морской академии выпустили досрочно, за прилежание к наукам. Так почему он, маиор Саплин, не зажег на острову заметные костры, не остановил судно «Охота», не оставил на острове с цельной горой серебра сильную смену себе? Почему не предуведомил господ геодезистов Евреинова и Лужина, что тот остров следует взять на особенную замету?… И еще о многом спросил специальный казенный чиновник, допрашивавший маиора Саплина. Спросил холодно, даже с некоторым равнодушием, но при этом и со скрытым казенным лукавством, против которого даже умный человек не всегда устоит.
А неукротимый маиор был прост.
В этой своей простоте, совершенно неслыханной при нынешнем кудрявом дворе, неукротимый маиор так ответил. Я, дескать, на новом русском острове не кашу варил. Я на русском острове лично денно и нощно осуществлял охрану русской горы серебра. А диспозиции на море не знал, остров большой, сразу всего не увидишь. Может, проходили мимо острова господа геодезисты Евреинов и Лужин, только весточки ему, русскому маиору Саплину, никто не подал — край там большой, а русских людей нету.
И добавил следующее.
Он, неукротимый маиор Саплин, и сейчас бы стоял на посту, с великим терпением ожидая обещанной смены, да так случилось, что под страхом быстрой и жестокой смерти пришлось ему бежать с острова.
А почему? — спросил казенный чиновник.
А потому, ответил маиор, что открылось на острове предательство.
Мохнатые изменили? Апонцы высадились? — в глазах казенного чиновника мелькнул, наконец, огонек хоть какого-то интереса. Похоже, начиная уважать маиора, чиновник готов был принять любой ответ.
Но маиор опять остался прост.
Не в дикующих дело, пояснил он, и даже не в апонцах. Истинная измена случилась с другой стороны.
С какой же?
А с русской.
То есть как так, с русской? — от удивления акцент у казенного чиновника еще более усилился.
А вот так, с русской, — с особенным значением подчеркнул маиор, и специальному казенному чиновнику тон его откровенно не понравился. А маиор ко всему прочему добавил, что вот он, неукротимый русский маиор Саплин, с мохнатыми даже подружился, жил в мире, некоторых подвел под шерть, они уже стали ясак носить, понимать долг перед государем, да все дело сгубил один человек, которого сейчас с почестями принимают в Москве в немецких домах.
Как так? — удивился казенный чиновник. Кто таков?
Некий поп поганый, смело ответил неукротимый маиор. Некто называющий себя якобы монахом братом Игнатием, выдающий себя за знающего мир человека, а на деле душегубец, каких не видели, враг народа, оморок бесовский, подкидыш ада! По вине поганого попа возмущенные дикующие расстреляли русских на острову, а другая часть русских потонула, погибла в море от голода. Только я, русский маиор Саплин, с двумя товарищами Провидением выброшен был на голые камчатские берега. Много страдал, пока вернулся в Россию. И уже в России узнал, что предатель поп поганый добрался до России и здравствует. Открыто живет в Москве в немецких домах, а от праведного суда оберегает попа поганого сам архиепископ Феофан Прокопович.
Да почему?
Да потому, что ворон ворону глаз не выклюет, неукротимо ответил маиор, совсем забыв правила разговора со специальными казенными чиновниками. У кого еще прятаться попу поганому? Разве не преподобный архиепископ Феофан Прокопович в своем «Духовном регламенте» указал, чтобы обо всех церковных и не церковных беспорядках и суевериях сообщали как бы свои собственные фискалы — церковные. А у попа поганого монаха Игнатия явно имеется уклон к такому поганому занятию.
Да так ли это? — не поверил чиновник.
Да так, ответил маиор. В санкт-петербурхских «Ведомостях» некоторыми учеными немцами воздана попу поганому монаху Игнатию большая хвала. Академик немец Миллер пишет об указанном предателе много лестного, а другие немцы сладко повторяют его слова. А если бы не тот поп поганый монах Игнашка, то русская гора Селебен и сейчас стояла бы под хорошим присмотром. Он лично, неукротимый маиор Саплин, несколько лет ходил вокруг горы с примкнутым к ружью багинетом, спасал русское серебро от алчных апонцев, объявил дальний остров российской собственностью, сам, кстати, от горы серебра не отщипнув ни кусочка.
Возможно, допрос удивлением бы и кончился, если бы не военная простота маиора. Печась о том, как бы всякие недобрые слухи о его, может, не совсем христианском поведении на острове не дошли до ушей двора, и уж, не дай бог, до ушей собственной доброй супруги Елизаветы Петровны Саплиной, неукротимый маиор как бы случайно и при этом не кстати заметил следующее. Что касаемо жен переменных, заметил неукротимый маиор, о чем некоторые злословят, так он, русский неукротимый маиор Саплин, всегда смотрел и смотрит на своих островных переменных жен просто как на военных денщиков, на сервитьерок женского полу. Он этими так называемыми переменными женами командовал, как когда-то батальоном.
Переменные? В каком смысле? — впервые по настоящему заинтересовался казенный чиновник.
Даже и теперь допрос еще мог закончиться к взаимному удовлетворению, но неукротимый маиор сам все испортил. Он с такой легкостью и звучностью перечислил имена своих островных переменных жен Афаки, Заагшем и Казукч, Плачущей, что казенный чиновник потребовал перевода. Звучит странно, с неясным, но многозначительным намеком заметил казенный чиновник. Наверное, в каждом таком имени скрыт какой-то особый смысл?
Неукротимый маиор обиделся.
Зачем переводить? — спросил он, глядя в равнодушные глаза казенного чиновника. Разные имена есть на свете. И еще неукротимее уставился в мутноватые глаза казенного чиновника, явственно догадываясь, что по бумагам он, наверное, вовсе не Михаил Кузьмич, как просил себя называть, а какой-нибудь Генрих-Иоганн-Фридрих.
К сожалению, казенный чиновник не принял простоты маиора.
Он даже пробубнил что-то под нос, особенно подчеркивая не ясное для него звучание таких имен как Афака, Заагшем и Казукч. Подчеркивая явно языческое звучание новых для себя имен, специальный казенный чиновник даже несколько переврал их, на что неукротимый маиор, вместо того, чтобы обратить внимание казенного чиновника на многие тяготы своих путешествий, ударился в амбицию, сильно убежденный в том, что даже казенный чиновник Канцелярии тайных розыскных дел не может с такой силой подкапываться под фортецию его личных чувств. В итоге казенный чиновник впал в полную десперацию, а неукротимого маиора арестовал вызванный патруль. К казенному подвалу неукротимого маиора вели уже гренадеры. Один шел впереди, двое с ружьями позади. Равнодушный казенный чиновник, немного придя в себя, выглянул в окно и с сильным немецким акцентом сказал:
— Писать таких маиоров в барабанщики, чтобы выше рядового никогда не производить!
Заканчивалось длинное письмо думного дьяка Кузьмы Петровича Матвеева сожалением. Особенно сильно сожалею, писал думный дьяк, что такой неукротимый и честный сердцем маиор после некоторого содержания под домашним арестом повержен в зловонный тюремный подвал, а некто убивец и вор поп поганый монах Игнашка, он же когда-то в миру есаул Козырь, здравствует и живет на Москве, пишет записки в Правительствующий Сенат и, благодаря немцам, сильно укрепляет связи в Священном Синоде. Он, думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев, пытался дознаться, по какой конкретно статье арестован неукротимый маиор Саплин, но добился лишь одного: коротко, но многозначительно ему ответили, что арестован неукротимый маиор по важному подозрению. А по какому? — об этом якобы никто не знает и не хочет знать. И да поможет неукротимому маиору Саплину Бог, ибо как никогда нужна сейчас маиору Божья помощь.
Такими печальными словами заканчивалось письмо думного дьяка Кузьмы Петровича Матвеева.
К письму думного дьяка было приложено несколько выписей.
Иван развернул первую. …«…В году 713-м, еще до монашества, посылан я был за проливы против Камчатского носа для проведывания новых островов и Апонского государства. Следовал туда мелкими судами, без мореходов, компасов, снастей и якорей. Теперь знаю, что на ближних островах живут самовластные иноземцы, которые, не сдавшись на сговор наш, дрались с нами; они в воинском деле жестоки и имеют сабли, копья и луки со стрелами. Милостью Господа Бога и счастьем Его Императорского Величества мы тех боевых иноземцев имали в полон, брали у них платье шелковое, и дабинное, и кропивное, и золото; в том числе полонили одного иноземца по имени Иттаная с острова Итурты».
Ивана как обожгло. Не читая подряд, с ужасом глянул в конец выписи. …«…А какой путь лежит через вышеозначенные острова к городу Матмаю на Нифонской земле, и в какое время удобнее идти к нему морем, и на каких судах, и с какими запасами и военными снарядами, и сколько надобно посылать воинских людей, я о том объявил в Якуцкой канцелярии, а подробнее желаю объявить в Москве Судьям некоторой Коллегии.
Во прошлом в 720-м году вышел я из Камчатки в Якуцк и пожелал следовать в Тобольск для благословения к Преосвященному Архиерею. Хотел просить о построении на Камчатке новой пустыни и бить челом Великому Государю о выдаче денег за положенные мною в казну соболи, лисицы и бобры. А нужны мне те деньги на всякие церковные потребы и на пустынное строение, а еще на объявленье в Тобольске об островах, мною осмотренных, о самовольных иноземцах и о далеком городе Матмае… Только сердитый архимандрит Феофан удержал меня в Якуцке, в Тобольск не отпустил, а в следующем году определил в Покровский монастырь строителем, а потом, при отъезде его в Тобольск, тот же Феофан оставил меня в неволе в Спасском монастыре — как бы строителем и для управления Синодальных дел Закащиком».
По спине Ивана пробежал мерзкий холодок.
Он, Иван Крестинин, секретный дьяк, как бы давно для себя забыл все эти слова! А ведь видел когда-то такую бумагу, только совсем забыл, совсем забыл, стал считать, что как бы не было таких слов. А они были! И опять явились перед ним — неистребимые, ужасные… Когда-то считал, что писаны были эти слова горячим казачьим десятником, махавшимся в кабаке портретом Усатого, но…
Откуда такие бумаги? — ужаснулся. Неужто все от того попа? И сколько будет ходить по свету столь премерзностнейший монах? Волнуясь, развернул вторую выпись. …«…В прошлом 727-м году отправленный по указу из Санкт-Петербурха в партии на Восточное и Северное море для прииску новых земель, островов и народов к пользе Российской империи и для прибытку государственного интереса якуцкий казачий голова Афанасий Шестаков предъявлял в Тобольской губернской канцелярии, что я, нижайший, к той партии сильно надобен, поскольку более других о морских островах и народах и о морских путях известен. По тем его, казачьего головы Шестакова, предложениям я с ним, с Шестаковым, и был отправлен.
И о том моем отправлении, и о разных моих тяжелых прежних службах, и о церковном строении, поставленном мною на Камчатке, был послан из губернской канцелярии в Якуцк к воеводе господину Полуехтову указ, а также в Тобольский архиерейский приказ в 727-м и в 729-м годах несколько промеморий отправлено. Только ничего по тем указам не было исполнено, а в Якуцке я даже принял смертное увечье, а вовсе не благодеяние, о чем мною тут же мною из Тобольска объявлено в Сенат.
И будучи я, нижайший, в той отправленной партии без жалованья, службу свою в монашестве показал, а именно: по посылке от него, казачьего головы Шестакова, Леною-рекою на Северное море, новый водяной путь на своем коште проведал. И от служб тех я, нижайший, пришел в крайнюю скудость и нужду, и впал в большие долги, которые теперь имею на себе больше семисот рублев. А в Тобольске за те мои нелегкие службы и за купленный на Лене-реке карбас никакого награждения я не получил, ничего мне, нижайшему, в Тобольску не было выдано. И ведая многие смертные нужды, зная, что за скудостью и нищетою легко в дальних землях помереть можно, стал я проситься к людям, в 726-м году отправленным из Якуцка на Ламу к морского флота капитану-командору господину Витезу Берингу, но и в том получил отказ…»
Поп поганый, не отцепный!
Иван дочитывал выписки с ужасной смутой в душе.
Как пристал вор Козырь к прикащику Атласову, так и висел репьем на всех, кто потом мимо шел. Ни в пытошной его не могли замучить, ни в походах убить, никому не давался в руки. Чугунного господина Чепесюка погубил, дьяка-фантаста Тюньку, многих казаков, теперь неукротимый маиор Саплин терпит из-за него, попа поганого, очередное бедствие.
Лама…
Далекий Охотск…
Страх холодной голодной смерти, низкое небо, пустынно светящееся над головой… Редкие лиственницы, черные, траурные, будто политые смолой. Санный след, вой собачек… И везде выжил, нигде не умер поп поганый, подлый монах Игнатий! Неукротимого маиора Саплина безбожно продал дикующему князцу Туге. Казенных казаков бросил на пустынном острове Симусир. Воровски отнял у государевых людей морскую бусу, чем многих довел до смерти, а сам, оказывается, добрался до Камчатки и позже, не открывая правды, сдружился с якуцким головой Шестаковым. Даже к экспедиции капитана-командора Витеза Беринга пытался пристать!..
Иван, волнуясь, развернул третью выпись.
На бумаге рукой думного дьяка Кузьмы Петровича Матвеева было указано, что данные извлечения взяты из академического календаря, издаваемого в Санкт-Петербурхе на каждый год.
В сообщениях о новом крае Камчатке академик немец Миллер писал: …«…Прежде сего у тамошних жителей никакой веры не было. Но за двадцать лет по повелению Его императорского величества построены там российские церкви и школы, которые нам надежду подают, что сей народ от времени до времени из их заблуждения выведен будет. Монах Игнатий Козыревский, который при первой экспедиции Володимера Атласова еще бельцом был и с того времени в сей земле с юных лет жил, в сем деле немалое вспомогание учинил; такожде по многому прошению бедных, неимущих, старых, больных, раненых и иных от службы отставленных людей при реке Камчатке на пустом месте церковь с пределом и монастырь на собственное свое иждивение построил, в котором потом сам постригся, Игнатием назван. Понеже сей монах по возвращении своем в Москве живет и нам обещал все по иной земле собранные любопытные известия сообщить, то надеемся в будущий год нашим читателям пространнейшим и приятнейшим о сей земле услужить».
Козырь!
Проклятый Козырь!
Пока он, секретный дьяк Крестинин, да неукротимый маиор с рыжим Похабиным выходили от нымыланов, от сердешного друга Айги, поп поганый многое успел сделать. Вор гнусный, бунтовщик, убивец прикащиков, а теперь в Сенат вхож! Убивец, бунтовавший против государева прикащика Волотьки Атласова, гнусный изменщик, бросивший государевых людей на островах, погубивший тем тайного господина Чепесюка и многих других, делает специальные казенные сообщения об островном крае!..
Холодок снова пробежал по спине Ивана.
Небось, и новый чертежик готов у того Козыря…
Если он, Иван, не попадет теперь к матушке государыне прежде, чем попадет к ней на прием вор и изменщик Козырь, он же поп поганый монах Игнатий, то так может получиться, что именно Козырь останется настоящим героем, а все остальные…
Вдруг сразу понял, зачем так срочно слал ему указанные выписи думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев. Вспомнил, как думный дьяк сказал когда-то о Козыре: «Он мне Волотьку должен!»
Иван развернул последний лист.
Будь его воля, никогда бы не разворачивал. …«…Зимы в Нифонском государстве совсем нет, а каменных городов — два. Царя простым людям видеть не полагается, а коль выезд царя назначен, падают люди наземь и смотреть не смеют…»
Каждое слово, каждая литера знакомы!
Ведь еще много лет назад прочел все эти слова еще в Санкт-Петербурхе в бумагах казака, запытаного потом в Преображенском приказе. …«Город Какокунии — особливое владение…
А на Нифонте-острове есть монастырь, в котором чернецов много. Жалованье им посылает царь, а за моления воздают люди. А вера их — Фоносома, бог их…
Есть остров особый, на который съезжаются ради мольбищ и приносят Фоносоме дары — всякое золото, и серебро, и лаковую посуду. А ежели кто украдет што, Фоносома сам тому вору жилы корчит и тело сушит. И то же делает с теми, кто, молясь, обуви при нем не снимает…
А близ морской губы стоит город Сынари, который миновать никак невозможно. В том городе осматривают приезжих людей, их оружие, их товары, а на товары дают специальные выписи. А тот ли это остров, на котором поклоняются богу Фонасоме, того не знаю. Везде по дороге многие караулы, попасть никуда нельзя…
А меж Матмайским и Нифонским островами в проливе много высоких мысов. Когда ветер боковой, а вода прибылая или убылая, тогда тот путь и для бусов не прост. А многие совсем разбиваются…
Есть жители островов — мохнатые…
А от Камчатского носу до того Матмайского острова малых и пустых островов — двадцать два…
А живут на островах тихие народы, а апонские иноземцы совсем не живут, разве только на зверином промыслу их зима застигнет…»
А считал — мое! — с отчаянием подумал Иван. И вдруг ясно, как никогда, вспомнился ему старик-шептун.
Тридцать с лишним лет назад в плоской сендухе, в ста верстах от Якуцка, среди комаров и мекающих олешков, в день, когда ему, Ваньке Крестинину, стукнуло семь лет, некий мальчишка, сын убивцы и сам убивец, отрубил ему средний палец на левой руке. Боль, в общем, не великая, но рука стала походить на недоделанную вилку. И там, в сендухе, ровной, плоской, как стол, под томительное шуршанье дождя, заговаривая Ивану отрубленный палец, некий старик-шептун необычно предсказал: жить будешь долго, внимание царствующей особы на себя обратишь, дойдешь до края земли, дикующую полюбишь, а вот жизнь, непонятно добавил, проживешь чужую.
Не обманул проклятый старик! Все сбылось.
Жизнь проживешь чужую!
Отчаяние оказалось столь велико, что крикнул Похабина, а голос сорвался.
К счастью, Похабин сам вошел. Круглую морду хитро держал в сторону, не хотел, наверное, дышать на барина.
— Как человек от думного дьяка?
Похабин, стреляя глазом, не хочет ли хозяин драться, ответил охотно:
— Отдыхают…
— Буди! — приказал Иван таким голосом, от которого у Похабина враз побежали мурашки по спине.
— Это как? — переспросил.
— Буди! Прямо сейчас. Пусть скачет в Москву. Дай лошадей свежих.
— Так еще и не рассвело.
— Буди!
— А сказать что?
— Скажи одно: буду! Пусть так и передаст думному дьяку.
— Буду?… — переспросил Похабин, немея от напряжения, боясь что-нибудь не так понять. — Это ж как так — буду?…
— Тебе понимать не надо, пусть так и передаст — буду. — И крикнул, не выдержав: — Дурак! В Москве буду!
И отвернулся к окну, промороженному до инея.
Глава II. Московская ночь
На Пречистенке в каменном дому маиора Саплина ставни накрепко закрыты, их откинули только с появлением думного дьяка и Ивана Крестинина. Двор сильно замело снегом, снег не успевали убирать. Липа у ворот стояла белая, как напудренная по этикету. Обнимая родного брата и долгожданного Ивана, утирая синенькие глаза платочком, добрая супруга неукротимого маиора Елизавета Петровна заплакала:
— Вот снова одна. Нет маиора. И жив он, и нет его. Хотела от скуки дворню сечь, спасибо, вы приехали. — И повела гостей в дом.
В светлице образа по углам, на стенах богатые мунгальские ковры с бахромой.
Усадила гостей рядом с кирпичной печью, покрытой желтыми, синими, зелеными, будто леденцовыми изразцами, перед печкою — медный лист, железная кочерга и совок тяжелого черного металла.
И везде — образа, везде лампадки, свет в которых возжжен.
В московском воздухе, сильно не похожем на сырость плоского солдатского Санкт-Петербурха, таилось что-то необычное. Например, необычным показался Ивану портрет у входа — незнакомый не старый человек в старинных одеждах. Подумал: наверное, кто-то из Матвеевых, может, еще из стрельцов… И это совсем показалось странно… Раньше Елизавета Петровна не решилась бы повесить в доме портрет стрельца…
— А это что? — изумился, поворачиваясь обернувшись к окнам думный дьяк.
— А это окна, батюшка, — все еще сквозь слезы ответила вдова Саплина. За последние годы она сильно раздалась, халат на ней был малиновый из китайки, новый, на шее нежно мерцало чудное жемчужное ожерелье.
— Вижу, что окна, — выдохнул Кузьма Петрович и его обвислые щеки дрогнули. — Зачем бумагой заклеены?
— Яков Афанасьич так распорядился, — всхлипывая объяснила соломенная вдова, расправляя на столе ни чуть не сбившуюся вышитую скатерку. — Поначалу определили маиора под домашний арест. Пел военные песни, пил чай, сильно ругал казенных чиновников, а все равно маялся несвободой. Часто выглядывал в окно, благо, стало не холодно, часто подзывал прохожих. Поначалу казенный офицер не мешал маиору, а потом рассердился и приказал не подходить к окну. Дескать, сейчас, Яков Афанасьевич, не лето, можете простудиться. Да и люди, мол, разные ходят у вас под окнами. Вот смотреть на них можно, а открывать окно для разговоров нельзя. Может, от доброты сказал такое, а Яков Афанасьич рассердился. Из внутреннего противуречия приказал наглухо заклеить бумагой все окна, выходящие на улицу. Взором рассеиваться, сказал, зло. После шведа, может, главное.
Промокнула платочком синенькие глаза:
— Сам себя погубил маиор Яков Афанасьич. Жил бы тихо, так никто и не заметил бы его существования. А он громко и понапрасну сердился на все, что ему не нравилось. Прошла, например, по Москве неясная болезнь, ну, и молчал бы. Так нет, все из того же внутреннего противуречия во всеуслышание объявил, что это, мол, от того, что по городу водили слона. Ветра не было в тот день, вот и пошла по Москве некая неясная болезнь, какой никогда до слона не было. А когда налогами начал заниматься, тоже осерчал. Во всеуслышание объявил, что он на смерть пойдет за матушку государыню, но только таких налогов платить ему нечем. А раз нечем, объявил, значит, есть в тех налогах что-то неверное. Все из того же внутреннего противуречия конвойным, охранявшим дом, выставлял крепкое ржаное винцо и закуску. Конвойные так ужасно напивались, что прямо под окном дважды устроили шум и драку. А маиор следил внимательно, как дерутся конвойные, и горько причитал, маленькую умную голову положив на кулак: «Да какое же нам житье за бабой? Да разве можно жить за бабой? Да самая умная баба и та никогда не выйдет в полковники. Да зачем женскому полу царством таким большим владеть? От указанных бед на Руси бегут из государства люди. Кто в Польшу, кто в Бесарабию. Где принсипы?»
— Молчи, дура! Лаешь не на то дерево! — оборвал сестру думный дьяк Кузьма Петрович. — Никогда не повторяй таких слов вслух. Лучше прикажи чего-нибудь выпить.
— Нюшка!
Раздавшаяся в талии Нюшка вмиг принесла наливку, выставила знакомые рюмки черненого серебра, даже как бы стыдливо, а на самом деле совсем бесстыдно отвернулась от Ивана. Показалась чужой, непонятной, а когда-то, вспомнил, сильно радовала глаз.
— Отдала замуж Нюшку, — вздохнула вдова. — А она, — с укором кивнула на Нюшку, — все так и смотрит в сторону, как в девушках. С мужем держу их в раздельности, чтоб не завели детей, вот никак и не научится смотреть правильно на мужеский пол.
Спросила деловито:
— Федьку высекли?
Нюшка так же деловито ответила:
— Секут.
Иван усмехнулся.
Усмехнулся, но что-то на секунду, пусть всего лишь на секунду, но перехватило дыхание, стеснило грудь… Голос у Нюшки был как бы немножко птичкин…
Кенилля…
Круглая, вохкая, Кенилля выбегала из балагана, кричала высоким птичкиным голосом, заставляла Ивана вздрагивать. На неукротимого маиора смотрела с испугом, на рыжего Похабина с отвращением, плевалась, воздевала руки к небу, снова пряталась в балаган, нашептывала колдовство на рыбью голову, а потом убегала на речной остров, колдовала на острове над деревянным болваном. Родным сестрам, простыгам, постоянно твердила, что русские, они как голодные чайки. На Ивана глядела жадно, а сама твердила, что русские всегда не сыты, всегда ищут пищу. Наша еда, олешки, сама на ногах ходит, твердила, наша еда, коренья, сама в земле растет, а у брыхтатын, русских, нет ничего, потому и глаза у них вечно голодные, всегда блестят…
Кенилля…
Было ль такое?
Целую жизнь назад, в незапамятные времена, в канцелярии думного дьяка каждая перевернутая бумажка означала какую-то долгую минуту или, может, час, и каждая перевернутая бумажка явственно подтверждала, что время течет, что время не стоит на месте — серое, пыльное влачится, как вода в мутном ручье, и серое будущее ничем не отличается от серого прошлого…
Потом все в одночасье рухнуло!
Где государев прикащик Волотька Атласов, поразивший самого Усатого сильным описанием гор, дымящих, как кузница, и рек, кипящих, как железный котел?… Где апонец Сана, отправленный с Камчатки государю?… Где тайный чугунный человек господин Чепесюк, одно имя которого заставляло трепетать сердца?… Где монстр якуцкий статистик дьяк-фантаст Тюнька, взявшийся, как старинный Зенон, писать мудрую книгу «Рассуждения о других вещах или кратчайшее изъявление вещей, виденных и пережитых»?… Где Кенилля, прельстительная дикующая девка, явление которой нагадал старик-шептун?… Где, наконец, неукротимый маиор Саплин, один в течение многих лет охранявший для России гору серебра?…
Наветы — вот чем сильна Россия.
Поп поганый монах Игнатий, ныне добивающийся выгод в Синоде, тоже не оставил неукротимого маиора без внимания. Когда-то продал маиора за бесценок дикующему князцу Туге, а теперь на того же маиора написал хитрый навет. Хорошо, вовремя перехватил бумагу думный дьяк Матвеев. Коротко рассказал Ивану: в той бумаге следующее утверждает наветчик. Во-первых, вел маиор неправильную жизнь на островах, во-вторых, вел не христианскую жизнь, а в-третьих, имел многих переменных жен. От того, понятно, без всякого тщания охранял гору серебра, многие проезжие якобы ковыряли гору, увозили с собой нужный металл. И ясак маиор плохо брал, дескать, отпускал без высочайшего на то соизволения богатых аманатов, и себя заставлял возить на особенной тачке, и чтобы впереди несли трость, как якобы перед архиереем…
Да как так? — дивился Иван. Почему судьба столько лет сводит его с этим человеком? Разве не вор Козырь обагрял свои руки кровью христиан и дикующих, даже, может, кровью государева прикащика Волотьки Атласова? Разве не поп поганый предавал, убивал, грабил — показал себя сущим разбойником на суше и на воде?
Он, конечно.
Тогда почему не он сидит в тюрьме, а человек честный, пусть и неукротимый? Почему томится в застенках заслуженный маиор, а бесстыдный вор, беспутный монах всяко блаженствует в неторопливых беседах с немецкими академиками и ведет чинные беседы с ученым архиепископом Феофаном Прокоповичем, добиваясь личного процветания, будто бы заслуженного им?
Поймал себя на некоторой зависти, как бы даже на легком страхе.
Покойный Усатый поднимал страну, лихорадочно слал людей в Париж, в Амстердам, в Гаагу, лихорадочно приказывал свозить в кунсткамеру диковинные создания природы, лихорадочно всматривался в причудливые маппы — собственная держава дразнила царя размерами. Ну, как такое объять? Как править страной, уголки которой навсегда останутся закрытыми? Ведь хоть он и император, а все равно смертен, и сколько б ни подгонял народ, строя все более торные и быстрые дороги, все равно не хватит жизни заглянуть во все уголки… Потому, наверное, и торопился, хотел при жизни узнать, где кончается его страна, где проходят ее границы на востоке и на севере? Слал верных людей в разные стороны, прорывался в Индию, нащупывал удобные подходы к Китаю, угадывал путь к Апонии, все время пытаясь приподнять тяжелый полог полярных сияний и бесчисленных восточных басен. В ужасном нетерпении сам бы повел военный фрегат по ледяному морю, да как уйти столь далеко? — то стрельцы висят на шее, то турки, то шведы, то астраханские казаки, то голытьба с Дона…
Будто услышав мысли Ивана, соломенная вдова безутешно заплакала.
— Голубчик! — сказала сквозь слезы, касаясь горячими пальцами руки Ивана, но глядя при этом на думного дьяка Кузьму Петровича. — Неужто, голубчик, ничего теперь доказать нельзя? Ведь царь Петр отметил маиора. Он воевал, скорбел в далеких походах. Не мало, целый корабль отобрал в свое время у шведа! А у дикующих — гору серебра! Неужто за такие великие подвиги погибнет теперь, как тать, в бесчестии?
— Монах Игнатий тоже вернулся героем, — хмуро ответил думный дьяк Кузьма Петрович. — Потому и пекусь об аудиенции с государыней, чтобы Иван принят был. Ищу свидетелей, знавших черные дела монаха, вызвал в Москву сына Волотьки Атласова. Неукротимого маиора мы освободим, монаха Игнатия накажем, но на все надобно некоторое время. А еще больше надобно, чтобы Иван понравился матушке государыне.
— Он понравится, — всхлипнула с ревностию.
— Молчи дура! — рассердился Кузьма Петрович. — Я об уме говорю, а не о политесе. Политес это само собой. Императрице, Ванюша, голубчик, все говори в глаза. Правда еще не окончательно запрещена, матушка государыня еще любит правду. Отвечай на любой вопрос прямо и сразу, чтобы видела, что ты нисколько не хитришь. Матушка государыня любит простые ответы. Обо всем отвечай правду, даже горькую — и о неукротимом маиоре, и о своих плаваниях, и о многих муках, вынесенных тобою и неукротимым маиором на землях Камчатки и на других землях. О житье среди дикующих расскажи, и об одиноком умирании в море. Матушку государыню это впечатлит, сердце у нее доброе.
— А о мерзавце, о попе поганом?
Думный дьяк задумался:
— Коль спросит, и об этом скажи.
Странно сказал, монаху бы не понравилось.
— А тайный господин Чепесюк? Коли спросит императрица?
— Типун тебе на язык! Почему спросит? — рассердился Кузьма Петрович, но, подумав, согласился: — Может, и спросит… Но лучше, чтоб не спросила…
— Как это?
— Лучше, если ты и словом на такое не намекнешь…
— Да я-то не намекну. Я прямо скажу: внезапно умер тот тайный господин Чепесюк от попадания стрелы в грудь.
— Неужто от попадания? — испугалась вдова.
— Молчи! — устало указал думный дьяк сестре и по особенному на нее посмотрел: — Язык вырву!
— Что ты, батюшка!
С возвращением неукротимого маиора бывшая соломенная вдова лишилась многих иллюзий и натерпелась большого страху.
Первое, что сделал неукротимый маиор, вернувшись в дом, это отдал в солдаты любимца вдовы горестного калеку Петрушу, собиравшего малое подаяние на папертях, певшего хрипло, но красиво, и часто говорившего странное, подолгу живя в людской у вдовы. Елизавета Петровна плакала, сердце ее разрывалось между вернувшимся из небытия неукротимым маиором Яковом Афанасьичем и несчастным Петрушей, но когда неукротимый маиор эфесом сабли ударил по голове горестного калеку, сама увидела, как резво калека ударился бежать по улице, пока не был пойман солдатами.
А второе, что сделал маиор, вернувшись, это разогнал всех кликуш.
Сам Усатый не мог добиться, чтобы исчезли совсем кликуши, а маиор в один день навел порядок. Если раньше кликуши скопом шли к домику соломенной вдовы Саплиной, то теперь с таким же тщанием обходили уютный домик. О неукротимом маиоре и в Санкт-Петербурге и в Москве прошла нехорошая молва, позже как бы подтвердившаяся арестом маиора… Видит Бог, так плох тот неукротимый маиор, говорили друг другу убогие, с опаской обходя домик бывшей соломенной вдовы, что взят ныне под стражу… На убогих поднимал руку… У дикующих научился…
— Острова отчетливо описать сможешь? — спросил Матвеев. — Маппа новая у тебя есть?
— Собственноручно вычертил.
— Тогда держи все под рукой. Сиди дома, обдумывай каждое слово. Если, не дай Бог, матушка императрица впрямь вспомнит о господине Чепесюке, коротко опиши, где лежит бренное тело. Но совсем коротко, без страшных подробностей, матушка императрица не любит слышать о смерти. Глупости начнешь говорить, сразу кликнет Ушакова.
— Неужто? — всплеснула руками вдова.
Думный дьяк усмехнулся. Подперев тяжелую постаревшую голову тяжелыми постаревшими руками, долго смотрел на Ивана, потом добавил:
— О неукротимом маиоре Якове Афанасьиче все обстоятельно обскажи. О каждом его подвиге. Матушка государыня Анна Иоанновна любит удивительные рассказы, а тут человек для России отыскал сразу гору серебра! Ты так и говори, что, мол, нависает над востоком империи целая гора серебра. Только протяни руку, вот оно, серебро! И проси, проси всяко о маиоре, Ванюша, голубчик. Маиор этого заслужил.
— Святые слова! — подхватила Саплина.
— Молчи!
— А спросит матушка императрица, за что брошен в тюрьму неукротимый маиор?
— А так и отвечай: по навету. Так и отвечай: по воле завистников. Настаивай на том, что сей неукротимый маиор в постоянных службах проявил себя самым особенным образом и заслуживает за свое тщание и усердие вовсе не тюрьмы, а наоборот — большой награды. — Думный дьяк вздохнул: — Верю, что недолго ходить ненавистникам на воле…
Негромко повторил:
— Недолго ходить по земле убивцам.
Иван проснулся ночью.
Колебался огонек лампадки, в низкой комнате было темно, маленькое окно заледенело. Беспокойство томило сердце. Удивился, почему не слышно собак, потом услышал колотушку постового у ближнего шлагбаума, вспомнил — в Москве он, не в Крестиновке.
Но тишина стояла как в деревне.
Даже, может, еще сильнее — как в Сибири.
Вспомнил обдуманные слова думного дьяка. Тоскливо подумал: какую такую страшную тайну унес с собой господин Чепесюк, если нельзя даже вспоминать о ней? Подумал с удивлением: оказывается, пережил я чугунного человека! Был дьяк слабый, пьющий, версту не умел пройти пешком, а самого господина Чепесюка пережил!
И Тюньку, дьяка-фантаста.
И многих других крепких людей.
Как былинку меня качало, а я выстоял. Как получилось?
Сказал себе: а был рядом господин Чепесюк, вот и получилось. А потом были рядом рыжий Похабин и неукротимый маиор. Один бы никак не выжил. Честно сказал себе: не выжил бы он один.
И снова вспомнил о Козыре.
Чужую жизнь проживешь… Вот все знал старик-шептун…
И сказал про себя упрямо: нет! Свою, не чужую жизнь прожил. Пусть пошел в Сибирь как бы не по своей воле, но уже из Якуцка сам шел, никто меня не толкал.
И знал, куда идти!
Ага, как бы подмигнул сам себе: знал… Чужую маппу имел…
А вор Козырь? Чем лучше?
Он государевых прикащиков убивал, обманывал прямое монастырское начальство, всяко грешил, дикующим за бесценок продал неукротимого маиора, его, Крестинина, секретного дьяка, предательски бросил на острове с господином Чепесюком!.. Подумал с острой недоброжелательностью: сейчас сидит брат Игнатий за столом в доме архиепископа Феофана Прокоповича и горячо рассказывает о морском пути в Апонию. Глаза черные, жесты резкие, о Крестинине не вспомнит… А если вспомнит, так с ненавистью…
В темноте встал, добрался до окна, попытался протереть стекло. Может, и протер дырочку, да что толку? Ночь.
Подумал: напечатает брат Игнатий маппу… Возвысится… Может, добьется нового сильного похода в Апонию… В том ему архиепископ Феофан Прокопович поможет…
А я?
Не стал отвечать на вопрос.
Впервые за много лет захотелось выпить стакан крепкого винца, забыть про томящую сердце боль.
Но не позволил себе.
Не пил с самой Камчатки, с тех пор, как вышел на острова. Даже испугался — зачем сейчас подумал о винце? Никогда пить не буду! Подумал беспомощно: никогда не выпью ни одной капли! Мне поганого попа надо наказать!
А спросят: по чьим маппам шел в сторону Апонии?
Скажу, слышал в детстве…
А хорошо ль вспоминать детство, отца-стрельца?… Надо ли?… Что мог слышать хорошего от стрельца опального? Что видел?… Ну, ураса… Олешки… Низкое небо… Ну, палец мне отсекли…
Вздохнул: убедительно не отвечу.
Думный дьяк прав: незамедлительно в тюрьму упечь следует попа поганого. На нем много крови, как бы ни назывался — есаул Козырь, или брат Игнатий, или, может, даже некий загадочный Пыха, бывший третьим при убийстве Волотьки Атласова… С его смертью многие живые облегченно вздохнут, а многие покойники свободнее лягут…
Походил по темной комнате, колебля слабенький огонек лампады.
Да что ж это? Почему колеблюсь? Разве не способен броситься в пруд спасти утопающего? Разве не способен броситься в быструю реку? Разве не способен ночь просидеть при умирающем, успокаивая слабого человека, поддерживая в нем слабую надежду? А выслушать духовное наставление? А помолиться за не любящего тебя? А отказаться от вкусного лакомства, например, от того же пития? Ведь могу!.. Доказывал не раз!.. Зачем же одна мысль в голове — поставить в тюрьму попа?…
Не стал отвечать.
Знал, что ответит.
За последние десять минут много раз на то отвечал. Не хотел теперь, чтобы страх поднимался выше. Пусть в сердце страх, зачем пускать его в голову? Говорят, когда Дьявол отдыхает, в мире воцаряется добро. Тогда нельзя ни заколоть тельца, ни срезать колос. Но он-то жил только при буйстве дьявола. Даже сам Усатый действовал как безумный, как наученный дьяволом. Рекруты, наряды на верфи, ройка каналов, египетские пирамиды новой столицы, поставленной на болотах, бесчисленные солдаты, умирающие в переходах и в боях. Если и учинился по смерти Усатого вой еще более ужасный, так то ведь от ужаса, от чувствования: дьявол отвернулся.
Оборвал себя.
Пустые рассуждения.
Он, простой секретный дьяк, правды не знает.
Да и никто в России правды не знает. Если ему, Ивану, жить, как раньше, то погибнет, наверное. И окажется прав старик-шептун. А он, Иван, не хочет проживать чужую жизнь. Он все скажет матушке государыне, она его поймет и, может, приставит к капитану-командору Витезу Берингу в его новую секретную экспедицию. Он, Иван Крестинин, еще раз сходит в сторону Апонии. Свою жизнь проживет!
Упал на перины.
Душно. Сердце томит. Ночь.
Глава III. Анна Иоанновна
— …Такая каменная гора может дышать особенным дымом. Совсем большая гора, никто не знает, что в ней может гореть, но, как при оспе, рвет склоны дырами и наружу извергается жидкий камень, все сжигая на своем пути. Зато трава после этого, когда все погаснет, растет на горе выше человека. В такой траве легко заблудиться, как в лесу. А воды в море так много, что если плыть в какую сторону, все равно месяцами можно не встретить никакой земли. Правда, на юге могут встать новые острова. А за островами — Апония.
Крестинин перевел дыхание.
Старался говорить коротко, не скучно, но и не торопясь, как научил думный дьяк Кузьма Петрович.
Не торопись, научил Кузьма Петрович. Начни разговор так, чтобы сразу стало ясно, что послан ты был в Камчатку не просто так, а волею покойного государя Петра Алексеевича, и не кому-то там, а именно ей — матушке государыне императрице Анне Иоанновне привез результаты. Государыню не утомляй, но если учинится удобно, если представится случай удобный, покажи сочиненный тобою чертеж. Даже если матушка государыня и не взглянет на него, все равно действие останется в памяти.
Во-вторых, научил Кузьма Петрович, смотри матушке государыне прямо в глаза, смотри с большой любовью и с большой преданностью, взгляд не отводи, непременно смотри с большой любовью и преданностью. Ни на что не жалуйся, ничем матушку государыню не огорчай, о неприятном, например, о болезнях, не заговаривай, государыня не любит говорить о болезнях, но найди, Ванюша, голубчик, момент — скажи слово в защиту неукротимого маиора Саплина. Скажи матушке императрице, что сильно страдал неукротимый маиор за Отчизну, много сделал для ее возвеличения. А что попал в тюрьму, так это ошибка. Кто сейчас не в тюрьме?
Испугался оговорки. Замахал на Ивана руками: дескать, такое не говори! Что ты! Что ты! Объясни так, замахал руками, что долгое время жил маиор Саплин один среди дикующих, духом оставался тверд, только понемножку от одиночества впал в некоторую усталость, отсюда и ошибки. Добавь, что заслуживает маиор всяческой похвалы.
А в-третьих, научил мудрый думный дьяк, представится случай, упомяни о попе поганом. О том монахе, Ванюша, голубчик, ты должен помнить теперь всечасно, как о самой большой опасности. Хотя схвачен монах, благодаря моим многочисленным просьбам, обращенным к графу Андрею Ивановичу, все равно он — твоя погибель. Для него твое и маиора существование — смертельно опасно. Он боится, он сделает все, чтобы оклеветать каждого. Ему нынче терять нечего. Иван Атласов, сын Волотьки, опознал в монахе одного из убивцев своего отца, и якуцкий архимандрит тоже указал на брата Игнатия, как на дерзкого ослушника. Но этого мало, Ванюша, голубчик. Если монаха срочно не расстригут и не повесят, он найдет способ выйти из тюрьмы. Он так создан. С ним такое уже случалось. Наше дело, Ванюша, голубчик, довести монаха до рук господина Ушакова. Уж он-то знает дело. Он даже сумасшедших пытает, даже детей. Он столько сгубил на Руси разных людей, Ванюша, голубчик, что погубить еще двоих, а тем более одного, для него ровно ничего не значит. До тридцати лет господин Ушаков жил в деревне, наверное, от того и сердит. На четверых братьев Ушаковых был в деревне всего один крестьянин, им-то они и владели на равных правах…
Недовольно пожевал губами: дескать, чего хорошего, жить вчетвером до тридцати лет в деревне, да с одним крепостным? Холостяцкий балахон да пара лаптей-семиричков… Ну, ходили, может, с девками по грибы… Сил много, может, переносили девок через лужи… В семисотом году Ушаков явился на царский смотр, где был отмечен и зачислен в Преображенский полк. И вот смотри, Ванюша, голубчик: мало того, что господин Ушаков из деревни, через семь лет он был уже капитаном, а теперь матушка государыня сделала его еще и сенатором и генерал-аншефом. Вот как!.. Сидит в Канцелярии тайных розыскных дел, насквозь видит людей, угадывает самые тайные мысли… Если монах подаст Ушакову намек быстрее, чем мы, не сдобровать будет ни тебе, ни маиору Якову Афанасьичу… Не забыл ведь, наверное, Ванюша, голубчик, чьи бумаги лежали в мешке, когда-то подобранном тобою?… Не забыл ведь, чей чертежик представил покойному императору?…
Иван кивнул.
Он не забыл. Разве можно забыть такое?
Затаив дыхание, Крестинин рассматривал императрицу.
Анна Иоанновна удобно сидела в высоком золоченном кресле.
Ее голова и круглое плечо, облеченное мягким шелком, красиво отражались в высоком зеркале, по раме которого вились нагие купидоны. Перед зеркалом стоял туалетный столик нахтиш, другой мебели в кабинете не было. Играя махальцем, ласковым веером из тонкого шелка на костяных пластинках, императрица ласково взглядывала на Крестинина. Полные розоватые ноги покоились на специальной подушке, брошенной перед креслом. Страшная карлица, ревниво косясь на Крестинина, сидела у ног императрицы и нежно поглаживала их круглыми большими ладонями. Из-за неплотно прикрытых двустворчатых высоких дверей доносился негромкий распев. Этот распев нисколько не мешал беседе, но Крестинин втайне дивился: почему рядом поют девки?… Даже решил: такое может быть только с высочайшего на то соизволения…
Окно в кабинете было закрыто.
— Вот как сильно надымили из труб, — утомленно, даже с некоторым унынием в голосе пожаловалась императрица страшной карлице. Та быстро и согласно кивнула:
— А и правда, сильно. А и правда, надымили. А в Москве-то как теперь, матушка? Там еще дымней. И дождей нет, сухо. Вылетит из трубы искра, считай, нет Москвы.
— Молчи, дура, — приказала императрица. — Страсти говоришь! — И повернула набеленное рябоватое лицо к Крестинину: — Говорите, кавалер, говорите.
— Да, матушка государыня! — взмолился Крестинин. — Не утомил ли я вас?
— Сама знак подам, — Анна Иоанновна милостиво улыбнулась. Кудрявая, несколько обиженная оспой, но удачно прячущая обиду под ровным слоем румян и белил, императрица и в некотором утомлении оставалась величавой. — Кто ваши родители, кавалер? — спросила. — Есть ли у вас братья и сестры?
Простые вопросы, простые ответы.
Ответив на очередной вопрос, Крестинин как бы незаметно, как бы по случаю вновь и вновь переходил к рассказу об островах. Оказывается, клочки земель, разбросанные по самому окраинному восточному морю где-то за пределами всякой видимости, все-таки волновали императрицу.
Или она делала вид.
Граф Андрей Иванович Остерман, вице-канцлер, член Верховного Тайного Совета, еще при Усатом прозванный оракулом — за хитрость, не раз позволявшую ему провидеть будущее, как собственное, так и врагов и соратников, с осторожностию выглядывал из-за округлого плеча императрицы. Он не думал, что Анна Иоанновна заинтересуется похождениями какого-то мелкого секретного дьяка, пусть и сходившего на край земли, но встречу обещал думному дьяку Кузьме Петровичу Матвееву, которого знал много лет. Многое связывало оракула с Матвеевым, даже страшное. А еще насторожила его беседа императрицы с Иваном Крестининым, он умел чувствовать важное. Если императрица так неожиданно внимательна к простому секретному дьяку, значит, что-то у нее на уме, значит, наступит скоро некий момент, когда, отбросив напускную любезность, задаст она главный вопрос. И тогда горе, истинное горе секретному дьяку, за которого он сам, вице-канцлер, просил, идя навстречу давней дружбе с Матвеевым. Ох, горе тогда секретному дьяку, если не сможет ответить на главный неизвестный вопрос императрицы…
Время от времени в залу, взвизгивая и ссорясь, врывались шутихи-трещетки, глупые шуты. Пытались шумно бегать по зале, кричали, устраивали кучу-малу. Императрица досадливо махала рукой, и это тоже настораживало умного вице-канцлера.
Уж как пал туман на сине море, а злодейка-тоска в ретиво сердце…Не сходить туману с синя моря, уж не выйти кручине из сердца вон…Прислушиваясь к девкам, чьи голоса негромко, но пробивались сквозь неплотно прикрытые двустворчатые двери кабинета, императрица Анна Иоанновна мягко улыбнулась. Искусственный румянец яростно пылал на дородном, набеленном, более мужском, чем женском, лице. Она внимательно разглядывала Крестинина. Высокий, худой, с лицом довольно приятным, секретный дьяк вдруг напомнил ей герцога курляндского Фридриха Вильгельма, так неожиданно умершего после собственной свадьбы, оставив ее печальной вдовой. Это случилось давно, еще в семьсот одиннадцатом году, да и умер Фридрих Вильгельм от опоя, но почему-то запомнила она Фридриха Вильгельма вот таким — высоким, худым, с лицом довольно приятным, но менее собранным, чем у секретного дьяка. К сожалению, собранность Фридриха Вильгельма вообще не оказалась правдой — герцогу курляндскому ни на что не хватило воли…
Воспоминание, несмотря на давность, оживило императрицу.
Разумеется, она предпочла бы, как когда-то в Митаве, валяться сейчас полунагой на медвежьей шкуре, или, как в той же Митаве, промчаться, как молния, верхом по опушке леса, зная, что никто не посмеет ее обойти, или, как тут, в Москве, прижать к плечу приклад ружья, чтобы громом и дымом перепугать насмерть придворных дам. Но эта боль в спине…
Лучше всего, подумала, приятней всего не верхом носиться, не стрелять из ружья, а просто сидеть за столом с другом милым Бироном. С другом милым Бироном говорить можно доверительно, даже печально, даже жалуясь на что-то. Друг милый понятлив, он все поймет. К разговору с другом милым вышла бы в длинном, восточного покроя платье, в голубом или в зеленом, а голову бы по-мещански повязала цветным платком.
Друг милый…
Императрица улыбнулась в третий раз.
Теперь граф Андрей Иванович Остерман совсем уверился: императрица не просто так поглядывает на секретного дьяка, она явно готовит какой-то хитрый вопрос. Она любит вот так лукаво заманить человека, как бы явственно выказать ему ласку, как бы увести мягкой улыбкой в мир грез и мечтаний, а затем в одно мгновение обрушить на землю.
Вот о чем может спросить императрица простого секретного дьяка, пусть чем-то и отличившегося?…
У вице-канцлера сразу заныли суставы.
Ох, проклятая подагра… Ох, плохо вижу… И слух отказывает… Пора на покой…
Мысли были привычны.
Сложив руки на груди, вице-канцлер терпеливо и молча стоял за плечом императрицы — совсем партикулярный человек, хорошо знающий, к чему его определила служба. Странные глаза графа Андрея Ивановича какого-то как бы жидкого неопределенного цвета смотрели несколько отсутствующе, даже, может быть, равнодушно, но в душе кипела вечная буря. Вице-канцлер старался не пропустить ни одного слова из тех, которые слышал, но в ушах почему-то все время стояли голоса девок, негромко напевающих за дверями кабинета.
Кабы знала, кабы ведаланелюбовь друга милого, неприятство друга сердечнова, ой, не обвыкла бы, не тужила бы, по милом друге не плакала, не надрывала б своего ретива сердца…
— …Совсем простой народ. — Иван слышал свой голос как бы со стороны, он доносился до него почти так же, как голоса девок из-за двери. — Страна Камчатка большая, влажная, а людей не много. Ездят на олешках, впрягая в нарты, плавают на специальных судах — батах. Какой камчадал, ежели заболеет, становится упрям, сразу жить не хочет. Ему не перечат, могут только связать, чтобы не ушел на тот свет раньше, чем нужно. Если сильно болен, уводят в леса, чтоб нашел покой, а то просто не дают никакого пропитания. Он так полежит да и умрет. А если силы есть, ползет к речке, долго сидит на берегу печально, потом вспомнит что-то и бросится в воду. А спасать такого нельзя, спасать такого считается большим грехом. Известно камчадалам, по их нелепым обычаям, что лучшее место на том свете отдается как раз тому, кто умер добровольно, кто другим не мешал. А живут камчадалы в красном пламени северного сияния и часто играют в мяч черепом моржа.
— Да неужто? — красивым голосом спросила императрица.
Крестинин смутился, но граф Андрей Иванович ободряюще кивнул из-за плеча императрицы. Граф уже понял, что Анна Иоанновна действительно плохо слушает секретного дьяка и спрашивает просто так, из вежливости. Он хорошо изучил императрицу — несомненно, она занята сейчас главным и единственным вопросом, она готовится только к вопросу, потому и кивает и ужасается для приличия, чтобы раньше времени никого не напугать.
Кабы знала, кабы ведаланелюбовь друга милого… — …А коли репу посадить на той Камчатке или на ближних островах, то репа вырастает такой, что на пуд четырех, а то и трех реп хватит.
— Да неужто? — еще сильнее удивилась императрица. — А сами камчадалы? Говори, кавалер. Какие они? Ведь люди?
— Почти как люди, — кивнул Крестинин. — Только сильно обидчивые. Чуть что, сразу идут в мороз, или топятся, или вешаются. Один другого может попросить повесить его или просто заколоть ножом, как олешка. Если оборвется веревка — ругаться будет. Хамшарен! — вот как будет ругаться. А мертвых… — Крестинин перекрестился. — Мертвых, матушка государыня, они бросают собакам. Дескать, те, кого съедят собаки, будут на том свете ездить на особенно хороших упряжках. Им, дескать, местный бог Кутха и жена его Илькхум дадут хороших собак. А ежели все же не захотят какого болящего родимца сразу отпускать на тот свет, ежели сильно его любят, то сразу и не отпускают. Только бьют больно палкой. Пугают, что будут бить еще больней, ежели не станет их слушаться. Больные, правда, часто не слушаются…
Императрица чуть заметно нахмурилась. Зачем он о болезнях?… Эта неясная боль в спине…
— А слышали мы, — прервала она Крестинина певуче, — что растет на краю земли куст вроде пустырника. Или вроде какого другого растения. Мы сами его не видели, только пользуемся слухами. Слышали, что есть такой куст на краю земли и отвар из него густ, как чай, и многие болезни такой отвар излечивает. Не привез ли такого, кавалер?
— Прости, матушка государыня, не привез. Такое искать надо отдельно.
— А взялся бы? — что-то странное высветилось в бледных глазах императрицы.
— Да ежели прикажете…
— Не прикажу, — оборвала Крестинина императрица. — Три года в пути, да три года в поиске… Не дождусь, кавалер…
— …Не знала я до сей поры, что есть в моем царстве такой кавалер, который почти достиг предела земли, — милостиво улыбнулась императрица, оглядывая Крестинина с некоторой затаенной печалью.
— Да и я, матушка государыня, до сих пор не знал вас.
Крестинин замер, но проклятые слова уже сорвались с губ.
Он увидел, как мгновенно заледенели глаза графа Андрея Ивановича Остермана. Показалось даже, что голоса поющих девок за дверями на мгновение прервались, а императрица изумленно подняла взгляд:
— Очень верю вам, кавалер. Где же знать вам меня, бедную вдову? — Увидев отчаяние, отразившееся на лице Крестинина, увидев, что он готов упасть на колени, она жестом удержала его: — Так далеко ходили вы, кавалер, что мудрено теперь всех знать.
И опять странное прозвучало в простых, казалось бы, даже успокаивающих словах. Пытаясь постигнуть тайный закрытый смысл произнесенных императрицей слов, Крестинин кивнул согласно:
— Ох, далеко…
— Вот и я говорю, — милостиво улыбнулась императрица. — Государь Петр Алексеевич для куриозите посылал к новым берегам еще некоего капитана, — она, несомненно, имела в виду капитана-командора Беринга. — Только тот капитан-командор так и не уяснил, сходятся ль берега американские с берегами Азии. А у вас, кавалер, я вижу, каждый остров отдельно изложен на чертеже. Хвалю ваше тщание. — Ободряюще улыбнувшись, Анна Иоанновна величественно повернула голову в сторону графа Андрея Ивановича Остермана и слегка повела круглым плечом: — Да неужто государь Петр Алексеевич посылал столь разных людей и так далеко только за тем, чтобы узнать, сходятся ли где-то неведомые берега?… Неужто государь Петр Алексеевич только ради схождения посылал так далеко столь разных людей?…
Крестинин никак не мог понять, чего от него хотят.
Обмирал от неопределенности.
Ужасно резнули слух слова — столь разных людей… Сразу вспомнил предупреждение думного дьяка Кузьмы Петровича Матвеева. Не знал, конечно, но какое-то тайное спасительное чувство подсказывало: спрашивая о схождении неведомых берегов, вскользь упомянув о некоем капитане, намекнув также на столь разных людей, императрица Анна Иоанновна, несомненно, имела в виду загадочного человека господина Чепесюка.
— Наверное, помните, кавалер… — вновь заговорила императрица, одновременно обращаясь как бы и к графу Андрею Ивановичу Остерману. При этом, обращаясь как бы с укором. — Вот помните, наверное, а молчите… Разве другие некоторые люди не доходили до края земли, до того места, где все кончается?… Есть ведь такое место, кавалер?… — с неожиданной уверенностью спросила Анна Иоанновна, и Крестинин сразу согласился, ясно представив себе ужасный обрыв, которого внизу и не видно, и воды вечного океана, с ревом падающие вниз. Иногда вниз с обрыва падали вместе с водой морские киты, звучно шлепались морские собаки, даже птиц всасывало в ужасный водопад…
Ой, не обвыкла бы, не тужила бы, по милом друге не плакала, не надрывала б своего ретива сердца… — Я, бедная вдова, слышала в этом кабинете много разных речей от разных людей, — продолжила императрица с некоторым уже раздражением на непонятливость Крестинина. — Были такие, например, которые рассказывали только о вымыслах. Один предлагал передать в кунсткамеру тьму египетскую. Другой говорил, что есть у него камень, взятый Моисеем при переходе через пустыню, а также кость от кита, в котором пребывал бедный Иона. Может, даже имел тот человек копыто валаамской ослицы, кто знает? А были и такие, кто говорил только правду или, по-ученому, истину…
Императрица загадочно улыбнулась:
— Да вы знаете, кавалер, о ком я говорю…
Наступило молчание.
Эти слова императрицы, этот ее хитроумно поставленный вопрос (как утверждение), наверное, и есть главное, с тоской подумал граф Андрей Иванович Остерман, сильно сожалея, что вовремя не употребил много раз испытанный способ: не сказался лежащим при смерти, не заболел внезапно, а на свою беду явился на прием в село Измайловское.
Замер… Вот что ответит глупый секретный дьяк?
А сердце Крестинина разрывалось.
Единственное, о чем запретил ему говорить в присутствии императрицы думный дьяк Матвеев — это о чугунном господине Чепесюке, о тайном загадочном человеке, убитом стрелами дикующих на далеком острову. Думный дьяк Матвеев специально предупредил: если упомянешь такое имя — погубишь многих, а себя — непременно. Вот Крестинин и молчал, понимая, что молчать никак нельзя. И умирая от ужаса, как умирает неловкий морской зверь несчастный кит, выброшенный на мель, раздавленный собственным весом, признался:
— Вы много раз правы, матушка государыня… Много разных людей ходило на край света, но ведь многие не дошли, а некоторых так и совсем нет…
Замер, ожидая чего угодно.
Матушка государыня Анна Иоанновна вовсе не так проста, обречено подумал, как говорят о ней. Пусть она из митавской глуши, пусть ее обзывают за глаза толстой Нан, но не проста… Да и вообще, мало ли кто откуда?… Тут важно иметь умную голову… Вот ведь взглянула пронзительно, но не стала меня запутывать, кажется, поняла ответ…
Он медленно поднял взгляд.
И увидел: глаза императрицы смеются. И понял: она действительно знает, чье имя он не произнес вслух, заменив его этим — некоторых так и совсем нет… Она поняла, чье имя не назвал он вслух, и кажется, довольна ответом.
Это Крестинин понял и по оттаявшим глазам графа Андрея Ивановича Остермана.
А еще понял: только что он стоял над ужасной пропастью. Может, и до сих пор продолжал стоять, но государыня Анна Иоанновна, похоже, раздумала сталкивать в такую глубокую ужасную пропасть бедного секретного дьяка.
— Чего, кавалер, хотите вы от меня, от бедной вдовы? — кротко улыбнувшись, спросила императрица. — Наградить вас за многие лишения — наш долг. Просите, кавалер. Жили в скорбях, зато границы отечества расширили.
— Матушка-государыня, — упал, наконец, на колени Крестинин. — Ничего не прошу, одного только прошу: воскресите моего друга, который еще не умер!
— Это загадка? — удивилась Анна Иоанновна и оглянулась на вновь замершего графа Андрея Ивановича Остермана. — Это загадка, граф?
— Прошу за человека, верно выполнявшего приказы покойного императора Петра Алексеевича, храбро сражавшегося со шведом, а потом отправленного приказом на острова, где тот человек нашел гору серебра и храбро охранял ее от чужих людей.
— Что ж случилось с тем человеком? — участливо спросила императрица. — Если он не умер, как мы можем его воскресить?
— По злому беспричинному навету безвинно брошен в тюрьму. Вместо наград наказан лишением свободы, отнятием почестей. Супруга живет в малом дому, в бедствиях, но бесконечно верит в справедливость милостивой матушки государыни. Много лет ожидала возвращения своего супруга, а дождалась бесчестия.
— Да как так, кавалер? Как имя вашего друга?
— Неукротимый майор Саплин!
— Ах, успокойтесь, — лукаво улыбнулась императрица. — Ах, успокойтесь, кавалер, а то граф Андрей Иванович подумает, что я вас ругаю. — И вновь обернулась: — Что скажете, граф Андрей Иванович?
Граф осторожно кивнул:
— Неукротимого маиора Саплина знаю. Преданный, но опасных свойств человек. Говорят, на пустом острову жил не по божески, не по христиански — сразу с тремя переменными дикующими женами.
Императрица рассмеялась:
— Сразу с тремя? Да можно ли это, граф? Объясните.
— Не по христиански, матушка-государыня, совсем не по христиански.
— Да верно ли говорят такое о неукротимом маиоре Саплине? — смеясь, спросила императрица уже Крестинина.
— Верно, матушка-государыня — правдиво ответил Крестинин. — Но маиор Саплин охранял гору Селебен в полном одиночестве. Содержал себя в форме, в самых трудных условиях надевал парик, держал службу строго. За эту его строгость, за то, что спасал дикующих, подвел многих под вашу крепкую государеву руку, дикующие сами выделили маиору разумных помощниц. Они были как бы его военными денщиками или сервитьерками — всяко стряпали, стирали, поддерживали военную жизнь маиора Саплина, всегда неукротимого в своем деле.
— В каком деле? — непонятно, но лукаво улыбнулась императрица.
— В своем, — так же непонятно ответил Крестинин.
Глаза императрицы смеялись:
— И как проявил себя маиор в своем деле?
Крестинин ответил:
— Неукротимо!
Императрица рассмеялась и повернулась к Остерману:
— Что ж, граф Андрей Иванович? Что скажете? Провинился маиор в чем-то особенном?
— Дерзок необыкновенно.
— Ну, так что ж, что дерзок? Это не страшно. Ведь военный человек, среди дикующих долго жил, — Анна Иоанновна с особенным интересом рассмеялась. — Небось, огромен, как мои измайловцы?
— Не совсем так, матушка-государыня. Ростом маиор Саплин совсем невелик, зато неукротим духом. Случалось, побеждал очень сильных.
— Ну? — удивилась императрица. — Готов ли он мне служить?
— Страстно! И всею жизнью! — выдохнул Крестинин.
— А нет ли на маиоре каких либо вин государственных, граф Андрей Иванович? — опять обернулась к Остерману императрица.
— Государственных вин на маиоре нет.
— Так что же тогда? Разве мы не призваны миловать и утешать? Коль сказанное все правда, надобно нам наградить маиора, вернуть отобранное у него, а супруге его несчастной вернуть столь неукротимого человека.
Спросила, рассмеявшись:
— Примет неукротимого маиора супруга?
— Почтет величайшею честью.
— А переменные жены?
— Это как туман, матушка.
И опять императрице понравился ответ Крестинина:
— Идите с богом, кавалер. Запомню вас за правдивость. А вы, граф Андрей Иванович, — приказала она Остерману, — подайте бумагу на отпуск неукротимого маиора на волю. Сообщите господину Ушакову наше решение. Но, — засмеявшись, добавила она, — сообщить неукротимому маиору Саплину незамедлительно ехать в его деревеньки, и без высшего на то соизволения их не покидать. Коль понадобится, сами призовем дерзкого. А по табели о рангах, — помолчав, добавила Анна Иоанновна, — приравнять маиора Саплина к полковничьему чину. Вижу, что тщанием ратным заслужил потомственное дворянство. — И засмеялась: — Каждый час, проведенный в тюремном подвале, кажется ему, наверное, более горшим, чем год на пустом острову…
Отсмеявшись, добавила лукаво: — … в нежной толпе переменных жен.
Глава IV. Черный монах
Серпа ожидают созрелые класы; а нам вестники смерти — седые власы.
О! смертный, беспечный, посмотри в зерцало: ты сед, как пятьдесят лет тебе миновало.
Как же ты собрался в смертную дорогу?
С чем ты предстанешь правосудному Богу?
Путь смертный безвестен и полон разбоя: искусного, храброго требует конвоя.
Кто ж тебя поведет и за тебя сразится?
Друг, проводив тебя к гробу, в дом возвратится.
Изнеможешь, пеший таща грехов ношу!
Ах! Тут-то нужно иметь подмогу хорошу.
А ты много ли плакал за грехи? Считайся.
Не весь ли век твой есть цепь грехов? Признайся.
Ах, вижу ты нагиш, как родила мать:
Ни лоскутка на душе твоей не сыскать!
Поверь же, не внидешь в небесны чертоги:
В ад тебя незринут, связав руки, ноги.
Георгий Кониский, архиепископ.
Тюремный подвал оказался мрачней, чем думал Крестинин.
Из темного помещения, впрочем, более грязного, чем темного, узкая каменная лестница, над которой нависала железная решетка слепого окна, круто изгибаясь, наподобие винтовой, вела вниз, в сырую каменную нору, к деревянной, обшитой железом двери, массивной, разбухлой от вечной сырости, запертой на несколько навесных замков. У двери никакой стражи не было, правда, наверху, в грязном помещении терпеливо сидели два преображенских солдата. Крестинин невольно вспомнил дерзкие слова неукротимого маиора Саплина: измайловцы, дескать, они для того и придуманы — для нынешних полицейских дел, но вот лихие преображенцы!.. гордость покойного императора!.. пасть так низко!..
Не русский сержант, сопровождавший Крестинина, наступил башмаком в лужу, сердито сплюнул и загремел замками.
Справившись с замками, сержант еще раз сплюнул и, дрыгнув, как собака, мокрой ногой, медлительно двинулся обратно — вверх по узкой лестнице, будто из тьмы возвращался к свету.
Крестинин сержанта не интересовал. Точно так же, видимо, не интересовал сержанта преступник, томящийся в темном подвале. Пришли, показали казенную бумагу, ткнули пальцем в самоличную подпись Семена Андреевича Салтыкова, подполковника Преображенского полка, вот и все. Ничто другое сержанта не интересовало. Наверное, даже мысль о возможном побеге преступника не интересовала. Да и какой побег? Сам дьявол не расковыряет двухсаженные каменные стены приказного подвала, не пробьется сквозь плотно утоптанную, специально засоренную битым стеклом и крупными камнями землю. А коль уж сам дьявол не расковыряет такую землю, какой смысл интересоваться преступником, время от времени погромыхивающим за толстою дверью подвала тяжелыми железами.
Крестинин остался один.
Этого свидания он добивался несколько месяцев.
Может, и не добился бы, если бы опять не помощь думного дьяка Кузьмы Петровича Матвеева. Правда, несколько раз до этого видел монаха брата Игнатия на улице. Для кормежки преступников выводили время от времени в город на одной цепи, крепко скованных друг с другом. Испуганные мещанки, часто крестясь, бросали несчастным кто кусок калача, кто огурец, вынутый прямо из кадки, знали — в тюрьме государевых преступников не кормят.
Гремя железами, преступники хмуро шли посреди улицы.
Лавки вокруг ломились от добра. Красивые китайки и кумачи, сукна и бязи. Шапки и кушаки, чулки и трубки немецкие. Вкусно пахло дымом и хлебом. Прогуливались барыни в бархатных шубках, прятали мягкие руки в теплых меховых муфтах, головы по-русски подвязаны платками. На крышах флюгеры, из труб нежный березовый дым, по ногам — легкая поземка. Посреди улицы апокалипсический зверь лошадь, цокая копытами, нес карету, на запятках стоял человек в ливрейном кафтане, в полосатых чулках, в парике и в башмаках с огромными пряжками.
А преступники, скованные одной цепью, робко шли в стороне. Охрана строго посматривала, отталкивала любопытных.
Однажды Крестинин совсем уже было собрался окликнуть монаха, но так и не решился. Только жадно смотрел на него со стороны, ждал: вдруг узнает?
Брат Игнатий оборачивался, смутно смотрел на волнующихся людей, видел, наверное, Крестинина, но не узнавал. Глаза неистовы, черны, как неспокойная ночь, в коротких волосах седина. Давид блаженными называл тех, кому господь вменял праведность независимо от их дел. А есаул Козырь?… Брат Игнатий, черный монах?…
Вот странно.
Монах-расстрига брат Игнатий, приговоренный судом к смерти, ходил по улицам блаженно, открыто. Он будто не видел испуга и волнения мещанок, грязных заборов, бесчисленных лавок, домов. Черные глаза брата Игнатия были обращены к чему-то другому, может, к внутреннему, а может, даже к горнему, кто знает? — не зря мещанки чаще, чем другим, совали калачик в руки расстриги.
Но Крестинин догадывался — это гордыня.
— Ему не в цепях ходить, — сказал как-то думному дьяку. — Ему бы волком, злобясь, бежать в сторону Сибири. Вот ведь знал, что опасно ему являться в Москву, зачем явился?
Добавил, вздохнув:
— Теперь погибнет в яме.
— А заслужил, — непримиримо ответил сильно постаревший думный дьяк Матвеев. Они сидели за столом у доброй соломенной вдовы Саплиной. — Раньше сам казнил людей, теперь его казнят. Так и должно быть. Раньше сам отнимал чужую жизнь, это для него было просто, как собаке полакать из лужи. Убивал государевых прикащиков, предавал близких. Он и тебя бросил на острову, Ванюша, голубчик, он жестоко не по человечески измывался над неукротимым маиором Саплиным. Нет у него ни одного дела, которое не требовало бы покаяния. Бешеную собаку лучше задавить, чем выгнать. Сидючи в яме, пусть почувствует запах смерти. Мне вот жалко, что каждодневно не могу видеть его лицо. Пусть вспоминает в тюрьме покойного Волотьку Атласова. И ты, Ванюша, голубчик, должен радоваться. Вам двоим нет места на этой земле. Тесна она для вас. Один на этой земле лишний.
Задохнулся:
— Ты радоваться должен, Ванюша, голубчик, что тайная канцелярия все делает за тебя. Ты, ушедши в Сибирь, нерадиво отнесся к моей горячей просьбе, не зарезал черного монаха. А я просил, я сильно тебя просил, часто повторял: проклятый монах должен мне Волотьку Атласова! А теперь и господин Чепесюк на его совести. И кровь многих других людей. Разве не так?
— Все равно жалко.
— Ты што говоришь? Разве он жалел тебя? Ты, Ванюша, голубчик, называл его братом, а он над тобой смеялся. Обманул сперва в Якуцке, потом на Камчатке, потом бросил на пустом острову, потом в Москве писал на тебя доносы. Если б не старая моя дружба с графом Андреем Ивановичем Остерманом да с подполковником Семеном Андреичем Салтыковым, сейчас, Ванюша, голубчик расследовалось бы в Тайной канцелярии твое дело, а не проклятого расстриги. Просто успел упредить, жизнь подсказала. Он теперь про тебя, Ванюша, голубчик, многое знает. О твоих странностях тоже.
— На Руси много странностей.
— Ишь, как заговорил! — возмущенно затряс щеками дьяк Кузьма Петрович. — Ты кого это пожалел? Вора! Убивцу! Ему, бывшему монаху, застрелить бы тебя в Якуцке, сейчас сидел бы на белом коне, все бы ему досталось. Сам знаешь, что вора монаха Игнатия пригрел неистовый Феофан, познакомил его с немецкими академиками!
Обиженно пожевал толстыми губами:
— Видишь, как все шло в руки проклятому монаху? Не потонул в бурном море, добрался до Москвы, добился до неистового Феофана. В мае прошлого года Священный Синод принял решение — расширить на Камчатке известное церковное строение, а священнослужителем послать туда не кого-нибудь, а все того же проклятого попа брата Игнатия. Мы только глазами хлопали, Ванюша, голубчик, глядя, как возвышается вор. Уже в июне получил брат Игнатий грамоту о посвящении его иеромонахом в Камчатскую Успенскую церковь. Он на такое, похоже, и не надеялся, так впал в радость. Тут бы ему и остановиться, задуматься, смириться с миром, а он опять впал в жадность, забыл, что с двадцать девятого года лежит на него в якуцкой приказной избе челобитная Ивана Атласова. Он ведь, как и я, не забыл Волотькиной смерти, как и подобает доброму сыну. А когда по челобитью проклятого монаха Игнатия сенатский указ предписал ему выдать за его якобы многие заслуги пятьсот рублев, я, наконец, вмешался.
Тяжело взглянул на Ивана:
— От жадности проклятый монах впал в неистовство. Забыв меру, потребовал оплатить ему все утерянные на Камчатке и в Якуцке пожитки, вернуть все, чего он лишился на долгих службах. А я того ждал… Ох, сильно ждал… Пожитки и деньги монаха Игнатия давно поступили в казну, давно употреблены в расход, да и зачем всего столько совсем простому монаху? — вовремя подсказал нужным людям. Раз уж находится проклятый Игнатий в монашестве, хватит ему полученного. Не надлежит монаху иметь сразу многое.
Думный дьяк Кузьма Петрович удовлетворенно моргнул выцветшими глазами:
— Рассмотрев дело, приговорили проклятого монаха в Угрешский монастырь на безвыходное пребывание. Да разве ж того достаточно, Ванюша, голубчик? Он столько крови пролил, а наказание, считай, никакое. Он, проклятый монах, сядет в келье и будет спокойно учинять чертежики да слать везде ябеды! По моей просьбе добрый тобольский митрополит Антоний не поленился: прислал в Синод доношение. А в том доношении оказались сильные бумаги. К примеру, бумаги попа Троицкой церкви в Якуцке отца Симеона Климовского да иеромонаха отца Иова. Эти двое о брате Игнатии знали столько, сколько я не знал. А еще прислали на расследование в Синод отписки есаула Козыря, когда он еще не был черным монахом и обретался при казачьем голове прикащике Атласове. Прислали и отписки вора Данилы Анцыферова, потом жестоко сожженного дикующими. И прислали доношения одного умного монаха по имени Юрганов, насквозь увидевшего того нечестивого монаха Игнатия.
Думный дьяк поднял голову и внимательно уставился на Крестинина.
В выцветших старых глазах думного дьяка светился странный огонек. Но не силы духа, не сильного желания, а тот странный, бледный, правда, все равно притягивающий к себе огонек, какой иногда колеблется над болотной местностью. Совсем слабый, почти не видный, но явственно опасный.
— Дядя… — начал Иван.
— Молчи! — сурово приказал Кузьма Петрович, весь всколыхнувшись.
Огромное его тело прочно застряло на лавке, как бы даже оплыло вниз, но каждое даже самое слабое движение приводило всю эту еще живую груду в движение.
Крестинин со страхом и удивлением следил за думным дьяком. Да боже мой! Да неужто опять сначала? Неужто жизнь только снилась? Неужто зря ходил на край земли? Плеск реки Уйулен… Останавливающееся течение… Туман над перевалом… Птичкин высокий голос…
Неужто все приснилось?
— Господи, помилуй, — толкнул Крестинин забухлую дверь.
В полутьме, ничуть не разгоняемой крохотной лампадкой, шевельнулась в углу невнятная тень, завозилась в цепях. Пахнуло нечистотами, холодом, жженым конопляным маслом. Иконка за лампадкой казалась черной, как от старости.
— Из глубин взываю… — услышал Крестинин из угла, где, кажется, была брошена на пол полуистлелая солома. Еще показалось, сверкнули два глаза — по-волчьи быстро, и желтым. — Из глубин взываю… — голос звучал невнятно, простужено. — Услышь, Боже, правды моей…
Хоть сто лет пройди, Крестинин узнал бы голос брата Игнатия.
— Услышь молитву мою… Видишь, как умножились враги мои… Многие восстают на меня…
— Это ты, монах?
Ужаснулся.
Всего от стены до стены шагов пять, не больше.
Каменные стены, чуть тронутые колеблющимся светом лампадки, покрылись густо, как потом, каплями темной влаги, в углах, у самого пола, намерз лед. Капли на камне вдруг волшебно и страшно вспыхивали. Черная плесень прихотливо расползлась по стенам, будто монах разрисовал стены таинственными маппами. А может, правда, водил от тоски пальцем по стене — одно изображение накладывалось на другое.
Погремев нескладно цепями, продолжая пришептывать, человек в грязной рясе, простоволосый, длинные волосы падали на лоб и на глаза, худой рукой отодвинул волосы в сторону, поднял голову и подслеповато, как крот, уставился на Крестинина.
Глаза, правда, блеснули.
Не как у крота — быстро по-волчьи, желтым.
— Доколе имя мое будет в поругании?… — хрипло шептал затворник, пристально вглядываясь из тьмы, чуть ли не обнюхивая Крестинина, и жадно прикидывая про себя что-то. — Доколе будем любить суету, доколе будем искать ложь?… Не пора ль приносить жертвы правде?…
— Чего раньше не задумывался о таком?
Затворник не заметил или не захотел заметить презрительной усмешки Крестинина. Зато за стенами ударила сторожевая пушка. Как бы напомнила Крестинину о текущем времени. Всего полчаса встречи были куплены им у дежурного преображенского офицера, и куплены дорого. Но, наверное, и такое бы не удалось, не имейся у думного дьяка Кузьмы Петровича Матвеева множества нужных связей.
Повторил:
— Чего раньше не задумывался о таком?
На мгновение показалось, будто бывший монах усмехнулся — злобно и быстро, но это тоже, конечно, показалось. Человек в рванье, в цепях, сильно измучен, наверное, не раз избит, приморен голодом — какая уж тут усмешка? Так… Игра теней…
Но глаза…
Глаза волчьи!
— Уходи. Не знаю тебя. Кто ты?
— А всмотрись, — сдернув с головы шапку, Крестинин лицом обернулся к слабому свету.
— Не знаю тебя… — кладя крестное знамение, низко опустив голову, сгорбясь в своем насиженном углу, забормотал бывший монах. — Изыди, сатана! Удались в места пустынные, в леса дремучие, в пучины морские, куда божий свет не достигает… Не звал тебя… Уходи…
Крестинин покачал головой:
— Откуда в тюрьме столь старая иконка?
Прозвучало как — украдена, наверное.
Человек в рясе погремел цепью, будто пытаясь выпутаться из тяжелых желез, нехорошо закашлялся.
— Она не старая… — неохотно, но объяснил, присматриваясь к Крестинину. — Так ее богомаз написал… Звали богомаза Иваном… Иван Новограбленный, может, слыхал?… Я с сей иконой не расстаюсь, с нею свершаю подвиги. Терплю скорби, кладу молитвы, принуждаю себя сносить все, что пало и еще падет на меня. Власти, ако козлы, пырскают на меня, я терплю. Добрый архиепископ Феофан, и тот поверил злым наговорам, отвернулся… — Странно намекнул: — Бумаги, составленные мною, чужими людьми, как свои, распространяются… А иконка мне помогает… Это хорошая иконка, а то ведь как ныне пишут? Подладят голову да точечки ткнут. Вот и весь образ, ничего святого… А с этой иконкой я многое свершу… Вот чувствую, предстоит мне еще свершить многое такое, о чем позже разными голосами будут повторять…
— Скромно ли говорить такое?
Монах усмехнулся:
— Истинно благочестивые люди подвигов своих не скрывают.
— Теперь вижу — ты.
Монах опять усмехнулся, теперь без притворства, открыто. Обнажил в усмешке плохие зубы, упрямо наклонил голову:
— А сомневался?
Узнал, конечно, сразу узнал Крестинина.
Будто пряча глаза, вновь по-волчьи вспыхнувшие, но на самом деле пряча нехорошую усмешку, какое-то нехорошее нетерпение, монах загремел железами, завозился в мрачном углу:
— Нечестивые уже натянули луки… Стрелы бессердечно приложили к тетивам… Стреляют во тьме в правых сердцем…
— Неужто говоришь о тайном господине Чепесюке? — безжалостно усмехнулся Иван. — Неужто вспомнил стрелу дикующего, поразившую сердце тайного господина Чепесюка?
Монах не ответил. Шептал, низко наклонив голову:
— Когда разрушены основания, что сделает праведник?… Не на нож ли толкаешь, упрямя сердце?…
— Неужто вспомнил о государевом прикащике Волотьке Атласове? Неужто вспомнил нож, поразивший в самое сердце государева прикащика Атласова?
Затворник смолк.
Крестинин тоже замолчал.
Много раз на Камчатке, много раз в Москве и в тихой Крестиновке раздумывал над будущей встречей, которая, считал, может когда-нибудь случиться. Много раз представлял вычерненные страхом глаза монаха, его упрямый, но сломленный страхом голос. А сейчас, когда такая встреча случилась, не чувствовал никакого торжества. Может быть только сумрачное удивление… Как так?… Вот пусть и в смыках, но сидит живой черный монах, поп поганый, а сколькие достойные люди преданы червям его странной властью?…
Господь терпелив. Крестинин молча разглядывал прячущегося в углу монаха.
Убивал государевых прикащиков. Убивал волнующихся дикующих. Ходил самовольно на новые острова. Копил награбленные пожитки, мяхкую рухлядь. Читал духовные книги. Произносил проповеди. Выучивал песнопения, смиренно распевал их в тюрьмах и в монастырях. Строил пустыни, ставил дома для скорбных духом и телом. Терпеливо и тщательно записывал в церковный синодик несчастливо погибших казаков. Обманывал, лгал своим и чужим, не брезговал никаким словом. Впадал в кощунство и в ересь. Снова лгал, вел среди походов обманные ясачные книги. Учинял чертежи краткого морского хода в богатую страну Апонию…
Зачем человеку столько?
Иван покачал головой. Его не пугал глухой шепот бывшего монаха, низко наклонившего голову. Ничему не дивился, будто так нужно — подвальная камора, обросшая склизкой плесенью, темная влага на стенах, лед в углах. Снаружи — солдаты, прислушивающиеся к каждому шороху, выше, на другом этаже, за столами, укрытыми сукном, густо испачканном чернилами, всякие казенные дьяки, думать не думающие о том, что под их ногами, под полом их приказа, под грязным деревянным полом, который они привычно и ежеминутно попирают, находится ад, которого все боятся.
— Свет и спасенье… Крепость жизни… Кого страшиться?… — снова забормотал монах, подняв голову, не сводя с Крестинина блестящих, как в болезни, глаз. Сильные приступы кашли прерывали его бормотанье. — И если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, и если захотят они пожрать плоть мою, пусть сами преткнутся и падут… И если ополчится против меня целый полк врагов и противников моих, пусть не будет им никакой удачи, пусть их не убоится сердце мое… И если восстанет на меня сама война, пусть даже тогда буду надеяться… Разве не одного всегда просил я у Господа, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни всей жизни моей, и чтобы созерцать красоту Господню и посещать дом его?…
Крестинин усмехнулся:
— А разве не ты, брат Игнатий, на Камчатке бунтовал казаков прямо в Божием храме? Разве не ты призывал казаков прямо в Божием храме браться за оружие? Разве не ты в неизмеримой подлости своей кричал: да будет проклят тот, кто останется в храме?
Иван не ждал ответа.
Он, собственно, и спрашивал только для того, чтобы отвлечь монаха от перевираемых им псалмов. Знал, заточенный в подвал человек, озлобленный, приговоренный к смерти, часто равнодушен к словам. И был удивлен, услышав:
— Правды хотел…
— А фальшивая грамотка для казачьего головы прикащика Атласова? А убитые на Камчатке государевы прикащики? А брошенные на островах неукротимый маиор Саплин и другие казаки? А убиенный дикующими тайный господин Чепесюк? А проданный в рабство тот же неукротимый маиор и убитые тобой его люди?
Монах смиренно шептал:
— Глас мой будет услышан…
Крестинин перебил:
— Так что ж о прикащике Атласове?…
— Все смертны, — невнятно ответил монах.
— Казачий голова не от старости умер… От ножа умер… И другие прикащики на Камчатке умерли вовсе не от болезней…
Глаза из темноты вновь блеснули:
— Великое дело — прикащиков на Камчатке резать!
— Вы ж вместе служили!
— А прикащик Атласов Данилу Беляева зарезал ножом, вот чего хорошего? Он хуже зверя был, меня подолгу держал в смыках. Меха отнимал у промышленных людей, мог плюнуть в лицо. Против своих же людей, чтобы держать в повиновении, настраивал дикующих. Стало страшно отходить от городьбы острожка. Разве не грех? Мухомором себя травил. Нападал на каждого.
— А прикащик Чириков? А прикащик Миронов?
— И те много грозились, на руку были нечисты, потому и пролилась кровь. В России всегда так… — Спохватившись, забормотал: — На тебя уповаю, Господи… — И вновь упрямо блеснул глазами: — Молчи и не мучай. Терплю за свои грехи… Видел однажды — по реке святой человек плыл на мельничном жернове, я так никогда не смогу… Не удостоюсь… Господь всех создает людьми, но страдаем все, а святым становится один… Конечно, не свят, но стремлюсь к чистому. Далеко ходил, много видел. Путь знаю к богатой стране. Добрый архиепископ Феофан еще вспомнит обо мне, скажет, зачем безвинно терпит смиренный брат по вере? Скажет, много уже терпел сей смиренный брат. Напомнит знающим людям, что только тот брат Игнатий ходил в дальний путь…
— А кровь? — напомнил Крестинин.
— А кровь, что ж?… Кровь отмолю… — хрипло ответил монах. — Поставлю пустынь на Камчатке. Поставлю Успенский храм на реке. Я уже многое отмолил. Когда постригался, вместе с рясой получил имя Игнатий. Много дней и ночей провел на коленях перед иконами. Смиренно и в тайне свершал подвиг веры. Думал, все отмолю. Думал, все отмолю, очищусь, в тихой келийке смиренно доживу жизнь, умственно познавая ход живого. Но стало в монастыре тесно. Вышел запрет о недержании в келиях чернил и бумаги. Одно только и было, что не привинчен на цепь, а все остальное, как везде. Устав, попросился в Тобольск, но якуцкий архимандрит Феофан, собака, не узрел смирения в моих глазах. Сомневаешься, сказал. Сомнение, сказал, разрушает веру. Все мои жалобы в Кабинет Его Императорского величества, в Правительствующий Сенат, в Священный Синод рвал самолично. А я ведь на свой кошт просился и в Тобольск и в Москву, хотел в приказе честно изложить краткий ход в Апонию. А нечестивый архимандрит, остервенясь, бил меня плетью, руку сломал, вымучил весь мой келейный скарб, насильно сделал строителем Покровского, потом Спасского монастырей…
— А ты унес церковные деньги.
Глаза монаха вспыхнули:
— Гляжу, ты мою жизнь изучил! — И, вскочив, громыхнул цепями: — А мои деньги где? Если взял церковные, то только потому, что сильно спешил. В монастыре архимандрит все у меня отнял, а другое еще до пострижения вымучил жестокий прикащик Петриловский. Этот вообще имел ненасытное лакомство на хищения. Он служивого человека Алексея Бурова за совсем малое запорол вилами. Разве ж человек?
Погремел железом, сказал печально:
— Снова в смыках сижу.
Перекрестился:
— Даже воробей не смеет погибнуть без божией на то воли, не допустит Господь и моей смерти. Его волею ведомый уходил из тюрем, из монастырей, плавал по морю, зимовал в ледяных горах. Его волею пришел в Якуцке к господину капитану-командору Витезу Берингу, отправленному императором искать Анианский пролив…
— От правосудия хотел скрыться!
— Правду людям желал открыть! — Монах задохнулся: — К господину капитану-командору шел с чистой душой. Мог принести большую пользу. Показал подробный чертежик пути в Апонию, показал расписание всех островов. Даже господин губернатор Долгорукий советовал господину капитану-капитану Витезу Берингу прибрать меня к экспедиции, как человека, много знающего…
— Уйти хотел от наказания, потому и не взяли!
— Взяли бы, — возразил монах, — только господин лейтенант Мартын Петрович Шпанберг стал препятствием. Лег, как камень поперек ручья. Оказался не вовремя рядом с господином капитаном-командором, человеком медлительным, но много думающим, сей нетерпимый лейтенант. Увидев черную рясу, расстроился. Сказал, что если ступлю на палубу какого судна, он самолично морским кортиком ссечет мне уши и нос и бросит рыбам. А про чертежик сказал, что лгу я. Было видно, что в гордости своей господин лейтенант Мартын Петрович Шпанберг сам стремится первым пройти к Апонии. Был страшен, бесы гудели в нем. Курил трубку, сильно ругался, тыкал в лицо толстым пальцем. Я смиренно ушел. К якуцкому казачьему голове Афанасию Шестакову ушел. На свой кошт…
— На украденные деньги!
— На свой кошт! — яростно возразил монах. — Сам построил судно, сам спустился на нем по Лене, ища выхода в океан, только вмерз в лед в низовьях. На упряжке собак вернулся в Якуцк, а собачки дороги в тех местах, а я ведь и судно потерял… В Якуцке Афанасия Шестакова, хорошего человека, уже не застал, — монах перекрестился. — не было на то воли божией. Сшел Афанасий к чюхчам немирным, в страну коряков. Там и нашел судьбу — коряцкую стрелу в горло. А я… — Громыхнул железом: — А я снова в смыках…
Вдруг спросил:
— А капитан-командор?… Снова идет?…
— А ты откуда знаешь? — негромко спросил Крестинин, помня, со слов думного дьяка Матвеева, что все связанное с новой экспедицией капитана-командора Витеза Беринга, как и в первый раз, при Петре Алексеевиче, держится в самом строгом секрете.
— Сорока принесла на хвосте. — Монах тяжело перевел дыхание, добавил раздраженно: — Без меня им не обойтись… Один я знаю путь к Апонии, а сижу на цепи… Посланные вновь заблудятся… — Тяжело вздохнул: — Не достроил величественный свой храм государь император Петр Алексеевич. Уже и своды возвел, уже и крепить начал, да не дал времени Господь. А теперь недостроенное царем Петром немцы и дураки губят.
Зашептал смиренно:
— В день скорби моей взываю… Велик ты, и творишь чудеса… Наставь, о, Господи, на путь твой, сердце утверди… — Закончил неожиданно: — И пошли опять человека, который бы оскорбил меня, и чтобы опять я бы его простил…
Крестинин прервал невнятное бормотанье монаха:
— Где был, бросив нас на острове?
— К югу ходил.
— Где ж это?
— Везде, где было угодно небу. — Погремел цепями, как бы пробуя их на прочность: — Господь не допустил дойти до цели, наслал ужасную бурю. Будто специально меня, раба своего, хранил для чего-то другого, присматривал за мной внимательно… — Блеснул из тьмы болезненными глазами, переводя разговор: — Вот попрекают дружбой с душегубцом Данилой Анцыферовым. А я к тому Даниле, может, попал не по своей воле. Схватили по дороге люди Данилы, я не к ним шел. А они сказали: будешь с нами, шибко грамотный. Мне что, лезть на ножи?… Не за жестокость особенную, а за грамотность выбрали меня есаулом. Сам знаешь, на Камчатке или убьют или иди со всеми вместе. Вот я и пошел. А с того повалились на меня всякие чужие грехи…
Помолчав, добавил хмуро:
— От своих грехов не открещиваюсь. Казакам грамотность моя понадобилась. Писцовые книги вел, писал челобитные…
— Фальшивую грамоту, которую несли прикащику Атласову, ты писал?
— Я.
— И прикащика резал ты?
— Нет, резал Шибанко. А с ним Посников.
— А третий?
— Что третий?
— Кто третий был?
— Пыха… Будто не знаешь…
— Знаю, что Пыха, да не знаю, кто он. — Быстро переспросил: — Ты?
Монах недоверчиво блеснул из тьмы болезненными глазами:
— Как это так? Почему я?
— А кто же?
— Я же сказал — Пыха. — Повторил удивленно: — Да твой же Пыха. Он рядом с тобой ходил!
— Где?
— Да на Камчатке, — монах недоверчиво закашлялся.
— Значит, я встречал его?
— Как это, встречал? — еще больше удивился монах. — Он постоянно служил тебе. А потом мы выбросили его на острове. Вкопали в песок на отливе, чтоб впредь не изменял.
— Похабин?!
— Он.
— Ты что говоришь, монах?
— Он, он, — уверенно повторил. — Федька Похабин. Когда-то вместе служили, после убийства прикащиков испугался Пыха, сбежал. Куда, не знаю. Позже увидел его уже при тебе.
— Все лжешь, монах! Не боишься говорить такое?
— Не боюсь, — закашлялся монах. — Правду следует говорить тем людям, кому она нужна. Чувствую, тебе сейчас нужна правда. Нет на свете чистых людей, есть только страдающие. Какими бы ни были люди, все их поступки всегда направлены только в сторону ада.
— Как тебя понять?
— А так и понимай… Нет невинных, есть страдающие… Спроси Пыху, Похабина, он ответит… — Монах усмехнулся: — Правда, теперь не знаю, ответит ли? Мы его в песок вкопали. Наверное, накрыло с головой приливом. — Монах снова усмехнулся: — Я видел разных людей. Даниле Анцыферову говорил: поплыли на острова, сядем на каких островах. Свою, пусть маленькую, поставим державу. Дикующие понесут ясак, построим русские избы. В России о нас никто знать не будет, решат, что сгинули в море. Все отмолим грехи. Но Даниле нравилось другое. Ему Камчатка нравилась. И воля. Воля, известно, всем нравится. Думать не хотел Данила о том, что камчадалы его боятся и терпеть не могут. Пошел, дурак, к Большой реке. Вот там камчадалы и заманили Данилу хитростью в специальный балаган, от ненависти к нему сами зажглись вместе с ним в балагане. Говорят, когда камчадалы сверху кричали нижним, чтоб выметывались из балагана, нижние так отвечали верхним: вы де живите, а мы тут сгорим с русскими! Так не полюбили Данилу. Ну, и государев прикащик Атласов был не лучше. Это все только говорят — ирой, ирой! А он маленького полоняника апонца научил пить, тот умер в беспутстве от безмерного пьянства. Я, может, потому постригся в монахи, что больше сил не было смотреть, как наполнены жесточью человеческие сердца. Думал, совсем уйду из мира. Думал, сяду в тихой келийке, буду слушать пчел, думать об островах, о море, о дальних краях, где солнце светит лишь косвенно. Со временем сам поставлю маленькую церковку. Войдешь, перед глазами алтарь, позади небольшие хоры, наполненные светлыми образами святых. Каждый образ отделен от другого золотистыми столбиками, образующими как бы окна, и все блестит золотом, а с других сторон стены окрашены голубым… Низкие деревянные потолки, свечи, лампадки, иконы разные… И нерукотворный Спас с омоченными власами, и святцы, и Отечество, на которой Бог-отец с младенцем Христом на руках. И все не простые, все уютные, намоленные, вобравшие в себя шепотки тысяч и тысяч раскаявшихся людей… А однажды, думал, уйду далеко… Уйду далеко, но не в сторону ада… Отмолив свое, с благословения настоятеля уйду в леса черные, в блата, а, может, и в древний скит, срубленный людьми еще старой веры. А может, на острова. Поселюсь на каком острову у тихого озера, где рыба плещется, где гогочет на берегу дикий гусь…
Закончил горько:
— Не дал Господь…
Глаза привыкли ко тьме.
Там, где ничтожный свет лампадки хоть как-то освещал мрачные плоскости, Крестинин, вглядываясь, рассмотрел странные линии, прочерченные прямо по сырости.
И странные овалы.
И странные невнятные пятна.
Может, монах, задиковав, в отчаяньи рисовал на сырой тюремной стене лица врагов, чтобы плевать в гнусные глаза, чтобы колотить по гнусным харям кулаками, чтобы бряцанье цепей заполнило мертвую камеру?… Что еще рисовать в тюремном подвале?…
Ноги у Ивана затекли, он шевельнулся.
Тотчас в дрогнувшем свете лампадки, в колыхнувшемся ее пламени волшебно вспыхнули на стене темные капли влаги. И вся стена, исчерканная пальцем монаха, показалась Крестинину маппой.
Он наклонился.
Блеснули капли влаги, плесень, кажущаяся черной. Длинные линии, изгибающиеся вниз, к югу… Правда, маппа?…
Свет лампадки, колеблющийся, печальный, как бы свет невзрачной затемненной луны над долинами, над морем… Мысленно увидел катящиеся морские валы, а над ними, сквозь тонкий, как бы размытый туман, неясные очертания островов…
Задохнулся.
Путь в Апонию!
На север, как дикий рог, выгнулась земля, кончающаяся мысом названным Святой нос. Иван привычно упал взглядом вниз, на Камчатку, похожую на елку, так густо зарисовал ее палец монаха реками. Некоторые реки бежали столь близко друг от друга, что уже и не имели берегов — капли слились, сплошь покрывая стену сыростью.
Тюремная маппа…
Волшебно вспыхивали темные капли влаги, тускло высвечивался в углах лед. Маппа как бы оплывала, таяла, покрывалась сыростью испарений, и все равно оставалась таинственной. И длинная цепочка островов уходила вниз — к югу.
— Видишь, Шумчю… — хрипло выговорил монах и, громыхнув цепью, жадно вытянул палец к стене. — Это остров Шумчю… Я с Данилой и с его людьми на байдарах ходил на остров за три часа с Камчатки… А это Пурумушир… Дикующие ткут холсты кропивные, а к ним приходят апонцы… Но редко… Чаще их просто волной выметывает…
— Там продал дикующим неукротимого маиора?
— А чего ж? — смиренно согласился монах. — Иль лучше было зарезать?
Перекрестился.
Сказал совсем непонятно:
— Сам видишь, страдаю за доброту.
Добавил:
— Дикующие говорят, что приходят к ним иногда апонцы.
— По делу?
— Больше по несчастью, — смиренно объяснил монах. — Их Господь не пускает к нашей земле, а они плывут. Тогда Господь насылает на апонцев бурю. А они все равно плывут. Везут лаковую посуду и шелк. Сам брал у дикующих такие необычные вещи. А еще золотые пластинки брал у дикующих. По тем пластинкам всякие хитрые письмена — будто птицы, прыгая, наследили. Называются — апонские гиероглифы.
— А дальше?
— За полдня при тихой погоде можно дойти до другого острова.
— Онникутан?
— Ну… — кивнул монах. — Бьют на том острове морских бобров… — С тоской провел пальцем по влажной стене: — Сам видишь, как много островов… — Перечислил жадно: — Кукумива… Сияскутан… Мотого… Ушишир…
— А дальше? — жадно спросил Крестинин. Вдруг вылетело из головы, зачем явился в тюремный подвал. Забыл, что за стеной прислушивается к тишине тюремная стража. Как когда-то на Камчатке, опустился на корточки рядом с монахом, жадно всмотрелся в оплывающую сыростью стену. Не спускал глаз с мерцающих капель, с темных пятен обозначенных монахом островов, нежно протянувшихся цепочкой по всей стене до самого пола.
— Араумакутан… — хрипло откашлялся монах. — Сам не видел, но дикующие говорят, что есть на острове Араумакутан огнедышащая гора. Иногда так дышит, что не видно солнца. На остров Араумакутан дикующие не ездят, а если ездят, то с осторожностью, как на опасную охоту. И добрых духов сильно просят помочь… Дальше — Сияскутан. Там у дикующих ярмарка, сходятся на Сияскутан со всех островов… А рядом малые — Икарма, Машауч, Игакту. На них не бывал, пронесло бусу стороной. Ветер столь сильно дул, что вершины волн срывало, несло горизонтально. Все даже не в тумане, а как бы в настоящей воде, только рыба в снастях не плавала… А дальше… — сказал монах, почему-то крепко зажмуриваясь, почему-то странно отворачиваясь от беспалой руки Крестинина, которой тот вел вслед за рукой монаха. — А дальше Шикоки… И Кетой… И Симусир…
— Почему бросил на Симусире? — не отрываясь от волшебной карты, спросил Крестинин. — Почему оставил нас на верную смерть?
— Стремился в Апонию.
— А нас на смерть оставил.
— А с вами был господин Чепесюк. Он бы в Апонию не пошел, я по глазам видел. А за вас я и не опасался. С таким, как господин Чепесюк, не погибают.
— Он первый погиб.
— Значит, так суждено было.
— Гореть тебе в аду, монах, — без ненависти пробормотал Крестинин. — В аду тебе гореть. Проси Бога о милости.
Брат Игнатий оглянулся в колеблющуюся тьму, будто почувствовал там кого-то, потом снова уставился на руку Крестинина, на которой не хватало указательного пальца:
— Ничего не надо просить. Особенно у Бога. Он лучше знает, в чем мы нуждаемся. — Зашептал глухо, невнятно: — Я днем вопию и ночью. Душа насытилась бедствиями. Жизнь приблизилась к преисподней. Сравнялся с нисходящими в могилу… — Шептал, перевирая, псалмы, растягивал слова, как в песнопении, а взгляд не отрывался от сырой стены-маппы, по которой путешествовала беспалая рука Крестинина. — Нет во мне ярости… Вот как сильно звал Данилу Анцыферова — плывем на острова, отделимся от России! Нет, побоялся Данила. За страх Господь и покарал Данилу огнем… И прикащик Атласов остановился на полпути. За то господь покарал и Атласова…
Удивился вслух:
— Но я-то!.. Всегда стремился!.. Знал путь к Апонии!.. Почему же сижу в цепях, в сыром подвале? Разве сюда шел?
— Доброе дело грехом не делается.
— Молчи! — монах стремительно обернулся к Крестинину, глаза по волчьи свсркнули во тьме. — Кто ты, чтобы судить меня?
— Сам знаешь — кто. И сам без крови, столь обильно тобою пролитой, почти дошел до Апонии.
— Молчи! — в глазах монаха зажглась желтая ненависть, ледяная, как звезды в морозную ночь. — «Почти дошел!.». Если почти и дошел, то благодаря моим трудам, благодаря моей утерянной в Санкт-Петербурхе маппе. За все спасибо мне должен сказать. Даже за то должен сказать спасибо, что оставил тебя на острове. Не оставил бы, рано или поздно ужасный господин Чепесюк все равно спросил бы тебя: а ну, говори, кто учинил ту маппу? Господин Чепесюк многое хорошо знал… — Усмехнулся: — Ты жизнь прожил чужую…
— Как сказал, монах?
— Ты жизнь прожил чужую.
— Я путь искал в Апонию!
— По чужой маппе!
Вот оно, без отчаяния, даже с некоторым равнодушием, даже с неким странным холодком, подумал Крестинин.
Жизнь прожил чужую!
Прав был старик-шептун. Сбылись все его предсказания.
Но ведь сам шел!.. Почему чужую?… Пусть не по собственной воле, пусть сначала подтолкнули, но сам, сам шел! И чугунный господин Чепесюк это видел. Какая ж чужая жизнь?…
Но обожгло душу холодом.
Все, все так, как говорит монах! Не окажись при нем маппы Козыря, Усатый не обратил бы внимания на мелкого секретного дьяка. Не окажись рядом с ним тайного господина Чепесюка, не дошел бы и до Якуцка…
И так далее.
Жизнь прожил чужую.
Прислушался, не понимая, к шепоту монаха:
— Разве во мраке познают чудеса?…
Но монах, кажется, забыл уже о своей вспышке.
Успокаиваясь, нехорошо покашливая, монах снова вглядывался в причудливо вспыхивающие капли влаги, в темную слизь плесени, будто, правда, катились по морю зеленовато-черные валы, подернутые пеной, всклоченные ветром, ударившим от высоких берегов некоего острова, целиком состоящего из огнедышащей горы; шептал:
— А далее Итурпу. Там кых-курилы живут. О том рассказал мне апонец по имени Шитанай, он сам не раз бывал на острове Итурпу. Говорил, что там растут леса, что там много медведей, что ни у кого не состоит в подданстве местный простой народ кых-курилы… — Неожиданно слабым голосом выдохнул из тьмы: — Вот хочу дойти до острова Итурпу, спасу нет… Знаю, живет там богатый народ… Все у них есть, никому не платят ясак, только души у них во тьме, тоскуют перед деревянными идолами… …Кенилля… — …Каждый в невежестве погибает, не зная, не ведая о спасении. …Кенилля… — …Хочу дойти до острова Итурпу, спасу нет. Готов нести любые лишения. Вот несчастен, истлеваю в подвале. Да почему, Господи, ярость Твоя меня сокрушает?
Опять зашептал, жадно вглядываясь в сырую, исчерченную пятнами и линиями стену:
— А там дальше Матмай… Самый богатый остров…
— Почему так думаешь?
— Так рассказал апонец Санима. Там широкие берега. А на широких песчаных берегах — малые тапочки, все с одной ноги, и ломаная лаковая посуда, и всякая снасть. Что море отберет у апонцев, то, изломав, выбросит на широкие берега. Апонец Санима сам рассказал. Апонская обувь, обрывки платья, разбитые бусы, бамбуковая снасть… Откуда все это, если не с близкого острова?… А он самый близкий в тех краях… Матмай… — Странно скосил желто по-волчьи сверкнувшие глаза на лишенную пальца руку Крестинина.
Крестинин усмехнулся:
— Боишься, монах?
— Чего?
— А того, что один уйду к островам. Не с капитаном-командором Витезом Берингом, а сам один уйду. И по своей собственной маппе. А ты здесь навсегда останешься. Понимаешь, монах? Навсегда. Будешь гнить в сырости, да сочинять маппы на заплесневелой стене.
Наступило молчание.
Потом монах медленно поднял голову. Его глаза горели желтым волчьим огнем. Не держи цепь, наверное, кинулся бы. Сказал с ненавистью:
— В жизни только одного человека боялся — тайного господина Чепесюка. Сразу, как увидел, испугался. В тайном господине Чепесюке смерть стояла, как вода в озере, я это с первого взгляда увидел. Но где сейчас тот господин Чепесюк? Кого мне теперь бояться?
— Меня, — твердо сказал Крестинин. — Я к робким иноземцам пойду, а тебя не будет на свете.
— Ты не пойдешь.
— Это почему?
— В деревеньках своих сопьешься!
— Никакого зелья давно не беру в рот. Многие годы не беру в рот никакого зелья.
— А я говорю, сопьешься!
Наступила тишина. Свет лампадки терялся в сырости. Негромко громыхнули железы. С неуловимою насмешкой монах спросил:
— Где палец потерял? — он все еще смотрел на руку Крестинина.
— Зачем тебе знать?
— Всегда хотел об этом спросить.
— В Сибири…
— Когда шел к островам?
— Нет, раньше…
— Гораздо раньше?
— Гораздо… Еще мальчишкой был… Что тебе до того, монах?…
Монах перекрестился:
— А вижу тебя насквозь. Всего тебя вижу. Ты в детстве получил такое увечье, оно как особый знак.
— Почему так думаешь?
— А потому, что вижу тебя насквозь, — угрюмо усмехнулся монах. — А еще думаю, что крест на груди носишь не свой.
Крестинин отпрянул:
— О чем ты?
— А то не знаешь?
— Как понять тебя? Говори ясней. Знаю, не раз ты видел крест на мне. Но почему думаешь, что не мой?
— А потому, что ты крест сорвал с одного мальчишки. А это я был. Под Якуцком. Давно. — Непонятно добавил: — Ковчег в море и ковчег в тесном озере… Разве не видно разницы?… — Зашептал быстро: — Я тебя еще на Камчатке узнал. По кресту. И по искалеченной руке. Коли б тогда, в сендухе, когда вязали отца, не промахнулся ножом, все могло по другому сложиться.
Сухо заключил:
— Коль бьешь ножом, не промахивайся.
Крестинин задохнулся:
— Ты?
Монах закашлялся.
Потом рассмеялся.
В глухом подвале, при незначительном свете, испускаемом лампадкой, этот его смех прозвучал угрожающе.
— Ты, наверное, написан мне на роду. Я всегда тебя помнил. Не знал, где ты, ничего не знал о тебе, из памяти выбросил, а все равно помнил. И в Якуцке сразу узнал. Долго присматривался. Потом решил, что Господь тебя специально послал мне навстречу. Так и решил, что как только построишь судно, так отниму его у тебя. Помнишь, на Камчатке твои люди исчезли? Наверное, догадываешься, что они не просто так исчезли? Если бы не тайный господин Чепесюк, ты бы тоже совсем исчез. Я тогда сразу решил, что как только выйдем в море, так высажу тебя на каком острову или просто брошу за борт. Что допустит Господь, то и будет… Только тайный господин Чепесюк все время мешал…
Монах зябко повел плечом, лишь угадываемым во тьме:
— Никого никогда не боялся. Собственного отца-убивцу не боялся. Государев прикащик Атласов в смыках меня держал, грозил пищалью, бил палкой, я и его не боялся. Данила Анцыферов при самой первой встрече хотел повесить меня, а я и его не боялся, стал при Даниле есаулом. Только тайный господин Чепесюк наводил на меня содрогание, как змея. А ты казался неумным… Пока не заговорил об Апонии…
Хрипло вздохнул:
— Сердце болит, как хочу в Апонию! Я вот всю жизнь всеми силами иду к ней, а ты легкой попрыгушкой — и почти там. По пьяному делу, по чужим маппам — и почти до Матмая… Мыслимо ль?… — Голос монаха дрогнул: — Меня, наверное, казнят… А ты, правда, пойдешь в Апонию?
— Правда.
— Врешь! Сопьешься, собака!
Опять наступила тишина.
Вспомнил: Сибирь, сендуха, олешки мекают. Посреди пустой тундры ураса, крытая ровдугой, на пороге казак с пищалью в руках — лешак сендушный, отчаявшийся, убивца родной жены… «Вали его!» Крик, шум… Крестинин-старший, может, сразу скрутил бы убивцу, только жилистый мальчишка все бросался на него с ножом…
При бледном свете лампадки Иван изумленно вглядывался в лицо расстриги-монаха брата Игнатия. Да он ли?… Как узнать?… Крестинин-старший сапогом сперва отбрасывал дикого мальчишку, потом крикнул Ивану, тоже мальчишке: «Ударь его!» — но дикий мальчишка, злой, верткий, не давался, все бросался и бросался с ножом. Сцепились. Тогда Иван и сорвал с мальчишки крест, а мальчишка палец ему отсек…
Кровь.
Везде кровь.
Повязали отца, повязали мальчишку. Уже связанный, мальчишка сверкал черными глазами: «Убью!» А вечером вышел к костру старик-шептун. Жить будешь долго, предсказал Ивану странно. Обратишь на себя внимание царствующей особы, полюбишь дикующую, дойдешь до края земли, но жизнь проживешь чужую…
Шел дождь.
Отрубленный палец пронзительно дергало, но старик-шептун снял боль.
Глава V. Послание к коринфянам
— По отдаче денных часов баталия только началась…
Полковник Яков Афанасьевич Саплин обернулся и, мелко, но с большою охотою и силой засмеялся. В круглых темных глазах горела неукротимость, нисколько не пригашенная годами.
— А фельдмаршал Миних приказал подполковнику Манштейну встать во главе отряда в двадцать человек и немедленно арестовать фаворита. А если герцог Бирон возразит в чем, приказал, убить на месте без пощады указанного герцога. Бирон, известно, зло. После шведа, может, главное. — Полковник Саплин перевел дыхание и понизил голос, не желая, чтобы возница услышал его: — Подполковник Манштейн, следуя сей официи, приказал выбранным гвардейцам следовать за собой в некотором отдалении. Часовые беспрекословно пропустили подполковника, считая, что, как всегда, Манштейн идет к герцогу по какому-то важному делу. Так подполковник дошел беспрепятственно до дворцовых покоев. Не зная, однако, в каком именно покое спит фаворит, подполковник впал в некоторую олтерацию. Чтобы избежать шума и подозрений, ни к кому нельзя было обращаться, хотя в коридоре появлялся кто-то из слуг. Не желая терять время, боясь иметь несчастие получить в будущем неудовольственный ордер, подполковник Манштейн, чтя строгие принсипы, проверил несколько двустворчатых дверей и легонько толкнул ту, которая показалась ему незапертой. Она и оказалась незапертой, в чем, конечно, вина нерадивых слуг, забывших задвинуть верхние и нижние задвижки, а тем самым испортившим диспозицию фаворита. Открыв дверь, подполковник Манштейн сразу обнаружил большую кровать, на которой глубоким сном почивали герцог и его супруга. Не забывая своей официи, подполковник подошел к кровати и резко отдернул занавеси. Герцог и его супруга проснулись и вскрикнули. Так оказалось, что без всякой стрельбы пал фаворит. Впрочем, — довольно мрачно заметил полковник. — Крики в тех покоях давно звучат… Всякие крики, даже страшные… Видишь, как хорошо, что мы не слышим дворцового эха…
Полковник Яков Афанасьевич Саплин еще сильнее понизил голос, от чего неистовство его только возросло:
— А подполковник Манштейн оказался с той стороны, где лежала герцогиня, поэтому герцог сумел вскочить с кровати. Но и в такой невыгодной диспозиции подполковник не потерял лица. Догнав фаворита, крепко держал его, пока не подоспели гвардейцы. Говорят, фаворит при этом сильно ругался по-немецки и, не оглядываясь, сыпал ударами направо и налево. Гвардейцы, осердившись, вытащили герцога во двор, там повалили ударами прикладов на землю и, чтобы не кричал, вложили в рот носовой платок. А руки фаворита связали длинным шарфом одного из офицеров. Потом нагого, чтобы впредь не забывал принсипов, снесли до гауптвахты и только там накинули на фаворита простую солдатскую шинель.
— А затем?…
— А затем без всякого уважения бросили в поджидавшую у гауптвахты карету фельдмаршала.
— А ты, Яков Афанасьич? — негромко и настороженно спросил Крестинин.
— А я что?… Я в деревне… — опечалился бывший неукротимый маиор. — Дни провожу в экзерцициях. После фриштыка, утреннего кушания, хожу на рыбные пруды, о чем не раз рапортовал тебе. У меня в прудах любая рыба растет. Прямо как на Камчатке. Такая выдается в иное лето, что средняя пушка меньше весит. А если бы оказался во дворце в тот день…
— Молчи, Яков Афанасьич! Совсем законов не боишься.
— Какие законы? — удивился бывший маиор. — Нет, Иван, в России законов.
— То есть как нет? А что есть тогда?
— Гвардия!.. Только гвардия!.. Ничего, кроме гвардии!.. Толстая Нан знала, что делала, когда прибавила к преображенцам и семеновцам своих верных измайловцев и конногвардейцев. — Рубанул рукой: — Хамшарен!.. Ничего, кроме гвардии!
— А Бог, Яков Афанасьич?
— На Бога надежды слабы.
— Зачем говоришь, как брат Игнатий?
— Не поминай попа поганого. — Выругался. — Неужто он еще жив?
— Не думаю… Но узнать трудно… После того, как год назад взяли графа Андрея Ивановича Остермана, думный дьяк Кузьма Петрович совсем отошел от дел. Пытался, правда, поговорить с Семеном Андреевичем Салтыковым, да какой от того толк! «Монах Игнатий? — удивился Семен Андреевич. — Да кто такой?» У него, у Семена Андреевича, в руках вся московская контора Тайной канцелярии, а он как бы совсем ничего не знает. Повторил: «Монах Игнатий?… Не знаю». И посмотрел на Кузьму Петровича так, будто хотел в него глубоко проникнуть… — Крестинин вздохнул: — Думаю, что нет уже давно на свете брата Игнатия. Считай, что и не было никогда…
— Не брат он, а поп поганый!
Коротко передохнув, воздуха не хватило, Крестинин медленно покачал головой:
— Время такое, что страшно, Яков Афанасьич… Сам сижу в деревне, на десяток верст ни одного соседа, а все равно страшно. Признаюсь, даже на Камчатке не было так. Увижу пыль на дороге или сквозь пургу крик, сразу думаю — а что там за люди скачут, кто такие пылят? Может, за мной едут? Может, получен на меня приказ? Может, вспомнили загадочного тайного господина Чепесюка, теперь едут с вопросами?… Раньше гостям радовались, теперь боимся… Раньше гость приезжал, чего только не наслушаешься. А теперь новости одни. Только и слышишь: этого дворянина взяли, и этого дворянина взяли… Этот дворянин пропал, и этот пропал… Известных графов, князей, людей из самых древних русских родов — всех выводят… Кругом шпион на шпионе, не протолкнешься. В Москве, в Санкт-Петербурхе страшно зайти в кабак. Немедля подслушают, немедля прицепятся, после второй чаши крикнут слово государево… Люди на улицах боятся друг друга, не смотрят в глаза, ночью не спят, прислушиваются к шуму — а что это за пролетка остановилась у ворот? а чьих это лошадей цокают у ворот копыта? а почему это светится у ворот чужой фонарь? а не за хозяином ли пришли гвардейцы?… Люди исчезают, Яков Афанасьич, будто их никогда не было. И никто не может сказать, где они, что с ними? Может, навсегда высланы в сторону Сибири, а может, в Москве убиты… Тайная канцелярия, Яков Афанасьич, работает без суда, в тайной канцелярии нынче вообще не ведут никаких бумаг, а, высылая человека в Сибирь, еще и имя ему меняют… — Наклонился к полковнику: — Вот где нынче граф Андрей Иванович Остерман, где известный оракул?…
Усмехнулся:
— Вот то-то!.. Пошел по следам светлейшего князя Меншикова, и тоже выслан в Березов. — Сам удивился: — Как поступил со светлейшим князем Меншиковым граф Андрей Иванович Остерман, так теперь и с ним самим получилось. Правда, светлейший из Санкт-Петербурха выезжал с поездом почти царским. Четыре кареты с запряжкой в шесть лошадей, да полтораста берлин, да одиннадцать фургонов и сто сорок семь слуг. Это уже позже у него все отняли… А граф Андрей Иванович просто исчез. Вот тебе и оракул. Не догадался… А может, догадывался, только сделать ничего не мог. Выслан тихо в Березов… И ты бы, Яков Афанасьич, висел сейчас в петле или в цепях шел в Сибирь, кабы думный дьяк не устроил мне аудиенцию с императрицей… За тебя просил, падал на колени. Анна Иоанновна, царство ей небесное, сам знаешь, ответила от души… Так что, молись за душу графа Андрея Ивановича Остермана, полковник Саплин. Коли б не он, был бы ты так далеко, как люди и не ходят…
— Я человек военный, — ответил полковник Саплин и неукротимо пристукнул кулаком по острому колену. — Куда отправят, туда и пойду. Я первое слово в жизни произнес — солдат. Рос, молчал, а потом первое слово произнес — солдат. Уже позже позвал — тятя! И совсем позже — мамка! Выслали б, я и в Березове не пропал. Многому научен. Когда-то от Москвы до Санкт-Петербурха мог доскакать за двое суток. Под фортецию чувств… Подкопы…
Крестинин усмехнулся:
— А кто платил за загнанных лошадей?
— Сам платил. И сам дошел до Камчатки. И сам добрался до дальных островов. Многих немирных дикующих привел в полную десперацию, надежно охранял гору серебра. Коли б не поп поганый!
— Знаю, Яков Афанасьич, — вздохнул Крестинин. — Ты везде дома. Неистов, неукротим, и одарен громадным терпением. Я так не могу. Я бы не высидел столько лет на острове.
— А в деревне?
— Да мне и в деревне неспокойно, — пожаловался. — Часто подхожу к окну, прислушиваюсь, не едут ли гости? Когда-то с радостью прислушивался, теперь с боязнью. Сам знаешь, сколько людей похватано только по одному делу кабинет-министра Артемия Петровича Волынского. Хамшарен!.. На что оракулом считался граф Андрей Иванович Остерман, а и он, наверное, не предполагал, что потащат на плаху самого кабинет-министра Артемия Петровича… Ишь, моду взял, немцев ругать при дворе! А потом любимую карлицу императрицы изволил по щекам бить. Не стесняясь, вслух говорил, что якобы дура наша толстая Нан!.. Да, может, все так и есть, но молчи!.. Кто скажет, где сейчас кабинет-министр? Разве спасло Артемия Петровича его великое богатство?…
Перекрестился на мелькнувшую по правую руку церквушку:
— Взяли Артемия Петровича в тридцать девятом, а до сих пор все помню… И тридцать седьмой помню, и тридцать четвертый, и все другие годы, когда события крутились, как в ужасном водовороте… А теперь опять… Редкий гость появится, спрашиваешь о людях с опаской…
Полковник кивнул.
Что-то отразилось в его выпуклых черных глазах. Сказал неукротимо:
— Я гостей ни о чем не спрашиваю. Ко всему приучен. По виду гостя могу сразу определить, кого еще взяли. Как нымылан по запаху. Редкий гость появится, сразу веду его к прудам, в которых развожу рыбу. Пусть посидит над прудом, полным красивой рыбы. Пусть подумает. Рыбы, как понимаешь, не знают своей официи и отеческой аттенции государя лишены. И о судьбе своей не догадываются. Вот насмотришься на рыб, мнящих себя свободными, а потом хватаешь любую и в огонь. А ты говоришь, законы… Какие законы на святой Руси?
Иван промолчал.
— Ездить, правда, гости стали реже. Так это и хорошо. Дни провожу в экзерцициях, много думаю. Не поверишь, Иван, — полковник тревожно глянул на Крестинина. — Иногда странное со мной происходит. Войдешь в пруд по колено, в воде серебро мелькает, чешуя, как полукопейка, и вдруг таким ужасным пахнет на тебя от воды… Встанешь, и слезы в глазах… Где все? Где жены переменные? Где малая Афака? Где большая Заагшем? Где Казукч, Плачущая?… …Где допоздна так сладко пели птицы… — …Где море с накатом, где сопка в огне? Где каменные отпрядыши за крутым берегом? Где сам берег — обрывистый, в водопадах, в непропусках, весь забрызган пеной? Где на камнях морская трава, нарезанная на ленты. Где круглое небо над головой?… — Поморгал глазами удивленно: — Иногда не знаю — было ли все? Или только приснилось?
— Было, — негромко, но твердо ответил Крестинин. — Но меньше думай об этом. И пусть лучше на берегу собственного пруда чем-то ужасным на тебя дохнет, Яков Афанасьич, чем в мерзком казенном подвале, а то в Березове или в Пелыме, где небо и земля сходятся…
— Знаю, Иван.
Крестинин перекрестился:
— Мне такое, Яков Афанасьич, начало чудиться еще раньше…
— Так ты книги читаешь.
— Хочу постичь самого себя. Хочу понять, правильно ль существую? Даже монах брат Игнатий и то успел что-то свершить, а я?…
— Опять поп поганый! Не поминай. Сиди в деревеньке и никуда не езди. Зачем тебе ездить, деньги портить? По списку очередного заговора сам по себе, смотри, бесплатно попадешь в Сибирь.
— На Камчатку хочу, — вырвалось у Крестинина. — На острова хочу.
— Молчи!.. Забудь!.. Разве тебя капитан-командор взял?… — Выругался: — Хамшарен!.. Это хорошо, что не взял. Говорят, что большая беда случилась на востоке с капитаном-командором Витезом Берингом. Подробностей пока не знаю, но радуйся судьбе и прячься в деревне, Иван. Сиди тихо, помни, что теперь тебя и думный дьяк не защитит. Совсем одряхлел Кузьма Петрович. Да и где его покровители?
— Я не гулять хочу, — упрямо повторил Крестинин. — Я путь к островам знаю.
— Вот и молчи. Теперь все экспедиции считаются секретными, а ты такое говоришь вслух. По-хорошему, тебе даже о капитане-командоре следует забыть. А то спросят, откуда знаешь такое? Что ответишь? Сошлешься на исчезнувшего графа Андрея Иваныча?
— А чего ж?
— Молчи! — неукротимо повторил полковник. — Никуда больше не ходи, а то погибнешь, как капитан-командор. Никому не желаю такой страшной смерти. Лучше навести нас в Москве, моя супруга обрадуется. — Похвастался: — У нас лучшие рыбные пруды в Москве. Супруга халат апонский оденет. Специально для тебя. По халату разбегаются диковинные птицы и растения, каких никто, кроме нас с тобой, никогда живьем не видал. После обеда в саду будем отдыхать на качелях. Выкурим по трубке. Приезжай. Я музыку выпишу.
С забора шумно сорвалась ворона, возчик вздрогнул, взмахнул вожжами, лошадь пошла быстрей.
— Вроде бы все как при великом государе Петре Алексеиче, а все равно не так, — выругался полковник. — Вспомню прежний Санкт-Петербурх, щемит душу. Нева под деревянными набережными, мокрые мельницы по берегам, по воде верейки да шлюпки, а то какой ботик появится. У воды сваи с железными кольцами, приставай, где хочешь. На каждой набережной прогуливаются кавалеры в кафтанах шелковых да бархатных. Треуголки, шпаги, башмаки с огромными пряжками. У всех букли, а дамы в юбках, в самых широчайших, в круглых, на китовом усу — роброны, на версальский манер. На щеках румяна, мушки. А сделал шаг, окажется рядом шкипер, пахнущий морем. Или плотник с трубкой в зубах, в грубой куртке или в красной вязаной фуфайке, в грубых сапогах. Жизнь, Иван… Кипело все… И вот… Откипело… Говорят, великий государь Петр Алексеевич, умирая, слабой рукой вывел несколько слов неявственных на бумаге, из которых разобрали только: «Отдать все…» А что отдать и кому, того объяснить не успел. Перо выпало из рук. Позвал негромко цесаревну Анну, наверное, хотел ей дальше продиктовать, но когда появилась цесаревна, говорить уже не мог. Два архиерея, псковский и тверской, стали увещевать государя, тогда, говорят, он снова несколько оживился. Его приподняли, он поднял руку: «Сие едино жажду мою утоляет; сие едино услаждает меня…» Даже повторил несколько раз: «Верую и уповаю…» А потом смолк. И только когда присутствующие стали с ним прощаться, произнес с большим усилием: «После…» И уже не сказал ничего. С того все и началось… Будто пролетел злой ангел… Вдруг тихо стало… Раньше до самой Сибири долетал стук топоров, визг пил, а теперь… Даже цельная гора серебра прекрасная Селебен и та брошена без присмотра…
— Молчи, Яков Афанасьич. Возница услышит.
— Вот видишь, — горько сказал полковник. — Уже и возниц боимся. — И крикнул вознице, оттягивая кожаный верх: — Мужик! Кто в русском государстве самый большой дурак?
Крестинин замер.
К его удивлению, мужик, обернувшись, плутовато заулыбался, десятки морщинок весело лучились по обветренному лицу, впадая, как реки и речушки в пегую бороду:
— Да мужик, ваше благородие.
— Вот, видишь! — обрадовался полковник, оборачиваясь к Ивану. — Мужик! А продолжи расспросы, почему да как, наш возница тотчас сделает вид, что он-то и есть самый наиглавнейший дурак. Совсем как наш думный дьяк.
— Кузьма Петрович? — удивился Крестинин. — Это почему?
— А потому! — обрадовался полковник. — Я теперь Лизку свою думным дьяком пугаю. Знаешь, спрашиваю, Лизанька, на кого похож твой Кузьма Петрович? Ну? — спрашивает. А бывают, говорю, такие старухи. Приходят в церковь, осматриваются, потом ладят свечку перед Михаилом Архангелом, а вторую под ногами его, как бы перед дьяволом. Священник, конечно, сердится, пеняет такой старушке: зачем, старая, неправильно ставишь свечки? Почему две? Почему одна под ногами? А старушка и не стесняется: все равно, говорит, мне помирать скоро. А я не знаю, мол, батюшка, куда пойду — в рай или в ад. Потому и ставлю две свечки, хочу друзей повсюду иметь.
Крестинин усмехнулся:
— Похоже, похоже на нашего Кузьму Петровича… Только ведь Бога не обманешь… Кузьма Петрович в жизни многим помог, а теперь, правда, совсем один, всеми покинут. Говорит загадками, живет уединенно. Скоро, наверное, совсем забудут про Кузьму Петровича.
— А он, наверное, сам того хочет.
— Ну, не знаю… Может, и так… Сейчас всем лучше оставаться незаметными, пока пронесет мимо облако вредоносной саранчи. Вот пронесет облако, тогда все вылезем из щелей глотнуть чистого воздуха.
— Страшное говоришь.
— Так получается.
Они помолчали, глядя на каменные лабазы купца Стрешнева, как раз ехали мимо них. Потом Крестинин спросил:
— Что ж дальше?
— У тебя деревеньки, у меня пруды рыбные, — просто ответил полковник. — Не дам тебе заскучать, скоро пришлю в деревню ужасные отчеты тайной экспедиции господина капитана-командора Витеза Беринга, чтобы ты понял, наконец, от каких ужасных опасностей уберегся. Обещали подробности не по официи. Не упустил случая визитацию кой-кому нанести и употребить вино с нужными людьми. Пришлю отчеты в деревню.
Добавил мрачно:
— Не по официи.
— Конечно… — кивнул Крестинин. — Обещаю, что никому на глаза не попадутся те бумаги. — Вздохнул: — Господина капитана-командора Витеза Беринга жаль. Я б на его месте действовал совсем иначе. Но каждому дан свой путь, каждый по своему выбирает. Один, как тайный человек господин Чепесюк, однажды умирает от стрелы дикующего, другой, как брат Игнатий, проливавший живую кровь, пропадает в безвестности.
— Господин Чепесюк — человек государев, не поминай всуе, — со странной интонацией в голосе произнес полковник. — Жизнь, Иван, если не по официи, измеряется не количеством прожитых лет, а количеством добрых дел, тобою свершенных. Если судить по такому признаку, то тайный человек господин Чепесюк навсегда останется тайным. А вот брат Игнатий — в нем тайн нет. Как был поп поганый, так и останется.
Задумался.
Крестинин не отвлекал полковника Саплина от мыслей. Полковник заговорил сам:
— Я специальную тетрадь завел, Иван. Как бы продолжаю дело монстра дьяка-фантаста Тюньки. Приезжай, увидишь. Все полезное, что узнал за всю жизнь, как в России, так и на островах, хочу изложить в той тетради. «Язык для потерпевших кораблекрушение», так прямо назвал тетрадь. Прячу ее в особый ларчик, а ларчик прячу еще дальше. В той тетради, Иван, все мысли мои и наблюдения, образы и обряды дикующих, предания старины. Подробно описал нравы переменных жен, почему прячу тетрадь даже от любезной супруги. Помру, тогда пусть читают. Особенная хвала государю Петру Алексеевичу вписана в ту тетрадь, но главное, Иван, занесены туда в определенном порядке самые разные и многие слова ительменов и коряков, чюхчей и камчадалов, слова мохнатых, помнишь, как монстр дьяк-фантаст Тюнька того хотел? Коль такую тетрадь когда-нибудь распространить среди путешествующих в пространстве, то любой человек в будущем, будучи, как я, заброшен судьбою даже на самые дикие острова, сможет вступить в некоторую беседу с дикующими. А то ведь как получается? Дикующий видит, что ты бессильно лежишь на берегу, ну и идет к тебе. Может, с добрыми намерениями идет, может, просто по привычке держит копье в руке, но ты-то всего не знаешь. Ты боишься. Ругайся не ругайся, ведь трудно понять, что у дикующего в голове. Вот тут и приходит на помощь специальная тетрадь. Глянул по обстоятельствам, какое тебе необходимо слово, нашел в тетради и выговорил. Впредь всех путешествующих можно будет снабжать моей тетрадью.
Задумался. Потом сказал:
— Я никуда, Иван, больше не хочу. Мне мой дом, моя супруга, мои пруды любезны. Оставшуюся жизнь буду «Язык для потерпевших кораблекрушение» совершенствовать.
Вдруг спросил:
— А ты?
— Я к морю хочу, — упрямо сказал Крестинин. — Хочу увидеть острова, сивуча, морского зверя, услышать. Не знаю, к чему такое, но постоянно лежит сердце к востоку.
— Не просись.
— Почему?
Полковник пожал плечами.
— Под фортецию чувств… Полная десперация… Прочтешь бумаги капитана-командора Витеза Беринга, сам все поймешь.
Добавил, помолчав:
— Жаль мне тебя, Иван.
— Почему?
— Ты, так думаю, впадешь в тоску. Сильно долго держался. Я умею такое определять. Вижу по глазам.
Крестинин засмеялся:
— В казенном подвале поп поганый Игнатий тоже сказал мне — сопьешься, дескать. А ты теперь говоришь — впаду в тоску. А я, Яков Афанасьевич, сам знаешь, не пью уже много лет, и тоски у меня нет, пока рядом Похабин… — Назвав имя Похабина, заметно помрачнел: — Ну, почему вдруг тоска?…
Полковник угрюмо вздохнул:
— Не зарекайся, Иван. Мы о себе не все знаем.
Почерк писца, снимавшего копии с отчетов, оказался внятен, хотя и не без некоторой изощренности. Крестинин ни разу не споткнулся, не затруднился, разбирая литеры. Просто ледяной холодок, вначале как бы лишь показавшийся, к концу чтения с силой охватил его, даже заставил вскочить внезапно, зябко прижаться спиной и сжатыми за спиной руками к широкому горячему обогревателю печи.
Господин капитан-командор…
Господин капитан-командор Витез Беринг…
Человек, которому Крестинин втайне завидовал, человек, к которому в свое время всяко старался пристать, человек, который медлительно, но с очень большим тщанием выполнял свой долг, очень несчастливо погиб вдалеке от Москвы и Санкт-Петербурха. С разрешения императрицы Анны Иоанновны после долгих сборов он все-таки ушел вторично на северо-восток, чтобы узнать наконец, да соединяются ли две суши — американская и азийская? Отойдя от суши, суда капитана-командора медленно двигались от Камчатки к северу, каждый матрос в три глаза следил за туманными берегами.
Да и как иначе?
Секретная экспедиция капитана-командора оказалась большим предприятием, обдумываемым годами, обдумываемым и исполняемым сотнями людей опытных и умелых. Правда, о мореплавателях, ушедших на судах в северную сторону, долгое время не было никаких известий.
Но потом известия начали доходить.
Сперва они казались смутными: в них упоминалось о берегах Америки, и о некоторой удаче, но при этом и о больших бедствиях. Потом начали доходить известия откровенно тревожные, а уже они сменились на известия бедственные. Все это накладывалось на то, что уже знали: капитан-командор Витез Беринг так и не заслужил удовольствия царствующего дома. Никакой удовольственный ордер со стороны новой императрицы так и не был выдан капитану-командору.
Крестинин всей спиной прижался к горячему обогревателю.
«Жизнь проживешь чужую… Впадешь в тоску… Сопьешься в своих деревеньках…» Мысли лезли в голову несуразные, никак не связанные с бумагами экспедиции капитана-командора Витеза Беринга. Неявно, но стояло, стояло, стояло в сознании, что попади он в ту экспедицию, сейчас бы лежал на холодном берегу, играло бы течение его трупом…
Подбегал к столу, холодными руками разглаживал бумаги, внимательно всматривался в чертежи. От Шумагинских островов пакетбот господина капитана-командора Витеза Беринга «Святой Петр» шел все время на запад, вдоль цепи Алеутских островов, но всегда на некотором расстоянии от них. Когда с борта удавалось увидеть землю, считали, что это Америка. А если видели острова, то все равно, считали, что это прибрежные острова, то есть, американские. Дивились величине нового материка, края которого терялись в неизвестности.
Восьмого сентября 1741 года, как записал в дневнике походный натуралист экспедиции Георг Стеллер, на море разразилась сильная буря, которая привела офицеров пакетбота в уныние. Стали сомневаться, удастся ли вернуться домой? Даже рассуждали, не придется ли зимовать в той же Америке, а то и в Апонии?
В Апонии! — задохнулся Крестинин. Георг Стеллер так и написал — в Апонии. Значит, понял, не имел этот Стеллер истинного представления о местах, где плыл пакетбот. Разве Апония лежит близко к берегам Америки?
Взглянув на приложенный к отчету чертеж, Крестинин засомневался еще сильнее. Если некий казенный человек, подкупленный неукротимым полковником Саплиным, верно передал на чертеже масштабы, то Апония, по Георгу Стеллеру, впрямь получалась лежащей неподалеку от Америки.
А разве это так? Разве его, Крестинина, не носило по морю несколько недель, пока вообще не прибило к Камчатке?
К Камчатке, а не к Америке!
Восемнадцатого сентября 1741 года, со смутной тревогой вчитывался в казенные бумаги Крестинин, с северной стороны были замечены на пролете стаи мелких куличков, тянувшихся на юго-запад. Ну, раз мелкие кулички, значит, есть близко земля! Когда его, Ивана, а с ним рыжего Похабина и неукротимого маиора Саплина долго несло по морю, никаких птиц не видели, только туман. Иногда вроде кричали птицы, но, может, это только казалось. Туман, да волны как горы. Вот, собственно, и все. Что еще увидишь?
А экспедиции господина капитана-командора Витеза Беринга поначалу везло.
Например, увидели двадцать четвертого сентября плывущее по морю дерево, что тоже говорит о близости земли, как и появление мелких куличков. А потом вынесло пакетбот под неизвестный остров, который был нанесен на карту как остров Святого Иоанна.
На этом везение кончилось.
Покрепчал ветер, иногда достигая необычайной силы — волны легко перекатывались через палубу пакетбота. Решили пойти назад, но в течение трех недель удалось продвинуться совсем немного. Штурман Эдельберг, один из трех опытных штурманов экспедиции, утверждал, что ни разу в своей жизни не видел такой жестокой бури, какая разразилась двадцать седьмого сентября.
Крестинин прижимался спиной и руками к обогревателю печи, его странно морозило, во рту пересохло. Бог любит дураков, думал он. Я всегда был дураком. Бог любил меня за простоту, сам вел за руку по гиблым местам. Вот и не погиб, как капитан-командор…
Утром тридцатого сентября, узнал Крестинин из присланного полковником Саплиным отчета, поднялась от юго-запада еще более страшная буря, какой никто на пакетботе никогда не видел ни до, ни после случившегося. Такой сильной бури, писал в своих записках натуралист Георг Стеллер, даже представить нельзя. Каждую минуту усталые люди ждали гибели. Никто не мог ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Управлять судном стало невозможно, пакетбот носило по воде как неуправляемую колоду. Половина команды лежала пластом от болезней, все другие были как без ума от сказочно ужасной и бессмысленной качки. Питались обгорелыми сухарями, но и такие сухари были на исходе.
«Не подумайте, — писал в отчете Георг Стеллер, — что я преувеличиваю наши бедствия: поверьте, что самое красноречивое перо не в состоянии было бы передать весь ужас, пережитый нами…»
Первого октября буря продолжилась с еще большим неистовством и офицеры пакетбота стали переговариваться о том, что следовало бы поискать убежища в новооткрытой Америке. В этот же день, как странный намек на что-то тайное, мачты и реи, вся снасть пакетбота покрылись огнями святого Эльма. В полумраке они светились, как облитые жидким, чуть колыхающимся огнем, а над мачтами, в низком сером небе, неслись, как стрелы, серые страшные облака, иногда сразу в нескольких противоположных направлениях.
Второго октября ветер упорно дул с юго-запада.
Шестого октября ветер дул порывами, иногда срываясь на шквальный.
Вдруг разъяснилось, увидели вокруг судна ужасные волны и множество смеющихся акул. А восьмого октября пришла новая буря со шквальным юго-восточным ветром, который через несколько часов повернулся с запада. Буря никак не хотела заканчиваться, она как бы только брала передышку, и опытный штурман Свен Ваксель попытался убедить господина капитана-командора, заболевшего цынгой, направить пакетбот к берегам Америки, чтобы там перезимовать, но господин капитан-командор отказался. С упорством, достойным лучшего применения, он стоял на том, чтобы идти только к Камчатке, и не дал своего согласия на поворот.
Одиннадцатого октября в природе как бы наметилось затишье, море как бы начало стихать.
Но опять обмануло.
Уже вечером двенадцатого ударили шквалы, снежные заряды, вместе перемешались дождь и ледяная крупа. А над всем этим ужасом мореплаватели отчетливо видели цветную радугу. А под радугой стоял на севере некий высокий остров, ласковый и тихий. Назвали его в честь святого Маркиана, с тем пакетбот и пронесло мимо.
От нехватки воды и провизии, от ужасной непрекращающейся качки больные стали умирать. Сам господин капитан-командор Беринг давно уже не вставал на ноги, судном управляли штурманы Стен Ваксель и Софрон Хитрово.
«В нашей команде, — вчитывался Крестинин в скопированный писцом отчет штурмана Стена Вакселя, — оказалось столько больных, что у меня не оставалось почти никого, кто мог бы помочь в управлении судном. Паруса к тому времени износились до такой степени, что я всякий раз опасался, как бы их не унесло порывом ветра. Заменить же их другими, за отсутствием людей, я не имел возможности. Матросов, которые должны были держать вахту у штурвала, приводили на вахту другие больные товарищи, из числа тех, которые были способны еще немного двигаться. Матросы усаживались на скамейку около штурвала, где им и приходилось в меру своих сил нести рулевую вахту. Когда же вахтенный оказывался уже не в состоянии сидеть, то другому матросу, находившемуся в таком же состоянии, приходилось его сменять у штурвала. Сам я тоже с большим трудом передвигался по палубе, и то только держась за какие-нибудь предметы. Я не мог ставить много парусов, так как в случае необходимости не было людей, которые смогли бы их снова убрать. И при всем том стояла поздняя осень, октябрь, ноябрь с сильными бурями, длинными темными ночами, со снегом, крупой и дождем…»
Только утром четвертого ноября с пакетбота увидели высокую, на взгляд, надежную землю.
«Невозможно описать, — сообщал Стеллер в своих записках, — как велика была радость, когда увидели землю. Умирающие выползали наверх, чтобы увидеть ее собственными глазами».
Поднялся даже больной господин капитан-командор.
Открывшаяся земля всем показалась Камчаткой, так велико было желание увидеть именно Камчатку. С пакетбота как бы узнавали окрестности Авачинской бухты, как бы видели вход в знакомую гавань, даже видели Шипунский мыс, даже маяк! Но то было ложное узнавание. На самом деле «Святой Петр» находился в виду всего лишь безымянного острова, определенного свыше Господом как последнее пристанище несчастного капитана-командора.
К моменту обнаружения острова все ванты на судне оказались перебитыми бурей, и парусами нельзя было управлять. Двенадцать человек из команды умерло, тридцать четыре оставшихся человека сильно страдали от цынги и были не способны к работе; еще десять с величайшим напряжением управлялись с судовыми делами. Все, кто мог стоять на ногах, собрались в каюте господина капитана-командора. На коротком общем собрании постановили идти к берегу, все равно, есть там удобное место для стоянки судна или нет, хотя сам господин капитан-командор Витез Беринг, поддерживаемый лейтенантом Овцыным, советовал поискать какую-нибудь гавань.
Якорь бросили в неудобном месте у открытого каменистого берега, канат тут же лопнул и пакетбот понесло на камни. Каким-то чудом волны, подхватившие судно, все же поставили его совершенно невредимо в спокойную лагуну, между грудою черных опасных камней и берегом, на небольшой глубине четырех с половиной саженей.
Это случилось пятого ноября 1741 года.
С содроганием, чувствуя ужасный ледяной холод в теле, который не уходил даже тогда, когда Иван всем телом прижимался к горячему обогревателю, он вчитывался в выписки из вахтенного журнала, веденного на пакетботе штурманом Софроном Хитрово. …«4 ноября 1741 г., 7 часов вечера. Ветер ONO, курс N, у марсели взяли последний риф, ветер крепчает. 4 ноября 1741 г., 10 часов вечера. Закрепили грот-марсель, умерших солдат Давыдова и Попова спустили в море. 5 ноября 1741 г., 2 часа ночи. Умер гренадер Иван Небаранов. 5 ноября 1741 г., 3 часа ночи. Ветер NOO, курс NW, больных при команде 33 человека. 5 ноября 1741 г., 7 часов утра. Капитан-командор со всеми обер- и унтер-офицерами и рядовыми служителями учинил консилиум, чтобы идти к видимой нами земле, за не возможностью управления судна работными людьми и худости такелажа, а так же за неимением провианта и воды. Окончив консилиум, поворотили фордевинд и пошли WZW. 5 ноября 1741 г., 9 часов утра. Осмотрели, что грот-ванты на правой стороне все перервались под свицсарвинем, чего ради спустили грота-реи. 5 ноября 1741 г., 2 часа дня. Поставили грот-марсель. 5 ноября 1741 г., 5 часов дня. В исходе сего часа пришли на глубину 12 сажен, положили дагликс анкарь, отдали каната три четверти. 5 ноября 1741 г., 6 часов дня. В половине сего времени порвался у дагликс анкаря канат около 80 сажен, отчего нанесло нас на бурун, где было воды 5 сажен; в скором времени перенесло нас через бурун ближе к берегу на глубину четыре с половиной сажени; здесь мы положили плехт анкарь, отдали каната три четверти; пеленгов за темнотою взять было невозможно…»
Иван вновь всей спиной прижался к горячей печи.
Вспомнил: свицсарвень — это строп, стягивающий нижние ванты, а дагликс анкарь — левый становой якорь, соответственно, плехт — правый. Привычные когда-то слова звучали странно. Почувствовал, сейчас они из другого мира. Смутно ощутил, что сейчас они совсем из другого мира, в который он, Иван Крестинин, бывший секретный дьяк, уже, наверное, никогда не вернется…
Утром шестого ноября спустили единственную оставшуюся на борту шлюпку, на которой натуралист Георг Стеллер, а с ним несколько больных съехали на берег. Первая охота принесла полдюжины куропаток, а потом Стеллер счастливо наткнулся на куст настурциевых трав, которые сразу были отправлены на пакетбот как противоцынготные. Всю ночь натуралист и его спутники провели на берегу, обнаружив, к печали своей, стадо крупных морских коров. К печали потому, что все знали — у берегов Камчатки такие морские коровы не водятся.
Восьмого ноября стали перевозить больных на берег и размещать в землянках, покрытых обрывками парусов. Перевезли на носилках и господина капитана-командора Витеза Беринга. Двенадцать человек матросов скончались еще во время плавания, а из тех, которые остались живы, девять человек умерли во время перевозки на берег.
Четырнадцатого ноября штурман Софрон Хитрово, остававшийся на пакетботе, записал: …«Маловетрие, пришел бот с берегу, привезена на нем 1 бочка воды и повезли на нем на берег больных меня да служителей 7 человек, притом померло на пакетботе служителей, которые намерены были ехать на берег — матроз Иван Емельянов, канонир Илья Дергачев, сибирский солдат Василий Попков да при выходе с бота на берег умер матроз Селиверст Тараканов…»
И дальше: …«От морозу кругом судна и на судне такелаж весь обмерз льдом. На берегу при свозе с пакетбота умер сибирский солдат Савва Степанов…»
«19 ноября, — записал в журнале Софрон Хитрово, — я еще оставался на борту с семнадцатью людьми, в большинстве тяжело больными, и с пятью мертвецами. У меня на борту было лишь 4 ведра пресной воды, а шлюпка находилась на берегу. Я дал сигнал бедствия, поднял на вантах грот-мачты красный флаг, а на гафеле вывесил пустой бочонок из-под воды и одновременно дал несколько выстрелов из пушки. Из этих знаков находившиеся на берегу люди могли усмотреть, что я нуждаюсь в пресной воде; однако ветер дул с такой силой от моря к берегу, что они не могли на шлюпке выгрести и добраться до корабля.
Я приказал бросить покойников в море.
На наше счастье ночью выпал такой обильный снег, что можно было собрать его с палубы и заменить недостающую пресную воду.
Я оставался на корабле до 21 ноября, когда, наконец, прибыла лодка. Меня на руках перенесли в эту лодку, а затем доставили в ту же землянку, где находились остальные больные. Люди, находившиеся со мной на борту корабля, тоже были свезены на берег. За несколько дней до этого я переселился, ради тепла, в камбуз, так как видел, что многие из наших людей, как только их головы показывались из люка, немедленно умирали, словно мыши, из чего стало мне ясно, какой опасности подвергаются больные, попадая из духоты на свежий воздух; в виду этого при переезде на берег я принял некоторые меры предосторожности. Я покрыл свое лицо почти целиком теплой и плотной шапкой, а другую такую надел себе на голову, и все же на пути от камбуза до фалрепа три раза терял сознание. Я вполне уверен, что если бы не сумел предохранить себя вышеописанным способом от соприкосновения со свежим воздухом, то неизбежно умер еще на корабле, так как силы мои уже подходили к концу…»
Судя по запискам натуралиста Георга Стеллера, больной господин капитан-командор Витез Беринг и на берегу казался спокойным. Он даже спросил натуралиста, как он думает, что это за земля? По окончательному мнению Георга Стеллера, вряд ли это могла быть Камчатка, потому как звери, например, песцы, на берегу совсем не боялись человека. Правда, казалось, что и Камчатка не должна быть далекой — растительность была такой же, как на полуострове, а затем на берегу была найдена оконная ставня из тополевого дерева, очевидно русской работы, уже совсем точно принесенная течением с устья реки Камчатки.
«Может, Кроноцкий нос?» — спросил господин капитан-командор.
Но и в этом Георг Стеллер сильно сомневался.
Он, например, нашел ловушку на лисицу, зубья которой сделаны были не из железа, а из простых раковин. Такую ловушку, считал Георг Стеллер, могло принести волнами только из Америки, потому как на Камчатке давно известно железо. А главное, морские коровы…
Первого декабря Софрон Хитрово записал: …«Посылан по берегу от капитана-командора Беринга матроз Тимофей Анчегов и с ним 2 человека служилых для уведомления и краткого осмотра земли, на которой мы обретаемся, матерой ли она берег или какой остров, и есть ли где на ней лес…»
Восьмого декабря, за два часа до рассвета, господин капитан-командор Витез Беринг, начальник Камчатской экспедиции скончался, наполовину засыпанный в темной землянке текущим с настила мелким песком, который он даже не позволял с себя отгребать, чувствуя себя под ним как бы в тепле. Господина капитана-командора Витеза Беринга похоронили в земле по протестантскому обряду.
Крестинин перекрестился.
После смерти Беринга в командование оставшимися людьми вступил лейтенант Свен Ваксель. Впрочем, все решения принимались на общих собраниях, на которых присутствовали как офицеры, так и унтеры и рядовые служители. Постановления проводившихся собраний также подписывались всеми присутствующими. Софрон Хитрово записал: «Людей в таком бедственном состоянии приневолить к какой-либо команде было вовсе не безопасно». А по словам лейтенанта Свена Вакселя, нельзя было распознать, «…кто является господином, а кто слугой, поскольку уже не было разницы ни между кем, ни между чем — ни у слуги с господином, ни у подчиненного с командиром, ни в почтении, ни в работе, ни в пище, ни в одежде, и офицеры и господа, лишь бы на ногах шатались. Одинаково по дрова и на промысел пищи бродили и лямкою на себе таскали, и с солдатами и с слугами в одних артелях были».
«В одних артелях были…»
Оставив бумаги, Крестинин подошел к окну.
В ночи несло снег, что-то мелькало, может, фонарь, понять было невозможно.
На секунду представил тьму промерзлой землянки, гнилой парус, свешивающийся к лицу, услышал змеиное шипение ползущего с настила мелкого песка, почувствовал могильную тяжесть на теле… А я-то! — ужаснулся. Я столько лет бродил в темноте, по собственной глупости, по непониманию. Все ждал чего-то — вот завтра!.. Все ждал, вот завтра случится что-то такое счастливое!.. А ничего счастливого не случалось… Гнусные кабаки, скрип телег, рожи варначьи, а то ужасное холодное море, дующее туманом, или стрелы дикующих, свистнувшие над головой.
Ради чего жил? …Кенилля…
Не утонул в море, не пал от стрелы, не умер в пути от непосильных усилий, не был убит хорошими мужиками… Ну и что?… Герой известной гистории сын мелкого дворянина некий Василий, получив родительское благословение, сам, по своей воле, отправился на модную тогда службу матрозом, быстро и по собственному хотению овладел большими знаниями в Кронштадте, а потом поехал в Голландию — изучать арихметические науки и разные языки. Даже у разбойников, среди которых томилась флорентийская королевна, Василий не растерялся. Так оказался ловок, ну прямо Козырь, которого воры тоже выбрали атаманом…
А он? Крестинин? …Кенилля…
Вот долго искал убийц прикащика Волотьки Атласова. Пусть не всегда удачно, но искал, искал. А один из тех, кто ткнул Волотьку ножом, некий убивец Пыха, а на самом деле хороший мужик Похабин, много лет шел рядом, и даже, случалось, спасал Ивана от смерти!..
Как это понять? …Кенилля…
Ткнулся лбом в заледеневшее окно.
Прав, прав, трижды прав оказался сендушный старик-шептун! Всю жизнь он, Иван Крестинин, бывший секретный дьяк, ходил не там и не по своей воле!
Ужаснулся: да как так? Разве не из-под его ног рушились камни на краю бездны? Разве не он умирал от жажды в байдаре? Разве не он пересекал новую землю Камчатку из края в край, плыл на бусе на юг, и ветром был возвращен обратно?
Вспомнил: не один шел.
Шли рядом, а то впереди, чугунный тайный человек господин Чепесюк… И вор рыжий Похабин… И неукротимый маиор… И гренадер Семен Паламошный с его ложным провидческим даром… И монстр бывший якуцкий статистик дьяк-фантаст Тюнька… И нымылан Айга, сердешный друг, ругавшийся на глупого камчатского бога Кутху… Много их было. А он много не понимал.
Да и как понять?
Обожгло сердце тоской. Да неужели чужую жизнь прожил?
Перевел взгляд на бумаги: …«…Померло на пакетботе служителей — матроз Иван Емельянов, канонир Илья Дергачев, сибирский солдат Василий Попков да при выходе с бота на берег умер матроз Селиверст Тараканов. …От морозу кругом судна и на судне такелаж весь обмерз льдом. На берегу при свозе с пакетбота умер сибирский солдат Сава Степанов. …Оставался на борту с семнадцатью людьми, в большинстве тяжело больными, и с пятью мертвецами. …Людей в таком бедственном состоянии приневолить к какой-либо команде было вовсе не безопасно».
Так неужто это и есть настоящая жизнь?
Обожгло сердце. Больше не мог смотреть ни в ночное иемное окно, ни в казенные бумаги. Прямо изнемог в тоске. Умирал от ужаса и отчаяния. Крикнул отчаянно:
— Похабин!
Явилось из тьмы помятое лицо рыжего неодетого Похабина (опять напился, скотина), глянуло на Крестинина, и показалось вдруг, что это не рыжий хороший мужик преданно и с любовью смотрит, а сам нечестивый есаул Козырь, беспутный мерзкий монах брат Игнатий.
— Чего, барин?
Запустил с гневом в Похабина башмаком. Как скажешь такому преданному, что он вор? Он ведь даже и не догадывается, что барин давным давно знает, чьими ножами был зарезан на Камчатке государев прикащик Волотька Атласов, и кто такой был на Камчатке Пыха. Крикнул в тоске:
— Дурак, водки!
И стал он пить
…Будто предчувствуя бурную волну бесчисленных русских промышленных людей, исследователей и авантюристов, сёгунат Токугавы еще в 1638 году закрыл для иностранцев вход в Японию. Только немногие голландские и китайские купцы в виде исключения могли торговать на маленьком островке Дэсима, лежащем в бухте Нагасаки.
Новосибирск, 1994-1997