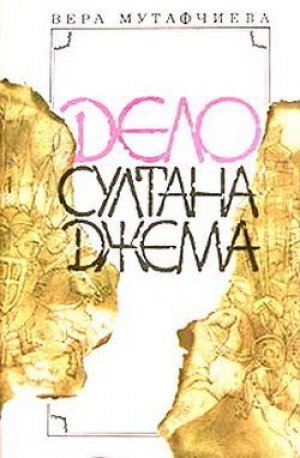
Предисловие
Имя султана Джема давно забыто, а между тем несколько сот лет назад оно было у всех на устах. В ту пору – сотни лет назад – о Джеме слагали стихи и писали романы, ему посвящались бы и газетные подвалы, существуй газеты и газетные подвалы в его времена; о Джеме слагали песни странствующие певцы. В семнадцатом веке не найти темы более напряженной, более волнующей, чем история Джема (или Зизима, как его называли на Западе).
Как это часто бывает, для писателей и поэтов Джем явился лишь поводом, канвой, по которой они вышивали узор собственных измышлений. Для семнадцатого столетия Джем был злосчастным узником и коварно обманутым возлюбленным благородных дам, так же, как и он, томившихся в заточении; они видели в Джеме кристально чистого юношу, жертву придворных интриг и людского жестокосердия.
То был, по сути, не настоящий Джем, а герой семнадцатого столетия. Он с одинаковым правом мог бы носить любое другое имя, однако имя Зизим имело свои преимущества: оно было восточным, нашумевшим, окруженным ореолом таинственности.
Пошумел и отшумел романтичный страдалец Зизим. Восемнадцатый век привел с собой иных героев; и уж совсем иных – век девятнадцатый. Что ж побуждает нас сегодня вернуться к Джему?
А то, например, что тайна Джема и по сей день не раскрыта. Правда, спустя четыре года после смерти тело его было вырыто из могилы в доказательство того, что Джема не существует более. Однако нам важна не смерть его, а жизнь, подлинная его жизнь, которую в свое время никто не пожелал описать.
Мы возвращаемся к Джему еще и потому, что он был не просто печальной жертвой людей и обстоятельств Судьба Джема показывает, что некоторые истины отнюдь не новы, что они сохранили значение и для нашего времени; что есть истины великие, вечные, чему свидетельство – человеческая история. Скажем, та истина, что между человеком и его родиной существует сложная связь, правда пока еще не нашедшая точного определения («Без корня и полынь не растет»,– говорят одни, а другие противопоставляют этому: «Нет пророка в своем отечестве»); однако истина эта бессмертна, и пока существуют на земле люди, пока у человека есть родина, будет существовать и тема – судьба изгнанника.
И по третьей причине возвращаемся мы сегодня к Джему. В его судьбе на протяжении полутора десятилетий – в самом конце пятнадцатого века – с полной очевидностью выявились подлинная сущность и противоречия европейской восточной политики. Позже «дело Джема» назвали «началом восточного вопроса» – вероятно, по праву.
Следует понять, что «восточный вопрос» начался не с продвижения России к теплым морям и не с усилий Запада помешать этому продвижению, а с усилий того же Запада задержать развитие европейского Востока, бросив его на произвол судьбы, предав многовековым страданиям. Никогда освобождение только что порабощенных Балкан не было столь легко достижимым, как во времена Джема. Запад пренебрег этой возможностью не случайно. Некоторые полагают – по ошибке, плохо рассчитав. Неправда – расчет был точен. Этому расчету мы «обязаны» очень многим. Говоря в самых общих чертах – своим запоздалым развитием; о перенесенных страданиях упоминать не станем: в истории нет места сантиментам.
Вот по этой-то, главным образом, причине мы и возвращаемся к судьбе султана Джема. В течение весьма длительного времени нас пытаются убедить, что события на Балканах, завершившиеся их балканизацией (термин, в котором если и нет прямой обиды, то снисходительность присутствует безусловно), были исторически предопределены. Что, мол, поделаешь! Кто виноват, что Балканы являются преддверием Востока и принимают на себя все нашествия варваров. Мы-де понимаем вашу боль, по география есть география, она вне человеческой воли.
Нас, видите ли, понимают, Однако, зачем нам скрывать, что мы тоже кое-что понимаем? Понимаем, например, что в «деле султана Джема» (как в любом другом деле) не следует искать ни исторического предопределения, ни географических факторов. В действительности за ним стояла воля некоторых людей, направлявших «восточный вопрос» в самых его истоках. Этим людям сыграли на руку и географические факторы, и предопределенность. Они умело использовали и то и другое.
В сущности, все не столь уж сложно. И мы и наши оппоненты отлично знаем, что в человеческой истории нет места состраданию. После того как нас обрекли на все то, что благопристойно называют «историческим предопределением», излишне делать благопристойный вид. Наше печальное преимущество в том, что мы можем оаскрыть правду о «деле султана Джема».
Свидетели по этому «делу» давно мертвы, но при современных методах судопроизводства несложно заставить говорить и мертвых, коль скоро речь идет о деле крупном. Вряд ли они станут противиться, им – что! Они могут ожидать лишь приговора истории. Этот приговор никому не причинит вреда, поскольку выносится он заочно и условно.
Вера Мутафчиева
Часть первая
Показания Великого визиря нишанджи[1] Мехмед-паши о событиях с 3 по 5 мая 1481 года
Рано утром, чуть свет, меня разбудил чей-то голос. Я вскочил в испуге – великого визиря не станут будить из-за пустяка.
Уже поднявшись, попытался я разглядеть того, кто ко мне ворвался. В полутьме с трудом узнал его: это был один из юных телохранителей султана.
– Что случилось? – спросил я. Мехмед-хан приучил нас к подобным неожиданностям; сам он, казалось, никогда не спал.
– Паша, – отвечал он, – этой ночью почил Мехмед-хан.
Я обмер. Всем нам известно, что судьба шествует своими путями и подносит человеку то, чего он менее всего желает, но это было уж чересчур: Мехмед-хан не мог избрать для смерти более неподходящий час.
Все то, что побудило меня предпринять те или иные действия – я говорю о предпринятом мною между 3 и 5 мая, – тогда еще не определилось как мысль или решение. Я лишь понимал, что Мехмед-хану не следовало умирать, что его смерть очень многое изменит в моей судьбе, в судьбе всех нас, нашего государства, всего мира. Эти еще смутные соображения заставили меня приказать телохранителю:
– Молчи! Будь нем как могила! Кому известно о случившемся?
– Мне… и постельничему султана… – ни жив ни мертв, проговорил юнец. Он знал, что его слова означают смертный приговор им обоим.
– Оставайся здесь! – бросил я ему через плечо. Потому что следовало распорядиться насчет постельничего.
Я послал за ним Юнуса, моего немого суданца.
Пока я одевался, он уже привел его ко мне, крепко держа за шиворот.
– Покончи с ними немедля, здесь же, в моем шатре! Только отверни ковер, чтобы не забрызгать! Потом запихнешь под мое ложе, а вечером зароешь где-нибудь!
Пока я наматывал чалму и пристегивал ремень с оружием, немой Юнус прикончил обоих и все сделал, как я велел.
«Идем!» – жестом приказал я ему следовать за мной.
Помню, я удивился, что день еще не наступил. Короткий промежуток между известием, принесенным телохранителем, и его собственной смертью показался мне несколькими часами. Я окинул взглядом лагерь. Лагерь спал. «Это хорошо!» – подумал я. Шатры раскинулись далеко, куда хватал глаз. Двести тысяч воинов, собранные от Сербии до Персии, кто – правоверный, кто – нет, вступившие в войско и по своей воле и против воли, спешили урвать последний час сна перед походом. Да, прошел слух, что именно сегодня мы выступим в поход.
Вы спросите: куда? Не знаю, как, судя по всему, не знаете и вы – за пять столетий так и не сумели доискаться, куда именно намеревался Мехмед Завоеватель повести свои войска в то утро, не заставшее его в живых. Я вижу, вас раздражает это белое пятно в ваших познаниях. А мы были к тому привычны, неизвестность не тяготила нас, ибо мы во всем полагались на великого Мехмеда Второго. Человека, которому никогда не изменяло боевое счастье.
«Идем!» – вторично кивнул я Юнусу, и мы стали пробираться между шатров. Через полотнища было слышно, как глубоко и спокойно, храпя на сотни голосов, спит наше войско. Все эти люди, возмужавшие или состарившиеся в битвах, вверили свою судьбу Завоевателю. А его уже не было на свете.
Я даже не пытаюсь объяснить вам, что означала для нас его смерть. Время Мехмеда Завоевателя не походило ни на какое другое, и вы, мнящие себя знатоками Османской державы, не подозреваете, что некогда, хотя и непродолжительно, она была совсем иной.
Скажу главное: в наше время и в нашем мире люди поклонялись двум пророкам – Мухаммеду или Иисусу. А у Мехмед-хана был еще и свой пророк – Победа. Во имя Победы он не останавливался ни перед чем. Не остановила его даже святая наша церковь, пред которой склонялись такие исполины, как Осман и Орхан. Мехмед Завоеватель одним мановением руки отнял у нее все земельные владения и превратил их в сипахские наделы,[2] чтобы создать войско, какого не знал мир. Он получил это войско и вместе с ним – непримиримую ненависть наших священнослужителей. Однако могущество Мехмед-хана было столь велико, что он мог повернуться спиной к этой ненависти, более того: его спина – квадратная, одинаковая в высоту и ширину – даже внушала почтение этой ненависти.
Для Завоевателя не существовало правоверных или гяуров.[3] Каждый желавший и способный служить ему был принят в Стамбуле, во дворце Топкапу. Когда Мехмед-хану не удалось взять Родос, он объявил всей Европе, что ищет искусного мастера, который бы составил и вычертил план успешной осады острова иоаннитов. Из многих десятков немцев, англичан и французов (уморительно было видеть их в Топкапу, как они толпились там со своими свернутыми в трубку чертежами, по-ярмарочному пестро разодетые, перекрикивая друг друга на всех мыслимых наречиях) награды удостоился некий мастер Георг из Пруссии. Мехмед-хан осуществил его план, не пожалев золота, и еще столько же золота высыпал на этого Георга – полного его имени никто так и не узнал, не имелось надобности.
Завоеватель сумел убедить нас (во всяком случае, заставил удержаться от возражений), что победа превыше всего, а к ней не придешь, если спотыкаться о запреты, страх или совестливость. Человек без предрассудков – так назовете вы Мехмед-хана. Вопреки вашим представлениям в его времена людей без предрассудков было множество, но никто не довел это свойство до такого совершенства, таких высот, как Мехмед Завоеватель. И в тот предутренний час в нашем стане спали рядом в двух соседних шатрах или даже в одном и том же шатре правоверные, неверные и еретики – их свело вместе одно лишь имя Мехмед-хана.
«Одерживали бы мы победы без Мехмед-хана?» – потерянно размышлял я, все еще не зная, что предпринять, а пора уже было принимать решение.
Двое секироносцев пред султановым шатром расступились – я обладал правом входить к султану и не будучи позванным.
Внутри было не совсем темно. Благодаря карминным полотнищам в шатре был разлит красноватый сумеречный свет. Десяток шагов до полога, за которым находилось ложе нашего повелителя, я прошел на цыпочках – словно шел на грабеж или что-либо еще более скверное. И полог отодвинул тоже как бы крадучись.
Мехмед-хан недвижно покоился на тигровых шкурах, но с первого взгляда было видно, что он погружен не в сон. Напряженное лицо его выражало боль и тревогу.
Я склонился над ним.
На портретах, показанных мне сейчас вами, Мехмед-хан не очень похож на себя. Видимо, рисователи вознамерились, коль скоро не в их власти поразить вас красотой султана, представить его внушительным. А он, поверьте мне, был не таким.
Прежде всего – смехотворно низкого роста. Говорят, именно такие, до смешного низкорослые люди отчаянно честолюбивы. Мехмед-хан очень страдал из-за своего роста. При каждой встрече с ним я видел, как он – владыка одной половины мира и гроза второй – сидит всегда выпрямившись, а советников своих сажает на пол, чтобы казаться на голову выше их.
Есть люди низкорослые, но ладно скроенные, их низкорослость сходит за изящество. Иное дело мой государь. Он был уродлив и нескладен – мир праху его! Словно из того количества плоти, что потребно для создания высокого, крупного человека, аллах слепил низкого, сплющив его сверху вниз. Мехмед-хан не мог обхватить руками живот; когда он сидел, ноги у него не доставали до пола, они качались и дергались при каждой столь частой у султана вспышке гнева или веселья. У этого человека одно настроение внезапно сменялось противоположным – мне казалось порой, что в крепко сбитом теле чересчур много крови, она словно билась в слишком тесном для нее сосуде, вызывая судороги, предвидеть которые никто не умел.
Уродливым – прости меня, всемогущий аллах! – было бы и лицо нашего повелителя, если бы оно не освещалось необыкновенно подвижным, острым и глубоким умом. Воистину человек, наделенный мудростью, не может выглядеть уродливым, не бывает так. И хотя создатель наградил нашего султана лицом, вытянутым в ширину больше, чем в длину, хотя его жирный подбородок складками ложился на грудь, хотя тонкий с горбинкой нос выглядел несоразмерным очень маленькому рту почти без верхней губы при толстой нижней, а глаза напоминали дырочки в простреленной мишени – при всем том лицо Мехмед-хана не было уродливо.
В то утро, распростертый на тигровых шкурах, откинув назад голову с редкой и, как проволока, колючей рыжей бородой, Мехмед-хан внушил мне трепет. Должно быть из-за того выражения, о котором я вам уже говорил.
Я взял его руку – мне все еще не хотелось верить наихудшему. Она была непомерно тяжела и шевельнулась вся, не сгибаясь. Я вдруг спохватился, что пробыл тут слишком долго. С трудом собрался с мыслями и с еще большим трудом пришел к решению.
– Юнус, – сказал я, выйдя из шатра и к ужасу своему увидев, что лагерь начал просыпаться. – Приведи носильщиков Мехмед-хана!
Они вскоре явились с позолоченными носилками султана. Я велел им войти в шатер, что-то несвязно пробормотав о болезни Мехмед-хана и о том, что боли усиливаются, когда он пытается спустить ноги. Когда я, стараясь придать себе ледяное спокойствие и решительность, приказал посадить Мехмед-хана в носилки, они переменились в лице.
Это было нелегко. Мехмед-хан и при жизни был тяжел, а мертвый он весил вдвое больше. С превеликими усилиями просунули мы его в дверцу – он противился, успев уже похолодеть. Мы положили его поперек носилок, кое-как прикрыли расшитым халатом и задернули занавески. Однако не совсем плотно. Я хотел, чтобы в щель проглядывала часть лица султана и одна рука.
При первых же шагах носильщиков рука стала мерно раскачиваться, так что издали казалось, будто Мехмед-хан приветствует свои войска.
Даже врагу не пожелал бы я очутиться на моем месте в то раннее утро 3 мая. Я ехал справа от носилок, время от времени наклоняясь к дверце, словно для того, чтобы что-то сообщить султану или выслушать его повеление; впереди ехали верхом секироносцы-караульные (я нарочно приказал ехать всем тем, кто, возможно, заподозрил обман), а позади – два отряда янычаров.
Опаснее всего было ехать по лагерю. Тут находились те, кто поднял бы мятеж, узнай они о смерти повелителя. Точно по горящим углям, продвигался я между шатрами. Тысячи шатров – казалось, им не будет конца. Но вот полотняный городок остался позади, в часе пути от нас белели минареты Юскюдара, а за ними, на другом берегу, выплывал из утренней дымки Стамбул.
«Аллах, поддержи меня в день сегодняшний!» – взывал я. После пережитого ужаса я обессиленно обмяк в седле. Но вдруг меня пронзила мысль: можно ли считать, что опасность миновала, когда истинная опасность впереди?
Вы можете на это возразить, что для первого советника султана, второй особы в империи, такой день всегда тяжек – день смены властителей. Вы правы, но лишь в известной мере, ибо у нас все это бывает по-особому и гораздо сложнее. Как правило, после смерти султана войска поднимают бунт; каждый, кто мечтал надеть халат визиря, раздает янычарам и церкви все свое состояние, чтобы расположить их, привлечь на свою сторону, не упустить этого дня междуцарствия.
Немногим нашим великим визирям удавалось уцелеть после такого дня, их можно пересчитать по пальцам. Как я ни подбадривал себя, мне не верилось, что я буду в их числе. Не надежда выжить – иные причины побуждали меня спешить в Стамбул. Я знал, что за те несколько часов, которыми я, нишанджи Мехмед-паша, располагал, в моей власти решить будущее империи. Точнее: сохранить и продолжить дело моего великого повелителя.
Не я один предвидел угрозу, о ней знали многие. Но я не мог рассчитывать, что кто-нибудь (кроме, простите, меня) не пожалеет собственной жизни, чтобы помешать почти неизбежному: возврату к временам, предшествовавшим царствованию Мехмед-хана.
Я уже говорил – наши священнослужители были ущемлены законами Мехмед-хана. Они воспользовались бы его смертью. И у них было на кого ставить. На законнейшем основании, даже не прибегая к насилию. Они опирались на старшего сына султана – шехзаде[4] Баязира.
Я рад тому, что история подтвердила мое мнение о Баязиде Втором, прежде я не осмеливался его высказывать. Впрочем, вам больше, чем мне, известно о Баязиде, я не был свидетелем его царствования. Но даже как шехзаде он, казалось мне, был не на месте. Не могу точно определить, отчего он вызывает во мне неприязнь, он прекрасно относился и ко мне, и к остальным столпам империи. Много говорилось и о его талантах – он слыл отличным, непревзойденным стрелком из лука, знатоком богословия и звездочетства.
А еще шла молва о том, что таланты шехзаде были на виду, даже выставлялись напоказ, тогда как другое – его пороки – держались в тайне. Но кто мог допустить, что у него есть пороки? В ту пору совсем юный, он имел одно огромное достоинство – самообладание. В отличие от своего отца он при посторонних никогда не проявлял гнева, не предавался плебейской веселости, у Баязида никогда нельзя было понять, что ему по душе, а что вызывает раздражение. Вот эта искусная увертливость и отвращала меня. Разумеется, не меня одного, хотя история видит во мне чуть ли не единственного его противника.
Я находил близорукими тех янычарских военачальников, мулл и кое-кого из отставленных визирей, кто преклонялся перед Баязидом. «Такой, как он, – думалось мне, – способен обмануть даже родную мать» (должен, кстати, напомнить, что и по сей день неизвестно, кто она, Баязид никогда не оказывал ей почестей, не произносил ее имени, а сам Мехмед-хан позабыл свои юношеские увлечения). Священнослужители, видимо, рассчитывали, что человек, причастный к божественным наукам и верный учению пророка, избавит их от унижения и нищеты, в которые они были ввергнуты Завоевателем. Именно эти надежды наводили меня на мысль, что благочестие Баязида, как и все прочее в нем, преднамеренное.
Свою оценку будущего нашего повелителя я составляю не сейчас, после того, как он стал достоянием истории. Она сложилась у меня еще в ту пору, когда Мехмед-хан отправил своих сыновей, одного – в Амасью, другого – в Конью, правителями провинций, бейлербеями. По-разному истолковывали это: одни видели в решении султана страх перед сыновьим заговором и междоусобицами, другие – желание, чтобы его юные отпрыски постигли премудрости правления. Сдается мне, я лучше других понимал моего повелителя. Мехмед-хан так любил жизнь и все, что он брал от нее и что намеревался взять впредь, что ему не хотелось видеть перед глазами свой приговор – собственных сыновей, ждущих смерти отца, чтобы самим стать государями. Однако некая подробность – Мехмед-хан оставил своих внуков в Стамбуле в качестве заложников – вынуждала меня в известной степени верить слухам. Мехмед-хан не полагался на случай; он всегда был вершителем своей судьбы и, даже на вершине могущества, не переставал ни на миг заботиться о своей безопасности.
Несмотря на свою неприязнь к Баязиду, чье восшествие на престол – у меня не было в том сомнений – вернуло бы нас далеко назад, в тот день я был обязан сообщить ему печальную весть и удержать столицу до той минуты, когда он явится и возьмет власть в свои руки.
На первый взгляд – совсем просто. Даже вспыхни в Стамбуле мятеж, никто бы не ссудил меня, ибо мятеж был неизбежен. Что же тогда тревожило меня, спросите вы. Не могу утаить, ведь это обнаружилось всего днем позже: я не хотел, чтобы султаном стал Баязид.
Вы даете мне понять, что не мое дело было решать, кто булет турецким султаном. Я знал это. Но все мы слишком были связаны с Мехмед-ханом, с делом его жизни, отдали ему свои лучшие годы, свою кровь. Кто докажет мне, что дело, столь дорого мне стоившее, не мое дело?
И кроме того, признаюсь, утром 3 мая я еще пытался перехитрить судьбу. В том, что я скрывал смерть Мехмед-хана, не следует видеть непокорство шехзаде Баязиду. Напротив, он должен быть мне благодарен за то, что я оттянул бунт янычаров, дал ему время занять престол.
Мы прибыли в Юскюдар, на берег Босфора. Я нарочно приказал носильщикам и секироносцам оставаться на плоту рядом с носилками. Оба отряда янычаров следовали за нами в нескольких больших лодках.
Улицы были почти безлюдны. Войско стояло лагерем в Ункяр-чаири, а мирных жителей в Стамбуле насчитывалось тогда очень мало. Город еще не оправился от длительных осад, завершившихся его падением.[5] Редкие прохожие при виде носилок кланялись до земли. Тяжелая рука Завоевателя раскачивалась, словно приветствуя их; я от усталости с трудом держался в седле и молил небо поскорей привести нас в Топкапу.
Стража засуетилась, и ворота дворца распахнулись перед нами. Миновав три пустынных двора – части дворцовой стражи тоже находились в Ункяр-чаири, – мы наконец оказались пред личными покоями султана.
Со мной снова были только Юнус и оба секироносца. Я приказал вынуть труп из носилок и отнести на султаново ложе. Заперев двойным поворотом ключа двери высочайших покоев, я почувствовал, что с моих плеч свалилась огромная тяжесть.
Секироносцы и Юнус ожидали меня. Молча указал я им на новое здание казнохранилища. Я знал, что оно пусто – Мехмед-хан еще не успел перевезти сюда свою казну из Эдикуле. Все сопровождавшие султана в последнем его пути один за другим вошли под темные своды хранилища. Я запер и эту дверь, а ключ повесил рядом с первым у себя на поясе. Все!
Только тогда, помнится, почувствовал я, как дрожат у меня руки и ноги, меня просто била лихорадка. Что я выиграл благодаря приложенным усилиям? Многое. Время. И надо было разумно распорядиться этим выигрышем.
Оба письма я написал в дворцовой прихожей, собственноручно. Никогда прежде не доводилось мне писать так много – для этой работы мы держали писцов. Помню, закончив первое из них, я долго сидел в полумраке прихожей. Собирался с силами для второго – смертного приговора самому себе. Какой бы из двух сыновей султана ни занял престол, ни тот ни другой не простят мне, что я написал одновременно два письма, что вел двойную игру.
Я уже почти решил ограничиться первым – к Баязиду. «Отчего не остановиться на этом?» – рассуждал я, хорошо зная, что не остановлюсь. Успех Баязида все равно означал для меня смерть, ведь я принадлежал к сипахам, был причастен к тем мерам, которыми Мехмед-хан ущемлял святую нашу церковь. Иными словами, мой выбор почти ничего не решал; так или иначе песенка моя была спета.
Когда эта мысль дошла до моего сознания, мне стало легче. И я очень быстро составил второе письмо. Коротенькое, всего в несколько слов. Спрятал его под халат) и вышел за дверь, держа в руках только один свиток. Гонец сыскался тут же: это был преданный мне человек, к тому же не знавший грамоту. Он поскачет в Амасью, сменяя лошадей на каждой заставе. «На каждой заставе», – повторил я. По моим расчетам это должно было занять одиннадцать дней.
Второго гонца я искал дольше, ни один не казался мне достаточно надежным, чтобы доверить ему мою жизнь. Пока меня не осенило, что лучше всего справится с поручением немой Юнус. Я вывел его одного из казнохранилища, расстегнул на нем одежду и прилепил к его черной коже свое письмо.
– Живым или мертвым, – я шептал Юнусу в самое ухо, а мне казалось, будто слышно на весь Стамбул, – но лучше живым доберись в Конью! Сменяй лошадей не только на заставах, а каждые три часа! Избегай встреч, прячься хоть под землю! За неделю доскачешь в Конью. Вот тебе деньги, много денег, раздавай кому потребуется. Но и знака не подавай, что это я послал тебя, слышишь? Ты меня знать не знаешь, ты ничей! В Конье спросишь Джема.
С самого утра ни разу, пожалуй, даже мысленно, не решался я произнести это имя (Джем!), хотя и молил аллаха о помощи ради Джема, ради великого дела Мехмед-хана. «О аллах, сохрани и защити черного моего раба! Сохрани и защити своих воинов! Что значит роптанье нескольких сотен мулл и судей – из-за того, что у них была отнята кость? Не молитвы нужны тебе, о аллах, а победа истинной веры. Мы принесем тебе эту победу!»
Вероятно, никогда прежде не молился я так горячо, всем сердцем, как в тот день. И должен тут же добавить: мои молитвы не были услышаны. Быть может, аллаха и вправду сильно прогневали дерзость Мехмед-хана и нищета нашей церкви.
В последовавшие за тем часы я был ни жив ни мертв. Я двигался, говорил, отвечал на вопросы, а сам был далеко. Всеми своими помыслами я был рядом с Юнусом.
Да, верно, аллах покарал меня за вмешательство в мировые события, но кое от чего он меня все же избавил: от длительного ожидания. Оно окончилось уже к исходу следующего дня.
Сидя взаперти у себя в конаке[6] (я старался поменьше быть на глазах у людей), я вдруг услыхал далекий шум, почти неуловимый, можно было даже подумать, будто тишину нарушили случайные нестройные звуки. Однако я уже весь обратился в слух, так что меня это не обмануло: на улицы Стамбула вступило войско. Какое? То, что находилось в Ункяр-чаири, другого не было. Значит, в лагере прослышали о смерти Мехмед-хана и заторопились в столицу, чтобы не упустить случая пограбить и пожечь. Мои старания отгородить Азию от Европы остались тщетными – накануне я отдал приказ, чтобы ни один корабль не пересек пролива, ни туда, ни обратно.
Я ожидал, что еще до наступления вечера переселюсь в лучший мир в качестве первой жертвы мятежа. Но аллах пожелал, чтобы я искупил свою вину еще одной ночью страданий. Всю ночь напролет слушал я вопли, доносившиеся из Еврейской и Греческой слободы, всю ночь смотрел на отблески пожаров в водах Босфора. О бегстве я не помышлял – мой конак был оцеплен янычарами. Но если бы и не было их, заверяю вас, я бы не пытался бежать. Зачем? Чтобы неделей позже умереть по приказу нового султана? Стоило ли?
Как это ни кажется вам невероятным, я не пытался бежать и по другой причине: коль скоро события приняли именно такой оборот, мне действительно полагалось умереть. Потому что я был частью Мехмедова царствования, потому что мне не нашлось бы места в державе Баязида. Меня бы не стали терпеть, и я бы не мог вытерпеть.
Я встретил смерть – смею утверждать это – с полной невозмутимостью. Меня мучила лишь мысль о том, что за мной последует и тот, ради торжества которого я бы охотно отдал жизнь; я боялся, что погубил Джема, надежду Мехмедовых воинов. Если вы убедите меня, что не мои действия толкнули его на тот путь, на какой он ступил, я не стану сожалеть о том, что был вызван вами из небытия.
Но вы безмолвствуете. Похоже, вам самим не ясно, кто явился первопричиной бунта Джема. Либо же вам просто нет дела до угрызений совести давно умершего старого солдата.
Я кончаю. Не могу свидетельствовать о том, что случилось после 5 мая 1481 года.
Пятого вечером я был убит.
Показания Этема, сына Исмета, о событиях между 8 и 22 мая 1481 года
Немого суданца привели ко мне 8 числа, этак в полдень. Привел его Ахмед, балтаджия, стражник из гвардии Синан-паши, правителя Анатолии.
– Чего тебе взбрело в голову хватать его, да еще приводить ко мне? – спросил я. Я был балтаджибаши, начальником стражи, и не любил, чтобы меня тревожили по пустякам.
– Тут дело нечисто, – говорит Ахмед. – Потряси его, сам увидишь!
– Да что он у тебя молчит, как рыба?
Ахмед пнул черномазого под ребра, тот разинул пасть – язык у него был отрезан.
– Раз немой он, раз скачет как бешеный и перед самым городом свернул в лес, то как это надо понимать, а? – не отступался Ахмед.
– И то правда… – начал и я смекать, что дело нечисто. Немых-то держат при себе только визири… – А ну, закрой свою пасть! – зыкнул я. Он начал действовать мне на нервы: стоит, раззявился.
Схватил я его за плечи, тряхнул как следует. Он весь скрючился – подумал, видать, что бить буду. А молчит – да и как не молчать, языка-то у него нету.
– Развяжи ему руки, пускай рукой показывает. Ты куда путь держал, а?
По тому, как немой потупился и окаменел, понял я: выкручиваться ума у него не хватит и он готов принять побои. Мало у меня мороки и без него!
– Слушай! – сунул я ему кулак под подбородок, чтобы не прятал глаз. – Я буду спрашивать, ты – отвечать. Тебя кто посылал? Султан? Или визирь?
Поди поспрашивай у такого! Только таращится, как последний болван.
– Сдери с него рубаху да шмякни оземь. Сейчас он у нас вспомнит, кто его посылал!
Я пошел было кликнуть истязателей, но Ахмед меня вернул:
– Эй, балтаджибаши, бумага какая-то выпала! У него под рубахой была.
Гляди-ка, бумага! Отчего же это ее с немым посылали, для такого дела ведь татары есть? Ясно, кто-то хотел переправить послание свое втихую. А мой Ахмед – парень проворный, вот черномазый проглотить бумагу и не успел.
Оставил я их в арестантской вдвоем, а сам припустил что было духу к кехае[7] Синан-паши.
– Дома паша? Сказать ему кое-что надобно.
– Дома, – говорит кехая. – Входи!
Синан-паша, если хотите знать, большой человек был. Говорят, по рождению он грек. Мальчишкой взяли его в янычарское войско. Потом отличился он, сделали его янычарским начальником, агой, в битвах за Стамбул сподобился милости Мехмед-хана. Грек ведь, дома у себя, можно сказать, находился, язык знал, пути-дороги, так что вышла от него большая польза. Мехмед-хан отдал за него, как бы вам сказать, не родную свою дочь, но дочь той женщины, которая родила ему Баязида. Султан после того уступил женщину кому-то из своих вельмож, от него-то и родилась у нее дочь. Так что, не будучи султанских кровей, та все ж таки доводилась шехзаде Баязиду сестрой.
После свадьбы Синан-аге так повалило счастье, что скоро стал он Синан-пашой, правил одним за другим несколькими санджаками,[8] а потом назначили его правителем, бейлербеем, всей Анатолии. В ту пору, о какой вы спрашиваете, было Синан-паше лет пятьдесят. Что вам еще сказать о нем? Служить под его началом было непросто – придирчивый, да к тому же еще и прижимистый – да будет земля ему пухом. Потому надеялся я только на то, что, услышав такую важную весть, он немного обмякнет.
Он сидел у себя в приемной, подремывал. Несколько дней перед тем он выбивался из сил, набирая в войско юруков[9] (сипахов мы уже отправили в Ункяр-чаири), а впереди его ждала дорога – через день предстояло выступать в поход.
– Паша, – сказал я, – мы перехватили гонца, немого. Бумагу при нем нашли, вот она.
Синан-паша сорвался с дивана, выхватил письмо у меня из рук.
– Позови кехаю! – приказал он.
Я позвал.
– Читай! – приказал он кехае.
Меня не спровадили, так что я услыхал тоже.
– «Высокославному моему повелителю. Сегодня, ре-биулэвела[10] четвертого дня 886 года, почил всесветлый султан Мехмед-хан Гази. Войско еще не ведает о его кончине, а стоит то войско в Ункяр-чаири. Остаюсь в ожидании приказаний моего высокославного повелителя».
– Кто же этот повелитель, а? – Синан-паша опять схватил бумагу и стал разглядывать, будто надеясь прочесть. – Имени не указано? Кто писал и кому?
– Не указано, – ответил кехая.
– Да что же это? – До Синан-паши только тут дошло, какую он услыхал весть. – Мехмед-хан скончался? Может, путаница какая?
– Нет, похоже, правда, – сказал кехая. – Раз кто-то поспешил послать известие, да еще и тайно.
– Почему тайно – про то я догадываюсь. Кабы Баязиду сообщали, шурину моему, для чего бы таиться? Другому кому-то весть посылают, а вот кому – знаешь, нет?
Я скумекал раньше кехаи. Мы хоть роду невысокого, но о таких делах простой солдат больше наслышан. Среди нас давно уже исподтишка поговаривали, что Мехмед-хан еще не решил, кому из сыновей оставить престол, и потому услал обоих подальше. Потому что – слух шел – вельможи и муллы держали сторону Баязида, а Джем нашенский был, к войску имел расположение. Вот ум у Мехмед-хана и раздваивался.
Чуть только Синан-паша рот раскрыл, я сразу подумал: письмо послано Джему! Но помалкивал. Синан-паши теперь на свете нету, так что могу вам открыть: надеялся я, что не додумается он до истины, иначе – плохо будет Джему. Но у паши хоть своих мозгов не густо, зато прихлебателей навалом.
– Эти стамбульские мерзавцы призывают Джема, – подсказал кехая.
– Ну да? – У Синан-паши отвисла челюсть. – Да как они посмели! Знают ли, что играют с огнем! В империи есть законы и есть кому эти законы блюсти!
«Эх, – подумал я про себя, – видно, так уж на роду Джему написано. Надо же, чтобы из всех анатолийских пашей письмо попало именно тому, кто держится за шехзаде Баязида. А почему? Больно дорога ему наша держава? Как бы не так! Потому что станет он тогда зятем султана, вот и вся причина. Ну, чему быть, того не миновать! Не нашего это ума дело».
Синан-паша и кехая зашептались промеж себя в стройке, и не слыхать мне было, что они замыслили, но потом паша обернулся ко мне:
– Этем, – говорит, – немого прикончи немедля. Не пытай, не снимай допроса, все ясно и так. Сегодня же выступите вместе с кехаей в Амасью, возьмете с собой десятка два солдат. Явитесь к шехзаде Баязиду и отдадите ему эту бумагу. А я через четыре дня прибуду в Ункяр-чаири. Скажешь Баязид-хану, что он всегда может рассчитывать на мою саблю.
Так оно и произошло. Еще засветло двинулись мы в путь. Кехая вез письмо, а я должен был оберегать его в дороге, как бы с ним чего не стряслось!
Позднее, когда Баязид-хан стал султаном, часто вспоминал я дни и ночи, проведенные по дороге в Амасью. Раздумывал о том, что тоже ведь малость помог Баязиду взойти на престол. И мучила, точила меня совесть. Впрямь ли не понимал я, что ждет нас при Баязиде? Почему же я тогда ничего не предпринял? Почему все наше войско ничего не сделало, чтобы ему помешать? Ведь несколько дней кряду впереди меня ехал человек, везший шехзаде ту самую, наиважнейшую бумагу – что мне стоило пришибить его и спокойно убраться прочь?
После-то, когда стало ясно, куда что повернуло, рассуждать легко. Да еще и то понять надо: как правоверному замахнуться на священный закон? Баязид-хан унаследовал престол по закону, право было на его стороне. Мне ли, простому балтаджибаши, начальнику стражи Синан-паши, лезть в дела государственные?
Я ехал за кехаей, охранял его.
Без всяких приключений прибыли мы в Амасью.
Было это 12 мая, в полдень. За несколько часов до нас прискакал сюда гонец из самого Стамбула, принесший Баязиду ту же весть. Когда мы въехали в город, на улицах уже кишел народ. Все высыпали из дому, чтобы поглядеть, как Баязид в траурных одеждах прошествует через город. Таков обычай.
Народищу было столько, что, пока мы проталкивались через толпу, шехзаде уже вышел из конака. Тогда я впервые увидал Баязида, до того доводилось только слышать о нем.
Наследник султана шел босой. Обычай не требовал этого, но он желал показать, как глубоко и смиренно его страдание. Шехзаде был в черном халате без единого украшения, длинном, до самой земли, опоясанном бечевкой. Чалма на нем тоже была черная.
Мы сумели пробиться вперед, так что я видел Баязида вблизи. Мехмед-хана мне тоже случалось видеть – он всегда проезжал перед войском, когда мы строились в поход, его каждый солдат знал в лицо. К вашему сведению, Баязид нисколько не походил на своего отца. Росту, правда, тоже низкого, но не толстый, а тощий, сухой, как пустынник. Должно, потому из всех мужских занятий он только и умел, что стрелять из лука, для этого много силы не требуется, да и храбрости тоже, от неприятеля ведь находишься далеко.
Пока двигалось траурное шествие, я глядел на босые ноги шехзаде и меня разбирал смех. Сразу видать, что сроду он до этого босиком не ходил – потому ступал, как по колючкам. Ноги у него были как палки – худющие, ступни узкие, пятки острые. И руки – такие же. Он еще их у пояса скрестил – ни дать ни взять дервиш! И лицом Баязид тоже смахивал на дервиша или муллу. Бледный, раздумчивый какой-то. Говорили, оттого это, что ума в нем много, ум, дескать, силы из него высасывал. Какое там! Мехмед-хан тоже не дурак был, а шея – что у быка.
Ну, стояли мы, глядели на процессию, а она прошло теми кварталами Амасьи, что побогаче, и повернула назад, в конак. Мы двинулись за нею.
Кехая велел дожидаться его во дворе конака, среди Баязидовых слуг. Слуг у него было немного, лошадей и того меньше. В войске издавна шла молва, что шехзаде – скупердяй, и, верно, была та молва не без причины. Иначе с чего бы султанову сыну держать всего лишь десятка два коней. А?
Ни нас, ни лошадей наших не накормили досыта – при Амасийском дворе все было по-нищенски. В ожидании кехаи мы прохаживались по вымощенному булыжником двору, а он что-то долгонько не шел.
Когда кехая показался на лестнице, вид у него был гордый, дальше некуда. Радовался, видно, что вовремя доказал, как хорошо служит новому султану.
– Дашь мне одного человека, поскачем с ним в Ункяр-чаири догонять Синан-пашу, – нетерпеливо крикнул он мне.
– А нам что делать?
– Здесь останетесь. Последуете за Баязид-ханом в Стамбул.
– Это зачем?
Кехая оглянулся по сторонам и шепнул мне на ухо:
– Неужто невдомек? Баязид-хан оставляет вас заложниками. Против Синан-паши.
– Да Баязид хоть всех нас перережь, паше это что блошиный укус. Ты-то почему не остаешься с нами?
– Дело у меня важное. Письмо везу. И знаешь, что в том письме написано? Всего три слова. Баязид-хан думает, я грамоту не знаю, так что при мне писал: «Быстрей придуши Джема!»
Кехая смотрел на меня сощурившись. Возможно, думал – ведь я солдат и сын солдата, – что я всполошусь, что жаль мне станет Джема.
– Не суйся ты не в свои дела! – сказал я. И вправду, мне-то что? – Баязид-хан знает, что делает.
– Вот и я то же самое говорю, – сказал кехая и убрался.
Час спустя он вместе с Рахманом поскакал дальше.
А шехзаде Баязид дождался вечера и двинулся на Стамбул. Войско свое он построил так, точно вел его в бой; тут убедился я, что войско у него немалое. Вряд ли Мехмед-хан знал, сколько солдат держит его сын, слывущий скрягою и святошей. И воины Баязида вовсе не выглядели изнуренными.
Нас, стражников Синан-паши, построили вперемежку с другими. Если сказать вам, что мы ехали в Стамбул день и ночь, девять дней и девять ночей кряду, вы подумаете, я вру. А дело было именно так, мы спали, не слезая с седла. Да мы – что! Точно так же проводил ночи и шехзаде. Я собственными глазами убедился тогда, что Баязид вовсе не таков, каким слыл у нас в войске. Баязид не был бабой. Думаю, даже сам Мехмед-хан, да будет земля ему пухом, не вынес бы такого перехода! И ни разу за все эти девять дней не изменилось у Баязида выражение лица, ни разу не дал он никому заглянуть к себе в душу. Что там ни говори, это большое дело!
На десятое по счету утро подошли мы к Юскюдару. Ункяр-чаири Баязид обошел стороной, хотя это и удлинило путь на несколько часов. Я понял: он не хотел иметь дела с войском, пока не займет престол.
С того берега, где лежит Юскюдар, Стамбул выглядел мирным, от огня пострадали всего два-три квартала. Войско шехзаде Баязида растянулось по берегу – каждому хотелось узнать, что ожидает нас в Стамбуле. Баязид приказал двум своим военачальникам переправиться на тот берег и сообщить во дворце, что новый султан стоит у ворот своей столицы.
Вид у обоих посланцев был не слишком радостный, их разбирал страх. Но поехали куда было велено. Каково было шехзаде дожидаться их – не знаю. Я и то под конец взмок. Прежде всего увидали мы на том берегу суматоху. К пристани сбегался народ, янычары. Что бы это могло значить? Хотят разделаться с нами или встретить с почетом? Дело, однако, вскоре разъяснилось, потому что со стороны Топкапу показалось шествие. «Добрый знак», – подумалось мне.
Стамбульские вельможи и богатеи, янычары, да и много простого люда погрузились на плоты, в лодки, фелюги – во все, что только стояло у причала. В мгновение ока запрудили Босфор так, что воды было не видать! Впереди всех плыли ладьи разных визирей. Тогда шехзаде Баязид тоже приказал своим людям садиться в лодки.
Случилось так, что я сел в лодку одним из первых. Мы шли аккурат за тем самым плотом, на котором переправлялся Баязид, по-прежнему сидя в седле. Когда посредине пролива наши лодки встретились с теми, что плыли навстречу, крик поднялся до самого неба. Стамбульцы во всю глотку орали приветствия шехзаде, который отныне становился султаном. Зря, выходит, были и страхи и спешка – Стамбул провозгласил Баязида падишахом.
Ох, отлегло у меня тогда от сердца! Хотя, как я уже говорил, ничего хорошего я от Баязида не ожидал, все же дело обернулось по закону, как следует быть. Мы, люди, кто мы есть? Песчинки под ногами аллаха. Коль он указал нам однажды свою волю, лучше не преступать ее. В точности так же рассуждали, я потом узнал, и другие, и потому возгласили Баязида султаном, да будут долги и славны дни его!
Баязид-хан с помощью Исхак-паши (занявшего пост великого визиря после Мехмед-паши, убитого дней за десять перед тем), пересел в золоченую ладью под все более громкие клики народа.
На другом берегу мы потеряли султана из виду. Он оказался далеко впереди, а нас даже не впустили в Топкапу. Велели размещаться на ночлег в кошарах, заброшенных греками после падения города, – Баязид-хан приказал, чтобы ни один солдат не покинул Стамбула, пока он не взойдет на престол. Так что не мог я вернуться к своему господину, пришлось дожидаться в столице того торжественного дня. И поэтому оказался я свидетелем празднеств.
Первым делом Баязид-хан повелел приступить к погребению своего отца. Поговаривали люди, что за три недели, истекшие со дня смерти, Мехмед-хан стал уже ни на что не похож: в Стамбуле май – месяц жаркий. Как бы то ни было, запечатали его в свинцовый гроб, позолотили снаружи – и готово.
Гроб этот весь был покрыт дорогими коврами. Несли его визири, и вместе с ними – шехзаде Баязид, опять же в черных одеждах и босой. Рядом с разодетыми в шелк и парчу вельможами их повелитель казался анатолийским нищим. А народ видел в этом святость: передним падали ниц, целовали ему ноги. Некоторые даже выводили из домов своих недужных близких, дабы и на них излилась его благость.
Но она не излилась. Баязид-хан только прикидывался святым, в действительности никаким он святым не был. Муллы толпились вокруг него, не отпускали ни на миг. Помню, Мехмед-хан всегда был окружен сипахскими и янычарскими военачальниками. Мехмед-хан казался всегда в походе. А свита Баязид-хана с первого же дня – точь-в-точь, как в медресе, – состояла из священнослужителей, писарей, разной дервишской погани – да простит мне аллах!
Похороны Мехмед-хана, прямо скажем, получились не слишком пышными. Видать было, что Баязид спешит. Не успели внести гроб в усыпальницу, разбросать в толпе несколько корзин медных монет, как Баязид-хан удалился в Топкапу, якобы для того, чтобы продолжить свой плач по усопшему.
Еще не наступил вечер, как стало известно, что плач долго длиться не будет, хотя священный закон отводит ему три дня. Баязид приказал провозгласить его султаном на следующее же утро. Он спешил, как я уже вам говорил, потому что в Стамбул проникли первые слухи о Джеме.
Слухи были туманные – неизвестно, была ли в них хоть крупица правды. Говорили, будто Джем вопреки закону отказывается положить свою голову к подножию Баязидова престола. Эти слухи так встревожили Баязида, что он и свое воцарение отпраздновал наспех.
На следующий день муфтий возглавил новое шествие и провозгласил Баязида нашим законным повелителем. На этот раз султан был уже не в черном, его принарядили, так что он мог сойти за красавца – лицо этакое бледное, премудрое, тонкие брови, черная борода.
Полюбовались мы на нового своего падишаха, он снова повелел раскидать несколько корзин медяков – и конец церемонии.
А дальше уж и рассказывать особенно нечего. Я застрял в Стамбуле, потому что султан не сразу освободил заложников. Баязид явно боялся Джема и не имел доверия к анатолийским пашам. Еще я видел только, как отправилось в Анатолию янычарское войско во главе с Аяс-пашой.
В столице не верили, что Джем решится на битву с войсками брата, но сам Баязид не дремал. Так оно водится на свете: один надеется на судьбу, и все у него получается само собой, а другой живет все время настороже, глаз сомкнуть не смеет, обо всем должен заботиться, все сделать сам. Баязид-хан был как раз из этой породы – ничто ему не свалилось с неба, Баязид-хану.
Вот и весь рассказ, мало вам от меня проку. Мы люди маленькие, государевы дела нам не по разуму. Вы теперь говорите, что великое время Мехмеда держалось на таких, как мы, что Мехмед-хан потряс мир благодаря нам, ценой нашего благополучия. Должно быть, так оно и есть, вы книги читаете, вам лучше знать. А мы этого не знали. Не то, может быть, распорядились бы своей жизнью по-иному.
Первые показания поэта Саади, дефтердара[11] при дворе Джема
Первое, о чем вы спросите меня, – как же это я, поэт душой и ремеслом, мог исполнять при Джеме столь неподходящую должность – дефтердара. Спешу сразу же разрешить ваше недоумение: при Джеме не было неподходящих должностей, при Джеме все должности занимали певцы или поэты. Невероятно, но это было именно так. Придется, видимо, коротко описать вам этот необычный двор в Карамании, двор шехзаде Джема.
В ту пору, когда Мехмед-хан назначил своего младшего сына правителем Карамании, Джему едва исполнилось двадцать лет. Для вас это чуть ли не младенческий возраст, а в нашей богохранимой империи человек к двадцати годам был уже отцом, воином или правителем – словом, мужчиной.
К моему господину, шехзаде Джему, в полной мере эти слова отнести нельзя: Джем казался юнее, чем все мы, его сверстники. Во время наших ночных пирушек, с легкостью перепивая всех, Джем любил говорить, что всегда будет моложе своих лет и моложе нас, что он всех переживет, ибо в его жилах течет не только турецкая кровь. Джем и впрямь был наполовину серб, причем по материнской линии. Сдается мне, что чужой крови у Джема было гораздо больше, чем нашей. Он очень мало походил на своего отца, Великого Завоевателя. Быть может, только орлиным изгибом носа и толстой, выступающей вперед нижней губой. Во всем остальном он был совсем иным.
Джем был высок – у турок это встречается нечасто. Рослый, плечистый, узкий в поясе и бедрах, гибкий, ловкий – в те, караманские дни нашей жизни Джем напоминал мне необъезженного скакуна.
Необычным было и лицо его – светлокожее, цвета пшеницы, как у нас говорят. Рыжие, в крутых завитках волосы, обрамлявшие лицо нашего почившего султана, у его сына сменились золотистыми и гладкими. Как все правоверные, мой господин ходил покрыв голову, но я, самый близкий ему человек на протяжении почти двух десятилетий, нередко видел его с непокрытой головой, и признаюсь, что не случалось моему взору наслаждаться картиной более прекрасной, чем та, какую являл собой Джем с его длинными шелковистыми волосами, четкими очертаниями не очень высокого лба, с тонким изгибом более темных, чем волосы, сросшихся бровей. Глаза описывать не стану – казалось, утренняя заря плещется в быстротекущих водах, вот какими были глаза Джема.
Понимаю, для вас это непостижимо. В ваших стихах и песнях утомительно воспевается женская прелесть – будто вся краса земли воплощена в женщине. Как вы слепы! Что может более радовать взор, чем мужчина – юный, еще не огрубелый, стройный, звенящий, как натянутая тетива, для которого каждое движение – радость, для чьей упругой поступи словно бы создана земля?
У вас это восхищение почитается нездоровым и постыдным, потому что вы вкладываете в него один лишь плотский смысл. Тут уж я в свою очередь не понимаю вас, ведь мы принадлежим к разным мирам. В нашем мире женщина была даже не кем-то, а чем-то, мы связывали себя с ней единственным и весьма несложным образом, без выбора, поисков, предпочтений. Мы покупали своих жен, даже не видя их в лицо. Иногда нам везло – тогда этот союз бывал терпим. Гораздо чаще удача изменяла. Однако, поверьте, мы заслуживали сострадания и в том и в другом случае – не переоценивайте преимуществ мусульманской семьи. И в том и в другом случае мы жили рядом с некой навязанной нам, незнакомой и нежеланной вещью. Эта вещь производила на свет детей, что в какой-то мере оправдывало потерянные возле нее ночи; она молчала, что делало отчужденность выносимой. И тем не менее отчужденность оставалась – огромная, неодолимая, полная неприязни и обиды.
Большинство из нас – те, кто ничего не могли дать и не жаждали ничего получать, – мирились с этим. В те времена мы были страною воинов. Для воина не существует такого понятия, как домашний очаг: ему не нужно делиться мыслями, чувствами; а победами – что ж, победу отлично делишь с соседом по шатру; после битвы, бешеной скачки, охоты не остается излишних душевных порывов. Войско бойцов-дервишей растекалось по Европе. Во время коротких роздыхов между сражениями они насиловали женщин, а женились лишь после того, как султан распускал войско – тогда они покупали себе жен.
Вы, наверно, заметили, я говорю – они, а не мы; мы – те, кто составлял двор Джема, – не были воинами, хотя победоносное наше войско боготворило Джема. Мы были певцами. Нам была неведома блаженная усталость после битвы, зато мы знали иные волнения – радость или печаль. Мы старались передать их кому-то другому, чтобы они возвратились к нам – более глубокими, обогащенными – и затем излились в стихах.
Этот другой не мог быть женщиной. Наши женщина были отталкивающе уступчивы, всегда и во всем с нами согласны. Отвращение, вызываемое доступностью, отдаляло нас от них, возвращало к себе подобным! Вы находите это противоестественным, но нам приходилось выбирать из двух противоестественных крайностей: одиночеством мужского начала и одиночеством духа. А ведь мы были поэтами и наш дух в одиночестве заледенел бы – поэтому мы предпочли первое.
Простите, что ввергаю вас в рассуждения, звучащие непристойно для вас и вашего времени. Но вы ведь рассчитываете на меня – первого, самого близкого, самого верного друга Джема. Иначе на моем месте оказалась бы его жена или возлюбленная – только любовь дает возможность чувствовать чувствами другого человека, страдать его страданиями, мыслить самыми сокровенными его мыслями. Да не будет оскорблен слух ваш: такую любовь испытывал к Джему только я один. И поэтому знал Джема лучше, чем он сам себя знал.
В пору нашего пребывания в Карамании Джем был уже мужем и отцом. Он осчастливил одну из невольниц своего отца, кто она – не знаю и ничего вам сказать о ней не могу. Джем тоже редко виделся с нею. Она жила при его матери, сербской княгине, за пределами Коньи и растила второго сына Джема. Первого его сына Мехмед-хан не выпустил из Стамбула.
Двор Джема помещался в центре старого города, во дворце караманского князя, незадолго перед тем разбитого Завоевателем. Те из княжеских вельмож, кто уцелел, перешли на службу нашей достославной державы.
Караманы не были допущены в наш узкий придворный круг. Воины и правители, они помогали Джему установить порядок в провинции, принудить ее к покорству. В те годы мы – я имею в виду собственно двор Джема – жили так, как редко водилось у нас. Мы жили мыслью и словом, красотой, черпаемой из самых изысканных творений Востока.
Со всего Востока стекались в Конью певцы и поэты, чтобы быть услышанными Джемом, заслужить его высокое благоволение или награду. Некоторых из них (меж этих счастливцев оказался и я) Джем оставил при своей особе. И так как Мехмед-хан не баловал своих сыновей щедрым содержанием, Джем роздал нам должности писарей, смотрителей, советников. Эти звания не оскорбляли нас – они позволяли нам быть подле Джема и вести ту жизнь, о которой я рассказываю вам.
Я не вправе сетовать, судьба не была мне мачехой. Да, конечно, из-за страданий, выпавших на долю Джема, много выстрадал и я, тридцати восьми лет от роду был убит, но прожил жизнь, невероятно богатую для правоверного; к концу моего повествования вы сами убедитесь в этом. И все же, когда я мысленно обозреваю минувшее, кажется мне, что лучшая пора моей жизни прошла именно там, при необычном, малочисленном дворе шехзаде Джема.
Нас было человек двадцать. Все – юные, большинство – поэты; певцы обыкновенно были захожие, странствующие, они останавливались в Конье на неделю-другую и продолжали дальше свой путь.
Наш день начинался поздно – чем также отличался от солдатского. Солнце уже стояло высоко, когда мы по одному выходили из своих покоев и неспешно собирались в тенистом дворе, что находился посередине княжеских хором. Обычно мы уже заставали там Джема – сон у него, как он выражался, был скорый; я всегда завидовал этой его способности. Все мы после бессонной ночи чувствовали себя разбитыми, голова тяжелая, движения медленные. А Джем поднимался вместе с солнцем, часок-другой скакал верхом в окрестностях Коньи и возвращался, чтобы разбудить нас.
Вряд ли я сообщу вам новость, если скажу, что Джем был одним из первых силачей в империи – это широко известно. Я видел его в Карамании на больших состязаниях, куда сходились пастухи-горцы и солдаты из трех-четырех санджаков, видел, как он одерживал победу в нескольких схватках подряд, без всякого отдыха. После того как кто-то из нас намекнул ему, что каждый поневоле дает себя побороть султанову сыну, Джем стал являться на состязания переодетым, без свиты, без почестей – он хотел, чтобы победа досталась ему в честной борьбе. Лишь дезжды случалось ему быть поверженным на тех состязаниях. И оба раза Джем тяжело переживал это, словно его призванием была борьба, а не поэзия или управление государством. Он любил во всем быть первым. Честолюбие, говорят иные. Но это честолюбие украшало Джема больше, чем сребротканые одежды, ибо юный наш господин был рожден для славы и успеха.
Итак, со встречи с Джемом во внутреннем дворе княжеского дворца начинался наш день. Все дни наши Конье были не буднями, а праздником, великим праздником духа.
Больше всего времени отдавали мы чтению – какие у нас были чтецы! Османская поэзия в те времена была робкой, делала лишь первые свои шаги, и немногие находили в ней пищу для души. Мы жили персидской поэзией, этим непересыхающим источником мудрости и свободомыслия, недосягаемым образцом изящества.
Джем любил ее особой любовью; я не встречал человека, которого бы так пьянила поэзия. Для Джема она значила неизмеримо больше, чем песня, несравненно больше, чем танец. Поэтому при нашем дворе редко появлялись танцовщицы – Джем утверждал, что танец не есть чистое искусство, его красота легко переходит в похоть. Равным образом отрицал Джем и музыку – она слишком поверхностна, говорил он; она волнует тебя, минуя разум, лишь слегка затрагивая душу. Я замечал: когда певец пел, Джем внимал не голосу его, но словам. Слова! «Нет искусства более трудного, более точного и неуловимого, самого далекого человеку и вместе с тем самого близкого, чем слово», – говорил Джем. Слова были его любовью, болью и наградой.
Помню первый наш труд – вскоре после того, как Джем приблизил меня к себе. Мне было тогда двадцать четыре года, но я уже имел известность. Так вот, первым нашим общим трудом был перевод одного персидского дивана.[12] Шехзаде чувствовал себя неуверенно в персидском, поэтому мы трудились вместе. Никогда не забуду той торжественной сосредоточенности, с какой Джем искал слова на скудном, молодом османском языке, стремясь влить в них изобилие персидского.
Мы посвятили наш перевод Мехмед-хану, он слыл покровителем изящной словесности и сам писал стихи. Что за стихи! – прости меня аллах, более жалких мне не доводилось слышать. Однако Завоевателю была нестерпима мысль, что есть такое поле деятельности, где он еще не проявил себя. Выступил он и в поэзии – под вымышленным именем Авни. Так сказать, милостиво одарил нас своими творениями, но исходило это не из внутренней потребности, отнюдь. Просто уважение к слову у нас почиталось святым долгом любого властителя.
В моей памяти запечатлелся день, в который нас посетила Зейнеб-хатун, единственная наша поэтесса. Женщина преклонных лет, она жила, вернее сказать, доживала свой век далеко, в Адане. Одинокая, не имеющая детей и внуков, Зейнеб была для нас воплощением не земного, а надземного слова. Надземным казалось и ее лицо с печатью глубокой мысли; она не прятала своего лица, как другие наши женщины, словно желая тем самым показать, что стоит вне соблазнов и желаний, что она не женщина, а орудие в руках божьих.
Зейнеб покинула Адан только ради того, чтобы провести несколько дней при дворе поэтов и дать свое благословение Джему. «Да позволит мне аллах дожить до того дня, когда на престол Османа, зятя первого нашего поэта Джелаледдина Руми, воссядет другой поэт, султан Джем!» – этими словами приветствовала она моего господина, когда он помогал ей сойти с носилок.
Я стоял рядом с Джемом. Я видел, как кровь прихлынула к его нежным щекам при этом дерзком пожелании. Чествованная тремя султанами, почитаемая и воспетая, Зейнеб-хатун позволила себе неслыханную дерзость: при жизни государя пожелала престола его сыну. Младшему, заметьте. А по тому, как Джем несколько раз переменился в лице, то краснея, то бледнея, и словно лишился дара речи, по тому, как он не сводил с Зейнеб-хатун восторженных глаз и чуть ли не понес ее на руках – столь порывисто поднял он ее перед тем, как опустить на землю, – по всему этому я понял, что Зейнеб произнесла нечто глубоко заветное для Джема.
До того дня я, да и мои сотоварищи при конийском дворе не задумывались над тем, что ожидает Джема, вообще не думали о будущем. Мехмед-хан был еще в расцвете сил; взнесенный на гребень побед, он казался бессмертным. Неосознанно, вне всякой связи с верноподданническими чувствами, я желал Завоевателю долголетия, дабы продлились наши безмятежные дни в Конье. И все же – лишь в тот день понял я – этим дням должен прийти конец. Что будет тогда?
Тогда Джем, наш кумир, живое олицетворение молодости, обаяния и таланта, будет задушен. Не говорите мне о законе и преступлении, о воле истории! Никакая сила не может заставить меня с покорностью принять конец – конец насильственный – человека, в такой степени предназначенного к тому, чтобы жить и блистать, как Джем. О каком благе великой империи можно говорить, если ради этого блага суждено пасть жертвой двадцатилетнему поэту, богатырю, словно отлитому из светлой бронзы, самому воплощению цветущей жизни?
Дни, которые провела меж нас Зейнеб-хатун, пролетели как сон. Я не мог отделаться от ощущения совсем новой для меня тревоги. Словно боготворимая всеми нами старуха изрекла некое пророчество, смутившее прозрачную ясность нашего существования.
Менее всего тяготила эта тревога Джема – должно быть, для него она была не нова. Джем целыми часами сидел подле Зейнеб-хатун, слушая ее стихи; Джем изливал перед ней свое восхищение Хафизом – поэтом, в ту пору еще многими не признанным, в том числе даже возвышенной Зейнеб.
Изумительное зрелище представляла собой эта пара. Старая женщина – мудрая и изящная даже в старости, и прекрасный золотобородый юноша. Я не принял бы их за учителя и ученика и уж ни в коем случае за мать и сына. То были два сподвижника на ниве слова, пылающие одинаковым огнем, несказанно близкие, какими никогда не бывают мать с сыном. Помню, я почувствовал ревность: Зейнеб означала для Джема больше, чем я.
Вскоре она уехала. Такой особе, как она, не подобало слишком долго есть султанский хлеб. Зейнеб вернулась в свое уединение, оставив меня во власти тревоги.
Я не смел признаться в этой тревоге Джему, тем более что она, наверно, давно уже томила его и ему стоило усилий не дать ей омрачить наши безоблачные дни. А я терзался. Выискивал примеры из жизни великих людей; готов был перерыть всю историю, лишь бы обнаружить какой-то исход для Джема.
Одно время мне казалось, что я держу в руках слабую нить.
Не смейтесь над тем, что я скажу; попытайтесь понять меня. Мы не были ни разбойниками, ни воителями. Мы жили с сознанием, что несем в жизнь чистую красоту. Нас не удовлетворяло решение, которое означало бы ложь, насилие или позор, – мы стремились примирить суровость закона с нашей жаждой жизни. Мы должны были чувствовать себя правыми – это и отличает поэта от воина.
Был вечер, один из многих наших вечеров, мы снова сошлись во внутреннем дворе. Было лето, и фонтан разливал вокруг влажную прохладу. Отблески факелов стекали в водные струи, с жалобным всхлипыванием молившие об отдыхе. Слуги разливали в кубки ширазское вино, над двором висел густой аромат мускуса и лаванды – не было ветерка, чтобы рассеять его.
Мы возлежали у фонтана на подушках и звериных шкурах. Мы слушали, Хайдар читал. Не пел, а читал, аккомпанируя себе на сазе, – никому из вас не ведомо волшебство стиха под звуки саза, это действует сильнее всякой песни.
Я был рядом с Джемом. Я видел, как слово властно завладевает им, подчиняет себе, как застывают его зрачки, а кожа словно становится тоньше, чтобы легче впитать слова. Я видел, как стекает под гладкой белизной шеи каждый глоток вина и вместе со стихами разливается по всему его существу.
И вдруг острее, чем когда-либо, я осознал, что Джем – лишь недолгий гость меж нас; что достаточно одного дуновения – смерти Мехмед-хана, и светлый этот огонек угаснет, а на земле останется большое темное пятно: то место, которое некогда занимал Джем.
«Нет!» – чуть было не вскрикнул я, потому что эта мысль пронзила меня острой болью. Потребовалось какое-то время – голос Хайдара точно издалека достигал моего слуха, – чтобы я пришел в себя.
Я осушил до дна свой кубок. Хайдар умолк. Теперь говорили другие; одни хвалили чтеца, кое-кто выражал неудовлетворение, считая, что Хайдар способен на большее. Джем молчал, он всегда позже других возвращался из страны поэзии.
– Не хватит ли на сегодня стихов? – неожиданно для самого себя спросил я.
– Отчего же? – точно пробудившись ото сна, обернулся ко мне Джем.
– Мне хотелось бы послушать и другое, – сказал я. – Что-нибудь сильное, не выдуманное. Из истории, например.
– Опять об Александре? – Кошачьи глаза Джема смеялись, его забавляло мое пристрастие к Александру Македонскому и всему, что связано с ним.
– Нет, – отвечал я. – Что-нибудь византийское. О победах Константина Порфирогеннета.
(Я отлично знал, что Константин не блистал победами, но мне было нужно его имя, одно лишь имя.)
– Как тебе только удалось произнести! – засмеялся Джем. – Пор… как дальше?
– Порфирогеннет, – без запинки проговорил я тщательно затверженное слово, – что означает Багрянородный.
– А Багрянородный что означает? – Теперь уже смеялись все.
– Это очень просто. У греков, да и у других гяуров есть закон: престол наследует не старший сын, а первый, рожденный после восшествия отца на престол, то есть рожденный в Порфирной палате, в багрянице. Не может стать государем, – я чувствовал, как голос мой возвышается до крика, – человек, рожденный от простых смертных. Он столь же отличен от багрянородного, как земля отлична от неба. Когда к тебе с двух сторон притекает царская кровь, когда с первого своего дня ты…
Продолжать я не мог. Джем смотрел на меня так, будто сейчас заключит в объятья – либо ударит. Остальные были смущены – вероятно сознавая, что я бросил камень в тихие воды нашего повседневья…
– Что из того? – проговорил Джем после довольно долгого молчания. – Это ведь христианский закон, не так ли?
«Да», – у меня перехватило горло, и я мог только кивнуть в ответ. И при этом подумал, что Джем никогда не говорит «неверные», всегда «христиане». Не носит ли он в душе подавленное сознание того, что сам – наполовину христианин?
Слуги опять засновали между нами, наливая вино. Хайдар и другие о чем-то заспорили, потом кто-то снова стал читать стихи. А я исподтишка наблюдал за Джемом – Джем был не с нами.
Чуть ли не на заре, на самом исходе той, одной из бесчисленных наших счастливых ночей в Конье, разошлись мы по опочивальням. Слуги уже гасили факелы, двор заволокло голубоватыми сумерками. Голова у меня кружилась от вина, волнения, муки. Я тоже направился к себе. Проходя под галереей, ч услыхал за спиной шаги. То был Джем.
– Саади, – позвал он меня.
Мы снова вернулись во двор, сели на каменный парапет фонтана. По струям его стекал уже не огонь, а голубое серебро.
– Саади, – сказал Джем, – ты знаешь, кем ты был для меня.
– Почему был? Друг Джем, не отнимай у меня твоей дружбы! Не…
– Не надо, Саади! Скажи только… – Он положил мне на плечо руку, и я, как всегда, почувствовал покоряющую силу его тепла. – Скажи: зачем ты произнес те слова? Я не хочу думать, что меж близких мне людей есть чужие уши, что через тебя кто-то испытывает меня или за мною следит. Допустив такое подозрение, я почувствовал бы себя ограбленным. Но все-таки зачем?
«Ради тебя! – хотел я ответить. – Разве не видишь ты, что я ищу путей, которые увели бы тебя от роковой судьбы? Ибо вместе с тобой угаснет солнце…» Вот что хотел я ответить, но сказал иное:
– Должно быть, я слишком много выпил, мой господин. После недавней лихорадки я стал легко пьянеть… Мне не следовало… Хотя это – чистая правда. Прости, коль слова мои были неуместны, и не допускай в свое сердце сомнения. Не чужим ухом – камнем желал бы я быть у тебя под ногами, друг Джем, чтобы по мне ты прошел к спасению…
Я еле сдерживал слезы. В какой-то мере тут повинно было выпитое. Но Джем, казалось, не слышал моих последних слов.
– Чистая правда, ты говоришь… – задумчиво подхватил он. – Я всегда считал, что нам есть чему поучиться у христиан. Отчего, Саади, в них заложено большее чувство справедливости? Отчего они не почитают силу единственным судьей на земле? Разве смерть может быть разрешением чему бы то ни было? Смерть – это всего лишь конец. Конец добру или злу, но не приговор, не выход…
Он говорил о смерти вообще, а думал о собственной смерти.
Не удивляйтесь тому, что Джем произнес тогда – и часто произносил – мысли, не подобающие правоверному. Боюсь, что он плохо знал наш Священный закон. Причиной тому в известной мере его христианка-мать, но в гораздо большей – персидская поэзия. Известно, что персы – еретики, что они пьют вино и придают излишнее значение земным радостям и скорбям. Не напрасно наши священнослужители отвергают персидские стихи: ничто не рушит нашу веру сильней, чем они.
– Да, – подтвердил я, снизив голос, словно уже опасался подслушивателей. – Смерть не есть разрешение. Пока человек жив, он должен искать иного выхода. И эти поиски не могут быть грехом, не так ли, господин мой?
Джем не ответил.
Из слов великого визиря Мехмед-паши я понял, что история сочла его первым побудителем Джемова бунта. К сожалению, это не так. Не нишанджи Мехмед, видевший в последний раз Джема, когда тому было четырнадцать лет, а я посеял семя смуты в душе Джема, от меня исходил тот толчок, которого он с жадностью ожидал.
Я угадывал, что Джему ненавистна мысль о неизбежности смерти; видел, как потрясло Джема дерзкое благословение Зейнеб-хатун. Но оно еще не оправдывало бунта против закона. Я подсказал Джему такое оправдание: не ощутив своей правоты, Джем никогда ничего бы не предпринял.
Простите, я попрошу об отдыхе. Все, о чем я сказал до сих пор – о наших днях и ночах в Конье, о Зейнеб и Хайдар, давно усопших, и, больше всего, о короткой предрассветной беседе с Джемом у фонтана, – мне бесконечно тяжело вспоминать. Тяжелей, чем все последующее – явные страдания.
Вторые показания поэта Саади о событиях с 21 мая по 15 июня 1481 года
Не с немым суданцем – как вы теперь уже знаете – достигла эта весть Карамании. Один сипах – из тех, кто получил приказ явиться в Ункяр-чаири, – прослышав о ней, вскочил на коня и во весь дух помчался в нашу столицу. Из-за того, что он не решался никуда свернуть, чтобы сменить лошадей, и ночами ему приходилось отдыхать, он потерял много времени. Вот отчего Джем узнал о смерти отца позже, чем Баязид. Отнюдь не единственный пример того, как чистая случайность предопределяет исход мировых событий.
Аллаху было угодно, чтобы я, присутствовавший при всех важных событиях в жизни Джема, был возле него и в тот миг.
Наш день начался как обычно. Спустившись во двор, мы уже застали там Джема, разгоряченного утренней скачкой. Я подошел, чтобы поцеловать его в плечо, и ощутил исходящее от него тепло. С той ночи, когда оба мы осмелились сказать вслух о неизбежности его смерти, я радовался каждому часу, проведенному рядом с ним.
«Джем еще здесь, о великий аллах! – думал я. – Джем еще жив…»
Он смотрел на меня ласково, словно напоминая, что я не должен приветствовать его как повелителя.
– Саади, – сказал он, – я не слышал ни одного стиха из твоего нового дивана.
– Мой господин, – ответил я, – прости своего слугу за то, что он боится оскорбить твой слух незрелым творением.
Рассеянно-веселый взгляд Джема уже перебежал от Хайдара к Насуху и остальным.
– Друзья мои, – сказал он, – сегодня вечером мы будем слушать новые стихи Саади. Это приказ!
Не успели мы рассесться вокруг фонтана и начать беседу, как прибежал один из стражников.
– Шехзаде, – обратился он к Джему. – Прибыл гонец. Спрашивает тебя.
Я похолодел… Вот оно… Вот оно! Кошмары, многие месяцы терзавшие меня, стали явью. Одного взгляда на гонца (то был простой сипах, смертельно измученный дорогой, весь в поту и пыли) было достаточно, чтобы увериться в этом.
Я заметил, что Джема поразила та же мысль. Сквозь легкий загар на лице его проступила бледность. Он не мог произнести ни слова.
– Что случилось? – прервал молчание Хайдар.
– Кто из вас султан Джем? – хрипло произнес сипах, и уже по одному тому, что он назвал нашего господина султаном, все стало до ужаса ясным.
«Я!» – кивнул Джем.
Мне показалось, что я теряю сознание.
Сипах с трудом преклонил колена. Он опустился на землю – обессиленный, грязный – и снизу, воздев лицо словно к солнцу, взирал на Джема.
– Мой султан, – от волнения голос его снизился до шепота, – повелитель наш, приготовь свое сердце к дурной вести! Всеславного Мехмед-хана уже нет среди живых. Возглавь наше войско, веди его туда, куда не успел повести твой отец! Сипахи, первая опора государства, верны тебе, мой султан!
Эта краткая речь явно была приготовлена заранее, она не подходила ему. «Быть может, он кем-то послан, – ухватился я за соломинку. – Сипахи предугадывают, чего они могут ждать от Баязида, и потому заняли сторону Джема. Аллах милосердный, хоть бы это было так!»
– Перестань! Перестань и поднимись с колен! – Молитва моя была прервана бесстрастным голосом Джема. – Престол Османов имеет наследника. Отчего не покоритесь вы Баязиду?
– Куда поведет твой брат нашу державу? – Сипах теперь уже не шептал, а кричал. – Куда укажут муллы, вот куда! Вы ведь помните, – обратился он уже к нам, – как жило войско до великого Мехмеда: ни хлеба, ни земли. Чтобы муллам побольше осталось. Неужто ты отдашь нас снова на поругание, султан Джем? Кто завоевал славу для дома Османов, кто покорил мир? Мы, рядовые воители аллаха! Мы хотим султаном тебя, Джем!
«Да, он послан! – беззвучно ликовал я. – Небо услышало мои молитвы!»
Теперь Джем выглядел уже иначе. Смертельная бледность отхлынула от его щек, глаза испытующе впились в сипаха, словно желая открыть, что прячется за его пылкой речью: предательство, заговор, верность?
Мы стояли, точно окаменев. И вдруг я услыхал собственный голос – он был лихорадочным, как и все в этот день:
– Мой господин, внемли своему войску! Багрянородный властитель, не уступай нашей ратной славы скопцам-дервишам! Твой смертный приговор подписан, тебе нечего терять. Спаси империю Османов, султан Джем, право – на твоей стороне'.
Да, я сказал это. Признаю.
– Право… – тихо повторил Джем. И уже громко, неистово: – Есть ли у меня это право?
– Есть! Ты поведешь борьбу не только за свою собственную жизнь – на тебя уповают многие, мой султан! Да и кто такой Баязид? – продолжал я, не помня себя. – Незаконнорожденный, сын рабыни, ублюдок!
– Оставьте меня! – гневно прервал меня Джем.
Один за другим, растерянные, смятенные, покинули мы княжеский двор. Отныне Джему были нужны воители, а не поэты.
– Саади, – нагнал меня под галереей Хайдар. – Что ты сказал, Саади?
– Правду, – в отчаянии ответил я. – Чистую правду.
– Она противоречит закону, твоя правда.
– Закон придуман людьми, и люди же в силах отменить его. Мог бы ты примириться со смертью Джема?
– Нет! – не задумываясь ответил Хайдар. – Но Джем может убежать, скрыться. Ты вступился ведь не только за его жизнь.
– Он не согласится на бегство, Хайдар. Джем не создан для того, чтобы прятаться. Неужто мы, самые близкие ему люди, отречемся от него?
– Нет! – вторично тряхнул головой Хайдар. – Верь мне! Я первый стану солдатом Джема. Вопреки закону.
Мы молча обнялись. Это походило на клятву.
Лишь в полдень Джем призвал нас снова. Мы застали во дворе толпу: караманские беги, войсковые начальники. Они были одеты по-праздничному, со всеми знаками отличия. Но выражение лиц не соответствовало этому великолепию: лица были суровы, даже угрюмы. Тогда как Джем светился новым, незнакомым светом и был еще прекраснее, чем всегда. Словно уже одно дуновение власти преобразило его.
Заметив нас, Джем знаком велел нам приблизиться. Мы почувствовали, что невольно даже ступаем как-то иначе: перед нами стоял уже не прежний друг, а повелитель.
– Облачитесь в боевые доспехи! – повелел он. – Возьмите их у стражи!
Это было нам внове. Хайдар с трудом напялил слишком узкие для него штаны; пыхтя, застегнул тяжелый пояс с ножнами для меча и сабли. В другую минуту мы осыпали бы его градом насмешек, но теперь даже сами помогали обрядиться. «Вот я и стал Хайдар-агой!» – пошутил он, но и тут никто из нас не засмеялся.
Между тем Джем во дворе держал речь перед караманами. Я услышал только самый конец ее – она ошеломила меня. Ужели Джем и вправду такое надумал?
– …Мы не можем лишить высочайшего нашего брата того, что занято им, – Румелии.[13] Ибо не желаем усобицы, не желаем проливать кровь правоверных. Хотя и не рожденный в багрянице, Баязид завладел частью империи, и я не стану оспаривать ее. Но здесь, в Анатолии, колыбели нашей славной державы и родине Османов, я продолжу дело Мехмед-хана, Анатолию я под власть Баязида не отдам! Я воскрешу нашу первую столицу, Бруссу, и поведу сипахов к новым завоеваниям, чтобы у каждого сипаха было по наделу! Пусть Баязид возвращает в Румелии земли мечетям и странноприимным домам. Анатолия по-прежнему останется империей воинов!
«О Джем! Коли не знаешь, отчего не спросишь друга? Всегда надо требовать всего целиком – тогда, возможно, достанется хоть половина. И зачем объявляешь ты своим вельможам и военачальникам, что сам стремишься к разделу державы? Под этим ли знаменем вести войско к победе? Почему останавливает тебя кровь Баязида? Разве его остановит твоя?»
– Не нравится мне это! – шепнул мне на ухо Хайдар. – Посмотри на бегов.
Я посмотрел. Да, конечно, они были в недоумении. Ведь они рассчитывали победить под знаменами Джема, отстоять дарованные воинам права. Теперь же я увидел за их челом не совсем чистые помыслы: «Если Анатолия может принадлежать анатолийцам, отчего не отторгнуть Караманию для караманов?»
И еще кое-что вдобавок: старым воителям предначертания Джема с первой же минуты показались ребяческими, недостаточно обдуманными. Они справедливо приписали это его славе отличного борца и одаренного поэта. Однако теперь было не до состязаний и стихов.
– В Бруссу! – так закончил Джем свою речь. Глаза его сверкали, вдохновенное лицо пылало. Он совсем не заметил, какой отзвук вызвали его слова у слушателей.
– Да, не нравится! – повторил Хайдар. – Совсем иначе надо было браться за дело.
Простите мне небольшое отступление, но я хотел бы рассказать вам немного о Хайдаре. Было время, я дивился тому, что такого рода человек может быть поэтом, да еще и хорошим поэтом, – он не умел воспарять, был приземленным, простым и точным в суждениях. Говорили, что родом он из деревни, и так оно и было; наверно, отсюда проистекали все его слабые и сильные стороны. Трезвые опенки Хайдара раздражали меня, но, сам того не желая, я им подчинялся. Кто знает, впоследствии размышлял я, избери Джем своим доверенным не меня, а Хайдара, события, быть может, приняли бы совсем иной оборот? Но Джем любил в Хайдаре только его стихи – никогда бы он не раскрыл перед Хайдаром душу.
Караманы удалились в полном безмолвии – пошли распорядиться и седлать коней. Я знал – едва выйдя со Диора, они дадут волю языкам. Хайдар, до этого тайком наблюдавший за ними, подошел к нашему повелителю.
– Мой султан, – сказал он, стоя перед ним в уморительно узких штанах, – позволь мне пойти с ними!
– Зачем? – повернул к нему все еще пылавшее лицо Джем.
– Нам следует знать, что они замышляют. Мы зависим от них.
– Хайдар, – нетерпеливо оборвал его Джем, – дивлюсь я тому, что поэт мне предлагает это. Я доверяю своему войску и военачальникам.
Хайдар только пожал плечами. Я опасался, что правда, как всегда, на его стороне.
Еще засветло выступили мы в поход. Впереди ехали сипахи Якуб-аги. За ними следовали караманы – полуплемя, полувойско – во главе со своими предводителями, по-прежнему хмурыми, угрюмыми, явно недовольными. Затем ехала Джемова свита – наспех переодетые воинами певцы и поэты. Мы с трудом держались в седле; ноги, туловище разламывало у меня так, словно я шлепнулся с высоты аршинов в двадцать. А Хайдар лениво покачивался в седле, успев для облегчения передать свой щит оруженосцам.
За трое суток достигли мы Бруссы, ворота ее были заперты. Об осаде нечего было и думать – нас было меньше четырех тысяч.
Эта первая неудача смутила Джема. Он надеялся, по-видимому, что все города распахнут перед ним ворота и с кликами восторга признают своим государем.
– Саади, – подозвал он меня, – попробуем начать переговоры. Поезжай вместе с Хайдаром и Якуб-агой, объявите правителю города, что Брусса вновь станет нашей столицей. Лежащий в Бруссе прах Османа обретет покой, увидев воскрешенной ее былую славу.
– Знаешь, – сказал мне Хайдар по дороге, – Джем должен был выразить свое поручение яснее.
– Мне оно и так ясно, – с досадой ответил я.
– Нет, – упорствовал Хайдар. – Правитель спросит нас, чего мы хотим от города: воинов, хлеба или мяса. И намерены ли мы платить. А мы на это ответим, что Брусса станет столицей. Не маловато ли?
Как ни раздражало меня ворчание Хайдара, только благодаря ему мы вернулись не совсем с пустыми руками. Правитель Бруссы – старый и скудоумный паша, усланный сюда Мехмед-ханом, избавлявшимся таким образом от неспособных вельмож, – и впрямь встретил нас неприязненно. «Это успеется, – твердил он. – Объявить Бруссу столицей никогда не поздно. Сначала дайте увидеть Джема султаном, поглядеть на его державу!» Затем паша объявил, что город сильно пострадал от усобицы между сыновьями Баязида Молниеносного и не хотел бы вторично подвергнуться подобной участи. Пусть сыновья Мехмеда решат свой спор в чистом поле, под стенами города, а еще лучше – где-нибудь подальше. Вот тогда Брусса и определит свой выбор.
С тем бы он нас и отослал, не вмешайся Хайдар.
– Мы согласны с тобой, мой паша, – сказал он, – но согласись и ты, что мы целых три дня в походе. Мы не тронем Бруссу, но Брусса за это тайно ото всех накормит нас.
Паша призадумался, он явно смекнул, какую выгоду сулит предложение Хайдара. Так что, когда под покровом темноты мы вернулись в лагерь, за нами следовал длинный караван с поклажей.
Известие о нашей неудаче опередило нас, принесенное необычным посланцем: Сельджук-хатун, любимой теткой Завоевателя.
Мы застали ее у Джема. Сельджук-хатун было очень много лет – она выглядела ровесницей дома Османов. Но на ее коричневом, морщинистом, худом лице сверкали молодые по своей живости глаза.
Сельджук-хатун прибыла в наш стан, прослышав о том, что Джем поблизости. Ее слабость ко второму шехзаде была общеизвестной; Джем был баловнем всех живых представителей рода Османов. Теперь он сидел со смущенным видом провинившегося ребенка, знающего, что за его обаяние ему многое простится.
– Тетя сообщила мне, – обратился к нам Джем, – что по ту сторону Бруссы стало лагерем войско Аяс-паши. Завтра произойдет решающая битва.
– Решающая битва! – насмешливо подхватила Сельджук-хатун. – Что может быть решающего в столкновении двух пятитысячных войск. А?
Я заметил, что держится она совсем не так, как подобало бы столь высокородной особе. Она не стеснялась в выражениях – так мог говорить какой-нибудь старый солдат.
– Имей в виду, это только начало, – принялась она наставлять племянника. – Если завтра твой брат проиграет битву, он пошлет против тебя десять раз по пять тысяч воинов. Если же и они не принесут ему победы, жди против себя сто раз по пять тысяч. Коль скоро ты решился, не теряй ни минуты; разошли глашатаев по всей Анатолии, собери под свои знамена все войска, что еще не стоят лагерем в Ункяр-чаири. А?
У нее было обыкновение завершать свою речь этим «а?», вовсе не означавшим вопроса. Джем весь обратился в слух; видно было, что он тщательно взвешивает ее советы. Поэтому ответ его показался мне совершенно неожиданным:
– Нет! Я не стану призывать войска. Все равно самые отборные находятся уже в Ункяр-чаири. Баязид получил их готовыми. Я выступлю перед воинами как законный наследник престола. Войска знают, что только я сохраню за ними привилегии, дарованные им моим отцом; в первом же сражении они перейдут на мою сторону. Пойми меня, Сельджук-хатун: не самозваным, а призванным хочу я править империей!
В продолжение всей его речи старуха трясла головой, словно желая показать, как неразумны, ребячливы слова Джема. И после короткого молчания решительно произнесла:
– Кабы я услыхала такое от кого другого, я бы сразу сказала ему: гиблое твое дело! Но я услыхала это от Джема, а Джем родился со звездой на челе. Не ум твой или сила, а небо не позволит, чтобы ты был повержен.
– Есть люди, – обратилась к нам Сельджук-хатун, лишь теперь удостоив нас своим вниманием, – которым все удается, несмотря ни на что. Счастливцы. Баловни судьбы. Джему досталась доля от великой удачливости дома Османов. Да не оставит она его и впредь, несмотря на всю чушь, которую он порет.
Джем вспыхнул – на сей раз от обиды. И снова поразили меня его слова, произнесенные негромко, но твердо:
– Я не могу перемениться, тетушка, иначе я превратился бы в Баязида. Зачем? Ведь Баязид уже существует, излишне становиться его двойником. Пусть войско сделает свой выбор! Побежденный подчинится его приговору. Я ни к кому не стану обращаться с мольбой. Сын великого Завоевателя, я действую по праву.
Той же ночью мы проводили Сельджук-хатун, а утром началась битва с Аяс-пашой.
Вы простите, что о битвах я буду говорить бегло, они не по моей части. У нас, на Востоке, для повествований и стихов о сражениях есть специальные люди, я не из их числа. В сражениях Джема я участвовал как воин-самоучка, они казались мне страшнее бойни, и мне не хочется о них вспоминать. Притом вам ведь важны не сами сражения, а их исход. Поэтому объявлю сразу: первая битва с Аяс-пашой завершилась нашей полной победой.
Итак, Хайдар ошибся – ведь он предрекал поражение. Сбылись слова Джема, которые его тетушка сочла чушью: сипахи из войска Аяс-паши и впрямь перешли на нашу сторону.
Часом позже, когда паша опрометью мчался назад, к поросшим лесом холмам (за ним следовали сотни три янычаров, не больше), я увидел Джема вблизи. Мой повелитель не скрывал, как безмерно он счастлив. Джем громко смеялся, совсем по-свойски шутил с перебежавшими к нам сипахами, набросил свой плащ на плечи алайбея,[14] обнимал всех нас подряд.
Едва наше войско (в нем насчитывалось уже около десяти тысяч душ) расположилось для отдыха, как из города показалась толпа. Впереди – десятка два всадников, самые видные люди города. Когда они подъехали ближе, мы различили среди них и самого правителя Бруссы. Было ясно без слов: Брусса отворяла свои ворота перед победителем.
Победитель! Это слово пьянило Джема сильнее ширазского вина. Джем в кольчуге, в пыльных сапогах сидел, окруженный своими вельможами – нами. С внезапно появившейся важностью выставил он ногу для поцелуев; голосом, в котором уже не было и тени шутливости, повелел бруссанцам подняться.
Я хорошо знал его и могу сказать с уверенностью: одержи Джем эту победу силой, он бы не ликовал так. Джем хотел побеждать одним своим именем, молвой о своей исключительности.
Следующим утром мы вступили в Бруссу. Джем приказал войску хорошо отдохнуть, привести себя в порядок. Он хотел пробудить в нашей прежней столице всю ее подавленную гордость, показав ей султана и воинов, достойных Бруссы.
Как мне сейчас помнится, было нечто неправдоподобное в тех наших бруссанских днях. Начиная с оказанной нам встречи.
Все жители до единого, с грудными младенцами, с больными и немощными, высыпали на улицы. Со всех окон, всех галерей и оград свешивались ковры, расшитые покрывала, кое-где даже шелковые одеяла, халаты или платки – город был весь разукрашен до самых макушек своих многочисленных минаретов. Да и погода стояла – май! Из-за оград выглядывали деревья в цвету – грецкий орех, смоковница, виноградные лозы протягивали свои молодые, ярко-зеленые побеги, а темные, почти черные кипарисы пронзали эту хмельную, торжественную зелень, меж которой белели тяжелые цветы магнолии и желтые гроздья акаций. А сирень? Отчего не довелось вам увидеть Бруссу в густых зарослях майской сирени!
Среди всего этого весеннего празднества, расцветившего серые камни древней Бруссы, шествовала еще одна весна. Наш повелитель, в свите которого не было человека старше двадцати пяти, озарял Бруссу своей радостью. Юный, прекрасный, одаренный, богоподобный, Джем достиг вершины человеческого счастья.
Да, конечно, не ему одному улыбалась судьба, и другие Османы одерживали победы, приводили в Бруссу длинные цепи невольников, караваны с добычей: Орхан, Мурад, Баязид Молниеносный. Но никому из них аллах не дарил такого счастья в двадцать два года от роду, ни для кого другого не связал он воедино молодость и победу.
Нас принял Старый дворец. С трепетом перешагнул я его порог. Пусть Стамбул неповторим, второго такого города нет на свете. Но для нас, османов, Брусса означает больше – она святыня. Там покоится прах наших первых султанов. Старый дворец – свидетель самой ранней нашей истории: когда из полудикого пастушьего племени выросла грозная империя, наводящая страх на весь мир.
В Бруссанском дворце все было камнем – таким он и запомнился мне: плотный, внушительный холод. Он говорил о том, что воздвигали его владетели, для которых сирень не имела ценности, которые все мерили силой, властью, победами. Тем ярче выделялся в этой оправе Джем, золотистый агат в тяжелой глыбе гранита.
Джем в те дни отдавался неутомимой деятельности, он был сосредоточен, полон забот. Постигал науку власти. После того как – избегая пышных торжеств – Джем провозгласил себя султаном (второй султан за последнюю неделю!), он приказал начеканить серебряных монет с его тугрой и каждый день читать в мечетях молитвы во благоденствие его. Ничего больше. Этого было у нас достаточно, чтобы стать государем, поэтому он и вошел в историю как султан Джем. Султан, чья власть ограничивалась пределами одного города и длилась восемнадцать дней.
В эти дни к Бруссе стекались воины. При каждом их появлении Джем взглядом говорил нам: «Вот видите?» Не знаю, впрямь ли не замечал он того, что этих воинов отнюдь не так много, как он предрекал и как хотелось бы нам. То были группы от двадцати до пятидесяти человек, туркмены-кочевники или дружины юруков, приводившие в нашу столицу – средоточие смуты, как полагали они, – свои стада, своих жен и детей. С таким сборищем не удержать власти и уж тем более не завоевать.
Наше войско составляло самое большее пятнадцать тысяч сабель, когда – дело было уже в середине июня – в Бруссу пришла весть: на нас идет Баязид-хан Второй во главе войск, стоявших перед тем в Ункяр-чаири.
– Ты понимаешь, что это означает? – спросил меня Хайдар. – Это отборнейшие войска империи, в полном составе. Конечно, их собрало имя Завоевателя для новых завоеваний, Баязид получил их готовыми.
– Как знать! – возразил я. – Быть может, половина из них связывает свое будущее с султаном Джемом.
Но Хайдар усомнился.
– Не воображай, – сказал он, – будто солдаты рассуждают. Построили их, повели – они идут.
Я и без того был преисполнен тревоги. Один лишь Джем оставался недосягаем для нее. Он проводил дни среди своих войск, беседовал с военачальниками, составлял план предстоящей битвы. Было что-то сумасбродное в его стремлении забыть о правде – о численности Баязидовых войск, искушенности его полководцев, законном праве Баязида повести и выиграть этот бой. Джем, блистательный баловень судьбы, упрямо верил, что действительность должна отступить, подарив ему небывалую победу.
Под вечер лазутчики донесли, что Баязид стал лагерем в трех часах пути от Бруссы; Баязид желал сражения на открытом пространстве.
Мы находились вне городских стен, когда Джем получил это известие. Я видел, что оно смутило его: он рассчитывал на длительную осаду, во время которой в войске Баязида могли произойти всевозможные перемены, родиться благоприятные для нас настроения; к сражению в открытом поле Джем не был готов.
По дороге к Старому дворцу – мы тотчас повернули домой – Джем молчал в задумчивости. И только перед самой дверью обернулся ко мне:
– Ступай, Саади, приведи ко мне Сельджук-хатун!
Показания Сельджук-хатун о событиях в ночь с 15 на 16 июня 1481 года
Я не любила ложиться рано. Для почти девяностолетней старухи постель – все равно что могила. Да и предстоящая ночь мне не сулила покоя. Наутро должны были сойтись в битве войска моих внучатых племянников, могла ли я заснуть в предвидении такого утра?
Когда мне доложили, что меня хочет видеть некий Сзади, я как раз размышляла о глупости, какую совершил мой племянник, султан Мехмед, сделав братоубийство законом нашего рода. Я верю, что он пекся о благе империи, но для меня не менее важно и благо нашего дома. Даже последний пастух знает, что порода улучшается, когда оставляешь для расплода самое сильное животное из каждого окота. Откуда проистекает уверенность, будто первородный сын и есть наилучший? Зачем понадобилось Мехмеду самому оскоплять род Османов, отсекая все его боковые ветви?
Только мужчины способны на такое, считала я тогда, да и теперь тоже. Женщине не свойственно подобное узкомыслие. Я хочу этим сказать, что в душе осуждала объявленную законом вздорную выдумку Мехмеда.
Так вот, сообщили мне, что меня желает видеть упомянутый Саади. Я не помнила толком, кто это – скорее всего, один из тех порочных молодцов, что окружали Джема. Мехмед, как и все мы – я имею в виду наш род, – питал, видимо, к младшему сыну чрезмерную слабость, оттого и позволял ему жить среди подобного сброда: Джему, вишь, так нравится. Я же считала, что это не делает чести сыну султана и скверно на него влияет. А?
Я приказала впустить упомянутого Саади, что и было исполнено. Он выглядел в точности так, как я и ожидала, – девица на выданье, а не мужчина, терпеть не могу эту породу!
– Сельджук-хатун, – он поклонился мне и заговорил проще, чем можно было от него ожидать, – султан Джем просит тебя удостоить его своим приходом, причем немедля.
«Что-то уж очень торопится малыш!» – думала я, пока меня одевали. С Саади я вступать в разговор не стала, не подобало мне это.
Джем ожидал меня в покоях Орхан-хана. Он был бледный, возбужденный. «По плечу ли такому юнцу эти дела?» – подумала я и пожалела его. Вспомнила его еще младенцем: прозрачный, светлокожий, золотисто-русый, словно заморская драгоценность, выделанная искусным резцом и тонкой кистью.
Когда я вошла, он бросился мне навстречу, усадил. Подложил подушки, укутал мне ноги – вечер был холодный. Должна сказать, что Джем всегда умел выказать внимание, привести в доброе расположение духа – у нас это умеют немногие мужчины.
– Сельджук-хатун, – заговорил он, не скрывая своего волнения, – я попросил тебя прийти ради дела чрезвычайного, рокового. (Вот каким словесам учили его те молодцы!) Ты, живая совесть нашего рода, будешь судьей в борьбе между Баязидом и мной.
– Судьей?! – прервала я его. – В борьбе один судья – сила.
– И право! – раздраженно добавил Джем. – Сельджук-хатун, ты старейшая из Османов, и я умоляю тебя убедить Баязида, сколь гибельна для империи братоубийственная война, мы ведь еще не оправились от распрей между сыновьями Баязида Молниеносного! Скажи моему брату, что я не желаю ни смерти его, ни румелийских его владений – пускай остаются у него! Мы сыновья одного отца. Так будем жить как братья, в ладу и мире, властвуя каждый над своей половиной империи Османов.
Видите, до чего доводит человека сомнительная дружба, близость с полумужчинами – с поэтами! Какой вздор просил меня Джем изречь от его имени!
– Джем, – сказала я, – твои слова нелепы. Пойми это! Чей разум допустит раздел великой империи, да и останется ли она великой, будучи поделена? Сражайся! Это единственный для тебя выход, как ни отвратительно мне братоубийство.
– И все же тебе оно не так отвратительно, как мне! – с горячностью прервал меня Джем. – Чем я буду лучше Баязида, если предложу ему принять смерть вместо меня? Ты нам тетка, Сельджук-хатун, именно ты должна придумать выход, который позволит обоим твоим племянникам остаться в живых.
– Попробую, – пришлось мне ответить. Я поняла, что Джем не отстанет, пока не вырвет у меня обещание. На своем веку я видела многих мужчин: каждый считал себя призванным навести в мире порядок, а не умел справиться с наипростейшим – со своим домом, женами или слугами.
Я еще не договорила, а Джем взял обе мои руки и прижал к своей груди. Удивительная способность была у него – даже совершая явную нелепость, Джем тебя покорял, было трудно отказать ему.
Я чувствовала – пока он приказывал приготовить мне карету, пока назначал мне свиту и стражу, – как с каждой минутой все больше сживаюсь с возложенным на меня поручением. Еще недавно я просто высмеяла бы вздорную его затею, а теперь уже обдумывала ее, старалась перевести на трезвый язык рассудка.
– Сельджук-хатун, – сказал Джем, обнимая меня на прощание, – мысленно я буду рядом с тобой! Да приведет тебя аллах к нам с доброй вестью!
Несколько часов ехали мы, но, поглощенная мыслями, я не замечала дороги. Возле Баязидова стана стража остановила нас. Начальник стражи меня узнал – я так долго жила на земле, что все видные люди империи, несколько поколений их, успели меня запомнить. Поэтому меня проводили к Баязиду без промедления.
Лет десять не видела я Баязида. Вернее сказать, не хотела видеть. Он не переменился: по-прежнему кожа да кости, хотя пора было обрасти жирком.
– Да будет благословен час, когда досточтимая Сельджук-хатун перешагнула мой порог! – приветствовал он меня.
– Ты догадываешься, что привело меня к тебе среди ночи, Баязид, – проговорила я. Я нарочно не называла его ханом, так же как и Джема, во все время нашей беседы. Хотела дать им понять, что для меня оба они всего лишь внуки моего покойного брата.
– Нет, Сельджук-хатун, не догадываюсь, – невозмутимо смотрел мне в глаза Баязид.
Ну конечно! Вот за это я и не любила его, просто терпеть не могла. Баязид был до омерзения неуязвим в словах и поступках; невозможно было найти его слабое место. Никогда ничего неуместного, поспешного, необдуманного. И теперь тоже: Баязид врал мне в лицо, принуждал вдаваться в объяснения, пока сам придумывал, как меня провести.
– Между тем догадаться нетрудно. – Мне не удалось сдержать раздражение. – Я прибыла сюда как старейшая в роду, чтобы помешать нашим потемкам совершить преступление.
– Вот как? – Баязид изобразил крайнее удивление. – Ты всегда была кашей живой совестью, Сельджук-хатун, да продлит аллах твои дни. Я безгранично счастлив, что и сегодня ты, не щадя своей старости, взяла на себя столь тяжкий труд. Но отчего ты пожаловала ко мне?
– То есть как «отчего»? – не нашлась я. Баязид первым же вопросом прижал меня к стене.
– А так. Преступное безрассудство совершил другой, и я всем сердцем молю тебя отклонить его с этого пути. Неужели Джем не принял тебя?
– Я сейчас от него, – без обиняков объявила я. Баязиду удалось привести меня в бешенство. – В чем ты обвиняешь Джема? В том, что он не желает умирать? А почему не умереть тебе? А?
– Потому что того не требует закон, – любезным тоном ответил он. – Я живу и царствую по воле закона. Преступник тот, кто преступает закон, не так ли?
– По какому человеческому закону следует самому предать себя палачу? – закричала я вне себя. – Говорил бы ты так же рассудительно, если бы умереть предстояло тебе? Не стал бы разве противиться? А?
– Нет. – Он не был бы Баязидом, если бы ответил иначе. – Нет, конечно. Если бы моя смерть послужила могуществу империи, я уже давно бы ушел из жизни, Сельджук-хатун.
«Как бы не так!» – подумала я. Баязид лишал дальнейший разговор всякого смысла. Как могла в нашем роду появиться такая гнусь!
– Что бы ты ни говорил, – предприняла я еще одну попытку, – я не могу винить Джема за то, что он хочет жить. Зачем тебе отягощать свою совесть братоубийством? Мехмед-хан оставил вам обширную державу. Каждый из вас, если вы по-братски поделите ее, будет иметь втрое больше земель, чем было у Орхан-хана. Прекратите распрю, пока не поздно, не губите зря города и людей! Ведь вы братья, известно ли тебе, что это значит?
– Известно, – с превеликой печалью произнес Баязид. – Последний мой воин, последний нищий имеет брата. Но в том и заключается тяжкое бремя власти, Сельджук-хатун. Ты слышала поговорку: «Султан родства не знает». Поэтому я лишаюсь самого дорогого, что дано человеку, – родного брата. Не укора заслуживаю я, а сочувствия. С кровоточащим сердцем нанесу я справедливый удар, дабы соблюсти верность…
Дальше, честно говорю, я не слушала. С меня хватило этого квохчущего голоса, этой благостной скорби на физиономии постника. «Какой выродок, боже праведный!» – думала я, и вдруг все мне до того опротивело! Чего ради приняла я на себя эти муки? А?
Я поднялась прежде, чем Баязид договорил. Тогда он наконец умолк и двинулся провожать меня.
– Да будет спокойна живая совесть Османов! – были последние его слова. – Ни ты, Сельджук-хатун, ни я, смиренный слуга аллаха, не властны отменить Священный закон.
Вот и все. Лишь в такой мере вмешалась я, старуха, в распрю между Баязидом и Джемом. Я не могла расхлебать кашу, которую младший брат заварил так торопливо и необдуманно. Не примите мои слова за упрек – Джем стоит вне всяких упреков.
Кое-кто, слышу я, скорбит о том, что Джем царствовал лишь восемнадцать дней. А вот я думаю, что Джем и не создан был для престола. А? Жаль только, что малыш так настрадался, очень мне жаль его. Он всегда представляется мне ребенком – хрупкая заморская драгоценность из алебастра и золота.
Погодите! Еще одно слово. Я считала прежде, что люблю Джема как самого даровитого в нашем роду. Теперь уже я твердо знаю: я любила его за то, что он так мало походил на нас всех.
Третьи показания поэта Саади о событиях 20 июня 1481 года
20 июня – никогда не забыть мне того дня!
Три вечера наблюдал я своего господина, пока он ждал возвращения тетки: Джем был сам не свой. Он метался из угла в угол по покоям Орхана, сам с собой говорил вслух. «Все иное было бы чистым безумием!» – этим восклицанием несколько раз прерывался его негромкий разговор с собственными мыслями.
Сельджук-хатун вернулась далеко за полночь. Двое слуг ввели ее, она падала от усталости. Однако нашла в себе силы кинуть на меня неприязненный взгляд, и мне следовало бы удалиться, но я остался, чтобы услышать, что она скажет. Она пересказала Джему, что говорила она и что отвечали ей. Повторять не стану, вам это известно и без меня.
Сначала Джем слушал ее стоя. Потом ощупью притянул к себе подушку и сел: ноги больше не держали его. «О небо! – подумал я. – Так ли должен выглядеть военачальник накануне сражения?» Он был сокрушен. Вы спросите: чего иного мог он ожидать от этого посольства? Я задавал себе тот же вопрос. Но Джем действительно был так далек от житейских соображений, что, вероятно, совершенно искренне верил в успех Сельджук-хатун.
– Все кончено! – произнес он, когда тетка умолкла. – Вновь будет залита кровью благословенная наша империя. Зачем мой отец при жизни не рассек этот узел? Я бы покорно умер, если бы знал, что на то его воля.
– Хватит болтать! – оборвала его Сельджук-хатун, злая от усталости. – Только что я слушала, как охотно принял бы смерть Баязид, если б ему повелел закон, теперь ты… Раз оба вы так готовы к смерти, зачем зря гоняете меня ночью туда-сюда? А?
– Нет, я не хочу умирать! – не менее резко прервал ее Джем, и это было для него очень обычным: метаться от одной крайности к другой. – Пусть Баязид и не надеется!
Старуха пожала плечами, мальчишеская неуравновешенность Джема стала тяготить ее. Она направилась к дверям.
Более чем почтительно поцеловал он край ее пояса. Я понял, что в эту минуту он прощался со всем домом Османов.
– Прощай, тетушка! – сказал он. Голос его дрожал от сдерживаемых рыданий. – Я знаю, что, пока ты жива, будет кому помолиться за Джема!
– Полно, полно! Не доводи дело до молитвы! – И ее высохшие, с одеревеневшими суставами руки легли на его плечи.
– Саади, – сказал мне Джем, когда мы остались одни, – до рассвета мы выступим к долине Йени-шехир.
– Разумно ли утомлять войско перед битвой, мой султан?
– Я не хочу, чтобы Брусса поплатилась за свою верность мне. Буду биться в открытом поле. Позови ко мне Якуб-агу!
Я позвал Якуба – тот спал в другом крыле дворца. При разговоре его с Джемом я не присутствовал, потому что должен был выполнять другие распоряжения. Этот разговор следует считать началом конца в единоборстве Баязида и Джема.
Когда я вернулся к своему господину, он уже принял странное решение. Джем объявил мне, что, по его мнению (впоследствии я узнал, что оно было подсказано Якуб-агой), наше войско следует разделить на два крыла. Одно двинется на Изник, чтобы ударить по войскам Баязида с тыла, а второе – к Йени-шехиру, чтобы завязать бой. Это второе крыло, отборную часть войска, Джем вверял Якуб-аге.
– Повелитель, – осмелился я возразить, – я не могу взять этого в толк. Людей у нас немного. Потому ли вознамерился ты поделить их?…
– Именно потому, что не полагаюсь на их численность, я и должен прибегнуть к хитрости. Не разубеждай меня, Саади! Ты знаешь, как я ценю тебя, но мы с тобой не искушены в военном искусстве. Тут я буду слушать Якуб-агу, это его ремесло.
Все произошло так, как замыслил Якуб. Той же ночью наши войска выступили в двух разных направлениях. Двадцатого произошла битва при Йени-шехире, но во время этой битвы никто не ударил Баязиду в спину – план не удался…
В самом начале боя, пока обе стороны прощупывали друг друга в мелких стычках, пока Баязид разворачивал свои части, а Джем пытался противопоставить ему редкие цепи нашей конницы, к нам, небольшой свите султана, подскакал на взмыленном коне Якуб. «Сразу видно, что война – его ремесло», – сказал я, алайбег действительно выглядел сейчас в своей стихии.
– Мой султан! – крикнул он, с трудом осаживая коня. – Если мы замешкаемся, все будет кончено: Баязид разместит свои силы в низине, отделит тысяч десять акинджий и ударит с двух сторон. Не теряй времени, мой султан! Позволь мне немедля бросить в бой всю нашу конницу; я смету Баязида, не дав ему опомниться!
Якуб-ага проявлял отчаянное нетерпение, он горячил своего коня, продолжая короткими возгласами втолковывать нам, что каждый миг промедления невозвратим.
– Действуй! – тихо приказал Джем, и я заподозрил, что он уже не верит в нашу победу. Не поэтом даже, а просто-напросто безумцем надо было быть, чтобы поверить, будто пятнадцать тысяч всадников не потонут в океане стоящего против нас войска.
Якуб только того и ждал. Конь вихрем унес его. Ми же поднялись на холм над рекой, чтобы наблюдать за ходом сражения.
Мы видели, как наши сипахи ищут брод, как нашли его. Первым вступил в воду конь Якуба – алайбег уверенно вел людей вперед. Даже переправляясь через реку, всадники спешили – им дорога была каждая минута. Й выбравшись на другой берег, поскакали к лагерю Баязида.
Мне показалось странным, что там не подняли тревоги, а продолжали размещение алаев. Неужто самонадеянность Баязида столь велика, что он считает лучшие наши части отбросами?
Якуб-ага находился уже на расстоянии выстрела от вражеского стана. Мы настороженно ждали криков, стонов, звяканья оружия, торжественного шума битвы. Но наша сипахская конница, наше упование, наша гордость, не врезалась в войско Баязида, а бесшумно растворилась в нем…
Тишина…
Никогда мне не забыть той тишины, в которой было слышно даже наше дыхание. Есть мысли столь чудовищные, что требуется время для того, чтобы осознать их; именно такую мысль мы и пытались отогнать от себя: «Измена!»
Джем медленно повернул ко мне голову – взгляд его был страшен! В его глазах пылало не отчаяние – это звучит слишком слабо. Безграничный ужас, безмерное отвращение, бескрайняя боль – чего только не выражал взгляд Джема!
– Караманы! – нарушил молчание Хайдар.
Я позавидовал ему. Ни одно из упомянутых чувств не волновало сейчас этого поэта-крестьянина. Хайдара занимали только караманы – последняя наша опора, остальных он сбросил со счетов.
А караманы и впрямь отступали. Малочисленные их дружины, еще недавно то там, то тут наскакивавшие на неприятеля, теперь в беспорядке откатывались назад, стремясь поскорее достичь реки.
– Разбиты еще до начала сражения! – Джем и не заметил, что произнес это вслух.
– Останови их! Попробуй их остановить! – не как султану, а как безусому юнцу крикнул ему Хайдар и погнал своего коня вниз по склону.
– Стой! – крикнул ему вслед Джем, и мы поняли, что он отказался от всякого сопротивления. – Вернись! Нас предали…
И не добавив ни слова, направился к своему шатру.
Быть может, я ошибаюсь, но мне почудилось, что Джем, испытав в первую минуту ужас, потом воспринял предательство Я куба почти с облегчением. Оно словно бы снимало с него вину за поражение. Возможно, Джем увидел в измене Я куба веление судьбы и покорился ей.
Я заметил, что он с трудом заставляет себя замедлить шаг, сохранить остатки своего султанского достоинства. Их хватило лишь до порога шатра. Я не слышал, велел ли он грузить поклажу; Джем вскочил в седло, натянул поводья своей Бороной кобылы и поскакал.
В бешеной скачке проделали мы путь, требующий двух полных дней, – от Йени-шехира до гор Эрмени. За нами последовали лишь дружины караманов, непрерывно бросавшие по дороге узлы и оружие, избавляясь от лишней ноши. Мы мчались так, будто за нами по пятам гнался сам дьявол.
Вы никогда не слышали об Эрмени – этой зловещей горе, поросшей густой чащобой, без единого родника. Мы перевалили через нее ночью под пристальным взглядом звезд, в гробовой тишине, нарушавшейся лишь стуком конских копыт и проклятиями караманов.
Здесь, в Эрмени, султанской гордости Джема был нанесен еще один удар. Едва мы углубились в ущелье между отвесными скалами, как на нас напало кочевое племя, еще более дикое, чем караманы, жившее разбоем и убийствами. Они осмелились на нас напасть, словно мы были безоружным торговым караваном.
Бой длился недолго. Я помню хищные, обезображенные алчностью лица кочевников, метавших в нас камни и колотивших простыми дубинами, повисавших на наших седлах, чтобы остановить коней и срезать какой-нибудь вьюк. Я видел, как караманы стеной окружают Джема, стремясь вывести его за пределы этой бойни, как они бросают последнюю свою поклажу, отвлекгя внимание дикарей и одновременно нанося удары направо и налево.
Назвать наше ночное приключение в Эрмени адом будет слишком возвышенно. То было низкое, плебейское побоище между нищими и полунищими, еще одна горькая обида для багрянородного моего господина.
По ту сторону перевала наша дружина вышла неузнаваемой; мы были похожи на конных нищих, хотя, кажется, нищие никогда не ездят верхом. Усердные старания караманов не спасли даже Джемова плаща. Джем ехал сейчас в одной рубахе, дрожа от холода. Жертвенный факел, блуждающий во тьме пустыни… Джем…
Я подъехал к нему, накинул ему на плечи попону своего коня, чудом уцелевшую. Джем примиренно взглянул на меня и завернулся в попону, он сильно озяб.
– Друг Саади, – сказал он, – когда будет привал, перевяжи меня. Я ранен в ногу.
Только этого нам не хватало! Я знал, как тяжело быть раненым в пустыне – рана воспаляется, начинает гноиться. А сделать привал мы не решались.
После перевала Эрмени распадается на невысокие холмы. Беспорядочно разбросанные по всему нашему пути, они мучили нас нестерпимей, чем сама гора со всеми ее опасностями. Изнуренным, обессиленным, нам приходилось бесчисленное множество раз подниматься и спускаться. С каким нетерпением ожидали мы утра – хотя оно и пугало нас неизвестностью.
Впереди, во главе нестройной нашей дружины, ехал Касим-бег. После измены Якуба он остался старшим по званию военачальником. Касим был последним из князей Карамании, и находившиеся под его началом племенные отряды продолжали следовать за Джемом, охранять его в отступлении. Касим вдоль и поперек знал и Эрмени, и безлюдные земли по обе стороны хребта. Мы были целиком в его руках, но он нас не предал.
Поднимаясь на невесть какой по счету холм, я услыхал его голос:
– Скоро граница, мой султан.
– Граница!.. – Это слово вырвало Джема из забытья. Он остановил коня. – Уверен ли ты, Касим-бег?
– Уверен, мой султан, внизу река Теке. На том берегу уже Сирия.
– Остановитесь!
– Почему, мой султан? – удивился Касим-бег. – Только там мы будем в безопасности.
– Остановитесь! Пусть мне перевяжут ногу. Помоги мне, Саади!
Я помог ему сойти с седла. Он зашагал, тяжело опираясь на мое плечо. Я не сразу понял, зачем он ведет меня в сторону. Потом догадался: Джем хотел остаться со мной с глазу на глаз.
Он не сел, а рухнул наземь. Напряжение, усталость, потеря крови – все это исчерпало его силы.
Со всей осторожностью я стянул с него сапог – он был полон крови. Штанину пришлось разрезать, так крепко прилипла она к ноге. Рана оказалась неглубокой, но скверной, с рваными краями; ее нанесло лошадиное копыто (в этом тоже гордость Джема не была пощажена). Я высыпал на нее горсть пороха, туго перевязал чалмой – ничего другого у меня не было.
Все это время Джем сидел, привалившись к скале, закрыв глаза, я не знал, дремлет он или потерял сознание.
– Готово! – закончил я. – Сапог лучше не обувать.
– Саади, – Джем порывисто схватил мою руку, – мне страшно, Саади!
– Страшное позади, мой султан. Мы подошли к границе.
– Ее-то я и боюсь.
Не бредил ли он? Глаза у него лихорадочно блестели, расширенные, чужие.
– Саади, – продолжал он, – понимаешь ли ты, что это означает – граница? Мы перешагнем не просто черту, разделяющую две державы… Гораздо большее… Доныне я был дома, на земле своего отца и деда, доныне я обладал правами, пусть оспариваемыми. Перейдя границу, я тем самым откажусь от них, поставлю себя вне закона. С завтрашнего дня я стану изгнанником, Саади… Меня страшит это слово – «изгнанник».
– Не терзай себя черными думами, мой султан! Ты покидаешь империю, быть может, лишь на несколько дней, на неделю.
– Даже если и так. Я обращусь за помощью к нашим врагам, буду в их власти. Кого потом сумею я убедить, что не заплатил за помощь изменой? Кто поверит мне, что я взошел на престол не ценою урона, нанесенного отечеству? Саади, быть может, не ступать на тот берег? Скажи!
– Мой султан, теперь уже поздно раздумывать. Твой брат идет за нами следом. Уже завтра вся округа будет кишеть засадами, за тобой будут охотиться, как за раненым оленем, Джем! Коль скоро дело начато, не остается ничего другого: заключи союз с силами, враждебными Баязиду, – они есть и будут. Здесь тебе не добиться успеха, враг повсюду, тебя подстерегает измена, а мы в растерянности. Находясь в Сирии, ты сумеешь спокойно вести переговоры и вербовать союзников.
– Ты полагаешь? – с печалью взглянул он на меня. – А мне страшно. Мне кажется, что легче этой же ночью умереть на своей земле, обманутым и забытым, чем завтра пуститься в переговоры, заключать союзы, состязаться во лжи и коварстве. Не создан я для этого, Саади…
Удивительно – один лишь раз за все последующие годы возвратился Джем к этим мыслям. После той ночи в Эрмеии он, казалось, всеми силами старался убедить себя и мир, что правда на его стороне, что за ним сотни тысяч приверженцев, что он возглавляет великую борьбу. Но тогда, с глазу на глаз со мной, в темноте, Джем выдал себя, показав, что понимает предстоящее ему мучение, отдает себе отчет в том, как безвозвратен этот шаг – переход границы. Быть может, Джем и тогда не раскрыл бы душу, если бы не лихорадка и крайняя усталость, ослаблявшие его волю.
– Мой султан, – чуть погодя окликнул я его, заслышав нетерпеливый ропот воинов, – нас ждут. Надо идти!
И повел его, поддерживая под руку. Джем хромал, привалившись к моему плечу, более доверчивый и беспомощный и более дорогой моему сердцу, чем когда бы то ни было.
– Саади, – словно повторяя печальный припев, сказал он мне перед тем, как мы присоединились к остальным, – боюсь, что эта ночь рассечет надвое мою жизнь. Меня страшит граница, Саади…
А границы все не было видно. Что-то коварное таилось в этом – сдается мне, что все роковые рубежи в человеческой жизни вот так же коварно неразличимы. До какого-то мгновения ты стоишь по одну сторону и вдруг, не успев опомниться, оказываешься на другой. Непоправимое свершилось, а ты и не заметил когда.
Я горячо любил Джема, однако не сочтите мои слова пристрастными: душевное величие Джема проявилось даже в том, что он заметил и отметил этот рубеж в своей жизни. История обвинила Джема в легкомыслии, в непонимании игры мировых сил, представила его незрелым юнцом, слепым в своем честолюбии, куклой в руках людей более дальновидных и мудрых. Только я, один-единственный человек, с кем Джем обменялся несколькими словами в темноте Эрмени, могу удостоверить: Джем сознавал значение всех решительных шагов в своей жизни и борьбе.
За то, что не каждый, сознающий смысл событий, способен их изменить, вините не Джема. Историю делают люди, а не отдельный человек.
Показания египетского султана Каитбая о событиях с июня 1481 года по июнь 1482 года
Я – Каитбай из рода мамелюков, султан Египта и Сирии. Полагаю, что у вас имеются важные причины для того, чтобы обеспокоить меня. А я отвечаю вам по следующим причинам: хочу очистить память Джема от грязных намеков всякого сброда – от упреков последующих поколений, как выражаетесь вы. Не ваше дело обсуждать поступки властителей. Мы, государи, стоим не вне, а над мирскими законами.
Я, Каитбай, не согласен с оценкой, вынесенной историей нашему царскому дому, например. Мы действительно не арабы, а черкесы. Действительно один из моих прадедов был простым мамелюком, мамелюки – это вроде янычаров, только служили они не турецким, а арабским султанам; действительно, поднимаясь все выше по лестнице придворных чинов, мой прадед занял султанский престол путем убийства – он убил своего повелителя. Но это не дает вам права называть весь наш род мамелюками и без устали напоминать миру, что мы происходим из султанских конюшен. Впрочем, называйте меня как вам будет угодно. Я прекрасно знаю – именно потому, что в наших жилах текла более молодая кровь, чем вылинявшая кровь Аббасидов, мы сумели на протяжении столетий править империей, от которой сохранилось только название – Арабский халифат. А халифат есть нечто великое и священное – равное тому, чем римский престол является для вас, неверных.
В те времена, о которых я держу речь, над халифатом нависла очередная угроза: турки-османы. Должен сказать, что сначала они не испугали нас – видали мы и пострашнее. К примеру, сельджуки или крестоносцы, оставившие в Сирии, Палестине, на Эгейских островах ряд жалких графств, баронств, княжеств, заранее обреченных на гибель. Словом, нас мало встревожило появление в Анатолии новой разновидности дикарей. Так было до Мехмеда Завоевателя.
Воспевайте сколько угодно его величие – воля ваша. Мы, властелины мира в Мехмедовы времена, невысоко оцениваем своего собрата; Мехмед был, по нашему мнению, слишком мелочен, чтобы быть великим; болезненно честолюбив. Он посвятил десять лет жизни войнам со Скандер-бегом – взбунтовавшимся султанским янычаром, горцем-разбойником. И не успокоился, покуда не увидел его гибель.
Мехмед приложил неслыханные усилия, чтобы одержать победу над рыцарями-иоаннитами, некогда владевшими Палестиной, а в его время с трудом удерживавшими Родос. Ни за что на свете не примешал бы я своего имени к такой нелепой вражде – кому мешали эти нищие полумонахи, полукорсары, засевшие на каком-то ничтожном острове? Однако Мехмед, однажды потерпев в битве с ними поражение, до самой смерти не находил себе покоя. Я вижу, что для вас по-прежнему тайна – куда утром 3 мая намеревался он повести свои войска. Я вам открою: против рыцарей. И против меня. Потому что Мехмед подозревал, что не кто иной, как я, помогаю им припасами, дабы они могли выстоять турецкую осаду. В какой мере это подозрение справедливо, я, султан Каитбай, не обязан давать вам отчет.
Я бы не стал утруждать себя вышесказанным, если бы это не проливало свет на события, проистекшие с июня по июнь упомянутых лет: на мое вмешательство в усобицу сыновей Мехмеда.
Не стану таить, она была на руку не только мне од ному – всем государям мира, точнее, Средиземноморья. Эта усобица явилась кстати, в канун нового наступления турок на Запад и на друзей Запада: она должна была отвлечь нового султана (кто бы из братьев ни стал им) от предсмертных планов Мехмеда.
Вы спрашиваете: отчего в этой игре я поставил на Джема – ведь именно он слыл живым подобием отца, – а не на Баязида, которого мы знали как мозгляка. Так уж случилось, мог бы я вам ответить. Но все это дела столь давние, что нет смысла прибегать ко лжи. Я поставил на Джема оттого, что догадался: из двух братьев слабейший – он. Превосходство и сила не всегда идут рука об руку.
Начать с самого начала? Так вот…
Когда мне сообщили о том, что Джем переступил границу и находится на моей земле, я немедля распорядился встретить его с почестями и проводить в мою столицу, а Касим-бегу и караманам повелел вернуться назад и вывезти семью Джема, оставшуюся в Конье.
Таким образом, он прибыл в Каир в сопровождении малочисленной свиты и был помещен во дворце моего дивидара – так у нас именуется великий визирь. Два дня спустя, отдохнув и подлечив свою рану, Джем посетил меня. То была чистая учтивость: мы еще не знали друг друга, и пока что нам не о чем было вести переговоры. Ни он, ни я не ведали о том, что происходит по ту сторону границы. В ту первую нашу встречу я лишь предложил Джему свое гостеприимство, заверил, что не выдам его Баязиду, даже если тот предъявит подобное требование, и в самых общих выражениях высказал надежду, что увижу его на престоле Османов.
Юный султан не поднимал на меня глаз. Это смирение показалось мне чрезмерным – не зная его, я счел смирением другое: Джем просто был подавлен, и ему требовалось время, чтобы прийти в себя. Я понял это при нашей второй встрече – то была действительно встреча двух государей. Сдержанно, с достоинством Джем изложил мне свой взгляд на усобицу с братом, на будущее Османской империи и Средиземноморья. И предложил мне мир – мир до конца своей жизни (за то, что будет после его смерти, он ручаться не может, объяснил он), если я возьму его сторону.
– Разве мой высочайший гость намерен прекратить завоевания, предпринятые покойным Мехмед-ханом? – спросил я.
– Нет, – ответил Джем. – Слава богу, у неверных есть еще довольно земли. Но мы, воители одной и той же веры, не должны допустить войны между собой.
– Тем не менее самые крупные победы твоего отца были одержаны над мусульманами: князьями Карамании, Узун-Хасаном. Мехмед-хан воевал и против меня.
– Я не подниму руки на халифа. Даю в том мое султанское слово.
Джем был не первым властителем, с кем сводила меня судьба. Должен заявить: лишь с ним у меня была уверенность, что я слышу правду, а не очередную ложь. Джем не подкреплял свои обещания никакими залогами, потому что в те минуты ничем не обладал; не приносил клятв, но почему-то верилось, что за его словами не кроется обмана.
В ту нашу беседу мы не приняли особых решений. Мне не хотелось связывать себя, пока не выявится, есть ли у Джема надежда на успех. По слухам, в пограничных с нашими землях Баязида было неспокойно, и он не решался отвести оттуда свои отборные войска. Конью же держали едва ли не под осадой, хотя она и не оказала Баязиду сопротивления. Но должно быть, уже одно то, что Касим-бег беспрепятственно проник в крепость и вывез из нее семью Джема, показалось его брату достаточно предосудительным.
Чтобы облегчить Джему муки нетерпения, я предложил ему посетить святые места – Мекку и Медину. Все равно о борьбе за Караманию нельзя было говорить до тех пор, пока Баязид не отведет своего войска – у Джема было едва три-четыре тысячи человек, а мое дружеское расположение не простиралось так далеко, чтобы предоставить ему своих воинов.
Джем с радостью отнесся к моему предложению – он явно томился в Каире. Но в Мекку он отправился лишь поздней осенью 1481 года, потому что рана его осложнилась и потребовала длительного лечения. В святых местах он оставался целых четыре месяца.
События тем временем развивались в Анатолии произошло множество перемен. В Каир прибывали гонец за гонцом. Прежде всего я узнал о том, что Касим-бег не сколько раз переходил границу Вернулся он полный надежд, говорил, что дела повернули решительно в пользу Джема. Многие правители анатолийских санджаков – под их началом находилась сипахская конница – открыто заявили о том, что не признают Баязида и видят в его брате своего спасителя. Самым могущественным из них, несомненно, был Махмуд-бег, правитель Анкары.
Джем вернулся в мою столицу зимой и тут же занялся приготовлениями к походу. Теперь, когда вокруг него кишели приближенные из числа анатолийских бегов, убеждавших его в том, что он не одинок и не изгнанник, Джем заметно переменился. Я стал подумывать, не легкомысленно ли я поступил, дав возможность явно более способному и более любимому из сыновей Мехмеда в спокойствии ожидать своего счастливого жребия. Как ни говорите, он был сыном Мехмеда Завоевателя.
Если что и запечатлелось в моей памяти от тех времен, так это день прощания с султаном Джемом. Я не предполагал тогда, что мы расстаемся навек.
Войска Джема должны были выступить на рассвете. Их было всего несколько тысяч, но Джем пожелал показать их во всем блеске. Они следовали за своим повелителем, разнокожие, разноликие, рвущиеся в бой.
Не умею я описывать, как какие-нибудь ваши поэты, а жаль – жаль, что я не опишу вам султана Джема, каким был он в то утро, когда подскакал ко мне, чтобы проститься. Я почувствовал, что мысленно он уже где-то далеко, там, где сражения должны решить его участь.
Не забуду и последних его слов. Он произнес их громко, с истинным величием:
– Добро, которое нашел я под кровом моего высочайшего брата, золотыми буквами запечатлелось в моей памяти. Да укрепит аллах наши десницы и да подарит нам победу! Тогда халиф и султан Каитбай увидит, что такое султанская благодарность.
Вслед за тем Джем, не слезая с седла, поцеловал меня в плечо. А я, в нарушение всех обычаев, обнял его – ведь он мог бы быть моим сыном.
В эту минуту я услышал за спиной шум, возгласы, чей-то женский голос. Мы оба обернулись.
Сквозь стражу проталкивалась женщина. Ни лица ее, ни возраста различить было нельзя. По одежде я понял, что она не из простолюдья. На руках у нее был ребенок одного-двух лет.
Я вопросительно посмотрел на Джема, женщина явно проталкивалась к нему.
Черты высочайшего моего друга напряглись. Он следил взглядом за незнакомкой, и вдруг мне почудилось, что он собирается соскочить с коня. Однако он не сделал этого – спохватился, что войско смотрит на него.
Женщина приблизилась к нам. Молча подняла ребенка и посадила к Джему в седло. Чадра при этом соскользнула с нее, открыв лицо.
Тогда я впервые увидел вторую жену Завоевателя, сербку, мать Джема. Меня поразило сходство матери и сына – то же светлое лицо, светлые глаза. Много позже, когда мы с ней принуждены были вместе бороться за вызволение султана Джема, я убедился в том, что они были схожи и сердцем. То была выдающаяся женщина, это сущая правда.
В тот час ее появление глубоко взволновало Джема. Его глаза были прикованы к ней, а руки, не выпуская поводьев, обнимали сына.
Наши женщины – иные, вам поэтому не понять, сколь странным показалось нам то, что последовало затем. Женщина с открытым лицом обвила руками ногу Джема (выше она дотянуться не могла) и всем телом прильнула к ней. Так порывисто, точно вознамерилась не отпускать его. Глаза ее были закрыты, губы сжаты, всем своим существом она впивала в себя близость сына. Истинная правоверная никогда бы не решилась на подобное, никогда не выказала бы перед тысячью глаз свою материнскую боль. Но мы почему-то не увидели в том неприличия. Все, что делали двое этих людей – я понял это спустя много лет, – носило на себе печать какой-то беспредельной чистоты. Джем с большой нежностью отстранил мать и ненадолго задержал руку на ее волосах, пока они молча смотрели друг на друга. Потом женщина что-то сказала ему на своем неведомом языке, и Джем высоко поднял малыша, показывая его войску.
Воины закричали, выражая свою верность предводителю, клялись одержать победу. А я смотрел на мать, сына и внука – этих трех отпрысков чужой, нам непонятной крови. Смотрел, как они не прячут боли и надежды, не боятся выказать слабость.
Поверьте мне – я был султаном и халифом, – очень много узнаешь о людях, когда смотришь на них с высоты: беда султана Джема коренилась в том, что в нем было слишком много человеческого.
Далее я сумею быть вам полезен только теми вестями, что достигали Каира, – я не был свидетелем скитаний Джема по Анатолии. Мы узнали о том, что Махмуд-бег, правитель Анкары, действительно перешел на сторону Джема и его примеру последовали другие сипахские военачальники. Узнав об этом, Баязид двинулся к Айдосу, а тем временем Касим-бег, увлекая за собой караманов, соединился с Джемом и Махмудом, и они вместе подступили к Конье. А перед тем мой высочайший друг подписал с Касимом такой договор: поверженная держава караманских бегов будет воскрешена, и ее престол займет Касим.
Мне еще тогда подумалось, что Джем сулит то, чем пока не обладает; не понравилось мне также, что он оглашает подобные договоры – османы не простили бы ему раздела своей молодой империи. Иными словами, события в Анатолии развивались не в пользу Джема – еще ничего толком не зная, я уже был в этом убежден.
Вести о поражении пришли гораздо позже, летом, два месяца спустя. Прежде всего осада Коньи не удалась (это можно было предвидеть), потому что Баязид держал в крепости отборнейшее войско. Самый же тяжелый удар нанес Джему Гедик Ахмед, лучший полководец Мехмед-хана. Баязид почему-то пощадил его, продержав полгода в заточении; дьявол знает, о чем сторговались они за это время, но Гедик Ахмед вышел из темницы ярым приверженцем Баязида. Лично я догадывался о причине, толкнувшей старого вояку к Баязиду. Честолюбец, знаток своего дела, Гедик Ахмед, должно быть, счел, что при султане-воине, каким слыл Джем, он всегда будет на вторых ролях. Тогда как при Баязиде, никогда не проявлявшем склонности к военным делам, Ахмед-паша сохранял свое место первого османского военачальника.
Совсем просто, не правда ли? Напрасно полагаете бы, что наверху, меж султанами и визирями, расчеты сложнее, чем между владельцами двух соседних лавчонок.
Вступив в Анатолию, Ахмед-паша первым делом приказал полонить всю семью Махмуд-бега и отправить в Стамбул. Махмуд-бег, обезумев, пустился преследовать янычаров, отвозивших его жен, чад и домочадцев. Другими словами, сам полез в лапы Сулейман-паши, правителя Амасы, был разбит и бит, а голова его – послана Баязиду. Из-за совершенного им безрассудства Джем лишился надежнейшего полководца и лучшего своего войска.
Уже в середине лета узнали мы, что братья вступили в переговоры. Начни их Джем раньше, до осады Коньи и разгрома Махмуда, неизвестно, чем бы они кончились. Но теперь, после одержанных побед, Баязид был непреклонен: «Империя – это невеста, а двух суженых невесте иметь не пристало. (Вы, наверно, заметили его слабость к народным поговоркам, Баязид тем самым доказывал свою близость народу!) Пусть брат мой перестанет обагрять свой плащ кровью правоверных и окончит свои дни в Иерусалиме, вне наших пределов!»
Вслед за словами последовали дела: чтобы положить конец бунту Джема, Гедик Ахмед двинулся на Киликию – уже вплотную к границе с моими землями, куда укрылись остатки Джемова войска.
С нетерпением ожидали мы новых известий. Я опасался не за халифа – Баязиду было теперь не до завоеваний. Каждое утро я просыпался с мучительной мыслью, что прибудет весть о гибели Джема: она становилась почти неизбежной. Говорили, что все сподвижники, исключая Касим-бега, покинули его, что Джем вновь скитается, всего лишь с несколькими тысячами воинов, по Киликии или Ликии, вдоль побережья. Дважды – по настоянию его матери – я посылал гонцов, предлагая ему мое гостеприимство. По настоянию матери. Зачем я подчеркиваю это?
Потому что между государями не существует дружбы. Я сочувствовал Джему, но не мог держать при своем дворе притязателя на престол Османов, когда этот престол законно занимал его брат. Я принужден был сохранять видимость приличий в своих отношениях с Османами и если предлагал Джему покровительство, то лишь потому, что был совершенно убежден: Джем не примет его. Я уже знал Джема. Он не любил благодеяний.
Мои гонцы не вернулись. Ахмед хорошо стерег границу.
Еще несколько слов. О том дне, когда мне сообщили, что Джем обратился с просьбой об убежище в другое место. Помню, прежде всего я испытал облегчение – не придется больше принимать участие в рискованном деле. И сразу же вслед за тем – чувство вины. Это чувство я унес с собой в могилу; оно было причиной всех моих позднейших попыток помочь Джему, очень гласных, показных. Они были заранее обречены на неуспех, я это сознавал. И лишь пытался с их помощью убедить кого-то (быть может, мать Джема, а быть может, и самого себя), что не изменил своему союзу с ним.
Я испытывал тайный страх, что Джем встанет у моего смертного ложа и потребует ответа. Джем не сделал этого, он простил меня. В сравнении со всем тем, что выпало на его долю, я, по-видимому, был наименьшим злом.
Не простила меня его мать, хотя ни разу не обронила и слова укора. (И она, и жена Джема, и сын долгие юды жили под моим кровом, рассчитывая на мою помощь в его спасении.) Мать Джема благодарила меня низкими поклонами – что, вероятно, было нелегко дочери и супруге владетельных особ. Свои укоры она проглатывала, но я чувствовал их, потому что и моя совесть упрекала меня в том же: если бы в свое время я предложил Джему не только приют, но и войско, если бы я решительно поддержал его, многое произошло бы по-иному. Возможно, Джем и впрямь стал бы султаном. Больше того: возможно, и я не оказался бы последним халифом из рода мамелюков. Потому что преемник Баязида, Селим Грозный – вы, наверное, слышали о таком, – покончил с Арабским халифатом.
Итак, перед вами держал речь последний халиф.
Четвертые показания поэта Саади о событиях июня 1482 года
Вы не бывали в Ликии. Сдается мне, нельзя сыскать на земле место, более соответствовавшее нашим мыслям и страданиям, чем Ликия в памятное лето 1482 года.
Горы Ликии совсем голые. Говорят, во времена финикийцев и эллинов они были покрыты кедровыми лесами. Но кедр ведь особенно пригоден для кораблей, и столетие за столетием ликийские кедры плыли по всем морям мира, развозя по свету нетерпеливо алчущих путешественников, купцов и корсаров.
Тогда, в 1482 году, в Ликии не оставалось ни единого деревца или кустарника. Бурные потоки, грозы и ветры успели че только обнажить ее горы, они превратили их в невиданную, зловещую пустыню. Ликия нависала над нами кроваво-красным, выветренным песчаником; Ликия спускалась к побережью уступами, нависавшими, точно огромные кровли, на которых не могло удержаться ни одно лошадиное копыто; Ликия стенала и оплакивала себя пронзительным гулом бесчисленных тесных ущелий – Ликия уже сама по себе была жгучей, безысходной мукой.
Вот по этому краю блуждали мы – несколько тысяч побежденных людей, потерявших веру в свою звезду. Лишь аллах ведает, зачем мы блуждали, а не оставались на месте; ни один из уголков Ликии не сулил нам большего, чем другие, повсюду взгляд встречал все тот же отказ: природа не желала нам помочь, приютить и утешить. Тем не менее мы продолжали огибать козьими тропами острые каменистые вершины, одолевать перевалы, карабкаться по уступам. Мы размачивали твердые как камень сухари в каком-нибудь роднике под обрывом и часок-другой отдыхали. Коней мы пасли в лощинке, поросшей лишайником, на ночлег устраивались на голых камнях. Длинный караван человеческих теней скитался по Ликии, не зная, чего он ищет.
Нет, кое-что мы все-таки знали: Баязид рано или поздно проведает о том, что мы здесь, на жестокосердной земле Ликии. Он даже не станет нападать на нас. Он окружит горы кольцом преданного ему войска и будет ждать. Ждать месяц или год, покуда мы не дойдем до полного изнеможения, покуда знойные ветры не иссушат или не заразят источники, покуда не падут наши кони и не иссякнут сухари. Так он одержит победу, не пролив братской крови. Крови не будет. Мертвые тела у подножия скал будут совсем иссохшими, натянутая на ребрах кожа будет звенеть, вместо глаз будут пустые глазницы.
Каждого из нас в те невыносимо тяжкие июньские дни 1482 года преследовало видение собственной смерти Поэтому все мы были притихшими Наш караван извивался по горным теснинам, как большая змея, – бесшумно.
Вы очень далеки от нашего времени, у вас все иное. Вам незнакомо чисто мужское ликование после победы, в которой участвовали твои руки; после битвы, от которой ты сохраняешь в памяти лицо твоего врага, из ко торой ты вынес отнятое у врага оружие либо привел вражеского коня. Наши победы были осязаемей, воспринимались всеми органами чувств, вам же радость такой победы чужда.
Но мы отличались от вас и другим – примирением, следовавшим за разгромом. То была не трусость или безверие; просто-напросто сознание того, что ты проиграл и должен претерпеть неизбежные последствия – страдания, голод и смерть. Именно так рассуждали мы во время наших скитаний по Ликии: игра проиграна, остается дожидаться конца. Для побежденного милости нет, мы и не рассчитывали на нее.
Не знаю, что стало бы с Джемом, не окажись с нами Касим-бега. Не Джем, а Касим не желал примириться с нашим поражением. В те несколько коротких недель, пока мы одерживали недолговечные победы в Карамании и Анатолии, Касим ощутил себя воскресителем своей поверженной державы. Он заключил с Джемом договор, по которому в случае победы Джема земле потомков Карамана предстояло вновь стать свободной. Джем мог умереть, существованию Османской империи это ничем не грозило. Но Касим понимал, что гибель Джема будет означать и гибель Карамании, на этот раз окончательную.
Я наблюдал за тем, как он денно и нощно бодрствует возле Джема, как убеждает его, что не все потеряно, что поражение Махмуд-бега – простая случайность, а торжество Баязида – кратковременно.
Джем слушал его с безразличием, повергавшим меня в отчаяние. Как будто Касим не к нему обращал свои слова, а просто изливал свое горе и свои упования на ликийские камни.
Такими и запомнились мне оба они в те дни: Касим – олицетворение напряженной воли и Джем – отрешенный, чуждый всему.
Так было до того часа, пока нас не настиг румелиец.
Вам покажется это неправдоподобным. Тем не менее этот человек сумел преодолеть путь от Аданы (где стояли основные силы Баязида) и после долгих поисков отыскать нас в каменном хаосе Ликии.
День догорал. В Ликии вечерние сумерки не приносят умиротворения. Еще более гнетуще выступают на красном закатном небе резкие очертания красных скал, их тени заволакивают плотной пеленой черные и холодные, как могилы, ущелья.
Мы распрягли и расседлали коней, готовясь к ночлегу. Воины выстроились цепочкой к роднику – должно быть, единственному в дне пути. Каждый набирал воды в какой-нибудь сосуд или мех, тридцать глотков, не больше. Этим должны были довольствоваться и всадник и лошадь.
Незнакомец спустился к роднику откуда-то сверху, из-за скал. Впоследствии мы узнали, что он прошел по всему хребту – если применительно к Ликии можно говорить о хребте, – чтобы нас обнаружить. Я заметил его, еще когда он спускался по обрыву, частью на ногах, частью сидя. Сначала солнце окрашивало его в красный цвет, заставляя казаться не человеком, а призраком. Я подумал, уж не мираж ли это – в пустыне ничто не бывает столь реальным, как миражи.
Только когда он спустился ниже, в полосу тени, я поверил, что это человек из плоти и крови. С его плеч свисали лохмотья, остатки сипахской одежды; из рваных сапог торчали израненные пальцы. Я бросился ему навстречу, держа руку на рукояти ножа; нож успел стать продолжением моей ладони – чего не делает с человеком война!
Заметив меня, незнакомец поднял руки – показывая, что идет не со злым умыслом. К нам подбежали еще люди. Уже много недель мы не видели живой души, если не считать пастухов, изредка появлявшихся на какой-нибудь из вершин, чтобы через мгновение исчезнуть.
– Я к султану Джему, – хрипло произнес незнакомец. – Султан Джем жив?
Уж не сумасшедший ли передо мной, мелькнуло у меня в голове. Глаза его дико сверкали, от всего его существа исходило напряжение, грозившее сорваться в отчаянном крике.
– Идем! – Я нарочно взял его за руку: приступ безумия всего надежней прерывается прикосновением.
Джем ожидал нас стоя. Странно – даже такого пустяка, как появление чужого человека среди каравана смертников, было достаточно, чтобы лицо его ожило.
– Ты послан Баязидом? – спросил он, и я содрогнулся при мысли, что Джем теперь уже возлагает надежды на брата.
– К чертям Баязида! – выругался незнакомец. – Я послан к тебе сипахами Румелии. Если же ты, пове литель, согласен говорить с посланцем Баязида, то иди и ты ко всем чертям!
На подобные слова каждый мужчина должен по справедливости ответить ударом. Джем не сделал этого.
– Говори! – произнес он
– Мой султан! – без надобности громко выкрикнул сипах. – Анатолия предала тебя. Анатолийские сипахи не видят, в какую петлю сами суют свою шею. Тем хуже для них! Почему не обратишься ты к Румелии, мой султан? Вот, за тобой последовали сюда одни лишь караманы, потому что Османская держава для них враг. В Румелии у османов множество врагов – греки, болгары, арнауты, сербы. Только в Румелии бунт против Баязида будет иметь успех!
Сипах умолк, силы его истощились. Я посмотрел на Джема. Только теперь он оскорбился.
– Так вот до чего дошли мы? – Голос его был резок. – Неужто я поведу войну не против брата, а против владычества Османов? Это ли предлагают мне сипахи Румелии?
– Не это, – еле внятно ответил посланец. – Но человек в своей борьбе использует союзы. Вспомни Мехмеда Рыцарственного, сына Баязида Молниеносного, он обрел союзников именно в Румелии.
– А чем он кончил? – прервал его Джем.
– Худо кончил, мы знаем это. Но ты – не он.
– Почему же? – обронил Джем будто мимоходом, но это не обмануло меня: в дни, последовавшие за нашим разгромом, Джему было крайне необходимо услышать, кто же он, в сущности.
– Даже одно то, что ты наполовину их крови, что мать у тебя славянка, заставит неверных пойти за тобой.
– Я хочу услышать слово румелийских сипахов, а не христиан, – холодно бросил Джем.
– Слушай! Мы были опорой Мехмед-хана, потому что в Румелии больше всего земель принадлежало прежде мечетям, потому что сегодня каждый из нас живет доходами от села, которое до вчерашнего дня было вакуфным[15] и завтра снова может им стать. Мы соучастники твоего отца в его грехе против мусульманства, нам нет прощения. Но завтра останутся без земли и платы половина румелийских сипахов – какой мужчина не поднимется на защиту своего дома, своего хлеба, своей власти? Сипахи Анатолии все равно останутся сипахами, кто бы ни правил ими – Баязид или Джем, поэтому они и предали тебя. А нам конец, если власть останется у Баязида… Зачем поставил ты на Анатолию и сам уступил брату Румелию? Этими голыми утесами и обрывами хочешь ты править? Юруками и туркменами? Видел ли ты. Румелию, мой султан?
– Нет, – ответил Джем, – отец никогда не пускал нас в Румелию.
– И не зря! – дерзость полубезумного сипаха не имела границ. – Нельзя увидеть Румелию и не пожелать ее. Иди туда, султан Джем!
– Мы поговорим после. Накормите его чем найдется. Останься со мной, Саади. И ты тоже, Касим-бег.
Сипаха увели, а мы сели там, где недавно стоял Джем. Все трое молчали. Джем оперся спиной о скалу, глядя перед собой пустым, невидящим взглядом.
– Что скажете, друзья? – нарушил он наконец молчание. – Имею ли я право вновь искать выход?
– А как же! – поспешно отозвался Касим-бег. – Неужто ты колеблешься, мой султан? Румелия предлагает тебе верность…
– Анатолия также предлагала мне верность, не так ли?
– Посланец прав: Анатолия мало что потеряет, если ею будет владеть Баязид. Пострадает только Карамания, скажем, и я. А сипахам Румелии это действительно грозит многим. Там ты найдешь себе союзников.
– Но не претит ли тебе союз с неверными, Касим-бег? – исподлобья взглянул на него Джем.
– Что мешает тебе тащить каштаны из огня их руками, мой султан?
– И ты полагаешь, что они не разгадают наших расчетов?
– У них невелик выбор, – настаивал на своем Касим-бег. – Так же, как и у меня. Отчего я поверил, что, добившись успеха, ты сдержишь данное мне обещание? А я поверил – ибо что еще оставалось мне? И они тоже должны будут тебе поверить, вот и вся несложная правда.
Я знал, ничто так не оскорбляет слух Джема, как те истины, что именуются несложными. Для него они были низменными, скотскими, он считал, что человеческая истина должна быть как раз сложной.
– Хорошо, – немного погодя произнес он, а затем с горечью продолжал: – Коль мы уж дошли до простых истин: какая тебе корысть, если я перенесу свое восстание в Румелию?
– Совсем простая, – с достоинством ответил последний потомок караманских князей. – Пока ты будешь отвлекать силы Баязида в Румелии, я легко освобожу свою землю. И сбудется то, что ты скрепил своей подписью, мой султан: государство караманов оживет вновь.
– Да… – согласился Джем. – Поистине смешно, что самое близкое уму объяснение столь нескоро приходит мне на ум. Ты свободен, Касим-бег. Только будь добр, позови ко мне румелийца.
Тот выглядел заново рожденным. Внимание, оказанное ему нашими людьми, и, наверно, вода возвратили ему силы. Теперь я видел перед собой жилистого, крепкого человека с умным лицом. Он уже совершенно не походил на помешанного.
– Я должен сообщить тебе, мой султан, – начал он, не дожидаясь вопроса, – имена тех санджак-бегов, что послали меня: Чирменский, Филибешский, Димотишский.
– Я это подозревал, – ответил Джем. – Именно в их санджаках было всего больше вакуфной земли перед тем, как мой отец ввел свои законы. Что же предлагают они мне?
– Они предлагают тебе покинуть Ликию, эту смертоносную западню. По дорогам, которые ты сам изберешь, переправься в Румелию. Как только Баязид узнает, что тебя больше нет здесь, он уведет свои войска. Тогда и мы вернемся в свои санджаки. А ты подашь нам знак, что приближаешься. Вот все, что требуется от тебя.
– Не в первый раз слышу я подобные посулы. Точно такими же заставили меня выступить из Каира сипахи Анатолии. И обратились в бегство уже в третьем сражении. Что будет, если и румелийцы внезапно решат, что власть Баязида не столь уж страшна им?
Сипах смущенно умолк. То ли не зная, что ответить, то ли боясь, что ответ покажется дерзким. Теперь, придя в себя, он явно благоговел перед нашим повелителем.
– Хуже, чем в Ликии, не будет, мой султан, – проговорил он наконец. – Кроме того… как бы это выразить?… Если тебе потребуется прибежище, то… тебе будет лучше у них.
– У кого? – не поверил своим ушам Джем.
– У неверных, – с опаской пробормотал сипах. – Они мягкосердечны, мы ведь их знаем. Убийство почитается у них смертным грехом. Они пощадят тебя, ты наполовину – их.
Я испугался вспышки гнева. Даже я, самый близкий к Джему человек, никогда не мог предвидеть, как отнесется он к напоминанию о его происхождении. Иногда он воспринимал это едва ли не как лесть, в другой раз вспыхивал, точно от пощечины. Сейчас произошло нечто подобное.
– Я не вполовину, а целиком правоверный! – произнес Джем с присущей ему надменностью. – Дивлюсь тому, что воины моего отца сами толкают меня к забытому мною родству. Я борюсь и достигну победы как потомок Османов, запомните это!.. – И, уже другим тоном, осведомился: – Сумеешь ли ты отправиться в обратный путь завтра поутру?
– Сумею.
– Возьми коня, тебе дадут на дорогу сухарей. Сообщи санджак-бегам, что я даю согласие. Пускай ожидают меня! Я сделаю все, что в человеческих силах, чтобы подойти к границам Румелии. И тогда в свою очередь буду ожидать вас.
– Верь нам, мой султан! – чуть ли не со слезами произнес сипах, взволнованный столь большим доверием. – Кто из сипахов Румелии не последует за Джемом? Ты наше солнце! Живая длань покойного Завоевателя!
Джем стоял, величавый и торжественный, не замечая чего-то болезненного в этих щедрых посулах, в этих слезливых восхвалениях.
Я же за время скитаний по Ликии так свыкся с мыслью о конце, так настойчиво стояло у меня перед глазами собственное мое тело, бездыханно распростертое у подножья скал, сухое, как давно поваленное дерево, тихое и успокоившееся – главное, успокоившееся, не принуждаемое более двигаться и страдать, – что теперь ощутил нестерпимую боль: час сладкого небытия отдаляется, я снова должен жить. Вы вольны не верить мне. Надо самому оказаться летом в Ликии, быть побежденным, быть частью обреченного войска, быть поэтом и влюбленным, присутствовать при страданиях того, кого любишь, чтобы понять, сколь нежеланной может выглядеть жизнь.
Помню, перед тем как двинуться в обратный путь, сипах назвал свое имя и чин – он был алайбегом Визы, звали его Исмаилом. Я проводил его взглядом. Страшная слабость охватила меня. Я лег на песок. Поднял глаза к небу – ночью над Ликией оно совсем черное.
Джем сидел возле меня. Стоило протянуть руку, и я бы коснулся его. Но я не хотел. Я чувствовал, что всей моей преданности недостанет для того, чтобы извлечь Джема из его одиночества. «О аллах! – подумал я. – Честолюбие и гордость, ответственность перед историей и безответственность по отношению к собственным детям и матери, решимость и беспомощность – как много нагромождено тобой, чтобы сделать человека самым одиноким существом на свете…»
Я не спал, когда Джем расстелил попону и лег возле меня. Он замерз от ночного холода, но не дрожал. Я укутал его плащом, прижался к его спине, чтобы согреть. Джем не произнес ни слова. Уже засыпая, я услышал:
– Саади, я взвесил все возможности. Нам и вправду следует достичь Румелии, но путь туда лежит через христианские страны. Это страшно, но алайбег сказал верно: они – другой мир. Оттого мы и одерживаем над ними верх, что для них законом является милосердие, а первой обязанностью – помощь страждущему. Мне говорила мать… Быть может, Саади, я и впрямь принадлежу им, мне чужда наша откровенная жестокость, наши низкие средства во имя великой цели. Может, сам того не сознавая, я немного христианин, Саади?
«Нет! – хотел я сказать ему. – Ты не принадлежишь ни нам, ни им. Поэт всегда ничей, он принадлежит лишь к бессмертной, великой и слабой семье поэтов. Не на земле наша отчизна, Джем, – хотел сказать я ему, – здесь мы всегда будем изгнанниками… Не заблуждайся, друг, будто есть на свете человек, способный пожалеть кого-то, кроме самого себя, это давнее заблуждение поэтов. Умрем этой же ночью, Джем, – хотелось мне молить его, – быть может, тогда мы вернемся наконец в родной дом…»
Но я промолчал. О великий аллах, зачем я промолчал! Зачем не избавил Джема от жизни и всего того, от чего жизнь не захотела избавить нас; зачем той ночью в Ликии я своей рукой не умертвил Джема, чтобы осталась живой память о двадцатилетнем поэте, отлитом из светлой бронзы, русоволосом, чарующем и слабом!
Отчего, друзья, боимся мы ранней смерти – ведь мы гораздо полнее умерщвляем себя тем, что продолжаем жить…
Пятые показания поэта Саади о событиях 25 июня 1482 года
Я проснулся на рассвете от толчка – так порывисто вскочил на ноги Джем. Он излучал волнение: решение созрело, ему предстояло действовать.
– Саади, – приказал он мне, – позови Сулеймана!
– Какого, мой султан? У нас не менее двухсот Су-лейманов.
– Франка Сулеймана.
Я направился к нашему лагерю – нескольким тысячам людей, лежавшим прямо на песке. В первую половину ночи он согревал их, а во вторую безжалостно выцеживал остатки их собственного тепла. Поэтому на рассвете они походили на извлеченных из могил мертвецов. Я шел между ними, безуспешно ломая голову, зачем именно Франк понадобился Джему.
Сейчас я скажу вам о нем несколько слов.
Думаю, не было среди нас человека столь сытого по горло горечью, разочарованием, вообще жизнью, как этот Франк Сулейман, с которым все избегали беседовать, делить кусок или укрываться одним плащом.
Он появился среди нас за много лет перед тем. Мехмед-хан только что доверил Караманию своему младшему сыну, а сам был поглощен ожесточенной войной с Родосом. Для переговоров с рыцарями Завоеватель, не желая себя связывать, использовал Джема. Тогда-то Джем и посетил впервые Ликию, ту часть ее побережья, что против Родоса. Там принимал он родосских послов.
Однажды утром, едва от берега отплыла каравелла с очередными послами (переговоры затягивались, Мехмед-хан требовал от Родоса ежегодной дани), к палатке Джема привели чужеземца. Лет под тридцать, голубоглазый, с длинными до плеч волосами, в черной рясе Ордена.
«Должно быть, опоздал на корабль и сейчас начнет умолять, чтобы ему дали лодку», – подумал я.
– Я прошу убежища! – отчетливо и крайне холодно произнес чужеземец. И не мигая смотрел на нас, пока толмач переводил его слова.
– Как? Отчего? – Джем смешался и не сумел этого скрыть.
– Я имею право на убежище по всем законам! – все так же холодно и словно надменно произнес чужеземец. И добавил: – Клянусь, что не совершил никакого преступления и к вам меня привел не страх перед карой. Прошу убежища!
– Эфенди, – отвечал Джем, в ту пору еще совсем юный, явно не найдя более уместного обращения к вражескому воину, – я не знаю, как отнестись к твоему поступку. Убежище, говоришь ты… Тебя кто-то преследует? Отчего ты бежишь именно к нам, врагам Родоса? Что мешает тебе направиться куда-нибудь в ваши края, к христианам? Ведь в свите шехзаде Джема или при его дворе нет места живому гяуру, наш закон суров.
И сочтя свои слова чрезмерно резкими, добавил уже мягче:
– Если хочешь, мы поможем тебе добраться до ваших берегов. Коль скоро ты не в ладах с рыцарями, а они враги османов, наш долг помочь тебе, не так ли?
Джем вопрошающе оглянулся на свиту, он был крайне растерян, нам ли решать такие запутанные дела!
Чужеземец слушал его с легкой насмешкой во взгляде, даже с некоторым презрением.
Не случайно попросил я у вас убежища, – ответил он. – Я не хочу возвращаться на христианскую землю. Я больше не верую.
Последние его слова дышали ненавистью, словно он винил кого го за то, что потерял веру.
Джем был потрясен. Восемнадцатилетний юноша, сын султана, баловень дома Османов – он тогда еще ничего не знал о жизни.
– Хорошо, хорошо, – легко сдался он. – Я спрошу кого надлежит. Все уладится. Не бойся, эфенди! Ты убедишься в том, что мусульмане тоже люди.
– Я не боюсь, – мрачно отвечал тот, ничуть не тронутый милосердием шехзаде. – А коль при вашем дворе не может жить неверный, я готов принять ислам. Без всякого промедления.
Тут уж Джем стал держать совет со своими вельможами. Как вам известно, то были в большинстве караманские беги, либо же мы, такие же мечтательные и зеленые юнцы, как Джем, так что решение было несложным: пусть чужеземец примет нашу святую веру и остается при нашем дворе. Кому он помешает? А может, при случае и пригодится.
Когда мы объявили ему волю Джема, чужеземец преклонил колено и отцепил от пояса меч. Затем были назначены свидетели таинства. (Как вы, наверное, и ожидали, Джем указал на Хайдара и меня.) Вся церемония заняла полчаса. Я помню слова новообращенного, которые он произнес, с трудом обматывая голову чалмой – мешали длинные волосы:
– Назовите меня Сулейманом! Ведь так у вас звучит Соломон? А я и есть мудрец Соломон. Потому что мудрее всех вас, вместе взятых.
Вот каким человеком был тот Сулейман, за которым я шел тогда. Дерзкий до наглости, бесстрастный, непроницаемый, озлобленный на весь мир. При нашем дворе в Карамании он исправлял должность оружейника, был весьма сведущ по части оружия. Службу свою он нес усердно, оружейная мастерская сверкала порядком и чистотой, а во все прочее он не мешался. Только однажды вечером, попав каким-то образом в веселое общество поэтов у фонтана, когда ширазское вино развязало ему язык, Сулейман произнес на своем ломаном турецком.
– Блаженны нищие духом.
– Как, как? – переспросил я, более захмелевший, чем он.
– Вот так. Они всего блаженней.
– Неужто мы кажемся тебе столь ничтожными, Сулейман? – Не будь я пьян, я бы почувствовал себя задетым.
– Совершенно. Вы дети и, как все дети, не умеете ценить своего детства.
– По каким же признакам отличают у вас взрослых мужчин?
– По тому, что они по уши увязли в дерьме. (Прошу извинить, это его слова, не мои.) И сколько бы ни бились, ни барахтались, спасения им нет.
– А ты не кажешься мне таким уж выпачканным, Сулейман. От тебя, – я бесцеремонно принюхался, – пахнет чистой лавандой.
Сквозь пары ширазского вина Сулейман смерил меня очень суровым взглядом. Он уже трезвел.
– Если бы ты когда-нибудь веровал так, как веровал я, а вслед за тем навидался того, чего навидался я, то слово «дерьмо», Саади, хоть ты и поэт, показалось бы тебе чересчур мягким.
Не помню, что я сказал в ответ – должно быть, какую-нибудь глупость. На том наш разговор с Сулейманом и окончился. Вряд ли он был многословнее с кем-либо другим. Он явно не любил вспоминать о своем прошлом, наш веселый двор его раздражал, а о будущем он ни разу ни словом не обмолвился – и нам и себе самому Сулейман казался человеком без будущего.
Шагая по лагерю в поисках Сулеймана, я старался понять, зачем же он понадобился нашему господину. Джем не проявлял к нему особого благоволения – как и мы все, Джем избегал общества Сулеймана.
Я нашел его далеко в стороне от группы караманов, отправлявших утреннюю молитву. Сулейман лежал, опершись на локоть, и со свойственным ему холодным презрением наблюдал за ними. Он заметил мое приближение, но даже не шевельнулся – в его глазах я стоил не больше, чем полудикари караманы.
Я передал ему повеление Джема, Сулейман захватил попону, сумку с сухарями, и мы вдвоем зашагали назад.
Джем нетерпеливо поджидал нас – я отлично знал, как у него проявляется нетерпение.
– Сулейман, – обратился он к Франку, – я доверяю тебе сегодня нечто гораздо большее, чем свою жизнь.
Тот лишь слегка поклонился в ответ.
– Ты отправишься на Родос и от моего имени попросишь их о том, о чем некогда ты просил меня: об убежище.
Сулейман не ответил. Я видел, лицо его становится суровей, чем всегда, зрачки суживаются, точно перед боем, а голова уходит в плечи, он широко расставил ступни – что на него такое нашло?
– Мой султан, – миновала вечность, прежде чем он раскрыл рот, – твой слуга не вправе спрашивать, но я все же осмелюсь, чтобы ты когда-нибудь не укорил меня. Как пришло тебе на ум искать убежища на Родосе?
– Я не должен давать ответ своему слуге, Сулейман, – сказал Джем, – но все же объясню тебе: мы направляемся в Румелию. Однако не птицы же мы, чтобы перелететь туда по воздуху? Родос – первый остров по пути на север.
– Иди к персидскому шаху или египетскому султану, о повелитель! – произнес с мольбой диковинный тот человек. – Хоть в пекло, если на то твоя воля, только не на Родос! Я был там. Неужели ты не задаешься вопросом, отчего предпочел я своим единоверцам тех, кого у меня на родине называют язычниками и дикими зверями?
– Сулейман, – очень мягко проговорил Джем, – твое прошлое касается лишь тебя одного. Я понимаю, человек может быть огорчен, разочарован, его может изгнать обида или тяжкая утрата. Но это не должно ослеплять его, Сулейман, отдельным человеком не все исчерпывается в мире. Я отдаю себя не в руки корсаров; я прошу убежища у магистра рыцарского ордена. Мне известны законы их веры – я никогда бы не вверился людям, не зная их законов, Сулейман.
Пока Джем произносил эту длинную речь, Франк на глазах преображался; ледяная корка растаяла, Сулейман заговорил так, словно защищал смысл всей своей жизни:
– Мой султан, мне трудно разубедить тебя, но твои слова – прости, повелитель, – чистейшее безрассудство. Не говори о рыцарях-монахах до той поры, покуда не поживешь у них. А после того, как поживешь, все предупреждения окажутся запоздалыми.
– Ты видишь мир сквозь личную свою обиду, Сулейман, я не корю тебя за это! Но отчего не хочешь ты понять, что, пусть ты даже прав, со мной Орден не может поступить так, как с первым встречным? Ведь я сын султана, за мной, вы вчера слышали это, стоят сипахи Румелии. Допустим, что рыцари-монахи лишены сердца, но зато у них есть рассудок. Они не станут бесславить перед всем христианским миром Орден, цель которого – распространить по Востоку закон милосердия. Вот видишь, Сулейман, я рассчитываю на их здравый смысл.
Франк словно сжимался под красивыми фразами моего друга. Должно быть, подумал я, его подавляло великодушие, государственный ум Джема и он чувствовал себя виноватым в том, что пытался вдохнуть в его душу подозрение. Он постоял так под взглядом Джема, потом вскинул голову и с необъяснимым отчаянием произнес:
– О повелитель, ты не послушаешься меня, даже если я до самого вечера буду заклинать тебя. Я не умею говорить, да и не подобает мужчине хулить свою кровь, семью, его взрастившую. Об одном прошу: потребуй от великого магистра письма. Чтобы он бумагой скрепил обещание не только впустить тебя на Родос, но и отпустить, когда ты того пожелаешь!
– Ну, это уже смешно. – И Джем действительно рассмеялся. – Я, конечно, буду просить впустить меня в Родосскую гавань. Но отпустить? Что за странная просьба, Сулейман! Неужели ты полагаешь, что они способны выдать меня Баязиду? Да ведь Баязид будет продолжать завоевания моего отца, и Родос падет первой его жертвой. Орден – враг Османов, Сулейман, и я не случайно там ищу убежища.
Джем продолжал улыбаться, как всякий не слишком хитрый человек, радующийся хитрой мысли, неожиданно пришедшей ему в голову. А Сулейман смотрел на него с жалостью – словно перед ним был опасно больной.
Что касается меня, я тоже, если хотите знать, не разделял тревоги Франка – рассуждения Джема звучали так убедительно!
– Мой султан, что бы ты ни повелел мне, – заявил Сулейман, – я не вернусь, не получив бумаги, о которой сказал.
– Поезжай, Сулейман! – распорядился Джем, оставляя эту дерзость без ответа. – Мое письмо будет тебе передано, Хайдар пишет его. До берега тебя будут сопровождать триста наших людей, там вас ожидает ладья. Да пошлет вам аллах попутного ветра!
– И да поможет он мне возвратиться, мой султан, несмотря на попутный ветер туда и оттуда! – насмешливо сверкнул глазами Франк. – Едва ли Орден очень обрадуется рыцарю-беглецу, принявшему турецкую веру.
– Стой, Сулейман! – так порывисто воскликнул Джем, словно тот кинулся бежать. – Ты полагаешь, что тебе грозит опасность? Ты действительно принадлежал к их братству, однако ныне тебя охраняет наш закон. Возможно, и там есть сбежавшие от нас, кого Орден взял под свою защиту.
– Все это верно, повелитель. – На лице Франка не было и тени страха. – Один бежит сюда, другой туда, тем самым переставая быть своим у своих и не становясь своим у чужих.
– Не понимаю, – поморщился Джем.
– Дай тебе бог никогда не понять! – просто, без всякой злости ответил Сулейман. – Я хотел только сказать: тому, кто однажды бежал, лучше не искать пути назад. Такого пути нет!
– Друг… – с какой легкостью Джем дарил людям это звание! – мой выбор пал на тебя лишь потому, что ты знаешь их язык. Мне не пришло в голову, что тебя на Родосе подстерегает опасность. Подумай, желаешь ли ты стать моим посланцем?
– Я уже стал им, повелитель, – сказал Сулейман. – Даже если мне и грозит беда, а может, именно поэтому. Но молю тебя, запомни: если я не вернусь, это произойдет не по моей воле, – значит, я был задержан или убит. Пусть хоть моя смерть докажет тебе, как ты легковерен.
– Нет! – Джем был по-настоящему напуган. – Не кажется ли тебе, что ты убедишь меня слишком дорогой ценой?
– Дорогой ценой! – повторил Франк, и на этот раз, впервые, его слова тронули меня. – Помилуй, мой султан! Много ли стоит человек без родины?
И не медля более, Франк Сулейман направился к Гайдару, заканчивавшему послание Ордену.
– Я не узнаю его. – вслух размышлял Джем. – Никогда не предполагал, что наш оружейник будет так многословен и проявит какие-то человеческие чувства. Видишь, Саади, что делают с человеком испытания? Даже с таким кремнем, как Сулейман. Достаточно было нескольких месяцев скитаний по Эрмени, Египту, Ликин…
– Боюсь, что не это потрясло его, повелитель, – ответил я, – Боюсь, что Сулейману довелось пережить нечто пострашнее, чем Ликия. И воспоминания об этом, думаю я, не дают ему покоя.
Тем и закончился тот разговор.
Сулейман, сопровождаемый тремя сотнями людей, отправился в путь. Даже издали не помахал нам рукой на прощание. Он ехал, уронив голову на грудь, мрачный, как самое дурное предчувствие.
– Наш оружейник сегодня как в воду опущенный, – пошутил Джем.
– Когда же он выглядел иначе? – подхватил я шутку. Но дурное предчувствие тяжело нависло над нашим лагерем.
Первые показания Д'Обюссона, великого магистра Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, об истории делах возглавляемого им Ордена
И по вашим и по всяческим законам я свободен от дачи показаний – никто не обязан свидетельствовать против себя, гласит закон. А я боюсь, что расследование по делу Джема завершится новыми обвинениями, главным образом против меня. Отчего я так считаю, спрашиваете вы? Оттого что обладаю в этом отношении длительным и горьким опытом.
Меня начали обвинять давно, еще триста лет назад. В различных писаниях (от романов до политических трактатов) я был представлен чернее дьявола, мне приписывались черты настоящего чудовища.
Простите, что я позволяю себе обратить слова упрека к потомкам – принято считать, что потомки не ошибаются. Однако не замечаете ли вы: с одной стороны меня уличают в семи смертных грехах, с другой – история указывает на меня как на самого выдающегося магистра Ордена? Какое из двух утверждений истинно?
Не отвечайте, я знаю и сам: и то и другое. Истинно, что в мое время государственный деятель мог достичь высот, лишь приняв не только образ зверя, но и его повадки.
Вы утверждаете, что я преувеличиваю. Угодно ли, я приведу в пример нескольких моих современников, оставивших в истории завидный след?
Итак:
Я был современником Людовика XI. Он сделал попытку объединить феодальные владения между Рейном, Пиренеями и Атлантическим океаном в нечто, послужившее основой нынешнего французского государства. С помощью неимоверных усилий и поразительного государственного чутья. Прекрасно. Но что из себя представлял Людовик XI? Это был изверг, прошу простить мне это выражение. Еще в юности он восстал против собственного отца и повел против него настоящую войну; взойдя на престол, он не гнушался никакими средствами – будь то кинжал, яд, доносы или пытки. Противники Людовика проводили долгие годы заточения в клетках, где в длину, ширину и высоту было по 8 шагов. В таких клетках они ели, спали и справляли нужду. Отвратительно, не правда ли? А Людовик любил прохаживаться между этими клетками и вести саркастические беседы ее своими гостями поневоле.
Сверх всего прочего это был шут – человек, получавший удовольствие от глумления над людьми и над собственным саном. Он объезжал свои владения, переодетый простым ремесленником, и заигрывал с горожанами, одновременно втрое увеличивая взимаемые с них налоги. Вот, вкратце, что такое Людовик XI, которого история называет собирателем французских земель.
Я был современником трех пап – Сикста IV, Иннокентия VIII и Александра VI. Иннокентия я характеризовать не стану лишь потому, что он был моим личным другом. Двое других соперничали меж собой в низости. И тот и другой открыто содержали одну или нескольких любовниц, кормили от двух до шести незаконнорожденных отпрысков, развлекали Рим карнавалами или боем быков. Так выглядели в наше время духовные пастыри, достигшие законченного воплощения в Александре VI, иначе – Родриго Борджиа, отце Цезаря и Лукреции. Есть ли надобность подробно описывать его? Была ли в Италии конца XV века хоть одна преступная интрига, в которой бы не угадывалась рука семейства Борджиа? Впрочем, на пороге Реформации наш клир показал, и показал в полной мере, на что он способен.
Я был современником и Лоренцо Медичи, флорентийского тирана, проведшего свою жизнь в неслыханных соперничествах и войнах; и Ладислава V, убившего старшего сына Яноша Хуньяди и бросившего в темницу младшего; был современником Цезаря Борджиа, войнами воскресившего светскую власть Папства, типичнейшего насильника эпохи Ренессанса и любовника собственной сестры; был современником Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, это они снарядили эскадру Колумба для того, чтобы ограбить и обратить в рабство Новый Свет, и в своих первых колониальных спорах с Португалией призвали верховным арбитром – кого бы вы думали? – «неподкупного», «мудрого и справедливого» Александра VI!
Следует ли продолжать перечень? Мне хотелось бы напомнить вам только еще об одном моем современнике, хотя и гораздо более молодом: Николо Макиавелли. История и тут заблуждается: не Макиавелли придумал макиавеллизм, чтобы на нем воспитывались многие поколения правителей. Он просто наблюдал вблизи государственную жизнь нашего времени, обобщил свои наблюдения и назвал вещи своими именами, дав теоретическое оправдание преступлению, возвысив низость, двуличие, измену.
Вы спрашиваете, зачем я говорю об этом, вам все известно и без моей изобличительной речи. Весьма рад. Но зачем же, столь осведомленные, вы обвиняете давно почившего человека, не сообразуясь с мерилами его времени, исходя из некой внеисторической справедливости?
Призванный на ваше судилище, я поначалу вознамерился молчать – лишь перед совестью своей и господом обязан я держать ответ. И если все же заговорил, если думаю говорить и впредь, то лишь потому, что никто не остается вполне безразличен к оценке истории. Я намерен доказать, что мои действия имели высокую цель, защищали высокие интересы. Незачем мне – человеку, которого род Д'Обюссонов почитал своей гордостью, – впредь оставаться в истории темным пятном на нашем родовом имени.
Уступая вашей просьбе, скажу несколько слов с нашем Ордене, ибо, по вашим утверждениям, лишь немногие знают ныне о его целях и структуре. Мне это кажется более чем странным, ибо это единственный церковный орден, сохранивший до ваших дней свое государство, хотя и под другим названием – Ордена мальтийских рыцарей. Ныне он владеет Мальтой, крохотным островком в Средиземном море, крепостью, словно затерявшейся среди морских просторов.
Верно, у нашего Ордена история несколько особая. В отличие от других рыцарских братств, начинавших как военная сила, а кончавших мирно, прокармливая монахов производством напитков, содержанием пансионов для детей хороших фамилий и тому подобным, с Орденом Святого Иоанна Иерусалимского произошло обратное: он долго таил свое возникновение, чтобы впоследствии стать ратным соперником ряда средиземноморских государств.
Мы относим его рождение к XI столетию, когда некие итальянские купцы основали в Иерусалиме возле Гроба господня монастырь. Нарекли этот монастырь именем Святого Иоанна в память Крестителя и передали монахам-бенедиктинцам, Ордену, в свое время очень известному.
Небольшая эта обитель, имевшая при себе больницу, во времена сельджуков находилась при последнем издыхании и слегка поправилась лишь после Первого крестового похода, когда рыцари-крестоносцы освободили святые места и основали там свои небольшие государства. Иерусалим превратился тогда в центр Иерусалимского королевства.
Сожалею, что у вас столь смутное представление о жизни святых мест в ту эпоху – это поистине одна из забавнейших страниц мировой истории. Где-то на краю земли, на территории, населенной варварами и разбойниками, наши лотарингские, фландрские или ломбардские сеньоры основали феодальное общество в самом чистом виде. Все то, что на Западе встречало противодействие со стороны короля, церкви или простолюдья, здесь было создано в мгновение ока: противиться было некому, ибо местные жители на протяжении целых ста лет просто не желали признавать, что мы существуем и владеем Левантом. Они продолжали жить своей прежней жизнью и мало заботились о том, что числятся подданными некоего графа, князя или даже короля.
Впрочем, все эти мелкие государства – ибо каждый сеньор поспешил основать свое собственное – были обречены на печальную бедность. Доблестное дворянство Запада упустило из виду, что основа его роскоши – презренные крепостные. Рыцари, завладевшие святыми местами с большим шумом (но, надо признать, без особого труда), оказались неспособными ввергнуть в крепостную зависимость воинственные племена. Вообразите себе картину! Наши сеньоры на Востоке сооружали замки, устраивали турниры, прибавляли к прежним все новые титулы. Но работать и платить за это великолепие было некому, и весьма скоро пришлось им довольствоваться пшеничной кашей с бараниной и ставить заплаты на свои праздничные мантии. Хуже того – нечем стало платить наемникам; отряды наемников распались и потянулись на Запад, где на них трудились в поте лица добрые поселяне. А святые места остались без защитников. Какова ситуация, а?
Не прошло и ста лет после освобождения Гроба господня, как местные племена пришли к заключению, что уже вдосталь нагляделись на эту забавную историю, и без особых проволочек погнали пришельцев прочь из Иерусалима. Однако перед тем случилось некое немаловажное событие, я имею в виду основание нашего Ордена.
К началу XII века настоятель монастыря Святого Иоанна отошел от бенедиктинцев и создал особый Орден "Братья из больницы Святого Иоанна в Иерусалиме».
Первые же налеты бедуинов вынудили Орден к военным действиям, пока еще – оборонительным. Папа римский освятил эту перемену, обратив братьев милосердия в рыцарей-монахов. Они безуспешно оборонялись, а под конец были принуждены покинуть свое священное гнездо и в 1187 году положили начало одиссее, пред которой бледнеют странствия самого Одиссея. Так, отступая все время по берегу к Акке, которую они застали, можно сказать, никому не принадлежащей, они в 1191 году завладели ею и объявили своим государством.
Вижу я, кое-кто из вас улыбается. Вы снова не можете выйти из рамок своего времени. Вам странно, что несколько сотен оборванных воителей занимают некий дотоле неведомый им город и объявляют своим – у нас же это было совершенно в порядке вещей, перелистайте учебник истории.
Так «Братья из больницы Святого Иоанна» стали жить без какой-либо больницы, без обязанностей по отношению к страждущим, добывая средства к существованию грабежом близлежащих селений. Но в 1291 году на Орден обрушился новый удар – доведенное до крайности население выкинуло рыцарей-монахов и из Акки. Тогда они сели на корабли, перебрались на Кипр, а дальше все пошло прежним чередом. История Ордена развивалась с точным повторением – снова в течение десятилетий господство над чужим, на редкость плодородным островом и снова провал – в 1310 году иоанниты покинули Кипр и, захватив Родос, основали тут свое государство.
О Родосе я могу рассказать многое, я провел там лучшие годы жизни, целых тридцать лет. Как собственный дом знал эту крепость, полукругом обрамлявшую скалистый залив, ее узкие улочки с домами одинаковой высоты, глубокие тенистые колоннады вдоль мощенной каменными плитами набережной – каждое окно и каждый человек были знакомы мне.
Город был сплошь из камня – для зелени не оставалось места на этом клочке земли, где должны были разместиться рыцари, горожане и чужеземцы. Известковые горы поставляли нам в изобилии мягкий белый камень, так что Родос ослепительно белел под южным солнцем, точно череп, долго пролежавший в песке.
Над всеми зданиями города возвышался огромный собор Святого Иоанна. Он никогда не бывал полон во время богослужений, потому что население Родоса, в основном греческое, продолжало исповедовать ложное восточное вероучение. Они уходили за пределы города, чтобы молиться в своих убогих часовенках, раскиданных по всем холмам острова.
Мы предоставляли грекам молиться по-своему. Не хотели, руководствуясь печальным опытом, раздражать их. Что ни говорите, они растили хлеб, занимались торговлей и помогали нам отражать многочисленные нападения на наш остров; все же они были христианами, пусть и не истинными.
Другим большим строением, господствовавшим над городом, был дворец великого магистра. Несколько десятилетий прожил я в нем, воображая, будто мне известны все его потайные уголки, и лишь очень поздно узнал, что ошибался. Каждый из моих предшественников прибавлял к прежним новые тайники, каждый усиливал таким способом охрану своей особы и облегчал себе возможность подслушивать, заставать врасплох и карать. А затем сходил в могилу, унося с собой секрет этих тайников так что нет ничего удивительного в том, что следующий великий магистр, создавая свои потайные двери, невидимые глазки, лестницы, начинавшиеся в каком-нибудь камине и заканчивавшиеся где-нибудь в стенном шкафу, не подозревал об уже существующих.
Помимо дворца, Родос обладал еще двумя величественными постройками – больницей иоаннитов и постоялым двором для гостей из всех стран. Больница была не столь уж необходима – мало кто из паломников, направлявшихся в святые места, заболевал на Родосе: условия жизни на острове были превосходны. Но зато постоялый двор бывал всегда полон. Не паломниками, для которых он предназначался, – они были немногочисленны, – а купцами, торговыми людьми с Запада и с Леванта. Ибо Родос был признанным, неминуемым перекрестком левантийской торговли.
Постепенно миссия рыцарей-монахов менялась. Борьба против неверных, завладевших Гробом господним, сменилась борьбой против средиземноморских корсаров. Средиземное море, мнится мне, есть родина сей напасти. Всякого рода незадачливые рыцари, оттесненные из святых мест прямо в море; всевозможные обломки исконного населения Леванта, жизнь которых сделалась невыносимой из-за бесчисленных нашествий; беглые воины сельджукских, арабских, османских султанов – вся эта отчаянная и крайне ловкая погань садилась на какое-нибудь судно, ставила паруса и бороздила с нечистыми своими намерениями гостеприимнейшее из морей.
Меж тем вся торговля Италии и Франции с Левантом, с Балканами проходила именно по Средиземному морю. Эта торговля была в состоянии прокормить втрое больше корсаров, чем плавало по морю, однако не желала поступаться в их пользу и третью своих доходов. Именно поэтому на Родос – средоточие борьбы с корсарами – стекалась помощь из Венеции, Неаполя, Генуи и Марселя. Купцы кормили Орден, чтобы их товар безопасно путешествовал по морю, содержали, короче говоря, свою морскую стражу.
Не думайте, что мы не отрабатывали это золото потом и кровью: война с корсарами – занятие не из легких. Но братья мастерски овладели им – дело опыта.
По вашим словам, вы можете вообразить себе все, кроме жизни рыцаря-монаха, для которого угроза пиратского нападения была повседневностью. Гак вот: в отличие от теперешних, в наши времена мужчине было естественно жить в тяготах и опасностях, независимо от того, кто он – воин, купец или монах. Мы находили в этом (представьте себе!) почти наслаждение.
По сей день с чувством великой гордости вспоминаю я Родос, наш Родос, в дни празднеств: ослепительно белый, стройный, изысканный, он словно был создан как фон для родосского рыцарства. Около двух тысяч мужей – испытанных воинов или ученых священнослужителей – в облачении Ордена: черных рясах и черных до колен плащах с белым крестом на левой стороне груди. Когда я смотрел из своего дворца, как они движутся по улицам, мне казалось, что их ряды – это тени домов, собора и дворца, что они скрепляют основы этого древнего города.
Ибо Родос поистине древен, он знал власть эллинов, а затем персов, римлян, византийцев, сарацин и многих безымянных завоевателей. А мы завладели им в трудные времена, как раз накануне османских нашествий. Но потребовалось еще полтора столетия, чтобы османская эскадра подошла к Родосу. Вот это уже происходило на моей памяти. Более того – история именно меня сделала защитником Родоса, самого восточного предмостья католицизма. Не сочтите нескромностью, если я позволю себе напомнить: я, Пьер Д'Обюссон, был единственным человеком, принудившим Мехмеда II отступить. Да, если даже новое расследование по делу Джема закончится вынесением мне обвинительного приговора, все равно вам не отнять у меня моей славы: имея в своем распоряжении всего лишь две тысячи монахов, я устоял перед Великим Завоевателем.
О знаменитой осаде Родоса 1480 года, о наших битвах и победе я повествовать не стану – они предшествуют по времени делу Джема. Считаю своим долгом лишь подчеркнуть, что эта победа весьма подняла наш престиж в глазах христианского Запада. Во всех странах, находившихся под эгидой папы, получили хождение десятки повествований или песен, живописующих (обычно с преувеличениями) наши подвиги. Мы предпочли бы, чтобы это восхищение было более вещественным, ибо осада истощила силы Ордена – осаждающие значительно превосходили нас численностью. Наша казна пустела, половина флота была потоплена. За последние пять-шесть лет левантийская торговля замерла; купцы боялись заходить на Родос, поскольку Родос вел войну, а путь из Генуи или Венеции на Левант был немыслим без этого промежуточного отдыха.
Одним словом, слава сама по себе мало согревала нас. Посему мы увидели в смерти Завоевателя перст божий – Всевышний сам убрал с нашего пути человека, который рано или поздно уничтожил бы нашу Родосскую твердыню.
Вскоре после первого известия о смерти султана прибыло второе, еще радостнее первого: о междоусобице между Баязидом и Джемом. Мы не смели верить своим ушам. Даже из моего краткого рассказа вы, наверно, поняли, что рыцари-монахи не были избалованы судьбой.
Хотя и обнадеживающие, вести не заключали еще для нас ничего определенного. По-прежнему с империей Османов было перемирие, а не мир; над турецким войском все еще реяли боевые знамена, хотя оно теперь и было занято действиями против Джема; санджак-беги Баязида перехватывали наши корабли, а корабельщиков либо уводили в плен, либо убивали на месте. Да и могли ли мы рассчитывать, что Баязид, справившись с братом, не возобновит военных действий против Родоса?
По моему разумению, оснований для таких надежд у нас не было. Нам позволено было чувствовать себя спокойными лишь до той поры, пока продолжается бунт Джема. Стоит Баязиду устранить брата, как войско полностью подчинится ему. А быстрая победа была особенно желанной для нового султана, которого мятежники упрекали именно в отсутствии воинских доблестей, в малодушии и миролюбии.
Не думайте, что я рассуждаю так оттого, что с тон поры миновали столетия; такой же была и тогдашняя моя оценка событий. Я был воспитан римской церковью и нашим Орденом – вы никогда не задавались вопросом, чему обязан Рим своим непревзойденным по продолжительности господством? Именно этому: умению трезво оценивать обстановку и выбирать наиболее подходящие действия или контрдействия.
Одно из приятных заблуждений нынешнего человечества – будто лишь эпоха гуманизма раскрепостила человеческую мысль, освободила ее от пут предрассудков и заменила догму гибкостью разума. Повторяю: сие есть заблуждение! Загляните в анналы римской церкви, и вы убедитесь, что за столетия до Макиавелли, до разных ренессансных писак и протестантских крикунов мы тоже действовали без предрассудков, трезво оценивали происходящее, сообразовывались с ним и умели его направлять. Быть может, мы не признавались в том на исповеди и не проповедовали с церковной кафедры, но в том-то и была наша сила. Есть вещи, о коих не подобает упоминать, они подразумеваются.
Да, я несколько отвлекся. Однако я считал необходимым объяснить, что мы в свое время воспринимали события не слишком различно от вас. Не воображайте, будто человечество, существующее миллионы лет, именно в последние пятьсот лет разительно переменилось. Как бы то ни было, накануне 9 июля 1482 года я совершенно отчетливо сознавал, какие последствия сулило нам прекращение Джемова бунта.
Вторые показания Пьера Д'Обюссона о событиях с 9 по 12 июля 1482 года
События, о которых пойдет речь, начались с неожиданнейшего посещения.
9 июля чуть ли не затемно, когда я готовился к заутрене, сообщили мне, что прибыл гонец от Ахмед-паши. Об Ахмед-паше у меня были неприятные воспоминания: незадолго до того этот весьма способный военачальник занял Отранто, что означало прямую турецкую угрозу Западу.
Поспешно одевшись, я спустился в приемную, по дороге соображая, что нам предстоит, если перемирие будет нарушено. После разрушительного обстрела со стороны Мехмедова флота наши укрепления еще не были полностью восстановлены; для того чтобы набрать пополнение из христолюбивых воинов Италии, Испании, Франции, требовалось самое меньшее два месяца сроку; для пополнения же нашей казны следовало воззвать к верующим всего Запада, на что понадобилось бы куда более двух месяцев…
В приемной зажгли свечи – все еще окончательно не рассвело, а я не любил вести переговоры в полутьме, незачем противнику прятать свои глаза.
Ввели гонца. Он был не турок, я это понял сразу. Во мне всегда вызывали отвращение христиане-вероотступники, служившие султану преданней всякого правоверного мусульманина и весьма хорошо осведомленные относительно нас и наших дел. Не один честолюбец из порабощенных турками стран или с Запада находил ласковый прием у Мехмеда Завоевателя. При его дворе кормились сотни таких предателей, меж коих, впрочем, по меньшей мере десяток были изменниками лишь для виду, в действительности же делали для нас неоценимую работу. Я абсолютно убежден, что точно так же по мель, шей мере десяток из убежавших на Родос греков, левантийцев или далматинцев делали подобную же неоценимую работу в пользу султана. Поэтому мы держали под наблюдением каждого беженца или раскаявшегося изменника, вновь попросившего заступничества у христиан. Мы следили, казалось бы, за каждым их шагом, но я мог поклясться, что весьма немногое из того, что решалось даже в Высшем совете Ордена, оставалось секретом для султана. Однако я утешался тем, что и мы в той же степени осведомлены о секретах Топкапу.
Посланец Ахмед-паши на вид был скорее левантинцем, чем греком. Как я и ожидал, он заявил, что не знает языка, и потребовал толмача. Весьма дешевая уловка, к которой мы с успехом прибегали в Топкапу, нас провести не могла: посланец лишь делает вид, будто не знает языка, чтобы тайно следить за каждым словом. Но для нас это уже не было тайной.
Толмач передал нам слова Ахмед-паши. Баязид через Ахмед-пашу настойчиво предлагал нам ни больше ни меньше, как превратить непрочное перемирие между нами в прочный мир.
Ого! Мы ни в коей мере не угрожаем Империи, зачем же предлагать нам мир, не дожидаясь, пока мы запросим его сами? – подумал я. – Значит?… Значит, существуют обстоятельства, вынуждающие Баязида поступать себе в ущерб».
– Мы несказанно польщены благоволением вашего великого властелина, – неторопливо начал я, чтобы успеть додумать свой ответ. – Однако о каком мире с Высокой Портой может идти речь, коль скоро ваш государь продолжает вести против нас враждебные действия? Всего неделю назад был пленен наш корабль «Святая Марина», и мы ничего не знаем о судьбе его экипажа. Переговоры следует начинать при наличии доброй воли с обеих сторон. Мы просим вашего государя освободить всех наших братьев, задержанных в Империи. Дабы вести переговоры с открытым сердцем.
– Это, вероятно, означает, – посланец явно был готов к такому повороту, – что и вы освободите всех пленников, задержанных при осаде Родоса.
– Нет. Они взяты в плен на нашей земле. Мы же требуем от вас людей, схваченных в ничьих водах.
Левантиец медлил с ответом. Очевидно, соображал, принять ли столь унизительное, одностороннее условие немедленно или испросить разрешения свыше. Именно эту цель я и преследовал: пускай две недели поплавает туда и обратно! Но посланец совершенно неожиданно заявил:
– «Святая Марина» была задержана санджак-бегом Лики и. Он действовал самовольно и поплатится за это. Вы получите и корабль, и ваших людей сразу же по моем возвращении.
«Э, нет! Это уж слишком. Выходит, Баязид уполномочил простого посланца соглашаться на наши условия! Должно быть, над Баязидом нависла весьма серьезная угроза… Неужели Джем? Быть может, мы его недооценили?… Быть может, за Джемом и впрямь стоит войско…»
Несмотря на все настояния, посланец Ахмед-паши отказался от отдыха и сразу же пустился в обратный путь. Он отплыл в тот же день 9 июля, чем еще более укрепил меня в подозрении, что дела Баязида не блестящи. Я поостерегся поделиться своими мыслями с кем бы то ни было. По счастью, посланец посетил меня очень рано и никто при нашем разговоре не присутствовал. Так что я сообщил Совету, что Баязид предлагает нам мир – и все. Почему?
В нашем братстве, насчитывавшем неполных две тысячи человек, имелись налицо все признаки государства – двор, различные придворные круги и борьба между ними. Я знал, что среди примерно тридцати участников Большого совета и девяти Высшего есть приверженцы всех мировых властителей. В какой-то мере мы обязаны были этим самой структуре Ордена – в Орден входили восемь стран, и каждая имела в Высшем совете своего представителя, естественно отстаивавшего интересы своего государя. Я был бы предоволен, коль тем дело бы и ограничивалось. Оно было куда сложнее.
Среди высокопоставленных лиц Ордена я мог бы указать приверженцев всех партий, и Ватикана, и всей Европы. Каждый кардинал, каждый магистр прочих орденов, чуть ли не каждый европейский герцог имел своего наймита в нашем Ордене. Так или иначе, я всегда чувствовал, что за мной наблюдают с сотни разных сторон – начиная со Святого отца и кончая, скажем, герцогом Бургундским.
Посему я взял себе за правило – такова, полагаю, участь всех правителей от сотворения мира до наших дней – доверять одному себе.
Так дождался я вечера 9 июля – одного из множества дней, когда мои заботы были только моими заботами, когда я был не вправе сбросить со своих плеч эту ношу, попросить совета или помощи; одного из тех дней, когда я молился, окруженный толпою рыцарей, обсуждал в Совете восстановление крепостных стен, ел, пил кипрское вино, читал, разговаривал и старался скрыть – пожалуй, без труда, ибо притворство успело стать частью меня самого – свое беспокойство: предстояли важные события!
Тем не менее то, что преподнес мне следующий день, 10 июля, превзошло все мои ожидания. Во второй половине дня мне доложили о прибытии посланца от Джема. На сей раз время было ни слишком ранним, ни слишком поздним, чтобы послужить мне извинением, однако я решился преступить все правила и принял посланца один. При этом у меня не было сомнений, что самое малое десять братьев воспользуются тайниками в стенах, трубах и каминах, дабы невидимо присутствовать при нашей беседе. Но я решил: десять – это все же меньше, чем тридцать (число членов Большого совета), к тому же я знал с достоверностью: ни один из подслушивающих не делится с другим добытыми сведениями – тем самым oн сбил бы им цену.
Двое послушников ввели посланца.
Не знаю, сумел ли я скрыть изумление – я, владевший каждым мускулом лица, – при виде входящего Брат Бруно… Этот человек имел наглость явиться ко мне!
За четыре года до этого, когда наша борьба с Мехмед-ханом еще только разгоралась (упоминаю об этом для того, чтобы точно обозначить время), ко мне стали поступать донесения о странном поведении брата Бруно Два-три раза без всяких объяснений отказывался присутствовать на богослужении, обронил перед своим соседом по келье, что начал прозревать, но еще не в состоянии поверить тому, что узрел; однажды, доложили мне, он кричал, не будучи пьяным, а просто выйдя из себя что все на Родосе гниет, смердит и отвращает. Впрочем, не помню точно бредовых слов брата Бруно, но суть их была мне ясна, ибо не он первый, не он последний. И ранее случалось, что такие, как он, принявшие постриг в каком-нибудь захолустном монастыре Богемии или Баварии, проведшие долгое свое послушничество среди пяти-шести отупевших от поста или крайне простодушие верующих братьев, перейдя в наш Орден, испытывали сильное потрясение. Потрясало их не что-нибудь, а контраст между их представлением о сообществе воинствующих монахов и самим этим сообществом.
Общеизвестно, что действительность гораздо более многолика, богата случайностями и противоречиями, чем отвлеченная мысль. Позвольте мне не вдаваться в подробности, нет нужды перечислять все, что может потрясти глубоко верующего провинциального монаха, приобщенного к многообразной действительности Родоса.
Я питал надежду, что брат Бруно быстро переживет сделанные им открытия и постарается взять свою долю, – Орден предоставлял к тому немало возможностей. А не найди он в себе силы переболеть, мы бы пришли ему на помощь – понимайте это, как вам заблагорассудится.
Но тут-то узнал я о том, что он скрылся. А перед тем как скрыться, написал братии письмо, – какова наглость, всей братии! – в котором призывал сровнять с землей сие гнездо разврата и разойтись на все четыре стороны. Как вам это нравится?
Большой совет, обсуждавший это письмо, счел его чудовищным. Бруно был без отлагательства отлучен не только от Ордена, но и от лона святой нашей церкви, а в родосских церквах была даже провозглашена анафема заблудшему брату. Таким образом, мы оборвали с ним всякую связь и вскоре вовсе забыли о нем. Никто не стал дознаваться, куда направил Бруно грешные свои стопы, – для нас он был мертв.
И вот этот мертвец возымел дерзость воскреснуть и предстать передо мной, и вдобавок не в качестве раскаявшегося грешника, а как посланец владетельного принца.
С наивозможной быстротой, какую только позволяло глубокое изумление, в кое я был повергнут, я сообразил, что будет лучше пока не узнавать его – объяснения отнимут лишнее время. К тому же щекотливый, хотя и не самый существенный, вопрос об отступничестве нашего чернеца не должен был отвлекать меня от дела, несравнимо более важного.
Я отвернулся к окну, дабы не видеть этого наглого, преображенного чужеземным платьем и тем не менее неприятно знакомого лица, не встретиться с его насмешливо-вызывающим взглядом.
– От имени Ордена приветствую принца Джема в лице его посланца, – с трудом выдавил я из себя. – Какие вести привезли вы нам?
В отличие от Баязидова посланца Бруно не потребовал толмача. Он отвечал мне на чистейшей латыни:
– Мой повелитель выражает вам свое уважение. Превратности судьбы, еще не сказавшей последнего слова в споре между Джемом и его самозванцем-братом, принудили моего повелителя отступить в Ликию. Желая обсудить с мудрейшими братьями Ордена дальнейший ход своей борьбы, султан Джем просит быть принятым на Родосе со всеми почестями, какие подобают его особе. Он верит, что в ответ на его просьбу святые братья пришлют к берегу Азии корабли, которые доставят его на Родос. А также, что ему будет обеспечен свободный въезд и выезд с Родоса по его воле.
Бруно произнес эту речь монотонным голосом, в котором, однако, звучала досада. Должно быть, он желал тем самым показать, сколь мало восхищен высочайшим поручением и приемом у лица высокого духовного звания.
Мне пришлось – ведь наше воспитание не допускает эксцессов – сделать над собой усилие, чтобы не разразиться бранью.
– Орден считает себя польщенным, – сказал я, – что сын великого Завоевателя, очистив свое сердце от былой вражды к братьям-иоаннитам, удостаивает нас своим вниманием. Едва Большой совет рассмотрит сей вопрос, вы будете извещены о результате.
– Я бы хотел лишь напомнить вам, что дорога каждая минута. Пока ваш Совет примет решение, султана Джема, быть может, уже не будет в живых.
– Будь вы ближе знакомы с нашим Орденом, – не сдержался я, – вы не стали бы обвинять его в медлительности!
Бруно удалился подчеркнуто небрежной походкой – ему явно хотелось разозлить меня.
«К дьяволу Бруно! – Я решительно вычеркнул его из своей памяти. – Великий боже! Неужто мне, третьему сыну графа Д'Обюссона, обедневшего рыцаря из Крёзо, даруешь ты такой шанс! Неоценимый… Еще вчера над нашим Орденом тяготела угроза Завоевателя, еще вчера мы тщетно искали средства восстановить разрушенные наши стены, чтобы выдержать новый приступ. Ныне же мы – две тысячи монахов во главе со мной! – будем участвовать в решении мировых судеб».
По моему приглашению братья сошлись в залу Большого совета. Она выглядела величественно в расцвеченном благодаря витражам полумраке, со своими стенами, отделанными кедром и дамасской парчой. Точно стая старых, мудрых птиц, бесшумно заполняли залу монахи. «Орлы мои! – хотелось мне сказать им, хоть я и знал, что половина из них прозакладывали бы душу и все на свете, чтобы убрать меня с дороги. – Настал наш час!»
Старейшины уже заняли места за длинным столом Совета. В темном мраморе столешницы криво отражались тридцать лиц: седая кудель бород, дыры вместо глаз, лица без лбов.
Я изложил просьбу Джема.
Долгое время в зале стояла такая тишина, что слышно было постукивание моих ногтей о подлокотники эбенового кресла. Каждый из достопочтенных братьев сейчас прикидывал, сколько он получит, если до наступления вечера каким-то образом переправит эту весть своему негласному господину. Меня это не трогало – главный козырь они не могли у меня отнять. Джем прибудет на Родос прежде, чем они успеют опомниться. Как видите, наша эпоха с ее медленными средствами сообщения, с зависимостью от попутного ветра, штормов или корсаров имела свои преимущества.
Первым нарушил молчание приор Кастилии, дон Альваро де Цунига. Завидую вам, что вы не принуждены терпеть общество указанной личности; дон Альваро был на редкость неприятным субъектом.
И на этот раз он с важным видом принялся разъяснять вещи, которые и без того были ясны после первого же моего слова. Когда он соблаговолил избавить нас от своего красноречия, я подчеркнул, что времени для долгих разговоров нет. Все поддержали меня; Совет не помнил такого единодушия, а я не помнил, чтобы братья были когда-либо столь неприлично оживлены. Будто мы находились не в святом Ордене, а на торжище, где дорогой товар неожиданно пущен по смехотворно низкой цене, побуждая купцов толкаться, выхватывать его друг у друга из рук.
Все пошло невероятно гладко. Я без возражений согласился, чтобы дон Альваро отправился в Ликию (разумеется, он сам предложил свою особу) во главе флотилии из семи кораблей, меж которых – большая трирема казны, наш парадный корабль. Для Джема и его свиты достаточно было и одной триремы, но мы предвидели возможность сражения.
Когда в связи с этим было упомянуто имя Баязида, я вспомнил, что, поглощенный новым известием, позабыл о вчерашнем посланце. Было совершенно ясно: Баязид прежде нас узнал о намерениях Джема – вероятно, от соглядатая, которого он держит в войске Джема, – и поспешил предложить Ордену мир, чтобы неделю спустя потребовать у нас своего брата. При перемирии по добное требование было бы неуместным.
Я мысленно улыбнулся; представил себе, как Баязид выйдет из себя, узнав о том, что упустил время. Пускай! Теперь сила на нашей стороне, потому что мы станем посредниками между августейшими братьями.
Оставалось обсудить расходы на предстоящие торжества. Это заняло куда больше времени – о деньгах особенно много говорится, когда их нет. Потом мы вызвали Джемова посла, чтобы сообщить о нашем решении. Внутренне содрогаясь я ждал, как встретят братья отступника Бруно.
Их потрясение не поддается описанию; они сидели точно пораженные громом; до меня доносились из разных углов шепот, восклицания. Но монахи были приучены подавлять свои порывы, так что негромкий их ропот очень скоро затих.
А бесстыжий отщепенец – поистине хладнокровней – шее чудовище, какое я когда-либо встречал, – прошел вдоль всего длинного стола с такой невозмутимостью, что вывел бы из себя даже ангелов. «Великий боже, – подумалось мне, – неужто Бруно так плохо знает Орден, что чувствует себя в безопасности?»
– Большой совет, – начал я, когда он оказался передо мной, – обсудил просьбу принца Джема. Мы находим, что для нас честь дать приют и советы сему именитому, благородному принцу. Наша флотилия отправится в путь немедленно, чтобы забрать его с азиатского берега.
– Какая часть от преданных ему войск последует за султаном Джемом? – деловым тоном осведомился посланец.
– Для целей, которые приводят к нам принца Джема, войску нет необходимости сопровождать его особу. Наша крепость невелика, доставка провианта для населения затруднительна. Общие интересы требуют не перегружать Родос. Впрочем, с пятьюстами воинами или без них, принц Джем будет продолжать свою дальнейшую борьбу с одинаковым успехом: они погоды не делают.
Посланец (он стоял лицом ко мне, спиной к Совету) не улыбнулся даже, а нагло усмехнулся, показывая, что понимает истинную причину отказа.
– Осмелюсь напомнить вам, – проговорил он подчеркнуто, – что мой государь просил не только о свободном доступе на Родос, но и о праве свободно покинуть остров, когда он сочтет свои дела тут оконченными. Я не слышал вашего мнения на этот счет.
– Вы услышите его.
И я принялся читать вслух свиток, который мне подали:
«На днях к нам прибыл высокочтимый посланец Сулейман от его высочества, владетельного принца Джема. Письмо означенного государя, а также слова упомянутого посланца объявили нам о желании принца Джема прибыть на Родос, дабы обсудить с нами некоторые вопросы и получить совет, которому он последует, ибо сей совет исходит от друзей, желающих ему добра. По сему случаю он требует, чтобы в согласии с существующими законами его особе была обеспечена безопасность.
Движимые давней дружбой, испытываемой к нему нами, и надеждой, что его приезд послужит нашей общей пользе, мы посылаем с подателем сего свое согласие, каковое одновременно гарантирует полнейшую безопасность его высокой особе и соблюдение существующих законов. Сие относится как к его высочеству принцу Джему, так и к тем, кто будет сопровождать его на Родос в качестве его благородной свиты – будь то турки, или мавры, или любая другая народность. В полной свободе и безопасности, вместе со своим имуществом, драгоценностями и деньгами, они смогут проживать на Родосе, оставаться тут, сколько пожелают, и покинуть его по своей Боле или по воле принца Джема, в чем не будут им чинить никаких препятствий или затруднений. В уверение чего ставим под настоящим нашу свинцовую печать.
Составлено на Родосе. 12 июля 1482 года».
Посланец выслушал меня, сохраняя на лице насмешливое выражение. Вероятно, размышлял о том, что и десяток таких заверений не стоит ломаного гроша. Лично я никогда не слышал более щедрых гарантий, чем эти.
Чувствую, что все мои клятвы не сумеют вас убедить, но я говорю истинную правду: мы не знали, как будут развиваться события, следовательно, 12 июля у нас не было затаенных намерений. Нам было достаточно того, что своим соучастием мы продолжим смуту, ослаблявшую самого грозного нашего неприятеля.
Когда Джемов посланец снова проходил через залу, мои собратья-иоанниты выглядели весьма торжественно. Торжественней даже, чем в тот день, когда мы собирались в той же самой зале по случаю своей победы над Мехмедом Завоевателем.
Шестые показания поэта Саади о событиях с 10 по 27 июля 1482 года
Мы увидали приближающиеся каравеллы рано утром.
Из осторожности мы ожидали их не на самом берегу. В последние дни наше немногочисленное войско стало таять, как снег под лучами солнца. Не только смерть косила наши ряды, гораздо более – страх. Наши воины рассудили, что завтрашний день нам ничего не сулит и незачем ждать его, подставляя шею под нож Баязида. Так что каждое утро нас оставалось человек на пятьдесят меньше – люди убегали. А это, помимо прочего, означало: кое-кто из этих беглецов к вечеру окажется в стане Ахмед-паши и – чтобы заслужить пощаду – выдаст, что наш посланец поплыв на Родос. Словом, мы опасались, как бы нам не преградили дорогу и с моря.
Но Хайдар и тут нашел выход. Во-первых, он убедил Джема, что нет смысла долее блуждать по зловещим долинам Ликии, а от Касим-бега потребовал раздобыть для нас корабль. Бег попросил для ответа целую ночь – немало, должно быть, он за эту ночь передумал, – а на рассвете объявил, что корабль будет. Кроме того, он со своей дружиной проводит нас до самого берега, снабдит грамотой, заверяющей, что последний из князей Карамании готов в любой момент выступить на стороне султанa Джема, – но далее за нами не последует.
Джем выслушал его рассеянно. Последний опытный военачальник покидал нас, а Джем принял это так, будто в душе давно уже простился и с ним и с его воинами.
– Хорошо, Касим-бег, – сказал он просто. – Благодарю тебя за то, что оставляешь меня последним.
– Я не оставляю тебя, мой султан! – горячо возразил Касим. – Ты и впредь будешь господином моей сабли и моего сердца. Одно твое слово…
– Не будем прятать правду за красивыми словами, Касим-бег! Слишком долго обманывали мы себя тщетными надеждами.
– Но, мой султан, если ты подойдешь к нашим западным границам, если двинешься на Румелию с союзным войском…
– Да, тогда будет иначе. Не только ты – многие перейдут ко мне. Вот он-то и нужен мне – союзник. Его я и отправляюсь искать.
Тем закончился последний разговор между Джемом и Касим-бегом, хотя караманы еще два дня сопровождали нас. Все это время Джем молчал, погруженный в свои думы, а Касим в эти два дня не обратился к нему ни словом – все было уже сказано.
Я подумал, что это сон, когда перед нашими взорами – между двумя зазубренными, щербатыми скалами, такими же красными, как вся Ликия, – проглянуло море. Мы так отвыкли от других цветов, кроме всевозможных оттенков красного, что в первую минуту зрелище этой спокойной, гладкой, влажной лазури привело нас в замешательство, показалось невероятным. В следующее мгновение высушенные пустынным зноем люди кинулись точно безумные к берегу, верхом въехали в воду, плескались, хохотали неестественным, давно забытым смехом.
Вода… Зажмурив глаза, я пытался схватить ее, убедиться в ее близости по мягкому прикосновению и ласковому плеску волн. Открыв глаза, я заметил, что и Джем тоже жмурится, откинув голову, словно отдаваясь ласке. И в этом, как и во многом другом, мы были сходны.
Второй неожиданностью для нас явился корабль. Чуть в стороне, в небольшом заливчике, и впрямь покачивался корабль без флага. «Корсарский», – подумал я в испуге, ибо султан Джем был бы драгоценнейшей добычей для любого разбойника; даже исхудавший, оборванный и обессиленный, Джем в тот миг стоил столько же, сколько половина Баязидовой казны.
– Корсары? – вслух высказал мою мысль Джем. Он произнес это без волнения. Ему, пожалуй, было все равно, попадет ли он в лапы грабителей или самого дьявола.
– Эти разбойники польстились на выгоду, мой султан, – стал смущенно объяснять Касим-бег. – Их башка не в силах уразуметь, что мои пять кошелей золота – не самая большая плата, какую они могут получить за спасение одного незнакомца. Клянусь тебе!
«Ну, в этом я бы уж клясться не стал!» – подумал я. Как-то не верилось, что именно олухи становятся корсарами.
И эти уверения Касим-бега Джем тоже встретил равнодушно. Тридцать человек взошло на корабль без флага. Не Джем отбирал нас, это вышло само собой. Лишь тридцать человек пожелал сопровождать Джема в неизвестность.
Быть может, для вас это не имеет значения, но не могу не упомянуть: много лет спустя я вспомнил то движение, каким оттолкнулся от берега, вспомнил те сто аршин воды, которые превратили меня из гражданина в беженца. Самое обыкновенное движение – я совершал его, вероятно, десятки раз; самая обыкновенная полоска воды – сто аршин спокойного, ласкового моря. И тем не менее там и тогда решил я свою судьбу. Не сознавая этого, не понимая, что определяю всю свою дальнейшею жизнь. Мне казалось совершенно естественным последовать за Джемом. Меня связывала с ним не только любовь – глубочайшая, преданная до самоуничижения; в моем сознании Джем был всем тем, ради чего человеку есть смысл жить, бороться и умереть.
Ныне это звучит неубедительно, но тогда я был в этом убежден. Убежден, что предназначение Джема – воплотить мечты поколений мыслителей и поэтов; что победа Джема будет победой мудрости над грубой силой; что власть Джема освободит от препон предрассудков, догм, невежества, грубости предвечную красоту, никогда не бывшую уничтоженной, но и никогда еще не властвовавшую как закон.
Я рисовал себе Джемово царствование как непрерывное совершенствование. Случайно ли на протяжении веков не кто иной, а поэты рождали ереси и новые учения; случайно ли именно благодаря поэтам церковь (и христианская, и мусульманская) не сумела погасить стремления к светской поэзии и положительным знаниям; случайно ли именно в поэзии человек всегда жил поисками? «Нет! – рассуждал я. – В один прекрасный день это многовековое брожение духа должно не где-нибудь, а именно на Востоке возвести на престол доселе невиданного и неповторимого властителя, который даст выход этой многовековой мечте. Может ли провидение, – рассуждал я, – найти для себя орудие более блестящее, чем поэт Джем?»
Долгие годы размышлял я об этом, и больше всего в тот год, когда мы вели войну. Видимо, это исподволь и определило мое решение последовать за Джемом, куда бы ни завела его судьба. Теперь Джем отправлялся в изгнание, и я был обязан (у меня даже не было колебаний) сопровождать своего повелителя.
Много позже – я уже говорил вам – вспоминал я о том, как мы покинули берег Азии. «Отчего, о аллах, – мысленно вопрошал я, – отчего такой миг не бывает отмечен чем-нибудь необыкновенным? Бурей с красным снегом, ярко-зеленой молнией либо воем ветра, громким, как трубы иерихонские? Отчего не ниспосылаешь ты нам какого-нибудь знамения, дабы мы остановились посреди движения, решающего всю нашу дальнейшую жизнь? Отчего должна свершиться ошибка, а после нее – искупление? Не жестокосердный ли ты любитель потешиться, понасмешничать над людьми, о аллах?»
Да, вероятно, мой бог вдосталь потешился, пока наши весла мягко били по воде между берегом и кораблем. Потешался и говорил: «Уразумейте, возлюбленные чада мои, что каждый шаг и каждое слово в вашей жизни есть выбор – в каждое мгновение жизни вашей вы совершаете выбор, а ответственность за свои беды возлагаете на меня. Я же просто взираю на вас, чада мои, и жду, чтобы вы сами заплатили за свой человеческий опыт…»
Я не слышал, о чем говорил Касим-бег с корабельщиками. Должно быть, сговаривались, когда и как будет вручена условленная плата. Потом Касим подошел к нашему повелителю, низко-низко поклонился ему до самой земли и почтительно поднес к губам полу выгоревшего его халата.
Я подумал, что Джем зарыдает, – если у печали есть лицо, оно должно быть таким, каким было лицо Джема в ту минуту. Но разрыдался не Джем, а старый воин. (У нас заплакать не считалось недостойным мужчины, порой того даже требовало приличие, лишь бы рядом не было женщин. А женщины у нас редко оказываются рядом.)
Слова, которыми обменялись они, были обычными словами прощания. В таких случаях принято говорить о следующей встрече, хотя и тот и другой знают: этой встречи не будет.
Я смотрел на спину Касим-бега, когда он спускался по веревочной лестнице в лодку, – широкую, но уже несколько обмякшую спину старого воина. «Если когда-либо султан Джем и восторжествует, – подумалось мне, – доживешь ли ты до этого, старик?»
Целых четыре дня наш корабль стоял на якоре близ берега. Никто не преследовал нас, так что не имело смысла отдаляться от места, куда за нами могли приплыть рыцари. А на берегу стали лагерем караманы, и по вечерам мы видели, как движутся у костров их неторопливые тени; Касим-бег не хотел покидать побережье, пока не убедится в том, что Родос согласен принять Джема.
К исходу четвертого дня с берега донесся шум, стала заметна суматоха. С востока на лагерь Касима быстро надвигалось оранжевое облако. Оно стелилось по самой земле с той скоростью, с какой движется конница. Объяснений не требовалось: Ахмед-паша вознамерился отрезать мятежников от моря, оттеснить их снова в преисподнюю Ликии.
Умело находя прикрытия, наши корабельщики отвели корабль за скалы. Затаив дыхание, следили мы за битвой между Ахмед-пашой и Касимом. Впрочем, то была не битва – люди Касима, обороняясь, отступали в горы. Ахмед не стал преследовать их. Мы видели, как войско его растянулось вдоль берега, ночью то тут, то там вспыхивали костры. Он сторожил подступы к Ликии.
То ли Ахмед-паша не заметил нашей жалкой биремы, то ли заметил, но не имел поблизости своих кораблей; то ли рассудил, что, если Джем и находится на биреме, Для него, Ахмед-паши, всего выгодней дальнейшая борьба между братьями; этого я не знаю и ничего утверждать не могу. Так или иначе, мы оставались неподалеку от берега еще дней десять, и никто не потревожил нашего покоя. Мы не ушли в открытое море, потому что ожидали встречи с родосцами и, кроме того, побаивались себе подобных – другого корсарского судна.
С сжатым сердцем ожидали мы этой встречи: примет ли нас Родос? Изо дня в день прохаживались по узкой корме и на носу биремы. Впрочем, прохаживались только мы: Джем от зари до зари недвижно стоял, облокотившись о борт, вперив глаза в азиатский берег. Мне вспоминалась одна ночь, – с тех пор минул целый год! – когда Джем лихорадочным шепотом сказал мне: «Граница страшит меня, Саади!» Я думал, этот страх померк, но ныне граница, оранжевая полоса над синей безбрежностью, была так осязаема, что Джемом овладел прежний страх.
Я и не пытался развеселить его. В те дни Джем, казалось, достиг крайней степени человеческой тоски. Я понимал, что тому способствует бездеятельность, неизвестность: как разворачиваются события в Анатолии, сумел ли спастись Касим, не заключен ли между Портой и Родосом мир? Мы ничего не знали. Наш корабль тихо покачивался между небом и морской бездной; его весла неподвижно застыли, на снастях нежились стаи птиц.
Слышал я, есть стихи, в которых говорится о кораблях-призраках, которые являются жертвам крушения, Мы были похожими на такой корабль.
До той минуты, пока на рассвете 20 июля не заметили вдали каравеллы. Они стремительно мчались по серебристым, еще сонным водам, и встающее солнце уподобляло их розовым цаплям – таких цапель держал Джем у себя во дворце в Карамании, потому что ценил красоту во всем.
Впереди взрезала волны большая трирема со знаменем Ордена – белый крест по черному полю.
«Идут! Родос принимает нас!» Мне хотелось возликовать, но сердце болезненно сжалось: это знамя напомнило мне о Франке Сулеймане и его пророчествах.
Джем долго созерцал небольшую флотилию. Должно быть, она казалась ему такой же призрачной, как и все в эти дни. Лишь когда свита засуетилась, он сказал мне:
– Оденьтесь как подобает, Саади, и оденьте меня! Не станем забывать, что я поплыву на Родос не как беглец, а как законный властитель империи.
Мы стали рыться в сундуках, к которым не прикасались с того дня, как уехали из Каира, ведь уже полгода мы не знали ничего, кроме боев и походов. Вынули парадные одежды Джема, облекли его в них, накрутили ему на голову двенадцать локтей наитончайшего шелка. Только тогда увидел я, как исхудал мой друг, – платье висело на нем, словно было с чужого плеча.
Тем не менее вид его был великолепен. За пятнадцать месяцев, истекших со смерти Мехмед-хана, Джем сильно возмужал. Я спросил себя, в чем это проявляется, и сам себе ответил: в прирожденном обаянии Джема появился некий горький надлом. Да, так оно и есть – человек мужает тогда, когда что-то в нем надламывается.
Вслед за моим господином поднялся и я на корму. Все мы, малочисленная свита Джема, полукругом встали за его спиной. Должно быть, красочное зрелище представляли мы, освещенные пологими лучами солнца: группа юношей, разодетых в атлас и сафьян всех цветов.
Каравеллы приспустили паруса, весла их устремились в небо. Ясно: Орден, блюдя закон, не станет вторгаться в прибрежные воды.
Мы увидели, что от большой триремы отчаливает ладья и быстро движется по направлению к нам. Джем не сводил глаз с этой лодки, которая везла ему веление судьбы.
В ней сидели двое. Один – рыцарь, весь в черном. А вскоре мы узнали и второго. Сулейман! Сулейман был жив!
Джем еле кивнул рыцарю – немолодому, рыхлому человеку с бесцветными глазами. И голос его тоже был бесцветен, когда он обратился к Джему с коротким приветствием, называя при этом принцем. Сулейман перевел его слова, глядя на него свысока, словно тот был червяком у него под ногами, – он был мастер на этот счет!
Посланец, не мешкая, передал Джему свиток. Сулейман прочел его вслух – обильное нагромождение слов, из которых мы поняли лишь, что будем приняты на Родосе и покинем его, едва лишь пожелаем.
Внимание мое уже несколько рассеялось, как вдруг что-то заставило меня насторожиться: все тем же голосом, словно продолжая чтение, Сулейман обратился к Джему:
– Повелитель, у тебя есть еще полчаса, потом будет поздно, Заклинаю тебя, султан Джем, во имя добра, тобою мне сделанного! Поверь мне, не езди на Родос!
Под плотным слоем загара лицо Джема покрылось бледностью – его потрясла смелость Франка. В следующее мгновение он понял, что тот не решился бы на предупреждения и заклинания, знай рыцарь по-турецки. И Джем постарался ответить равнодушно, словно осведомляясь о дополнительных известиях с Родоса:
– Ты вернулся живым, Сулейман. Это немало.
– Боюсь, что я тот сыр, которым приманивают мышь в мышеловку, мой султан. Клянусь, тебе грозит опасность!
– Жребий, брошен, Сулейман, – упавшим голосом сказал Джем. – В путь!
Франк хотел добавить что-то еще, но Джем уже отошел. Всего мгновение задержался он перед тем, как перекинуть ногу через борт. Обернулся к корсарам и предводителю их – самый пестрый сброд, какой я когда-либо встречал, – и громко сказал:
– Благодарю вас, друзья, за то, что, на добро иль на беду, вы сберегли султана Джема!
Корсары толпились у борта, что-то кричали – каждый на своем наречии, а наречий там было множество. И возгласы этих тридцати пиратов словно бы напомнили Джему те приветствия, которыми был он встречен своим войском, напомнили прежние клики толпы. Теперь Джем отрывал себя от человеческих толп, ибо мы были всего только свитой – горстка людей, несущих службу за еду и плату.
Одной ногой ступив на веревочный трап, устремив взгляд на корсаров, Джем неподвижно застыл – и я впервые прочитал в его глазах обреченность. Джем словно хотел продлить последнее мгновение, когда он был еще господином своих действий. Видимо, это вернуло его мысли к Сулейману – живому предостережению, сопутствовавшему нашему повелителю.
– Останься здесь, Сулейман! – негромко проговорил он. – Я лишусь покоя, если буду знать, что ты на Родосе.
– Я последую за тобой, мой султан. Теперь уж со мной ничего случиться не может.
Потом стали спускаться по трапу и мы. Сначала десять человек – больше не поместилось в лодке. Она вернулась еще раз и еще, чтобы забрать всю свиту и поклажу.
На большой триреме мы были приняты доном Альваро. Встреча была пышной. Дорогие ковры устилали всю палубу. Борта были тоже украшены коврами, так что издали корабль сверкал всеми красками, точно сказочный цветок. На этом пестром фоне черным пятном выступали рыцари. Зловещие – мне не хотелось признаться в этом самому себе, но я не мог отделаться от этого ощущения.
Дон Альваро приветствовал Джема предлинной речью. Сулейман переводил – без особого старания, как показалось мне, потому что одной его фразе соответствовали потоки слов дона Альваро. А Джем, коротко поблагодарив, удалился в отведенные ему покои.
Никогда не забуду первый наш ужин среди христиан. Позже я привык к их обычаям и нравам, но тогда все мне было еще внове.
Ужин был подан на палубе, на открытом воздухе. Над головами было натянуто полотнище. Десятки свеч в глубоких стеклянных чашах освещали стол, уставленный так богато, что у нас закружилась голова. Ведь столько месяцев подряд мы ели одни сухари и пили мутную воду.
Столов, впрочем, было два, один против другого. Тот, за которым должны были сесть рыцари – непомерно высокий, – был гораздо беднее нашего. Нас же пригласили за низкий стол, вокруг которого были разложены подушки.
Когда мы расселись (с нашей стороны сидели только приближенные Джема), дон Альваро по их обычаю поднял чашу за здоровье нашего повелителя. Он, вероятно, Думал, что мы не станем пить – ведь так велит наш закон, – и очень удивился, когда Джем потребовал полную чашу и одним духом осушил ее.
Прочие рыцари скрыли свое удивление и стали предлагать еще вина – вино у них было славное, кипрское. В остальном же ужин прошел почти в полном молчании. Из всех присутствовавших один лишь Сулейман говорил на обоих языках, а он с таким усердием налегал на еду, что рот у него всегда был занят. Мы тоже не посрамили себя – Джем ел с аппетитом, какого я у него не помнил, поистине волчьим.
Я вдруг увидел, что он пристально наблюдает за прислуживающим ему рыцарем. Тот – едва заметив, что Джем протягивает руку к новому блюду, – поспешно отрезал кусок рыбы, птицы или мяса и мгновенно проглатывал.
– Что это он делает, Сулейман? – спросил Джем.
– Вашему высочеству что-то угодно? – привстал дон Альваро, из чего я понял, что он все время настороже.
– Его милость спрашивает, – с полным ртом и дерзко усмехаясь ответил Сулейман, – зачем этот брат; отведывает все блюда прежде него?
– Объясните его высочеству! – важно приказал Альваро, приведя Франка в бешенство своей надменностью.
– Объясняю, ваше высочество, – начал он. – У христиан существует обычай: когда на трапезе присутствует владетельная особа, его кушанья предварительно проверяются специальным отведывателем.
– О, излишний труд! – Джем, широко улыбнулся дону Альваро. – Трапеза поистине великолепна, у вас отменные повара, нет надобности сомневаться в их искусности.
– Дело не в изысканности вкусов, мой султан, а в яде. – Сулейман чуть не подавился от смеха и уронил на колени кусок утки. – После таких пиршеств, да будет вам известно, очень часто кое-кто засыпает вечным сном.
Джем смотрел на него точно громом пораженный.
– Но какой же яд успеет подействовать на отведывателя прежде, чем я отведаю того же кушанья?
– Никакой, конечно. Соблюдение приличия, ничего больше.
Джем перестал есть. Я даже подумал, что он совсем откажется от еды, что никогда не примет куска от людей, для которых яд так же привычен, как приправа к кушанью. Но мой господин овладел собой. Он встал и снова поднял чашу, слегка оттолкнул брата, пытавшегося отпить из нее первый глоток, и, устремив пристальный взгляд на дона Альваро, произнес:
– Я нанес бы обиду рыцарям-иоаннитам, если б согласился, чтобы опробовали мои кушанья и мое вино. Коль скоро я ищу у вас убежища, значит, всякое подозрение отброшено. Прошу, ваше преосвященство, дозволить этому человеку сесть меж нами и разделить нашу трапезу!
Сулейман даже поперхнулся, переводя эти слова. Трудно передать впечатление, которое они произвели на наших хозяев. Меня душил смех при виде этих застывших в бескрайнем изумлении немигающих глаз над вздувшимися из-за огромных кусков щеками и лоснящимися от жира бородами. Наконец дон Альваро, пересилив оцепенение, ответил, избегая смотреть Джему в глаза:
– Для нас нет ничего дороже доверия друга. Благодарю вас, ваше высочество! Благодарю вас от имени Ордена и святой нашей церкви!
Сулейман, не переставая жевать, перевел эти слова. Потом от себя добавил:
– Запомни хорошенько, мой султан: они говорят о доверии!
Часть вторая
Третьи показания великого магистра Пьера Д'Обюссона о событиях 29 июля 1482 года
В сущности, еще вечером 28-го узнал я от двух братьев, посланных доном Альваро вперед на быстроходной бригантине, что наш высокий гость прибудет примерно сутки спустя. На Родосе поднялась суматоха, какой я не помнил после большой осады острова. Всю ночь на 29 младшая братия занималась украшением крепости и приготовлением покоев для Джема. Мы решили поместить гостя на французском подворье – будучи французом, я настоял на этом.
Прежде всего я распорядился вынести на улицы все наши хоругви и ковры; у нас их было немало, потому что христолюбивая паства со всего Запада и напуганное корсарами левантийское купечество осыпали наш Орден дарами. Развешанные на крепостных стенах, окнах и балконах домов, они придавали Родосу вид провансальской деревни в дни ярмарки. На мой взгляд, эта плебейская пестрота унижала строгое величие Родоса, но она подходила нашему гостю – дикарскому принцу.
Эта деятельность заняла всю ночь, так что лишь на заре носильщики доставили на подворье лично мне принадлежавшие вещи, призванные увеличить его великолепие: кровать под шелковым балдахином, небольшое бюро, инкрустированное перламутром и кораллами, несколько тигровых шкур и несчетное количество атласных подушек. Мы разместили все это в покоях, предназначавшихся королю Франции, хотя ни один из французских королей еще ни разу не посетил Родоса и даже не выказывал подобного намерения. Тут могу мимоходом заметить – это уже не существенно, ибо и Родос, и французское подворье несколько столетии как не принадлежат нам, – что за шелковой обивкой стен в этих королевских покоях имелись два тайника.
Комнаты для свиты были убраны без всякой роскоши. Несмотря на сознание, что наш союз с Джемом в высшей степени выгоден Ордену, я не мог подавить в себе отвращение к этим варварам-туркам, сарацинам и прочему левантийскому сброду. Не мог забыть, что всего за два года перед тем судьба Родоса висела из-за них на волоске.
Уже совсем рассвело, когда я, уверившись, что день будет погожий, приказал устелить коврами и те улицы, которыми проедет султан Джем. Родос не знал подобной пышности. С балкона Джемовых покоев я созерцал площадь Святого Себастьяна, также всю устланную коврами, словно то была не городская площадь, а огромная залитая светом зала, посреди которой возвышался памятник святому мученику, – не думайте, что мы, слуги господни, равнодушны к земной красоте.
Все братья в парадном облачении уже отправились на пристань. Наши музыканты (на Родосе имелось множество музыкантов, потому что, помимо монахов, тут селились купцы, наемники, авантюристы) нарядились в честь гостя, украсили себя всеми цветами, какие дарило нам южное лето и миниатюрные родосские сады. Одним словом, наши усилия не остались тщетны – остров сверкал и блистал среди необозримой синевы моря.
Лично я не вышел на пристань – мой сан не допускал чрезмерного внимания к светскому властителю. Я остался под шелковым навесом, протянутым перед памятником, вместе с братьями-приорами семи стран. Восьмой был уполномочен встретить Джема и проводить на площадь.
Таким образом, я не был свидетелем того, как Джем ступил на землю Родоса. До моего слуха лишь донеслись возгласы родосцев, громкие, но нестройные и редкие – население острова вместе с детьми насчитывало едва три тысячи душ. Посреди криков грянула музыка – наши музыканты наполняли июльский зной довольно неискусной музыкой. Очевидно, понимали свою задачу просто: производить как можно больше шума.
Я заметил, что толпа пришла в движение: султан Джем – юноша, успевший стать легендой, – приближался к площади. Признаюсь, меня чуть кольнула естественная зависть пятидесятилетнего к двадцатилетнему, естественная досада духовного пастыря при виде светского властителя. Не трудитесь возражать, что в нашу эпоху власть церкви была, по сути, несравненно сильнее, чем любая мирская власть, – мне это известно. По сути – да, но она испытывала ограничения во внешнем своем выражении, во всех этих цветах, конях, лентах и прочей приятной суетности.
Не стану отрицать, что первое мое впечатление от Джема было по меньшей мере неожиданным. Ко мне приближался – медленно, чтобы отвечать на приветствия толпы, – отнюдь не варвар. Светлокожий и светловолосый, какими бывают наши юноши в Нормандии или Эльзасе, – быть может, только чуть ярче и с более выразительным лицом. Да, это всего сильнее поразило меня: у него было лицо человека мыслящего и чувствующего, что противоречило моим представлениям о духовном мире восточных людей.
– Добро пожаловать на землю святого нашего Ордена, ваше высочество! – вот первые мои слова, обращенные к Джему. – Родос счастлив оказать гостеприимство сыну Великого Завоевателя. Пусть отныне навсегда утихнет вражда между доблестным нашим оружием; пусть утро вашей власти станет началом вечного мира между Портой и Орденом!
Гость ответил на своем непонятном языке нечто, прозвучавшее в переводе брата Бруно крайне бледно, – смысл был тот, что счастье-де обоюдно и Джем преисполнен доверия к мудрости и благочестию нашего Ордена.
Мне стало смешно, когда гостя повели в его покои. Я, годившийся ему в отцы, поднялся по лестнице без всякой помощи, а его – цветущего, молодого – двое язычников подталкивали и подпирали так, что едва не сбили с ног. Позже я узнал: таков у них обычай. Оказавшись в самих покоях, Джем огляделся – без взыскательности, но и без восхищения. Словно бог весть с коих пор привык жить в подобном убранстве.
– Вы позволите мне на несколько часов оставить вас, ваше высочество, – сказал я. – Отдохните с дороги и приготовьтесь к торжественному ужину в вашу честь. Под вечер я пришлю своих приближенных, которые проводят вас ко мне во дворец.
Ужин, приближенные, дворец… Я сознательно подчеркивал перед гостем свое величие, давая понять, что Родос не какая-нибудь Карамания, что наша жизнь выковала иные мерила, иные установления. Джем, казалось, не замечал моих попыток – он слушал меня рассеянно, как человек, которому не терпится остаться наедине с самим собой. Впрочем, я желал того же.
Ибо вторую половину дня 29 июля я провел в трудах и напряжении, каких едва ли стоил султану Джему год его борьбы. В эту половину дня я вел поединок со всеми мировыми силами – от султана Баязида Второго до его святейшества папы.
Вел я эту борьбу из своего кабинета, точнее – из-за своего письменного стола. Я составил с десяток писем. Каждое из них настолько отличалось от остальных, настолько по-иному освещало события и предлагало для их разрешения меры настолько противоположные, что мне казалось, будто я десять раз меняю не только кожу, но и душу, перевоплощаюсь в десять различных владетелей.
Дивлюсь я вам! Отчего вы полагаете, будто только ваш сегодняшний мир раздираем непримиримыми противоречиями? Отчего – вопреки тысячелетнему опыту – человечество в каждый отдельный день склонно считать, будто именно этот день являет собой вершину человеческой истории? Мы также (и как я полагал тогда – справедливо) считали свое время «переломным в истории человечества». Как вам известно, XV век был чреват конфликтами не только в суждениях. Он подготовил Тридцатилетнюю и Столетнюю войны, подготовил инквизицию, революцию во Фландрии и Варфоломеевскою ночь. Что же? Вы станете убеждать меня, что ваша эпоха более значительна?
Простите, я снова отклоняюсь, но мне хочется, чтобы вы имели в виду нечто недостаточно уясненное и замалчивавшееся в истории нашего столетия: тот факт, что именно тогда Восток перестал играть роль в европейской политике.
За тысячелетие – а это половина всего того времени, что существует на земле христианство, – Запад потерял свое первенствующее значение, он подвергся влиянию варваров. Владетельские дома вырастали тут как грибы, и эти крохотные непрочные государства состояли в сложной зависимости от многих сил – каждое из них кормили несколько тысяч крепостных и защищали несколько сотен воинов. Запад измельчал. Единственное, что еще сплачивало его, был Рим, Папство. Слабое утешение. Меж тем Восток ушел далеко вперед, варварам не удалось подчинить его, напротив, он сделал из них своих подданных или соратников, возвысив их до себя.
Византия!.. Имеете ли вы, ее наследники, представление о том, чем была Византия для средневековья? То, что пятнадцатый век на Западе приписал себе как свою заслугу – открытие Человека, возрождение античного наследия, положительной науки, если хотите, – все это Византия знала всегда, все это она перенесла из античности в последующие времена. Византия послужила мостом между двумя цивилизациями, мостом блистательным, подчеркиваю, хотя сам я европеец и католик.
В то время как на Западе мало кто из коронованных особ знал грамоту, в Византии – и не только в Византии, но даже на таких ее окраинах, как Болгария или Сербия, правителями бывали поэты, книжники. Зачем вы указываете мне на Лютера и лютеранство – коренной духовный переворот! На Востоке за столетия до Лютера распространялись ереси, крохами от коих питалось недовольство западного крестьянства; Восток обладал своей противоцерковной литературой, тайно, частями переправлявшейся на Запад.
Вам, не правда ли, кажется странным, что служитель Римской церкви так принижает своих единоверцев – обычно это не свойственно нам, вы правы. Но мы обязаны были знать, что представляют собой Византия и Балканы, ибо они мешали нам.
Мешали – это самое подходящее слово; пять столетий минуло с тех пор, и кое-какие истины могут уже быть изречены вслух. Нам мешало свободомыслие европейского Востока, где цари позволяли себе брать в жены еврейку либо актрису, где сами властители часто бывали еретиками, где возрождались и ширились всевозможные языческие течения и общество было свободно от религиозных, сословных, национальных предрассудков; нам мешало, что на Востоке церковь находилась в подчинении у светской власти, тем самым подавая дурной пример западным государям; наконец, а может быть, и прежде всего мешало то, что Византия и ее союзники умели, как никто, растить, производить и торговать. Они держали в своих руках торговые пути между Востоком и Западом, диктовали нам цены и пошлины, играли нами – не владевшими тайнами стекла, сафьяна, золотых и серебряных нитей. Тысячелетняя империя терпела всякого рода удары со стороны дикарей и варваров, поглощала их или перемалывала, росла, уменьшалась, падала и вновь возрождалась из пепла… Преемники ее и наследники, склоните главы свои перед Византией!
И вдруг – Мехмед Завоеватель. Вы нарекли его «великим кошмаром на переломе истории»! Прошу прощения, вы мне смешны. Завоеватель испугал Европу тем, что затруднил левантийскую торговлю и уничтожил несколько наших крепостей. Но он оказал нам великое благодеяние: избавил нас от Византии.
Вы никогда не задумывались, отчего именно пятнадцатый век явился новым этапом в развитии Запада? Отчего именно тогда разбогатели наши города и люди стали подумывать о чем-то большем, нежели хлеб насущный, что и обрушило на наши головы Реформацию и всякого рода революции? А мой ответ таков: в пятнадцатом веке Запад обрел освобождение, и освободил его не кто иной, как Мехмед Завоеватель, это сама истина. Как подумаешь, что в Риме по сей день не воздвигнут памятник этому коротконогому, толстошеему турку – моему личному врагу!..
Впрочем, для чего это пространное отступление? Ах да, чтобы объяснить вам, сколь сложны были противоречия, через которые прокладывала себе дорогу наша эпоха.
В двух словах они сводятся к следующему: с одной стороны, уцелевшие восточные властители (их можно пересчитать по пальцам одной руки – в первую очередь венгерский, потом польский и русский) были готовы на определенные жертвы, чтобы пресечь продвижение османов и отбросить турок назад, однако не настолько, чтобы вновь ожила держава какого-либо могущественного соседа. С другой стороны, Запад, только что отпраздновавший гибель Византии, ринулся за своей долей в дележе земных благ. Десятки расцветающих западных городов, число коих множилось с каждым, днем, десятки мелких, но уже набирающих силу государств видели в Турции не только угрозу. Турок был для них богатым простофилей, которому можно за хорошие деньги всучить сверкающий и дешевый товар; турок был для них живущим в довольстве лентяем, не любящим утруждать себя делами и торговлей, охотно предоставляющим эту черную, но весьма доходную деятельность франку. (Как вам известно, мусульмане никогда не пытались разграничить нас, называли общим для всех именем – франк, все мы оставались для них людьми, бедными духом, отдающими труду и алчности излишние усилия, тогда как сами они использовали свое время куда как разумно: проедали наследство, доставшееся от Византии и от Балкан.)
Запутанности этих противоречий, вероятно, немало способствовало Папство, и вам следует вникнуть в его трудности. До той поры оно просуществовало по причинам очевидным – каждому из бесчисленных западных государей церковь была необходима, поскольку она благословляла их господство над крестьянами, освящала крепостное право. Не признанный святым отцом владетель беспрепятственно становился жертвой не заговора (хотя в заговорах недостатка не было), а крестьянского бунта: прикончив такого господина, крестьянин не совершал греха перед господом.
Однако перемены в жизни Запада болезненно затронули Папство. Города богатели. Это означало, что новое привилегированное сословие – купечество, владельцы мастерских – не искало у церкви благословения для своей власти, эта власть была освящена деньгами. Хозяин никого не понуждал на него работать, у него испрашивали на то позволения. Он платил.
Вот подобная мелочь и переломила жизнь на Западе, обозначила приход новых времен. Тут вы в своих рассуждениях полностью правы: простая плата человеку за его труд все изменила. Рим ощутил неуверенность перед будущим; Рим никогда не обманывал себя. Оттого святые отцы моего времени и не оставили в истории ярких имен, промелькнули как мелкие интриганы, многоженцы или ростовщики, что уже не имели былого поля деятельности. Они пытались примениться к новому порядку вещей, участвуя в борьбе между властителями и городами, чередуя жестокость со всепрощением; рассчитывали преодолеть приговор времени с помощью его же оружия, отсрочивали конец нашего господства, Риму снова угрожала победа варваров. Но теперь варвары наступали изнутри. Точнее: снизу.
Думаю, мне не придется более отклоняться в сторону от моего повествования; надеюсь, что, хотя бы отчасти, открыл вам сущность нашей эпохи. Следовательно, вам легко себе представить, сколь мучительно трудно было мне составить те десять писем европейским государям.
Начал я, разумеется, с послания своему прямому повелителю – святому отцу. Это письмо я помню, словно оно написано только вчера: «Христианство ныне в силах истребить ненавистный род мусульман. Если мы предоставим Джему войска, его приверженцы мгновенно поднимутся. Его брат не обладает смелостью и окажется во власти страха; у него на службе мало способных полководцев. Лучший из них, Ахмед-паша, ждет лишь благоприятного события, чтобы повернуть против него. Он писал в этом смысле принцу Джему, умоляя его не приходить в отчаяние от своей участи и временно отступить.[16] Никогда еще не представлялся нам более удобный случай вернуть себе Ахайю и часть Архипелага – какую славу приобретет тем ваше святейшество! Ради достижения сей цели европейским государям даже не придется идти на большие жертвы, ибо в Европе нам будут содействовать приверженцы Джема, а в Азии – бывший владетель Карамании, жаждущий восстановить свою власть. Окруженный врагами, султан Баязид не станет оказывать сопротивление».
«Нам не ведомо, – писал я в заключение, – благосклонно ли будет встречено наше предложение вашим святейшеством. В ожидании ответа мы станем печься о принце Джеме и внушать ему надежды. Если волею божьей поход состоится, мы со своей стороны вложим в него свой труд и заботы. В противном случае, сохраняя верность данному слову, поступим в соответствии с интересами Родоса».
Находите ли вы в этом письме хоть один предосудительный намек? Клянусь святой троицей, я всей душой желал осуществления предложенного мною крестового похода, дабы связать свое имя с решающей победой христиан над язычниками. Но (тут же признаюсь в этом) я весьма слабо верил в успех своего предложения, ибо знал, в силу изложенных мною выше соображений, что Европа и Папство воздержатся от такого шага. Поэтому я в заключение подчеркивал, что ответственность за провал похода возлагаю на других, и оставлял за собой право на Джема. В конце концов не чьим-нибудь, а моим пленником, то бишь гостем, являлся Джем.
Несколько других писем – королям Англии, Франции, Испании – были довольно однообразны. Я обращался к совести этих государей, сулил им за участие в походе славу и загробную благодать, упоминал о преимуществах, которые даст левантийской торговле поражение турок.
Успех этих писем был еще сомнительней – пожар пылал слишком далеко от испанской или английской земли. Я больше уповал на торговые города Италии – Венецию, Геную, Флоренцию: для них дела в Средиземноморье имели существенное значение. Однако наши славные итальянские республики были вовлечены в столь яростную междоусобную борьбу, купеческая алчность так притупила у них чутье политиков, что ответ их предвидеть было трудно.
И наконец, в тот же день отправил я письмо королю Венгрии, Матиашу Корвину, сыну Яноша Хуньяди. Это письмо оправдывает меня перед судом истории. Оно доказывает, что, защищая в деле Джема интересы Запада, я проявил широту взглядов. Ибо Матиаш Корвин находился под непосредственной угрозой османов и мог охотно согласиться с моим планом: поход Корвина против Турции возродил бы Сербию, Боснию и, вероятно, Болгарию, если не саму Византию. Я знал это и тем не менее предложил ему действовать совместно.
Не стану убеждать, вас, будто человек, подобный мне, – священнослужитель высокого звания, ответственный за судьбу уединенного, находящегося в опасности острова, – часто предается созерцанию природы, но вечер 29 июля 1482 года и поныне очень живо вспоминается мне.
Из залов и переходов моего дворца доносились громкие голоса, смех и музыка, по окончании официальной встречи Орден и видные люди Родоса оказывали там почести Джему. Многие из них влили в себя значительное количество вина, в голоса моих гостей прокрадывались всевозможные оттенки – крайняя откровенность излишняя фамильярность, даже ухарство. Здесь же, на открытой галерее перед моими покоями, куда я вышел, чтобы собраться с мыслями и принять решение, царила июльская ночь.
Быть может, вы заметили, сколько очарования таят в себе ночи в конце июля – тяжелые, истомляюще-жаркие, загадочно-печальные. И прежде всего крайне, крайне напряженные. Словно природа смущена своим расточительством и страшится неизбежного конца – усталости, близкой осени. Вероятно, это неточно выражено: я никогда не умел ощутить что-либо вне человека, а уж тем более – выразить это. Но в ту ночь какое-то непередаваемое напряжение действительно насыщало воздух над Родосом. Кажется мне, так бывает в те ночи, когда замышляется или близится убийство.
Седьмые показания поэта Саади о событиях 30–31 июля 1482 года
Мы проснулись утром с тяжелыми после вчерашней попойки головами – братья поистине не поскупились на вино. Пока мы приводили себя в порядок, к нам ввели трех братьев – из числа самых главных (я тогда еще не различал их званий) – и доложили моему господину, что на них возложена честь познакомить его с достопримечательностями острова. Джем, показалось мне, не пришел в восторг от этого, но он не любил отказывать, опасаясь обидеть человека, проявляющего к нему внимание.
Почти дотемна наши кони взбирались на родосские холмы (горами их не назовешь), а мы внимали объяснениям брата имярек. Он описывал нам события, разыгравшиеся в этих местах, сообщал названия часовен, разрушенных языческих капищ, заливов и скал. Делал он это с необычайным усердием и явно не торопясь. Мы не очень понимали, что было тому причиной. Джем, которому предназначались эти расточительные объяснения, уже не скрывал досады и старался сократить их односложными подтверждениями.
Однако брат имярек оставался верен долгу, и мы вернулись к концу дня полуживые от усталости, чтобы наскоро поесть и рухнуть на свои постели.
Я находился в опочивальне Джема. Должен сказать вам, что я всегда находился при нем, стелил себе постель у его ложа. С тех пор как мы покинули Караманию, меня преследовал страх, что Джем будет убит во сне. Успокаивало только сознание, что убийце пришлось бы перешагнуть через меня. И больше всего успокаивало это Джема. После Карамании Джем избегал оставаться ночью один, ему необходим был кто-нибудь, с кем бы он мог поговорить или помолчать, даже и помолчать ему нужно было с кем-нибудь.
Итак, в тот день, поскольку мой господин лег, я тоже свернулся у него в ногах, на тигровых шкурах.
Вскоре я почувствовал, что он дремлет, а может быть, и спит крепким сном – в те годы Джем, еще молодой, спал бесшумно. Я приподнялся, чтобы проверить, хорошо ли он укрыт, как вдруг в дверь постучали. Нетерпеливо, словно намереваясь ворваться в комнату без позволения.
Я тихонько приотворил дверь. На пороге стоял Франк, держа за руку – но не так, как держат обычно, ладонь в ладонь, а крепко ухватив за кисть, – молоденького монашка.
Лицо Франка заставило меня содрогнуться. До этого к всегда считал, что нет на свете более горестно-замкнутой, более отчаянно-дерзкой физиономии. Но тут понял: все это пустяки в сравнении с тем выражением, какое было на этом лице сейчас. Сулейман был взволнован до глубины души (хотя сотни раз твердил, что ничто не в силах взволновать его, ему нечего бояться и нечего терять), больше того – на лице его был написан ужас.
Не говоря ни слова, Сулейман грубо отодвинул меня плечом и втолкнул монашка в комнату. У паренька на левой стороне груди не было белого креста, впоследствии я узнал, что так одевались послушники Ордена. Казалось, он вот-вот лишится сознания, от страха или от боли – этого я еще не знал. Франк по-прежнему держал его за руку, словно боясь, что тот вырвется и убежит.
– Разбуди немедля своего господина! – шепотом приказал он.
– Мой султан, – я подчинился этому взволнованному шепоту, – мой султан!
Джем медленно пробуждался, он видел первый сон; скользнул задумчивым взглядом по мне, Сулейману, незнакомому юноше. И угадав нашу тревогу, вдруг подскочил как ужаленный:
– Что случилось?
– О повелитель, зачем ты не послушал меня! – с отчаянием воскликнул Сулейман, позабыв об осторожности. – Я оказался прав. Как мне не хотелось оказаться правым, мой султан!
– О чем ты? – Наше смятение уже передалось Джему, соединилось с его усилием отогнать сон, мой господин был сейчас бледен, измучен, почти жалок.
– Сегодня тебе показывали весь Родос, не так ли, повелитель? Все утро и весь день возили далеко от крепости?
– Да. Что из того?
– А знаешь ли зачем, мой султан? – продолжал Франк задавать свои бессмысленные вопросы.
– Откуда мне знать! Говори!
– Чтоб ты не видел, как они сбегаются в свое разбойничье логово, не понял, что они совещаются, решают, действуют, вот зачем!
– Ты пьян или теряешь рассудок? – произнес Джем, тряхнув головой. – Какое логово, какие разбойники?
– Большой совет заседал все утро, весь день. Решал твою участь, мой султан!
– Мою участь решать нечего, я уже сам решил ее. Вчера вечером мы условились с великим магистром, что он обратится с письмами в Венгрию и Германию. Через месяц самое большее, едва лишь придет ответ от обоих королей, я отправлюсь в Румелию. Должно быть, магистр сегодня сообщил об этом братьям.
– Нет, мой султан! – настаивал на своем Сулейман. – Ты не отправишься в Румелию. С самого утра и до недавнего часа Большой совет обсуждал, куда ты будешь отослан: в Рим или во Францию. Куда они решат – ибо они еще не решили, – туда ты и поедешь, мой султан.
Страшное молчание воцарилось в опочивальне, его нарушали только выкрики родосских разносчиков, предлагавших свой товар на площади Святого Себастьяна. А мы четверо стояли, будто над свежей могилой.
– Сулейман, – прошептал Джем после молчания, показавшегося мне бесконечным. – Уверен ли ты?
– Для того я и привел тебе свидетеля, мой султан, – Франк тряхнул паренька и что-то сказал ему на своем языке.
Монашек усердно закивал, словно немой. Но весь его вид, устремленные на Сулеймана преданные глаза доказывали, что тот говорит чистую правду.
– Брат Иоаким спрятался в тайнике рядом с залой Совета и все слышал, – заговорил Франк уже немного спокойнее. – Он слушал целых шесть часов, братья надорвали глотки в споре. И еще не сказали последнего слова, мой султан, мы узнаем его завтра.
– Сулейман, у меня на руках письмо Ордена, скрепленные печатью заверения его, – противился печальной вести Джем. – Какой властитель сохранит доверие к Д'Обюссону, если Д'Обюссоп обманет одного из властителей? Нет, даже если ему и достанет коварства, не безумец же он!
– Твои заключения многомудры, мой султан, – ответил Сулейман, – но их опровергает сама жизнь. Орден пошлет тебя туда, куда сочтет для себя выгодным.
– Да ведь это плен! – закричал на него Джем, словно именно Франк посягнул на его свободу. – Корсары не сделали своего гостя пленником, корсары! А ты доказываешь мне, что великий магистр…
– Зачем я стану доказывать тебе, повелитель! – устало прервал его Франк. – Хорошо, не верь мне.
И он выпустил руку монашка. Тот не поклонился, пятясь выскользнул из комнаты, и было слышно, как он опрометью сбежал по лестнице, – точно спасаясь от огня.
– А это кто такой? – Джему очень хотелось, чтобы источник Сулеймановых сведений был сомнителен.
– Какое это имеет значение? – пожал плечами Франк. – Он сам, без моих просьб, пришел ко мне.
– Превеликая смелость, ты не находишь? – с трудом улыбнулся Джем: растерянность еще сковывала его черты. – Не ведет ли этот юный монах весьма опасной игры? Либо же кто-нибудь из недругов Д'Обюссона (у Д'Обюссона тоже есть недруги) подослал его к нам, чтобы восстановить меня против Ордена?
– Жизнь человеческая слишком дорогая ставка для игры, о повелитель! – Сулейман явно имел в виду не монашка, а себя самого. – Просто имя Бруно на Родосе кое-что значит; должно быть, здесь есть люди, думающие так же, как и я, они считают меня очень близким себе, даже не видев меня ни разу в глаза. Благодаря нашему единомыслию… Порой ради единомыслия люди способны на многое.
Никогда прежде не слышал я у Сулеймана такого голоса. Он говорил тихо, с какой-то печальной и нежной гордостью. Но (хотя мне было и не до наблюдений) я заметил: Франк – чужак, ни с кем не сблизившийся, никем не любимый, ничей Франк – наконец-то нашел целебное снадобье для своей исстрадавшейся души. Бруно был вознагражден: его поступок стал примером для двух-трех монахов, ощутивших то же, что побудило непримиримого, незнакомого им, но родного духом брата бежать к нам.
Не следует упрекать Джема за то, что он не заметил происшедшей в Сулеймане перемены, – Джем все еще не пришел в себя. И вдруг:
– Саади, – сказал он мне, – я отправляюсь к великому магистру!
Сулейман рассмеялся. Тоже по-новому – горько, но с оттенком нежности; нежность пропитала его душу, примиряя с миром, который он еще недавно так яростно ненавидел.
– Ты спросишь магистра, не обманываю ли я тебя, повелитель? – без всякой злости сказал он.
– Я спрошу его, для чего Совет сегодня весь день заседал, – смешался Джем, тут же почувствовав всю несостоятельность своей затеи. – В конце концов… вправе я знать, что меня ждет… Не так ли?
– Воля твоя, – пожал плечами Франк. – Но в доказательство тебе придется назвать свидетелей.
– И я назову их! – Страх заставил Джема забыть обо всем и обо всех.
– Воля твоя! – повторил Сулейман. – Наш долг жертвовать собой ради нашего повелителя. – И непривычно мягко добавил: – Мальчишку жалко!
– Как ты можешь говорить такое! Первой же моей заботой будет заручиться у магистра обещанием, что он пощадит монашка… И что особенного, в сущности, он сообщил? Предположения… Одни слова… – Джем под взглядом Франка приходил во все большее замешательство.
– Обещанием! – сквозь зубы процедил Сулейман. – Тебе тоже было обещано, что ты волен покинуть Родос, когда заблагорассудится…
– Вот мы и увидим, покину я его или нет!
Спускаясь по лестнице вслед за Джемом, я размышлял о том, как он похож на ребенка. Так же быстро, без всякого перехода и разумной причины сменяются настроения у детей; только детям удается поверить в то, во что им очень хочется поверить; только они не терпят черных мыслей и бегут от отчаяния.
Сулейман следовал за нами на небольшом расстоянии – он служил нам толмачом. Мне казалось, что с одного бока меня обдувает жаром, с другого – холодом. Жар исходил от Джема; от Сулеймана – холод. Так леденеет лишь человек, узнавший о жизни столько, сколько можно узнать за всю человеческую жизнь. Это холод смерти, ибо постигший жизнь умирает прежде, нежели наступает последний его час.
Д'Обюссон же встретил нас и тепло и холодно одновременно. Он растаял от преданности при виде Джема и застыл в обиде, когда мой господин бросил ему в лицо кучу несвязных упреков.
– Мне не пристало оправдываться, ваше высочество, – перевел Франк его ответ. – Неужели ваше высочество допускает, что Орден хоть на единое мгновение может пренебречь вашим благом? Наш святой долг – защищать каждого странника или немощного, насколько же возрастает наше тщание, когда под угрозой находится великодушный и благородный властитель?
Тут и я почувствовал прилив ярости – в отличие от Джема я не усомнился в словах Сулеймана. А Джем лишь немного замялся, решая, в какой мере он вправе воспользоваться чьей-то преданностью. И переведя дух, нанес удар:
– Некто, присутствовавший сегодня в Совете, ваше преосвященство, готов подтвердить сказанное мною!
Д'Обюссон откинулся на спинку кресла, пальцы его впились в гладкое дерево подлокотников так сильно, что побелели ногти. Я смотрел на его руки; мне чудилось, что они впиваются не в дерево, а в горло маленького послушника.
Д'Обюссон молчал. Я знал, о чем он думает: признаться тут же или подвергнуть себя встрече с неведомым свидетелем. И решив, должно быть, что незачем дать себя изобличить как мелкого лгунишку, что еще слишком рано лишаться доверия Джема, магистр торжественно возгласил:
– Не называйте его имени, ваше высочество. Этот некто надеялся, очернив меня в ваших глазах, разрушить наш союз – да не преуспеет он в этом! Вы правы, мы обдумывали, какое убежище будет для принца Джема надежней, чем Родос: Рим или Франция. Для чего нам стыдиться благой нашей озабоченности? Я не только не думал таить от вас наше решение; завтра же – вслед sa тем, как мы предложим вам сделать выбор, – вы письменно изъявите свое согласие быть препровожденным под надежной охраной в Европу. Если же вы не пожелаете этого, то и не станете давать согласия, не так ли?
Я видел, как остывает Джем под воздействием самообладания магистра. И сам тоже заколебался: Совет еще не принял окончательного решения, мы действительно не располагаем никакими доказательствами, что Джем не был бы уведомлен об этом, пока еще не принятом, решении. В чем же тогда обвиняли мы Орден? Что он обсуждал вопросы, касающиеся его гостя, в отсутствие самого гостя?
– Могу ли я, – не сразу ответил Джем, – быть приглашен на ваше уважаемое собрание? В конце концов, я в здравом рассудке и не малолеток, чтобы моя судьба решалась без моего участия.
– Видите ли, ваше высочество, – невозмутимо отвечал магистр, – этим мы весьма усложнили бы дело. Нам потребуются услуги переводчика, а когда ведутся дебаты и пять-шесть человек говорят разом, это затруднительно. Даю вам слово, что вы узнаете обо всем вас касающемся, как только мы придем к твердому мнению.
На сей раз то было не самообладание, а чистая наглость. И желание как можно скорее окончить неприятный разговор. Однако в Джеме вновь вспыхнуло отцовское упорство.
– Тем не менее прошу, ваше преосвященство, объяснить: что вынуждает отсылать меня куда бы то ни было? Сдается мне, мы условились в том, что, заключив с вами договор, я поплыву к своим румелийским владениям или, в крайнем случае, в венгерские земли. Отчего возник вопрос о том, куда меня деть? Я отказываюсь понимать это!
Я хорошо знал Джема и видел, что он с трудом сдерживает рыдания. Не было ничего легче, чем исторгнуть у Джема слезы: столь нежной, столь чувствительной была его душа.
– Ваше высочество, – скорбно и с достоинством ответствовал Д'Обюссон, – мы хотели избавить вас от излишнего беспокойства. Но коль скоро вы настаиваете… – Тут магистр явно подавил вздох. – На Родосе вам оставаться небезопасно, ваше высочество.
– Отчего?… Как же так?… – заикаясь, спросил Джем.
– Родос, в сущности, осажден. Вокруг непрерывно снуют турецкие корсары; в Ликии и Киликии султан держит многочисленное войско. Где доказательства, что Баязид завтра не бросит все свои силы, чтобы взять наш остров, либо же не предпримет попытку похитить вас? Есть ли необходимость вам находиться именно здесь, в наиболее угрожаемом владении Ордена, когда вы можете выждать удобный момент в каком-либо другом его владении?
– О каких владениях говорите вы?
– О многочисленных замках, завещанных иоаннитам благородными дарителями. О замках Лотарингии, Савойи или Дофине. Лично я поддержал это мнение. Многие братья настаивали на том, чтобы мы проводили вас прямо в Рим, под крыло святого отца, чье вмешательство принудит западных государей прийти к вам на помощь и предоставить свои войска. Но я не согласен с этим и никогда не соглашусь. Султан Джем в Риме… Не звучит, не правда ли?
О аллах, как этот человек играл нами! Как ловко перешел он от обороны к нападению, как заставил нас устыдиться наших низких подозрений и обсуждать вместе с ним вопросы, которые были личным делом моего повелителя.
Несмотря на свою наивную доверчивость, даже Джем, пожалуй, заметил, сколь неуместный оборот принял разговор.
– Благодарю вас за вашу заботливость, ваше преосвященство, – сказал он. – Я приму во внимание ваши советы, когда стану решать, куда мне направиться, покидая Родос.
Он поклонился магистру, мы тоже отвесили поклоны. Поворачиваясь к двери, я заметил во взгляде Д'Обюссона необычную смесь чувств: жестокости, презрения, досады и решимости. Но все приглушенно, полунамеком. «Будь проклят миг, когда мы вверили себя в твои руки!» – подумал я. О том же самом, видимо, думал и Джем, пока мы возвращались на наше подворье. Едва переступив порог, он спросил у меня чернил и бумаги.
Я понимал, что не стихи вознамерился он записать, – вид у Джема был совсем не такой, какой бывал, когда он садился за свое любимое занятие. Долго сидел он над чистым листом, подперев голову, в глубоком раздумье.
– Саади, – сказал он мне, когда за окном уже смерклось, – знаешь ли, кому я собираюсь писать?
– Не имею представления, мой султан.
– Брату, – бесстрастно ответил Джем. – Напишу Баязиду. Он не позволит неверным унижать сына Мехмеда, не допустит, чтобы меня передавали из рук в руки. Ведь, несмотря ни на что, мы братья, Саади, я никогда не желал его смерти и даже не притязал на его владения. Да, – продолжал он, словно рассуждая сам с собой, – Баязид не откажет мне в помощи, коль речь идет о незапятнанном имени Османов…
– О мой султан! – воскликнул я, потрясенный услышанным. – Будь уверен, Баязид с твоей собственной помощью накинет на тебя веревку! К чему было все предпринятое нами, если ты намерен умереть?
– Ни к чему, ты прав. – Весь вид Джема выражал смертельную усталость. – Мне с самого рождения была суждена ранняя смерть – зачем я противился ей? Ты прав, Баязид убьет меня, я это знаю. Но разве то, что готовят мне эти черноризцы, не есть тоже смерть, только медленная и постыдная?
– Не думаешь ли ты, что Баязид убьет тебя с почетом, с цветами и музыкой? – Я кричал, переживания последних дней оказались мне не под силу. – Умереть никогда не поздно, повелитель! – закончил я, словно повторяя старый припев.
– А может быть, и умереть будет поздно! – в свою очередь выкрикнул Джем, чего никогда с ним не бывало прежде. – Ты ведь помнишь слова, сказанные Франком в Ликии: будет поздно! – И он нетерпеливо тряхнул головой. Это был знак, чтобы я оставил его в покое. Я свернулся клубком у его ложа и затих. За окном было совсем темно, надвигалась черная, удушливо-непроницаемая родосская ночь.
А Джем писал. Он не любил, чтобы на него смотрели, когда он пишет, и я наблюдал за ним исподтишка. Я видел, что это письмо стоит ему больших усилий – он несколько раз менялся в лице, то и дело вытирал со лба пот.
Я, видимо, задремал. Прикосновение его руки заставило меня проснуться.
– Саади, – сказал он, – вот, прочти! Боюсь, что получилось скверно.
Я взял исписанный сверху донизу лист. Начальные строки были незначащими – обычные приветствия и пожелания. А ниже я прочитал:
«Припадая к стопам Вашего величества, прошу услышать мою мольбу и простить мои проступки. Величайшее великодушие Ваше не может отказать несчастному в малой толике тех благ, коими Вы осыпаете весь мир, тем более что этот несчастный сознает свою вину и смиренно молит о прощении. Ваше величество не потерпит, чтобы остался пленником неверных я, правоверный, изрекающий священные слова: „Нет бога, кроме аллаха, и Мухаммед пророк его“. Моя судьба всецело зависит от Вас, ибо я раб, руки и ноги мои в оковах. Саван бесчестия покрывает лицо мое, над головой моей занесен меч, готовый нанести роковой удар. Коли такова Ваша воля, я подчинюсь ей, славя аллаха, но ежели милосердие и великодушие Ваши извлекут меня из пучины бедствий, то клянусь всевидящим аллахом никогда и ничего не предпринимать без Вашей государевой воли.
О повелитель, протяните руку несчастному, не имеющему иного убежища, кроме спасительной тени Вашего благоволения! Я тешу себя надеждой, что ревность к вере нашей и Ваше великодушие внушат Вам такое решение и вымолят для меня Вашу милость».
(Вы утверждаете, что ваши ученые не верят подлинности этого письма; невозможно, говорите вы, чтобы человек, наделенный разумом, так кидался из одной крайности в другую, сам предавал себя в руки то одного, то другого своего врага. И при всем том это возможно. Разве ваши глубокомысленные науки не привели вас после стольких исканий к единственной абсолютной истине: в обитаемом нами мире все возможно! Не возражайте! До той поры, пока эту землю топчут миллиарды людей, будут и миллиарды поступков, миллиарды решений, миллиарды слов, искренних и лживых. При таких больших числах все одинаково вероятно.
Согласен: сотворенное Джемом в тот вечер, 30 июля 1482 года, письмо было безрассудством или просто-напросто глупостью. Но станешь ли винить в недостатке здравого смысла зверя, услышавшего, как за ним захлопывается капкан? Вот так же метался в своей клетке Джем и – как случается со зверями в неволе – сам кусал себя, сам причинял себе вред.) Вот над чем размышлял я, притворяясь, будто все еще читаю послание Баязиду. Оно так и не дошло до получателя, либо же получатель сделал вид, будто не получил его, – это и по сю пору осталось неуясненным.
– Мой султан, – сказал я, – какую цель преследуешь ты этим письмом? Ты часто твердил: для поверженного нет пощады! А сам показываешь, что ты – нет, не повержен, а растоптан. Впрямь ли рассчитываешь ты на милосердие брата, друг мой Джем?
Он слушал меня не отрывая глаз.
– Ни на что не рассчитываю я, Саади, – ответил он. – Я уже не думаю о своей жизни, она во власти Д'Обюссона. Я хочу одного – оправдать себя перед единоверцами, перед памятью отца, перед потомками и историей: я сам предложил себя Баязиду. Пусть он возьмет и предаст меня смерти – я паду от его руки; пусть оставит меня пленником христиан – это будет по его воле… Но есть и еще кое-что. – Джем открыл глаза, и я, словно сквозь родниковую воду, увидел на их дне надежду: – Отчего мы всегда предполагаем в людях зло, ведь существует же где-то и добро? Разве совершенно исключено, что в брате заговорит голос крови? Ведь Баязид на пятнадцать лет старше меня, я гожусь ему чуть ли не в сыновья. Если Баязид покарает меня, не будет ли тревожить его дух Завоевателя?
«Я схожу с ума! – подумал я, потому что внезапно почувствовал, как под кожей черепа забегали тысячи мурашек. – Все безысходно! Мир – капкан, и нет для человека выхода из этого капкана. Жизнь так устроена, что каждый твой шаг и каждое слово становятся либо преступлением, либо смиренной мольбой. На преступление отвечают карой, на мольбу – ударом. Отовсюду сыплются на человека удары, о аллах, а он, слабый, смиренный, униженный, должен идти, а порой бежать сквозь темный житейский лес, всегда памятуя о том, что каждый его шаг – фатален, что все, все, все, будучи хоть раз сделано или сказано, необратимо!
Кто, чье сердце и мозг могут вынести эту длящуюся десятилетиями пытку? На кого гневаешься ты, о аллах, за прегрешения наши? Наша ли вина, что твой мир так огромен, многолик и запутан, что не только нам – тебе самому с ним не сладить, и ты совершаешь одну несправедливость за другой!..
О милосердный аллах, не дай мне лишиться разума! Что без меня станет с Джемом, о аллах!..»
Помню, мы оба долго молчали. Исписанный лист лежал возле свечи точно приговор или завещание – словом, точно одна из тех, казалось бы, незначащих бумажонок, какие порой значат больше, чем сражение стотысячных армий, землетрясение или чума.
Не знаю, как долго мы спали. Страшнее преисподней была эта гнетущая южная ночь, полная кошмаров и видений. Мы еще не поднимались, когда раздался стук в дверь.
То был Сулейман. Так же, как и накануне, меня потряс его вид. С того времени как мы покинули Ликию, Сулейман потерял дерзость человека, которому нечего терять. Последние недели он выглядел огорченным и настороженным, но зато деятельным и решительным. А в то утро Франк словно бы вновь стал прежним, вновь обрел свою горькую невозмутимость.
– В чем дело? – приподнялся на локте Джем.
– Почтим молчанием память брата Иоакима, мой султан, – произнес Франк.
Мы смотрели на него, онемев.
– Сегодня утром, еще затемно – здесь рыбаки выходят в море прежде, чем встанет солнце, – было найдено тело моего юного брата. – «Моего брата» Сулейман произнес так, словно речь шла о родном его брате, а не о члене духовного братства. – Говорят, он был обнажен. Должно быть, пошел купаться, поплавать… Молодые это любят…
Сулейман говорил точно в забытьи, неестественно бесстрастно.
– На голове у него, – продолжал он все тем же ровным голосом, – большая рана, пробит череп. Говорят – расшибло волной о скалу.
– Кто говорит? Какой волной? Тут по утрам море спит… – начал было Джем, но не докончил, увидев, что Франк приложил одну руку к губам, а другой многозначительно указал на стены.
Я понял: Сулейман напоминал, что здесь у стен есть уши.
Вот бы вам увидеть нас в то звенящее утро! Оно заливало нашу опочивальню, оживляло узоры на коврах и подушках, плясало в чашах и серебряных сосудах. А мы молча сидели друг против друга, стараясь передать один другому свои мысли лишь с помощью взгляда и жестов, желая быть рядом, чтобы уменьшить в себе ужас перед невидимой, караюшей дланью Ордена.
Трое чужеземцев на великолепном французском подворье в одно дивное, яркое южное утро, посреди прелестного острова Родоса, плывущего между самым лучезарным на свете небом и самым ласковым на свете морем.
Четвертые показания великого магистра Д'Обюссона о событиях лета 1482 года
Прошу меня простить, я слышал, как Саади занимал ваш слух рассказом о кончине молодого послушника и тонкими душевными переживаниями своего господина. Вообще говоря – хотя это отнюдь и не мое дело, – меня не оставляет чувство, что упомянутый Саади никогда не отвечает на вопрос прямо и отнимает у вас время ребяческими суждениями о тех днях, когда зрели события всемирного значения. В ту пору их еще направлял я, Пьер Д'Обюссон.
В июле в строжайшей тайне от Джема и его людей я послал двух наших братьев в Адрианополь, в резиденцию Баязида. Новый султан явно избегал Константинополя: там каждый камень помнил Мехмедовы победы, и толпа могла бы предаться невыгодным сравнениям между Завоевателем и его преемником. Мои посланцы везли (в крайне резкой форме составленное) предложение заключить мир; оно могло сойти и за требование. Наступило время стукнуть кулаком по столу – будущее самого султана отныне зависело от нас.
До их возвращения следовало отделаться от Джема. Если начало переговоров и удастся сохранить в тайне, то их завершение остаться тайной никоим образом не могло.
Проводя в обществе Джема чуть ли не все обеды и ужины, стараясь и развлечь его и одновременно убедить без назойливости в том, что на Родосе его жизнь находится в опасности, я изнемогал от тяжести своей роли.
Прежде всего я не вполне обманывал своего гостя, утверждая, что ему грозит опасность. Джему было необходимо уехать в Европу. Но куда именно? Мне ничего не стоило переправить его в Венгрию, тогда война между Корвином и Портой стала бы вопросом нескольких месяцев. Но простили бы мне эту войну святой отец, Венецианская республика, Франция и Испания? Как раз теперь, когда Завоевателя уже не было меж живых, а его сын начал осыпать милостями западных купцов (и будет осыпать впредь еще щедрее!), когда – благодаря тому, что Византия перестала существовать, – мы вознамерились занять первое место в торговле с Востоком? Нет, я не имел права на такой шаг; дело шло о гораздо большем, нежели благо Ордена и христовой веры, – речь шла о первенствующей роли Запада, а этот вопрос я был не властен решать один. Моя роль состояла в том, чтобы выжидать, оберегая султана Джема. В этом-то и заключалась ее сложность.
Мы были полновластными хозяевами только на Родосе. Все остальные наши владения – несколько замков во Франции и Италии, несколько монастырей нашего Ордена – находились на чужих землях. Королей, князей, графов. Мы сами были там в подчинении, вынуждены были покорствовать им. Словом, стоило нам отправить Джема в Европу, как он выходил из-под нашей непосредственной опеки.
Вы не можете и вообразить, сколько мучительных часов провел я, перебирая упомянутые выше возможности, вероятные опасности. И пришел к заключению, которое мало утешило меня: если Джем станет, как я предугадывал, главнейшим козырем в международной политике нашего времени – он не может оставаться собственностью такой малой силы, как наш Орден. Силы несравненно более могущественные – Папство, Франция, Венеция или Венгрия – не остановятся ни перед чем, чтобы завладеть им. И тогда я, взваливший на себя все тяготы, связанные с Джемом, окажусь на мели…
В продолжение этих недель раздумий я порой проклинал тот час, когда на землю Родоса ступил этот чрезмерно доверчивый, обезоруживающе обаятельный юноша. Зачем, черт побери (прости меня, боже!), именно на Родос привели беглеца его стопы? Зачем, коль его удел – облагодетельствовать Папство, Францию или Венецию, не подался он во Францию или Венецию?
То были пораженческие мысли. Еще ничего не было потеряно, ибо в глазах всего мира не кто иной, как я, сделал Джема своим пленником. Каждый, кто силой отнял бы его у меня, по сути, предоставлял и другому право сделать то же самое.
Признаюсь с огорчением, из множества Христовых велений любой правитель строго блюдет лишь одно: «Не сотвори ближнему того, чего не хочешь, чтобы сотворили тебе!» Вглядитесь пристальнее в свой мир, и вы убедитесь, что это повеление – если говорить о власть имущих – продолжает быть в силе; вы убедитесь и в том, что мир пошел бы иным путем, если бы сильные мира сего в своих взаимоотношениях не соблюдали негласно это единственное непреложное правило.
Я знал, что посланцы, отправленные мною к султану, если ветры будут им благоприятствовать, вернутся примерно через месяц. Но еще до их возвращения ко мне стали приходить важные письма: мне отвечали те, коих я уведомил о нежданной милости божьей.
Первым отозвался король Неаполитанский, Ферран. Как уверить вас в том, что я заранее предвидел почти каждое его слово! Ферран, естественно, писал, что случай, посланный нам Провидением, неповторим; что теперь или никогда христианство отбросит антихристов в Азию. Но сам Ферран, оказывается, лишен возможности участвовать в этом замечательном походе, ибо поглощен войной с Папством и Венецией. Буде я, Д'Обюссон, исходатайствую перед святым отцом установление мира по всей Италии, он, Ферран, без колебаний поведет на язычников все свое войско до последнего солдата.
Я сказал вам, что полностью предугадывал и этот ответ, и все последующие, тем не менее письмо Феррана привело меня в исступление. Ради осуществления крестового похода я, магистр двух тысяч монахов, должен, изволите ли видеть, укротить свору могущественных властителей! Больше они ничего от меня не хотят? Словно Константинополь – мой наследственный феод, а спасение христианства – моя личная корысть, и посему мне вменяется в долг сия непосильная, нелепая задача!
Итак, Ферран Неаполитанский посмеялся надо мной. Я ожидал остальных ответов. Они не замедлили. Похоже, авторы их тайком списывали с одного и того же черновика, до такой степени одинаково оказались они восхищены, одинаково благодарны представившемуся случаю, одинаково полны решимости прийти на помощь. И одинаково завершали свои послания неизбежным «но».
Отличным от всех был ответ Матиаша Корвина. Венгерский король был экономнее на изъявления восторга и благодарностей. Он лаконично объявлял о том, что отдает в распоряжение союза (где он, к дьяволу, этот союз!) все свое войско и принимает на себя руководство военными действиями на суше, предоставляя войну против Турции на море итальянским державам.
Сначала я подумал, что и Корвин смеется надо мной, хотя ему-то было не до смеха. Потом рассудил – что иное мог он предложить? Венгерское королевство нигде не граничило с морем, а война против османов должна была наполовину вестись как раз на море.
«Злосчастный Матиаш!» – воскликнул я, ибо знал, что наш мир поглумится не только надо мной, но и над Корвином.
У меня оставалась последняя надежда – Папство.
Как ни странно, святой отец не поспешил возрадоваться господней благодати, излившейся на его паству. Это я тоже в какой-то мере предвидел. Много лет назад, когда мы еще только изучали святые науки, я близко знавал того, кто позже стал папой Сикстом IV и кто истлел бы, забытый историей, если бы не его недостойные раздоры с Ферраном и домом Медичи. (Ах да! Он возвел – на мои средства, так же как и на средства тысяч скромных верующих, – небольшую капеллу в святом городе. Подряд на роспись стен в этой капелле сумел взять некий Микеланджело Буонарроти, личность темная и во всех смыслах малонадежная. Впоследствии, когда и Сикст, и я, и сам этот Микеланджело переселились в вечность, художественный вкус так деградировал, что эти фрески даже приобрели известность, однако капелла сохранила название Сикстинской. С тем и остался в истории мой бывший соученик.) Поверьте, я говорю так не из зависти. Поверьте также, что он был человеком во всех отношениях недостойным. Так что я отлично знал, на что способен Сикст.
В том своем письме он по безликости превзошел даже самого себя. Вообразите – папа, под чьим главенством находился наш Орден, ни единым словом не указывал, как должны в дальнейшем развиваться отношения между Орденом и Джемом, Орденом и Портой, Портой и христианским миром. Сикст в нескольких словах отвечал, что радуется стечению обстоятельств, являющих собой новое доказательство божьего благоволения, причиной коему coi своей стороны явились особо богоугодные деяния Римской курии. Именно так и было сказано – витиевато и хвастливо. И – все.
Помню, я громко хохотал над этим велемудрым посланием, хохотал, корчась от гнева. Что могли мы требовать от крепостного, от ткача, моряка, монаха, когда наместником божьим на земле являлся такой человек, как Сикст IV! «К дьяволу! – решил я. – Быть может, пришло ему время погибнуть под копытами антихристов, коль скоро он до такой степени заплыл жиром и отупел».
Однако оставались интересы Ордена и мои собственные. Нет сомнения, Папство желало, чтобы именно я направлял дело Джема[17] до той поры, покуда оно не прояснится и барыш от него не составит сто на сто. Лишь тогда Сикст IV напомнит о том, что не кто иной, как он, вершит судьбами христианства, и заявит, что султан Джем не может находиться под властью Ордена, понеже сей Орден подчинен Папству.
Признаюсь вам, придя к этим заключениям, я почувствовал искреннее желание, чтобы Джем заболел чумой либо утонул при купании, только бы спутать карты его святейшеству – я самому себе желал вреда, коль скоро это повредило бы и Сиксту!
Вижу, вы осуждаете меня, да я и без того самая одиозная фигура в деле Джема. Но я верю – ибо впервые кто-то выслушивает и меня, Пьера Д'Обюссона, – что вы уже уяснили себе: я сам был в этом деле жертвой. Остальные предоставили мне марать руки, чтобы пожать плоды моего грехопадения. Они заранее знали, что я поступлю так, как поступил, и терпеливо ждали; ждали, чтобы свершилось преступление, дабы воспользоваться им. По праву сильнейшего.
Через моря и горы проникал я в глубь их помыслов; знал, что они используют меня так же, как я использую Джема. Чего вы хотите, простейшая картина человеческого общества состоит в следующем: каждый живет тем злом, какое причиняет другому, а сам в свою очередь терпит зло со стороны других. И единственное наше стремление – чтобы зло, причиняемое нам, было меньше того, какое причиняем мы. Сообразно с этим действовал и я.
Джем сам помог мне. В одно прекрасное утро он попросил меня отправить его куда-нибудь с Родоса. Здесь он, мол, не спокоен за свою свободу и жизнь.
Я предложил ему самому избрать себе новое местопребывание. Перечислил наши замки и монастыри на континенте. И нарочно подтолкнул его к владениям Савойского герцога. В Савойе пылала борьба за престол, года не прошло, как она унесла в могилу семнадцатилетнего герцога (предположения были наиразличнейшие – что он убит собственной матерью, или ее любовником, или любезнейшим своим дядюшкой, этим чудовищем, королем Франции) и посадила на его место четырнадцатилетнего Карла. По сути, правила его мать, которую Людовик XI держал на коротком поводке. Таким образом, не передавая нашего драгоценного гостя непосредственно в руки французского короля, мы давали ему возможность вмешаться, коли он сочтет, что этому гостю грозит опасность. Думаю, вы уже поняли: лишь двух возможных исходов страшились мы – смерти Джема или его освобождения.
Итак, Джем избрал Савойю, и начались сборы в дорогу. Я торопился, ибо ожидал возвращения своих посланцев от Баязида. И когда приготовления к отъезду были закопчены, мне все равно оставалось самое трудное: последний разговор с Джемом.
Я был убежден в полной своей правоте касательно всего мною совершенного до того дня. Я боролся за то, чтобы христианство одержало верх над исламом. Мехмед Завоеватель не испытывал никаких угрызений совести, когда уничтожал христианские государства на Востоке Европы и предпринимал свои первые наступления на Запад. И мне не следовало испытывать ни малейших укоров совести по поводу участи его сына. Это было не просто убеждение – это уже стало частью меня самого. Но вопреки всему мне было несколько не по себе – словно предстояло встретиться лицом к лицу со своей жертвой.
Насколько я помню, встреча состоялась тоже утром, потому что мне врезался в память какой-то немилосердный свет, и сквозь этот свет, через всю длинную залу Совета навстречу мне двигался Джем. Весь в белом – это цвет их праздничных одежд. Золотое шитье и золото его волос сверкали так ярко, что мне почудилось, будто вокруг головы Джема – нимб.
– Я пришел, чтобы на прощание принести свою благодарность вашему преосвященству за оказанное мне гостеприимство, – проговорил он.
Брат Бруно, алиас Сулейман перевел его слова.
– Мы лишь исполнили свой христианский долг, ваше высочество, – ответил я.
Джем не выказывал намерения продолжать разговор. Он стоял, устремив взгляд в окно. Продолжил я:
– В качестве вашего советчика – вы ведь сами облекли меня высочайшим своим доверием – я позволю себе задать вам несколько вопросов, ваше высочество. Предполагаю, что именно у меня будет осведомляться о дальнейших ваших намерениях ваш брат. Что передать ему?
Джем перевел взгляд от окна на меня и с резкостью бросил:
– Не все ли равно, ваше преосвященство? Как мне удостовериться, дойдут ли мои слова до ушей Баязида либо же они где-нибудь по дороге – в этой же зале, если не на корабле или в Топкапу, – будут подменены другими? Коль скоро двое людей прибегают к помощи посредника, над всем властен лишь один посредник.
Я узнал этот голос, эти слова, полные дерзкого отчаяния: устами Джема говорил брат Бруно. Мне пришлось прикрыть веки, чтобы не сразить толмача взглядом – поверьте, я готов был сделать это! Но нет, Родосу не нужна была могила Бруно. «Пока еще не нужна!» – подумал я.
– Вы сами составите послание к вашему брату, ваше высочество. Я передам его, лишенный возможности что-либо изменить в нем.
– Излишне убеждать меня в том, будто существует что-либо невозможное, ваше преосвященство. Я успел убедиться в обратном.
Я намеревался положить конец нашей встрече. Подобно другим в последние дни, она не могла принести никаких результатов. Джем окатывал меня холодом обманутого доверия, не понимая, что между государственными деятелями неуместен даже намек на доверие. Итак, я собирался проститься с ним, дабы он излил свои горести в дикарских стихах, когда он произнес:
– Прикажите принести два листа бумаги, ваше преосвященство!
Значит, Джем все-таки намерен исполнить мою просьбу! Поистине трудно было предвидеть его поступки.
Бумагу принесли. Пока Джем писал, я заставлял себя смотреть в другую сторону, желая подчеркнуть, что он абсолютно свободен в выборе слов для своего послания. Оно было кратким, ибо всего лишь мгновение спустя Джем протянул мне оба листа, такие же нетронуто-чистые, только внизу каждого – очень сложная, невоспроизводимая подпись.
– Что сие должно означать, ваше высочество?
– Я предоставляю вашим толмачам сочинить мое письмо к брату. Оговорите от моего имени все, что сочтете необходимым. Убежден по крайней мере в одном: оно не будет заключать смертного приговора. Не оттого, что моя подпись под ним выглядела бы смешно, просто это еще не в интересах Ордена.
– Никогда не соглашусь я на условия, невыгодные для вас, ваше высочество! – Его поступок был столь сумасброден, что я лишился самообладания. – Все ваше пребывание на Родосе тому доказательство.
– Вот именно, – подтвердил Джем с выражением, которое я не берусь передать. – Именно мое пребывание на Родосе.
Пока шел обмен этими немногими фразами, я заметил, что толмач вставляет в них что-то от себя, его перевод был чересчур пространен; брат Бруно явно убеждал Джема, что тот совершает непоправимое. Но на лице Джема не дрогнул ни один мускул, а последние его слова (вслед за тем он сразу же удалился) остались непереведенными.
Но я знаю, что произнес Джем: нечто весьма краткое, вроде «не все ли равно!». Даже если бы мне перевели это, я бы ничего не мог возразить.
Восьмые показания поэта Саади, касающиеся осени и зимы 1482 года
Они покажутся вам невероятными, мои восьмые показания. Настолько они отличаются от седьмых. Настолько же отличалось наше настроение осенью от летних недель, проведенных на Родосе.
К осени мы были уже в Савойе.
Мое сообщение звучит бесцветно, хотя именно здесь хотелось бы мне призвать на помощь все свое красноречие и весь свой поэтический дар, чтобы описать встречу моего друга с побережьем Савойи. Эта встреча была словно предопределена при самом сотворении мира; мне казалось, что этот несравненный край создан ради одного-единственного мгновения: его встречи с Джемом.
Мы покинули Родос в первые дни сентября. Покинули по воле Джема. Начало нашего путешествия походило на бегство, мы уехали под покровом ночи и в строжайшей тайне. Много раз после того достопамятного нашего разговора с братом Д'Обюссоном он сообщал моему господину о том, что Орден обнаружил заговоры или располагает сведениями о неких переговорах. И те и другие, по его словам, преследовали одинаковую цель: похитить Джема и препроводить в Стамбул.
«Придерживайся я лишь на словах того обещания, что дал вам Орден, – особенно усердно твердил магистр, – я бы повторил: ваше высочество, на Родосе вы у себя дома. Но мы слишком трезвы, чтобы довольствоваться словами; мы знаем, что там, где звенит не железо, а злато, сила бессильна. Всегда и везде отыщется человек, который не устоит перед искушением. Я не могу распознать его. Глаза мои не могут остановиться на ком-либо из наших братьев и заявить: вот этот податлив к соблазну! Но такой брат должен быть меж нас, в этом уверяет меня разум, вековой человеческий опыт».
С той минуты, как Джем – после сообщения покойного Иоакима – открыто обвинил Д'Обюссона в том, что тот за его спиной решает его участь, магистр ничем не выказывал, что жаждет спровадить своего гостя. Он добросовестно сообщал Джему о каждом раскрытом заговоре, приводил имена, иногда какое-нибудь письмо, которое он для перевода протягивал Сулейману, на самого Сулеймана не глядя.
В первое время Джем принимал бесстрастные предостережения магистра недоверчиво. Но ничто не завладевает человеком легче и безрассудней, чем страх. Не прошло и месяца, как Джем твердо уверовал, что ему угрожает опасность. Поверил в это и я. Даже сегодня, если говорить откровенно, я повторю снова: на Родосе мой господин не был в безопасности. Так дожили мы до того дня, когда Джем сам пожелал поехать во Францию. Тогда я прочитал на лице магистра нескрываемое торжество: он достиг желаемого! Султан Джем просил у него уже не помощи – защиты.
Совет тотчас же распорядился приготовить для нас большую трирему казны; чуть ли не ежедневно моего господина посещал магистр, либо он сам посещал магистра – судя по всему, им о многом следовало договориться. После этих посещений (они протекали чаще всего с глазу на глаз, если не считать Сулеймана) Джем хранил молчание; он упорно таил от меня свои переговоры с Д'Обюссоном.
Как-то вечером я не выдержал.
– Боюсь, повелитель, – сказал я, – что, помимо всех прочих бед, меня постигла и эта: я лишился твоей любви. Отчего твое сердце закрылось для меня, разве не прах я под стопами твоими?
– Полно, Саади! – ответил он. – Слишком много глупостей совершил я на твоих глазах, слишком много тревог обрушил на твои плечи, слишком много слез раскаяния излил во время наших ночей. Думаю, пора мне самому отвечать за свои поступки.
– Хорошо, не ищи у меня совета или помощи, но позволь остаться для тебя стеной плача – делись со мной своими мыслями, Джем!
Джем горько рассмеялся: выражение его лица напомнило мне Франка с его мудрым одиночеством.
– Есть в этом нечто унизительное, Саади, ни один живой человек не может быть стеною. Я действительно сам хочу распорядиться своей жизнью.
Тем не менее меня не покидал страх. Я боялся, что, оставшись с магистром наедине, Джем натворит каких-либо безрассудств.
Когда нас известили, что приготовления закончены и ночью мы двинемся в путь, я испытал облегчение. Это понятно – в каждом отъезде есть доля надежды.
В полной темноте покинули мы французское подворье. За порогом ожидало человек десять послушников, чтобы позаботиться о нашей поклаже. Ожидал нас и сам брат Д'Обюссон. В тот вечер он не носил знаков своего высокого сана; на нем был простой черный плащ, и он выглядел заговорщиком или убийцей, который не в силах уйти с места преступления. Делать тут магистру было явно нечего. Все, что им следовало обговорить с Джемом, было уже обговорено, он только мешал послушникам грузить вещи. Д'Обюссон, вероятно, чувствовал, сколь неуместно его присутствие, и оправдывал его обилием заверений и пожеланий.
Бесшумно проехали мы вымершими улицами Родоса. Моросил дождь – один из тех почти теплых, но насыщенных грустью дождей, какие бывают осенью. Джем ехал впереди. Великий магистр пешком шагал рядом. У пристани нас ожидала трирема с погашенными огнями и поднятыми парусами; ее очертания таяли в легком морском тумане, а стоявшие вдоль борта моряки напоминали мокрых, печальных филинов.
Одна за другой лодки с грузом и людьми отчаливали от пристани. Джем, ко всему безучастный, ожидал на берегу. Там же стоял и Д'Обюссон. Сидя в лодке, я глядел на них снизу вверх, полы их одежд казались большими, тяжелыми, а головы – маленькими. Джем светлым пятном выступал из сумрака, рядом – точно его тень иль судьба – чернел силуэт великого магистра.
Чудится мне, что так и расстались они, не обменявшись ни словом. Джем вдруг оторвался от своей тени и спрыгнул в лодку. Д'Обюссон оставался на берегу, пока я не потерял его из виду; мой господин гут же спустился вниз и не выходил на палубу много дней подряд.
Плавание было скверным. Уже наступило затишье ; какое случается ранней осенью; ветры отдыхали. Наша трирема целыми неделями стояла будто не на волнах› а на некой тверди – не шелохнувшись. Монахи проводили время в негромких беседах, а когда мы закрывали за собой дверь, до нас доносился стук игральных костей – они до потери сознания сражались в кости.
Так все и шло – раздражающе и вяло, – пока ветер не подхватил нас и не погнал к берегам Европы.
Это живительно подействовало и на Джема, от кого я за последние недели не слышал и десятка слов. С рассветом поднимался он на палубу и не отрываясь смотрел на север. Я понимал: Джем нетерпеливо ожидал встречи с миром.
Ибо отчизна – это еще не мир, это часть тебя, это большой, огромный дом, но тебе известны в нем даже те дальние уголки, куда ты вовек и не заглядывал, это знание дано тебе вместе с кровью и материнским молоком. «Свое» – весомое, значительное слово, на родине у тебя все «свое». Как в отличие от родины определил бы я, что такое мир? Трудно… Не нахожу достаточно восторженных слов. Ведь каждый кусочек мира, отпечатанный в нашем сознании, – это наше богатство – бесценнейшая из книг, которую мы перелистываем в часы раздумья, страданий, заточения и сохраняем в целости до того последнего мгновения, когда погружаемся во тьму… Нет, я не в силах найти определение миру, это – выше слов.
Но есть у него одно свойство, делающее его особенно дорогим сердцу, именно это свойство ты и улавливаешь сразу: неповторимость. Каждая твоя встреча с каким-либо городом, островом, берегом неповторима, в том и заключается прелесть ее, что ты знаешь – она не повторится. «Вот в первый раз ступаю я на этот берег, – думаешь ты, – в первый раз и последний; никогда еще не проходил я по этой улице, – думаешь ты, – и больше никогда не пройду». С удивительной полнотой – ты даже не предполагал, что так бывает, – живут при этих встречах твои органы чувств. Не крохотными дырочками глаз и еще более крохотными дырочками ушей воспринимаешь ты мир; ты весь – широко распахнутое окно, через которое он врывается в тебя. Ты полнишься им, полнишься, пока он не заполняет тебя всего, не растворяет в себе. И на какое-то короткое мгновение – не пропусти его! – ты. становишься тем, чем был на заре времен: частицей божьего мира…
Я не позволил бы себе предаваться столь далеким от вашей цели рассуждениям, если б не желание объяснить вам состояние Джема во время того нашего путешествия. Начиная с Сицилии, суша была у нас всечасно перед глазами. Мы шли все время вдоль берега, а он с каждым часом менялся. Менялся и Джем – я всегда был убежден, что между Джемом и мирозданием существует необъяснимая, ко очень глубокая связь. Лихорадочно-сухой в Ликии, обессиленно-усталый на Родосе, Джем у берегов Италии словно начал расцветать.
Что это за берега! Они тянулись над неподвижным, истомленным негою морем, то изогнувшись плавной дугой, то вдруг взметаясь ввысь острым, как вопль, изломом. Белый их камень был украшен пестрым узором кустарников и трав, по склонам струились плети плюща и дикого винограда. Не стану рассказывать вам о деревьях и цветах на том берегу – чудилось мне, не бессознательной стихийной силой сотворен он; чудилось мне, что некий творец, опередив наши представления и вкусы, перемешал здесь пальмы с пиниями и кипарисами, обнес их стеной вековых великанов, что это нарочно, его волей, по топким, маслянисто-зеленым мшистым ложбинам раскиданы ярко-желтые пятна мимозы и уж совсем умышленно меж серого лишайника громко, до боли, кричит лиловая глициния. И все это опоясано золотой лентой апельсиновых деревьев и завершается полосой оливковых рощ с их приглушенным, голубовато-зеленым Цветом, связывающим горизонт с небесами, так что тебе казалось, будто ты под сводами храма.
Извините, получилось немного сбивчиво, но я находился словно в опьянении.
«Смотрите! – ликовала каждая частица моего существа. – Смотрите, гражданином какого мира являюсь я, поэт Саади! Пусть Иран в месяце пути отсюда; пусть я никогда более не узрю Карамании. Поэт – не солдат, не наемник, поэт – гражданин вселенной!..»
Теперь вы понимаете, не правда ли, отчего на том берегу Джем создал прекраснейшие свои стихи? Не о Красоте говорят они, Красота упоминается только в одной, очень слабой строке. Однако Джем-поэт остался ей верен, Джем сохранил в тайне свою любовную связь с миром. Оттого стихи его, и поныне почитающиеся жемчужиной восточной поэзии, не посвящались Красоте: они были составной ее частью.
Мы не говорили о ней и меж собой. Целыми днями хранили молчание, каждый устремив взор на свой лес, свою долину или вершину горы. Порой – когда спадал ветер либо мы приставали к берегу, чтобы пополнить запасы пресной воды, – Джем раздевался догола и плавал. И – как мнилось моей ревности – он плыл медленно, сладострастно. Я заставлял себя вернуться к созерцанию окружающего мира и не мог – я ревновал к хрупкому голубому свету, который обволакивал и ласкал моего Джема.
Не думайте, что тогда-то и возникла трещина, многими годами позже разделившая нас, – то были лишь первые ее вестники. Просто я чувствовал, как любовь Джема разматывается, точно рыбачья сеть, долго лежавшая свернутой. Теперь волны несли ее, тянули за собой, растягивали все сильней.
Вы, должно быть, находите странным, что в ту короткую передышку между важнейшими событиями Джем предавался созерцанию, нисколько не связанному с мировой историей; что я находился во власти чувств, волнующих каждого смертного. Уверяю вас, на этих сколоченных вместе и обшитых тесом бревнах – большой триреме казны – текла некая отторгнутая от времени жизнь. И совершенно созвучно с этой жизнью в одно прекрасное утро к нашему кораблю приблизился Вильфранш, нереальный, как сновидение.
Маленькой поэмой – вот чем был Вильфранш, пристанище корсаров, не подчиненное ни одному королю или князю. По отвесному его склону (вершины гор, точно островки, плыли над прибрежным туманом) лепились сотни домиков, обнесенных каменными оградами. Залив глубоко вдавался в сушу; мне казалось, мы плывем уже целый час, а по обе стороны от нас все выше вырастали ограждающие пристань длинные молы.
Но тут действительность напомнила о себе: в красивом, как поэма, Вильфранше свирепствовала чума. Наш корабль отпрянул, точно в отвращении, от прибрежной улицы – безлюдной, заброшенной и грязной.
Тогда брат Бланшфор (нет нужды описывать его, он ничем не отличался от обычного монаха) поспешил уверить меня, что все идет благополучно: Ницца, по его словам, куда предпочтительней. Ницца, сказал он, славится красивыми женщинами и восхитительными садами, в Ницце непревзойденные вина. О том, не ожидает ли нас чума и в Ницце, брат Бланшфор счел за лучшее умолчать.
Насколько я помню, час пути отделяет Вильфранш от Ниццы. Но сколь несхожи они между собой! Если у Вильфранша море точно колодезное дно, берег Ниццы плоский, широко раскинувшийся и песчаный. Горы не сдавливают Ниццу, они точно спина ее, мягкая и теплая. Райским заливом называют этот край, и это вполне справедливо, такие же краски, вероятно, в Эдеме: дремлющее серебристое море и нежно-золотистый песок, зелень всех оттенков – от блеклых до сверкающе-ярких.
Готовясь сойти на берег, Джем приказал одеть его со всей пышностью. Я предоставил его заботам слуг, а сам поднялся на палубу и смотрел, как мы неторопливо входили в гавань. Нас ожидали: вероятно, брат Бланшфор позаботился выслать вперед гонцов.
Я уже различал в толпе отдельные лица. Больше всего было горожан – мужчин (и женщин!) в красивых одеждах, с непокрытыми головами, громкоголосых. Их возгласы долетали до нас – то были приветствия, тут нам были рады. Внезапно мой взгляд был привлечен группой людей, одетых иначе, чем все. Они выделялись в толпе островком роскоши. Я догадался: то была свита герцога. Потом различил и его – он стоял на устланном коврами помосте и все-таки не возвышался над своими вельможами: он был еще мальчуганом.
Тем временем началось оживление и у нас на борту. Джем нетерпеливой походкой вышел из своих покоев: он торопился на самое трепетное из своих свиданий. Джем встал на самом носу корабля. Никогда еще не был он более прекрасен! Не из-за благовоний и пышных одежд – каждая черточка его сияла! Неподвижный как изваяние, он тем не менее был олицетворением порыва. Райский залив не мог бы пожелать себе более страстного возлюбленного.
И в ответ на его страстное чувство залив обратил к нему свой лик. Он сверкал перламутром под пучком перьев на длинных мягких волосах, ниспадавших на плечи герцога Карла Савойского. Было что-то трогательное, жаждущее и робкое в его детских очах. Мальчик наблюдал за тем, как сворачивает паруса и бросает якорь некая восточная сказка, героем которой – загадочным, отмеченным злосчастьем – был Джем.
Мы сошли на берег по устланному цветами трапу. Далеко впереди нас ступал Джем. Когда он приблизился к помосту, я подумал, что он привлечет герцога к себе и заключит в объятия, – так, казалось, влекло их обоих друг к другу.
На берегу мы обменялись приветствиями. Толпа кричала, женщины забрасывали нас цветами, музыка пыталась пересилить шум, и вся эта праздничная суета была очень под стать праздничному берегу.
Оба повелителя сели на коней и при посредстве Франка повели беседу. Я видел, как они смеются одинаковым смехом, как все оживленней беседуют, сопровождая слова жестами, – так бывает, когда люди говорят на разных языках, но желают понять друга сами, не прибегая к услугам толмача. Было нечто удивительно сходное в двух этих высокородных принцах, выросших под разными небесами, – поэте и ребенке. Поскольку один был рожден для того, чтобы создавать сказки, а другой – чтобы внимать им. Так, бок о бок, двинулись они в путь по бескрайней, дивной долине – долине воображения.
Месяцы, проведенные в Ницце, остались для меня… нет, этого не выразить! С суши те края выглядели еще упоительней. Мы жили во дворце герцога – мальчик был племянником короля, особенно почитаемым и богатым. В памяти моей, однако, запечатлелся не дворец, а сад. Купы гранатовых, оливковых, апельсиновых деревьев, высокие пальмы, цветы, раскиданные по мягкому ковру травы. Фонтаны. Тихие поющие ручьи. Высокое небо и густое вино Савойи.
А мы пили и пели. Джем укрывался от воспоминаний о белом, точно череп, Родосе, о братьях-черноризцах и о родном своем брате; Джем весь отдавался сладким мгновениям настоящего; в нем постепенно созревала философия, говорившая, что пет ничего напраснее, чем воспоминания или предвидения, и нет ничего драгоценней сегодняшнего дня. Мусульманскому поэту не сложно было прийти к такому воззрению – почитайте наших поэтов, все они толкуют о том же: «Пред роком бессильны мы, нам принадлежит лишь мгновение».
В Ницце Джем много сочинял. Меж двумя кубками вина, возлежа под пальмами и мимозами, Джем читал свои новые стихи, а я записывал их, расстелив лист бумаги на тамбурине.
Эти стихи так полно выражали тогдашнее наше состояние, что иные из них я помню и сейчас:
И вправду неплохие стихи. К сожалению, наши сотрапезники не понимали их, здесь никто не обладал вкусом к восточной поэзии, и если что-либо в те дивные часы причиняло Джему боль, так это поэтическое его одиночество: иных слушателей, кроме меня, у Джема не имелось.
Итак, наши дни текли, поделенные между песнями и вином. Юный герцог сидел за этим не подходящим ему по возрасту застольем и упивался обществом своего сказочного героя. То были, как свидетельствует история, самые счастливые наши дни.
Джем со своей легкостью, которую я не решусь назвать легкомыслием, все более приходил к убеждению, что наши родосские злоключения были простой случайностью. Ничто вокруг не выдавало напряжения, никто не упоминал о Баязиде, Д'Обюссоне, Каитбае. Наши сотрапезники выглядели бесконечно далекими от каких бы то ни было распрей между государями, им не было ровно никакого дела до соперничества между сыновьями султана, до освобождения христиан или прославления Рима. Они потягивали вино и любовались небом, а в Савойе и вино и небо хороши несказанно Веселое, молодое содружество граждан мира наслаждалось своим царством – мирозданием – и заботилось единственно о том, чтобы хоть на месяц продлить сладостную жизнь, выпавшую ему на долю.
Девятые показания поэта Саади, касающиеся весны 1483 года
Начало ее застало нас в Ницце, если применительно к тем краям можно говорить о смене времен года – столь неизменны там и зелень и синева. Тем не менее к началу февраля их яркость удвоилась; по морю пробежала беспокойная дрожь; каким-то буйным нетерпением повеяло из лесов. Оно переполняло все пространство с такой силой, что нахлынуло и в наши сновидения – они разрядились, разбавились неуловимой тревогой. Приближалась весна.
Джем тоже чувствовал ее приближение; я говорил уже, что между ним и мирозданием существовала глубокая связь. Я даже думал втайне, что кровь у Джема должна быть зеленой – он словно бы питался земными соками, как деревья и травы.
Эту весну Джем встретил необычно; в Ницце все убеждало его в том, что он не простой смертный. Да, именно все: обожание со стороны юного герцога, расточительные восхваления певцов – не реже, чем через день, они подносили нам свои поэмы, посвященные красоте, горестям и доблести Джема. А затем исчезали из веселого нашего общества. Мы знали: они направлялись на север, восток и запад, чтобы разносить свои песни по другим благородным дворам, чтобы всем поведать о Джеме и о его трагичной судьбе.
За одну зиму Джем превратился в излюбленного героя трубадуров; их песни словно давно ожидали такого золотисто-белого героя – из заморских стран, богатого подвигами и страданиями.
Простите, я немного отклоняюсь в сторону, но здесь это уместно, ибо впервые в своем рассказе я упомянул о трубадурах.
Сдается мне, вы не слишком ясно представляете себе, кто, когда и зачем прославил имя Джема. Ведь – с полным основанием думаете вы – история знала куда более злосчастных, героических и достойных принцев, более прекрасных и одаренных поэтов. Отчего же именно Джем остался в легендах нескольких народов, а его личности приписаны черты, коих никто из нас, к нему близких, не замечал?
Вряд ли я открою неведомую истину, если скажу: это сделала песня. Песня может многое, и в том – возмездие, даруемое богом поэту за все те страдания, которые он претерпевает меж людьми. Власть поэта больше, нежели королевская, ибо он управляет не бытием человеческим, а душой и мозгом. Одной строкой – если она остра и стройна, если попадает в цель – поэт рушит то, что земные властители ценой усилий воздвигали в течение десятилетий; одним своим словом поэт воздвигает памятник, и памятник этот противостоит столетьям, потопам, нашествиям и пожарам, вечный памятник тому, что современникам мнилось незначительным или осталось не замеченным ими.
Не случайно в мое время властители презирали поэта, но баловали его. Они посмертно платили ему презрением – не дозволяли быть погребенным в освященной земле; вне кладбищенских стен ищите останки сотен трубадуров. Однако при жизни короли кормили поэта на золотых блюдах и поили вином из золотых кубков. Не думайте, что наши короли были глупцами – их отбирал суровый закон средневековья. И будучи умными, они приваживали поэта, ибо знали силу его. Позволю себе Дать вам один совет, как-никак более пяти веков наблюдаю я за ходом событий: не обижайте поэтов, избирайте себе иных врагов!
Так вот, зимой 1483 года трубадуры открыли для себя Джема. Их воображение давно изнывало от голода. Крестовые походы уже отшумели; среди корсаров не было громких имен; Новый Свет еще не был открыт, религиозные войны не начались. Трубадуры томились, пережевывали на все лады любовные повествования, но ведь любовь – согласитесь – тема, имеющая крайне ограниченные возможности: возлюбленный либо умирает, либо уходит, либо женится – попробуйте придумать четвертый исход.
Джем явился для трубадуров не просто новым яством, а вакхическим пиршеством. Он пришел из страны, о которой Запад не знал ничего или даже меньше, чем ничего. Он был сыном олицетворенного ужаса и принцессы – его жертвы. Он испытал множество злоключений, слухи о которых были смутны и оттого маняще загадочны. И сам по себе – трубадуры сумели понять это раньше всех своих современников – Джем был жертвенным агнцем.
Несколько столетий спустя вы задаетесь вопросом, во имя какой цели был принесен в жертву мой юный, одаренный друг. Вы смотрите назад сквозь века, поэтому вам легко, и, выслушав нас всех, вы, наверно, назовете эту цель. Мы же тогда о ней не догадывались, надежда не позволяла нам считать Джема обреченным. Первыми угадали это трубадуры.
За несколько месяцев – вот как скоро рождаются легенды! – появились сотни песен о Джеме. Лишь малая их часть была создана в Ницце, при дворе Карла. Остальные стекались в Ниццу из Экса, Гренобля, из Бретани или Нидерландов. В новом герое Запад нашел для себя развлечение. Больше того: новую тему. Согласитесь, новая тема – огромная редкость, еще хитроумные эллины исчерпали их все.
И здесь кроется разгадка того – на первый взгляд легкомысленного – опьянения, в котором пребывал Джем в Ницце: Джем сам уверовал в сотворенную о нем легенду.
Я всегда находился возле него, пока Франк переводил ему очередную песню – ведь каждый прибывший в Ниццу трубадур желал быть выслушанным своим героем (не совсем бескорыстно, при всех своих достоинствах поэты весьма корыстолюбивы).
В такие минуты Джем казался захмелевшим, даже если перед тем и не пил вина. Покоренный песнью, Джем приобретал все те достоинства, какие она приписывала ему. Подчас и мне – ведь я тоже был поэтом и никогда не проводил рубежа между воображением и действительностью, – подчас и мне чудилось, будто мой царственный друг становится в своих страданиях еще стройнее, золотистее, прекраснее. Так песня гранила, шлифовала его, придавала совершенство. Так чужое воображение наделило Джема крыльями и всем необходимым для полета, и он парил меж небом и морем Ниццы.
Весна, о которой идет речь, для меня была менее пьянящей. Из-за Франка.
Долгое время избегая наших веселых дней и ночей, франк теперь появился снова. Я часто видел его подле нашего повелителя и опасался, что Джем поверяет ему мысли, которые утаивает от меня: начиная с Родоса Джем словно бы старался возвести между мной и собой некую преграду, гордясь своим возмужанием, которое (это всего больше пугало меня) выражалось, наверное, во множестве неведомых мне решений. Я утешал себя тем, что Франк во всем, что касается житейских решений, лучший советчик и лучший исполнитель, чем я; утешал себя и нежной близостью с Джемом, близостью, теперь уже почти безмолвной. Однако и она предчувствовала свой близкий конец – ведь в той или иной мере мы питаем себя словами; в молчании, даже насыщенном нежностью, угасает всякая любовь.
Представьте себе, я примирился с этим. Понимая, что ничто не вечно, в том числе и любовь Джема к человеку, находящемуся на положении его слуги. Некогда в Карамании мы были ровней – два сотоварища в царстве слова, из коих я – более умудренный. Мог ли я предполагать тогда, что мой Джем, мой младший брат по перу, станет героем легенд?
Не кто иной, как Франк, вывел меня из безрадостных раздумий. Однажды в саду он нагнал меня и без предисловий велел заняться французским. Не помрачился ли его разум? С тех пор как Джем приблизил его к себе, Сулейман, казалось, перестал есть и спать, еще глубже стали морщины на лбу и у крыльев носа, еще непроницаемей, чем всегда, лицо.
– Ты находишь, что я знаю недостаточно много языков, Сулейман? – спросил я.
– Забудь их все! – ответил он. – Ни персидская поэзия, ни арабская философия тебе не понадобятся. Ты должен быстро и в полнейшей тайне выучиться французскому!
– А учитель? Книги? Тоже втайне?
– Я помогу тебе. Именно втайне.
– Могу я, наконец, узнать: зачем?
– Султану Джему потребуется надежный переводчик. Когда меня не станет, Саади.
Он впервые назвал меня по имени. Обычно Франк избегал обращений.
Меня окатило холодным потом. Я вспомнил о том, как погиб маленький послушник – из-за одного слова, произнесенного вопреки воле Ордена. В самом деле, отчего Сулейман еще оставался в живых?
– Ты что-то утаиваешь? – Я даже схватил его за плечи, хотя это было глупо – за нами могли наблюдать. И ощутил, как исхудал, истаял Сулейман.
Нет, – сурово отвечал он. – Ничего. Но я лучше вас всех знаю, что братья не прощают. Только бы мне успеть достаточно навредить им до своего конца.
– Они не посмеют, Сулейман! Ведь Джем сразу разглядит за этим месть. Не безумцы же они!
– Нет, не безумцы. Но только они сильны. – И вдруг яростно крикнул мне в лицо: – С чего ты взял, что это еще хоть сколько-нибудь важно, что разглядит и чего не разглядит Джем!
И тут же овладев собой, Франк почти умоляюще повторил:
– Обещай мне, Саади, что выучишь французский! У нас нет времени. Если завтра со мной покончат, каждое произнесенное Джемом слово будет доходить до их ушей.
И я принялся за учение, которое было мне отнюдь не по душе. Трудился я по ночам, потому что днем обязан был присутствовать на веселых торжествах. Трудился с тяжелой головой, скованный страхом; я изнемогал от бессонных ночей и усилий. И если за короткий срок Достиг многого – настолько, что мог переводить несложный разговор, – то обязан этим не моим пресловутым способностям к языкам, а чувству, что за мной погоня и нужно во что бы то ни стало добежать до цели.
Иногда, во время ночных моих бдений, дверь отворялась, и я знал: это Франк. Еще более исхудалый, почти прозрачный, с поседевшими висками, сосредоточенно-лихорадочным взглядом, Сулейман напоминал те привидения, что ночами, рассказывали мне, бродят по здешним замкам. Сулейман брал из моих рук книгу и, как у ребенка, спрашивал урок.
Уверяю вас: никогда в жизни не был я столь прилежен, никогда не думал, что способен к столь упорному труду. И делал я это не столько ради Джема и нашего будущего, сколько для Сулеймана. Знаете, можно не выполнить обещание, данное живому, но каждый верен клятве перед мертвым. Сулейман был уже мертв, таким 0щущал я его. И единственное, чем я мог успокоить его дух, – это выучить иноземный язык. Я учил его все последние недели нашего пребывания в Ницце, учил и в пути, когда нас повезли дальше. Во всех замках, названия которых я и не пытаюсь перечислить – чересчур много их было.
Незадолго до отъезда Джему довелось испытать искреннюю печаль. Юный герцог покинул нас. Нам сообщили, что он был срочно призван дядей – королем, ибо Людовик неожиданно занемог и желал дать ему свое благословение. Герцог уехал не попрощавшись.
Джем, хотя он и сильно тосковал по Карлу, увидел в случившемся лишь перст божий, тогда как я – нечто иное. Мысль эта была внушена одним коротким замечанием, оброненным Сулейманом. «Видишь, Саади, – сказал он. – Началось!»
Наш отъезд был шумным. Многочисленное дворянство Приморских Альп съехалось, чтобы приветствовать Джема и предложить ему свое гостеприимство. Весна вторила им потоками света и цветов, так что наше путешествие выглядело триумфальным.
Мы поднимались по крутому склону, чтобы выехать на дорогу, проложенную еще древними римлянами. Она шла по высокому хребту последней горной гряды, над самым морем, и позволяла вдосталь налюбоваться на прощание этим неповторимым краем.
Впереди, в окружении разноязычной свиты, меж которой я различал малиновые, фиолетовые, лимонно-желтые плащи провинциальных дворян и строгие монашьи рясы, ехал Джем. Само собой разумеется, в золотом и белом. Джем бросал веселые взгляды то налево – где круто вздымались под ярким солнцем заснеженные горы, то направо – где медленно исчезало в утренней дымке Средиземное море, со своими изрезанными берегами и островами, с кораблями и рыбачьими лодками. «Сознает ли Джем, – спрашивал я себя, – что покидает царство радости?»
Едва ли. Джем разговаривал через Франка, сосредоточенного и натянутого, точно тетива лука, с дворянами и священнослужителями. Джем долго рассматривал какой-то римский памятник – несколько высоких, стройных колонн на вершине знаменовало победу Рима над горными племенами и поддерживало небо Савойи, чтобы оно не слилось с морем; Джем, не оборачиваясь, стал спускаться по ту сторону перевала. Песенный герой не оборачивается назад – у него все впереди.
Последующие недели сохранились у меня в памяти ворохом ярчайших дамасских шалей, которые купец торопливо разворачивает перед вами, чтобы привлечь ваш взор и опустошить карман. Мы посещали владение того или иного барона, графа. Внимали там певцам, музыкантам, поэтам. Пили старые вина. Ели – даже по утрам, на завтрак, – дичину. Ездили на охоту. Джем чуждался, казалось мне, не только меня, но и всех наших единоверцев. Я наблюдал за ним отчасти с чувством радости, – пусть отдохнет, кто знает, что ожидает нас? – отчасти с болью – так моему повелителю не завоевать престола.
Но однажды мне пришло в голову, что Джем не оставил своих честолюбивых стремлений и только изображает беззаботность – играть Джем мог без труда, это было у него в крови. В тот день я не увидел среди наших людей Ахмед-агу и Хайдара, деревенского нашего поэта. Нас было не так уж много, чтобы чье-либо отсутствие осталось незамеченным, но эти двое так упились во время последних наших «подвигов», что я решил – отлеживаются, должно быть, где-нибудь в тенечке. Однако они не появились ни на другой день, ни тогда, когда мы двинулись в следующий замок.
– Сулейман, – обратился я к Франку, потому что теперь редко говорил с Джемом при других, – где Ахмед и Хайдар?
– Уехали, мы послали их к королю Матиашу.
– Хватило же ума! Братья непременно заметят, если уже не заметили.
– Мы и не скрывали от них, Джем сам говорил с Бланшфором. Объявил, что желает связаться с венграми без посредничества Д'Обюссона.
– И Бланшфор согласился?
– Да, заверил даже, что это в порядке вещей. А меня столь легкое согласие пугает… Молись своему богу, Саади, молись дьяволу, если хочешь, но наши люди должны добраться до венгерских земель!
Да, кстати! Не удивителен ли вам этот совершенно иной Сулейман? В последнее время Франк робко сближался со мной, сам искал моего общества. Словно боялся исчезнуть прежде, чем передаст мне свое дело, – он избрал меня преемником. И ничто на свете не льстило мне так, как доверие этого человека.
– Саади, – продолжал он, делая вид, что подтягивает мне ремни на седле, – считай дни, Саади! Добираться им туда дней тридцать, а гонец от Матиаша может проделать путь и за более короткий срок. Если через два месяца вестей от Ахмед-аги и Хайдара не будет, значит, их больше нет в живых. Придется начинать сначала. Видно, уже тебе, а не мне.
– Типун тебе на язык! – ответил я так, как, наверно, ответил бы Хайдар. Где-то он сейчас? Я никогда особенно не чтил его, мне казалось, что он оскверняет наше высокое искусство своими простонародными суждениями, а теперь изнывал от тоски по Хайдару.
Пока я размышлял над услышанной новостью, пока спрашивал себя, оскорбиться ли тем, что узнаю о ней лишь сегодня, Сулейман продолжал говорить. Я услышал последние его слова:
– …Мне очень страшно, Саади!
Бедный, бедный Франк! Я своими глазами убеждался, что страх перед смертью может растопить даже железо, раз он растопил Франка; мучительно умирать от страха. Я тоже уже считал его смерть неизбежной, я даже ждал ее, чтобы он наконец обрел покой. Каждый прожитый день был для него пыткой.
А наши посланцы и впрямь не вернулись. Не прибыл и гонец от короля Матиаша. Мне следовало бы сказать об этом позже, но я упоминаю здесь, чтобы не запамятовать. Мы убедились в гибели Ахмеда и Хайдара, когда находились в Рюмилли, одном из командорств иоаннитов. Брат Д'Обюссон, как я предполагаю, счел, что Джем вращается в слишком пестром и неблагонадежном обществе, и поспешил – к началу июня – снова приютить нас под монашеским крылом.
Странное совпадение: наш новый приют назывался Рюмилли. Джем засмеялся, услыхав название. «Видишь, Саади, – сказал он, – мы стремились в Румелию, и вот, изволь, мы там и оказались!»
Замок был старый и бедный. Ордену в последние десятилетия не удавалось поддерживать у своих владений приличный вид. Длинные темные переходы замка покрылись плесенью; балки в покоях Джема прогнили; наспех повешенные занавеси не препятствовали ни ветру, ни влаге; сырость ползла по ним вверх, рисуя некую причудливую картину запустения. Савойское лето не проникало в этот каменный зиндан[18] с узкими щелями вместо окон, так что ты чувствовал себя здесь точно в гробу.
Джем зябко поежился, когда его ввели в отведенные ему так называемые покои. После дворянских замков Савойи – скорее обычных жилищ, чем крепостей, богато убранных, теплых, обитаемых, – Рюмилли показался ему темницей. О том же самом подумалось и мне, но ни он, ни я не высказали этой мысли вслух.
Чтобы отвлечь нас от напрашивающихся умозаключений (хлопоча не о нашем, а о собственном спокойствии, ибо Джем не выносил хмурой, озабоченной свиты), он уверил нас, что именно это ему сейчас и требуется: короткий отдых после чрезмерно частых забав, условия для того, чтобы отдаться делам государственным.
За стенами сновали братья-рыцари. В последнее время я стал замечать, что число их с каждым днем все возрастает. Молчаливые и благоприличные, они старались выглядеть почетным эскортом, а не стражей. Раздражали они меня невообразимо – нельзя было выйти в коридор или во внутренний двор замка, весь поросший мхом и бурьяном, чтобы не натолкнуться на одного из них. На братьев явно было возложено немало обязанностей, и выполняли они их с усердием.
Дни наши в Рюмилли текли однообразно, в серьезных занятиях. Джем и Сулейман подолгу сидели вдвоем, составляя какие-то послания, на которые все не приходило ответа, я же тем временем якобы прогуливался, а в действительности сторожил у дверей Джемовой опочивальни. Рыцари, завидев меня, исчезали, но я не мог отделаться от ощущения, что они плотно обступили меня, что они прокрались даже в стены.
Замок был уединенный. Принадлежавшая ему деревушка, раскинувшаяся у подножия укрепленного холма, насчитывала человек двести, не больше. Сверху было видно, как с утра и до поздней ночи крестьяне копошатся на равнине. Работали они беззвучно, без песен, словно и над ними нависла черная тень Ордена.
Деревушка эта стояла в стороне от больших дорог, но однажды какие-то заблудившиеся итальянские купцы завернули в нее и даже поднялись по холму к замку. Предложили нам шелка, серебро. Принял их Сулейман, проводил к нашему господину, где они пробыли довольно долго, потом вывел их оттуда, бурля от негодования – запрашивают, мол, несообразную цену, – и вообще выказал по отношению к торговому сословию превеликую злобу.
Поскольку Рюмилли не баловал нас развлечениями, я оставался на крепостной стене, пока купцы спускались сквозь вечерние сумерки вниз по склону. Мне показалось, что для двадцати штук шелка и ящика с серебром у них непомерно много охраны, однако я ни с кем не поделился своим наблюдением. Я начал угадывать нечто преднамеренное во всех действиях Сулеймана. Быть может, итальянские купцы тоже появились здесь не случайно.
Это произошло в среду, а в пятницу поутру нас разбудил необычный шум. Как вам известно, я спал возле ложа Джема – он не любил ночью оставаться один. Мы оба одновременно вскочили и стали вслушиваться в доносившиеся снаружи возбужденные голоса. Гомонили рыцари-монахи, нашего языка слышно не было. Но вдруг среди незнакомых, омерзительно грубых голосов я различил один знакомый: Франк сыпал проклятиями на всех существующих наречиях.
– Погляди, что там! – приказал Джем побелев.
Полуодетый, я отодвинул щеколду, кто-то толкнул меня, и в комнату ворвались, самое малое, двадцать монахов. Они были похожи на стаю откормленных, остервенелых псов. Трое чуть ли не зубами вцепились в Франка. Сулейман отчаянно вырывался, лицо его исказилось от ярости.
– Приведите толмача! – крикнул один из братьев другому. Франк для них уже перестал быть толмачом.
– Стойте! – крикнул я со смелостью, какой никогда в себе не подозревал. Я впервые произнес слово на их языке, и они, ошеломленные, чуть было не выпустили Сулеймана. – Я буду переводить!
Язык ворочался у меня с трудом, нос словно заложило, чужие звуки смешно щекотали нёбо. «Сулейман, – думал я, – друг Сулейман! Рассчитывал ли ты, что именно в такое мгновение пожнешь плоды твоей усердной помощи? Будь спокоен, друг: я постараюсь быть достойным своего учителя!»
Один из братьев выступил вперед. Он держал в руках серебряный ларчик, в котором Джем хранил свои бумаги еще со времен Карамании и Каира.
– Передай своему господину, – впился в меня колючим взглядом монах, – что сегодня на рассвете мы схватили Сулеймана в ту минуту, когда он выносил его бумаги. Милосердие принца Джема изливалось на подлейшего изменника! Сулейман продался – неизвестно кому, но продался, в том нет сомнений. И мы еще узнаем кому! – свирепо закончил он, кинув на Франка взгляд, который уложил бы носорога.
Все плыло у меня перед глазами, когда я переводил его слова, а Джем побелел так, что я испугался, не лишится ли он чувств. Он упорно отводил свой взгляд от Сулеймана.
«Что с ним? Отчего он так? О аллах, только бы Джем не оскорбил друга низким подозрением в последний его час!» – мысленно восклицал я, ибо порывы Джема часто бывали несообразными.
И тогда я отважился, хоть и не имел уверенности, что среди этих злодеев нет кого-либо, кто бы понимал по-турецки. Однако дело было не только важным, а святым: с признательностью проводить человека, отдающего за тебя свою жизнь.
– Мой султан, – прибавил я от себя, – они врут, как псы. Все подстроено! Они хотят отнять у тебя Сулеймана! Не верь им, Джем! Спаси Франка!
– Молчи, Саади, – резко оборвал меня Сулейман. Лицо его уже не искажалось яростью. – Они сделают то, что надумали, мы в их руках, не забывай об этом! Не горюй обо мне, мой султан! – обернулся он к Джему, напомнив мне ту минуту, когда он прощался с молоденьким послушником на Родосе. – Побыстрей и без колебаний забудь обо мне, чтобы спасти остальное! Я и так уж давно мертв.
Монахи стояли точно изваяния, высеченные рукой неумелого мастера. «Грязные, потомственные убийцы! – думал я, словно сжигавшая Сулеймана ненависть с его гибелью переселилась в меня. – Тяжко тому богу, коему вы служите: он, верно, тонет в тех нечистотах, что вы выплескиваете перед его алтарем!»
Я отвел взгляд от Джема – на него страшно было смотреть. Герой легенд, он стоял теперь беспомощный перед низкой клеветой. Его разлучали с самым необходимым ему человеком, а он не в силах был даже проститься с ним по-человечески. Ведь нам следовало притвориться, будто мы им верим, иначе… «Они не только перебьют нас всех по одному. – Мысли лихорадочно прыгали у меня в голове. – Они перебьют нас, унизительно ограбив еще до наступления смерти. О милосердный аллах, отчего не оставишь ты нам хотя бы спасительный самообман, отчего не позволишь умереть, сознавая себя людьми?»
Пока длилась эта немая сцена – а длилась она долго, потому что все ее участники находились во власти ужаса или чувства вины, – Джем боролся с собой, барахтаясь так, словно шел ко дну. Я видел, как с помощью сверхусилий он выбирается на поверхность – такие усилия уносят несколько лет жизни. Шагнув вперед, Джем взял у монаха ларчик. Отпер его и перелистал бумаги.
– Они в целости, – глухо произнес он. Это было все, что он мог сделать для Франка.
– Мы помешали ему похитить их, – смешался монах. – Час спустя они бы исчезли в неизвестном направлении. – И бросил Франку, распаляя в себе злобу: – Все равно скажешь!
– Ваши угрозы неуместны! – хмуро прервал его Джем. – Я догадываюсь, кому потребовались мои письма.
То ли испугавшись, что Джем произнесет имя Д'Обюссона и тем испортит их подлую игру, то ли все у них было обдумано заранее, но монах поспешно проговорил:
– Мы не намерены судить и пытать вашего слугу, ваше высочество; это право принадлежит вам. Сулейман попадет под меч нашего правосудия лишь в том случае, если вы не пожелаете вмешиваться.
– И какой приговор дозволено мне вынести? – Голос Джема дрожал. Я боялся, что он не сдержится и все будет погублено.
– О каком дозволении говорит ваше высочество? – Монах пытался изобразить оскорбленную невинность. – Вы имеете право на любой, даже самый снисходительный, приговор. Изгнание, например. Полагаю, что ваше высочество не станет держать подле себя слугу, коварно ему изменившего. Иное решение означало бы помилование, а Орден не допустит милости, коль скоро оскорблен его гость.
– Куда же изгоню я своего слугу? Не на Родос ли?
– О нет, ваше высочество! Родос – священная земля, шаги предателя будут ей тяжки. Дважды предателя, – с ехидством подчеркнул он. – Изгоните его за пределы Рюмилли, и пусть он сам ищет прибежища для своего позора!
Только слепой не заметил бы, как в Джеме вспыхнула надежда; с этой безрассудной надеждой он и обратился к Сулейману:
– Ступай по свету и сыщи себе приют!.. – Он не договорил. Словно последним своим невысказанным словом хотел внушить Франку – беги, скройся, на другом краю света найди спасение от Ордена.
А затем произошло нечто неожиданное. Сулейман, сам повелевший нам участвовать в этом спектакле, сам заклинавший нас отнестись к нему как к врагу, не выдержал. Глухо, но властно, с силой, испугавшей даже его палачей, Сулейман произнес:
– Дайте мне проститься!
Монахи отпустили его.
Франк опустился перед Джемом на колени, но не склонил головы, не поцеловал край халата нашего господина, не коснулся его. Этот уже немолодой и не блистающий красотой человек с седыми висками, в порванной рубахе (так обнажают шею осужденного, чтобы ничто не мешало топору палача) казался сейчас олицетворением человеческой преданности.
Сознавая, что те уже по горло сыты и разрешают ему лишь одно-единственное движение – слово было бы чрезмерной щедростью, – Джем качнулся, обнял Франка так, словно намеревался никогда не выпускать, и прижался щекой к его волосам.
За два года перед тем я был возле Джема, когда он в Каире прощался с матерью и сыном. Здесь, сейчас расставание было в сто, в тысячу раз более мучительным.
Монахи соблюли приличие, не нарушили его ничем. Сулейман медленно, осторожно, словно боясь толкнуть ребенка, снял со своих плеч руки Джема и поднялся. Шагнул ко мне и только подал руку.
– Саади, ты… – проговорил он. Я знал, чего он ждет от меня.
И он направился к двери.
Не стану говорить вам о том, что испытывали мы с Джемом, оставшись одни. Мы почти не открывали рта – страх, что нас подслушивают, сковывал по рукам и ногам. Джем приказал мне подняться на крепостную стену и оттуда следить, когда и куда поведут Сулеймана, если поведут.
Весь тот день я неотлучно стоял на посту, и второй день и третий, а ночью меня иногда сменял Мехмед-бег, один из наших людей. Мимо часто проходили монахи, всякий раз почтительно кивая нам – они-де уважают наше горе. Я почти не замечал их, поглощенный одним – как бы не пропустить Сулеймана.
Тщетно. Франк так и не вышел из ворот Рюмилли. А мы жили точно зараженные ужасом. Знали, что тело его зарыто где-то под нами, в подземельях замка, рядом с неведомым числом таких же верных и непокорившихся… Мы жили на костях Франка.
Показания Хусейн-бега, посланца Баязид-хана на остров Родос, о событиях апреля 1483 года
Я Хусейн-бег, сын Мустафы, кадий[19] из Дидимотики.
Когда достославный султан Баязид-хан Второй взял верх над своим непокорным братом и твердо воссел на престол, он отстранил всех, кто вдохновил это непокорство либо рассчитывал на него. Пришлось расстаться со Стамбулом или с жизнью многим визирям и правителям вилайетов,[20] другим же – распроститься со своими высокими званиями. Баязид-хан не дозволил им остаться даже рядовыми воинами, потому что никогда не имел к войску полного доверия. Известно, что наши сипахи премногим были обязаны Мехмед-хану и надеялись в царствование его младшего сына увидеть свой новый расцвет. Однако Баязид урезал сипахские наделы, роздал их святой нашей церкви и собрал вокруг своего престола новых советников – из духовных лиц либо их потомков… Среди них был и я. Еще раньше, когда султан Баязид был всего лишь шехзаде Баязидом и правителем Амасьи, я был его наставником. Сын кадия, я помогал шехзаде вникнуть в наши божественные науки – точнее, в звездочетство. В знак своего глубокого расположения Баязид-хан не сделал меня ни визирем, ни кадиаскером. Он разгадал мою сущность: глаза души моей были обращены к небесам, я стремился угадать их волю и отдать всего себя ради торжества ислама во всем мире. Поэтому Баязид-хан держал меня в тени, что касается придворных чинов, но оставил при себе в качестве ближайшего своего советника.
Полагаю, вы станете дознаваться у меня относительно мирных переговоров в Эдирне осенью 1482 года. Нет нужды описывать их – они протекали так же, как любые другие. Баязид-хан не пожелал лично принять родосских посланцев, дабы кто-либо из неверных, имеющих слабое представление о наших утонченных обычаях, не оскорбил грубым словом ушей султана. Они были приняты Месих-пашой.
Месих-паша не дал родосцам окончательного ответа; они получили этот ответ лишь в декабре, когда наше посольство посетило Родос и подписало договор о мире. Баязид-хан обязывался поддерживать добрые отношения с рыцарями-монахами до смертного своего часа. То же обязательство, естественно, брали на себя и они, хотя, по чести, нельзя считать это обязательством – то была их сокровеннейшая мечта.
При дворе Баязид-хана говорили, что наши посланцы оставили в мирном договоре пункт, содержание которого должно было быть определено позже. Особым посланцем. Было также известно, что этот пункт касался Джема. Известно лишь по слухам – Баязид-хан ни разу перед своими подданными, придворными или войском не произнес имени Джема. Султан не может себе позволить иметь брата.
Была весна 1483 года. Мы только что получили тревожные вести. Осведомители у нас имелись повсюду. (Едва ли вас удивит это признание, ибо в наше время купить человека было просто: кошелек с дукатами, скажем, или обещание хорошего места, если будет на той стороне раскрыт, но все же успеет унести ноги.)
Вести были следующие: во-первых, рыцари увезли Джема из Ниццы и даже Савойи, отправили его в глубь французских земель. И что ни месяц, а иногда чуть не каждую неделю, меняют место его пребывания. Это указывало на то, что они обеспокоены.
Во-вторых, правителями Венецианской республики схвачен в Модене некий Никола Никозийский, везший письмо Джема к его матери в Каир. Венецианцы, чтобы не портить отношений с Каитбаем, гонца отпустили, но список с письма Джема был доставлен нам. Письмо указывало, что у Джема есть от рыцарей секреты, что он сознает нависшую над ним угрозу и ищет путей к спасению, – о многом говорило оно.
В-третьих, в Европе отдельные ученые и писатели обращались к совести христианского мира, призывая к незамедлительным действиям в пользу злосчастного принца. Во Флоренции, Авиньоне и Буде они открыто объявили, что судьба Джема есть знамение божье. В этом не было ничего удивительного: при всем их уме труженики духа никогда не могли уразуметь наипростейшее: сколь ничтожно место, занимаемое ими в делах государственных.
Я хорошо знал своего повелителя, поэтому мне было ясно, отчего он не определил положение Джема еще осенью 1482 года: Баязид-хан выжидал более благоприятных обстоятельств. Он верил, что в ходе событий его излишне ценимый брат упадет в цене. Рассудительный и опытный, Баязид-хан знал, что османы своими победами обязаны не столько оружию, сколько взаимоотношениям мировых держав. Некоторые из них действительно противопоставили себя нашему продвижению в Европу, но зато другие втайне приветствовали это продвижение, потому что оно избавляло их от могущественных соперников. Мы уже достаточно повидали и вполне могли рассчитывать, что Джем – будь он даже пророком или великим полководцем (а он не был ни тем ни другим) – не сумеет сплотить вокруг своего имени христианский Восток с христианским Западом. Впрочем, Баязид-хан выжидал, пока эта истина сверкнет открыто, чтобы не дать возможности магистру Ордена шантажировать нас; выжидал, хотя каждая минута промедления дорого обходилась ему, лишая душевного спокойствия. Однако мой повелитель, ко всем прочим своим достоинствам, был еще и бережлив. Каждый истекший день сберегал ему сколько-то дукатов.
Но затем события вынудили его поспешить, ибо к ним примешалось нечто новое, не поддававшееся подсчету. Примешались настроения крайне ревностных христиан или крайне смелых мыслителей (в наше время была на Западе такая болезнь). Они были способны устроить Джему побег и передать его Каитбаю или Корвину. Мы не должны были этого допустить.
Тем не менее Баязид-хан не проявил излишней суетливости; он медлил и тянул, выбирая то мгновение, когда не будет ни слишком рано, ни слишком поздно. Поэтому мое посольство на Родос было назначено на конец весны 1483 года.
Перед отъездом я должен был выслушать наказы моего повелителя. Баязид-хан принял меня в своих личных покоях.
Тут уже до меня описывали внешность султана. Могу лишь добавить, что власть не изменила его. Баязид-хан в отличие от большинства людей, кормящихся властью, не раздобрел, не приобрел величественной осанки. Умеренный в еде, враг возлияний, Баязид-хан по-прежнему оставался худым, как дервиш, перед ним ты не испытывал стеснения – чувствовал себя, как с себе подобным. Если что и смущало меня, когда я говорил с султаном, так это лишь зоркая его осмотрительность. На протяжении всего своего долгого царствования Баязид-хан жил как бы настороже. Он ни на миг не поверил в неоспоримость своей власти, не верил в любовь народа и войска, не верил даже собственному своему разуму – хотя ума у него было на пятерых.
Я объяснял себе эту его подавленность причинами, очевидными и для его современников, и для истории, – Баязид до своего восшествия на престол жил в тени прославленного, блистательнейшего отца, жил на положении нелюбимого сына, ибо Мехмед-хан никогда не таил ни предпочтений своих, ни своего презрения. Мехмед-хан твердил, что, перейдя к Баязиду, его кровь разжидилась и превратилась в воду, и я совершенно убежден, что, если бы смерть не поторопилась, Завоеватель убрал бы первородного сына, чтобы сделать своим преемником Джема. А уж коли был уверен в этом я, сторонний наблюдатель, то Баязид тем более не мог сомневаться, что его ожидает незавидная участь.
Баязида угнетало, что он стал наследником Завоевателя вопреки его воле. Поэтому и отношение его к Джему было двойственным – поверьте мне! С одной стороны, султан яростно ненавидел брата, незаконно избегнувшего смерти и ставшего знаменем наших врагов. Но с другой – Баязид ощущал тайную вину перед Джемом, перед памятью Завоевателя. И навсегда лишился уверенности в себе, как человек, занявший чужое место.
При том нашем разговоре султан принял меня один.
– Я посылаю тебя на Родос, Хусейн-бег, – начал он своим ровным голосом, – для того, чтобы ты урегулировал вопрос относительно будущего моего брата. Нам известно, что враг делает большую ставку на Джема. Вероятно, в последующие годы и десятилетия он будет для нас незаживающей раной. Не в наших силах зарубцевать ее. Орден будет беречь Джема как редчайшее сокровище. Каждая наша попытка устранить преступника, внесшего раскол в дом Османов, может принести нам больше вреда, нежели пользы; я не хочу прослыть отравителем в мире отравителей! Если когда-нибудь они решат избавиться от Джема, я их изобличу – все-таки мы с Джемом одной крови.
Султан проговорил вышеприведенное не прерываясь, как уже давно обдуманное. Еще раз подтвердив то, о чем я уже сказал вам: Баязид и желал смерти брата, и страшился ее. Уверяю вас, что ему многократно представлялся случай уничтожить Джема и он многократно отказывался воспользоваться им – неисполненная воля Завоевателя смущала его первенца.
Быть может, мои суждения слишком пространны, но исключительно в интересах истины. Баязид-хан был столь же верующим, сколь и суеверным. Он чувствовал себя в долгу перед судьбой за непредвиденно доставшуюся власть и, наверное, дал обет (это было ему присуще, он часто откупался от провидения, одаряя церковь, отдавая христианам в обмен на что-либо святые мощи, отпуская на волю преступников) сохранить Джему жизнь, дабы верх оставался за ним, Баязид-ханом. Только этим объясняю я, что в эпоху, когда яд был так доступен, а кинжал так быстр, опаснейший наш враг оставался невредим.
– Даже отдаленным намеком, Хусейн-бег, – продолжал султан, – ты не упомянешь о том, что мы желаем его смерти. Прежде всего мы тем самым без всякой пользы подняли бы ему цену. Кроме того, я желаю показать им превосходство нашей морали. Пусть видит мир, как милосердные, отзывчивые к страданиям ближнего христиане превращают своего гостя в пленника! Не станем забывать, что наше время имеет два средоточия – Рим и Стамбул. На нас устремлены тысячи глаз, Хусейн-бег, они смотрят со страхом вследствие побед моего отца. Ныне мы призваны доказать, что, помимо силы, несем с собой и новую мораль: отсутствие лицемерия. Неправда ли?
Именно так Баязид-хан обычно спрашивал моего совета: впивался взглядом в лицо и даже затаивал дыхание в ожидании ответа. На этот раз я был слегка ошарашен, и потрясли меня последние слова султана.
Оставаясь верным долгу, считаю себя обязанным упомянуть о единственном недостатке, который находил у своего повелителя: Баязид-хан был глубоко и последовательно лицемерен. Он всегда наблюдал за собой со стороны, сообразуя своей внешний вид и поведение с этим взглядом, всегда играл роль, изображая себя таким каким его хотели видеть окружающие. Поэтому, когда он назвал отсутствие лицемерия главной чертой нашей морали, я даже поперхнулся. Разумеется, эта черта отличала ислам от христианства. Живя в мире насилия, мы не отрицали, что властвуем и впредь будем властвовать с помощью насилия. Используемые нами средства были свойственны нашему времени. Хотя христианство отрицало эти средства, оно довело их до совершенства. Христианство вменяло нам в вину, что мы проповедуем уничтожение, а мы отвечали ему другим упреком: оно уничтожало, проповедуя мир и любовь.
Все это истинная правда, вам известно это не хуже, чем мне, но вам невдомек, насколько именно в этом отношении Баязид-хан был не похож на наших султанов. Баязид-хан внес в жизнь Османской империи именно лицемерие. Сейчас объясню почему.
До Баязида наши султаны были просто воинами, нимало не заботившимися о том, что думают о них враги. Ислам и христианский мир говорили на разных языках. Иное – при Баязиде, потому что он пожелал участвовать на равных в международной политике своего времени. Нам следовало найти общий язык – ибо говорить лишь на языке оружия было уже нельзя. Но из-за крайней нашей неопытности этот язык давался немногим. Баязиду, например. Баязид довольно умело изображал из себя императора – не воина и не вождя племени, как Осман, Орхан или Мурад.
– Новую мораль… – повторил я, не зная, что сказать. – А как понимать мою задачу на Родосе, мой султан?
– Она сложна, Хусейн-бег. – Баязид поднялся, и мне уже не удавалось прятать от него глаза. – Ты будешь молчать, они – предлагать.
– На что дозволяешь ты мне согласиться?
– Сорок пять тысяч дукатов, ни гроша больше – вот цена Джему.
Я чуть не подскочил. Сорок пять тысяч золотых дукатов! Да ведь это половина годового дохода нашей казны! Как оставшейся половиной заплатить войску, за строительство, за оружие, как выплатить жалованье тысячам государственных служителей?
– Повелитель, – сказал я, – у меня не укладывается это в голове.
Баязид-хан улыбнулся – я не любил его улыбки, она делала нестерпимо резкими и без того резкие черты Баязида.
– Потому не укладывается, Хусейн-ara, что тебе, сдается, будто мы одному человеку платим столько же, сколько всем нашим воинам и слугам. В этом твое заблуждение: мы не Джему платим и не за Джема. Это золото, это неслыханное богатство завершит то, что не сумели сделать даже победы Завоевателя: мы разъединим Запад! Каждый, усладившийся нашим золотом, станет смертельным врагом для остальных; это золото натравит королей на церковь; оно оплатит множество смертей и множество отступничеств. Я услышал совет небесных светил: мы совершаем выгодную сделку, Хусейн-бег, отделываемся дешевой ценой. Ты увидишь, – продолжал султан уже горячее, – что мое царствование ознаменуется заключением выгодных договоров. Ты будешь свидетелем того, Хусейн-бег, как христиане сами станут содействовать моей борьбе против них. До сего дня мы были угрозой и потому в известной мере сплачивали Запад; отныне мы превращаемся во врага более опасного, ибо мы платим. Не знаю, будет ли это оценено историей, Хусейн-бег, либо же я отойду в вечность государем, не покорившим ни одной державы. Да, летописцы отмечают завоевателей, а не отдают себе отчета в том, что неизмеримо труднее сохранить завоеванное и принудить признать на него твое право…
Я давно служил Баязид-хану, но, уверяю вас, никогда еще не был свидетелем такой откровенности. Баязид-хан, как и велит обычай, был скуп на слова. Видимо, тот наш разговор многое значил для султана, и он желал увериться, что я буду действовать по убеждению.
– Положись на меня, мой султан! – ответил я.
– Твое посольство имеет и другую сторону, Хусейн-бег. Ты не только условишься с Орденом о годовом содержании Джема; ты заключишь на этот счет с магистром тайный письменный договор. Мне нужна подпись Д'Обюссона под документом, который уничтожит его в глазах мира. Этим документом я буду держать его так, как не могла бы держать даже цепь.
– А если он откажется, мой султан? В конце концов просим ведь мы, а не они.
– Не откажется, это сорок пять тысяч. Ради такой горы золота человек переступит через большее, чем незапятнанное имя. Впрочем, без договора не возвращайся, Хусейн-бег.
Так звучали веления Баязид-хана. Он высказывал их как бы мимоходом, но мы знали, что от этого они не становятся менее обязательными. Даже наоборот.
– Не сказал бы, что на этом твоя задача кончается. Хусейн-бег, – продолжал султан. – Будучи на Родосе, ты выразишь желание поехать во Францию, дабы собственными глазами удостовериться, что мой брат жив и нам есть за что платить. Пусть монахи не привыкают получать деньги под честное слово! Передашь Джему мое письмо – можешь прочесть его, оно полностью повторяет прежние. Но коль скоро мы желаем видеть Джема, надо иметь на руках нечто для передачи ему, не так ли?
Я молча кивнул. Моя задача теперь представлялась мне особенно трудной. Превеликий аллах, какую работу задач нам этот своевольный юноша! И в какие вовлек расходы! Я громко вздохнул от обиды и огорчения.
– Не принимай этого так близко к сердцу, Хусейн-бег! – бросил мне Баязид с кислой усмешкой. – После завоеваний моего отца мы так или иначе должны были вступить е какие-то связи с теми, кто еще вчера не желал даже произносить нашего имени. И вот сам аллах даровал нам такой случай: сегодня мы и христиане ведем переговоры, ищем общий язык. Вознесем за это хвалу ему!
И Баязид-хан действительно опустился на колени, спрятал лицо в ладонях. Словом, погрузился в молитву. Он часто делал это, и я спрашивал себя, выражение ли это глубокой веры, либо же мой повелитель таким способом обрывает разговор, бежит от досадных вопросов.
Пришлось и мне преклонить колена. На сей раз, будучи крайне озабочен, я не вознес молитв аллаху. На меня, сына простого кадия, судьба возложила обязанность осуществить первое соприкосновение между домом Османов и Западом.
Мягкие весенние ветры быстро, за каких-нибудь десять дней, доставили нас из Стамбула на Родос. Меня сопровождали пятьдесят моряков и священнослужителей, а в чреве корабля покоились мешки с дукатами. Как пи утешал я себя тем, что мои люди – вернейшие из верных, что наше плавание происходит втайне, меня бросало в дрожь при мысли, что только слабоумные могут упустить столь бесценную добычу. А в море вдобавок были еще и корсары – тамошние воды просто кишели ими.
Как бы то ни было (потому ли, что мои сопровождающие и впрямь не отличались большим умом, либо корсары держали в Стамбуле совсем никудышных соглядатаев), мы достигли Родоса без приключений. Дождались ночи в открытом море и с погашенными огнями, в полной темноте причалили к берегу. Возможно, на Родосе ждали нас – не прошло и получаса, как стража проводила нас в какой-то дом, где мы и разместились. Ставни на окнах оставались закрытыми, так что никто не проведал о нашем прибытии. Еще на пристани мне велели распорядиться, чтобы корабельщики отвели судно в другой залив.
На следующее утро меня посетили двое – в черном с головы до ног, с физиономиями грабителей. Казалось, стоит отвернуться, и они обшарят всю мою комнату. Я держался с ними, как с людьми низкого звания, отвечал односложно. Они известили меня, что скоро сюда пожалует великий магистр.
Как вам это нравится? Значит, я не буду принят его милостью в торжественных покоях, мне не будут возданы полагающиеся почести. Магистр тем самым подчеркивал, что о темных делах будет вести переговоры под покровом темноты, для чего и прибудет собственной персоной в этот непримечательный дом купца средней руки.
Я ждал его за опущенными ставнями и занавесями, при свечах среди бела дня. И чувствовал, как смотрят на меня стены, – с первого же шага на Родосе это чувство не оставляет тебя.
Великий магистр вошел, предшествуемый всего лишь одним монахом, явно толмачом, который предварительно обвел комнату пытливым взглядом. Я готов был поверить, что он заглянет и под кровать, но от этого меня избавили.
Магистр, человек необычайной худобы, довольно высокого роста, почти совсем седой, был в простом плаще с капюшоном, под которым на улице он прятал лицо. Д'Обюссон явно скрывал сегодняшнее наше свидание. Это оскорбило меня: я был посланцем великого владетеля (и если прибыл на Родос с миссией не слишком благовидной, то виной тому был сам Д'Обюссон), и ко мне обязаны были отнестись с почтением. Меня так и подмывало раздвинуть занавеси, распахнуть тяжелые, плотные ставни и на всю улицу крикнуть: «Смотрите, родосцы, на своего пастыря! Смотрите, как он не гнушается принять мешки золота в уплату за человеческие страдания, лишь бы никто о том не проведал!»
Разумеется, я не сделал этого – что творилось бы на свете, если бы каждый давал волю своим чувствам? Мы обменялись с его милостью приветствиями, однако без рукопожатий или поцелуев.
– Посольство вашего султана задержалось, – начал Д'Обюссон. – Еще немного, и, быть может, не о чем было бы и вести переговоры: вокруг Джема кишат заговоры, известно ли вам это? Некоторые владетельные особы полагают, что его свобода принесет великую пользу всему христианскому миру. Можем ли мы своими слабыми силами, силами нищего Ордена, воспрепятствовать им?
Во время его речи я кивал головой, показывая, что он сообщает мне нечто хорошо известное – это во-первых, и не представляющее для нас особой опасности – во-вторых.
Не случайно – я это заметил – Д'Обюссон закончил именно словами о нищем Ордене, недвусмысленно намекнув на деньги. Быстро же шагал он к цели, машалла![21]
– Относительно заговоров, – ответил я ему через толмача, – мы были своевременно уведомлены. Баязид-хан не видит в них особой опасности, и я поясню почему: вдова Мехмед-хана не располагает большими деньгами, э султан Каитбай ее не ссудит. Джем – предприятие слишком рискованное, тогда как совершенно точно известно, что тот, кто поддерживает его, навлечет на себя гнев всесильного Баязид-хана.
– О том, стоит или не стоит вкладывать в Джема деньги, – Д'Обюссон откровенно посмотрел на меня взглядом торговца-оптовика, – станет известно в скором времени. Ведь Джем еще молод, у него впереди несколько Десятилетий борьбы! Однако имеет ли смысл доводить до этого дело?
Поверьте мне, Д'Обюссон говорил со мной в точности так. Он отбросил всякое приличие, почитая меня посланцем владетеля-варвара и находя всякие условности излишними в разговоре с мусульманином. Кто, спрашиваю я, давал право зверю считать нас зверями?
– Это вы рассудите сами. – Я подавил в себе гнев. – Сколько вам понадобится денег?
Я знал, что Д'Обюссону деньги требуются спешно, – нам доносили, что Родос изнемогает от всех пышностей, связанных с пребыванием у них Джема, а французский король (бывший, как мы подозревали, сообщником Ордена во всей этой истории) слыл большим скрягой.
И Д'Обюссон самым неосторожным образом выдал свое нетерпение.
– Мы уже рассудили, – с фальшивым достолепием произнес он, ибо это достолепие никак не соответствовало озабоченности купца, поспешающего, чтобы не дать кому-нибудь опередить себя. – Мы советовались с братией и Римом и пришли к такому решению: пока обстановка вокруг Джема не определится, пока христианству не грозит новый натиск османов, мы будем заботиться об этом несчастном принце. Обеспечим ему приличную, нет – привольную жизнь; позаботимся о том, чтобы злонамеренные люди не посягнули на его жизнь или свободу. Это, естественно, повлечет за собой расходы, но великая цель требует жертв.
– Прежде всего, ваша милость, – вставил я, – уясним, что вы называете свободой Джема.
– Прежде всего невозможность быть похищенным, – был ответ. – Мы сумеем обеспечить се лишь в том случае, если Джем будет у нас на глазах, если его будет охранять многочисленная стража, если он будет обитать в неприступной для неприятеля крепости.
Истинный ужас охватил меня при мысли о такой свободе! Не слишком привлекательная, согласитесь. Бедняга Джем, он сам засадил себя в темницу!
– А какие ручательства дает Орден, что при указанных условиях сумеет сохранить свободу Джема? Ведь при нем находятся по меньшей мере тридцать приверженцев. Как знать? Возможно, кто-нибудь из них связан с Корвином, с герцогом Савойским либо с Венецией?
– Ручательство? – Д'Обюссон даже глазом не моргнул. – Ручательства представите вы. Если сумма, которой вы покроете наши расходы на Джема, будет достаточно велика, достаточно надежна будет и его охрана. Как и наше желание не лишиться этой суммы.
Знаете ли, я участвовал – хотя мой духовный сан и избавлял меня от этого – в нескольких походах Завоевателя. Мне случалось видеть, как неверные (когда гибель их города или селения становилась неминуемой) укрывались с женами и детьми в храмы. Там искали они для себя последнюю надежду; сгрудившись вокруг священника или монаха, они заклинали его вымолить у бога чудо. Мне доводилось слышать, что они же, оказавшись под нашей властью, прятали книги и церковную утварь, отрывали от себя последний кусок, чтобы накормить своих пастырей; лишь вера служила им утешением против той силы, какой были мы.
Как всякий правоверный, а тем более – лицо духовное, я презирал их веру, ощущал великое свое превосходство над их жалкими попами. Но частицей своей души завидовал тем же самым попам – их кормили истинно верующие. Разве нас, служителей веры-победительницы, кто-нибудь кормил бы так? Быть может, оттого они и не верили нам, что быть правоверным было крайне удобно, даже выгодно?
Но в тот час, признаюсь, меня посетила иная мысль: я пожалел своих ничтожных врагов, эти тысячи гяуров, уповавших в своих страданиях на таких пастырей, как Д'Обюссон, безнадежно развращенных, безнадежно неверующих.
«Гадина! Змея ненасытная!» – подумал я. Что ни говорите, я лишь с недавнего времени превратился в государственного мужа, а до этого был нищим сыном кадия. – Сорок пять тысяч дукатов! – со злостью бросил я. – Ни гроша больше.
Д'Обюссон не сумел скрыть своей алчной радости. Она блеснула точно молния и тут же угасла, сменившись напускным безразличием.
– Всего лишь? – Д'Обюссон вскинул голову, наставив на меня свою козлиную бородку. – Так вот во что оценивает Баязид-хан свой престол?
«Бери и беги! – хотелось мне крикнуть этому разбойнику с большой дороги, которому Джем обходился самое больше в пятую часть всей добычи. – Бери, пока другие не обскакали!»
Теперь уж я не сумел сдержаться:
– Вы забываете, ваша милость, что Баязид-хану незачем платить за престол, уже ему принадлежащий. Мой султан лишь печется о том, чтобы его брат пребывал в довольстве. У каждого государя свои интересы. Если ваша милость сочтет наше предложение для себя невыгодным, мы поищем для Джема иное пристанище. На днях, не знаю, возможно, даже сегодня, Скандер-бей предложит ту же сумму Венеции. Она не может достаться двоим – либо Ордену, либо Венецианской республике. Так что предоставляем вам, христианам, решать это между собой.
Этими словами я как бы отплачивал Д'Обюссону за то, что он не соизволил изобразить передо мной хоть подобие достоинства.
При всем умении Д'Обюссона владеть собой он все-таки вздрогнул.
– Баязид-хан поторопился… – процедил он, и вид у него при этом был преуморительный. – Поторопился з своем недоверии к нашему Ордену, забыв о том, что именно мы избавили дом Османов от жестоких сражений. Пусть бог ему будет судьей, мы и на этот раз подчинимся воле божьей: мы принимаем ваши условия.
«Еще б вам не принять!» – подумал я. И понял, что в жизни государственного мужа бывают весьма трудные минуты: когда следует во что бы то ни стало удержаться от смеха.
– И наши условия, и ваши должны быть скреплены договором, – продолжал я. – Наши связи будут длительными; вы сами изволили сказать, что Джем молод, а мы желаем ему долгой жизни. Так что составим письменный договор!
«Неужто до такой степени подл этот человек, что даже бровью не поведет?» – подумал я, потом что Д'Обюссон отнесся к моему предложению с полнейшей невозмутимостью. Даже с удовлетворением, почудилось мне, словно теперь-то он и готовился нанести удар.
– Договор давно составлен, ваша милость, – сказал он. – Остается лишь указать сумму.
Магистр вынул из-под плаща свиток и, подойдя к свече, развернул его. Они проявили усердие – написан он был на нашем языке. Первое, что бросилось мне в глаза, была подпись: «Султан Джем, сын Мехмеда Завоевателя».
Да, Д'Обюссон поистине поквитался со мной, нанеся удар, от которого я не сразу пришел в себя. Я молчал, не сводя глаз с тугры Джема, и только одна мысль поддерживала меня: она поддельная!
– Вас удивляет подпись злосчастного принца, ваша милость? – В голосе Д'Обюссона звучало откровенное торжество. – Можно подумать, что Баязид-хан полагал, будто я обманываю его, утверждая: Джем сам отдал себя под мою власть, сам просил заступничества у Ордена, Джем есть тело, чьей душой являюсь я! Извольте убедиться, он доверил мне незаполненные листы со своей подписью, – и Д'Обюссон действительно сунул мне под нос чистый, но подписанный лист, – дабы я вел переговоры от его имени. Столь неколебимо доверие ко мне принца, ваша милость. Сообщите это своему повелителю. Как мне кажется, Баязид-хану полезно помнить об этом!
Это было уже свыше моего разумения. Во мне поднялась такая ярость, что я не решился раскрыть рот. И горько сожалел, что Джем не сложил голову где-нибудь в Карамании, Ликии или Каире, тогда бы мне не пришлось участвовать (и не свидетелем даже, а посредником) в самой злодейской сделке своего времени. Я, служитель аллаха, звездочет, страстно желал схватить тяжелый подсвечник и со всей силой обрушить его на голову этого наймита-тюремщика.
«Будьте вы все прокляты! – Я старался взять себя в руки, чтобы лишить Д'Обюссона возможности позлорадствовать. – Хоть бы Джем поскорее умер и развязал нам руки для новых расправ над христианскими землями! Семя подобных тебе уничтожим, имена сотрем из памяти людей!»
Так твердил я про себя, пробегая глазами письмо. Я мог поклясться, что этот витиеватый, но полный ошибок документ вышел из-под пера толмача. И разумеется, из уст Д'Обюссона.
«Да простит тебя аллах, шехзаде, за то, что ты подверг такому унижению дом Османов! – думал я, заполняя пропущенную строку: сорок пять тысяч дукатов ежегодно. – Я тебя простить не в силах!»
Д'Обюссон взял бумагу и передал толмачу: он все еще опасался, как бы я не вписал – пять грошей, например. Тот кивнул.
– Мы составим и список с этого документа, – предложил Д'Обюссон. В нем вдруг проснулось великодушие.
– Безусловно, – ответил я, не глядя на него. – Как и полагается при купле-продаже.
Как я уже говорил, Д'Обюссон до такой степени презирал меня, что даже для приличия не продолжил хоть немного нашей беседы. Свернув бумагу, он спрятал ее под плащ жестом, которым бандиты прячут свою долю Добычи.
«Он сейчас удалится, я никогда больше не увижу его, а отпускаю живым!» – мелькнула у меня в голове безумная мысль. Знаете, бывают в жизни мгновения, когда чувствуешь, что упускаешь нечто очень важное, а стоишь оцепенев, не в силах шевельнуться. То же самое было со мной тогда: всю жизнь потом буду я терзаться тем, что не прикончил Д'Обюссона одним ударом серебряного светильника. Как бы дорого ни пришлось мне впоследствии заплатить за это, в конечном счете все окупилось бы.
Вы, наверно, обратили внимание: история лишь однажды упоминает мое имя. Я более не принимал участия в делах государственных; мне остались звезды и непостижимый их язык. Как это ни невероятно, но я сам покинул двор Баязид-хана. Мир от этого не переменился и не стал лучше. А я – если говорить откровенно – не вернул себе чистой совести.
Десятые показания поэта Саади о событиях лета 1483 года
Простите, что я прервал свой рассказ, но даже воспоминание о Франке дорого стоит мне. В ту пору, что Сулейман жил подле нас, никогда не испытывал я к нему тех чувств, какие овладели мной после его кончины. То было одновременно преклонение и неразрывная связь, последние дни Франка наложили печать на последующие мои годы. Начиная с этих дней я, поэт-эпикуреец, видевший в земных наслаждениях единственную цель бытия, испытывавший страх единственно перед смертью, надолго сроднился с нею. Она стала для меня легким, чуть ли нежеланным переходом к злачным полям бессмертия, где я встречусь с Сулейманом.
Вместе с этой переменой менялось и место, занимаемое мною при Джеме. Я не был уже его сотрапезником в пиршестве утонченных наслаждений. В наши отношения пришла и отчужденность и большая близость. Мне кажется, что так начинают жить некогда соединенные любовью супруги, у которых общие дети, общие заботы или занятие. У них тоже страсть перерождается или, если хотите, вырождается в чувство, которое в чем-то и больше и меньше, чем любовь.
Если говорить точно, произошло это не в Рюмилли, а приближалось медленно, сначала со вспышками, которые приводили меня в отчаяние и оканчивались враждебным примирением, и лишь позже улеглось в глубокую и весомую, хотя уже и не пылкую, привязанность. Я стал нужен Джему не только в часы восторгов и возлияний, а неотступно. Так бывает нужно платье, хлеб или же родная мать. Но сколь ни было это чувство значительным, оно уже не было любовью.
В сущности, для чего я говорю вам это? Кому есть дело до личной драмы поэта Саади?
Вернемся к Джему…
Именно в дни, последовавшие за исчезновением Франка, я заметил у Джема первые признаки – еще не болезни, я не утверждаю этого, – недомогания. Чрезмерно резким был для Джема переход от мира песен, великолепия и уверенности в себе к иному миру – пока рано называть его заточением. Эта перемена вызвала первые трещины в сознании Джема.
Тогда, в Рюмилли, я стал замечать, что Джем долгими часами словно бы отсутствует. Никто не ограничивал его телесной свободы – моего повелителя непрестанно приглашали на прогулки или охоту, предлагали послушать очередного трубадура или принять очередного гонца от Д'Обюссона. А Д'Обюссон засыпал нас известиями. Судя по ним – я выражаюсь так осторожно, ибо ничто из того, что исходило от Ордена, мы уже не принимали за чистую монету, – христианский мир был единодушен в своем желании вмешаться в дела дома Османов. Лишь месяцы отделяют нас от той минуты, когда будет заключен большой союз между властелинами, кои, дескать, помогут Джему занять отцовский престол.
– Зачем же тогда братья-иоанниты не отправляют меня в Венгрию или Венецию, а удерживают вдали? Зачем Орден находит для меня все более уединенные и отдаленные пристанища? – бросил Джем в лицо первому вестнику такого рода.
– Затем, что чем непосредственнее угроза вашему брату со стороны вашего высочества, тем больше опасность: Баязид не пожалеет средств для того, чтобы устранить вас. Верьте в сочувствие и помощь Ордена – от охраняет вас во имя конечного торжества!
Но мы не верили. С того дня, как они открыто и нагло разыграли этот фарс с Сулейманом, Джем снова впал в уныние. Еще на Родосе подозревал он Д'Обюссона в тайной игре, в Ницце надеялся, что мир не поддержит магистра и поможет его жертве вырваться на свободу. Но в Рюмилли, командорстве иоаннитов, под их охраной, к Джему вернулся прежний страх: нас обманывали!
Чем сильнее такие мысли овладевали им, тем больше замыкался Джем в себе. Я замечал, что так бывает с людьми особенно порывистыми и доверчивыми. Поскольку небо не дало им способности отличать истину от лжи, первый же случай, когда их доверие бывает обмануто, полностью лишает их веры в людей. Она возвращается лишь изредка, приступами, безоглядная, неразборчивая и незащищенная, чтобы затем снова исчезнуть.
То же самое с Джемом. После гибели Франка он потерял веру во все и вся. Он был сокрушен. Почти весь день мой господин проводил в своих покоях, разрисованных сыростью и плесенью. Чаще всего он сидел в халате на своем широком ложе, а когда сырость пронизывала его насквозь, набрасывал на плечи одеяло. Джем еще не, приобрел привычек узника, ибо был вправе в любую минуту выйти за дверь: его заточение все еще было добровольным – дитя просто поступало назло своему наставнику. Джем верил, что Орден всполошится, видя его недовольство.
Должен признаться, кое-чего он добился. Наши любезные стражи – глаза и уши Д'Обюссона, – вероятно, донесли ему, что гость ведет себя странно, отказывается от встреч, никого не принимает, что он даже отсылает, не выслушав, гонцов, прибывающих к нему с Родоса с важными вестями. Как закончил бы Д'Обюссон свою комедию, если бы главный актер отказался играть уготованную ему роль?
Джем действительно напугал монахов своим болезненным равнодушием и принудил их впустить в Рюмилли ряд посетителей, которые могли создать им немало хлопот.
Однажды (теперь я не допускаю и мысли, что это произошло без ведома магистра, хотя тогда я этому поверил) к Рюмилли снова подошел торговый караван. Не прежний, другой, но среди купцов был один с чересчур рыжей для его черных бровей бородой и чересчур четкой для купца поступью. Когда он вошел к моему господину, Джем переменился в лице, а я поспешил увести монаха, приведшего к нам гостей, и предоставил Джему вести торг одному.
Поздно вечером – караван двинулся дальше, и никто не обыскивал его, не остановил – Джем выразил желание прогуляться. Он сказал, что скверно себя чувствует из-за духоты.
Братья почтительно выпустили нас за ворота. Мы знали, что они не спускают с нас глаз, но не могут приблизиться настолько, чтобы услышать, о чем мы говорим, джем нарочно выбрал дорогу через луга.
– Саади, – сказал он мне, когда мы вышли на открытое пространство, – аллах услышал мою молитву. Я получил сегодня ответ от матери. Я немедля сжег его и не могу показать тебе. Она пишет, что заплатит за меня Ордену огромный выкуп. Ты веришь в это, Саади?
– Когда же ты писал ей? – не сдержался я; Джем уже имел от меня секреты.
– Еще при Сулеймане. Он снесся с каким-то греком из Никозии. Помнишь купцов, которые были тут в апреле? Скажи, Саади, ты веришь?
– Конечно! Разве твоя мать не пойдет на все ради твоего спасения?
– Я не о том. Веришь ли ты, что Орден отпустит меня? И потом… Отослав купцов со своим согласием, я задумался: верно ли я поступил? Ведь мы не исчерпали еще всех возможностей организовать поход на Баязида через Румелию; именно сейчас, если верить известиям, мир готов действовать. А я вдруг укроюсь в Каире. Мне совершенно ясно, на что я могу рассчитывать там: я стану частным лицом, доживающим свой век подле матери, жены и детей. А как же моя борьба, Саади? Зачем мне бежать прежде, чем я получу ответ от Корвина, прежде, чем папа обратится к христианам с воззванием? Вправе ли я поступить так?
– Вправе. Ты не только владетель, стремящийся к власти. Ты еще и человек. Речь, быть может, сейчас идет о твоей человеческой свободе, если даже не о жизни твоей. Ты обязан искать пути к спасению, как же иначе!
– Нет, Саади, как раз нет. Я еще не дошел до этого и хотел бы дойти не скоро. Я не стал бы жить, угасни во мне надежда занять престол. Сейчас она мерцает – стреноженная, преследуемая, но она вовсе угаснет, едва лишь я ступлю на египетскую землю. Ибо тогда я сам отступлюсь от нее. Понимаешь? – Джем наклонился ко мне. – Тут я тяжелый укор их совести, постоянное Запоминание о том, что они упускают свой шанс, – такой случай представляется ведь в истории один лишь раз! Это распаляет их друг против друга и претив самих себя, они борются между корыстолюбием и честолюбием, между жаждой легкой наживы и жаждой бессмертия. Борьба эта нелегка, Саади, и мы не можем предвидеть ее исход. Я обязан ждать, даже если на это уйдут годы жизни!
«Опять порыв! – подумал я. – Отчего у Джема все так неровно?»
Меня начинали утомлять эти скачки в его настроении, но я не мог не признать: он был прав. Кто – даже самый благоразумный из людей – не поставил бы на карту жизнь в надежде получить престол?
– Если бы мы хоть обсудили это прежде, чем ты отослал свое согласие, мой султан, – сказал я. – Теперь уж поздно.
– Нет! – рассмеялся Джем, и смех его одиноко растаял в ночи. – Нет, спустя час после того, как караван ушел, я послал вдогонку Мехмед-бега. С наказом: пусть моя мать выждет еще полгода. Если до той поры она не получит известия о том, что поход состоится, пусть начнет торг с Д'Обюссоном. Разумно, не правда ли? Не будет нужды посылать к ней нового гонца.
– Да хранит аллах Мехмед-бега! – со сжавшимся сердцем ответил я. Мне стало не на шутку страшно: отчего наши посланные никогда не возвращались?
– Он сохранит его, Саади, – заключил Джем. – Мехмед-бег уже догнал караван, разница была всего лишь в час.
Мехмед-бег не вернулся, но мы поначалу предположили, что он последовал за караваном. Таким образом, он возбудил меньше подозрений (мы утверждали, что он сбежал от нас), чем если бы объявился вновь спустя два-три дня. Это происшествие, а также то, что Джем после многих недель подавленности действовал и рассуждал, словно стерло в нем воспоминание о гибели Сулеймана. Мы снова стали ездить на охоту, нас снова стали посещать трубадуры.
«Приливы и отливы, – со страхом размышлял я. – После какого же из этих приливов не наступит больше отлив?»
Как раз в те дни к нам прибыл дорогой гость. Юный Карл оторвался от ложа больного дядюшки и возвращался в свою столицу Шамбери.
Он прибыл в Рюмилли в жаркий полдень. Услыхав вдали рога и трубы – их голоса звучали необычайно чисто в истомленной тишине лета, – мы поднялись на стены. Джем приказал всем облачиться в парадные одежды. Потом верхом на лошадях мы выехали из ворот крепости и встретили гостей на склоне холма.
Было невообразимо ярко и весело. На белом коне, окруженный свитой, ехал Карл в алом атласе с черными перьями, чистенький и аккуратный, как мальчуган, принаряженный матерью ради гостей. Навстречу ему скакала серая кобыла Джема, неся в седле своего золотисто-белого всадника. Трубили охотничьи рога, необузданно фыркали сотни коней, а весь отряд открывался нашим взорам пестроцветным пятном беспечности на серовато-желтом склоне холма. За спиной у нас высились древние стены Рюмилли, под нами золотились нивы, усеянные фигурками жнецов, над головой раскинулось атласное небо Савойи, поддерживаемое снежными вершинами гор.
Оба юных государя спешились и обнялись под бурные приветствия своих приближенных и пешком поднялись к крепости. Затем началось застолье, напоминавшее о Ницце, с той лишь разницей, что оно было испещрено – и весьма густо – черными монашьими рясами. Рыцари-монахи не досаждали нам, но достаточно было их присутствия – всегда неприятно пить в обществе трезвых. Джем старался не смотреть в их сторону, пока пели певцы.
Четыре дня подряд пиршества сменялись охотой. На пятый день Карл должен был покинуть нас. А во время четвертой охоты Джем подозвал меня. Мы втроем на короткое время отделились от облавы и поехали редким леском. Юный герцог, разрумянившийся, разлохматившийся, с распахнутой грудью, больше, чем когда-либо, походил на дитя. Он с нескрываемым обожанием снизу вверх смотрел на Джема – совсем как ребенок, созерцающий тот образ, коему мечтает уподобиться в будущем.
– Саади, тебя, в сущности, позвал Карл, а не я. – Джем посторонился, чтобы я ехал между ними. – Карлу нужно кое-что сказать. Скорее, нас скоро нагонят!
– Повелевайте, ваше высочество! – обернулся я к Карлу.
Было забавно видеть, как возбуждение сбегает с его лица, уступая место чуть ли не суровости. Но глаза еще сияли, белая, тонкая шея трогательно тянулась к Джему.
– Передайте моему другу, – торопливо заговорил Карл, – что я ни на мгновение не забуду о его борьбе. Мне ясно: будущее нашего мира зависит от победы султана Джема. Я сделаю все, чтобы найти союзников и вызволить Джема из рук Ордена. У меня есть друзья, могущественная родня. Я богат. Передайте моему другу, что я буду горд посвятить свое сердце этой высокой цели: воцарению султана Джема. Да?
Последним полувопрос прозвучал как вздох – мальчик устал от волнения. Пока я переводил его слова, он вопросительно смотрел на своего старшего друга и, от смущения перекладывал из руки в руку поводья, поправлял попону на коне и приглаживал свои разметавшиеся кудри.
«Милый маленький рыцарь! – Мне хотелось обнять его. – Почему в этом мире мы встречаем сочувствие от того, кто не может помочь нам, а те, кто могут, отказывают в нем? Много ли весу в словах, произнесенных твоим тонким голоском, много ли силы в твоей худой руке, мальчуган?»
О, смилуйся, аллах! Прозрачным видением в голубом княжеском седле сидел у меня сейчас перед глазами другой мальчик: маленький послушник. Оба образа на мгновение слились воедино, и мне померещилось, что я различаю на мягких локонах Карла кровь, темные следы насилия на его трогательно-белой шее. «Не допусти, аллах! – отгонял я от себя тягостное воспоминание. – Неужто любовь к Джему должна приносить одни лишь злосчастья!»
Расстроенный, я пропустил ответ Джема, не Джем нетерпеливо повторил его – свита настигала нас, черна от монашеских ряс.
– Пусть бог, – ответил Джем, – не мой, не твой а единственный сущий, воздаст тебе за твое благородство, друг Карл! Я могу отплатить тебе только доверием. Я верю тебе, Карл, Если дозволено обращать мольбы к истории, я молю о том, чтобы войти в нее рядом с тобой Па увидит мир невиданное: дружбу между двумя государями!
Теперь в моем пересказе это звучит, пожалуй, смешно. J4 впрямь очень узкая черта отделяет трогательное от смешного, а Джем часто переходил ее, ибо не обладал чувством реальности. Джем был поэтом, неуместно замешанным в дела истории, и почти все его действия оказались если не ошибочными, то смешными.
Итак, я был свидетелем (похолодевшим от страха, ибо, судя по топоту, соглядатаи были уже близко) того, как Джем и Карл обнялись, словно скрепляя договор. Солнце разбивалось на брызги, струями стекало по их волосам и шелковым одеждам, серая кобыла ласково терлась шеей о спину белого скакуна. Пахло нагретой хвоей, лавром, розмарином – уверяю вас, в Савойе благоухают даже камни. Было прекрасно и трогательно, как в театре.
Свита нагнала нас, и я увидел, что по меньшей мере двадцать пар глаз изучают Джема, различают слезы в его взгляде; я словно слышал, как двадцать голов отмечают странное волнение их высочеств и пытаются найти ему объяснение. И уже тогда я смутно угадал, что за этим последует: ранняя, оплаканная всей Францией смерть Карла Савойского. Девятнадцатилетний герцог скончался накануне одного тщательно подготовленного нападения на дорогу, по которой должен был проехать Джем. Скончался от переедания – очень, видите ли, был неумерен в еде.
Погодите, отчего так сбивчив мой рассказ? Карл еще здравствовал и во время той, четвертой нашей охоты выказал большую ловкость в стрельбе. Вечером мы снова прогуливались в его обществе, он и Джем пили из одной чаши и велели трубадуру сложить новую песню – об их Дружбе. Они много выпили, поэтому на следующее утро кавалькада поздно двинулась в путь. Мы проводили их До дороги, а на обратном пути Джем снова был печален. В последние месяцы его жизнь протекала в ожидании или расставаниях.
В Рюмилли посетил нас еще один гость. Это посещение было менее приятным, но богатым последствиями.
Стоял конец июля. После отъезда Карла дни в Рюмилли снова тянулись медленно и уныло. Джем предоставлял мне раздевать его и одевать, ездил на охоту, вечерами почти вовсе не читал. Делал вид, что торопится лечь, а потом я слышал, как он долго ворочается с боку на бок и заглушает вздохи, чтобы не встревожить меня. Так проходили наши дни и ночи. Мы с нетерпением ожидали вестей даже от Д'Обюссона, но магистр напоследок проявлял сдержанность.
Однажды вечером, в один из тех прозрачнейших летних вечеров, когда небо становится волшебно-зеленым и долго остается таким, пока не зажгутся звезды, в Рюмилли началась суматоха: встречали кого-то. Я сообщил об этом Джему. Мы стали прислушиваться, но нас ни о чем не оповещали.
Мы почти не спали в ту ночь. Когда за окнами посветлело, к нам постучался монах. Он ввел командора Рюмилли (невзрачная личность, имени коей не помню), и тот сообщил, что прибыл посланец от султана Баязида.
При имени брата Джем подскочил, не сумел сохранить самообладание. И стал лихорадочно одеваться сам – нечто совершенно непристойное. Потом опомнился и застыл в неподвижности.
– Немного позже я приму… кого, в сущности?
– Хусейн-бега, приближенного Баязид-хана.
– Да, немного позже…
Монах еще не затворил за собой двери, как Джем повернулся ко мне; я видел, что он сам не свой.
– Постой… Постой… Какой Хусейн-бег, какой султан Баязид? Как я приму посланного от самозванца? На что рассчитывает Баязид, на переговоры со мной? Да я уже дважды и трижды предоставлял ему такую возможность и неизменно получал ответ: «Империя – это невеста и может избрать себе лишь одного жениха; государи не имеют братьев!» Я не стану торговаться с человеком, отнявшим у меня то, что мне принадлежит, – это означало бы признать его, а также свою от него зависимость. С каким лицом возглавлю я завтра поход на Румелию, если вступлю в переговоры и стану мирно улаживать дела с Баязидом? Нет, Саади! Не бывать тому! Сообщи об этом монахам!
– Подумай хорошенько, мой султан! Возможно, Баязид переменил свое решение.
– Ты не знаешь Баязида. Он так ограничен, что прийти к одному решению для него уже чудо, а ты надеешься, что он найдет и второе! Нет, я на верном пути: пока я не признаю власти Баязида, я остаюсь оплотом борьбы против него. Пусть я даже паду жертвой в этой борьбе, Саади, но договаривающейся стороной я не стану.
– Ваша милость, передайте посланцу, что султан Джем не примет его, – сказал я монаху.
И все. Братья не стали уговаривать нас: в Рюмилли за нами следили, нас подслушивали, рылись в наших вещах, но соблюдали приличия, так что никто не стал навязывать нам Хусейн-бега.
Днем мы вдвоем с Джемом отправились на прогулку. Монахи добросовестно следовали за нами на расстоянии в сотню аршин. Мне показалось, когда я обернулся назад, что на стене крепости стоит незнакомец, одетый по-нашему, и не отрываясь смотрит нам вслед. «Наверно, Хусейн-бег», – подумал я. Но не сказал об этом Джему: к чему было огорчать его?
Под вечер до нас снова донесся шум: братья провожали Баязидова посланца. Джем словно почувствовал, что того уже нет в замке, оживился, стал разговорчивым – так бывало всегда, когда он принимал какое-либо решение или совершал что-либо.
Мы уже готовились отойти ко сну, когда в дверь опять постучали. На этот раз командор явился один.
– Ваше высочество, – заговорил он, голос у него был неприятный, скрипучий, – поскольку вы отказались принять Хусейн-бега, мне поручено передать вам письмо от султана Баязида.
Мы прочли это письмо при свече оба, одновременно. Сначала я думал, что оно поможет Джему прозреть. Баязид в третий раз заявлял, что не допустит никакого раздела империи; Баязид напоминал, что Джем сам избрал свою участь, отдал себя в руки гяуров и тем навлек неизгладимый позор на дом Османов. Но (отсюда начиналось новое) Баязид-хан в своем благочестии не желал, чтобы его брат, пусть легкомысленный, терпел какие-либо лишения. Посему Баязид-хан будет выплачивать его хозяевам, избранным братом по собственной воле, сорок пять тысяч дукатов ежегодно – да живет он на эти деньги в довольстве и поминает в своих молитвах их общего отца.
Сдается мне, Джем пробегал эти строки равнодушно – он всегда считал Баязида посредственностью, ему претили эти истертые фразы. Лишь когда мы дошли до цифры сорок пять тысяч, он присвистнул – я уже многие годы этого не слышал.
– Как тут не растрогаться! – обронил он. – При общеизвестной скупости Баязида… Я воистину потрясен!
И продолжал читать как ни в чем не бывало.
А я не мог читать дальше. Неужто Джем и вправду не понимал, что произошло? Неужто не замечал, что в это мгновение на нашей двери повис огромный золотой замок? Как ловко все было подстроено!
– Джем! – Не помню, чтобы я когда-либо прежде настолько перестал владеть собой. Я неистово вопил: – Джем!
– Что с тобой, Саади? – Он взглянул на меня поверх письма, в глазах его действительно было недоумение.
– Джем, они сторговались меж собой насчет нас!
– Что из этого? Д'Обюссон будет получать деньги до того дня, пока не начнется поход. Потом союзники сами истребуют меня у Ордена, это ясно, потому что без меня борьба против– Баязида немыслима. Что тебя так испугало, Саади?
– Меня пугает эта неслыханная торга золота! Люди идут на убийство из-за двух дукатов, так чтo же будет из-за сорока пяти тысяч!
– Ты прав, это много… – согласился Джем. – Но ты полагаешь, что эти деньги перевесят благополучие всего христианского мира?
– Это единственное, что гнетет меня, – продолжал он следовать за своей мыслью. – Я принужден делать ставку на благополучие их мира. Это недостойно правоверного! Но, взойдя на отцовский престол, я воскрешу дело Завоевателя и победами искуплю это кратковременное отступление.
Я слушал, смотрел на него, и в душе поднималась невыразимая досада. Как-никак он тоже жил на земле и должен был бы знать ее законы. «Впрочем, тем лучше для тебя, что ты не сознаешь своего положения, друг! – иод конец решил я. – Да позволит тебе аллах подольше прожить в твоем воображаемом мире, где такие, как ты и юный Карл, скачут верхом по зеленым лугам и веселым дубравам, и солнце золотым дождем лучей заливает их кудри…»
В ту ночь Джем заснул легко, не ворочаясь с боку на бок. Не только детское было в его натуре, но еще и что-то женское. Натолкнувшись на чью-то невозмутимость, он впадал в ярость и, наоборот, блаженно затихал, если рядом кто-то выходил из себя. Вот так же успокоительно подействовал на него охвативший меня приступ страха.
А возможно, иное, – о, человеческая суетность! Пожалуй, Джему льстило, что его неприятель-брат так высоко оценил его, что отдает половину дохода своей империи. Знаете ли, главное, что заботит человека, – не оказаться мелким, незаметным, безвестным. Джем сейчас спал спокойным сном, точно оправившееся от болезни дитя, – даже во сне тешило его гордое сознание, что он – самый дорогостоящий человек на земле.
Недолго длился этот прилив удовлетворения, все более краткими становились для нас такие часы. Всего неделю спустя (на протяжении которой мы снова ездили на охоту, катались верхом и заполняли время всевозможными пустяками) пас вновь посетил командор. Последние дни в Рюмилли не происходило ничего особенного, если не считать появления трех десятков новых братьев. Это не удивило нас – предстояло, вероятно, перебираться в какую-нибудь очередную крепость, так что удваивали охрану. Мы так привыкли к этим частым переездам, да и Рюмилли настолько не располагал к тому, чтобы о нем сожалеть, что даже обрадовались: наконец-то избавимся от этой зловещей твердыни. Она связывалась в нашем сознании с гибелью Франка и посещением Хусейн-бега, с плесенью, крысами и сороконожками.
Командор, решили мы, пришел известить нас о предстоящем отъезде, поэтому мы приняли его без всякого волнения. Монахи были в рыцарских доспехах и вооружены – так они обычно сопровождали нас в дороге.
– Ваше высочество! – начал командор отчетливо, словно читал по бумаге. – Я получил сегодня послание от брата Д’Обюссона, оно касается вас и вашей безопасности. Безопасности, коя находится под угрозой. В своем стремлении избавиться от своих обязательств по отношению к Ордену – обязательств, принятых им по собственной воле, – султан Баязид замыслил похитить вас. У нас есть о том достоверные сведения. Пущены в ход все средства – деньги, сила, посулы. Баязид-хан выразил уверенность, что похищение удастся. Когда и кто совершит его, неизвестно. Мы сумели лишь установить, что никто из наших братьев к этому не причастен.
– Отчего же расследование произошло без моего ведома? – прервал его Джем. – Мне надоело, что меня охраняют так, словно я невменяем. Я не участвую в первой заботе каждого человека – в защите собственной жизни. Не вправе ли я усомниться в том, что эта опасность истинная? Я уже пожертвовал вам Франка, кого же еще?
Он выкрикнул, да, выкрикнул это «кого же еще?». Я видел, что ко всем прежним страхам прибавился новый, самый тягостный: страх перед одиночеством.
– Мы представим вам документы, подтверждающие истинность моих слов, ваше высочество, – без тени смущения ответствовал командор. – Расследование продолжается. Однако не следует ни на мгновение откладывать меры, обеспечивающие вашу безопасность. Не сомневаюсь, что вы представляете себе, какая вас ожидает участь, если замышленное удастся Баязид-хану?
– Каковы же эти меры, хотелось бы знать?
Я чувствовал, что на этот раз Джем не уступит, не поддастся уговорам. Настолько бесстыдно лгали нам братья, что даже легковерный Джем им не поверил. Он шагнул к командору, тот слегка отпрянул, словно ожидая удара, но сохранил всю свою наглость – не могу найти более подходящего слова.
– Брат Д'Обюссон приказывает удалить всю вашу свиту из Рюмилли, ваше высочество, – жестко и решительно произнес командор, – до тех пор, пока мы не обнаружим, кто именно из ваших людей предатель.
Вся кровь отхлынула от щек Джема; он стоял безмолвный, потрясенный, поистине страшный в своем бессильном гневе. Тогда, с Франком, это было еще полбеды; Франк был одним из двадцати пяти, теперь же должны были исчезнуть все двадцать пять разом.
Молчание.
Тогда, с Франком, эти минуты молчания были исполнены невыразимой нежности, теперь же их переполняло отчаяние и ненависть. Игра окончилась – началась неприкрытая битва. Нам оставалось вступить в бой – ничтожно малочисленным, ничтожно слабым против могущественного врага.
– А если я воспротивлюсь этому приказу? – спросил Джем голосом, от которого у меня волосы встали дыбом. («Неужто сегодня придет конец!» – сразил меня ужас, ведь каждый из пас полагает, что гибель где-то далеко.) – Если не соглашусь расстаться со своими приближенными? Что тогда?
Забывшись, Джем схватил командора за шиворот и стал трясти, как котенка. Странно, монахи не вмешивались. Видимо, были предупреждены на сей счет: только в случае, если командор призовет их.
– Прошу, ваше высочество, отпустить меня, – с ледяным хладнокровием произнес командор, глаза его сверкали в одной пяди от глаз Джема. – Я исполняю повеление и исполню его до конца. Брат Д'Обюссон дал слово, что любой ценой сохранит ваше высочество невредимым. Если ваше высочество не согласится, мы удалим свиту и без вашего согласия.
Вот оно как! Я закрыл глаза, чтобы не видеть происходящего. Странно – теперь я ожидал своей смерти и смерти всех наших сподвижников без всякого страха. Да и какая предстояла нам жизнь после только что услышанного! Нас уже не считали людьми: нас принуждали, над нами совершали насилие, не давая себе труда соблюсти хотя бы видимость приличия. Не говорите мне: видимость – это, пустяки, важна суть. Нет! Приличия позволяют тебе обманывать самого себя, а можно ли жить без самообмана?
Так и стоял я с опущенными веками и слышал лишь тяжелое дыхание – воздух с шумом вырывался из сдавленного судорогой горла Джема; то был почти хрип раненого зверя.
В который уж раз защелкивался замок за его спиной, а он успевал забыть об этом, чтобы впасть в новый, с новой силой переживаемый ужас при виде следующей западни.
– Хорошо, – глухо, точно из пропасти, долетело до моих ушей, – очень хорошо!.. Так знайте: я не согласен!
– Искренне сожалею о том, ваше высочество. Но ваша жизнь для меня драгоценней вашего расположения.
Я открыл глаза. Джем уже отпустил командора. Он отступил к отверстию в толстой стене крепости и в него, точно оно было единственным выходом в мир, не крикнул, а заревел:
– Насилие! К оружию, правоверные!
По лицам черных братьев скользнуло некое подобие улыбки. Джем забыл об их присутствии. Он весь обратился в слух, ожидая поступи воинов, звона оружия, стука конских копыт – того, что обычно следует за приказом султана.
Тишина.
И пока она нарастала, Джем под ее тяжестью сникал, сжимался, таял. Он отшатнулся от стены, но не упал. Остался стоять, опершись о колонну.
– Возблагодарите нашу предусмотрительность, ваше высочество, – продолжал командор так, словно ничего не произошло. – Мы предвидели, что в своем гневе – бесспорно, следствии прекрасных побуждений, – вы можете вызвать ненужное кровопролитие. А мы дорожим не только вашей жизнью, мы бережем и близких вам людей. Они были незадолго перед тем обезоружены. Имея более точное представление о положении вещей, они не оказали нам сопротивления.
– Мне не пристало говорить с вами, – после долгого молчания произнес Джем; им овладело какое-то тупое безразличие, заставившее меня испугаться за его рассудок. – Но я скажу, ибо речь пойдет не обо мне. Если вы отнимете у меня его, – он не указал ни рукой, ни взглядом, но я знал, что он говорит обо мне, – я найду способ умереть…
Бывают заявления столь безумные, что поверить им можно лишь в очень редкую минуту. Теперь было именно такое, заявление и такая минута.
Командор сообразил, что все будущее Ордена и впрямь зависит от этого растерянного, доведенного до отчаяния человека.
. – Вы напрасно огорчаетесь, ваше высочество, – поспешил он сказать. – Мы никогда не испытывали подозрений к Саади. Он остается с вами.
Выражение лица Джема не изменилось, словно весть о победе над одиночеством не достигла его сознания.
«Вели им убраться прочь, Саади!» – взглядом попросил он меня.
Нам не позволили попрощаться с нашими людьми. Целых два дня, пока они собирались в дорогу, нас выпускали, только в коридор и разрешали подниматься лишь на одну часть крепостной стены. Тридцать шагов туда, тридцать обратно – ровно столько, чтобы не сойти с ума от неподвижности. И снова, как в те дни, когда я надеялся увидеть Франка, я встречал утро и провожал вечер у зубцов стены.
Под вечер второго, дня их вывели из ворот. Они все были живы, я пересчитал, я даже различал их лица. Они ехали верхом, но безоружные. Держались очень тихо, с большим достоинством. Со всех четырех сторон это сине-желто-белое пятно было окружено черной полосой: рыцари сопровождали последних приближенных Джема к побережью.
Я известил Джема, мы стояли рядом на стене крепости. И снова поразило меня, что лицо Джема словно бы ничего не выражает. «Живая кукла!» – мелькнуло у меня в мозгу.
– Крикни, быть может, они услышат тебя, ветра нет, – сказал я.
Мне казалось немыслимым расстаться с ними, не простившись.
Джем покачал головой.
Я повел его назад, как больного. Джем пошатнулся, тяжело обвис у меня на руках и рухнул на пол.
Показания Джона Кендала, туркопельера Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, о событиях с мая 1483 по май 1485 года
Вот вы добрались и до меня. Я этого ожидал. Должно быть, показания брата Д'Обюссона уже не внушают вам Достаточного доверия, так что вы проверяете его деяния с помощью других лиц, Без ложной скромности – я одобряю ваш выбор: кто, если не туркопельер Ордена, мог быть досконально осведомлен во всех подробностях О наших взаимоотношениях с турками?
Вряд ли есть необходимость пространно рассказывать о себе. Четвертый сын благородного семейства, я должен был посвятить себя церкви, несмотря на склонность к Военному-поприщу. Я примирил оба эти поприща, вступив в Орден рыцарей-монахов. Иоаннитский Орден я предпочел другим, оттого что он был форпостом Запада против самой большой угрозы нашего времени – против османов. Я рассчитывал на воинскую славу, чтобы оставить хоть малый след на скрижалях истории. В известной мере мне это удалось: я отличился при великой осаде 1480 года, но в осаде, даже героической, нет громкой славы. Зато совершенно неожиданно для меня самого мое имя оказалось связанным с наиболее значительным событием в международной политике XV века – с делом Джема.
Вы, вероятно, обратили внимание, что до отплытия Джема с нашего острова я не принимал участия в его судьбе. Дипломатической частью в Ордене ведали другие. Лишь когда вокруг дела Джема возникли первые осложнения и оно углубилось в темные закоулки международных отношений, выступил на сцену я.
Великий магистр ввел меня в курс этого дела, когда оно взвалило на него столько забот, что одному человеку было не под силу справиться с ними. Ибо Д'Обюссон лишь в самых общих чертах посвящал Совет в свои действия касательно Джема, вначале он вел это дело от своего имени и даже в своих интересах, я бы сказал, так как род Д'Обюссонов извлек значительные выгоды из этого необычного подарка судьбы.
Итак, в один из весенних дней 1483 года магистр призвал меня в свою рабочую комнату и объявил, что впредь я буду его помощником в деле Джема. Знаю, мой возраст (я был на целых пятнадцать лет моложе магистра) делал меня неподходящим для роли советчика. Но Д'Обюссон был прозорлив (и еще как!), он понимал, что человек одинакового с ним видения и темперамента только повторял бы его собственные мысли. Д'Обюссон явно предпочитал, чтобы я противопоставлял его мнению свое, в споре ему легче было обнаруживать слабые стороны предпринимаемых им шагов.
Начало моего участия в деле Джема совпало с отъездом турецкого посланца. Брат Д'Обюссон только что известил Совет о том значительном годовом содержании, которое Баязид назначил своему брату, и снискал за это горячие похвалы. Надо сказать, по праву: наша пустая казна тяжко заботила Орден.
Похвалы похвалами, но магистр был озабочен: султан Джем представлял собой теперь столь крупную добычу, что она не могла оставаться собственностью мелкого владельца. Нашей целью было уступить Джема владельцам более могущественным – как можно позже и как можно выгодней; нашим долгом было выиграть время, привлечь друзей и выбрать меж них того, кто лучше заплатит.
– Главная опасность сейчас исходит от французского двора. При всем том, что мы все время держим Джема в различных командорствах Ордена, что определяем ему в хранители наших командоров и что сторожат его наши братья, эти замки находятся на французской земле, их владельцы – вассалы короля Франции. Поступи от короля приказ, они будут вынуждены предоставить своего гостя в его распоряжение: их связывает вассальная присяга, – поделился со мной Д'Обюссон своими опасениями.
– Если вы уверены в этом, ваше преосвященство, не вижу, на что мы рассчитываем. Людовик XI – старая лиса.
– Именно на это я и рассчитываю. Бьюсь об заклад: Людовик будет твердить перед миром, что Джем – гость святой нашей церкви, представляемой Орденом. Таким способом он пресечет все притязания на Джема со стороны других государей.
Однако, успокаивая так и меня и себя, брат Д'Обюссон приказал не оставлять Джема на продолжительное время ни в одной из крепостей, а также вести за ним тщательнейшее наблюдение. Он настоятельно требовал от Людовика, чтобы юный Карл был хоть на время отозван, – известно было, что мальчик впечатлителен и горячо сочувствует Джему. Широкая сеть соглядатаев (волей-неволей пришлось использовать и папских агентов, своих недоставало) не спускала глаз и со двора султана Каитбая, где обитало семейство Джема, а также с Ниццы и Вильфранша, откуда мог тайно выехать посланец Джема, и с Венеции – больше всего мы опасались Венеции, ибо она была основной силой в Средиземноморье. Это стоило нам немалых трудов: мы просеивали десятки донесений, изучали перехваченные бумаги, сами рассылали Десятки инструкций.
Вам небезынтересно знать, что документы по делу Джема, принадлежавшие только одному нашему Ордену (не говоря о Франции, Венеции, Венгрии или Риме), к исходу этой истории представляли собой внушительную картину. Мне было вменено в обязанность содержать их в порядке, ведь с их помощью Д'Обюссон многократно доказывал свое преимущественное право на султана Джема, одного государя изобличал в темных сделках, другого шантажировал с значительной для себя выгодой. Эта огромная гора бумаги была пожизненным богатством Д'Обюссона, а также потомственным его имуществом.
Между тем наши соглядатаи, посланные в Венецию для того, чтобы выведать, примет ли Сенат предложения Баязида, но возвращались уже несколько месяцев – благодарите всевышнего, что вам не довелось быть соглядатаями в Венеции! Государственная тайна блюлась там столь строго (каждый сенатор отвечал головой и всем своим достоянием за единое слово, проникшее за стены Сената), что наши лазутчики подолгу торчали на сырых ее берегах и часто возвращались с пустыми руками. Однако на сей раз нас ожидал успех: в конце концов мы получили известие, что Венеция отклоняет щедрое предложение Баязида, решив не вмешиваться в дело Джема. (По крайней мере пока.)
Странно, не правда ли? Во все времена эта республика золота слыла (и являлась) многоруким и многооким чудищем, чье занятие – грабежи и убийства. Отчего, вопрошаете вы, Венеция сохранила невозмутимость при столь заманчивой ситуации? Единственный ответ: оттого, что извлекала из этого пользу. Заполучи Венеция – при всей невероятности этого – султана Джема, ей пришлось бы тут же заняться тем, что и погубило нас: отстаивать Джема от поползновений других держав. А так как она не могла рассчитывать на симпатии ни одной из них (папа даже предал Венецию анафеме вопреки обычной своей снисходительности к богатой пастве), то с полным основанием опасалась серьезной коалиции против себя, если бы приняла Джема. Одним словом, посулив Баязиду остаться в стороне, она продала свой нейтралитет за хорошую цену: заключила с новым султаном мирный договор, дававший ей преимущественные права в Леванте. Как вы могли заметить, дело Джема уже приносило золото не только непосредственным его участникам, но просто-напросто умным наблюдателям.
В общем, год 1483 ознаменовался важными событиями. Вообразите, чего стоило Д'Обюссону и мне им противостоять!
В августе дошла до нас весть о кончине Людовика XI. Современники осуждали этого недостойного человека, но крупного государственного деятеля. Его смерти ожидали с нетерпением самые близкие ему люди, однако для нашего Ордена она была несвоевременной: мы опасались, что его наследники (вместо малолетнего Карла управляла его мать, особа весьма легкомысленная даже для регентши) не будут обладать интуицией покойного и пожелают владеть Джемом, не прибегая к посредникам, Поэтому следовало снова переместить Джема, теперь, уже в области, менее зависимые от французской короны. Следовало также искать для. Джема покровителей, в самой Франции – людей, которые в надежде заполучить Джема охраняли бы его от короля. Дело чрезвычайно тонкое и особенно трудное, если вести его на расстоянии.
Первое, что нам кое-как удалось, – это отправить Джема на северо-восток. А перед тем – по приказу магистра – он был лишен своей свиты; мы имели уже предостаточно сведений относительна преданности тридцати этих сарацин своему господину. (Помимо того, в одном из своих посланий Ордену на этой мере настаивал и султан Баязид.) Приказ затрагивал также и небезызвестного вам Саади. Однако, дабы не. довести Джема до край него отчаяния, мы решили избавиться от теперь уже единственного его приближенного позже, изобразив это несчастным случаем. Мы снова и снова обсуждали вопрос о Саади в связи с болезнью Джема; Джем оказался неустойчивым к душевный потрясениям, нам пришлось пощадить его. Иначе говоря, Саади уцелел.
Не считайте, что мы поступили неоправданно жестоко по отношению к Джемовым сарацинам – у себя в Турции они поступили бы с нами не лучше. Кроме того, они и вправду не сидели спокойно. Так, нам стало известно, что Джем – без нашего дозволения, тайно – посылал кое-кого из них к венгерскому королю. Поймать этих гонцов ничего не стоило – они не знали нашего языка и даже в христианских одеждах мало походили на христиан. Мы переправили их на Родос, где брат Д'Обюссон делал все возможное, чтобы развязать им языки, но они предпочли бессмысленную смерть, храня тайну, давно нам известную: что посланы они к Матиашу Корвину. В своем высочайшем гневе Матиаш Корвин сам известил нас об этом.
Брат Д'Обюссон сказал вам, что уже в первом своем ответе Ордену Корвин выразил готовность вооружиться и возглавить великий поход на османов, если мы уступим ему Джема. Король объяснял, что острое недовольство султаном Баязидом в Румелии создало почву для мятежа среди самих турок. При поддержке восставших народов Юго-Восточной Европы, совсем недавно лишившихся свободы, он наверняка сумеет отторгнуть Румелию от Константинополя. При такой ситуации успех похода был легчайшим делом – чуть ли не уговаривал нас король Матиаш. Как это ни невероятно, он был прав; мы это знали и без пространных его объяснений. Именно поэтому и мешкали с ответом.
Не дожидаясь ответа на первое письмо, Корвин повторно написал нам, а затем просто засыпал нас посланиями. Он явно терял самообладание.
Сначала король Венгрии смиренно настаивал на том, чтобы султан Джем был передан ему. (В его письмах Джем всегда именовался султаном.) Указывал на преимущества, которые это повлечет за собой, потом перешел к обещаниям, причем обещания его были искренни и оттого нещедры; Венгрия была разорена длительными войнами – против османов и против немецкого короля. Под коней, потеряв терпение из-за уклончивых ответов брата Д'Обюссона, Матиаш Корвин излил на Орден потоки негодования. Он винил нас в том, что народы Юго-Восточной Европы по нашей милости упустили целый год – самое благоприятное время для войны против еще не спаянной из-за междоусобиц Османской империи; он уличал нас в торгашеской алчности, когда на карту поставлено будущее христианского мира; возлагал на нас ответственность за все, что могло последовать (а о том, что последовало, вам скоро станет известно), и заключал: христиане упустили невероятный, неповторимый случай избавиться от турецкой напасти.
В последнем своем письме король Матиаш указывал, что ему известно об исчезновении посланных к нему гонцов Джема, – он включил это в перечень многочисленных своих обвинений против нас. Мы же на основании этого немедленно заключили, что кто-то из отстраненной Джемовой свиты сумел передать Матиашу сие известие. Вслед за тем остатки этой свиты (она поредела, переправляясь через нездоровые области возле устья Роны – там полчища комаров и жестокая лихорадка) были упрятаны еще глубже в подземелья Родосской цитадели, дабы их голоса не достигли ненароком ушей короля Матиаша или бог весть кого еще.
Брата Д'Обюссона переписка с Матиашем чрезвычайно огорчала. Он сетовал при мне, что венгры всегда были не слишком усердными христианами, вели свои дела самостоятельно, не сообразуясь со святым престолом и его орденами, не сумели постичь западный дух (состоявший, по его словам, в том, чтобы избегать торопливости). Но самому себе брат Д'Обюссон, вероятно, признавался, что причина его огорчения – в ином: король Матиаш высказал те упреки, которые магистр слышал от собственной совести.
Тут я позволю себе ненадолго отклониться в сторону, ибо замечаю, что ход следствия уводит вас в неверном направлении: речь пойдет о непомерно восхваляемом свидетелями Корвине. Он, дескать, единственный, кто оценил неповторимость минуты, единственный, кто не жалел ничего, чтобы заполучить Джема и поставить его во главе похода против Баязида. А мы-де помешали королю Матиашу, и потому дело восточного христианства было проиграно.
Прекрасно. Но как объяснить договор, заключенный осенью 1484 года тем же Матиашем с тем же Баязидом? Не следовало ли венгерскому королю (даже без Джема, если Румелия и впрямь была готова, как уверял он, восстать) все же попытаться организовать большой поход? Не приписывает ли он Джему чудодейственную силу лишь для того, чтобы оправдать собственную свою нерешительность?
Ах да! Корвин подписал с Баязидом не мир, а перемирие сроком на пять лет; он надеялся до того времени получить Джема. Все это так. Но ведь по прошествии этих пяти лет Румелия еще в большей степени будет скована властью Баязида. Даже если Баязид ничего и не предпринял бы до той поры, не повел, скажем, войны против Запада за пределами Румелии.
А ведь именно так и произошло, я прошу вас помнить об этом. Успокоенный относительно Венгрии, султан Баязид набросился на Герцеговину, годом позже – на Польшу. Тем временем король Матиаш сводил старые счеты с Фридрихом Немецким, пока в неделе пути от самого опасного – не правда ли? – врага, от турок, не осадил Вену и не овладел ею. Короче говоря, король Матиаш деятельно участвовал в нескончаемых усобицах христианских властителей. При весьма подвижной границе с османами, к вашему сведению.
Вот что являл собою хваленый король Матиаш.
Да простит меня господь за то, что я вложил слишком много горячности в последние свои слова. Я позволил это себе, ибо вижу, что вы готовы впасть в заблуждение, – отнюдь не король Матиаш является героем в деле Джема. Заклинаю вас понять это до конца: ни один из моих современников не дорос до той задачи, какую возложила на него эпоха, никто из них не поднялся выше собственной выгоды, чтобы во имя истории использовать дело Джема. В том числе и Матиаш Корвин – вот к чему сводится моя мысль.
Пока продолжались всякого рода распри между различными государями, брат Д'Обюссон и я переживали тяжкие дни. Трижды на протяжении трех лет, с 1483 по 1486 год, узнавали мы о том, что султан Баязид готовит свой флот к бою. Он имел в виду не Родос – в том мы были убеждены: султану было невыгодно портить отношения со стражами Джема. Но, возможно, Баязид заподозрил, что Джем принадлежит уже не нам одним? И вообще, как далеко зайдет этот процесс – постепенного перехода Джема из рук Ордена под власть иных сил? И кто мог назвать эти силы, каковы их цели, ведомы ли эти цели Баязиду? На все эти вопросы мы не находили ответа.
Теперь, полагаю, вы представляете себе наше положение. Оно было не просто напряженным, оно было страшным.
Из Константинополя приходили вести о приготовлениях Баязида к войне на море, и одновременно прибывали на Родос гонцы с другой стороны – от Папства или от неаполитанского короля. Там знали, что мы владеем магическим средством, способным склонить Баязида к миру, и настойчиво молили нас (не без подношений или угроз): «Намекните султану Баязиду, что Джем во главе двухсоттысячного войска выступит на Румелию».
И брат Д'Обюссон намекал, если можно это назвать намеком: посылал султану с кем-нибудь из братьев письмо, в коем говорилось, что по условиям договора турецкий флот не должен выходить из Проливов. Буде же сие произойдет, Орден сочтет договор нарушенным и не станет более предоставлять Джему свое гостеприимство.
Неправдоподобно, а между тем – истинная правда! Султан Баязид отступал перед этим шантажом, отступал трижды: в 1483, 1484 и 1485 годах. Я слышал, в ваше время некоторые считают дело Джема чрезмерно раздутым, находят, что в действительности оно было куда менее значительным. Но посудите сами: турецкий султан троекратно отменил свой поход, отказался от верной победы (никто не сумел бы противостоять ему, я уже говорил вам о том, что христиане воевали друг против друга) только оттого, что страшился появления Джема!
При всей невероятности это так: Джем был легендой не только у нас на Западе, где его якобы приукрасили трубадуры. Джем был легендой и вне наших пределов, Матиаш искренне верил, что вместе с Джемом он достигнет скорого успеха. Совершенно искренне верил, а Баязид, что при виде Джема в войсках его начнется. брожение, а крепости настежь распахнут ворота. О народах Восточной Европы я не говорю – кто может ручаться за целые народы? Но мы обладали доказательствами, что они пошли бы за каждым, кто восстал бы против Порты, будь он даже младшим сыном султана.
Все три раза, что мы посылали к Баязиду гонца е дерзким требованием отменить поход, все три раза мы, ожидали ответа, трепеща от страха. Уступит Баязид либо ответит немногословно (через своего человека, ибо нашего он наверняка прикончит): «Хотел бы я, многоуважаемые; видеть те войска, что вы дадите Джему. Где вы возьмете их, когда они нужны вам для побоищ в Ферpape, Флоренции, Неаполе, Вене и черт-те где еще? У кого отнимаете вы Джема, чтобы поставить во главе похода, – у Франции, Родоса или Рима? Как откажетесь вы, досточтимые., от своих ежегодных тысяч дукатов – неужто намереваетесь пожертвовать ими ради войны, в которой будете побиты мною?»
Вот какого ответа ожидали мы от Баязида, и великого удивлений достойна, что так и не получили его. Оставалось прийти к одному, вернее, к одному из двух заключений: либо Баязид глуп, либо Джем действительно стоит тех денег, в кои он обходился брату.
Нет, было еще и третье (хорошо, что Баязид этого не подозревал – в этом, и ни в чем ином, вижу я промысел божий, защитивший в те годины Запад от великой опасности): глупцами были мы. Даже Баязид, дикарь, как нам описывали его и чего не подтвердила история, не мог допустить, что Запад и вправду ради сорока пяти тысяч золотых дукатов, ради двух-трех торговых договоров и своекорыстия упустит небывалый в истории шанс.
Когда брат Д'Обюссон обдумывал первые свои шаги в связи с Джемом, когда он заполнял белый лист с тугрой Джема, когда он шантажировал Папство, французского короля и египетского султана, он (я знаю точно, ибо сам тому очевидец) дрожал от страха, что заслужит порицание христианского мира. Он боялся быть уличенным в коварстве (как уличал его, пусть неумело и неубедительно, Корвин). Однако времена были таковы, что боязнь его была напрасна. Вероятные обличители очень скоро сочли наше коварство слишком мелким и с большой легкостью нас превзошли.
По моему разумению, началось это в тот час, когда почил в бозе Сикст IV.
Текли дни междувластия для святой нашей церкви – время папских выборов. Сожалею, что мне не случалось в подобные дни бывать в Риме; говорят, нельзя вообразить ничего более сложного, напряженного, более насыщенного неожиданностями и всевозможными зрелищами, более дорогостоящего, чем избрание нового папы. Мы, родосцы, в этих выборах не участвовали, среди нашей братии не было ни одного кардинала. Великий магистр скрипел зубами, когда мы обсуждали сие обстоятельство. «Допустимо ли, – говорил он, – чтобы Орден со столь славной историей, одержавший столь великую и недавнюю победу над самим Завоевателем, не имел в своих рядах хотя бы одного кардинала? И отчего? Оттого лишь, что именно эта победа истощила нашу казну до такой степени, что мы не имеем возможности купить для кого-либо из нас сан кардинала, – вот и вся причина».
Впрочем, и в качестве зрителей мы с нетерпением ожидали исхода выборов. Брат Д'Обюссон твердил, что отдал бы свой голос за Иннокентия, ибо он человек деятельный и дальновидный. Я понимал, отчего наш магистр сочувствует Иннокентию. Кардинал был хотя и не иоаннитом, но родосцем, их связывала с Д'Обюссоном давняя дружба.
Случилось так, что я прежде Д'Обюссона узнал и первый сообщил ему имя нового папы: Иннокентий VIII. И не кто иной, как я, узрел нечто весьма редкостное: магистр засмеялся от радости. Без сомнения, он уже видел себя среди приближенных к верховному владыке нашей церкви и прикидывал, какие из этого могут проистечь выгоды. Немалые: всегда выгоднее быть фаворитом властителя, нежели самим властителем.
В соответствии с правилами каждый новый папа принимает клятву от своих духовных подчиненных. Посему весной 1485 года в Рим должны были прибыть депутации отдельных орденов и епископий.
От Родоса был послан я вместе с вице-канцлером Ордена братом Каурсеном. Моей задачей было обрисовать в своем слове наши заслуги в борьбе против турецкой опасности и выразить надежду, что, родосец родом, его святейшество не останется глух к нуждам родосских рыцарей.
– Если речь зайдет о Джеме, – то было последнее напутствие Д'Обюссона, – утверждайте, что у вас нет на этот счет полномочий. Пусть его святейшество изложит свои требования. Мы особо ответим ему.
Отправились мы в Италию примерно в середине апреля и совершили плавание, благополучно избежав встречи с корсарами. В Рим мы прибыли к концу месяца. Город еще праздновал избрание нового папы, улицы были разукрашены, вечерами через весь город тянулись факельные шествия, и чуть ли не ежедневно совершались торжественные молебны у чьей-либо усыпальницы или чьих-нибудь мощей. Иннокентий VIII использовал эти шествия, чтобы являться народу, раздавать медяки и благословения. Было шумно и утомительно.
Каждое утро мы, депутации орденов и епископий, присутствовали при церемонии принесения присяги. Посланцы произносили свои речи – все они были на один лад, и только очень опытное ухо могло различить в них те мелкие, но важные ноты, в которых проявлялись особенности отношения к Риму каждого из них. В остальном же – полное сходство: они были в равной степени возмущены непрекращающимися войнами между европейскими государями, настаивали на быстрейшем умиротворении Италии и всей Западной Европы, выражали опасение перед пока еще смутным, но явно растущим недовольством населения. И особенно горячо настаивали на единых и решительных действиях против турецкой угрозы.
«Что знаете вы о ней?» – охотно спросил бы я при всей неуместности этого вопроса. Ибо из всех католических государей единственно польский и венгерский короли испытали на себе силу османов. Они и посвятили больше всего слов необходимости скорейшего крестового похода на Стамбул. Тут, разумеется, было упомянуто имя Джема – представитель Матиаша Корвина высказал огорчение, которое доставляет его государю наш Орден.
Вероятно, услышав это, я не удержался от невольного жеста – венгры неудачно выбрали момент, и я чуть было не указал им на это. Но встретился со взглядом Иннокентия VIII. «Воздержитесь!» – говорил его взгляд. Я подчинился.
В тот же вечер последовало нечто странное: меня посетил один папский маркиз и пригласил к его святейшеству. Иннокентий VIII пожелал говорить со мной до принесения мною присяги. То было, поверьте, вопиющее нарушение правил: новый папа не должен принимать своих подвластных, еще не принесших клятвы. Можно было подумать, что Иннокентий желает говорить со мной как частное лицо.
Я шел вслед за маркизом, чрезвычайно живописным-в своем фиолетовом с зеленым наряде, в длинных белых чулках, с золотыми побрякушками; шел, сопровождаемый по бокам двумя гвардейцами-швейцарцами, также весьма живописными, в желтом и красном; шел при свете факелов по бесконечному лабиринту папского дворца.
Маркиз ввел меня в небольшую комнату и удалился. Должно быть, я простоял довольно долго, прежде чем одна из занавесей шевельнулась и в комнату тихой, плавной походкой вошел Иннокентии. Он уже снял свое облачение, на нем была простая белая ряса.
Должен сказать, в эту встречу, как и в последующие:, Иннокентий VIII произвел на меня глубокое впечатление. Он был личностью – это по крайней мере бесспорно. Невысокий, сухопарый, но очень крепкий, не испитой и не бледный. Иннокентий к пятидесяти своим годам выглядел мужчиной, ведущим жизнь отнюдь не монашескую; он был похож на обычного родосского купца средней руки или морехода. Единственное отличие – очень острый взгляд, пытливый и проницательный одновременно.
Войдя, папа окинул меня взглядом – ни дольше, ни быстрее, чем это было необходимо, чтобы составить себе представление о ком-нибудь. Руки для поцелуя он мне не протянул – я ведь еще не приносил присяги.
– Я полагаю, что Папство должно обсудить с вашим Орденом некоторые положения, кои завтра, во время принесения присяги, мы обсуждать не можем, – заговорил Иннокентий, пристально глядя на меня. – Вы уже заметили, что все наши духовные чада устами своих посланцев высказали решимость в скорейшем времени сойти крестовым походом на Восток. Вы понимаете, что нет для папы долга более священного, чем этот: связать свое имя с крестовым походом. На пальцах можно счесть тех святых отцов нашей церкви, коим удалось примирить вражду между христианами и повести их в бой за дело господне. Говорю вам сие потому, что укоряю своего предшественника, – я не стал бы откладывать столь великое дело или препятствовать ему. Более того: я намерен посвятить ему свою жизнь.
Я слушал его в полнейшем спокойствии, мне было известно, что он скажет. Брат Д'Обюссон угадал: переговоры относительно Джема не могли быть отложены даже до завтрашнего утра! Вероятно, Иннокентий опасался, как бы мы не заключили сделку с посланцами Матиаша либо с французами, и поспешил наложить свой святейший запрет на наш дорогой товар.
– Вам, борцам против турок и победителям их, ясно, с какими трудностями будет связан подобный поход. В Италии все еще не наступил мир, смертельно воюют между собой короли германский и венгерский. Я сделаю все, дабы моя паства жила в мире, – да подкрепит господь мои усилия! Но одно не терпит отлагательства, ибо нас подстерегает опасность: не следует держать принца Джема вдали от Рима. Его присутствие здесь послужит знаком, что поход действительно предстоит. И отнимет у наших врагов всякую возможность похитить его или предать.
От возбуждения Иннокентий встал и заходил но комнате.
– Я просто диву даюсь, как мог покойный Сикст проявить подобную нерадивость, – продолжал он, помолчав. – Возблагодарим всемогущего господа за то, что он до сего дня уберег Джема, но всевышний не покровительствует нерадивым. Впрочем, – Иннокентий подошел ко мне, чтобы лучше следить за выражением моего лица, – я распорядился: Анкона и ее земли (одно из наших владений) будут предоставлены принцу Джему. Там его будет охранять папская и иоаннитская стража. Я назначил начальников, определил содержание, роздал соответствующие звания свите, которая будет окружать нашего гостя. Можем ли мы поставить во главе похода человека, содержащегося точно последний нищий в провинциальных замках Франции, лишенного подобающего ему блеска и окружения! Так мы не принудим королей и князей участвовать в крестовом походе, не принудим, брат Кендал! Неужели вашему магистру не ясно сие?
Я не мог прийти в себя, до того ошеломил меня его святейшество. Он говорил так, будто Джем был не нашей собственностью, то бишь гостем, а самого Папства; словно нам не предстояло достичь договоренности, а она была уже достигнута.
– Я не обладаю полномочиями относительно Джема, – вот все, что я мог придумать в ответ.
– Разве в них есть необходимость? – с бескрайним удивлением спросил папа. – Разве брат Д'Обюссон считает Орден чем-то обособленным от святой нашей церкви? Разве ваше и наше достояния не едины?
– Не совсем, Баше святейшество, если я могу осмелиться, – я осмелился, ибо дела займи так далеко, что мне стало не по себе. – Когда Родос находился под обстрелом турок, отстаивали его только воины Родоса. И сейчас, когда нам приходится восстанавливать разрушенные неприятелем укрепления, усиливать их – ведь угроза продолжает висеть над ними, – мы делаем это собственными силами.
– Не совсем, брат! – мягко поправил меня его святейшество. – Я просмотрел записи: Родос получил от Папства две тысячи дукатов после турецкой осады.
«Вот это ловко!» – подумал я. Понесенные нами убытки составляли самое малое двадцать тысяч, две тысячи дукатов мы восприняли как насмешку. А теперь нас еще попрекали ими! И желали получить в уплату нашего золотоносного Джема!
– У меня нет полномочий, – повторил я.
– И в том нет необходимости, – повторил Иннокентий. – Прошу вас лишь передать брату Д'Обюссону, что Анкона готова принять нашего гостя. Роскошь, коей мы окружим Джема, потребует огромных денег, но Папство намерено получать от вашего Ордена – ведь Баязид выплачивает ему содержание Джема – лишь тридцать тысяч в год. Остальные вы будете оставлять себе. Я ценю выдающиеся заслуги иоаннитов, приютивших и уберегших принца Джема, вам будет воздано за них. Сообщите своему магистру следующее: наш смиренный брат Гискар Д'Обюссон произведен в кардиналы.
Внимательным, однако не жестким взглядом следил Иннокентий за тем, какое действие окажут на меня его слова. Честно признаюсь, они сразили меня! За три столетия своего существования и верного служения Риму иоанниты не получили в конклаве ни одного кардинальского места. И только благодаря какому-то обезумевшему от неудач дикарскому принцу, попавшему к родосцам в руки, они снискали сию милость от Папства!
«Неисповедимы пути господни!» – подумал я, восхищенный сметливостью Иннокентия. Папа удостаивал кардинальского сана не Пьера Д'Обюссона – сделка была бы слишком очевидной. Он производил в кардиналы его брата – того бесталанного, не честолюбивого и послушного старца (до сей поры во всем повиновавшегося нашему Пьеру), с чьим именем на Родосе никто не считался. Таким образом, эта сделка давала Пьеру огромные преимущества и вместе с тем оставляла цель, к которой следовало стремиться: стать кардиналом самому.
«Не захиреет Папство под твоей эгидой!» – решил я. В самом деле, первые же шаги Иннокентия знаменовали решительный поворот в событиях.
– Брату моему Пьеру Д'Обюссону передайте, – дав мне время оправиться, продолжал святой отец, – что еще более высоко оцениваю я его личные заслуги в деле Джема. Когда наш гость въедет в Анкону, Пьер Д'Обюссон будет провозглашен кардиналом – диаконом святой нашей церкви.
Господи помилуй! Я схватился за стул, все поплыло у меня перед глазами. Выходит, пока мы сидели да гадали, цена на Джема возросла неимоверно. Кардинал-диакон! Известно вам, что это значит? Какой поток земных благ польется на Пьера Д'Обюссона, у коего сейчас под началом всего две тысячи обнищавших монахов да один обреченный остров!
«Неисповедимы пути господни!» – повторял я про себя, думая о том, что лопну от нетерпения, покуда увижу, как доставленные мною известия будут восприняты самим Д'Обюссоном.
– Указ готов. – Иннокентий действительно развернул передо мною свиток. – Он вступит в силу в тот день, о котором я сказал. Ныне же, брат Кендал, – любезно обратился он ко мне, – я прошу вас пройти в часовню. Завтра вы принесете присягу вашего Ордена перед святым моим престолом. Сегодня же вы поклянетесь своей жизнью – не следует вмешивать бога и святых великомучеников в земные дела, – что никто, кроме брата Д'Обюссона, не узнает о нашей договоренности.
В часовне было темно. Свеча, которую внес Иннокентий, едва освещала ее. Я опустился на колени перед простым распятием, местом молитвы многих пап, и поклялся. Собственной жизнью. То не была клятва в обычном значении этого слова. Просто мне следовало уразуметь, что моя жизнь зависит от того, сумею ли я держать язык за зубами. Иннокентий, видимо, счел, что мне понадобится для этого известное время, и поэтому милостиво предложил:
– Прочтите и вечернюю свою молитву, брат. Немногие из рядовых слуг нашей церкви преклоняли тут колена.
Брату Каурсену я сказал, что его святейшество уточнял со мной завтрашнюю церемонию. Вице-канцлер промолчал. Я не знал и так и не узнал, был ли он также связан подобной клятвой.
На следующее утро я прочел вашу приветственную речь: вдвоем с Каурсеном мы опустились на колени перед престолом, произнесли слова присяги и получили благословение, а на другой день отправились в обратный путь.
В Остии мы сели на корабль. Перед тем нас нагнал какой-то человек – из неаполитанской депутации, сказал он. И настойчиво просил по пути на Родос зайти в Неаполь. По его словам, это послужит интересам Ордена.
Я должен был решать сам. Каурсен, избегая моего взгляда, отказывал мне в совете. А я не принимал решения до тех пор, пока мы не заплыли в тень, – черное облако дыма над Везувием окутало и наш корабль. Я подозревал, что на борту имеется хотя бы один подкупленный папой моряк. А может, и больше. Как истолкуют они мой заход в Неаполь? Впрочем, я ведь поклялся лишь хранить в тайне предложение папы, никто не запрещал мне заходить в тот или иной порт.
Мы повернули к берегу, но я не видел его, ослепнув от тягостных мыслей. Не произвела на меня впечатления ни встреча, которую брат Каурсен назвал королевской, ни дары, подозрительно щедрые, которыми удостоил нас король Ферран. Я с нетерпением ожидал аудиенции у его величества.
Не стану докучать вам подробными описаниями – наш разговор почти полностью повторял тот, другой, в Риме, отличаясь очень немногим: король Ферран подчеркивал, что имеет права на Джема, ибо неаполитанские владения, и главным образом Сицилия, подвергаются особой опасности со стороны турок. Король сверх всякой меры осыпал нас обещаниями – судил земли, деньги, войска для защиты Родоса. Но он не мог пообещать кардинальского сана братьям Д'Обюссонам и, следовательно, не мог не проиграть. Я даже испытывал неловкость, глядя, как на наш корабль грузят неаполитанские дары – то был чистый убыток для короля Феррана. «За глупость надо расплачиваться», – успокаивал я себя. А Ферран и в самом деле был не слишком умен, если не догадался, что не его одного осенила эта догадка, если не понял, что Джем стоит гораздо больше, чем в состоянии заплатить какой-либо один король.
Последнее суждение было высказано братом Д'Обюссоном после моего возвращения, когда он сообщил, что султан Каитбай предложил Ордену за Джема сто двадцать тысяч дукатов. Часть из них, двадцать тысяч, была уже внесена в нашу казну. Их переслала через своих людей вдова покойного Завоевателя, мать Джема; она поспешила отдать нам все, что имела (вряд ли изгнанная султанша обладала большим богатством), надеясь предупредить наши вероятные колебания и связать нас.
Все, что мы до той поры получили за Джема – а сумма была немалая, вы, наверно, уже подсчитали, – не обеспокоило меня так, как эти несчастные двадцать тысяч золотых. Существует все же на свете такое, через что трудно перешагнуть. Мать узника, например…
– Бог мне свидетель! – сказал Д'Обюссон, словно заглянув в мою душу. – Ее деньги я, придет срок, возвращу.
Так оно и произошло, можете удостовериться. То были единственные из полученных за Джема деньги, которые мы возвратили. Не по своей воле – признаюсь. Д'Обюссон был принужден к тому.
Вопреки моим ожиданиям великий магистр выслушал предложение Иннокентия VIII не только без восторга, а даже хмуро.
– Мессир, – пытался я убедить его, – это превосходит все, о чем мы мечтали. Цена Джема с каждым часом растет.
– Именно, – процедил сквозь зубы Д'Обюссон. – Именно это и бесит меня, непрестанно напоминая, какие еще я получил бы выгоды, принадлежи Джем мне.
– Помилуйте, ваше преосвященство, Джем и принадлежит нам! Разве не приняли мы все меры к тому…
– Какие меры! – Я увидел, что и брат Д'Обюссон способен на чисто человеческую злость. – Джем находится на французской земле. Не думаете ли вы, что король позволит беспрепятственно похитить из его владений такое сокровище? Господи, мы сваляли дурака, но зачем надеяться, что есть еще дураки на свете!
– Ваше преосвященство, у нас не было выбора! Если Джем вправду стоит того золота, какое платят за него, то здесь, на Родосе, он, безусловно, был бы похищен. И кроме того, нам останется хотя бы доля от тех доходов, что приносит Джем.
– Доля! – с лютой злобой повторил Д'Обюссон. Он походил в эту минуту на разорившегося ростовщика. – Неужто не понимаете вы, брат Кендал, какая жестокая пытка владеть долей, когда ты владел всем? И потом вам еще не все известно, Кендал. Пока вы отсутствовали, Баязид вторгся в Сирию; Баязид покарал смертью Касим-бега, вождя караманов, за его соучастие в борьбе Джема; приближается черед Каитбая. Месяц назад Баязид потребовал, чтобы он выдал мать и жену Джема, Каитбай отказался. Еще до наступления нового года начнется война в Средиземном море. Коль скоро бои на суше уже начались, мне не так просто заставить Баязида не выходить из Проливов. Теперь Баязид ответит, что он воюет с Египтом и флот ему там необходим. А когда они окажутся в наших водах, что помешает им наставить пушки на Родос? Я вас спрашиваю, Кендал!
– Как что, мессир? Христианство. Я имею в виду решимость папы Иннокентия, стремление ряда мирских властителей завладеть Джемом и выступить в поход. Нападение на Родос и станет началом борьбы Креста и Полумесяца!
– Меня радуют ваши радужные пророчества, брат Кендал! – процедил магистр. – Лично я вижу только одного искреннего союзника – султана Каитбая. Все остальные, – голос его звенел от ненависти, – предпочтут гибель Родоса. Чтобы присвоить ту долю, которая все еще достается Д'Обюссону. Вот так-то.
Меня бросило в дрожь. Хуже всего, что магистр, по-видимому, был прав. Весь наш опыт говорил об этом. Я собрался спросить что он думает предпринять, чтобы события не застигли нас врасплох, но Д'Обюссон опередил меня:
– Что бы ни произошло, мы можем положиться только на Иннокентия; он единственный, кто проявит некоторую щепетильность. Вы снова отправитесь в Рим. брат Кендал, отвезете мое согласие. Мы предоставим Джема Папству в обмен на все то, что было перечислено. Пусть Иннокентий сам позаботится о том, как получить Джема – это уже вне наших возможностей. И не будем вконец отчаиваться. Договор о выплате содержания Джему подписан между мной и Баязидом; возможно, Баязид не пожелает подписывать новый договор – с папой, например. Тогда золотой поток по-прежнему будет течь через Родос, так ведь?
Д'Обюссон рассмеялся вымученным смехом, как человек, только что превозмогший приступ отчаяния. Потом смех его затих, сменившись неожиданным заключением:
– Как знать! Быть может, все к лучшему. Узнав о том, что Джем переселяется в Италию, Баязид поверит в возможность крестового похода. И вряд ли будет особенно предприимчивым в Средиземном море.
Одиннадцатые показания поэта Саади о событиях с октября 1483 по июнь 1484 года
Помнится, мой предыдущий рассказ закончился замком Рюмилли, Савойским командорством Ордена. Я отзывался о Рюмилли с неприязнью, но, оборачиваясь назад, обозревая все наше изгнание, я уже не нахожу его столь отвратительным. В Рюмилли мы все еще сохраняли надежду.
Осенью 1483 года наше пребывание там неожиданно закончилось. Сразу же после болезни Джема, вернее, еще прежде, чем мой господин полностью оправился.
Я уже упоминал, что первый припадок случился с Джемом после того, как он был разлучен со своей свитой. В тот вечер я с трудом дотащил его до постели, укрыл; он лежал смертельно бледный; даже потеряв сознание, он сохранял на лице выражение страдания и боли. «Джем, дорогой друг мой, – думал я, – куда девались те времена, когда ты утром ожидал пас, еще не остыв от бешеной скачки, раскрасневшийся, загорелый, быстрый, беспричинно веселый? Ты словно сам был тогда встающим днем! Как изумительно, как прекрасно встречали мы с тобой наступающий день!..»
Я смачивал ему виски, расстегнул на груди одежду. Позвать кого-нибудь из рыцарей я боялся, хотя нездоровье Джема, вероятно, не осталось ими не замеченным. Я боялся той чаши, какую они могли поднести своему гостю. Ничего своего не было уже у нас в стенах Рюмилли, мы обречены были брести далее вдвоем, опираясь Друг о друга, как слепец и глухой из старой притчи.
Помню, целую неделю я не сомкнул глаз. Проводил ночи в какой-то полудреме. Сквозь сумрак мерещилось мне, будто за занавесями кто-то шевелится, в завывании ветра слышалось чье-то дыхание. Все вокруг дышало всепроникающей враждебностью, а мы были совершенно одиноки, совершенно беззащитны перед ней.
Как я ни старайся, вам не под силу себе это представить: где-то вдали от родины двое житейски не искушенных юношей, два восточных поэта жили заточенными меж незнакомых стен и непостижимых воителей совсем чуждого им мира.
Нет, вы снова не так понимаете нашу трагедию! Вы склонны жалеть нас из-за того, что собственная доверчивость ввергла нас в заточение. А главное не в этом. Более всего угнетало нас и, должно быть, явилось причиною болезни Джема столкновение между двумя глубоко отличными образами не жизни даже, а мышления.
Ваши сегодняшние представления рисуют человека Востока в неверном свете – вы судите о нем по гораздо более позднему его образу. Для меня, восточного мыслителя XV века, этот образ оскорбителен. Ибо в пору позднего средневековья Восток являл собой нечто великое. Он не знал государств, состоящих только из одной народности; в его бескрайних империях люди говорили на десятке языков, исповедовали две-три религии и еще большее число ересей; античное наследие там не было истреблено; там рядовые воины становились императорами, а многие императоры окончили жизнь в изгнании; на Востоке – это самое важное – никто и никогда не сумел до конца сломить природу человека, – рожденного с правом на счастье, ищущего и действующего.
С Востока на протяжении всего средневековья исходил свет, и мы не без оснований считали европейца варваром. Он недавно, каких-нибудь десять веков назад, осел на своей земле; он сразу уступил свою свободу целому рою мелких властителей, а свою мысль и совесть – одной-единственной церкви. За десять столетий европеец не выучился даже мыться, предоставив сотням построенных Римом великолепных бань медленно разрушаться, – пришельцы не ведали, для чего служат бани.
На протяжении тех же десяти столетий мы продавали Западу благовония, шелк, приправы, книги и ереси, пока наконец, где-то ближе к моему времени, не научили его и мыслить. Именно тогда, после гибели Византии, европеец присвоил наше наследство. Как всякий выскочка, он забылся: натворил такого, до чего никто бы не Додумался. Я говорю не о деле Джема, оно было лишь звеном в самоутверждении и растущей самоуверенности Запада.
Мы же были воспитаны по-иному. Не веру свою ил народность защищаю я – поверьте, уроженец Востока в мое время прежде всего был гражданином мира, он был приучен воспринимать землю как целое и человека как венец ее.
Прочтите наши стихи – ислам отвергал их, однако ни один наш поэт не был брошен в огонь или заточен из-за стихотворения. Наша религия мирилась даже с тем, что человек имеет право на земное счастье, что это счастье есть самоцель и все высшие соображения перед ним отступают.
Я не напрасно занимаю вас этими рассуждениями – мне хочется объяснить противоположность двух образов мышления, особенно ярко проявившуюся в деле Джема. И по сей день – погрузитесь ли вы в сочинения нескольких поколений монахов, описавших эту историю и нашедших ей оправдание, или же в бесчисленные слащавые романы о Зизиме, наводнившие Запад в XVII столетии, – для вас останется неясным, отчего и зачем должен был Джем испытать то, что выпало на его долю. Останется необъясненным его легкомыслие, доверчивость его выглядит ребяческой, а страдания – чуть ли не добровольными. Меж тем все это явилось неизбежным следствием нашего образа мышления, всего нашего представлении о мире. Оно не вмещало в себя ни брата Д'Обюссона, ни черных рыцарей, не было в нем места для полутюрем и полуискренних посланий. Оно исключало возможность так составить смертный приговор, чтобы под ним стояла собственная подпись приговоренного, не позволяло лишить осужденного последнего его достояния – тридцати обезоруженных друзей.
Вот это столкновение Джема с Западом и было главной причиной его болезни.
Есть нечто целесообразное в устройстве человеческого мозга. Когда следующее мгновение грозит привести его к чистому безумию, он выключается сам собой, между ним и действительностью опускается плотная завеса, он продолжает жить своей собственной жизнью, не пытаясь найти для себя пищу в окружающем мире.
Именно это и произошло с Джемом. С того рокового дня Джем порвал с примитивной логикой, удалился в собственный мир, полный безумных помыслов о бегстве, беспочвенных надежд на неведомую помощь и воспоминаний, великого множества воспоминаний. Джем стал грезить о крестовых походах, возглавляемых принцем-мусульманином, о жестокой мести, которой подвергнут черных братьев победители над Баязидом. Хоть и составленные из подлинных лиц и событий, фантазии Джема огорошивали меня – они не желали знать о действительности, они вообще были вне действительности.
Не считайте Джема помешанным, ничего подобного. Он двигался, говорил и рассуждал, как все люди, но его сознание было отгорожено от мира завесой, о которой я уже говорил. Я не приподымал ее, не доказывал Джему, что он грезит. Зачем? Я знал, что только благодаря этому может он уцелеть. Хотя бы телом.
Джем пролежал тогда без чувств долгие дни и ночи, и я опасался за его жизнь. Погруженный в забытье, он десять дней не прикасался к пище. Каждое утро я видел, что он становится все прозрачнее, все худее, черты его лица терялись в зарослях золотистой бороды – мне мерещилось, что она так быстро растет, становится такой густой и жесткой, как у покойников.
Позже забытье сменилось лихорадочным метанием, бредом. Джем говорил прерывисто, то неистово громко, то заговорщицким шепотом; Джем звал Франка – чаще всего Франка, – а также Мехмеда, Хайдара либо же Хусейн-бега; Джем приказывал идти в бой или обращаться в бегство, дерзко препирался с Д'Обюссоном, вел переговоры с Матиашем Корвином. А в иные дни рыдал над трупом Завоевателя или трогательно жаловался матери; Джем клялся маленькому герцогу в вечной дружбе, пел свои стихи о ночах в Карамании и, потешно подыскивая простые слова, разговаривал со своим сыном. Ни разу Джем не вспомнил обо мне, не позвал меня. Словно даже в сновидениях своих чувствовал, что только я один остался рядом и буду рядом всегда, – я стал для Джема частью его самого.
Потянулись страшные для меня дни и ночи. В особенности ночи. Высокая, скудно освещенная свечой сводчатая комната, где за занавесом во мраке крались враги, а пол скрипел, источенный мышами и древесными жучками, заполнялась людьми: через нее проходили все те, кого Джем называл во сне. Легкой поступью входили наши поэты – толпа юных, расточительно-веселых, сияющих красотой юношей, оставленных нами в Конье; проходили караманы с Касим-бегом во главе, суровые и верные, с пятнами крови на холщовых рубахах, – их мы оставили в Сирин, Ликии и Киликии; появлялся маленький герцог, порой верхом, ночные тени делали его старше. Где-то он теперь, маленький герцог? И почти каждую ночь являлся Д'Обюссон – он не проходил, не входил – он просто был тут, вместе с притаившейся в углах тьмой и дыханием ветра…
Удивительно, как я не лишился рассудка, запертый наедине с больным, мечущимся в жестоком бреду, оставленный с глазу на глаз со всем тем, от чего Джем спасительно укрылся в болезни. Вероятно, меня уберегли заботы – я заботился о Джеме тщетно и нелепо, но как утопающий за соломинку цеплялся за ту цель, какую сам поставил себе.
Я не вел счета дням, но однажды под вечер – Джем долго спал спокойным сном, без припадков, я тоже задремал, тихие часы были для меня редкостью, – вдруг услышал:
– Саади, день сейчас или ночь?
Джем произнес это голосом, не оставлявшим сомнений: он возвращался к жизни. Я наклонился над ним, над лицом его, ставшим почти неузнаваемым. Джем тоже изучал себя: провел исхудалой, очень бледной рукой от лба к вискам и оттуда – к подбородку.
– Я оброс, точно дервиш, Саади, – сказал он. – Долго ли я хворал?
Я прижал его к себе, мне не хотелось, чтобы он видел мои слезы. Он исхудал и в то же время был удивительно тяжел. Мне казалось, что море кинуло ко мне в объятия утопленника, которого я долго искал.
– Джем, – сказал я, – мы преодолели и это, Джем…
Однако это не означало, что нам не предстояло новых испытаний. Неделей позже братья уведомили нас, что мы уезжаем. Мы уже не спрашивали о причине, ответ был бы прежний: «Того требует безопасность вашего высочества». Лишь позже узнали мы, что этот переезд был связан с кончиной Людовика и теми опасениями, которые внушал Ордену Карл Савойский.
Когда мы вышли из ворот Рюмилли и к нам подвели коней, я насторожился. Да, предстоящее путешествие не походило на прежние. Не было яркой свиты в расшитых золотом одеждах; Джем поедет не среди своей стражи, под ее возгласы, под игру музыкантов. Несколько месяцев назад эти процессии собирали дворянство всей Савойи – каждый шаг Джема тогда вызывал к жизни песий и стихи.
А в то осеннее утро из Рюмилли двинулся печальный кортеж. Двое чужеземцев в ярких одеяниях молча сели на колей. Выглядели они так, словно оба лишь недавно оправились от тяжкого недуга, болезненно морщились от солнечного света и неуверенно сидели в седле. А вокpуг них – спереди, сзади, сбоку – черные братья. За весь трехдневный путь Джем не проронил ни слова. Мы ехали через всю Савойю, и при мысли, что мы покидаем ее, сердце мое сжималось. Я уже стал привыкать к ее белым скалам и низким колючим кустарникам, к ее редким, истерзанным мистралем рощицам, к ее чистому небу. Здесь мы все же были до какой-то степени своими – вдыхали запах Средиземного моря, а противоположный его берег был уже нашим домом… Здешние холмы немного напоминали местность возле Бруссы – то же самое солнце согревало их. Меня мучило, что мы держим путь все время на северо-запад, неумолимо удаляясь от родных краев…
Путешествие длилось три дня. Нигде не встречали нас, нигде не провожали. Очевидно, братья переправляли нас тайно. В конце третьего дня мы подъехали к какому то замку; спустя две-три недели он сменился другим, затем третьим. Я изучил Дофине так, словно мне предстояло составить его карту. Я шучу – разумеется, не мог бы я ее составить: в памяти от того времени остались не дороги, не замки, не леса и долины. А только лицо, на котором чередовались нетерпеливая ярость, примиренная досада, недолгое просветление и отчаянная, отчаянная мука, – лицо Джема. Вероятно, я выглядел не лучше, но некому было описать меня: Джем всегда был поглощен собой, а дворянство Дофине не уделяло особого внимания какому-то султанову слуге.
Орден повсюду предлагал нам все те же развлечения: охоту, трубадуров, неумеренную еду и возлияния. По собственному почину мы с Джемом разнообразили свою жизнь беседами – по ночам, вполголоса, ибо страх перед братьями стал частью нашей повседневности. По ночам мы погружались в догадки (доходившие до нас известий были более чем скудными, а возможно, и искаженными). Мы строили предположения: что делает сейчас Баязид и каковы намерения Корвина, какие шаги предпримет его святейшество, куда были увезены тридцать наших товарищей, – эти и бесчисленное множество других домыслов разжигали наше нетерпение.
Не спрашивайте, отчего именно нетерпение мучили нас всего более. Это ясно и так. Мы уже отдавали себе отчет в том, что нас обманывают, одурманивая празднествами и пирами. Поначалу, в Ницце, это выглядело естественно: во Францию прибыл турецкий властитель, его встречают, чествуют – прекрасно. Но еще никого не чествовали столь долго, любой чужестранный владетель за это время удостоился бы хоть одной высочайшей аудиенции, подписал бы хоть какой-нибудь документ – договор, соглашение, обязательство. А за семь прожитых во Франции лет Джем не был принят ни одной особой со сколько-нибудь высоким титулом; местные дворянчики ни о чем более существенном, чем вино или охота, с ним не заговаривали; он не получал писем – никаких, ни одного письма!
Раз в году, в апреле, нас, где бы мы ни находились, посещал посол Баязида. Тот же, кто доставлял на Родос годовое содержание Джема. С согласия Ордена он удостоверялся, жив ли еще шехзаде Джем. Эти дни бывали для нас черными днями, мы предчувствовали их приближение за несколько недель; к тому же Баязид стал взыскателен: его посланец не довольствовался – как некогда Хусейн-бег – тем, чтобы издали увидеть Джема. От нас требовали предстать перед ним на расстоянии двух шагов.
В те годы Джем еще глубоко переживал такие часы. Как-никак посланец Баязида был единственным турком, который видел нас, – единственным из будущих подданных Джема. Джем словно бы старался поразить его, подчинить уже своим видом (он ни разу не обратился к нему ни с единым словом). Перед каждым приемом Джем заставлял меня долго и тщательно одевать его; обычно небрежный к своей внешности, тут он взыскательно выбирал украшения, по нескольку раз менял их, пока не находил наиболее подходящие; щурясь, смотрелся в зеркало, удостоверяясь, все ли хорошо сочетается, верно ли подобраны цвета, оттенки и материя, не потеряна ли художественная мера, – в такие часы Джем, казалось, готовился предстать перед живописцем, а не перед каким-то слугой султана.
Вслед за тем мой господин оценивающим взглядом окидывал и меня – разодетого так, словно я был визирем. Под конец – то были странные минуты, и я не могу умолчать о них – Джем приступал к самому трудному: к тому, чтобы привести в должный, по его мнению, вид свое лицо, стереть с него всякое человеческое чувство, повести до полнейшего, величественного бесстрастия. Он казался поистине идолом, а не человеком в эти каждый год повторявшиеся часы.
Обычно монахи раздражали его, но в такие дни Джем требовал их присутствия. Они выстраивались двумя шеренгами на всем его пути, в полном облачении и тоже с застывшими лицами.
Мы шли между этими шеренгами. Лестницы замка часто бывали узкими, никто ведь не мог предвидеть, что они когда-либо послужат для столь парадных приемов, – наши расшитые халаты терлись о рыцарские кольчуги; пол местами бывал покороблен, так что Джем не выступал, а словно подпрыгивал; двери так называемой приемной тоже нередко бывали слишком узкими, чтобы в них могла пройти строем стража султана Джема, и она неловко проталкивалась, издавая металлический звон. Но сам Джем в этих провинциальных замках неизменно являл собой великолепное зрелище.
Я со смиреннейшим видом шел позади него, как и подобает султанову визирю, шел словно вслед за солнцем. Поднявшись на несколько ступеней, Джем останавливался перед наскоро сооруженным троном. Он не садился. Короткое время стоял, бесстрастный и невообразимо красивый в своем невообразимо пышном убранстве. Живой образ владетельной мощи представал перед подданным, ошибившимся в выборе повелителя.
Забавно было наблюдать за этим подданным – впрочем, они каждый год бывали разными. Я видел, как Джем мгновенно ослепляет его и, безусловно, поверг бы ниц, не держись посланец настороже. Не только потому, что Джем был легендой; все еще не померкло прославленное обаяние Джема, оно продолжало пленять и властвовать, несмотря на то, что почти не находило пищи в этих чужих замках, населенных псарями, оруженосцами и в лучшем случае мелкими дворянами, несмотря на одиночество и туманное будущее. Мне кажется, что самой Долговечной чертой Джема было именно его обаяние.
Несколько мгновений мой повелитель как бы купался в восхищении своего пока единственного в этом году подданного. Он уносил это восхищение с собой, по лестницам, переходам и покоям замка; он прятал его у себя под подушкой, чтобы ночами порадоваться на него; захватывал с собой на охоту и прогулки. Когда во время такой прогулки Джем вдруг отставал с мечтательной улыбкой па устах, я был совершенно убежден, что он предается воспоминаниям о том преклонении, упивается мыслью с своих еще не померкших чарах.
Слабое утешение, говорите вы. Справедливо. Но знаете ли вы, что значит неутоленное тщеславие для двадцатипятилетнего баловня судьбы, полного энергии и здоровья? Оно сильнее любого неудовлетворенного чувства, несравнимо ни с жаждой в пустыне, ни с неразделенной страстью, даже со смертью от голода. Сжигающее и всеобъемлющее, оно превращало Джема в факел нетерпения. «Когда же? – восклицала, а порой и неистово вопила каждая клеточка его существа. – Когда же я наконец возглавлю поход, одержу победу и султаном войду в Топкапу! Когда?»
О, как я понимал его! Я, которому свобода не подарила бы ни победы, ни престола, который стремился к свободе как простой смертный и не видел в ней ничего, кроме свободы. Одного этого стремления хватало, чтобы заполнить все мои помыслы, мечты и сновидения. Оно, пожалуй, даже изменило мои жесты, походку настолько, что я от каждого ожидал вопроса: «Ты еще здесь, Саади? А как же свобода обходится без тебя?»
Она обходилась… Где-то (везде, кроме Рюмилли, Монтрей-ле-Виконта, Рошшинара и прочих замков Дофине) мои ровесники жили как мужчины – вели войны, торговали, строили дома, делали долги и детей, а я катался верхом в окружении предупредительных тюремщиков и прибывших по приказу дворян, стрелял зайцев, вечерами слушал пошлые песни о прельщенных девах и наказанных богом злодеях и попивал разбавленное французское винцо. Каких размеров была та бочка, что за столько лет не была осушена, что не иссякла та подкрашенная водица, какой поили меня, любителя кипрского и ширазского вина, густого, как кровь умершего от жажды бедуина!
Ах да, я опять отклонился в сторону. Какими событиями отметить те дни, минувшие для нас без всяких событий? Как описать всех тех дьяволов во плоти, что набросились на нас, дергали в разные стороны и принудили к поступкам, которые вы назовете бессмысленными, а может быть, и смешными?
Итак, мы были в Рошшинаре. Избавлю вас от описания этого замка, к чему описывать все наши пристанища – они были остановками на нашем жизненном пути, поскольку в каждом из них мы оставляли что-то от себя, пока не оказались такими, какими нас произвела на свет мать, – нагими не телом, но духом. Рошшинар был ничем не хуже других – замок средней руки. Владельцем его был командор Авиньона – ведь мы продолжали скитаться от одного иоаннита к другому.
В Рошшинаре нас, естественно, стали одолевать посещениями, устраивать в нашу честь зрелища – я уже не представлял себе дня, не заполненного чем-либо подобным, и начал подумывать, что счел бы благодеянием, если бы однажды поутру меня принялись колотить и колотили до вечера – по крайней мере разнообразие! Тщетно задавал я дворянам Дофине все те же вопросы – спрашивал, как всегда, о Карле. Ответы звучали неопределенно: он пребывал то ли в Шамбери, то ли в Лионе, у родных.
Я чувствовал, что эти ответы растравляют нетерпение Джема, так же как соль – открытую рану. Две надежды еще жили в нас: Карл и Корвин. Карлу за весь год ничего не удалось предпринять. А Матиаш? Отчего все наши посланцы в Венгрию, тайные и явные, словно проваливались сквозь землю, отчего Орден в своих посланиях никогда не упоминал о Корвине?
«Пусть это неосторожно, но следует выспросить о нем, Саади, – решил Джем. – Братья нам солгут, я знаю. Но не побеседовать ли тебе с кем-нибудь из этих дворянчиков или их оруженосцев?»
В Рошшинаре Джемом овладело новое настроение: Джем счел, что пришла пора действовать. Чересчур долго уповали мы на мировые силы. От этого решения, разжигаемого нетерпеливостью, Джема просто лихорадило. Но это все же было терпимее, чем прежние сетования или приступы болезненного отчаяния. Теперь Джем Днем и ночью – чаще всего ночью – изобретал несбыточные планы и подробнейшим образом излагал их мне. Возможно, что они были следствием его болезни (я уже более не считал его вполне здоровым) либо же естественным ответом на все то, что выпало нам на долю или вырисовывалось в будущем. Так или иначе, Джемом завладела мысль о побеге.
– Только бы нам добраться к Карлу, в Шамбери! – шептал мне Джем ночью, когда все кругом, казалось, было погружено в сон, но мы знали, что нас подслушивают. – Карл снабдит нас охраной до границ Венгрии. В этом нет ничего невозможного, Саади!
– Это совершенно невозможно. У магистра и короля самое малое десяток соглядатаев в Шамбери. Через два дня оба узнают, что ты находишься там. Поверь, в их силах принудить Карла! Бегство в Савойю не выход.
– Тогда нам остается добираться в Венгрию самим. Не разубеждай меня, Саади! Что, если завтра у нас отнимут и эту возможность? Отчего не попытаться, Саади? Что потеряем мы? Их доверие?
– Видимость свободы, какой располагаем ныне, Джем. Ты недостаточно ценишь ее. Мы можем навлечь на себя заточение. В самую обычную тюрьму. Без всякой надежды. Сейчас у нас хоть есть надежда…
– Нет и нет! – Джем вспыхивал так, что я пугался, как бы он не заговорил во весь голос. – Время уходит. Быть может, через несколько месяцев Корвин откажется от войны с Баязидом. Минуты дороги, Саади! Нам следует завтра же…
По-разному завершались наши разговоры. Джем приказывал мне либо изучить дороги между Дофине и Венгрией, либо узнать, чем сейчас занят Корвин, как относится французский король к Карлу и прочее.
Я еще ночью обдумывал, о чем буду заводить разговор в течение дня. Хорошо, что я одновременно и сочинитель и певец – привык держаться перед слушателями и мгновенно исправлять любую оплошность. Ехал ли я верхом или прогуливался в обществе местных сеньоров, я не выпускал из рук нитей игры. Чаще всего рыбка ловилась на простейшую наживку: я притворялся пьяным (принято ведь считать, что поэты редко бывают трезвыми) и обрушивал на собеседника поток слов, по-видимому не всегда правильно произнесенных, потому что надо мной посмеивались. Я раскрывал свою душу, мечтания и таким образом вызывал в ответ скудную, случайную откровенность.
Никогда не расспрашивал я о дороге в Венгрию, это было бы чересчур очевидно. Я надеялся, что, если побег удастся – впрочем, мне никогда не верилось в это, – мы отыщем путь по звездам. Но зато я по крупицам собирал вести о событиях в Европе.
Каждую из них Джем встречал восклицанием: «Вот видишь, медлить нельзя! Мы ничем не рискуем: Д'Обюссон не убьет меня, потому что я приношу ему золото. Придумай, сделай что-нибудь, Саади!»
Последовательно я начал действовать весной 1483 года. К этому времени мы уже стали в Рошшинаре своими, у нас постоянно гостили окрестные дворяне, мы познакомились с их свитами и певцами.
Я остановил свой выбор на одном из этих певцов, проникшись к нему доверием, вероятно, оттого, что оба мы служили одному и тому же божеству. Он был молод, но уже прославлен, его песнь о заточенном в темницу Ричарде Львиное Сердце положительно была лучше всего, что мне довелось слышать. Привел его к нам владелец Монтрей-ле-Виконта, брат магистра Д'Обюссона.
Едва певец запел, как мне пришел на память наш Хайдар, поэт-селянин. Сразу было видно, что этот юноша рожден не среди знати, даже не среди приближенных, – у него не было благородных манер, но в песне его было нечто подлинное: вдохновение. Неловкий, смущенный, пока его представляли нам, Ренье (так звали певца), стоило ему запеть, не только избавился от смущения, а словно забыл обо всем. Я видел, что он не замечает нас, весь отдавшись своему творению, и чувствовал, как он совершенствует его во время пения, и эти маленькие, неожиданные находки – слова, новые образы – возносят его еще выше над миром, который был ему чужд.
Я смотрел на Ренье – уже не слушал, а только смотрел, погрузившись в горестные воспоминания: некогда, до того как Джем открыл меня, я тоже так пел. Некогда я впервые запел так перед Джемом, чем и заставил его предпочесть меня всем когда-либо слышанным певцам. И это предпочтение – назовите его любовью, если угодно. – убило во мне певца. Я понял это в тот час, когда слушал Ренье. Моя мысль и душа уже не могли воспарить, долгие годы не испытывал я того великого мукой и блаженством мгновения, того напряжения и легкости одновременно, которые и есть вдохновение. Я был прикован к земле, ибо на земле жил и страдал человек, любимый мной. Я был его собственностью.
Да, я смотрел на Ренье и видел, как он завладевает нашими тупицами из Дофине. «Искусство не нужно понимать, – размышлял я, – лишь немногие поднимаются до него. Но искренность воспринимается каким-то неназванным чувством, и, если ты сумеешь его затронуть, ты победил!»
И вообразите, до чего я дошел – я, поэт Саади: когда Ренье кончил петь и удалился, я последовал за ним, но не заговорил на общем для нас обоих языке, не излил свою боль оттого, что поэт во мне умер, а с пошлостью, присущей тому, в кого я превратился – незадачливого политика, – сразу же попытался пробудить в нем сострадание к Джему.
– Своей песней, Ренье, вы вызвали у меня слезы, – пошло сказал я, и поэт во мне действительно рыдал от стыда.
Певец взглянул на меня, прикидывая, чего я стою.
– Я рад, – сказал он. – Очень рад, что вызвал у вас слезы.
Это не смутило государственного мужа, каким я стал.
– Возможно, у вас (насколько я понял, ваше вдохновение ищет героических узников) сложена песня и о Джеме. Отчего вы не исполните ее перед нами?
– Оттого, что у меня нет такой песни. Вероятно, я первый трубадур, певший перед Джемом не о Джеме. Знаете, – вы ведь Саади, не так ли? – я считаю, что поэт должен избегать близости с тем, кого он воспевает. Так для него лучше.
Разговаривая, мы пересекли двор. Ренье шел, чтобы получить свой ужин вместе с псарями и сокольничими. А я сопровождал его, что было совсем недостойно для первого вельможи при особе почти султанского звания.
Ренье заметил мою оплошность. Он остановился перед дверью в поварню и некоторое время пристально смотрел на меня.
– Я знаю! – внезапно сказал он, снизив голос, чтобы никто, кроме меня, не слышал. – Знаю о том, сколько пролито вами слез и какие песни нужны вам. Сдается мне, что я знаю гораздо больше, чем вы, Саади. Потому что я – на воле. Вся Европа сейчас, судит и рядит о свободе или заточении Джема. Но они потолкуют и забудут, как было с Ричардом Львиное Сердце, так ведь?
Я сообразил: Ренье не ждет, пока я догоню его, он сам бежит мне навстречу. Я призвал на помощь всю свою отвагу – упустить такой случай было нельзя.
– Зачем же ждать, пока забудут, Ренье?
– Ого-о! – протянул он и засмеялся. – А если я подкуплен братьями?
– Нет! – отчаянно возразил я (подобный разговор грозил мне смертью). – Ты не стал бы петь перед Джемом песню о Львином Сердце и не спел бы ее так…
Разумеется, я пес вздор. Но именно в эту минуту улыбка сбежала с лица Ренье.
– Я согласен, господин. Завтра я буду приветствовать пробуждение султана Джема песнями Эльзаса. Я мог бы петь ему и во время охоты, у меня много хороших охотничьих песен.
Иначе говоря, на другой день во время охоты я и Ренье поговорили по-мужски. Не думайте, что этот певец был заговорщиком, что его кто-то подослал. Он просто любил маленького герцога – Карла любили все трубадуры Франции – и хотел обрадовать его. Кроме того, я подозревал, что Ренье испытывает ненависть к братьям, она сквозила в его словах. Так никогда я и не узнал, имелась ли на то иная причина, помимо извечной вражды между поэтами и монахами.
Так или иначе, Ренье пообещал, что у маленького мостика в лесу нас будут ожидать две лошади и по узлу с одеждой, и указал в самых общих чертах, в каком направлении надо двигаться.
– Глупо направляться в Шамбери; еще глупее – ехать на восток. Спускайтесь напрямик к морю, но не в Савойю. Направляйтесь к устью Роны. Или к Мавритании, если хватит сил. И ищите корабль, который перевез бы вас на тот берег.
– В Каир? – изумился я. Мысль о бегстве в Египет не приходила нам в голову.
– Каитбай находится в войне с Баязидом. А Корвин уже несколько месяцев как заключил с ним мир.
– Мир между Баязидом и Корвином? – Эта весть просто сразила меня.
– Да, любезный друг. Не рассчитывайте на венгерского короля. У него иные планы.
Ренье отъехал, предупредив меня, чтобы мы ничего не предпринимали до тех пор, пока он не покинет Рошшинара, и этим опять напомнил мне Хайдара – тот тоже все делал обдуманно. Я никак не мог собраться с мыслями – менялись все наши замыслы, наши пути, виды на удачу. В самом деле: мы дождались заключения мира между Баязидом и Корвином, не последует ли за этим другой мир – между Турцией и Египтом?
«О милосердный аллах! Пусть лучше завтра ночью нас убьют на месте, если побег не удастся! – подумал я. Все невыносимей становилось мне находиться вместе с Джемом в центре игры, ведущейся двумя мирами! – Пусть завтра наступит конец, какой угодно, но конец…»
Шепотом поведал я Джему о своих переговорах и обещании трубадура. В темноте – мы притворялись, будто уже спим, – рука Джема коснулась моего лба. «Благодарю тебя, Саади! – произнес он также шепотом. – Я знал, что ты что-нибудь предпримешь».
Мы решили ускользнуть в тот час, когда пиршество подходит к концу, трезвые дремлют, а пьяные буйствуют и не разобрать, кто уже отправился спать, а кто вышел по своей надобности. Конечно, в этот час всего естественней заподозрить попытку к бегству, но мы по неопытности избрали именно его.
Мы испытали все то волнение, какое присуще новичкам. Во время ужина Джем притворялся более захмелевшим и более возбужденным, чем когда-либо, а я упорно изображал необыкновенную сонливость. Нам казалось, что это выглядит убедительно, по крайней мере никто ничем не намекнул, что это не так. Было уже достаточно поздно, когда мы с Джемом выскользнули в разные двери, встретились во дворе и пересекли его под покровом самых синих из ночных теней. Будет выглядеть вполне естественно, рассчитывали мы, если, проходя через поварни (и тем самым минуя крепостные ворота), мы слегка ошибемся дорогой. Так мы и сделали. В поварне Джем на пьяный лад окатил меня водой – чтобы прогнать сон, как объяснил он слугам. Пока все шло как надо. За стенами крепости была кромешная тьма, Рошшинар отбрасывал густую тень; затем начинался почти отвесный овраг, на дне которого протекала река, а за оврагом лес.
Мы шли, спотыкаясь, затаив дыхание, скользили по топи, увязали в илистом дне речушки. До мостика. Там нас и впрямь ожидали две лошади. И к каждому седлу был действительно приторочен узел с одеждой.
– Переоденемся позже, когда начнет светать! – прошептал Джем. – Скорее, Саади, заклинаю тебя! Скорее!
Я и без его заклинаний лихорадочно торопился. Лесные тропки мне были знакомы, мы проезжали здесь во время каждой охоты. Я тихо направлял лошадей, вздрагивая при каждом звуке, выбирая кратчайший путь к равнине.
Благодарю тебя, аллах – тебя, не пожелавшего, чтобы наше бегство увенчалось успехом, – за подаренный тобою краткий миг езды по открытой равнине! Она вдруг сверкнула перед нами, она светилась, несмотря на ночь, – после двойной тьмы лесной чащи мы увидели в ней образ давно забытых степей.
Мы пустили коней вскачь. Джем понукал их торжествующим гиканьем, если можно назвать гиканьем громкий шепот. Я прильнул лицом к шее моего коня, довольно низкорослой дешевой лошаденки, чувствуя себя растроганным до слез. Чуть впереди ехал Джем – снова ловкий, снова ликующий Джем, – он сидел в седле немного странно: не пригибаясь, словно хотел вобрать в себя побольше ветра и ночной прохлады. Мы забыли обо всем, и не знаю уж, как долго скакали наугад. Потом Джем остановился. «Сверься со звездами, Саади. В какой стороне Шамбери?» (В суете я даже не сказал ему о том, что, пока мы пировали в замках Дофине, соотношения в мире переменились и нам придется пробираться в Каир, а не в Савойю!)
Я тоже остановил коня. Пока я собрался ответить, наступила ненадолго тишина – топот наших коней не заполнял собою ночи. И в этой тишине я услыхал совсем близко другой конский топот. Не восемь копыт, больше. Нет, то было не эхо. За нами гнались, нас настигали.
Каким страшным было в ту минуту лицо Джема! Так, наверно, выглядят лунатики, если их внезапно разбудить. Застывшее, мертвое, опустошенное. Тем временем погоня настигла нас, окружила кольцом. Мне казалось, что сопят не кони, что это монахи злорадно сопят в свои бороды, выражая свое презрение к нами свое превосходство. Именно с превосходством обратился брат Антуан Д'Обюссон к Джему:
– Ваше высочество заблудились во время ночной прогулки. Рошшинар находится гораздо левее.
То была первая наша попытка. За ней последовали другие – не помню уж сколько, – более зрелые, более хитрые. Однако перехитрить Орден нам не удалось ни разу.
Показания Батисты Спиньолы, лица без определенных занятий, о событиях осени 1484 года
Насчет неопределенных занятий – это неверно. Все знали, что есть у меня занятие. Как не знать? Но вижу, вам тоже охота соблюсти приличие, так я и думал. Мир ни в чем не переменился с моих времен, ни на йоту. Так вот, значит…
Зовут меня Батиста Спиньола, родом я из Генуи. Генуэзцы в наши времена были по большей части мореходами. Мореходы-то мореходы, но это вовсе не значит, что все на один лад. Были среди них и богатеи, и совсем мелкий народишко, еле-еле зарабатывавший на кусок хлеба. А посередке – самые что ни на есть отчаянные, вроде моего приятеля Христофора Колумба, к примеру, который позже прославился, хотя был ничем не лучше меня.
Отец мой, вечная память ему, оставил мне в наследство штаны да рубаху, только и всего добра. Мотаться по морю от Генуи до Каира, Марселя или Мальты за полдуката в год мне не больно улыбалось, и взялся я искать выход разными другими способами, которые я тут перечислять не стану. Короче, к 1480 году я вроде бы уже встал на ноги, так что моими услугами пользовались и люди видные – богатые купцы, мелкая знать и прочие.
Вы спросите, о каких услугах речь, но я объяснять не стану, потому что были они по большей части не для огласки. Да и неохота ворошить дела, за которые я получал плату дважды: сначала – чтобы их обделать, потом – чтобы помалкивать. Поверьте, во все времена большие люди нуждаются в таких, как Батиста Спиньола, ваш покорный слуга; черная работа достается нам, а пеночки снимать – им.
Ближе к делу. В 1484 году – я тогда был в Марселе, продавал крепостных баварского князя за египетские червонцы (султан Каитбай предпочитал иметь светловолосую стражу) – приходит ко мне один незнакомец. Говорит, что послан герцогом Эркуле Феррарским, в подтверждение показывает его печать.
Насчет Эркуле, если вам интересно, могу сказать, что второго такого бандита не сыскать и в преисподней. Правда, в наше время особой разницы между разбойниками с большой дороги и господами не было. Я, во всяком случае, не замечал. Но в Италии расплодились совсем уж оголтелые разбойники из числа господ – непрестанные войны довели их до такого разорения, что приходилось как-то покрывать свои расходы, вот они и пустились грабить средь бела дня. Буколини, к примеру: никто не знал, откуда он взялся, а он подступил с осадой к Озимо, порту под Анконой (сама-то Анкона принадлежала святому престолу), занял его и в том же 1484 году принялся искать, кому бы его сбыть. Продавал порт за деньги, вот вам крест! Или же Медичи – нет, не Лоренцо: властитель Флоренции был человеком почтенным и уважаемым, несмотря на войны, которые он вел против святого отца. Я о другом Медичи, корсаре по ремеслу. Тот завладел Хиосом, уже принадлежавшим султану, силой оружия правил там и собирал дань. Я хочу сказать, что в наше время не было резкой границы между корсаром, разбойником и князем, все друг дружки стоили. Теперь, вы говорите, разница есть. Прекрасно.
Так вот, герцог Эркуле был чистой пробы бандит. Кто бы ни вздумал сотворить в Италии какую-нибудь пакость – начать войну, набрать наемников, завладеть каким-нибудь селением или горным перевалом, – обращался к герцогу Феррарскому. И тот не отказывался. А проворачивал дела по большей части руками нашего брата. Поэтому, когда меня отыскал в Марселе тот субъект, я понял, что пахнет большими деньгами – раз названо имя Эркуле Феррарского.
Незнакомец предупредил меня, что дело из самых что ни на есть секретных. Конечно, припугнул: мол, ежели захотят меня убрать, я и охнуть не успею. И зря: наш брат умеет держать язык за зубами. Велел ехать с ним в Феррару. Герцог, мол, желает лично говорить со мной.
Оставил я своего напарника (тоже генуэзца) торговать баварцами и двинулся в путь-дорогу. В Ферраре меня приняли сразу, Ну, герцог-то этот, не в пример другим важным особам, улаживал такие дела самолично, с глазу на глаз, поэтому когда за что брался, то все у него ладилось.
Что вам сказать о герцоге? Человек как человек. Только разговор у него был крутой, словно вот-вот пустит в ход кулаки. Любил, чтобы его понимали с полунамека. Итак, совсем вкратце, Эркуле сообщил мне, что надо устроить похищение того султана, о котором шло столько разных толков.
Не ожидал я, что дело будет такое рискованное. Все говорили, что святые братья какого-то там ордена стерегут султана пуще глаза. Как он себе это представляет, герцог-то?
Я так прямо его и спросил: как он себе это представляет?
– Да кабы я это себе представлял, зачем бы я стал тебя, дурака, звать? – Я не вру, вот таким манером он обходился с людьми. – Не требую от тебя ответа ни сегодня, ни завтра. Поразмысли, потолкуй со своими парнями. Но только если возьмешься, так уж изволь сделать, ясно? Иначе будешь иметь дело не с какими-то там купцами из Генуи или баварскими князьками.
– Платить кто будет? Венецианский дож? – попробовал я что-нибудь из него выудить. В наше время в Италии самые крупные сделки такого рода оплачивали венецианцы. А с ними шутки были плохи – что верно, то верно.
– Ха, дож! – ощерился Эркуле. Вот и все, что я из него выудил. – Возвращайся в Марсель, приготовь там все и сообщи мне цену!
Я вдруг расхрабрился. Раз Эркуле обратился ко мне, значит, в других местах у него не выгорело. И взваливал он на меня не кого-нибудь, а султана, которого стерегут монахи… Мы уже были наслышаны, что тот султан – самая крупная сделка века, крупней не придумаешь. Это что же выходит? Я стану рисковать головой, а мне даже не соизволят сказать, кто платить будет, а? Мы, дескать, люди темные, и нечего вопросы задавать. Э-э, нет!
– Хочу знать, кто платит, – сказал я, сам на себя дивясь.
Эркуле остановился – до этого во все время разговора он прохаживался взад-вперед – и глянул на меня так, будто сейчас разорвет на куски. Потом хохотать принялся:
– Хочешь знать, а? Ну, знай, так и быть! Все равно тебя прихлопнут прежде, чем успеешь рот открыть. Платят двое: король Матиаш и маленький герцог. Дурак ты, иначе предпочел бы не знать – может, тогда и унес бы' ноги в целости.
– Мы, ваше высочество, молчать умеем, – с достоинством ответил я. – И когда же упомянутые особы намерены заплатить?
– Как водится. Когда дело будет сделано.
– В такую игру мы уже играли. Вместо платы всадят тебе нож в спину. Нет, не приступим к делу до тех пор, пока в какой-нибудь римский или флорентийский банк, это по вашему усмотрению, на имя Батисты Спиньолы не будет внесено сто тысяч дукатов. Только так.
– Сколько же вы думаете всего содрать? – Герцог опять хохотал, весело ему было.
– Это мы прикинем. Наши расходы и сколько причитается за работу. Разницу получим, когда будем передавать султана. Больше десяти тысяч я себе в карман не положу, святой крест!
– Э-э, твои клятвы!.. – процедил Эркуле. – Известно ли тебе, что султан Баязид со всей своей империи собирает в год сто тысяч дукатов? А ты за одну ночь возьмешь столько же.
– Не возьму, а раздам, – поправил я. – Ваше высочество мои расходы берет в расчет или нет? Да мне придется нанять самое малое десятка три отпетых головорезов.
– Отпетые стоят дешевле, – вслух произнес герцог, сам прикидывая кое-что в уме. Я вам объясню, что он прикидывал: как содрать с Корвина и Карла тысяч по двести – двухлетний доход огромной империи, – чтобы и мне хватило, и ему, герцогу, досталось. – Не услышу ли я более разумный ответ?
– Нет, ваше высочество. Спросите кого хотите, султану такая цена. Не бойтесь, они заплатят, сами-то на этом втрое больше заработают.
– Ладно, отправляйся восвояси! – закончил разговор Эркуле. – Я передам, сколько ты просишь.
И я опять поехал в Марсель, по дороге обдумывая, кому поручить это дело. Остановился на своем напарнике – я ведь его в сотоварищи не случайно взял. Стреляный воробей. Я подобрал его на улице и держал в руках благодаря делишкам, за которые он враз угодил бы на дыбу, надумай я проболтаться…
Я нашел его в Марселе, баварцев он уже отправил в Каир, отсчитал мне денежки – с расчетами у него всегда был полный порядок. Рассказал ему о предстоящем деле, и он за одну ночь собрался в путь. Решили мы, что он поедет на север и разведает, в какой крепости сейчас стерегут султана, – это было нетрудно, слухом-то земля полнится. Потом следовало ему каким-то образом добраться до людей султана и сообщить им, что венгерский король подготовил побег. Пусть обо всем с ними уговорится и возвращается назад. Тогда уже мы известим герцога Эркуле, удостоверимся, что деньги в банк внесены, и с божьей помощью провернем дельце.
Мое участие во всей этой истории не было решающим: по сути, Эркуле через меня, поскольку у меня было имя в уголовном мире, поручал всю работу моему напарнику Джованни. Поэтому, хоть для вида я с Джованни и поторговался, я понимал, что просит он недорого: тридцать пять тысяч. На этой цене мы и сошлись. Я знал, что по ходу дела эти тридцать пять превратятся по крайней мере в пятьдесят, такой уж это был тип: умел требовать и настаивать и каждое утро сообщать, какие еще появились расходы. Но и пятьдесят тоже было недорого.
Короче говоря, в конце сентября Джованни двинул на север, ведя за собой трех навьюченных коней, – он вез книги: по слухам, султан покупал книги, надо было принять безобидное обличье.
Я ждал Джованни и очень за него тревожился, потому как известно, что братья любого ордена и не слепцы, и на расправу люты. В то самое время навестили меня два человека, каждый по отдельности. Одного звали Цезарь Валентин, и говорил он на нашем языке плоховато. По его словам, был он послан королем Венгрии, интересовался, продвинулось ли дело. У него я ничего не выудил – деньги, сказал он, под конец. Но я понял, что король сгорает от нетерпения, и обрадовался: стоит нам выкрасть султанишку, тогда-то уж мы поторгуемся! Если, конечно, удастся надежно его спрятать.
Второй гость был Пьетро Великомученик из Мантуи, давнишний мой знакомец. Прозвали его так потому, что за один крупный грабеж он провисел двое суток на колесе, резали его, жгли, шкуру сдирали (ясно, не всю), а он очухался, и тогда его взяли да помиловали. Так вот Великомученик явился от имени Карла Савойского. «Видать, Карл тоже не прост, – подумал я. – Иначе разве доверился бы он Великомученику, который собственную мать продаст и спит с родною сестрой?» Знаете, хоть нас всех, скопом, считают мерзавцами, но и среди нас есть порядочные, а есть мразь.
Великомученик долго расспрашивал, как обстоит дело, потому, мол, маленький герцог не спит и не ест от тоски по своему обожаемому дружку и не успокоится, пока не увидит его на воле. Но, заметил я, больно уж Пьетро до тонкости выпытывает, как, когда да где, так что взяло меня сомнение, не задумал ли он чего: к примеру, самому устроить султану побег да спрятать его, чтобы сбыть подороже. Потому постарался я поскорей спровадить его. Он все-таки выудил у меня два дуката – денег, говорит, нету на обратную дорогу в Савойю.
Я уже начал опасаться, что Джованни попал в западню и потребуется искать нового напарника, но тут – уже декабрь был на исходе – он вернулся. В эту пору года в Марселе чистое свинство: мистраль не дует, а просто убивает наповал, и порт целыми днями пустует – люди забиваются в подвалы, чтобы не свихнуться от воя ветра. Я тоже сидел так в затишке и вдруг слышу голос Джованни. Обрадовался я ему несказанно, а то мне уж начало мерещиться, что не вытанцуется наше дело.
Джованни было не узнать. В шубе из волчьего меха, а прочее – я в этом толк знаю – из фландрской шерсти. Отрастил длинную бороду, на руках перчатки и даже перстень.
– Ого! – сказал я, после того как мы обменялись приветствиями. – На широкую ногу живешь! Прожираешь на корню венгерские денежки?
– Не, – отвечает. – Денежки султана Джема.
– Неужто сумел с. ним переговорить?
– Это была бы глупость. – (Я заметил, что Джованни ужасно важничает, голытьба несчастная!) – Я говорил с Саади. Полюбуйся! – Он протянул мне руку. – Эту Руку целовал Саади, первый вельможа султана Джема.
– О чем же вы уговорились?
– Дай сначала хоть перекусить, любезный мой сотоварищ! – осадил меня Джованни, снимая шубу. – Сначала накорми, напои, а уж тогда…
Я обрадовался. Джованни мог корчить из себя хоть купца, хоть князя, но я знал: стоит ему напиться, как он распустит язык и выложит всю подноготную. Сели мы за стол, Джованни и говорит:
– Ну, – говорит, – Батиста, кончили мы бедовать! Купишь ты, Батиста, не один корабль, а пять, а я, может статься, и целых двадцать куплю! И вернемся мы в Геную разодетые как картинка, генуэзцы подохнут от зависти!
– Ну, ну! – сказал я. – Не так шибко!
– Чего «не так»? – возражает Джованни. – Все уже готово. Как я пробрался в Буалами (султана недавно перевезли туда) – о том не расскажешь. В Буалами я сошел за книгоношу, и трое братьев во все глаза глядели, какие книги я вынимаю из ящика. Ну, в первый день ничего мне сделать не удалось, но я притворился, будто у меня корчи, и заночевал в селении. Потом подкупил одного паренька, чтобы устроил мне встречу с Саади, – он при султане единственный турок. Саади пришел в селение вроде за какими-то целебными травами, мы встретились, и я пересказал ему все, о чем мы тут говорили. И про венгерского короля, и про Карла. Сказал, что тридцать верных людей поклялись на кресте вызволить султана из заточения. Саади кинулся руки мне целовать – видать, у них обычай такой, – а я велел ему спросить у своего хозяина, когда и где. Саади ответил, что второй раз ему вряд ли удастся незаметно выйти из крепости и потому лучше уговориться сразу. Мы и уговорились. На другой день мне полегчало, и я двинулся в обратный путь. Вот оно как, Батиста.
От меня не ускользнуло, что Джованни утаил самое важное: о чем они уговорились. Возможно, он хотел оттеснить меня, выслужиться перед герцогом Эркуле, место мое занять.
– О чем же вы уговорились? – спросил я.
И понял, что Джованни вовсе не так уж захмелел. Он подморгнул мне и, как хозяин, положил руку на плечо:
– Много будешь знать, скоро состаришься, Батиста. Придет срок – узнаешь!
Я скинул его руку со своего плеча. Голытьба! Христарадник! Я ему хлеба дал, а он передо мной нос задирать!
– Ты, братец, помни, – обрезал я его, – что деньги внесены на мое имя. Никто сроду не слыхивал о каком-то там Джованни.
До него наконец дошло.
– Шуток не понимаешь, – сказал он. – А коль не понимаешь, так слушай: в Буалами, говорят, есть подземный ход к реке, она внизу, в овраге. Ход этот потайной, в былые времена им пользовались при вражеских осадах. Саади сказал, что один слуга, очень полюбивший султана (это Саади так говорит, а дело, наверно, не в любви, а в деньгах), им этот ход показал. Но они с султаном не решались, говорит, через тот ход выбираться, потому, говорит, что несколько раз пробовали бежать и каждый раз срывалось. Не было никого, кто бы ожидал их и переправил дальше. И порешили оба эти турка, что без помощи извне им не выбраться. Потому он мне руки и целовал – давно, говорит, дожидаемся, когда кто-нибудь приедет к султану. Саади объяснил, куда этот подземный ход выходит; десятого февраля посреди ночи мы с нашими людьми должны быть там.
– Куда же он выходит? – прижал я его к стене, чтоб не юлил.
– Ну, это уж тебе ни к чему знать. Там ведь я буду, не ты, верно? Если взяла охота поездить, чего ж ты сам не прокатился в Буалами?
Я только вздохнул. Джованни был на двенадцать лет моложе меня, а ростом выше на целую голову. Не годился я ни для драки, ни для похищений султанов в зимнюю пору. «Ладно, – утешал я себя, – у него в руках султан, у меня – денежки. Как-нибудь сторгуемся».
На другое утро я повел своего жеребца – за повод вел, потому что из-за ветра боялся сверзиться, – и двинул в Феррару, размышляя о том, как много потеряют некоторые люди, если на меня по дороге нападут разбойники – настоящие, не такие, как герцог или Джованни. Но обошлось, никто на меня не напал. Я миновал Касис, Чиотту и Ниццу – за три года до того, вспомнилось мне, именно здесь разыгрывались великие торжества по случаю прибытия того турка. Потом расстался с морем и в три дня добрался до Феррары.
В этот раз мне очень долго пришлось дожидаться в прихожей герцога. Ввели меня к нему лишь под вечер, так что беседа шла при свечах. Герцог Эркуле был в толстом халате, отчего казался в ширину таким же огромным, что и в высоту. Как и в прошлый раз, он метался по комнате, точно дикий зверь.
– Ха! Синьор Батиста?! – расхохотался герцог, увидев меня. – Как дела, синьор?
– Осмелюсь доложить, прекрасно. Все готово, ваше высочество. Мы просим у короля Матиаша – сверх тех денег, о которых договорено, – четыре смены лошадей, по три лошади в каждой.
– Почему по три?
– Для обоих турок и для моего человека.
– А зачем четыре смены?
– Мы рассчитали путь от Буалами до Феррары.
– На какой же день?
– На десятое февраля, с вашего позволения. Если я удостоверюсь, что уговоренная сумма уже в банке.
– Знаете ли, синьор Батиста, – заговорил герцог после того, как убедился, что я не вру. – Возникло небольшое затруднение. Король Матиаш отказывается оплачивать столь дорогостоящий побег. Он считает, что дело это не до конца верное, и он прав.
– Получит султана, если заплатит деньги, – ощетинился я. – Никто у него не просит денег вперед.
– Да, я это и сказал Цезарю Валентину. Но остается вопрос о цене.
– Кто торгуется, ваше высочество, – король Матиаш или кто другой? – вскипел я. (Наш брат может и без церемоний: это мы нужны важным господам, а не они нам.) – Уж больно через много рук проходит это дело, больно много примазалось посредников.
– Торговался король Матиаш, синьор, и никто другой, – с ехидством ввернул герцог; любил поизмываться над людьми, вечная ему память. – Кабы только торговался, вы бы ему свечу во здравие поставили. Король Матиаш просто-напросто отказался.
– Что?! – Я не верил своим ушам. – Столько трудов положили, жизнью своей рисковали. Ну, этот, Джованни-то…
– Вот так. Отказался. Он рассчитывал, что все дело обойдется ему тысяч в десять.
– Пускай сам похищает султана за десять тысяч! – а не помнил себя. И вдруг меня словно огнем опалило: – Когда вы узнали об этом, ваше высочество?
– В октябре. В середине октября примерно. Почему вы спрашиваете, синьор?
– Потому что вы могли каким-то образом известить рас, ваше высочество.
– Не догадался. И потом я был уверен, что вы прибудете сами.
Не помню, как я вышел из герцогского дворца. Увидел, что держу в руке небольшой кошелек, и вспомнил, что Эркуле на прощание сказал: «За молчание». Не за молчание это было, можете мне поверить! Просто герцог предвидел, что мы можем опять ему понадобиться, и не хотел расставаться по-плохому – известно, что наш брат злопамятен.
Чуть не плача шагал я по темным улочкам Феррары. Мне даже стало жалко Джованни, который в мечтах уже видел себя богатым и знатным, которому целовал руку некий Саади; а больше всего разбирала меня жалость к самому себе: я же рассчитывал обзавестись собственными судами, чтобы уплыть из уголовного мира Генуи и Марселя.
Не было ли мне жаль султана Джема? Нет, не было.
Вторые показания Джона Кендала, туркопельера Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, о событиях с 1485 по 1487 год
К 1485 году дело Джема так осложнилось, что уже трудно было направлять его и даже за ним следить. Верно предположил брат Д'Обюссон еще в 1482 году: Джем стал главным козырем в международной политике. Короче, в указанные годы цена на этого злосчастного претендента на турецкий престол так подскочила, что вряд ли когда-либо и где-либо имело место нечто подобное.
Мы, мнимые собственники этого живого клада, сидели на Родосе, получали донесения от своих соглядатаев в Неаполе, Венеции, Иль-де-Франсе и Константинополе, сортировали и просеивали их, подсчитывали свои доходы и потери в деле Джема и все с меньшим успехом пытались воздействовать на ход событий. Судьба Джема уже решалась в сферах, находившихся гораздо выше нас. Неизмеримо выше.
Наиболее тяжким обстоятельством в международной жизни 1485–1487 годов (подчеркиваю, для нас) было вмешательство Турции. До Мехмеда Завоевателя османы оставались пришельцами, с коими никто не имел и не желал иметь ничего общего. Дело Джема многое изменило. Часть западных государств уже вступила в переговоры с султаном, и Баязид принял на себя обязательства по отношению к некоторым из них, чтобы обеспечить заточение своего брата; уже наметились некоторые обоюдные выгоды. И тотчас же началось состязание: кто кого обгонит в этом направлении.
В те годы, о которых я говорю, крупные европейские государи, с одной стороны, вели переговоры с Папством о крестовом походе против Баязида, а с другой – поддерживали с тем же Баязидом связи, осведомляли его о намерениях папы и заверяли, что не допустят такого похода. Одному богу известно, в чем эти мирские властители были более искренни: в своем желании положить конец турецкой угрозе или в стремлении зажить с турками в мире ко взаимной выгоде.
Быть может, только Папство и Матиаш Корвин не вели в те годы двойной игры – они единственные ничего бы не выиграли от мира с Турцией. Но зато ни папа, ни Корвин не были заинтересованы в согласованных действиях – каждый настаивал на том, чтобы единолично возглавить поход, дабы не уступить другой стороне славу и добычу.
Таким образом, два указанных года были заполнены борьбой Иннокентия VIII и Матиаша Корвина за Джема. А фоном для их действий служили непрерывные переговоры остальных государств с врагами Турции и с самой Турцией.
Как мы и ожидали, дело Джема накалило воздух над всей Европой, были пущены в ход неслыханные средства, поставлены на карту интересы крупнейших властителей. Сам Джем (в сущности, мало кто знал, как он выглядит, никто не воспринимал его как живое существо с определенной судьбой, собственной волей и намерениями) уже негласно превратился в некое общее достояние.
Я уже говорил вам о том, что мы согласились передать Джема Иннокентию, ибо предложенные им условия удовлетворяли нас. Папа обратился с требованием к Карлу VIII, точнее, к королевскому Совету, управлявшему Францией до его совершеннолетия. Совет на это требование ответил туманно: мол, путешествие Джема – когда так много сторон, и в особенности Баязид, заинтересованы в том, чтобы похитить его, было бы нежелательным. Совет давал понять, что для безопасности подобного предприятия необходимы огромные деньги. В ответ на что Папство тотчас умолкло, ибо момент для напоминаний о деньгах был самый неподходящий.
Итак, Иннокентий VIII вышел из игры, и она, возможно, заглохла бы надолго, если бы в нее не бросился очертя голову Матиаш Корвин. Я лично присутствовал – в качестве наблюдателя Ордена – при этой выматывающей истории и могу вам подробно о ней рассказать.
Началась она весной 1486 года. Нам стало известно, что Матиаш Корвин, воспользовавшись тем, что турки приостановили военные действия, решил завладеть Джемом. Известие звучало неправдоподобно, но мы сообщили о нем Риму и Венеции. Хотели предостеречь соперников Корвина в деле Джема. Несмотря на равнодушие, с которым нам ответили, мы догадывались, что Рим и Венецию охватила паника. Папа боялся, как бы Корвин не похитил Джема и тем самым не нанес урон авторитету святого престола. А испуг Венеции был еще более объясним: война тяжко отразилась бы на ее торговле с Левантом. Таким образом, не прибегая к прямому предательству, мы сделали так, что султан Баязид был обо всем осведомлен.
Но зато Матиаш на наши подспудные действия ответил открытым ударом, какой будет помниться долго: он направил во Францию посольство почти из тысячи человек. Слыхали вы что-либо подобное? По дороге посольство должно было заехать в Милан, чтобы условиться о помолвке между сыном Матиаша и Бьянкой Сфорца. Хитро придумано: таким способом король Матиаш (привлекая себе в союзники герцога Миланского) вклинивался между итальянскими державами. Короче говоря, еще более затруднял и без того трудное положение Папства в деле Джема.
После того как мы узнали об удачном ходе венгерского короля, пришлось и мне отправиться в Италию дабы настигнуть там венгров и в одно с ними время явиться ко французскому двору. Хотя цель моей миссии была весьма прозрачной, венгры должны были со мной считаться. Как-никак я особа духовного звания.
Я прибыл в Милан, когда торжества по случаю помолвки были в разгаре. Огромный дворец семьи Сфорца – неприступная крепость и вместе с тем уютнейшее из известных мне жилищ – занимает пространство, на котором может разместиться целое селение. Он был разукрашен весь, вплоть до зубцов крепостных стен. Вечерами в его просторных внутренних дворах шли танцы и пиршества, на которых я встречал многих видных итальянских аристократов. Далеко не всех, разумеется, ибо Италию продолжали раздирать войны. Непристойной выглядела роскошь этих торжеств на исхудалом, оборванном теле Апеннинского полуострова. Семейство Сфорца было, подобно флорентийским Медичи, арбитром в итальянских делах. Брак Бьянки с Яношем Корвином придавал еще больше веса их дому.
В один из бесчисленных этих вечеров я был представлен герцогу Гаэтано. Он полностью совпадал с тем образом, который я себе нарисовал, – неуклюжий, дородный, ничуть не похожий на тех неспокойных, разорившихся и готовых на все итальянских владетелей, которыми было столь богато мое время.
Однако интересовал меня не сам герцог Гаэтано, я спешил свести знакомство с посланцем Матиаша: о Вараждинском епископе Яноше Пруисе ходили самые невероятные слухи. Говорили, что он несметно богат, очень начитан и ловок, один из лучших дипломатов в Европе, если не самый лучший.
Нас представили друг другу, и первое, что поразило меня, была почти неправдоподобная его красота. Пруис был, вероятно, моих лет, человек еще молодой, атлетического сложения, с головой, какие я видел только у античных статуй. Когда он шагнул мне навстречу (не сводя с меня глаз, по-видимому тоже многого ожидая от этой встречи), то напомнил мне полководца, и я невольно, хотя считал его врагом, преисполнился гордостью: вот какие мужи служат нашей церкви! Сегодня вы ровным счетом ничего не знаете о духовенстве нашей эпохи!
Мы разговорились. После первых же слов мне стало ясно, что передо мной весьма опасный противник. Опасным было утонченное обаяние этого телесно и духовно одаренного человека; опасным было его бесспорное совершенство и то, что он умел им пользоваться как оружием, приманкой или наградой.
Можете мне поверить, я знал всех до одного участников дела Джема и никого из них не могу сравнить с Пруисом. Это до некоторой степени объяснит вам, сколь тяжкой была моя миссия – не страдая излишней скромностью, я признавал полное превосходство своего противника.
Мы уединились от остальных гостей, что выглядело естественным: священнослужители имеют свои, не мирские дела. Со стороны мы, наверно, выглядели как рыцари перед турниром, мы изучали друг друга, прощупывали, мы проникались друг к другу приязнью, несмотря на вражду и борьбу. Знаете, ничто так не льстит уважающему себя человеку, как достойный противник.
Мы говорили о самых обыденных вещах. Пруис расспрашивал меня об осаде Родоса и моем участии в ней, выражал искреннее восхищение и сожалел, что не сумел сам участвовать. Венгры, сказал он, в ту пору тоже сражались и против того же неприятеля, однако осада – это, по его мнению, нечто совсем иное и крайне занятное; другой декорум, другой драматизм, гораздо более насыщенный – он выразился именно так. Я не мог не отметить, что напротив меня сидит истинный художник своего дела; угадывал под рясой человека, живущего не только радостно, не только с охотой, а со сладострастием. Я невольно добивался, чтобы и он признал меня, старался очаровать его, чтобы быть с ним на равных. Едва ли я преуспел в этом – не знаю, что могло бы произвести впечатление на этого человека, полного совершенств.
Он наслаждался своим голосом и жестами. С одинаковым удовольствием расстилал передо мною свое красноречие и силу, самообладание и гибкость. Словно некий Крез, милостиво дозволял мне любоваться его богатствами. А я жестоко завидовал не столько его совершенству, сколько тому, что он сознавал свое совершенство и умел с изяществом его проявить.
Мы беседовали почти час, когда Янош Пруис сам предложил мне:
– Так или иначе, мы поедем одной дорогой, брат мой, и с одной и той же целью. Отчего бы нам не поехать вместе?
Да, Пруис мог себе такое позволить: повести своего соперника за руку, столь далеко простиралась его уверенность в себе. Я принял приглашение. Мы двинулись в путь месяцем позже, после окончания торжеств. Пруис употребил этот месяц на то, чтобы блистать и покорять итальянскую знать. Пока не стал истинным кумиром своих сотрапезников и хозяев, пока не счел, что молва о нем уже достигла Иль-де-Франса и он может двинуться по дороге, проложенной для него этой молвой.
Если бы Джем и все с ним связанное создали мне втрое больше забот, я все равно считал бы себя вознагражденным – благодаря путешествию вместе с Пруисом во Францию, благодаря полугоду, в течение которого мы с этим необыкновенным человеком выслеживали один другого и симпатизировали друг другу, сражались и обменивались улыбками. Я знаю, уже давно исчислены радости земной нашей жизни, но не могу уразуметь, отчего меж ними особо не указана одна: крупная игра.
Из Милана мы выехали странным кортежем – думаю, неповторимым. Он давал поистине полное представление о Матиаше Корвине – этом наполовину восточном и вместе с тем во многом ренессансном государе, вознамерившемся поразить Запад. Основу нашей свиты составляли триста юношей из самых знатных семейств венгерского королевства. Все они были до смешного схожи меж собой – и возрастом, и внешностью. Триста светловолосых юношей, в пурпурных одеждах, с жемчужными коронами и золотыми ожерельями, ехали верхом на белых как снег конях, а их оруженосцы (в оранжевом) вели под уздцы вторую смену лошадей – все триста вороной масти.
Янош Пруис наблюдал за мной, когда я впервые увидел это зрелище. В его глазах – изумительного разреза, бархатных и теплых – плясали искорки смеха. Я не понял, над чем он смеется – над моим удивлением или над причиной его, но полагаю, что такой человек, как Пруис, находил затею добрейшего Матиаша поистине смехотворной. Справившись кое-как со своим удивлением, я стал рассуждать: даже если в Венгрии имелось триста дворянских родов (там их гораздо меньше), даже если в каждом из них имелся сын двадцати лет от роду (что тоже маловероятно), то как могло случиться, что все они светловолосы? Иными словами, король Матиаш обшарил все свои довольно поурезанные владения, чтобы сыскать триста одинаковых красавцев, из коих по крайней мере половина – крестьянские дети, только умытые и причесанные!
Не стану описывать вам венгерский обоз – более пятисот навьюченных лошадей. «Точь-в-точь бродячий театр! – подумалось мне. – Королю Матиашу не найти для него более неотразимого главного героя, чем Янош Пруис». Я был не в силах отвести глаз от этого неповторимого в своем роде представления и все меньше думал о Джеме – что мог значить какой-то варварский поэт и незадачливый претендент на престол в сравнении с тем, что меня окружало!
Путешествие наше длилось более двадцати дней. За все эти дни я не заметил ни пятнышка пота на пурпурных одеждах светловолосых юношей, ни пылинки па их сапогах. Кортеж двигался по перевалам Северной Италии и холмам Южной Франции, яркий, великолепный, без единого изъяна. Вскоре за Лионом мы были встречены адмиралом де Гравилем.
По своей неосведомленности вы можете спросить, что делал сей адмирал на суше. Адмирал де Гравиль представлял перед нами регентшу Божё. Множество толков ходило о ней. Известно было, что алчность ее безмерна, что в своих домогательствах она готова поставить на карту все, включая честь короны. Мы знали, что, по мнению ее исповедника, имевшего возможность сравнивать ее исповедь с подлинными фактами, дабы осведомлять нас о том и о другом, она лгала даже на исповеди. Относительно же адмирала мы знали, что он правит Францией в наиболее распространенном качестве – возлюбленного регентши. Более легковерные намекали, что ее ложе открыло ему путь к власти, мы же не обманывались на сей счет: упомянутая дама потому и пустила его на свое ложе, что сочла самым надежным среди французских сеньоров, коими она располагала. А имея таких врагов, каких имела она (достаточно было одного герцога Бурбонского, ее дражайшего деверя), она крайне нуждалась в крепкой спине и паре умелых рук.
То, что навстречу нам выехал сам де Гравиль, означало многое: Франция оказывала высокие почести королю Матиашу. Со мной адмирал держался суховато; должно быть, рядом с Пруисом я казался ему личностью весьма серой.
Поскольку юный король со своей сестрой (упомянутой выше дамой) проводил лето в замке Ансени, нас направили туда. Божественное зрелище! – иначе невозможно обозначить наше вступление в Ансени. Жаль, что Матиаша Корвина не было с нами, – какая пища для его тщеславия!
Под глубоким порталом замка двигалась невиданная процессия. Она кричала всеми цветами радуги в мягком свете северного лета, пока темно-серый Ансени не уподобился глубокой старинной чаше, в которой плещется, искрится и переливается через край пурпурно-оранжевое вино. На ступенях замка нас ожидая и Карл VIII – хилый старообразный мальчик, – и его Совет, и мадам де Боже – довольно тощая бесцветная особа в критическом возрасте. Все они силились сохранить достоинство перед зрелищем, представшим их взорам, но и последние его капли испарились, когда Янош Пруис спешился, взлетел с присущей ему стремительностью по ступеням и непринужденно поклонился их величествам, высочествам и превосходительствам.
Порода – вот что было в Пруисе! Он стоял, точно арабский скакун меж изнуренных кляч, приковав к себе все взгляды. Регентша чуть на заставила меня покатиться со смеху. Она рассматривала гостя с откровенной алчностью – такой взгляд бывает у женщин, когда времени, чтобы грешить, остается мало, – смесь желания, восхищения и неприязни.
Вечером – после того, как гости отдохнули, – я присутствовал при чисто восточном зрелище: Пруис вручал дары, присланные королем Матиашем. Спектакль был разыгран частично под открытым небом – венгры вывели предназначенных в подарок коней. Кони были трех мастей, и каждой масти по двадцать пять голов. Остальные подношения явно предугадывали склонность мадам де Боже к бескрайней роскоши. Одни из другим были внесены в залу ящики с посудой из тончайшего фарфора; златотканая одежда; украшения, осыпанные столькими драгоценными каменьями, что было больно глазам. И под конец в качестве апофеоза – золотая (либо же покрытая толстым слоем позолоты) спальня.
Я находил едва ли не комичным все это великолепие; оно словно предназначалось Аттиле или Тамерлану, Однако французский двор, и прежде всего регентша, были иного мнения. Я видел, что щедрость короля Матиаша потрясла ее, особенно в сочетании с исключительным обаянием его посланца. Мадам де Божё так расчувствовалась, проявила в свою очередь такую расточительность в пирах, танцах и увеселениях, что я понял: следует действовать без отлагательств, каждая минута, проведенная Пруисом в Ансени, для нас чистый проигрыш.
На третье утро после прибытия я тайно послал гонца к брату Д’Обюссону. В своем письме я настаивал, чтобы к Джему немедля были направлены двое его людей – разумеется, самых надежных, – дабы подготовить его к тому плану, какой мы давно обдумывали. С другой стороны, следовало отправить в Венецию нашего человека, который бы предупредил республику о том, что Джем, по всей вероятности, перейдет к королю Матиашу. Нам были известны намерения Венеции, ее тесные связи с Баязидом – она сделает все, чтобы помешать Матиашу Корвину. Хоть и против воли, она в этом случае будет действовать в пользу Папства.
Исполнив свой долг, я в преотличном настроении наблюдал за дальнейшими усилиями Пруиса. Он был неисчерпаем. Пруис пустил в ход все свои таланты и обаяние, чтобы покорить Францию. Его красноречие подкупало любого собеседника, его обширные познания, богатство и щедрость заставляли двор видеть в Венгрии невиданно развитую, процветающую страну. Для достижения желанной цели Пруис не жалел ни средств, ни себя самого.
Странно, что он не добился успеха в первые же десять дней: королевский Совет благосклонно выслушивал его увещания и принимал его дары, но медлил с ответом. Причина заключалась в следующем: втянутые в войну с Англией, французы страшились Священной Римской империи – иными словами, Германии. Как всегда, обстоятельства там были смутны, самые разнообразные течения противостояли друг другу, а претендент на престол, эрцгерцог Максимилиан, будучи злейшим врагом Франции, уже теперь, в качестве владетеля Фландрии, каждодневно пакостил ей.
Словом, двор искал за пределами Германии силу, которая угрожала бы ей с тыла, покуда сама Франция уладит свои дела с британцами. Такой силой и являлась Венгрия. Какую выгоду извлек бы для себя король Франции, уступи он Джема Венгрии? В самом деле, союз между Францией и Венгрией стал бы тогда не только возможен, но и реален. Однако, заполучив Джема, Корвин тотчас ринется в войну с Турцией, оставив в покое немцев, и Франция окажется меж двух огней. Если же королевский Совет не отдаст Джема, это повлечет за собой окончательный разрыв с Венгрией. Таким образом, французский двор делал то единственное, что отвечало его интересам, – он медлил. А тем временем – целых полгода – Янош Пруис растрачивал золото и чары в Ансени, Париже и снова в Ансени, сгорал от нетерпения, а позже и от ярости, расточая улыбки регентше и ее любовнику, худосочному королю и его министрам. Со мной он обходился неизменно любезно, словно паши общие неудачи в деле Джема сроднили нас.
Впрочем, начиная с августа 1487 года нас при французском дворе стало уже не двое, а трое – явился третий, посланец Венеции. В Ансени мы смотрели на него как на парвеню, он вступил в наше состязание позже и не мог участвовать в игре на равных. Но оба мы чувствовали, что преимущества на его стороне: из нас троих только он один не желал заполучить Джема для своего повелителя и настойчиво убеждал королевский Совет оставить его во Франции.
С начала сентября мы с Пруисом пребывали в убеждении, что так оно и произойдет. В отношении к нам Совета стал проглядывать холод, регентша уже не бросала на Пруиса голодных взглядов, адмирал же сдержанно попрощался с нами и отправился в Бретань на поле брани – там, изволите ли видеть, ощутили острую необходимость в его присутствии. Я заметил, что теперь наконец и Пруис потерял терпение; епископ Вараждинский начал избегать охоты и прогулки, выглядел в обществе уже далеко не таким лучезарно обаятельным, как прежде, а по некоторым его намекам мы поняли, что Венгрия будет стремиться к союзу с Германией.
Никто не имел права быть в обиде ни на него, ни – тем более – на короля Матиаша, который в сентябре приказал своему посольству двинуться в обратный путь. Самая крупная и самая дорогостоящая попытка Венгрии завладеть Джемом завершилась неудачен. Вопреки приказу Пруис предпринял еще одну попытку, совсем отчаянную. Он выступил перед королевским Советом и в речи, искусству которой мог бы позавидовать сам Цицерон, изложил последствия французской близорукости: она развяжет руки Баязиду для победоносных воин в Италии и Центральной Европе, нанесет тяжелый удар торговле с Левантом и поставит Европу лицом к лицу пред ужасом нового нашествия Аттилы.
Дело не только в ораторском искусстве – речь Пруиса дышала искренней убежденностью, пророческим жаром, заставившим содрогнуться даже меня, его противника. Поэтому меня озадачила одна короткая реплика – ее бросил архиепископ Бордоский, брат адмирала де Гравиля.
– Не следует забывать, ваше преосвященство, что Аттила был остановлен именно во Франции.
– Оттого, что он истощил свои силы во время весьма долгого пути, брат мой, – не дал себя смутить Пруис.
– Как истощит их и султан Баязид.
У наглости тоже должен быть какой-то предел, вы не находите? Отказывая Восточной Европе в спасении, французы могли бы делать это хотя бы с большей изысканностью. Зачем подчеркивают они, что именно Франция всегда была несколько в стороне от варварских нашествий? Зачем выказывают, что их ничуть не заботят злосчастья Восточной Европы?
В те минуты я убедился, что не только сияющее благорасположение может излучать Янош Пруис. Он воспринял слова архиепископа так же, как воспринял бы их любой крестьянин, у которого пожгли посевы и родной дом, как любой солдат, искалеченный в сражении с турками. Жестокая ненависть исказила лицо, красотой которого я всегда восхищался, и ударом хлыста прозвучал ответ:
– Если бы вы, ваше высокопреосвященство, были поставлены на колени неприятелем, трижды превосходящим вас силою, то, вероятно, припомнили бы первую христианскую заповедь: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Дабы вымолить себе помощь.
– Мы не можем припомнить, ваше преосвященство, – быстро отпарировал архиепископ, – чтобы кто-нибудь оказал помощь нашей земле, когда мы отстаивали ее от сарацин. А были они, сдается мне, врагом не менее грозным.
Было яснее ясного: мы могли не опасаться более союза между Францией и Венгрией, даже сносных взаимоотношений между ними. Король Матиаш не простит подобного глумления над собой.
Янош Пруис покинул Ансени в первые дни октября. Французский двор снабдил его дарами (обошлись они едва ли в три сотни серебряных марок, тогда как Корвин истратил на свое посольство сто тысяч золотом). И снова через Лион и Милан (чтобы отвезти Бьянку на ее новую родину) Пруис покинул Запад.
Я, содействовавший провалу его миссии, радовавшийся этому провалу, испытывал смутное чувство вины, совсем как тогда, когда брат Д'Обюссон сообщил мне, что взял деньги у матери Джема. Несметные деньги и несчетные упования страждущих привлекли мы с великой для себя выгодой ценою заточения еще более страждущего. Вероятно, реже всего вспоминают о божьем возмездии божьи служители, однако в ту пору меня все же терзал страх.
Я рассчитывал отбыть сразу вслед за Пруисом – с его провалом моя миссия завершалась. Но письмо брата Д'Обюссона задержало меня еще на полгода в Париже. По многим причинам настаивал магистр, чтобы я остался там; он верил, что я столь же успешно преодолею и последующие трудности.
Прежде всего мне следовало продолжать наблюдение за послом Венеции: коль скоро союз с Венгрией не состоялся, Венеция должна была переменить тактику. Помимо того, Д'Обюссон сообщал, что Джем уже искал союза с противниками де Гравиля (герцогом Бурбонским и его окружением); мне следовало соображаться и с этими попытками. Наконец, брат Д'Обюссон поручил мне способствовать переговорам между Францией и Папством. Им предстояло в скором времени начаться. По сведениям магистра, Иннокентий VIII уже направил своих легатов в Париж.
Еще до прибытия папских легатов я получил с Родоса новые вести. Мне сообщили, что Венеция уже известила Баязида о том, что он может не опасаться венгров; потом – что Ферран Неаполитанский обещал тому же Баязиду похитить Джема на его пути в Рим и переправить в Константинополь (это полностью входило в интересы Неаполя, ибо нанесло бы Папству тяжелый удар); наконец, в-третьих, что Лоренцо Медичи, единственный друг Франции в Италии, проявил живой интерес к участи Джема. Последняя новость меня испугала – Лоренцо был фигурой, да еще какой, связи при французском дворе делали его успех весьма вероятным.
Одним словом, я не имел отдыха даже в промежутке между отбытием из Парижа одного посольства и прибытием второго. Поэтому, когда в декабре я вместе с представителями королевского Совета поехал встречать папских легатов, я искренне радовался: прибывала поддержка.
Святой отец снаряжал это посольство с тем же тщанием, что и Корвин. Правда, у него не было под рукой человека, обладавшего совершенствами Пруиса, но оба брага – Антонелло Кьеррегато и Антонио Флорес – принадлежали к числу самых просвещенных умов Ватикана, были опытными дипломатами и ораторами. Очевидно, из-за недостатка средств Папство налегало на словесность.
Встретили легатов со всеми почестями, подобающими посланцам его святейшества. Весьма большими почестями, хочу я сказать. Тотчас же по прибытии они сообщили Совету, что султан Каш бай готов заплатить за Джема непомерную сумму. Понимая, что международные соглашения препятствуют переезду Джема в Египет, султан настаивал на том, чтобы он пребывал в Риме, Венеции, Флоренции или Венгрии. Иными словами, как можно ближе к Турции. Каитбай подчеркивал (устами папских легатов), что доселе имевшие место действия Запада убеждали Баязила в том, что брат его не возглавит никакого похода, ибо его используют для иных целей. Эта уверенность Баязида может дорого обойтись странам Востока, в том числе Египту.
Я присутствовал на Совете, когда кардинал Флорес изложил позицию султана. Не сказал бы, что она произвела впечатление на французов. Совет сохранил полнейшее хладнокровие, даже когда Флорес назвал предложенную Каитбаем сумму – сто тысяч золотых дукатов. Французское королевство в последнее время привыкло с нежданно огромным подаркам и уже не связывало их с Джемом, а воспринимало как нечто ему полагающееся.
– Мы убеждены, – ответил адмирал де Гравиль, – что христианский мир сочтет переговоры между Папством и мусульманской державой неподобающими. Даже. дважды по сто тысяч дукатов не стоят того, чтобы ставить под удар авторитет святого престола. Таково мнение королевского Совета.
«Однако десять раз по сто тысяч заставили бы тебя переменить мнение», – подумал я, хотя и знал, что в наше время ни одно государство не располагало такой суммой.
Ответ де Гравиля смутил легатов. Он подтвердил подозрение, что Франция отдала бы Джема только за неслыханные деньги, а у Папства, как мы уже говорили, их не было. Иннокентий VIII на последние средства собирался завоевать Озимо (небольшой порт вблизи Анконы, насчет которого Буколино, владетель Анконы, сторговался с Баязидом). Этими гнусными переговорами, чистейшим предательством по отношению к Италии и западному миру вообще, возмущалось все христианство, поэтому Иннокентий решил начать борьбу против Турции со взятия Озимо. Однако бедность Папства была помехой даже столь мелкой акции, и римские наемники бились под Озимо без всякого успеха уже пятый месяц. Впрочем, Франции это было явно на руку.
Флореса сменил кардинал Кьеррегато. Крупный ученый, он слыл одним из самых искусных ораторов нашего времени. Его речь перед королевским Советом полностью подтвердила эту славу.
– Мы безмерно счастливы, – сказал он, – предстать перед особой его величества короля Франции. Испокон веков короли Франции славились примерным благочестием и отзывчивостью к бедам святого престола. Папы вдохновили ваших прадедов отторгнуть святые места у неверных, отнять у них христианские провинции на Востоке; французские крестоносцы были цветом рыцарства. В те времена сердца людей были полны страха божьего. Угроза тогда находилась далеко, и не к расширению владений стремились ваши государи – единственной их целью было утвердить имя Христово и. вернуть тысячи заблудших душ в лоно святой нашей церкви. В своем христианском усердии они создавали армии и флоты, отдавали все – своих сыновей, братьев, собственную жизнь, – дабы обрести славу не здесь, а на небесах. Эти воины, эти подвижники веры христовой обрели вечную жизнь, из поколения в поколение передаются их имена. Слава, вечная им слава!
Несмотря на то, что я передаю вам его речь слово в слово, вы не можете представить себе, как была она произнесена братом Кьеррегато. Воздействие ее было столь сильным, что Совет замер. Перед мысленным его взором прошествовали наши славные крестоносцы, давно забытые короли и рыцари забытой эпохи, вдохновенно направляясь навстречу бессмертью.
Кардинал Кьеррегато внезапно опустил воздетую для благословения руку. Весь его вид выражал бескрайнее горе.
– Ныне же иссякает вера, – продолжал он. – Угасло воодушевление; уже не ради вызволения Иерусалима, Азии или Греции прислала нас сюда святая римская церковь. Речь идет о самой Италии. Дела обстоят все хуже и хуже. Не случись смерти Завоевателя и распри между его сыновьями, пожар давно охватил бы наши собственные земли.
Видите ли вы, коих мы сейчас коленопреклоненно Молим, видите ли, в сколь малый срок турецкая опасность достигла пределов Италии? А находятся еще итальянцы, настолько близорукие, что сами призывают турка и натравливают его на святой престол! Если бы не вмешательство святого отца, Буколино еще месяц назад впустил бы Баязида в Озимо и тем обеспечил бы ему победу над Италией. Недостанет у Италии сил, чтобы в одиночку одолеть турецкую угрозу, и святой отец взывает ко всему христианскому миру. Но как будет воевать христианский мир, коль он раздираем войнами между королями и горожанами, между соседями-единоверцами?
Святой отец послал нас, дабы и мы помогли вам умиротворить владения вашего величества. Едва лишь стихнет вражда, Франция сможет исполнить свой христианский долг: все свои силы отдать войне против турок.
Победу в этой войне обеспечивает нам большой козырь – брат султана. Мы призываем вас отдать его нам. Если Джем будет находиться в руках святого отца нашего, Баязид не осмелится осуществить свои зловещие Намерения против Италии. Святой отец убежден, что вы не откажете в поддержке своей духовной матери-церкви, молящей и заклинающей! Тем более что Пьер Д’Обюссон, сделавший Джема своим пленником, присоединяет свои мольбы к нашим, и пленник сам также поддерживает их. Ваше величество, покойный отец ваш – да пребудет в веках славное его имя! – обещал Джема святому престолу. Папство молит вас о том же, ваше величество, и ожидает ответа!
Я видел, когда брат Кьеррегато умолк, многое королевские советники тайком подносили к лицу платки, в глазах юного короля блестели слезы. Единственно мадам де Боже была не слишком растрогана, хотя, будем справедливы, она тоже проявила некоторую взволнованность. Как ни глубока была в нашу эпоху светская испорченность, воспоминание о торжестве нашей веры, упрек в том, что ныне она лишилась воителей, сделали свое – французские вельможи устыдились собственной низости.
Однако известно, что благородные чувства исчезают быстро; весьма недолгой была и эта вспышка доброй воли. Хотя после той памятной речи адмирал и посулил отдать Джема, он на следующий же день заговорил об опасности подобного путешествия, ссылаясь на полученные из Венеции вести.
Итак, речь шла о цене, снова о цене за Джема.
Французы не высказывались определенно относительно этого. Они лишь напоминали о том, что не было еще в истории личности, имевшей для Европы столь огромное значение. Из этих общих рассуждений я заключил, что Франция полна решимости еще долгое время сохранять Джема для себя одной – то ли как козырь во внешней политике, то ли дожидаясь, пока цена на него возрастет еще более. В конце концов, у французов не было причин торопиться.
Адмирал де Гравиль в одной из бесед со мной вскользь обронил, что его родной брат, архиепископ Бордоский, обладатель многих достоинств, заслуживает кардинальского звания, а между тем… Я поспешил известить о том Иннокентия VIII – с просьбой принять во внимание желание де Гравиля. И никак не ожидал, что получу в ответ резкую отповедь его святейшества. «Как могли Вы предположить, – писал он, – что Папство возведет в кардинальский сан еще одного француза? Мало разве того, что французы не почитают святого престола, что в Париже все еще пребывают легаты, в какой-то мере освящающие действия Совета? Довольно с них, – писал он, – пусть не рассчитывают на большее; де Гравиль весь род их, – тираны и узурпаторы».
«Ах, какую новость открывает мне его святейшество! – мог бы воскликнуть я. – Будто я сам не знаю, что де Гравили – разбойники с большой дороги! Но ведь именно поэтому и следовало привлечь их на нашу сторону, не так ли?»
Дорого бы я дал, чтобы увидеть лицо его святейшества, когда он читал пересланное мною следующее пожелание Совета (оно уже выходило за рамки приличий): французы просили папу не благословлять избранив Максимилиана императором Германии. Как я уже говорил, французы еще в наши времена опасались немецких бесчинств, а Максимилиан в этом смысле сулил многое.
Даже при всем желании Иннокентий VIII не в силах был этого сделать. Прадеды Максимилиана действительно лежали в прахе перед Каноссой, дожидаясь благословения папы, но, помилуйте, времена-то были иные: теперь отказ только ожесточил бы Максимилиана, коему, чтобы ожесточиться, требовалось весьма немногое, и доказал бы, что Германия может обходиться и без благословения капы.
Возможно, именно моя просьба не направлять в Париж столь резких посланий, ибо они не подкреплены реальными санкциями, побудила Иннокентия ответить, что он обезвредит Максимилиана и не предавая его анафеме. Папа просто издаст декрет, коим объявит, что во Фландрии и Лотарингии (соседних с Францией германских владениях) все до единой сделки – покупка, продажа, контракты, наследства – недействительны, а все приговоры преступникам неправомерны. Тамошние суды и нотариальные конторы теряли право приводить к присяге и выносить приговоры.
Отчего вы смеетесь? На сей раз Иннокентий VIII проявил мудрость: не упоминая имени Максимилиана, он делал его правление невозможным. Вообразите себе государство, где не действуют никакие законы! Фламандцам не оставалось ничего другого, как поднять мятеж и свергнуть власть Максимилиана.
Вижу, что излагаю подробности, уже не относящиеся к делу. Но пусть хоть они покажут вам, каким сложным и трудным было мое время; быть может, вы поймете, какое множество противоречивых интересов сплелось с делом Джема, превращая его воистину в вопрос вопросов XV столетия.
Вплоть до весны 1487 года папские легаты оставались в Париже, а шансы получить Джема все уменьшались. Мадам де Божё клялась своему исповеднику, что жаждет заслужить вечнсе блаженство, отдав Джема папе, но ей препятствует Совет. Совет выставлял де Гравиля тираном и безбожником, а де Гравиль уверял нас, что если мы решим перевезти Джема в Рим, его неизбежно похитят по дороге.
К августу 1487 года выявилось с очевидностью, что королевский Совет – в том, что касается султана Джема, – играет нами, святой церковью. Брат Д'Обюссон написал мне, что дальнейшее мое пребывание в Париже становится излишним; Кьеррегато и Флорес продолжат переговоры и без меня. Впрочем, без всякой надежды на успех, подчеркивал магистр. А я был необходим брату Д'Обюссону для того, чтобы вместе обдумать новую его затею: применить в деле Джема грубую силу. Потому что времени у нас не было, каждый минувший день взвинчивал цену на Джема.
Вероятно, я удивлю вас, если скажу, что в качестве этой грубой силы мы использовали женщину.
Часть третья
Двенадцатые показания поэта Саади о 1485–1487 годах
Ее звали Елена, вернее, Филиппина-Елена. В сущности, эти мои показания вернут вас немного вспять по сравнению с рассказом монсеньора Кендала: в прошлый раз я остановился на первой нашей неудачной попытке бежать. Итак, пока мир переживал описанные монсеньором события, мы проводили дни и ночи, долгие месяцы подряд в Буалами, командорстве Ордена иоаннитов в Дофине.
Я уже говорил, что братья ежедневно тешили нас различными забавами. Правда, дворянство Дофине не отличалось словоохотливостью в вопросах, живо затрагивавших нас, но мне удавалось иной раз подхватить какое-то случайно оброненное слово, и из этих слов, по улыбкам, а также чрезмерной почтительности наших сотрапезников я заключил, что значение Джема, во всяком случае, не уменьшилось. Это явствовало также из того усердия, какое проявляла стража, – за каждым нашим шагом неусыпно следили, каждого прибывшего в Буалами постороннего человека обыскивали и допрашивали.
Все невыносимей становилось Джему возрастающее внимание Ордена, ибо он воспринимал весь этот почет в истинном его смысле – как надзор. Он стал крайне раздражителен, вспыхивал от самого безобидного моего замечания и с досадой отмахивался, когда я пытался успокоить его. Насмешка, с коей братия отнеслась к нашей попытке совершить побег, привела его в бешенство. Джем предпочел бы, чтобы его заточили в темницу или отняли бумагу и чернила – он ощутил бы тогда, что совершил нечто опасное для Ордена. Меж тем все продолжалось по-старому: нас развлекали, стремились усыпить наши опасения.
Вероятно, оттого, что это стремление было очевидным, мы противились ему: подслушивали, искали связей с внешним миром, пытались уяснить существующие на Западе течения – ведь нам следовало соображаться с ними. В годы 1485–1487 мы все еще не были покорены. Предполагаю, что это в какой-то мере затрудняло наших тюремщиков, но не переоценивайте их трудности – при всех наших потугах мы оставались любителями против опытных мастеров.
Филиппина-Елена вошла в нашу жизнь как раз в этот период. Я не хочу сказать, что она была первой женщиной, допущенной в наше общество, но, поверьте, и не сотой. Мы вообще редко видели женщин. То были либо супруги сеньоров, дававших нам приют на одну ночь, неделю, месяц, либо же содержательницы постоялых дворов на нашем пути. Мы были гостями монашеского ордена – это исключало каких-либо танцовщиц. Впрочем, мы слышали, что на Западе они все еще были редкостью, обычно общество развлекали мужчины. Порой на охоте нам удавалось повидать даму – супругу какого-нибудь сеньора либо его дочь. Нас неимоверно удивляло обращение с ними мужчин.
Вам кажется странным, что в те годы волнений и бедствий мы толковали между собой о чем-то столь не связанном с нашей участью, как отношение к женщине на Западе. Вы правы, но это бросалось нам в глаза, в этом всего резче проявлялось различие между нашими и здешними обычаями.
Отлично помню, когда мы впервые обратили на это внимание. То было в Савойе во время охоты. С нами ехала некая дама, верная мужняя жена. Ехала легко, несмотря на свой возраст и вес. При каждом шаге коня ее низко открытая грудь колыхалась под взглядами трех десятков мужчин. Дама сидела в седле боком, край юбки был заткнут за пояс, открывая взорам не только лодыжку, но даже икру и выше, вплоть до красивого, округлого колена.
В начале охоты дама находилась рядом со своим мужем, но никто не счел неприличным, что потом она смешалась с кавалькадой, перебрасывалась шуточками то с одним сеньором, то с другим и громко смеялась, раскрасневшаяся от охотничьих переживаний. Джем неотрывно смотрел на нее – не от восторга перед ее прелестями, а от удивления. Оно достигло предела, когда по возвращении в замок дама вознамерилась сойти с коня и к ней подскочил какой-то юноша, совершенно ей чужой. Дама поставила ногу сначала на его плечо, потом на подставленную им ладонь, и, пока он, медленно наклоняясь, опускал ее на землю, она прижималась к нему всеми своими верхними и нижними юбками, всем своим потным телом и во все горло хохотала.
Мне показалось, что должно произойти нечто страшное: лицо юноши было в одной пяди от ее обнаженной груди, а всего в пяти шагах от них хлопотал возле своей лошади ее супруг – такое неприличие не может остаться безнаказанным. Но дама преспокойно опустила юбки и по-прежнему вместе с мужчинами направилась к замку. Джем остался стоять точно вкопанный.
– Саади, – сказал он, – ты видел, что они творят? Какие нравы! Какое бесстыдство! Этим людям потребуются столетия, чтобы догнать нас; они не доросли до главного в человеке – чувства приличия.
Впоследствии Джем да и я привыкли к странностям Запада. Даже начали думать, – вот какой силой обладает привычка! – что здесь по отношению к женщине тоже соблюдаются некие правила приличия, весьма сложные, почти обряды. Мы видели, что наши сотрапезники встают, если в залу входит дама, что ей тотчас уступают лучшее место и наперебой стараются услужить. Мы слышали, как осыпают любезностями часто совершенно невзрачных женщин, отвешивают им поклоны, подают руку. Мы также слышали песни, в коих – вы только вообразите! – воспевалась женская красота! Поистине эти люди не стеснялись вынести на свет сокровеннейшее в своей жизни. Мы только дивились, что они еще способны к наслаждению, столь расхитительно сделав его достоянием всех, – это равносильно тому, чтобы допустить к своему ложу сотни посторонних глаз.
Со временем мы пришли к убеждению, что на наших трапезах присутствует ровно столько женщин, сколько пожелало прийти, – похоже было, что никто не приглашает их специально, но и не гонит. Мы понимали, что наше общество не привлекает дам из Савойи и Дофине, – догадывались об этом опять же по отдельным репликам. Из них явствовало, что в свою очередь наши нравы, вернее, здешние представления о наших нравах, будят такое же брезгливое недоумение, с каким относимся мы к нравам местным. На Западе о нашем обхождении с женщинами ходили обидные выдумки. Ведь это неправда, будто мы презираем, унижаем женщину, – просто мы считаем ее столь интимной частью жизни каждого из нас, что не следует выставлять ее напоказ.
Думаю, что именно превратное представление о Востоке заставляло большинство местных сеньоров держать своих жен и дочерей подальше от нашего общества; они опасались, как бы мы не унизили их.
Те дамы, что все-таки решались к нам приблизиться, делали это из чистого любопытства. Оно читалось в их расширенных зрачках, в восклицаниях, сопровождавших каждое движение Джема, в улыбках – насмешливых или высокомерных. Эти несколько отчаянно смелых женщин наблюдали за редким восточным зверем, и я чувствовал, каких усилий стоит им удержаться, отложить свои впечатления до тех пор, пока они не покинут наше общество; тогда, вероятно, начинались рассказы, весьма мало лестные для нас.
Мы были удивлены, когда некий барон де Сасенаж, соседний дворянин, посетил нас в Буалами в сопровождении своей дочери. Барон был седой, крепкого сложения человек, явно крутого нрава, резкий, немногословный. И судя по его свите, небогатый. К своей дочери – той самой Елене, о которой пойдет речь, – он относился не вполне в соответствии с правилами приличий, неровно: барон презрительно и грубо обрывал ее на полуслове, посередине взрыва смеха, а вслед за тем смотрел на нее горестно-виновато и старался, даже чрезмерно старался, поднять ее в чужих глазах. То и другое казалось нам дурным вкусом – излишне выказывать посторонним столь сложные родительские чувства.
Что вам сказать о самой Елене? Наши суждения о женщине, должно быть, значительно отличаются от ваших. Лично я не находил Елену красивой, мы предпочитаем более ярких женщин. Глаза, нос, рот, шея – все у нее было очень чистых линий, однако ничего выдающегося. Самым уязвимым в ней была фигура. У нас было бы трудно выдать замуж дочь с такой фигурой. Девица Сасенаж была совершенно плоской, это было видно, несмотря на ее пышный наряд со множеством сборок и складок. Об этом свидетельствовали чрезмерно тонкие кисти рук и лодыжки. Но вопреки всему я находил в ней нечто привлекательное, вернее, любопытное. Глядя на нее, чудилось, что она чуть ли не такой же человек, как ты, что за гладким челом пробегают мысли, сомнения, что ее маленький рот делает усилие для того, чтобы не заговорить. Некая именно вынужденная скрытность отличала ее от всех женщин, каких я когда-либо встречал, и заставляла подозревать тяжкие воспоминания или тяжкие предчувствия – словом, чрезмерную ношу для столь хрупкого создания.
В то же время было видно, что хрупкость эта – кажущаяся. Иногда Елена взглядом, жестом очень напоминала своего отца. Не словами – чаще всего она удрученно и удручающе безмолвствовала, словно общество докучало ей нестерпимо.
Джем заметил Елену в первую же нашу встречу с Сасенажем. В течение всего вечера он, не таясь, рассматривал ее, но без тени восхищения, присутствие молодой женщины забавляло его. Меня же забавляли взгляды, которые она посылала ему в ответ: очень спокойные, будто она ежедневно бывала в обществе турецкого султана, они не выражали ни любопытства, ни сочувствия. Удивляло меня также, что Елена не играла глазами, не придавала взгляду недоговоренности и таинственности, чтобы завлечь тебя, или надменности, чтобы воздвигнуть стену между собой и тобой.
– Саади, – обратился ко мне Джем после ужина, когда мы вернулись к себе, – что за птица эта дочка барона Сасенаж?
– Дурнушка, – ответил я. – Кроме того, сдается мне, она перешагнула тот возраст, какой приличествует незамужней дворянской девице.
– Гм… – задумчиво обронил Джем. – Ты прав. Ей лет двадцать пять, наверно.
Следующим утром и еще несколько дней подряд Елена ездила вместе с нами охотиться. Я заметил, что она любит ехать не рядом со всеми, а в стороне, что скажет она со страстью, словно не охота – охота оставляла ее равнодушной, – а сама скачка дает ей возможность сбросить с плеч какое-то бремя, почувствовать себя свободной.
– Елена! – кричал ей барон с тревогой. – Не так быстро, Елена!
Она не слышала или притворялась, будто не слышит, а когда снова поворачивала навстречу охоте, выражение ее лица бывало отчужденней, чем когда-либо. От меня не ускользнуло, что во время третьей охоты Джем старался быть поближе к ней. Он ехал либо чуть впереди, либо чуть позади и весело на нее посматривал – тут он мог обходиться и без услуг толмача.
Известно, что любой женщине льстит внимание любого мужчины. Елена, казалось, была исключением из этого правила. Возможно, именно тем, что она воспринимала внимание Джема к своей особе естественно и равнодушно, она и увела Джема столь далеко. Однажды, возвращаясь в Буалами, я увидел, что мой господин, спешившись, направляется к сидящей в седле Елене и подставляет ей плечо и руку, чтобы помочь сойти с лошади. Джем был багров от смущения, а Елена в первый раз улыбнулась, но какой-то кривой улыбкой, не так, как улыбается женщина, довольная своим успехом.
Остальные смотрели на них во все глаза. И громко смеялись, радуясь тому, что подчинили турка своим постыдным обычаям, смеялись одобрительным и, как мне показалось, грязным смехом. Это вернуло Джему чувство достоинства, и в продолжение ужина он был молчалив. В тот вечер они с Еленой сидели неподалеку друг от друга, и я угадывал нечто общее в их молчании – думается мне, обиду. Не считайте, что двое влюбленных сходятся во всем: во вкусах, желаниях, оценках. Каждый человек соткан столь отлично от других, что просто чудо, если он находит с другим хоть одну точку соприкосновения. В тот вечер я только смутно ощущал это, а позже узнал наверное – именно обида и соединила Елену и Джема.
Во время ужина барон де Сасенаж был необычайно взволнован. Он словно ловил взгляды наших сотрапезников, словно боялся вновь услышать тот смех, каким они смеялись по окончании охоты. Я, как мне кажется, не переоцениваю себя, но я всегда обладал способностью проникнуть в чувства другого человека и в тот вечер заметил, что этот старик дворянин испытывает страх перед человеческим смехом. Либо насмешкой – я еще точно не знал.
На следующее утро барон уезжал, увозя свою дочь. Это было в порядке вещей, к нам обычно и приезжали на неделю, не более. Но меня не оставляла мысль, что какая-то причина вынудила барона поспешить с отъездом. Как и полагается, мы вышли проводить их во двор замка. Джем не произнес ни слова, кивком ответил на низкий поклон Сасенажа и как-то нелепо застыл, когда его дочь присела в реверансе.
Прошло несколько дней. Жизнь в Буалами текла по-старому. Перемену замечал я только в Джеме. Настроение у него стало неровным, мечтательность внезапно сменялась порывистостью, невольно убеждая меня в том, что он болен. Древнейшей, еще от библейских времен известной болезнью: он влюбился.
Со мной он не заговаривал об этом, я догадывался почему. Не секрет, что человеческая привязанность недолговечна. Но никто, разлюбив, не отдает себе отчет в том, что этот же закон действует и для другого партнера: каждый думает, что его продолжают так же, как прежде, любить, из чего проистекают весьма печальные недоразумения. Человек пытается скрыть от другого, что любовь иссякла, – из боязни сразить того, кого любил, а тот со своей стороны делает то же самое.
Именно это переживал и Джем; он таил от меня новую свою любовь, пришедшую на смену нашей любви, из боязни нанести мне жестокий удар. Поэтому заговорил я первый:
– Девица Сасенаж уже, наверно, дома…
Джем удивленно взглянул на меня. Как мы верим в свою непроницаемость!
– Отчего ты вдруг вспомнил о ней? – попытался он увильнуть, но затем эгоистическое желание поговорить о Елене взяло верх. Я угадывал, что Джем слегка разочарован: я не умер из-за его измены, перенес ее довольно легко. – Разве ты все понял, Саади? Ты не сердишься на меня? Ты был бы вправе сердиться, мы ведь с тобой одинаково относимся к женщинам. К нашим женщинам, – поправился новоиспеченный почитатель женского пола. – Здесь они иные, Саади, не правда ли? Каждая – особенная, неповторимая.
– Как знать! – Я все-таки мстил ему. – Быть может, и наши были каждая особенной и неповторимой, но мы над этим не задумывались.
– Нет, но Елена… – Джем пропустил мой ответ мимо ушей, и я знал, что сейчас последует: мне случалось быть доверенным не одного влюбленного. Отныне Джем будет часами твердить о том, сколь необыкновенна девица Сасенаж, вот что впредь ожидало меня.
Должен признать, что Джем не очень докучал мне в продолжение остальных месяцев, проведенных в Буалами. Хоть и не обладая чувством реальности, целиком подвластный своему воображению, он сознавал, что у его внезапно вспыхнувшей любви нет будущего. Ему не разрешали иметь даже собственных слуг, а уж жену – и подавно.
Я боялся, что это станет источником тяжких страданий, – даже животных не лишают подруг. Ведь отданный во власть неведомого ему прежде голода, Джем оказался бы совсем выбитым из колеи.
Слава аллаху, этого не произошло! Неделю-другую Джем непрерывно говорил о девице Сасенаж, впадая то в ликующую радость, то в тоску. Из этой сладостной муки его вывел слух о том, что во Францию прибыл посланник Матиаша, дабы вытребовать Джема у короля. Так, еще не успев расцвести, быстро, почти без сотрясений, иссякла эта любовь.
Представьте себе, что означала для нас упомянутая выше весть, в какое состояние страха и нетерпения ввергла она нас! Теперь или никогда вырвемся мы из плена – о всемилостивый аллах, хоть бы теперь, а не никогда!
Мы обратились в слух – это единственное, что было в нашей власти, – хотя новости с трудом проникали в Буалами, так как Орден принимал для этого все необходимые меры. В непередаваемом волнении прождали мы последующие полгода.
Лето 1486 года было на исходе, Пруис еще ничего не достиг, по крайней мере насколько было известно нам. Не знаю, как переносил это он, мы же – очень тяжко. Джем просто-напросто потеря/ сон и аппетит. Уговорами я заставлял его проглотить кусок под пристальными взглядами братии; в последние месяцы, ничем не выдавая своего беспокойства, они наблюдали за ним особенно навязчиво.
Однажды утром мы увидели, что в Буалами въезжают десятка два всадников, и чуть не лишились чувств: неужели Пруис добился успеха! Нет, о нет! Большинство всадников были иоаннитами. Мне уже начало казаться, что половина населения земного шара принадлежит к этому Ордену, настолько мы привыкли видеть на каждом шагу черные плащи с белым крестом на левой стороне груди. Но среди иоаннитов, прибывших в Буалами, двое всадников были в нашей одежде, и лица их показались нам смутно знакомыми.
– Саади! – Джем схватился за мой рукав, словно сейчас упадет без чувств. – Я не верю своим глазам! Ведь это… это Синан и Аяс!
Это действительно были они. Наши верные друзья, три года назад увезенные братьями. Три года мы не знали, живы они или погибли, – заверения Ордена давно уже перестали обманывать нас. И вот дождались встречи.
Я стоял как вкопанный, боясь, что это лишь сон. А Джем уже бросился к ним, уже засыпал их несвязными вопросами, обнимал, чуть не плача от волнения и счастья. Я тоже подошел. Аяс и Синан сдержанно, как мне показалось, поздоровались. Должен сказать, что они очень, очень изменились. Правда, они были старше нас, лет под сорок, но сорокалетний мужчина еще не стар, а передо мной сейчас стояли глубокие старцы. Оба седые, с восковыми бледными лицами, от обоих исходило какое-то виноватое смирение.
«Не к добру!» – обожгла меня мысль; не к добру воскресает исчезнувший, в памяти твоей оставшийся близким и дорогим. Промежуток между смертью и воскрешением уже внес нечто непреодолимое и в воскресшего и в тебя самого.
Джем, похоже, не замечал того, что так поразило меня, – он все еще восторженно обнимал Аяса и Синана, ведя их к своим покоям. Его опочивальня неожиданно заполнилась – уже много лет мы были с ним только вдвоем, теперь же, когда нас стало вдвое больше, это уже казалось многолюдным сборищем.
Гости по нашему обычаю сели на подушки. И стали рассказывать о долгом своем пути – они прибыли с Родоса. Тогда и узнали мы, что все наши люди (из тех, кто остался жив) были отвезены на Родос.
Рассказывал Аяс-бег. Лицо Джема расплывалось в Умиленной, счастливой улыбке: Джем радовался, что слышит наш язык не только из моих уст, что судьба возвращает ему и других соотечественников. Но вдруг – это не укрылось от моих глаз, потому что мысли Джема повторяли мои собственные мысли, – он отрезвел. В нем проснулись подозрения, наша жизнь в последние годы вся была подозрения и страх. Джем стал слушать рассеянно и, казалось, готовил себя к очередному поединку с Орденом.
Аяс тем временем рассказывал о судьбе наших людей на Родосе. Относились к ним, мол, неплохо, они ни в чем не терпели нужды; брат Д'Обюссон лично заботился об этом. (Однако, говоря это, Аяс не смотрел нам в глаза, а Синан-бег сосредоточенно отряхивал пыль со своего халата.) Вот тут-то Джем и не сдержался.
– Аяс-бег, – с усилием сказал он, попеременно краснея и бледнея, – отчего меня не покидает чувство, что вам обоим не столь уж сладко жилось на Родосе? За три года ты стал похож на собственного отца, Аяс-бег. Быть может, этим ты также обязан заботливости Д'Обюссона?
Аяс не только не поднял глаз, он еще ниже опустил голову и глухо ответил:
– Уверяю тебя, мой султан, что нашим людям на Родосе хорошо. Лучшего нельзя и желать.
– Но отчего вы все еще на Родосе? Что мешало отправить вас домой?
– По нашей воле, мой султан. В Турции Баязид предал бы нас смерти.
– Тогда – в Венгрию? Матиаш Корвин с превеликой радостью принял бы моих людей.
– Мы не пожелали ехать в Венгрию, мой султан! Не пожелали!
Тут Аяс-бег взглянул на Джема с таким отчаянием, с такой мольбой («Зачем ты терзаешь меня, мой султан? – говорил его взгляд. – Что нужно тебе, неужто не ясно и так?»), что Джем умолк. Долгое время никто не нарушал молчания, любое слово было бы жестокостью.
– Жестоко, – немного погодя произнес Джем, собравшись с силами. – Жестоко, что у меня отнимают и это: доверие к моим людям. Пойми меня хорошенько, Аяс-бег! И ты и я испытали довольно, чтобы говорить так, как подобает мужчине. Я не могу вам поверить и не поверю. Допускаю, что ваша преданность мне дорого вам обошлась, и не корю вас за то, что вы не выдержали. Тех, кто выдержал, мне уже не увидеть более, как не видел я их до сего дня. Можешь не отвечать, я знаю, что их нет в живых, – не от тебя я узнал об этом, Аяс-бег. – Джем подошел к состарившемуся, изможденному человеку, который некогда был Аясом, и положил руки ему на плечи. (То было одновременно и прощение, и пронизанная чувством вины мольба о прощении.) – Поверь мне, Аяс-бег, велика моя радость, что я вижу вас. Но я буду говорить с вами как с посланцами Д'Обюссона, за каждым вашим словом буду ощущать ложь и принуждение. Вам подменили язык, друзья, а возможно, и мысли; я уже знаю, что такое страх, и знаю, как далеко он заводит. Однако я сохраняю надежду, что сердца ваши не подменены и, хотя мы станем тут состязаться во лжи, вы будете любить меня так же, как я люблю вас. Страх не всевластен, не правда ли, Саади? – обернулся Джем ко мне, а я подумал, что давно уже не был он так похож на того, давнишнего, лучезарного Джема из Карамании. Волнение словно очистило его. Джем оттаял и, уже немного повеселев, спросил Аяс-бега:
– Чего хочет от меня брат Д'Обюссон?
Тот ответил не сразу, он был смущен. Верно, размышлял о том, что его повелитель вытерпел, должно быть, не меньше, чем он, если так просто воспринял его отступничество.
– Ты тоже переменился, мой султан, – ответил он невпопад.
– Что же ты, Аяс-бег? Принимайся за порученное дело! И Аяс принялся. Без всякого выражения – ведь его устами говорил другой – он сообщил Джему о том, что посольство Пруиса окончилось неудачей, против Венгрии сплотились все, включая Папство с Венецией и домом Медичи, дабы помешать походу, от которого бы выиграли Балканы. Но Пруис и без того не имел шансов на успех: Франция не желала упускать Джема – исключительно из корыстных побуждений, подчеркнул Аяс.
– О да! Тогда как Папство желает заполучить меня бескорыстно! – ввернул Джем.
– Повелитель! – несколько оживленней заговорил Аяс. – Пойми, сейчас для тебя всего лучше оказаться в Италии. Венграм тебя все равно не получить. Запад ни за что на свете не допустит возрождения Сербии, Византии, Болгарии, а победа Корвина означала бы именно это. Ты можешь выбирать только между Францией и Папством. В отличие от Франции над Италией сейчас нависла непосредственная угроза; очень скоро она начнет войну с Баязидом, и ты возглавишь эту войну. Здесь тебя всю жизнь будут стеречь, как курицу, несущую золотые яйца. Не верь мне, так и быть! Но послушай Каитбая, послушай родную мать!
Аяс подал Джему несколько свитков и умолк, а Джем, позабыв обо всех, жадно читал. Мне казалось, что чтение это длится бесконечно. Внезапно, выпустив листки из рук, он сжал руками виски и не произнес, а простонал:
– Я уже не могу поверить даже родной матери, Саади! Оставьте меня, убирайтесь к дьяволу!
Какое к дьяволу! Аяс-бег был послан для того, чтобы сделать дело, от которого зависела его голова. Впрямь ли потрясенный страданиями Джема, либо понуждаемый страхом перед братьями, Аяс нашел тот единственный довод, какой был нужен:
– Подумай о нас, мой султан! Пятнадцать наших людей еще у них в руках.
Медленно, очень медленно возвращалось к Джему самообладание.
«О всемилостивый аллах! – думал я. – Доколе будешь ты требовать от Джема все новых и новых жертв? Доколе будешь заставлять его участвовать в собственной казни – неужто нет конца тем истязаниям, коим человек подвергает человека?»
И сам себе ответил: «Нет конца! Если он поистине человек, его можно принудить ко всему, пригрозив не собственной смертью, а страданиями близких. Тогда он будет участвовать даже в собственном, хорошо продуманном, умело осуществляемом убийстве».
– Чего же хочет от меня брат Д'Обюссон? – повторил Джем свой вопрос. Устало, примиренно, безразлично.
– Чтобы ты ответил матери и Каитбаю, мой султан. Вернее, чтобы ты дал мне еще два листа с твоей подписью. И самое важное – не оказывай сопротивления, когда тебя будут похищать!
– Что?! Да ведь братья помешали четырем моим побегам. Кто станет похищать меня? Герцог Карл, Корвин? Кто?
– Нет, мой султан. Тебя похитят братья-иоанниты. Ты не знаешь об этом, но Орден уже не хозяин тебе. Скажи, повелитель, ты не заметил никаких перемен?
– Нет, – ответил Джем, пустым взглядом посмотрев на него.
– Не было ли у тебя во время охоты в окрестных лесах, на дорогах необычных встреч?
– Это допрос, Аяс?
– Ты неверно понял меня, мой султан. Не предполагал я, что новое положение вещей ничем не проявилось в Буалами. Местность вокруг замка кишит королевскими войсками. Они размещены и в нижнем селении, и в более дальних, иногда они переодеты. Леса, в которых ты охотишься, полны засад; сильная стража караулит ночью каждую тропинку, каждый мост или переправу в нескольких днях езды от Буалами. Франция не желает, чтобы ты и далее оставался собственностью Ордена, мой султан.
– Собственностью! – Джем вспыхнул, вскочил, заметался по комнате. – Собственностью… Впервые мне говорят это в лицо. Твое счастье, что это ты, Аяс, ибо я поклялся, что задушу первого, кто на такое осмелится. Глупо… и мелко было бы это, но нет достаточной мести за то, что живой человек превращен в чью-то собственность!..
– Именно за это Орден и отомстит королю, если ты позволишь похитить себя, мой султан, – после довольно продолжительного молчания проговорил Аяс; он ждал, пока Джем поостынет. – Не хочу пугать тебя, но ты еще не знаешь, что такое истинное заточение. Король может заключить тебя в темницу, ведь ему требуется не содействие твое, а лишь деньги Баязида…
– Замолчи, Аяс, замолчи!.. – вяло прервал его Джем. – «Орден будет мстить за меня!», «Орден вернет мне свободу!». Глумление – вот что такое жизнь человеческая, Аяс…
– И все, же, мой султан, – Аяс был весь в холодном поту, – я должен привезти твой ответ.
– Единственное, что нам дозволено, – заговорил Джем (просьбы Аяса он не слышал), – это не давать своего согласия. Я знаю, что несогласие с глумлением надо мной, над моей матерью, над тысячью людей ничего не изменит, но я остаюсь человеком – хотя и не числюсь ни в одной из держав, – покуда не даю своего согласия… Так и ответь им, Аяс-бег: поступайте как знаете, султан Джем своего согласия не дает!
Он говорил, прижавшись лбом к стене, повернувшись спиной к нам, спиной словно бы к самой жизни.
– Я не удивлюсь, если завтра султан Джем возглавит не поход Юго-Восточной Европы, которой грозит опасность, а крестовый поход против турок… Дивное зрелище! Сын того, кто положил жизнь, чтобы вознести Полумесяц над Крестом, будет ехать под христианскими хоругвями и под звуки псалмов… А возможно, еще и носить плащ с крестом на левой стороне груди…
Тут вмешался Синан-бег, до тех пор не раскрывавший рта.
– Нет бога, кроме аллаха, и Мухаммед пророк его! – произнес он, глядя в сторону. – Коль это так, и мы и они служим ему. Только под разными знаками, верно?
– Хоть бы гроб Завоевателя был окован достаточно толстым свинцом, достаточно глубоко зарыт в землю!.. – говорил сам с собой Джем. – Чтобы не видел он, до чего я дошел…
На следующее утро Синан и Аяс в христианской одежде – так обрядили их братья – направились на север. Независимо от ответа Джема им предстояло повидать герцога Бурбонского – первейшего врага французского короля – и предложить ему действовать в деле Джема на стороне Иннокентия VIПI.
Показания Филиппины-Елены де Сасенаж, принявшей в постриге имя Мадлены, о событиях лета 1486 года
Вижу я, что судьба продолжает преследовать меня и спустя столетия. Не принято впутывать благородную даму в судебные разбирательства, но вы, похоже, узнали: со мной подобные церемонии излишни. Да, со мной и при жизни не церемонились, следует ли объяснять почему?
Из-за Жерара. Нет, нет, не просите извинений за то, что возвращаете меня к воспоминаниям, быть может тягостным. Я столько раз принуждена была повторять свой рассказ о Жераре, оправдываться и каяться, что даже перестала испытывать при этом боль. У каждого живого существа есть какая-то мера страданий, за ее пределами боль переходит в озлобление. Видимо, моя мера была не слишком вместительной.
Итак… На двадцать первом году жизни я, дочь барона де Сасенаж, вступила в преступную связь с его оруженосцем. Преступная связь – я столько раз слышала это определение, что даже в моих мыслях оно вытеснило первоначальное: любовь. Не знаю, уступила бы я этому чувству, если б могла предвидеть, как дорого придется мне заплатить за него. Но все вокруг убеждало меня в том, что я не совершаю чего-либо необычного. Моя эпоха, моя среда, семья не отличались чрезмерным целомудрием.
Что вы сказали? Что женщине не подобают такого рода заявления? Да разве я женщина? Женщина – так размышляла я в те долгие годы, которые были оставлены мне исключительно для размышлений, – это такое же существо, как мужчина, только от нее требуют исполнения некой роли. И женщины исполняют ее за дорогую плату. Хорошо, согласна – для меня подобная необходимость отпала, я еще в самом начале допустила в своей роли ошибку и ничем не сумела загладить ее.
Повторяю: наша жизнь не блистала целомудрием. Главы семейств – отцы, мужья, братья – отсутствовали месяцы, если не годы, у них были свои, мужские занятия, их место было не у домашнего очага. Дома оставались женщины, окруженные – для охраны и услуг – толпою юношей, не доросших (не столько по возрасту, сколько по своему происхождению) до тех занятий, о которых я только что упомянула.
Подразумевалось, что знатные дамы в отсутствие мужей предаются не только вышиванию по бархату. В эти месяцы одиночества жизнь подносила нам всякого рода соблазны и удобнейшие условия. Дамы заботились исключительно о соблюдении тайны. Это было нетрудно, в домашнем мире существовал некий негласный союз против тех, кто отправился странствовать по белу свету. Союз этот, вероятно, крепился завистью и зависимостью, однако был нерушим.
Наш род был небогат, и челядь немногочисленна. Мой отец, второй сын барона де Сасенаж, должен был удовольствоваться замком своей жены, моей матери, и всю жизнь терпеть соседство ее брата с женой и детьми. Он избегал их (я редко видела отца меж нами), и нет ничего удивительного в том, что его сыновья, мои братья, тоже в свою очередь отправились странствовать. Один из них пал совсем юным в войне Неаполя против Папства, а второй, судя по доходившим до нас известиям, нанялся в войско короля Матиаша. Таким образом, я оставалась единственной наследницей замка. Указываю на это обстоятельство потому, что оно в некоторой степени объясняет, отчего именно мое прегрешение осталось непрощенным среди тысяч не менее тяжких.
О том, что было между мной и Жераром, мне бы говорить не хотелось – к делу Джема это отношения не имеет, – пусть хоть что-то из моей жизни принадлежит мне одной. Жерар состоял в оруженосцах. И по сю пору мне неясно, была ли то любовь или только влечение, потому что он стоял неизмеримо ниже меня, однако был молод и хорош собой, и три наших месяца сохранились у меня в памяти просто осязаемо.
Но вот однажды нас изловили. Изловил дядя – мой отец в очередной раз где-то странствовал. Я тогда еще не поникала, зачем дядя поднимает вокруг этой истории столько шума, зачем объявляет во всеуслышание о позоре всей нашей семьи. То, что он убил Жерара, мне понятно, это было в порядке вещей, но этому убийству можно было придумать сотни объяснений, если вообще необходимо давать объяснения по поводу смерти твоего слуги. А мой дядюшка словно искал случая излить «свой стыд» перед все большим числом людей, пока не довел мою матушку до исступления. День и ночь она твердила мне, что я еще до возвращения отца должна постричься в монахини, если не хочу, чтобы произошло нечто более страшное. Не видя, что может быть страшнее тех страданий, которые уже выпали мне на долю, я настаивала, чтобы моей судьбой распорядился сам отец. Одним словом, отказалась уйти в монастырь. Впрочем, мое согласие мало бы что изменило. Ни одну благородную даму или девицу не принимали в монастырь просто так: нужны были деньги, много денег – приданое невесты Христовой. Откуда могла я их взять?
Я прожила ужасные недели. Все в Сасенаже – родные, соседи, челядь, даже крестьяне – смотрели на меня, как на чудовище. Одни, я знала, корили меня за то, что опозорила дворянство, другие – за то, что из-за меня погиб человек их сословия. Эта двойная вина терзала меня так жестоко, что по ночам я не смела погасить свет, – из темноты тут же выступал Жерар, каким он запомнился мне в последнее наше свидание: разгоряченный, гордый своей мужественностью. Таким был он за час до того, как дядюшка убил его. Вывел во двор, орудия взять не разрешил – можно ли драться, как с ровней, с собственным слугой! – и пронзил мечом. В пах, чтобы дольше мучился. Жерар действительно несколько часов истошно выл, ползая по безлюдному двору (все попрятались), кровью рисуя на каменных плитах страшный узор.
В моих кошмарах его смертельная рана зияла всюду – Жерар превратился в кровоточащую рану моей совести. Тем лучше. Иначе я бы умерла от жалости к себе самой.
Я уже не проливала слез. Предел боли был преодолен, я не ощущала ничего, кроме холодной злобы. Не заплакала я и тогда, когда наступил час предстать перед отцом, чтобы подробно рассказать ему, с кем, когда и как. Дядюшка сидел рядом, чтобы не дать мне что-либо утаить. Отец, бледный, со стиснутыми челюстями, напоминал настоящего убийцу, так что я ожидала самого страшного – ведь меня уверяли в этом многие недели подряд. Но едва я, призвав на помощь святых, открыла рот, как барон де Сасенаж гаркнул:
– Довольно! Могу себе вообразить это и без вас! Он вскочил. Я читала уже отходную молитву и – хотя последнее время жила в мучениях – ощутила боль оттого, что прощаюсь с жизнью. Но отец прошел мимо меня, и, еще не успев обернуться, я услыхала за своей спиной удары тяжелого его кулака. Барон колотил своего шурина с ожесточением, какое находит на всех терпеливых людей, когда их терпение иссякает. Дядюшка был застигнут врасплох, хотя, думаю, он и в ином случае не стал бы противиться, так как не отличался храбростью. «Гиена! – хрипло кричал отец. – Гад ползучий! Исчезни!» Когда дядюшка вырвался, чтобы навсегда исчезнуть с наших глаз, и мы остались с отцом вдвоем, он вдруг Рухнул на скамью, спрятал лицо в ладони, а я (лишь тогда поняла я, как все во мне испепелено, ибо не ощутила ни жалости, ни раскаяния) подумала – неужто он и впрямь плачет? Он не плакал.
– Елена, – сказал он, немного помолчав. – Ты сама понимаешь, какое зло причинила мне. Барон де Сасенаж никогда не обладал ни богатством, ни властью; неудачник, принятый в дом зять – вот кто я. Но я надеялся, что по крайней мере сохранил незапятнанным свое имя…
Он не сказал: «Ты запятнала его».
– …Ты, возможно, на это возразишь, что ты не первая и не единственная. Я знаю людей, нас окружающих, и знаю, что для них преступник лишь тот, кто изобличен, – тебе следовало соображаться с этим. Следовало помнить, что по нашему дому рыщет некто, кому выгодно, чтобы барон де Сасенаж лишился прямых наследников. А я не допущу этого! Я не стану отсылать тебя в монастырь, Елена. Вдвоем с тобой мы исправим оплошность, которую вдвоем же и допустили!
Вот каким человеком был мой отец – да простит его господь! Может, хоть вы оцените его по достоинству, потому что в Дофине он стал предметом насмешек. Все находили, что он должен был покарать дочь, отречься от нее, дабы в какой-то мере сохранить свое имя. Мой отец сделал как раз наоборот: стал брать меня с собой на все охоты, турниры и балы, какие случались в Дофине.
Я не была слепа – страдание обострило мое зрение – и видела, что барон де Сасенаж навязывает мое общество местному дворянству, выставляет напоказ мои прелести ради того, чтобы найти мне мужа. Я испытывала бесконечное унижение. Из-за отца – поверьте, о себе я уже давно не заботилась. Я замечала, как он на людях держится некой тонкой линии поведения – показывая, что осуждает свою дочь, он вместе с тем никому не позволял какой-либо вольности по отношению ко мне. Я чувствовала, как он содрогается при любом взрыве хохота из опасения, что смеются над ним и надо мной. Меня одолевала жалость к отцу – помимо всего прочего, он жил в постоянном страхе: а вдруг однажды утром найдет меня в петле? Я старалась убедить его, что в меру веселюсь (он пришел бы в бешенство, испытай я истинную радость), что благодарна ему за то, что он простил меня. Один господь знал, легко ли мне было!
Несмотря на все старания отца (а возможно, именно по их причине), он не нашел мне жениха. Мужчины бывали со мной любезны, любезней, чем это принято, но – наедине. Я не самообольщалась – просто они считали меня доступной. В обществе же я чувствовала вокруг себя пустоту и холод. Никому не хотелось стать предметом насмешек – рядом с бароном де Сасенаж и его дочерью.
Так минули четыре года – я променяла бы их на четырехлетнюю каторгу. С каждым годом мой отец становился все нетерпеливей, мнительней, вспыльчивей и злее. Отправлять меня в монастырь было уже поздно – какое бы он нашел тому объяснение? Ведь он простил меня перед людьми, показал, что не стыдится меня. Выхода не было: мы объезжали соседние замки, где – званые, где – незваные, я демонстрировала свои новые туалеты и умение ездить верхом – в чем ни одна дама Дофине не могла со мной состязаться.
Когда мы узнали, что в Буалами поселили турецкого султана, о котором шло столько толков, отец увидел в этом счастливую возможность: Буалами на какое-то время станет средоточием местной знати всего Дофине и Савойи, туда будут стекаться чужеземцы. Вероятно, кому-нибудь из них – из чужеземцев, не ведающих, кто я, – мой отец рассчитывал преподнести меня; я понимала, что он отдал бы меня теперь даже за странствующего певца.
Мы прибыли в Буалами вместе с другими дворянами округи. Замок был до отказа забит братьями-иоаннитами, трубадурами и гостями. На следующее утро начались сборы на охоту.
В то утро я и увидела султана. Мы уже были в седле, когда он вышел из дверей в сопровождении еще одного турка. Я столько слышала о нем, что стала разглядывать во все глаза.
Султан Джем был молод, лет под тридцать, неожиданно светловолосый для сарацина. Я бы не назвала его красавцем, черты его были негармоничны и чуть крупноваты, как у простолюдина. Совсем иным показался мне его приближенный – не такой высокий, не смуглый, но с иссиня-черными волосами и глазами; не только в чертах, но и в выражении лица, в его манерах было что-то необычайно тонкое, изысканное. Глядя на них, невольно Думалось, что Саади – принц, а Джем – его оруженосец.
Не слишком доверяйтесь этой моей оценке: я столько настрадалась от мужской грубости, от всех этих размахиваний кулаками, громких голосов, жестокости, насилия, что, наверно, потеряла вкус к тому, что принято считать мужественностью. Лишь в одном я уверена: Джем не обладал благородными манерами. Голос у него был слишком громкий, гортанный, каждое слово он сопровождал жестами, словно не говорил, а взмахивал веслами, – короче говоря, в нем не было благообразия. Мое первое впечатление о султане Джеме было для него нелестным.
Потребовалось несколько дней, чтобы оно переменилось. Я увидела нечто трогательное, подкупающее в этом человеке – то была естественность. Не думайте, что наше дворянство отличалось чрезвычайной изысканностью, за легчайшим покровом хороших манер скрывались вчерашние солдаты, стоило им сесть за стол и перестать сдерживаться – они становились нестерпимы. Впрочем, я не права. Не естественность составляла очарование Джема, а то, что в своей естественности он не проявлял никакой пошлости. Даже во хмелю Джем высоко стоял над нашим дворянством.
Как ни была искалечена во мне женщина, женское чутье тотчас подсказало мне, что я привлекла внимание Джема. То было не больше чем любопытство, но лишенное грязной двусмысленности, с какой меня разглядывали другие; для Джема я была необычной не оттого, что состояла в любовной связи с оруженосцем. На третий вечер к его любопытству примешалось восхищение. Вожделения я не заметила.
Я не отдавала себе отчета в том, что отвечаю ему взглядом (ведь так утверждает Саади?), – я уже умерла для всего, что составляет сущность женщины. Наверно, мне просто было приятно, что есть человек, который не знает и не узнает, кто я, ибо не понимает нашего языка.
Во время охоты я обычно ехала поодаль от всех – несколько минут свободы от взглядов и усмешек. На скаку мне всегда чудилось, что если так вот мчаться и мчаться, я примчусь в неведомую страну, где и сама буду всем неведома. Заметив, что Джем наблюдает за моей одинокой скачкой, я обрадовалась – его я бы тоже взяла туда, мы оба были чужими в Дофине.
Мы не обменялись ни единым словом в Буалами, так что для меня было полной неожиданностью, когда однажды по возвращении с охоты Джем подставил мне свое плечо. Сделал он это неловко, и мне пришлось крепко ухватиться за него, чтобы не упасть. На короткое мгновение я ощутила его горячее дыхание, увидела его глаза совсем рядом со своими. Признаюсь, то было уже желание: оно нахлынуло с обеих сторон с огромной силой – вероятно потому, что и он и я проснулись для любви, а между тем были долго лишены ее.
Точно издалека услышала я (ведь оба мы на миг ступили на ту самую землю, о которой я говорила раньше), как дворяне Дофине покатываются со смеху. Этого оказалось достаточно, чтобы меня вновь обуял страх: что скажет отец?
Он действительно был хмур – в тот вечер я чувствовала приближение бури, они стали часты в последнее время. И именно поэтому я уже отвечала на улыбку Джема и сама улыбалась ему. В конце концов, если платишь столь дорого, пусть хоть будет за что платить! Так думала я тогда, так думала и потом.
– Елена, – сказал мне отец после того ужина, – я более не в силах выносить это. Четыре года я делаю вид, будто не замечаю, какими глазами смотрят на тебя. Но то были люди, имеющие на это право, – ты преступила их закон, наш закон, наш бог будет судить тебя! Но то, что произошло сегодня, выше моих сил, Елена! Животное, из тех, что имеют по нескольку жен, осмелилось вожделеть к моей дочери! И что еще хуже: я вижу, что ты не опечалена этим, не оскорблена. Неужто ты до такой степени потеряла чувство приличия?
Знаете, когда меня оплевывали, а я принуждена была каждому объяснять, что и как было у меня с Жераром, тогда я терпела. Отчего сейчас мной овладел гнев, стремление отстоять себя? Оттого ли, что чувствовала себя не совсем одинокой, – за моей спиной стоял Джем? Что я говорю! – мы ведь слова единого не сказали друг другу. Представьте себе, какой я была растоптанной, если даже миг сочувствия со стороны незнакомого человека уже придал мне смелости.
– И я тоже не могу более! – воскликнула я. – Отчего ты думаешь, что только ты страдаешь? Если я все еще продолжаю существовать, то ради тебя, отец. Преисподняя кажется мне землей обетованной. Кто говорит мне о каком-то животном? – неистово продолжала я, словно изливая в крике свою четырехлетнюю боль. Кто из съехавшихся сюда не имеет по нескольку жен, а эти жены – по нескольку мужей? Отчего только я и Джем являемся пятном на их добропорядочности? Ведь в миг нашей близости он был бы моим единственным мужчиной, а я – его единственной женщиной. Какое значение имеет то, что было прежде и будет потом?
Повторяя сейчас эти слова, я не стыжусь их, но вижу, сколь они смешны: вот до чего доводит человека долго подавляемая боль. Однако мой отец не рассмеялся. Он опять сдавил руками виски, было похоже, что он плачет.
– Боже, – сказал он, – возьми меня к себе, чтобы я больше ничего не видел и не слышал!
Не думайте, что он сдался. На следующее утро мы покинули Буалами. При расставании султан смотрел на меня в оцепенении. Не страдание прочла я в его взгляде, а вопрос. «Отчего?» – вопрошал он. В самом деле – отчего? Но что могла я ответить ему, если сама не получила ответа?
Я быстро забыла о нем; любое новое переживание поглощалось безысходностью моих дней.
Весной следующего года нас посетил брат Бланшфор.
В Сасенаже не привыкли принимать почетных гостей, да и никто из нашего рода не состоял в Ордене Святого Иоанна, командором которого являлся брат Бланшфор. Отец принял его в возможным приличием, насколько позволяли средства. По окончании обеда Бланшфор уединился для беседы с отцом, что весьма нас всех озадачило, – обычно барона де Сасенаж такой чести не удостаивали.
«Джем!» – неожиданно мелькнуло у меня в голове. Ведь Джем был пленником иоаннитов – значит, произошли какие-то новые, связанные с Джемом события. Я подумала об этом со страхом. Заботила ли меня участь Джема? Отнюдь. Просто я с благодарностью вспомнила о том, что есть где-то человек, не нанесший мне обиды.
Под вечер – до того времени отец и брат Бланшфор продолжали беседовать – они пригласили меня.
Я нашла отца возбужденным – радостно возбужденным, показалось мне. Он подкреплял слова иоаннита одобрительными возгласами, он сделал все, чтобы принять участие в игре, которой предстояло избавить его от непрестанного унижения. Точнее – от меня. Все имеет конец на этом свете, отчего же родительской любви быть тому исключением?
– Когда ваша задача будет исполнена, мадам, – таковы были заключительные слова Бланшфора в тот вечер, – вы заслужите глубокую признательность церкви, личную признательность святого отца. И его поддержку. Вы изберете для себя самый изысканный монастырь во Франции или Италии, но важнее всего не это. Вы получите полное отпущение грехов, Елена. Людей, получивших отпущение грехов от самого папы, можно счесть по пальцам.
– Смела ли ты мечтать об этом, дочь моя? – Отец обнял меня и на этот раз действительно заплакал.
– Нет, – ответила я. К тому времени я уже не просто оцепенела, я была каменной. – Не смела…
Тринадцатые показания поэта Саади о событиях весны 1487 года
То была для нас очень печальная весна. От братьев – они держались теперь чуть ли не нашими единомышленниками – нам стало известно о том, что папские легаты успели не больше, чем Пруис. Королевский Совет дал им понять, что уступит Джема только за гору золота и еще одну кардинальскую шапку. Иннокентий не располагал первым и не мог согласиться на второе. Так что и эта попытка переправить Джема поближе к тем землям, которым угрожал Баязид, была обречена на провал.
Джем воспринял эту весть с нескрываемым удовлетворением: он все еще переживал неуспех миссии Пруиса, – какое нам было дело до махинаций Франции и папы!
Признаюсь: возможно, мы были неправы, но Джем ни разу не попытался трезво оценить те преимущества, которые сулил ему Рим. Он не желал, говорил он, участвовать в чем бы то ни было, связанном с монахами и попами; он видел истинную их суть, знал их приемы, поэтому миссия Синана и Аяса, посланных для того, чтобы склонить нас к единодействию с Папством, не только не достигла цели, а наоборот: Джем увидел в ней новое доказательство двуличия иоаннитов. Джем все больше проникался ненавистью к Ордену и святому отцу. Вы же знаете, когда у тебя отнимают многое (пока еще рано говорить – все), ты поддерживаешь себя любовью: любовью к своему делу, к наслаждениям или в крайнем случае к какому-нибудь человеку. Всего этого лишился Джем и сменил любовь на чувство равной силы – ненависть. Теперь он до сладострастия ненавидел всех, одетых в черное, начиная с Иннокентия VIII (хотя тот, будучи папой, носил белые одежды) до рядовых братьев-иоаннитов, каждодневно омрачавших нашу жизнь. Джем отдавал целые часы проявлению этой ненависти; с тем же наслаждением, с каким некогда он искал все более и более изящные слова, дабы излить свою любовь к Красоте, з последнее время он выискивал самые низкие, самые гнусные и обидные прозвища для братьев. Я только диву давался, откуда находит он силы с каждым днем все ожесточенней проклинать их. Я не противоречил ему: я знаю, что ненависть, как и любовь, требует выхода.
Словом, узнав о том, что Папство желает иметь в нем союзника против Франции, он дал волю дотоле не излитой ненависти к нашим хозяевам. Они же еще никогда не выказывали нам столько внимания; мягко говоря, братья подольщались к нам. Они осведомляли нас о новостях, о которых мы и не спрашивали, уверяли нас, что скука, в которой мы пребываем (разве только сейчас они заметили ее?), окончится, если папа одержит верх над Королевским Советом, перечисляли нам, отнюдь не по-монашески, соблазны Вечного Города.
«Гм!» – неизменно отвечал Джем на подобные речи, допекая братьев своим безразличием.
Не стану перечислять все попытки похитить нас, которые тем временем предпринимали Карл Савойский либо Папство. Эти сообщения мы получали от братьев, так что они вполне могли быть и ложными. Либо укороченными, либо преувеличенными. Упомяну лишь об одной такой попытке, ибо она изменила течение жизни в Буалами, – мир для нас ведь замыкался пределами этой крепости.
Герцог Лотарингский, союзник Бурбона и враг мадам де Боже, следовательно, особенно ярый приверженец Папства, установил связь с Карлом Савойским (предполагаю, что их заговор был раскрыт уже на этой стадии) и попросил у него людей, на которых он мог бы вполне положиться. Карл дал ему двух таких людей – Жофруа де Бассомпьера и Жакоба де Жермини, слывших крайне ловкими в подобных предприятиях. Помощь герцога Лотарингского ограничилась отправкой трех десятков отчаянных смельчаков. Они должны были добраться до Савойи и оттуда вместе с двумя упомянутыми дворянами и солдатами Карла напасть на Буалами и увезти Джема. Не знаю, как они себе представляли это, – известно, что в те времена замки месяцами выдерживали осаду тысячного войска. Но Карлу, должно быть, рисовалось какое-то необычайное, рыцарски-героическое предприятие. Что касается герцога, мы были убеждены, что его полупомощь была просто уступкой более сильным союзникам – папе и герцогу Бурбонскому.
Тридцать головорезов из Лотарингии были задержаны где-то в Бургундии стражей короля и легко признались королевскому Совету (куда их всех скопом доставили), в чем состояла цель их путешествия.
Я предполагал, что для Карла эта весть гораздо более тяжела, чем для нас. Мы уже свыклись с почти одинаково неудачными, нерешительными попытками освободить нас. Кроме того, эти неудачи особенно уязвляли братьев. «Как это славно, Саади! – говорил Джем. – Сидишь ли за столом, едешь ли на охоту, ты сознаешь, что проигрывает сейчас кто-то другой, а не ты! Прекрасно!» Ему не удавалось обмануть меня – совсем не был он похож на человека, которому «прекрасно».
А вокруг Буалами буйствовала весна. Покрытые влажной зеленью холмы, казалось, светились изнури, потому что над ними висело серое небо без солнца. Впрочем, солнце, быть может, и было, но я на севере просто не мог различить, светит оно или нет, – там все окутано сероватой дымкой самых разных оттенков. Весна там не запоминается яркими красками, ослепительным сиянием. Северная весна для меня – это лишь очень сочная, очень нежная и молодая зелень! Я сожалел о том – простите за выражение, – что я не корова, одна из тех многочисленных белых и золотистых коров, которых мы видели из окна. Ибо чудо весны, сдается мне, вкушают там преимущественно эти животные.
Впрочем, шутки неуместны, когда мне следует сообщить вам о важном событии, о новом повороте в судьбе Джема. Поворот этот наступил как раз в апреле 1487 года: в замок Буалами прибыла королевская стража. Так им и надо! Я имею в виду иоаннитов. Тут-то они, наверно, поняли, что испытывали мы, когда число их вокруг нас непрерывно возрастало, когда мы говорили себе: вот и еще тюремщики!
В полной тишине, если не считать звяканья металла, королевские рыцари поднимались по склону холма к крепости. Монахи сверху взирали на них, онемев от неожиданности. У французов вид был деловитый. Въехав во двор, они спешились (звяканье металла при этом звучало еще радостней), выстроились по шесть в ряд, впереди – знаменосец, и лишь тогда грянули их барабаны. Пока монахи; пускались со стен крепости, Буалами гудел, точно каменный колокол.
Сражение? Нет, до сражения дело не дошло – Буалами был островком Ордена среди обширных французских владений. Просто из толпы иоаннитов вышел брат Бланшфор (он последовал за нами и сюда, в Дофинское командорство) и осведомился у рыцарей короля, не воздавая им никаких почестей, что привело их сюда.
Я и то мог бы ответить ему (давно уже ожидал я, что вмешательство короля в дело Джема станет явным), но ответил начальник отряда – я так до конца и не узнал, в каком он был звании.
Весьма холодно объяснил он Бланшфору, что последняя попытка напасть на Буалами вынудила короля подумать о нашей безопасности. Орден, дескать, не в состоянии сам, своими слабыми силами отстоять Джема. Короче – королевская стража прибыла для того, чтобы усилить защиту крепости. Теперь Джем мог бы с полным основанием воскликнуть: «Прекрасно! Семь лет подряд вы убеждаете меня, что не отходите ни на шаг из-за того, что моя безопасность, мол, под угрозой? Так вот же вам, получайте! Пусть и вас тоже слегка покараулят, ощутите сами, каково это – когда кто-то следит за тобой денно и нощно».
И братьям пришлось терпеть это чужое вмешательство; явный страх и растерянность на их бородатых физиономиях стали отныне предметом наших с Джемом бесед.
Еще одно доказательстве тому, что мы не животные: для человека злорадство – наслаждение более глубокое, нежели собственная удача. Разумеется, и эта утеха вскоре опостылела нам – тем более что французские солдаты сделали еще сумрачней и без того не слишком безоблачный надзор над нами. На охоте нас теперь сопровождали две стражи – монашеская и королевская; за столом наши сотрапезники делились на две группы – монахов я людей короля. Именно делились, поскольку они всегда сторонились друг друга, оставляя между собой незанятые места, и обменивались взглядами, которые я бы не назвал любезными. Мне казалось, что над Буалами летают искры, так раскален был воздух вокруг него. И все это было бы очень забавно, если бы не угнетало до безумия. В какой-то мере весна помогала нам переносить это напряжение. Освобожденный хотя бы от стражи холода (Джем до самого конца не мог к нему привыкнуть, днем и ночью жаловался на ветер и сырость), мой господин лишь под вечер возвращался в замок с мыслями о новых прогулках, охотах, посещениях. За всю эту весну он ни разу не спросил о бароне де Сасенаж или о его дочери, не выразил желания пригласить их в Буалами.
Я слишком хорошо знал его, чтобы поверить, будто он забыл о них. Скорее допускал, что воспоминание о Елене – одно из самых для него дорогих и он боится, как бы при новой встрече оно не оказалось разбитым. Пока однажды – к великому нашему изумлению – отец и дочь де Сасенаж без приглашения пожаловали к нам. Они прибыли прямо к обеду, не будучи перед тем представленными. Когда Джем вошел – он входил последним, как хозяин, – я увидел, как он оцепенел, и совсем нетрудно было догадаться, что в продолжение долгих месяцев молчания мнимо забытая Елена занимала его мысли.
Придя в себя, Джем порывисто направился к столу, сияя так, словно, кроме него и Елены, вокруг не было ни души. Он поклонился ей, как принято было у них, она низко присела, разостлав по полу десять ярусов нижних и верхних юбок.
Я пытался – поскольку эта сцена была мне предельно ясна – одновременно не спускать глаз с наших сотрапезников, хозяев или стражей, как вам будет угодно именовать их. Уже давно ни одно событие вокруг нас не происходило просто так, без какой-то скрытой причины. Мне хотелось угадать, что именно вызвало появление де Сасенажей, кто из наших тюремщиков призвал их.
Старания мои были тщетны. Французы-рыцари стояли с почтительнейшим выражением на своих разбойничьих физиономиях, а иоанниты, как всегда, казались высеченными из камня. Только брат Бланшфор, племянник Д'Обюссона, вглядывался в присутствующих столь же пристально, как я, хотя делал это более умело. Этот ход либо затеян Бланшфором, либо направлен против него, заключил я. Вернее, так ничего и не сумел заключить.
Мы покончили с дичью, начались неумеренные возлияния. Пока что Джем и Елена обменивались только взглядами и полуулыбками. Я заметил, что отец и дочь на этот раз поменялись ролями. Более принужденной, более хмурой и сосредоточенной была Елена, тогда как у старика появилась новая для него уверенность, важность и явное внимание к своей красавице дочери. Она же почти не замечала отца, часто отвечала лишь на его повторный вопрос, да и то как бы с презрением. И распространяла это презрение словно бы не только на отца, а на все общество, делая застольную беседу натянутой.
Ничто из этого запутанного клубка взаимоотношений не достигало Джема. Он смотрел на Елену горящим взором, придвигал к ней чаши и блюда – словом, открыто выставлял себя на посмешище. Однако я радовался тому, что в его жизни наступит короткий просвет, который отгонит неизменные мысли и страхи. После обеда – мы остались с ним наедине, но я молчал, чтобы не отрывать Джема от его приятных переживаний, – он заговорил первый.
– Саади, прошу тебя всегда быть возле нас, когда мы е Еленой.
– Тебе нужен переводчик? – сказал я, подавив улыбку. – Рассчитывай на меня!
И все же, хоть я и старался быть неотлучно при нем, хоть и во второй половине дня, и на другой день, и на третий Елена не только не избегала его, но и ободряла своим неизменным присутствием, Джем продолжал говорить о ней только взглядами, точно слова пугали его.
Лишь на третий вечер, когда общество порядочно подвыпило, а Елена, казалось, была не только скучающе-трезвой, но просто больной от досады, Джем взял меня за локоть и, потянувшись через стол, обратил к ней вопрос, для которого ему, очевидно, и потребовалось целых три дня:
– Чем мог бы я прогнать вашу скуку, мадам?
Нечто похожее на насмешку скользнуло по ее лбу, но не разгладило его. Она ответила, как показалось мне, чуть неуместно, вопросом на вопрос:
– Как ваше здоровье, ваше высочество?
– Прекрасно, – удивился Джем. – Прекрасно… Но отчего вы спрашиваете?
– Оттого, что наш воздух должен быть вреден вам. Мне все кажется, что вы страдаете от наших холодов.
Эти слова ничего не означали. Елена явно стремилась не завоевать расположение Джема, а доказать кому-то, что вышла из своей замкнутости. Джем с его чуткостью тотчас уловил это, он сожалел, что нарушил молчание и словами спугнул возникшую было близость. Потом, как ныряльщик перед прыжком в воду, перевел дух и сказал:
– Позвольте предложить вам завтра утром совсем небольшую охоту, мадам. Мы будем только втроем. Не отказывайте, молю вас!
Елена упорно разглядывала свой перстень. Ее лицо выражало оскорбленный гнев. Но тут вмешался старик де Сасенаж, напрасно мы сочли его захмелевшим.
– Это честь для моей дочери, ваше высочество. Завтра утром она будет ожидать вас.
Елена искоса взглянула на него, поклонилась и исчезла. Брат Бланшфор проводил ее озабоченным взглядом.
– Саади, я оскорбил ее! – шепнул мне вконец расстроенный Джем. – Нам их обычаи неизвестны. Как быть, Саади?
– Поднеси ей свои стихи, – сказал я. – Или какую-нибудь драгоценность… Откуда мне знать? Не знаю, что более подходит даме, у нас они просто женщины.
– Да… – протянул Джем, и весь остаток вечера я чувствовал, что он обдумывает свое завтрашнее поведение.
Утром я разодел его так, слоено мы отправлялись не на охоту, а для встречи с какой-либо владетельной особой. Джем перемерил несколько нарядов, отвергая один за другим как неподобающие, – никогда не проявлял он такой озабоченности тем, как выглядит. Когда же одевание закончилось, он был невообразимо прекрасен – так, наверно, выглядел Харун аль-Рашид на своей первой свадьбе…
Должно быть, моя мысль проявилась в улыбке, потому что Джем разгневался, скинул с себя все эти тряпки (по его собственному выражению) и надел обычное свое охотничье платье. Оно было не по-нашему облегающим – постепенно мы и в одежде стали соображаться со здешними обычаями, – так что красноречиво подчеркивало стройные ноги Джема, его узкие бедра, втянутый живот и не сдавливало плеч – плечи у Джема были прекрасно развиты, как у пловца.
Кто из наших людей – давно иль недавно почивших, заточенных в узилища Баязида или на Родосе – узнал бы своего повелителя в этом светловолосом франке? Да и был ли, в сущности, нашим Джем, этот трагический сплав Востока и Запада, кровосмешение между христианством и исламом, смесь эпикурейства и стоицизма, красивое сочетание русых волос и смуглой кожи? Не была ли вся его жизнь доказательством, что помесь всегда остается ничьей – ей не удается сгладить шов на стыке двух ее половинок; зачем наши или чужие хотят воспринимать его целостно?
Джем, перепрыгивая через две ступени, спускался по лестнице, все его существо выражало снисходительную устремленность, какую позволяют себе лишь очень молодые и очень красивые мужчины.
Мы застали нашу даму во дворе, но она еще не успела сесть в седло. Полы ее юбок были заткнуты за пояс, сплетенный из золотых колец; нижние юбки – белые, жесткие, расшитые – были чуть короче и выставляли напоказ стянутые мягкими сапожками икры. Она была хороша собой, несмотря на худобу. Именно худоба и делала Елену словно бы не плотской и потому сильно действующей на воображение. Джем помог ей сесть на лошадь, она оперлась о его плечо только пальцами, словно в ладони ей виделось слишком много близости и наготы. Джем неотступно искал ее взгляда, но она нарочно отводила глаза.
Мы поскакали через весенние луга. Стража на расстоянии следовала за нами. Каким неприветливым ни казалось мне Дофине, весна украсила и его: пестрым ковром цвели травы, издавая слабый терпкий аромат, по небу вереницей плыли прозрачные облака.
Джем и Елена ехали впереди. Я старался держаться поодаль, чтобы не мешать их безмолвной беседе, но Джему все же понадобились слова.
– Сзади, – позвал он меня. – Отчего ты оставляешь нас? Спроси мадам, хорошо ли она спала.
Я спросил. Как и накануне, Елена не ответила на его вопрос. Женщины и впрямь обладают чисто материнским состраданием: они по доброй воле берут на себя первые трудности в решающем разговоре.
– Всю минувшую зиму я часто думала о вас, принц… – Она сказала «принц», а не «ваше высочество».
– Я, вероятно, еще чаще, мадам, – ответил он и добавил: – В моем страшном одиночестве.
Принято считать, что мужчина в стремлении произвести впечатление на предмет своей любви совершает подвиги на том поприще, к какому чувствует призвание: демонстрирует силу икр и плеч, если он атлет; расстилает ковер красивых слов, если он поэт; рассыпает толстым слоем алмазы и жемчуга, если он властитель. Все это позже, уверяю вас, – этим мы стараемся не завоевать женщину, а удержать. А первый удар, какой мы наносим ей – удар надежный, безотказный, это пробуждение в ней сочувствия; ничто так не сбивает женщину с ног, как жалость.
На это и нацелился Джем; с первых же слов он сказал ей о своем одиночестве, хотя как раз в ту пору я бы не назвал его одиноким.
Елена повернулась, она уже не прятала глаз. В ее глазах было понимание.
– Как переносите вы одиночество, принц?
– Вы можете вообразить себе это. – И тут Джем опять послушался своего чутья – не стал описывать всего того, что без его описаний могло представиться Елене гораздо более страшным, чем было в действительности. – Случалось ли вам сгорать в одиночестве, брошенной, забытой, оскорбленной?
Девица молчала, словно борясь сама с собой. Я чувствовал, как замкнутость, позволявшая ей переносить именно одиночество и обиду, боролась с извечной потребностью человека открыться, чтобы встретить сочувствие к себе. Я знал, что победит последнее, Джем ставил наверняка.
– Случалось, – ответила Елена голосом, исходившим из самых глубин ее существа; я впервые слышал ее истинный голос. – Мне кажется, все, что испытываете вы, давно уже мне знакомо… Быть может, в еще более жестоком и безнадежном виде.
– Елена!.. – Джем остановил коня и по-юношески порывистым движением положил ладонь на ее пальцы. Я смотрел на их руки, две руки – мужская и женская – на влажной шее лошади. Джем еле заметно ласкал ее руку, рука Елены не шевелилась, но она была не мертвой, а застывшей. Я не раз замечал, что очень порывистые, страстные люди – стоит им скинуть с себя путы – уже не могут остановиться на полдороге.
– Верьте мне!.. – начал Джем избитым заклинанием влюбленных, явно не зная, как продолжать.
Но Елена вдруг резко отдернула свою руку, вскинула голову и посмотрела на Джема с отчаянной решимостью:
– А вы мне не верьте, принц, не верьте!
И оглянулась исподтишка, словно за ней гнались а могли услышать.
Джем был потрясен.
– Елена, – сказал он, – не требуйте от меня невозможного! Вы для меня – мое второе «я», только лучшее и, наверно, больше страдавшее. Ни один ваш поступок не может быть дурным, иначе нарушилась бы гармония в мире. Я верю вам, как самому себе, Елена.
Девица де Сасенаж расплетала поводья своего коня, между бровями у нее пролегла сердитая складка, как у ребенка, когда ему в чем-то отказано.
– Я вас предупредила, принц, – проговорила она.
Я отлично помню этот их разговор, в котором был посредником. И рад тому, что помню, ибо он оправдывает Елену.
Знаете, часто говорят, будто в любви кто-то один всегда бывает коварно и холодно обманут. Чистейшая ложь! В любви человек упрямо, невзирая на правду – не только на ее намеки, даже на открытые признания, – всегда сам обманывает себя. И это, вероятно, лучшее, что есть в любви: она позволяет тебе полностью забыть об истине!
Дальнейший разговор между обоими я вам не передаю – он в точности повторял все подобные объяснения, в которых любовь лишь повод подробно поведать о себе желанному слушателю. Приходилось вам замечать? Люди редко слышат тебя, когда ты им говоришь о себе; слышат друг друга только влюбленные.
Я перебрасывал их речи от одного к другому. Оба они не воспринимали меня как нечто от них отдельное, я был их живым эхом. Забавно было видеть, как Елена или Джем на мгновение застывали с улыбкой па устах: пока один из них произносил свои пылкие слова, второй еще не понимал их значения. Лишь после моего вмешательства лицо его вспыхивало, слова достигали сознания. Истинным чудом был этот сокровенный любовный разговор втроем!
На обратном пути они мчались так, что я едва поспевал, но они, пожалуй, уже не нуждались во мне. Я видел их впереди себя: молодые, легкие, подгоняемые одним и тем же ветром – предчувствием счастья и страдания, надеждой, довернем и страхом. Я следовал за ними, размышляя о том, что надо быть очень неискушенным, чтобы завидовать влюбленным; мне они внушали жалость.
Последующие дни Джем леденел от ужаса при мысли, что ее у него отнимут.
Нет, на этот раз бдительность братьев дремала, покуда Джем на глазах у них завоевывал близкого себе человека. Это было подозрительно.
– Не удивляет ли тебя, мой султан, что братья внезапно превратились в сводников?
– Не смей произносить таких слов в связи с нею! – прикрикнул на меня Джем, доказывая тем, что очертя голову продолжает убегать от истины
– Не слов страшись, а того, что за ними! – упорствовал я. – За шесть лет не припомню, чтобы братья оставили в живых хоть одного из тех, кто к тебе приблизился.
– Ты утверждаешь, что ей грозит опасность?
– Нет, – резко бросил я. – Разве стали бы они да рить тебе Елену, если бы это не входило в их расчеты? О Джем! – Я тоже перешел на крик. Мы были вне стен замка, так что я мог на это решиться. – Ты не слабоумен, рассуди сам! Кому позволили братья хотя бы сочувствие проявить к нам, остаться с тобой без свидетелей? Здесь что-то кроется, Джем!
– Кроется, кроется!.. – нетерпеливо мотнул он головой. – и пускай! Слышишь? Ты друг мне, Саади. – Джем заговорил тоном избалованного ребенка, памятным мне со времен Карамании. – Как же мой друг не понимает, что я спасаюсь бегством, что эти несколько недель – единственное, что принадлежит мне после многих лет недоверия, отчужденности и страха? Зачем ты пробуждаешь меня, Саади?
Странно… Следуя рассудку, Джем почти всегда ошибался, но почти всегда оказывался прав, когда ему противился. В самом деле, разве есть ответ на вопросы вроде этого: «Зачем ты пробуждаешь меня?»
Итак, мои сомнения смолкли, не умерев. Я перестал предостерегать Джема. Перед самим собой я имел оправдание: единственное, что мы уносим из этого мира, – несколько сладостных недель самообольщения.
В качестве третьего, но неизбежного лица я участвовал во всех дальнейших беседах влюбленных. И с каждым минувшим днем все больше сознавал, что оба приближаются к тому мгновению, когда им уже не потребуется переводчик. Я сам нетерпеливо ожидал этого мгновения, словно их страсть, проходя через меня, завладела и мной. А Джем и Елена неумолчно говорили, сломав темницу молчания и притворства, в которой долгие годы томились каждый в отдельности. Теперь они наверстывали упущенное.
Джем излил перед Еленой свои страдания последних шести лет, рассказал о том, как из кумира войска и надежды народа превратился в собственность Ордена иоаннитов; Джем выплакал перед Еленой свое отчаяние и бессильный гнев, свои сомнения в людях. Ни прежде, ни потом Джем ни с кем не говорил так много.
Не думайте, что это произошло благодаря каким-то небывалым достоинствам Елены. В любви важен (в том, что касается ее степени, ее проявлений) не сам предмет любви. Важен лишь час, твое собственное состояние – взлета или упадка, упования или безнадежности. Словом, важно лишь твое собственное «я». В те дни Джем находился на пределе того, что мажет вынести человеческое сердце. Шесть лет противился он неизбежному – превращению своему из человека в ничто. Джем боролся отважно, но все в этой борьбе было против него. Борьба эта завершится в тот миг, когда Джем сдастся бесчисленным внешним силам, бесконечно более могущественным, чем он. Но между тем и другим – между борьбой Джема и его поражением – должен был пролечь рубеж, он не мог спокойно отказаться от своего шестилетнего сопротивления.
Надо всем этим я размышлял не тогда – это стало умозаключением гораздо позже. Гораздо позже осознал я, что Джем очертя голову бросился в эту любовь не из-за прелестей Елены и не из-за доверия, которое она внушила ему (Елена с первых же слов не оставила места взаимному доверию между ними). Просто в ту пору Джем, вероятно, чувствовал, что силы оставляют его, и сам стремился к сильной встряске, которая позволит ему либо выплыть, либо пойти ко дну. Джем искал оправдания тому, что окажется побежденным. А есть ли оправдание более сильное, чем обманутая, поруганная любовь?
Я не говорю, – упаси боже! – будто Джем заранее рассчитал, что эта любовь будет несчастной. Он чувствовал это подсознательно. Я всегда дивился тому, как тонко вел Джем свою вторую, невидимую для других и не имеющую значения для мировых событий жизнь. В этой жизни все находило искуснейшее разрешение, а я ведь свидетель тому, что Джем не обдумывал даже ближайшего своего шага, о последующих уж и говорить нечего. Он обладал тем, что даруется только женщинам и поэтам: интуицией.
В те дни, о которых я сейчас веду рассказ, нам не на что было жаловаться. Братья были терпимыми, сговорчивыми, и стража их, сопровождавшая нас во время прогулок с Еленой, словно имела целью лишь уравновесить другую – королевскую. Я знал, что они с превеликой охотой схватились бы между собой, хотя я и не представлял себе, кто одержит верх. Лично я считал рыцарские перья, ленты и окованное золотом оружие менее сильным выражением мужественности, чем тяжелая, грозная чернота родосских воителей.
Итак, мы катались верхом под майским небом Дофине, северное солнце позолотило кожу Джема, и, глядя на него, я вспоминал наши дни в Карамании с их беспричинной веселостью, то чисто плотское наслаждение, с которым, засыпая, я думал о завтрашнем дне.
А Елена словно оставалась в стороне от нашего счастья. Каждое утро она спускалась во двор замка, где мы ожидали ее, чтобы отправиться на охоту или прогулку, всегда с тем же выражением замкнутости и затаенной обиды: по-видимому, это выражение никогда не покидало ее. Лишь час спустя она становилась другой – Джем заражал ее своим весельем. Меня донимали остатки ревности, когда я смотрел, как они мчатся галопом, оба охваченные неистовым желанием – нас приводит к нему кровь, разгоряченная каким-либо телесным усилием, в данном случае – бешеной скачкой. Мне казалось, что сразу после такой езды, задыхающиеся, ослабевшие, они достигнут того мгновения, о котором я упоминал.
Я испытывал и некоторую зависть. Знаете, при дворе Джема мы не только не находили предосудительными наши мужские связи – мы гордились ими, они поднимали нас над плебейской зависимостью от женщины. А теперь я видел, что Джем наиболее полно выражает себя именно в этом, непривычном для нас чувстве. Вероятно, оттого, что Елена была столь от него отлична, ему потребовалось долго и подробно обрисовывать ей себя самого, свой мир.
Но вы на верном пути, если не слишком доверяетесь той оценке, какую дает Джему Елена: мужчина предстает перед женщиной не таким, каков он есть, а каким он желал бы быть, – Джем во многом погрешил против истины в те сладостные недели. Оправдывая это тем, что он был поэт, вы заблуждаетесь: слышал я, и грузчики грешат тем же.
Не знаю, верила ли ему Елена, я не замечал в ней восторженности юного Карла. Это заставило меня заключить, что она не девица: женщины, влюбленные первый раз, обычно верят. И еще кое-что привело меня к тому же заключению: в Елене проглядывало желание. Трудно было заподозрить его за этим гладким, открытым, холодным лбом, но иногда я перехватывал взгляд Елены. Точно горячий поток, без любопытства или страха, скользил он от золотисто-смуглой шеи Джема по его плечам, потом плотно охватывал стан. Женщины смотрят так на мужчину только в спину, поэтому мужчины и не подозревают, что существует такой взгляд.
И еще кое-что заметил я – возможно, это входило в здешние обычаи: Елена не избегала встреч с Джемом наедине. По вечерам она часто захаживала к нам. Я бывал тогда принужден трудиться до поздней ночи – Джем говорил не умолкая. Единственно ли на рассказы рассчитывала девица Сасенаж, этого я не мог понять; она не казалась ни плененной Джемовым красноречием, ни разочарованной тем, что он красноречием и ограничивается. Джем объяснял ее посещения нежным сочувствием, я же – тем желанием, которое подсмотрел в ее глазах. То и другое требовало выхода.
И однажды вечером, когда я сидел напротив моих влюбленных, я почувствовал, что они хотят остаться одни. Джем был рассеян, по комнате было словно разлито напряженное нетерпение – оно пригибало пламя свечей, корчилось на обоих лицах, которые я видел перед собой. Глубоко задумавшиеся, погруженные каждый в себя, Джем и Елена казались мне отчужденными – так бывает с человеком перед долгой и неведомой дорогой.
А я колебался в нерешительности – уйти или не уходить? Меня томило чувство, что я допущу зло, что этого не должно произойти, что в моей власти остановить это. Тут Джем взглянул на меня едва ли не с ненавистью, я почувствовал – еще минута, и он забудется, произнесет слова, которые я не смогу забыть до конца моих дней.
Я даже не стал искать предлога, встал и направился к двери. Меня не удерживали.
В коридорах, которыми я шел, чтобы подняться на крепостную стену, мне встретились два иоаннита и один королевский баронет. Почудилось мне, что они улыбаются; все в эту ночь выглядели сводниками.
Я поднялся на крепостную стену и провел там несколько часов. Дрожа от ночной сырости, отмерял время шагами, старался думать о чем-то другом. Когда после полуночи я вернулся к себе, Джем, кое-как укрытый, спал глубоким сном. Он был наг, как христианский мученик.
После того я частенько проводил ночи на крепостной стене. Мерзнуть уже не приходилось, я предусмотрительно захватывал с собой что-нибудь. Джем начал обходиться без меня не только ночью, но и днем – он предпочитал теперь ездить на охоту с девицей Сасенаж вдвоем, убежденный, что и без переводчика говорит с ней достаточно убедительно. Девица же была иного мнения. «Неужто ей так необходимы языковые тонкости?» – подумал я, когда как-то утром она попросила меня сопровождать их.
Дорогой я чувствовал себя бесконечно лишним. Ехал далеко от них, чтобы выглядеть возможно менее смешным. Потом они остановились на небольшой полянке – похоже, уже не в первый раз. Джем расстелил свой плащ, а Елена с чисто женским умением разложила еду.
– Пожалуйте, Саади! – пригласила она меня. Чрезмерный знак внимания к какому-то слуге.
Мы сели. Сквозь редкий лесок было видно, как стража прогуливает своих лошадей. Поодаль, соблюдая расстояние.
Как всегда на охоте, Джем был с непокрытой головой и распахнутой грудью. Он прилег на колено своей дамы с откровенным и жалким чувством собственника, присущим мужчине, недавно начавшему владеть какой-либо женщиной. Несмотря на мое присутствие, Елена не отстранилась. Не была ли ее близость с Джемом не только неприкрытой, но даже выставляемой напоказ? И отчего – черт подери! – эта близость никого в Буалами не тревожила? Даже ее отца, который за несколько месяцев перед тем увез Елену только потому, что Джем коснулся ее кончиками пальцев? Отчего сам Джем не усомнился, не побудил меня разузнать: кто она такая, эта Елена, и что ей надо?
Вот о чем размышлял я, когда Елена обернулась ко мне:
– Саади, мне надо сказать нечто очень важное вашему господину.
Опираясь на ее колено, полулежа, Джем поднял к ней лицо.
– Принц, – начала она, хмуря лоб и прерывисто дыша, – я не могу больше видеть ваши страдания! Не могу больше кататься с вами под взглядами десятков тюремщиков, не могу по ночам наталкиваться перед вашей дверью на вооруженную стражу! – Тут она осеклась, словно приготовленные заранее слова иссякли.
– Елена, – ответил Джем, не меняя позы, только легко проведя рукой по ее волосам, – зачем ты говоришь мне «вы»?
– Я не хочу, чтобы ты продолжал страдать, Джем! – с отчаянием воскликнула она, и отчаяние это было вызвано, пожалуй, не только страданиями Джема. – Этому надо положить конец!
Из всех человеческих чувств более всего красило Джема недоумение. Сейчас он выразил его в полной мере. Впрочем, причина для недоумения была основательная: ничто в их отношениях не подготовило такого разговора.
– Заклинаю тебя, Джем! – торопливо продолжала Елена. – Заклинаю тебя, бежим отсюда!
Ему потребовалось время, чтобы уразуметь смысл ее слов. Потом Джем засмеялся, снисходительно и горько одновременно.
– А у меня нет такого желания! – ответил он. – Мне очень нравится прозябать в Буалами под перекрестными взглядами иоаннитов и французов.
– Как находишь ты силы шутить! Чего ты ждешь, на что надеешься?
– На небеса, – ответил Джем.
Я видел, как ему хотелось, чтобы она замолчала.
– Я спрашиваю серьезно, Джем. Неужели я так тебе далека, что ты от меня таишься?
Тут мне вспомнился Франк; вспомнилось, как он, когда замечал, что Джему грозит опасность, обстоятельно переводил ему слова собеседника, перемежая их своими предостережениями. Но разве Сулейману случалось быть в моем положении, судите сами!
Я передал мольбу Елены. И содрогнулся. Не от страха (слава аллаху! – у Джема не было тайн, которые он мог бы выдать). От злого предчувствия.
– Клянусь тебе, Елена, – Джем взял ее руку в свою, – знай я хоть что-нибудь, тебе бы тут же стало это известно. Я вправду ни на кого не рассчитываю. Мои надежды спастись из плена давно угасли… И тем лучше, иначе я бы не встретил тебя. Зачем ты говоришь мне все это – разве нам плохо в Буалами?
Тут Елене полагалось согласиться, это было даже обязательно. Ничего подобного! «Либо она подлейшее орудие в чьих-то руках, – подумал я, – либо действительно любит его». Поверьте, в ту пору я еще допускал последнее предположение.
– Джем, – продолжала она. – Я долго ждала, чтобы ты заговорил, попросил меня о помощи. А ты четыре недели молчал, ты кому-то другому доверяешь заботу о твоей свободе. Или ты отказался от нее, Джем?
– О аллах! Моя свобода! – Он произнес это таким голосом, словно не стремился к свободе шесть долгих лет, словно не уступил бы своего места у ног Елены ради какой-то там свободы!
– Пусть так! – торжественно провозгласила Елена. – Вопреки тебе я сделаю что могу, а женщина, Джем, может немало. Об одном только молю тебя: верь мне!
– Какая странная просьба, Елена! – ответил он. – Разве еще год назад я предложил бы тебе свое плечо, чтобы помочь сойти с лошади, если бы не верил тебе?
Клянусь честью! Джем сказал именно это, слово в слово, и не только сказал, но так думал. Он, еще недавно чувствовавший себя столь опустошенным, что однажды воскликнул: «Я уже не могу поверить даже родной матери!»
Вторые показания Филиппины-Елены де Сасенаж относительно того же времени
После показаний Саади вы, вероятно, считаете меня чудовищем – это обычное прозвание для женщины, преднамеренно пускающей в ход свои чары.
Не стану оправдываться – слишком часто довелось мне оправдываться при жизни, я вся была покаянием и искуплением, пока и то и другое не стало столь непереносимым, что я позволила вовлечь себя в дело Джема. Мое участие в нем было ценой, за которую мне наконец-то должны были даровать покой. Вы находите мою роль низкой, а я клянусь вам, что согласилась бы исполнить вдвое более низкую, лишь бы покончить с жизнью, которая стала для меня каждодневной крестной мукой.
Я знаю, вы не поверите, если я – женщина, сыгравшая роль приманки, – стану утверждать, что участвовала в предначертанной мне игре не как актриса, только внешне. Я действительно вжилась в свою роль, вскоре она стала частью, самой существенной частью моего бытия. И тем ужаснее было, что меня насильно возвращали к моей роли те, кто обещал мне покой в уплату за низость, те, кто видел во мне всего лишь орудие.
Моя задача показалась мне трудной еще тогда, когда я узнала, чего от меня хотят. Мне предстояло соблазнить (что за слово! Однако брат Бланшфор употребил именно его) турка, войти к нему в доверие, выведать его тайные связи с внешним миром, а вслед за тем убедить его, что я помогу ему бежать. Побег этот должны были устроить братья, чтобы вырвать Джема из рук французской охраны и передать Папству. Орден уже понял, что Джем не желал перейти к его святейшеству, и следовало скрыть от него, что побег – дело рук Ордена.
Трудная задача, не правда ли? Прежде всего: был ли Джем столь доверчив, как меня убеждали? И если я завоюю его доверие, найду ли в себе силы обмануть его?
«Найду! – думала я. – Разве у меня есть выбор? Мой отец в их власти; в их власти уладить или расстроить мое поступление в монастырь. Что ждет меня, если мне откажут в постриге? Таскаться следом за отцом в поисках жениха не четыре, а еще десять лет под насмешливыми взглядами дворян, сносить упреки своих близких, их проклятия. Либо же быть отданной какому-нибудь совсем захудалому рыцарю и до самой могилы слушать, как много он претерпел, дав мне свое имя. Господи, лучше смерть!» – думала я.
Сделав над собой последнее усилие, я решила завоевать право отказаться от мирской жизни и поехала с отцом в Буалами.
Не стану повторять того, что вам уже рассказал Саади о моих первых встречах с Джемом; Саади с большой наблюдательностью заметил многое из того, что происходило тогда в моей душе: во мне боролись противоположные чувства. То (с явной целью выполнить свою задачу) я домогалась близости Джема и его доверия, то целыми днями искренно отдавалась счастью быть любимой, обожаемой, желанной.
Братья ошиблись в выборе – часто самые опытные, самые хладнокровные знатоки души человеческой впадают в ошибку. Отчего сочли они, что Елена де Сасенаж – самая подходящая женщина в данном случае? «Елена опозорена, – рассуждали они, – терять ей нечего; она приперта к стене и не вольна распоряжаться собой». А не естественней ли было предположить, что именно человек, которому нечего терять, доходит до такой степени отчаяния, что может позволить себе и вовсе не дозволенное? Не ясно ли, что именно женщина, вкусившая любви, но отринутая и одинокая, не устоит перед соблазном даже ущербной любви?
Нет, я не хочу сказать, что любовь Джема была ущербной. Едва ли хоть одна из незапятнанных дам Савойи и Дофине была за короткий месяц одарена столь незаслуженно щедро, как я. «Быть может, – размышляла я позже, когда меня оставили в покое, – существует все же высшая справедливость: за все, что довелось мне вытерпеть, я как женщина получила и самую высокую награду».
Но в те недели, о которых идет речь, мне было страшно. Я преуспела больше, чем на то надеялись братья. Джем вверился мне без сопротивления, словно давно именно меня и ждал; он посвятил меня в свои надежды. Саади не прав, не с безразличием отнесся Джем к моей мольбе – позволить мне помочь ему, она просто была для него неожиданной. Его любовь находилась настолько вне повседневности, что Джем не мог примешать к ней даже свою пылкую жажду свободы. Однако с той минуты, когда я сама навязала ему эту мысль, я заметила, что становлюсь ему вдвойне дорога: ведь он бежал бы не только благодаря мне, но и со мной.
Мне пришлось пообещать ему, что оказавшись на свободе, мы не расстанемся. Никогда. Я знала, что между влюбленными нет более привычной лжи, чем это «никогда», и все-таки терзалась жгучей болью. Я не могла сказать ему, что нас разлучат при первой же смене лошадей, что я возвращусь в Сасенаж, а вслед за тем отправлюсь в какой-нибудь монастырь для благородных дам, тогда как он, Джем, отправится дальше, в Рим.
Вот так протекали дни моей двойной жизни.
По утрам мы выезжали с Джемом из стен Буалами, проводили часы никогда дотоле не испытанного счастья. У меня не было чувства, какое было прежде, с Жераром, что я совершаю преступление, – все окружающие способствовали моей близости с Джемом. Мы скакали по лугам Дофине, я отгоняла от себя всякий страх и чувство вины, отдавалась счастливому сознанию, что на несколько часов мы одни и любим друг друга, и ветер омывает нас, солнце опаляет, и словно все великолепие весны расстелено у нас под ногами. Словами не выразить ликование двух узников, ненадолго вырвавшихся из заточения, – ни с чем не сравнить его.
Почему-то в моей памяти те дни запечатлелись в красках. Нежно-блеклых пли насыщенно-ярких.
Блеклой была весна над Дофине со своим сероватым небом и нежной зеленью, меж которой мелькала белая кобыла Джема, ржаво-коричневый костюм всадника и волосы цвета червонного золота. А яркой была комната Джема по вечерам – возле Джема я обучилась языку восточных красок. Никогда пурпур не казался мне таким кроваво-красным, как на атласном его ложе, никогда индиго не было таким по ночному глубоким, как на подушках, разбросанных по безумству тигровых и леопардовых шкур. Свет свечей тонул в эбеновых креслах и искрами отлетал от изумрудного плаща Джема, от золотого шитья, выступавшего то тут то там из полумрака, тогда как бархат негромко напоминал о себе своими опаловыми складками.
По вечерам Джем не носил охотничьего костюма цвета ржавчины. Он ожидал меня, одетый в один из своих халатов, который привел бы в восторг и самого прославленного лионского мастера, – великолепный, как сказка из «Тысячи и одной ночи». Однажды я попросила его надеть те одежды, в которые он облачается раз в году – в тот день, когда прибывает посланец Баязида, дабы проверить, жив ли еще Джем. Я слышала, что братья показывают тогда Джема во всем его великолепии, тем оправдывая огромные расходы на его содержание.
«Я ненавижу эти одежды, – ответил мне Джем. – Больше, чем что бы то ни было, они напоминают мне о том, что я кукла».
Я настаивала. Должна признаться, что в Джеме меня привлекала не только его пылкость, его откровенная страсть, Джем пленял мое воображение, рядом с ним я ощущала все очарование Востока, его сказочное великолепие и загадочную силу.
Так вот, я настояла. И на следующий вечер застала Джема настолько преображенным, что испуганно вскрикнула. Это превосходило все мои ожидания. В белых, затканных золотом одеждах передо мной стоял сарацинский султан, казавшийся вдвое крупнее и вдвое старше Джема. Он был столь незнакомым моей любви, что мне почудилось, будто нас уже разлучили, что Джем уже отнят у меня, – мысль эта была непереносима. Она заставила меня осознать тот ужас, что ожидает меня: все кончится. Как драгоценен был каждый миг, еще принадлежавший нам!
«Пожалуйста, сними их», – сказала я, умоляюще вскинув руки. Он засмеялся и снова стал Джемом. Задув мимоходом свечу, он привлек меня к себе.
В зеленоватой ночи, хлынувшей в окно, продолжало жить только золото – сброшенные султанские одежды, казалось, излучали свой собственный свет. Потом все краски угасли, осталось только пламя, жаркое пламя, сжигавшее нас.
Я уходила перед рассветом. Лишь однажды дождалась я восхода солнца рядом с Джемом – то было неповторимое утро! Как глупо, что любовь связывают с ночью; нет в любви ничего сладостнее, чем проснуться утром в объятиях любимого и вдвоем выйти навстречу солнечным лучам. Я хотела испытать это счастье с Джемом и дорого за него заплатила – в то утро брат Бланшфор пригрозил мне, что если я не буду в точности следовать указаниям Ордена, Орден сможет повести дело от моего имени, но без меня.
Итак, ко всем не ниточкам, а цепям, за которые меня дергали, прибавилась еще одна: моя запретная, непредвиденная привязанность к Джему. Теперь меня шантажировали еще и близкой разлукой с ним.
После каждой охоты, после каждой пашей ночи я, перед тем как вернуться к себе, проходила через дворцовую часовню. В качестве старшего иоаннита Бланшфор большую часть своего времени проводил там. Я представляла себе, как тщательно проверил он стены этой часовни, потому что там он говорил без опаски. Мои посещения выглядели исповедью – ведь я была раскаявшейся грешницей и надлежало заботиться о моей душе. Сначала наши разговоры протекали без трудностей – мне не в чем было еще признаваться. Но с каждым днем они становились для меня все невыносимей. Бланшфор не терпел недомолвок. Он выспрашивал меня даже о том, какое выражение было на лице Джема при том или ином моем слове. «Можете ли вы поклясться, что Джем не лжет вам, дочь моя?» – спрашивал он, когда я убеждала его, что Джем не рассчитывает на побег, устроенный матерью, Корвином или Карлом Савойским. Могла поклясться, конечно! Я клялась мадонной и всеми святыми и с тех пор возненавидела их – и всех святых, и мадонну! Как дозволяла она ту мерзость, в какой я жила? Какой загробный покой обещал мне командор? Да ведь, если ад существует, его для меня мало. Можно ли, размышляла я, вдесятеро большим грехом искупить менее тяжкий?
После таких мыслей я начала лгать, несмотря на клятву, – лгала преднамеренно, все более умело. Каждая моя ложь имела целью избавить Джема хоть от одной лишней минуты страдания. Бланшфор изобличал меня, не говоря открыто о том, что мне не верит; намекал, что я позволяю вводить себя в заблуждение; уверял в крайней испорченности Джема по отношению к женщинам – по его словам, у Джема в Турции было триста жен, – но это не производило на меня никакого впечатления. Я знала, что в Буалами я у Джема единственная, и ничьи козни не трогали меня. Четыре года мое лицо было застывшей маской, но лишь во время моих исповедей перед Бланшфором я поняла, сколь она непроницаема. И все-таки мне не удалось провести командора.
Однажды ночью, перед рассветом, Бланшфор внезапно встал, повернулся ко мне спиной, словно желая скрыть, в какое бешенство я его привела, и подчеркнуто произнес:
– Бы считаете себя весьма хитрой, мадам?
Я похолодела – хотя никогда до конца не надеялась, что сумею провести такого человека, как Бланшфор. «Сейчас меня выпроводят из Буалами, куча бед обрушится на дом Сасенажей, мне не останется ничего, кроме смерти!» – промелькнуло у меня в голове.
– Благоволите уразуметь, мадам, – бесстрастно продолжал Бланшфор, – что ваши увертки ничем не помогают турку. Надеюсь, вы достаточно рассудительны, чтобы не рассчитывать, будто вы (тут Бланшфор обернулся и взглянул на меня с непередаваемой насмешкой) сможете похитить Джема собственными силами, точнее, для себя самой. Тогда в чем же дело? Либо он останется здесь, под охраной королевской стражи, которая, вероятно, перепродаст его Баязиду, либо Баязид отравит его с помощью какого-нибудь барона, жаждущего поправить свои денежные дела. Этого желаете вы для Джема?
Бланшфор умолк, а я не находила в себе сил, чтобы противостоять его безжалостной правоте.
– Вы могли, мадам, – продолжал он, – предупредить нас, что ваша миссия вам неприятна, но вы изъявили согласие – неужели вы уже тогда обманывали святую церковь? Подумайте о последствиях, какие навлечет ваше недостойное сострадание на ваш дом и на турка! Оставляю вас вашим молитвам, мадам. Завтра в полдень, не выходя из своей комнаты, вы сообщите мне о своих намерениях. На этот раз – без уверток! До истечения месяца мы должны добиться успеха, иначе все потеряно. Ваш роман с турком окончен, мадам.
То было первое утро, когда я – с тех пор как жила в Буалами, – не поехала с Джемом на охоту. За окном светило уже почти летнее солнце, я видела из своего окна дубравы, холмы, поля, где много дней провели мы с Джемом. Конец… Да, приближался конец сладостному моему сну…
В полдень меня посетил Бланшфор. Я объявила ему, что согласна довести дело до успешного завершения. Упорство не помогло бы мне, а я была готова на все ради последнего свидания с Джемом. Ради слова прощания, которое я произнесу про себя, не вслух. Джем не узнает, что это свидание – последнее.
Бланшфор сухо сообщил мне, что похищение доверено герцогу Бурбонскому (герцог с удовольствием вмешивался во все, что могло уязвить мадам де Боже, адмирала и юного короля). Большой отряд его рыцарей должен был подстеречь Джема во время охоты утром в пятницу. Неизбежно вспыхнет схватка, но люди герцога благодаря превосходству в численности, надо полагать, возьмут верх. Стража иоаннитов, естественно, будет делать вид, что помогает королевской, потому что Орден желал выглядеть непричастным к этому предприятию.
Затем Бланшфор объяснил мне мою роль в похищении: я должна убедить Джема в том, что оно в наших о ним интересах, что мы вместе найдем приют в Савойе у Карла. Я должна была сделать так, чтобы Джем не только не противился, но содействовал побегу; схватка могла затянуться либо перевес оказаться на стороне королевских слуг. Посему, пока будет длиться схватка, мы о Джемом, Саади и двумя людьми герцога должны ускользнуть и наикратчайшим путем поскакать к Вильфраншу. Там нас будет ожидать корабль под чужим флагом.
В тот же вечер я слово в слово повторила перед Джемом то, что мне велел Бланшфор. Я заметила, что слушает меня скорее Саади, чем он; Джем был неспокоен. Вполне понятно – его расстроило, что я отсутствовала целое утро, что впервые за много недель он ездил на охоту без меня. Джем тоже почуял нависшую над нами угрозу, ощутил близость разлуки.
– Для чего ты говоришь мне все это, Елена? – умоляюще спрашивал он, словно уже одна мысль о каком-то новом усилии утомляла его. – Важно, что ты еще здесь! Я уже думал, что не увижу тебя более.
– Уедем, покуда нас не разлучили, Джем! – неубедительно убеждала я его. – Сегодня среда, а в пятницу нас будут ждать в лесу, у развилки дорог. Пока длится схватка, мы поскачем на юг, чтобы сбить их со следа. В Ла-Ротонд. Там нас ожидают другие посвященные в дело люди, они проводят нас в Савойю к Карлу.
Я словно повторяла затверженный урок, а на лице Джема было написано, что дело решено, что мы, конечно, так и поступим, но не следует слишком рассчитывать на удачу, лучше подумаем о себе и о том, что принадлежит нам в Буалами.
Тут заговорил Саади, до того часа он ни разу от своего имени не обращался ко мне. Я надеялась, что завоевала и его, – Саади был бесподобен как приближенный, истинное эхо Джема. И вдруг Саади проявил независимость:
– Разве Карл не посылает нам знака, мадам? При всех своих прежних попытках он делал это.
Я была обескуражена. Джем никогда не потребовал бы от меня доказательств.
– Есть ли в том необходимость, Саади? – ответила я не без смущения. – Я снеслась с Карлом через целую цепочку людей. Возможно, он опасался улик, измены…
– Я опасаюсь того же, мадам, – сказал Саади, пристально глядя на меня. – После каждого неудавшегося побега наша свобода (если можно так назвать ее) все более и более ограничивается. Прошу вас, заклинаю вас именем моего господина, мадам: если у вас нет полной, абсолютной уверенности в успехе – откажитесь!
Это было наивысшей точкой моих страданий. Я не могла посмотреть в глаза Саади – человеку, осудившему себя на добровольное заточение ради того, чтобы быть возле Джема; мне казалось, что я сейчас закричу во весь голос (будь что будет!): «Не могу больше, не хочу!..» Но молчала перед немым упреком Саади, поняв, что он, наверно, давно знает, кто я и чего добиваюсь в постели его господина; поняв, что Саади не пытался остановить меня прежде лишь затем, чтобы Джем урвал для себя хоть несколько недель счастья. Теперь Саади останавливал меня – ведь наш роман (как выразился Бланшфор) уже закончился.
– Мне жаль вас, мадам, – произнес он совсем тихо.
Я почувствовала, что сейчас разрыдаюсь. Все: и покаяние, к которому меня принуждали вот уже многие годы, и укоры, и проповеди – ничто прежде не трогало меня так. Мной гнушались люди, которые были ничуть не лучше меня. Для этих людей человек с Востока не был человеком: сарацин, мавр, турок или грек, мы одинаково презирали их всех, они были навозом, на котором расцветали наше могущество, торговля, культура, все наше сознание собственного превосходства.
Между тем я за свою жизнь встретила только двух истинных людей – прошу вас записать мои слова, это очень для меня важно! Один полюбил меня, не дознаваясь, кто я, а второй без слова укора простил мне величайшую низость, на какую способна женщина.
В то мгновение мне почудилось, что во мне поднимается неведомая сила, – то же, должно быть, испытывают восставшие рабы, когда идут на верную смерть; так хоть один раз в жизни восстает каждый, кто унижен. Клянусь вам, я была готова открыть им свое падение. «Довольно! – думала я, почти теряя сознание. – Довольно!»
Поверьте, помешал мне сделать это Джем! Он заговорил, а Саади перевел:
– Мой повелитель недоволен, что мы беседуем без него. Он согласен с вами, мадам.
Произнеся это, он поднялся и вышел. Джем проводил его недоуменным взглядом – он ничего не заподозрил.
В ту ночь я пожалела, что боролась с Бланшфором за это последнее свидание.
Мне было невыносимо тяжело. Лежа подле Джема, положив голову ему на плечо и слушая громкие, как колокол, удары его сердца, я думала о том, как было бы хорошо, если бы человек сам мог избрать для себя минуту смерти, – я избрала бы именно эту минуту. После нее для меня уже не существовало ничего больше.
Если бы мы понимали язык друг друга, в ту ночь Джем, вероятно, узнал бы обо мне все до конца. Я и вправду говорила без умолку, мои пальцы скользили по коже Джема – они хотели не удержать, а запомнить, мои слезы стекали в хорошо знакомую мне ямку между его ключицей и плечом. То было настоящее прощание. С моей стороны.
Он это воспринимал только как сильный прилив нежности и гладил, ласкал мои волосы. Иногда что-то произносил на своем непонятном, варварском языке. Наверно, успокаивал, голос его звучал нежно. А впрочем, отчего я так убеждена, что Джем тоже не прощался со мной тогда?
Я ушла до рассвета, не желая, чтобы солнце осветило мое лицо прежде, чем я надену на себя маску, какую следует сохранить вплоть до пятницы. А потом… потом уже ничего, пустота.
Мы расстались так же, как расставались всегда. Я не посмела дольше обычного задержать руки вокруг его шеи – пусть все будет так, как бывало всегда. Бесшумно шагнула в темноту. И вздрогнула, когда в конце коридора наткнулась на кого-то.
– Молчите! – услышала я шепот и узнала Бланшфора. – Следуйте за мной!
Мы направились не в часовню, а в комнату командора (никогда прежде не проявлял он такой неосторожности). Все свечи там были зажжены – судя по всему, Бланшфор в ту ночь вообще не ложился.
– Мадам, – обратился он ко мне, не предлагая сесть и сам оставаясь стоять, – мы раскрыты! Не знаю, как оправдаюсь я перед братом Д'Обюссоном, не вижу также, на что может теперь рассчитывать святой отец, – Франция имеет все основания утроить свою стражу или увезти турка в какую-либо из крепостей, принадлежащих французской короне. Мы упустили последнюю возможность, мадам!
– Клянусь вам! – Я пыталась пересилить чувства, овладевшие мной при его словах, главным образом ужас. – Клянусь, я делала все, что могла!
– Верю! – перебил он меня. – Если бы не верил, это имело б для вас весьма печальные последствия. Однако донос направлен против вас, вы спутали чьи-то карты. Иными словами, миссия ваша окончена. Господи, кто мог предположить!
Мне не было дела до того, что произошло. Я думала лишь о том, что теперь Джем наверняка все узнает. Я представляла себе его недоумение, оно сменялось отвращением, отвращение – жестокой ненавистью. «Нет, Джем – не Саади, Джем не простит, потому что он когда-то любил меня. Когда-то… Час назад».
– Я хотела бы уехать из Буалами еще до наступления утра, ваше преподобие! – сказала я. – Прошу вас, прикажите!
Неделей позже меня приняла обитель Святой Девы Марии в Арле. Последним мирянином, которого я видела, был барон де Сасенаж. Отец глядел мне вслед, пока меня вели вдоль длинного ряда колонн. Глубоко растроганный и счастливый. Позорное пятно с дома Сасенажей было смыто и без моей смерти.
Четырнадцатые показания поэта Саади о событиях с июня по сентябрь 1487 года
Ничто из моих прежних показаний не навело вас на мысль, что когда-нибудь я, Саади, рука и уста своего повелителя, по собственной воле вмешаюсь в дело Джема? Не правда ли? Поэтам не свойственны решительные поступки, вы правы.
Но я решился – потому что испокон веков мы привыкли считать, что самая страшная опасность все-таки исходит от женщины. С того дня, как Елена появилась возле нас, я испытывал постоянную тревогу. При всей безоружное™ Джема перед жизнью он до той поры все-таки проявлял хоть крохи здравого смысла; когда же в его жизнь вошла девица Сасенаж, он стал слеп и глух. Я, напротив, почувствовал себя полностью ответственным за его судьбу.
При первом же разговоре, в котором Елена оставила без ответа вопросы о погоде, здоровье, охоте и стала сетовать по поводу страданий Джема, я насторожился: она явно преследовала какую-то цель! Сопоставленный с благосклонным невмешательством братии в любовную историю, которая развивалась у них под носом, этот разговор убедил меня в том, что Елена подослана ими. Потом я рассудил, что мое объяснение слишком примитивно. Не могло ли статься, что братья-иоанниты лишь извещены о том, что Елена подослана (возможно, они подозревают или даже знают в точности, кем именно), и поэтому наблюдают за ней, предоставляя ей достичь завершения игры, чтобы лишь тогда изловить ее соучастников? Это истолкование удовлетворило меня своей сложностью – я начинал постигать Запад!
Я уже упоминал, что отказался от мысли разбудить спавшего Джема. «Спи, мальчик! – думал я, более взрослый, более опытный. – Я не дам связать тебя во сне».
И вот в тот вечер, о котором Елена только что так трогательно повествовала (я говорю это без иронии, бедняжка действительно истерзалась!), я собственными глазами увидел, что она собирается связать Джема именно во сне. Он так был опечален вероятностью разлуки с нею, что соглашался на все ее увещания, готов был на любое безрассудство ради еще нескольких дней любви. Я знал, что он никогда не придавал значения ее мечтам о его свободе, но, должно быть, во время их любовных ночей видел себя с нею вне стен крепости, под звездами, без мерзкой своры монахов и рыцарей у себя за спиной.
В тот вечер я заметил, что Елена тоже опечалена, из чего заключил: ее одернули, она слишком далеко зашла в своем сочувствии к Джему. С женщинами, знаете ли, всегда так – они одновременно и искренне испытывают чувства, которые их разум взаимно исключает. Я не находил ничего противоестественного в том, что Елена готовит петлю человеку, которого самоотверженно любит, – история и книги дают тому достаточно примеров.
Я наблюдал не только за обоими влюбленными, но и за третьим причастным к этой истории лицом, – я наблюдал со стороны за самим собой. Да, да. Вот вы пишете в заголовке моих показаний «поэт Саади». А ведь я уже не был поэтом. Чересчур долго исполнял я при Джеме службу визиря, казначея, заговорщика, кормилицы, няньки и сводника. Я уже стал наполовину Франком, наполовину Д'Обюссоном. Иначе откуда бы появилась у меня эта беспощадность к людям, подозрительность, почти столь же черная, как и сама жизнь? Я говорю – почти, ибо вопреки всему мои представления о жизни не полностью совпали с самой жизнью – во мне хоть не пылало, но еще теплилось великодушие Востока, его любовь к Красоте; эта любовь мешает постичь до конца мир, но помогает его вытерпеть. И в конечном счете, сдается мне, из нас деоих – я имею в виду себя и Д'Обюссона – великий магистр более достоин жалости. Если бы я видел суть жизни так же, как он, б той же точностью и определенностью, я бы утопился в синем море у берегов Родоса.
Извините, я отклонился, но мне хотелось изложить вам свои наблюдения над третьим действующим лицом в спектакле, над бывшим известным поэтом Саади.
Итак, в тот вечер мне стало ясно, что Елена принуждена закончить свое дело в короткий срок. Кое-кто посчитал, что она вкладывает чрезмерное усердие в любовную часть. Итак, Елена будет бесцеремонной. Почему? Я допускал два ответа. Первый: от порочности. Порочность объясняет множество необъяснимых поступков. Второй: ее чем-то держат, и держат крепко. Лично я предпочитал последнее объяснение – по причине, о которой упоминал: из любви к Красоте. А также из-за того, что Елена явно мучилась угрызениями совести. Похоже, низость не была врожденной ее чертой и, как пуля в заживающей ране, причиняла ей боль. Я еще не знал, чьим орудием является Елена в деле Джема, но мысленно проклинал того, кто стоял за ее спиной, а к ней испытывал жалость (она очень точно определила чувства, которые вызывала во мне). Было просто гнусностью заставлять ее метаться между страхом и любовью – для такой куропатки предостаточно было чего-то одного.
Я оставил их наедине, а сам поднялся на крепостную стену. Мне вспомнился Хайдар, погибший где-то на пути в Венгрию, он не знал ни единого слова на здешнем языке; вспомнился Франк, зарытый в подземельях Рюмилли, всем чужой, пронизанный горечью скептик, павший жертвой собственной верности; вспомнился убитый Баязидом Касим-бег, который предпочел месть Баязида изгнаннической участи Джема; вспомнились Синан и Аяс-бег, сломленные в родосских узилищах и вслед за тем присланные к нам в качестве глашатаев Родоса… Нет, я уже не испытывал никакой жалости к той неизвестно кем подосланной куропатке – множество куда более достойных, чем Елена де Сасенаж, пали жертвой в деле Джема.
«Пардон, мадам! – произнес я вслух и даже по-французски. – Не быть по-вашему!»
Решение было принято. Оставалось осуществить его. Как? Не в первый раз задавал я себе этот вопрос – пока они тешились любовью, я искал ответа.
Извещать братьев о том, что Елена склоняет Джема к побегу, мне казалось неразумным. У меня не было уверенности, что за всем этим не стоят именно иоанниты. Не более разумным находил я подобный шаг и по отношению к королевским рыцарям: не исключено, что это король Франции готовит маневр, который избавит его от досадных, хотя и призрачных, прав Ордена на Джема. Так что же делать? Обратиться к Матиашу Корейцу? Но ведь в Буалами каждый, кто не был иоаннитом, был королевским рыцарем!
И вдруг меня осенило. От радости я как безумный кинулся бежать по темным переходам замка. Великое дело – принять решение! Я предвкушал, как одно слово некоего ничтожного Саади спутает карты пап, королей и прочих высоких особ.
У двери начальника французской стражи меня остановили караульные.
– Разбудите его! – крикнул я, стараясь поднять как можно больше шума, иначе меня просто втихую прикончили бы. – Я открыл страшный заговор!
Караульные призадумались, один пошел докладывать, второй остался сторожить меня. Вскоре показался начальник стражи, в одной рубахе. Он не успел подпоясаться и шпагу держал в руке.
– Ваша милость, – сказал я излишне громко, – прошу вас пойти со мной к его преподобию, господину Бланшфору! Вы услышите нечто невероятное.
Начальник потащился вслед за мной, он еще не совсем проснулся. Такую же суматоху поднял я перед дверьми Бланшфора, но он еще не ложился и при первых же моих возгласах выскочил мне навстречу.
– Хочу сделать важное разоблачение, – сказал я.
– Сейчас? Среди ночи? – ледяным тоном, однако побледнев, спросил Бланшфор, мгновенно открыв мне, кто стоял за спиной Елены. Он, голубчик.
С решимостью, какой я не помнил за собой со времен Карамании, я прошел мимо командора и, не дожидаясь приглашения, шагнул к нему в комнату. Начальник стражи последовал за мной. Оба с одинаковым нетерпением ждали, что я скажу, но выражение их лиц было различное. Слуга короля старался преодолеть сон, чтобы благодаря моему важному сообщению отличиться по службе, Бланшфор же тщательно старался подавить страх.
Я был краток:
– Ваше преподобие, ваша милость, неизвестно кем подосланная девица Сасенаж сегодня ночью склоняла моего господина к бегству, – сказал я. – В низкой своей игре она употребила все средства, не пожалела никаких усилий. Я рад, что открыл ее поползновения вам, законным стражам моего господина.
И все.
Начальник королевской стражи окончательно проснулся. До такой степени, что даже сумел насладиться видом Бланшфора – моя новость сразила командора.
– Мы благодарим вас, Саади! – проговорил начальник стражи. – Мы, – это «мы» было им подчеркнуто, – брат Бланшфор и я, позаботимся о безопасности нашего гостя.
Не совсем спокойным возвращался я на крепостную стену – вдруг монахи предпримут еще какую-нибудь попытку? Но я все же рассчитывал на людей короля, они сумеют им помешать. Шагая по коридорам, я думал о том, что сделал доброе дело и для Елены: представил ее более усердней, чем она была в действительности. «Ничего, – решил я, – почему бы им не оставить в живых хоть одного человека, причастного к делу Джема?»
Вы находите, что я изложил вам события, происшедшие в ночь с 28 на 29 мая 1487 года, крайне весело, тогда как в них не содержалось ничего веселого. Видите ли, я некогда был сочинителем, да еще и умелым: мрачное повествование никогда не следует вести в одной тональности – мрачной. Только будучи расцвечены разными красками, события воспринимаются человеком во всей их полноте. Кроме того, той ночью мне и впрямь было весело! Уже много лет жили мы среди врагов, а я лишь тогда узрел и хорошую сторону в нашей трагедии: что ты ни делаешь, любой твой шаг – во вред врагу, нет риска повредить другу. Ибо друзей у тебя нет.
Однако при всем своем искусстве рассказчика я не сумею должным образом построить рассказ о дальнейших событиях, завершивших превращение Джема из правителя в пленника.
Вероятно, для вас это давно было очевидным: вы, начиная с Родоса, считаете Джема пленником. Но он воспринимал события иначе; в его жизни происходили частые перемены: браня то затягивали путы – истребили его приближенных, вынуждали переезжать из одной крепости в другую, то создавали вокруг него почти безоблачную атмосферу. Полистайте назад страницы дела, и вы заметите: вплоть до лета 1487 года мы были как бы гостями на французской земле, нам оказывали почести, нас развлекали, охраняли от Баязида. Наличие стражи могло быть истолковано и как чрезмерная опека, и как насилие. Мы не знали, в какой степени Орден защищает нас от истинной опасности и в какой сам измышляет ее.
В остальном, несмотря на бессильную ярость Джема, что его держат под надзором и препятствуют отъезду р Венгрию, несмотря на все наши подозрения и страхи, вплоть до лета 1487 года наша жизнь была сносной. В том была наша заслуга: Джем еще ничем не выдал, что отказывается от борьбы за престол, и пытался влиять на каждый поворот своей судьбы. Так что братьям приходилось считаться с нами.
Однако я находился слишком близко к Джему, чтобы не заметить – я вам уже говорил об этом, – как его силы, надежды, воля приближаются к некоему рубежу; мне страшно было подумать, что произойдет по ту сторону этого рубежа. Джем всегда был самой неожиданностью, невозможно было предвидеть, каким он станет, когда полностью изверится во всех и вся. Поэтому я невольно был рад Елене, всему новому, что отодвигало наступление этой минуты.
Но Елена исчезла. Именно исчезла – нам так и не удалось узнать, когда она покинула Буалами. Утром, после моего решительного вмешательства, Джем, как обычно, спустился во двор замка и не очень обеспокоился тем, что она не появилась, – ведь накануне утром е? тоже не было. «Они, кажется, взялись и за нее», – сказал он.
Мы отправились на охоту вдвоем. Джем по больше? части хранил молчание, но я не ощущал в нем того напряжения, как перед первыми нашими попытками бежать, – на этот раз Джем не верил в возможность обрести свободу. Оттого, что не особенно жаждал ее.
В полдень я заметил, что в Джеме внезапно вспыхнула тревога – Елена не появилась и к обеду. Монахи и королевские рыцари были предупредительней, чем когда бы то ни было. Джем не притронулся к еде и поспешил вернуться к себе. Под пытливыми взглядами наших сотрапезников мы извинились и вышли из-за стола.
По лестнице Джем поднимался бегом. «Саади! Они увезли ее! – в ужасе прошептал он, когда мы вошли в свои покои; он запер двери изнутри, словно боясь нападения. – О, я знал, я предвидел это! Какая участь ожидает ее, Саади? Они способны на все. Как спасти ее жизнь? Пойми, я забочусь не о том, чтобы сохранить ее для себя. Я приношу только несчастье, а Елене желаю счастливой доли. О, Елена! Единственное, чем я владел на этой жестокой, чужой земле!..»
Стенания Джема звучали стихами – ремесло накладывает на человека свою печать. А замечали вы – стоит ощутить в ком-то легчайший налет ремесла, сразу перестаешь верить в его искренность? Вот и во мне шевельнулось тогда недоверие, хоть я и знал, как часто певец не только не измышляет своих страданий, но не передает и сотой их доли.
Возможно также, что я тогда просто искал оправдания тому удару, который мне предстояло нанести ему:
– Не терзай себя понапрасну, Джем! Не любовь привела Елену к тебе, а чужая воля. Елене поручено было похитить тебя для Папства. Ей не удалось это, она была разоблачена и, как всякое непригодное орудие, выброшена вон. Хвала аллаху! Она ничего не изменила в твоей жизни ни к добру, ни ко злу.
Я проговорил это одним духом, потому что предвидел страшную бурю: Джем не терпел, когда событиям давались объяснения, отличные от его собственных. Но, еще не договорив, я понял, что на этот раз бури не будет. Подперев дверь плечом, Джем все ниже склонял голову, точно его придавила какая-то огромная тяжесть. Он не потерял над собою власти, как случалось при множестве более мелких неудач, не впал и в то оцепенение, каким начался его недуг.
Я понял: мои слова лишь подтвердили подозрение, которое Джем носил в себе на протяжении всех его дней с Еленой. Значит, не только поэт Саади был опустошен, и поэт Джем тоже, если он мог любить с таким осадком сомнения в сердце.
– Ты говоришь, не любовь привела ее… – помолчав, проговорил Джем. Он отошел от двери и теперь сидел на своем ложе, подпирая рукою лоб так, что я не видел его глаз. – Должно быть, ты прав, я тоже так думал… Но покинула она меня с любовью! Я чувствую это! И то, что цель не достигнута, что побег не состоялся, не случайно: Елена отказалась сама… Они не сумели принудить ее! – Джем порывисто встал и заговорил с лихорадочным вдохновением, точно некий жрец человеческой любви. – Не сумели втоптать в грязь! Вне их власти осталось существо слабое, податливое и напуганное. Многое отнято у меня, Саади, но многое и ниспослал мне аллах: истинную любовь.
И он долго еще рассуждал в этом духе. Я не слушал его. Провидение столь неожиданно пришло мне на помощь, что я благоговейно замер: Джем сам нашел утешение в том горе, от которого, опасался я, ему не оправиться. Он не пожелал узнать, как разоблачила себя Елена, и тем избавил меня от лжи или тягостного признания. Джем, казалось, и на этот раз остался по сю сторону своих упований. «О всемилостивейший аллах, если б это было так!» – твердил я про себя.
Однако ночью я услыхал его рыдания. Тихие, глухие – видимо, он зарылся лицом в подушки. Возможно, он только передо мной притворился утешенным? Либо же боль от разлуки с Еленой постепенно давала о себе знать?
Я и впрямь замечал, что первые дни после разлуки бывают легки, даже радостны: тебе предоставлено ощущать свою любовь во всей полноте, без тех препон, что ставит ее зримый образ, порой противоречащий твоей мечте. Терзания приходят позже – вместе с голодом, испытываемым твоей кровью и кожей, вместе с холодом широкого ложа, безмолвием спальни; со всем чисто телесным одиночеством, ибо духом человек одинок и во время самой пылкой любви.
Не одну ночь слышал я рыдания Джема. Он тосковал не по-мужски, а как ребенок или раненый зверь. Не проклинал виновников его разлуки с возлюбленной, точно заранее был убежден в неотвратимости расставания: для Джема то была разлука не с женщиной – его лишили человеческой близости, обобрали до конца.
Странно то, что он не говорил об этом со мной, но каждый вечер, я это чувствовал, он с нетерпением ожидал темноты, спешил покончить с ужином, чтобы окунуться в воспоминания. Это был уже не прежний недуг, мучивший его в Рошшинаре, хотя и он позже напоминало себе рядом приступов, – то было примиренное, сладостное страдание. Я очень боялся, что Джем полюбит это страдание, отдастся ему во власть, – человек кончается в тот миг, когда начинает любить свою боль.
Я пытался отвлечь Джема. Придумывал всевозможные планы бегства, непредвиденные счастливые события. Джем терпеливо выслушивал мои нелепые выдумки. Тихая благодарность – подобная той, какую проявляют безнадежно больные к своей сиделке, – и ничего больше. А по ночам я слышал прерывистое дыхание. Джем плакал.
Бесконечно мучительным было для меня это кроткое страдание. Я вспоминал то время, когда Джем бросался наземь, стенал, сыпал проклятиями и угрозами, противился. Отчего буйство истощает само себя и, остывая, превращается просто в печаль? Печальным человек может оставаться всю жизнь – это не утомляет, с этим свыкаешься. Многое бы я отдал, чтобы найти средство исцелить Джема.
Пришел день, когда он сам нашел его.
– Саади, – сказал он, не глядя на меня, – нет ли у тебя гашиша, Саади?
Гашиш у нас, конечно, был. Некогда, в Карамании, многие курили гашиш, пробовал курить и я. Джема нам уговорить не удавалось – он считал, что гашиш вредоносен для мужчины, желающего надолго сохранить свои силы; говорил, что гашиш размягчает человека, расслабляет, разъедает. Некоторые из нас пытались соблазнить его красотой сновидений после гашиша, но Джем отвечал: «Есть ли сновидения прекрасней, чем жизнь, друзья мои? Живите вместо того, чтобы отдаваться снам!»
Он был не совсем прав – сны необходимы каждому. Если Джему гашиш был излишен, то лишь потому, что в ту пору он умел видеть сны наяву. Вот отчего так сжалось у меня сердце, когда он робко вымолвил свою просьбу. Джему уже не удавалось более видеть сны без помощи извне, что-то, вероятно, навсегда было в нем убито.
– Я поищу, друг, – сказал я.
И нашел. Совсем немного, то, что оставалось в вещах наших людей, увезенных в 1484 году. Я узнал мешочек – он принадлежал караману Латифу. «Остатки, останки… – подумалось мне. – Было время, когда и мы, как и все наши сверстники, имели настоящее, имели впереди дни, годы, десятилетия. Теперь же мы, точно призраки, блуждаем меж воспоминаний о Карамании, Ликии, Ницце и засохших букетов от Елены (Джем не позволил выбросить их), мешочка с гашишем Латифа, книг Хайдара…»
Я принес Джему гашиш.
– Знаешь ли ты, как это делается, Саади? – спросил он, по-прежнему отводя глаза.
Я знал. Отсыпал сероватые пылинки, набил трубку, медленно-медленно, словно желая оттянуть время.
– Джем, – нерешительно произнес я, – ты должен сберечь себя, Джем, ты слыхал о том, что такое гашиш… Тебе предстоит борьба, сохрани для нее свои силы!
– Человек сберегает себя для будущих дней, если он может прожить без гашиша день нынешний, Саади! – отвечал он. – А я чувствую, что каждый час, прожитый в трезвом сознании, убивает меня. Рубеж перейден, Саади, у меня не осталось сил…
Есть что-то неотразимое в протянутой, раскрытой ладони. Джем протягивал ко мне ладонь, я сидел возле его постели; Джем молил: «Помогите мне перенести нескончаемые дни жизни! Не лишайте меня сновидений! Позвольте благодаря им вернуться в родную землю, к моей юности, вернуться к самому себе! Умоляю вас!» С какой охотой опустил бы я на его ладонь не гашиш, а собственную свою жизнь. Но это не помогло бы ему. Джему требовалось больше, нежели моя жизнь, нежели сотни жизней, оборвавшихся из-за бунта Джема, – ему требовалось забытье.
– Закуришь, когда остынет пепел! – сказал я. – Тогда действие сильнее.
– Спасибо, Саади! Ты ведь оставишь меня одного? Войдя к нему через несколько часов, я застал его погруженным в грезы. В его задумчивости проскальзывал стыд – как у воина, позволившего себя обезоружить. Затем мешочек Латифа опустел, и я вынужден был просить гашиш у братьев.
– Гашиш? – переспросил меня Антуан Д'Обюссон (Бланшфор был смещен спустя три дня после провала Елены). – Я прикажу доставить, в Марселе его продают на улицах. Мы должны удовлетворять все желания нашего гостя. Все желания, – повторил он.
«Если гашиш вы называете всем!» – мысленно возмутился я, но он словно угадал мои мысли.
– Закончена постройка специальной турецкой бани, – сказал он. – Подарок Ордена вашему господину. Уведомите об этом принца!
– Где? Мы не видели никакого строительства.
– В Бурганефе. Строили ее сарацины, у нас такие бани неизвестны, а его высочество, вероятно, страдает без бани.
– Да, вообразите, мы имеем обыкновение мыться. Возможно, по этой причине в наших краях вши бывают только у дервишей.
Я сильно хлопнул дверью. Любезность братьев и раньше меня настораживала. То, что они милостиво разрешили Джему курить гашиш, было в какой-то мере объяснимо: нет более сильного врага для деятельного человека, чем гашиш. Джем сам предложил монахам такого стража, какой им и не снился. Что вы сказали? Случайно ли пришла Джему мысль о наркотике?
Я мысленно оборачивался назад, пытался понять, отчего несколько раз, еще до появления Елены, я заставал наших сотрапезников и Джема в какой-то странной, блаженной полудреме. Наконец все уяснилось: в первый раз всегда курят в компании – ведь не может человек возжелать пищи, ему незнакомой?
«К чертям! – заключил я. – Я уже сам не знаю, что есть благо, а что зло. Если трезвость приводит к безумию, к чему тогда быть трезвым?»
Оставалось второе: турецкая баня. Чего добивался этим брат Д'Обюссон, хоть он зовется Антуаном, а не Пьером? Уже много лет Джема раздражала его вынужденная нечистоплотность, тогда как на Западе без всякого стеснения чесались там, где кусали вши. Человеку, знавшему баню с первых своих дней, трудно было выносить это. Вплоть до Ниццы мы могли хотя бы совершать омовения в море, на севере же реки холодные, тинистые. С тех пор как нас осталось всего двое, я растолковывал каждому из монахов в отдельности, что нам нужна горячая вода, много воды, целая бочка, и каждую неделю очередной монах несказанно удивлялся. «Мы моемся», – объяснял я, и эти потешные наши омовения в огромной сводчатой комнате Джема вскоре стали в Дофине притчей во языцех.
Впрочем, с годами мы понемногу привыкли к грязи – что же теперь вынуждало братьев до такой степени стараться нам угодить?
Стоял июль, конец июля. Ничто не переменилось в Буалами, если не считать отсутствия Бланшфора и все более частых отлучек Джема в страну гашиша. В такие часы я слонялся один по замку без всякого дела и даже без стражи. Какая-то тяжелая скука навалилась на Буалами. Я не ощущал прежней напряженности между монахами и рыцарями, словно и те и другие тюремщики Джема пришли к заключению, что не предстоит никаких перемен, и успокоились. Мне случалось иногда видеть, как они вместе играют в кости. Не к добру было это их спокойствие.
В конце сентября Антуан Д'Обюссон предупредил нас, что мы переезжаем в вышеназванный Бурганеф.
Нас повезли, как пленников, без свиты, без пышности. Я надеялся, что Джем захочет попрощаться с теми местами, по которым он скакал верхом рядом с Еленой, где он лежал на ее коленях. «Зачем мне копить еще воспоминания, Саади? – ответил он. – Их и без того слишком много…»
Мы ехали целую неделю, все время на северо-запад.
Некогда это приводило Джема в бешенство – его заставляли удаляться от Румелии, от борьбы. Теперь же он был очень тих и рассеян. Поскольку в последнее время он редко выходил из своей комнаты, лицо его покрывала болезненная бледность. Равнодушно озирал он рощи и пастбища, мимо которых мы проезжали, – что общего мог иметь султан Джем с Дофине, с Оверныо?
– Сменим хоть пейзаж, – попытался я встряхнуть его. – Я по горло сыт этим Буалами с его тремя плешивыми холмами.
– Хм… – отозвался Джем.
– Как-никак мы с тобой граждане мира, а значит, и Оверни. Почему в Оверни нам будет хуже, чем в Буалами? – продолжал я не слишком находчиво.
– Никаких граждан мира нет! – внезапно оживился Джем. Вернее, разозлился; он стал необычайно вспыльчивым.
– Есть. Поэты.
– Неужто за эти годы твоя мысль и впрямь не развилась, Саади? Если для поэта не существует родины, отчего ты не сложил здесь ни одной песни? Ты ведь говоришь на их языке, правда? А петь на нем не можешь. Ибо это не твой родной язык, «гражданин мира»!
– Но в Ницце ты сложил много стихов, Джем. Значит…
– «Сложил много стихов»… Для кого, спрашиваю я тебя? Нет поэта без слушателей, как нет султана без войска. Когда меня разлучили с нашими людьми – будь то слушатели или воины, – я перестал быть и поэтом, и султаном, Саида.
– Слушай! – Джем повернул своего коня почти вплотную к моему, но не снизил голоса, а чуть ли не закричал, как в бреду. – И запомни мои слова, потому что через несколько месяцев или через год я уже не скажу этого, а возможно, и не буду уже так думать, вообще перестану думать: я уже более не султан Джем, вдохновитель поэтов Карамании, вождь сипахов! Где он, мой двор поэтов, где они, сипахи Мехмед-хана? Их нет! Нет! Значит, нет и Джема, Джем мертв… Знаешь ли ты, что есть человек, Саади? – так же громко спросил он меня, словно произносил речь перед незримей толпой. – Красота, добрая сила, десятки достоинств еще не делают человека человеком. Нужно, чтобы чья-то любовь радовалась тому, что человек красив, чтобы толпы людей рыдали при звуках его песен, чтобы было войско, готовое осуществить его завоевания. Нужно множество людей. А я одинок, Саади. Одинок. И потому султан Джем останется в истории лишь несбывшимся обещанием…
Потрясенный возбужденностью Джема, его необъяснимым порывом, я оглянулся – что подумают братья? Они казались равнодушными, хотя исподтишка и наблюдали за нами. Вероятно, пришли к заключению, что у турка очередной приступ гнева, боли – словом, буйства. А мне хотелось понять – с той поры как появилась Елена, Джем ни разу не говорил со мной так. Мне казалось, что час за часом, капля по капле гашиш вытесняет из его сознания действительность. А эти возбужденные, неуместные речи были словно предсмертной судорогой, вспышкой просветления, кратким возвратом к самому себе на пороге вечного мрака.
– Зачем ты говоришь мне это, Джем?
– Затем, что у меня дурные предчувствия, гражданин мира, и я боюсь умереть, не оставив завещания.
– Какая чушь! – не сдержался я. – Что ты называешь завещанием?
– Прошу тебя, Саади, – отвечал он, – очень прошу тебя, пиши! Прежде всего запиши то, что я только что сказал. Пусть люди знают, что Джем все понимал и жизнь его не была одним самообманом. Так было только до какой-то поры, какого-то рубежа. А потом переходи к другому…
– К чему, Джем?
– К тому, что будет происходить без меня
– Да ты не прожил еще и половины жизни, Джем! Слава аллаху, ты здоров, молод…
– Я не говорю, что меня не станет, друг Но то что отныне будет происходить, будет происходить уже без меня.
Часть четвертая
Выдержки из дневника поэта Саади. Записи с осени 1487 года по осень 1494 года, составленные без всякой связи с данным расследованием, однако весьма для него полезные
Наше путешествие – боюсь, последнее из наших путешествий – завершилось две недели назад. Наше новое и, боюсь, последнее убежище называется Бурганеф.
Итак, мы в замке Бурганеф. На сей раз я опишу его, ибо здесь нам суждено и остаться. Бурганеф не просто очередная остановка на неведомом нашем пути.
Направляясь к замку, прежде всего проходишь городскими воротами и попадаешь в селение, даже городок, являющийся частью домена брата Бланшфора. Его жители и светски и духовно подчинены командору, почитают Бланшфора, личность во всех отношениях неприятную, первым лицом после бога. Это имеет для нас важные следствия: будучи ревностными подданными, они являются дополнительными, бесплатными тюремщиками, у них нам не найти сочувствия.
Бурганеф насчитывает сто пятьдесят домов, почти одинаковых, очень аккуратненьких, в каждом – лавка. Не могу понять, кто же здесь покупает, коль скоро все до одного продают. Улицы в городке узкие, мощеные, чисто выметенные, как полы в доме. И должен добавить, безлюдные – все жители здесь трудятся от зари до зари, человеческого голоса не слышно, раздаются лишь звуки человеческого труда. К вечеру они стихают и в каждом доме загорается по окошку – семья ужинает. Потом спит. Глубоким-глубоким сном, после пятнадцати – шестнадцати часов работы, и так изо дня в день.
Между старыми стенами Бурганефа возвышается холм – дома лепятся у его подножия. Там некогда был ров, ныне он заболочен – хорошо, что хоть лягушачье кваканье нарушает тишину. Холм этот голый, на его вершине высится замок – так именуется кольцо высоких строений, внешние стены которых представляют собой неприступную крепость. В середине этого кольца находится церковь, построенная два столетия назад, недавно подновленная, без живописи. Ее заменяет глиняное изваяние Иоанна Крестителя, на которое накинуто холщовое одеяние.
Когда мы подъезжали к новому своему убежищу, я заметил две высокие башни. Это несколько удивило меня – здешние замки обычно имеют по одной. И другое заметил я: та башня, что повыше, была совсем новой, белый ее камень, казалось, был вытесан только вчера. Позже я прочитал надпись над ее входом. Надпись гласила: «В год 1484 в замке Бурганеф начато возведение большой башни и подновлена церковь на средства верующих – 3500 золотых дукатов – и при содействии брата Ги дю Бланшфора, великого приора Оверни, командора Кипра и Бурганефа, племянника досточтимого и могущественного сеньора, великого магистра Родоса Пьера Д'Обюссона».
Иными словами, еще три года назад, пока мы переезжали под песни трубадуров из одного замка в другой, святой Орден позаботился о том, чтоб возвести специально для нас предназначенное узилище; пока Матиаш или Каитбай боролись за Джема, а сам Джем верил, что каждый минувший день приближает его победоносный поход, в Бурганефе камень за камнем поднималась башня, известная под названием «Башня Зизима», – темница, выстроенная в соответствии со всеми требованиями эпохи.
Жестокая правда! Наши сопровождающие предоставили нам молча проглотить ее. Я перевел надпись Джему, но он не удостоил меня ответом. Он остановил своего коня между башней и церковью, вид у него был мрачный.
Почти совсем стемнело. Один из братьев факелом освещал нам дорогу. Витая лестница пахла свежеоструганным деревом и раздражающе скрипела под ногами монаха. Мы следовали за ним, насквозь пронизанные сыростью – штукатурка еще не успела высохнуть.
Сперва мы поднялись на старую башню, потом, пройдя по крепостной стене, оказались в навой, где спустились вниз на четыре этажа. Низкие своды. Тьма. Монах осветил небольшое помещение со сложенными из кирпича лавками и котлом. «Баня его высочества», – шепнул он, словно сообщая некую тайну. Ах да! Ведь ради этой бани и проделано наше семидневное путешествие.
Затем мы вновь стали подниматься по лестнице. На первом этаже монах указал нам на степу. «Конюшня», – снова шепотом объяснил он. Неужели и нам надо говорить, понижая голос, в этом таинственном обиталище? На втором этаже находилось большое круглое помещение: «Кухня». На третьем – несколько комнат поменьше, весьма скромных, с полами из неструганых досок и камином: «Комнаты для королевской стражи». Именно из этих комнат дверь ведет на стены крепости, другого выхода из башни нет, если не считать выхода из конюшни, но она с верхними этажами не сообщается. Следующий этаж, четвертый, должен был, очевидно, ошеломить нас своим великолепием. Он делился надвое: одна комната большая, другая – маленькая. В большой – камин, облицованный узорчатыми плитами. Рядом кровать с балдахином, массивный стол, два стула, ковер, несколько сундуков. Свет проникает в эту комнату сквозь нечто, напоминающее формой воронку – в толщу свода уходит расширяющееся кверху отверстие, которое завершается круглым окном.
«Когда идет дождь или снег, мы его закрываем. Это комната его высочества». (Тут мне стало ясно, что монах говорит шепотом оттого, что несколько смущен.) Низкая дверца ведет в соседнюю, мою комнату. Кровать, сундук – вот и все. Узкая щель вместо окна.
На пятый, шестой и седьмой этажи мы поднимались с трудом: не только ноги, но и голос уже не повиновались нам. «Тюрьма, тюрьма!» – твердил мне каждый удар сердца. События привели в конце концов в тому, к чему не могли не привести! Я не стал осматривать клетушку, предназначенную для свиты Джема, – ведь она по-прежнему состояла из иоаннитов и королевских рыцарей.
Мы вышли на крышу – круглую площадку, огороженную зубчатым карнизом. «Здесь будет стоять стража; здесь и перед дверьми третьего этажа, – объяснил монах. – в Бурганефе вы наконец-то сможете не опасаться за свою жизнь, ваше высочество!» Джем уже спускался бегом по скрипучим ступеням, ударяясь о еще не просохшие стены. Звук его шагов – неровных, спотыкающихся – доносился снизу: так бегут от чего-то более страшного, чем даже смерть.
Я ощупью последовал за ним: монах с факелом остался наверху.
Я поискал Джема в предназначенных ему так называемых покоях – там его не оказалось. Спустился этажом ниже и нашел Джема на крепостной стене. Высунувшись в бойницу, он повис над двором и, казалось, был без чувств. Я слегка дотронулся до него, он судорожно вздрогнул.
– Саади, нас заточили в темницу? – Я не видел его глаз, но хорошо себе представлял их взгляд.
– Спокойнее, Джем! Не произошло ничего нового, мы с тобой стали узниками с того дня, как ступили на Родос…
Я повел его, точно больного. В покоях уже был разведен огонь, но он был не в силах прогнать могильный холод башни. Джем, не раздеваясь, кинулся на кровать и отвернулся к стене. С гашишем или без гашиша, он провел так много дней.
А я отмеряю дни по мутному свету, что пробивается сквозь оконце. Чтоб увидеть над головой клочок неба – облачного или звездного, – надо встать под воронку. Больше всего света нам дает камин – огонь поддерживается там круглые сутки. Я сижу перед ним, смотрю на языки пламени и молчу. Тишину нарушают только стоны или бред Джема – гашиш часто заставляет его что-то несвязно бормотать, и по обрывкам слов я догадываюсь о том, какие сны навещают моего друга. Конечно же, Карамания, красные пустынные горы Ликин, ослепительно белый Родос, обрамленный ярко-синим морем, буйство красок Савойского побережья…
«Хвала аллаху! – думаю я. – За то, что он дал нам хоть гашиш!..»
Здесь, в Бурганефе, я гораздо свободнее Джема, Джему разрешают, самое большее, подняться на крепостную стену, где он и прогуливается иногда. «Никаких прогулок вне крепости!»
Монахи уверяют, что Баязид готовит покушение за покушением на своего брата. Когда Джем находится на стене, по обеим ее краям караулят стражи, а сверху, с крыши башни, наблюдают дозорные. В Бурганефе с Джема ни на секунду не сводят глаз; чтобы скрыться от них, он проводит дни у себя в комнате, на кровати. Иногда он терпит мое присутствие, иногда же просит уйти. Я предпочитаю второе – меня безмерно угнетают бдения возле человека, который часами не раскрывает рта и как бы вовсе отсутствует.
Я выхожу з? пределы не только «Башни Зизима», но и самой крепости. Медленно спускаюсь по склону холма – очень медленно, чтобы продлить прогулку. Брожу улочками Бурганефа, пять-шесть улочек не больше чем в триста шагов. Мне уже знаком каждый камень мостовой, каждый горшок герани на окнах. Знаю в лицо всех тружеников Бурганефа. Они внимательно разглядывают меня из-за своих прилавков, из-за всевозможных мешков и банок; их взгляды провожают меня от одной лавки к другой, следят за мной на всем недолгом пути до городской стены, где меня заставляет повернуть назад, опять-таки взглядом, королевская стража. И я бреду назад под теми же взглядами жителей.
В первое время я осмеливался вступать в разговоры – можно ли жить в полном безмолвии двадцать четыре часа в сутки! Останавливался перед какой-нибудь лавчонкой, расспрашивал о житье-бытье. Мне отвечали односложно – вид у людей всегда озабоченный, деловитый, и на тебя смотрят как на докучного праздношатающегося. За их ответами сквозит: «Тебе-то легко, живешь на королевских харчах». Это больше чем укор – в их словах неприязнь: ведь я сарацин. Личность подозрительная.
Я снова медленно поднимаюсь по склону к замку. Два-три раза обхожу вокруг церкви, иногда заглядываю внутрь. Сквозь разноцветные стекла свет северного солнца не кажется таким мутным, узкий неф почти ярко освещен. Я созерцаю глиняное изваяние Крестителя, выкрашенное в три цвета, с вытаращенными, злыми глазами. Однажды я поймал себя на том, что показываю ему язык – это единственное, чем я могу уязвить покровителя брата Д'Обюссона.
Снова выхожу во двор и кружу вокруг церкви. В своих тихих, бесшумных и бесцельных блужданиях я, наверно, напоминаю летучую мышь. Все откладываю и откладываю минуту, когда «Башня Зизима» поглотит меня. Однако этот миг неотвратимо приближается – я поднимаюсь по лестнице. Ступени ее становятся все скрипучей – доски с каждым днем все больше рассыхаются. Вхожу к Джему. Он лежит, вперив взор в потолок, как будто уходящий вверх заостренный свод вбирает в себя все его внимание, все мысли. Он снова видит сны наяву, и я понимаю, что говорить с ним бесполезно. Ему уже никто не нужен, мост между нами рухнул.
Я сижу, смотрю на огонь в камине – огонь и море таят в себе неисчерпаемое разнообразие и могут приковывать взгляд на протяжении долгих часов. Я смотрю на языки пламени и, поскольку не курю гашиш, принужден думать. И я думаю: «О аллах, зачем ты сделал время столь томительно долгим!»
Сегодня мы получили от брата Д'Обюссона милый подарок: обезьянку и попугая. Джем подозрительно взглянул на монаха, принесшего их. «В своем стремлении доставить его высочеству развлечение брат Д'Обюссон предлагает ему сей скромный дар», – шепотом произнес монах. Поставил обе клетки и удалился.
После получасового созерцания подарка (новинки, нарушившей наше уединение) Джем встал, с рассеянным видом прошелся вокруг клеток, потом сел на пол возле той, где была обезьянка. Забавное зрелище: Джем пытался найти общий язык со зверьком, смешно гримасничал, шевелил руками, издавал потешные звуки. А она внимательно разглядывала будущего своего соседа. Придя, как мне показалось, к какому-то заключению, она просунула сквозь прутья решетки лапку и ухватила Джема за палец.
Джем громко рассмеялся тем новым, не вполне осмысленным смехом, какой бывает после гашиша, отпер клетку и взял зверька на руки. Обезьянка не противилась, она стала играть застежками на платье Джема. Потом вдруг вскочила на кровать и устроила нам истинное обезьянье представление.
– Саади, – спросил Джем, все еще улыбаясь, – сумею ли я обучить ее шахматам?
– Почему бы нет? – ответил я, радуясь тому, что теперь Джем вовсе избавит меня от своего молчаливого, тягостного общества.
– Попугая же возьми себе, – великодушно объявил он. – Я не выношу птичьего запаха.
Итак, я разжился попугаем! Только попугая и не хватало мне! Я отнес клетку в свою каморку, где сам-то помещаюсь с трудом! Поставил ее на пол и стал размышлять, не заморить ли попугая голодом, – может, хоть это приведет в ярость Д'Обюссона, а? Потом меня осенило. «Нет бога, кроме аллаха, и Мухаммед пророк его!» – крикнул я птице.
Если каждый день повторять попугаю эти слова, выучит он их?
«Нет бога, кроме аллаха, и Мухаммед пророк его!» – каждое утро, едва я начинаю ворочаться в постели, мой попугай приветствует меня нашим «верую». «Нет бога, кроме аллаха, и Мухаммед пророк его», – отвечаю я птице, единственному во Франции существу, говорящему на моем языке и верующему в моего бога. Глупо будет уморить его голодной смертью.
Сотоварищ Джема даже лучше, чем мой. Я часто застаю их за шахматами. Они передвигают пешки, коней и ладьи с почти равным умением и ведут себя тоже почти одинаково: время от времени один из них вскакивает, обходит комнату, бессмысленно жестикулируя, и вновь садится за игру. Смешно: обезьянка делает то же самое, что и ее господин, полностью, казалось бы, повторяет его, а я вижу в ней нечто более человеческое – вероятно, ее стремление походить на человека. Тогда как Джем стремится все более разрушить в себе человеческое, ведет себя с каждым днем все более дико, не соблюдает правил и приличий и словно рад тому, что опускается, теряет достоинства, некогда делавшие его блестящим мужем, кумиром мыслителей и войска целой империи.
Да, наверно, такова суть Джема – того Джема, которого я всегда считал актером, одинаково хорошим во всех ролях; его суть – в крайней душевной избалованности. Джем бывал красив и обаятелен, одарен л великодушен, щедр и неотразим, когда сам находил в том удовольствие. Те шесть лет, на протяжении которых он боролся с надвигающимся отчаянием, тоже были легкими – ведь все и вся питали Джема надеждами, и он не избавлялся от своих прекрасных качеств, веря, что вскоре вновь засверкает перед взорами людских толп. С той самой минуты, когда Джему пришлось отстаивать свою личность – теперь уж саму по себе, не как средство, а как цель, – Джем предоставил ей разрушаться. И находит в этом разрушении горькую утеху – утеху терзать тех, кому ты дорог либо необходим. И первый из них – я, видевший прежде в Джеме божество; могу ли я не терзаться падением своего кумира, как не могу не пойти на все, чтобы спасти его! Второй же – мир, весь мир целиком; существует ли более жестокая месть Д’Обюссону или Иннокентию, чем гибель самого большого козыря в их игре?
Так, вероятно, рассуждает Джем, если он еще способен рассуждать…
Однако он глубоко заблуждается в своих расчетах, мой приятель Джем: своим духовным самоуничтожением он не испугает тюремщиков и не отомстит им. Пока жив телом.
Возможно, ему удастся отомстить мне, упорно показывая образ поверженного моего кумира? Хотя и это сомнительно. Отчего, черт побери, человеку свойственно переоценивать любовь, которую он внушает? Отчего переоценивает он ее выносливость, ее прочность?
Да, некогда я любил Джема превыше всех и всего, я готов подтвердить это даже в свой смертный час. Но я любил того Джема, какого носил в своем воображении, и в той мере, в какой живой Джем не противоречил созданному мною образу. Когда обстоятельства нашей жизни помешали мне оставаться всецело во власти воображения, Саади опустился на землю и здесь столкнулся с Джемом не воображаемым, а истинным. Тогда уж не осталось более места для иллюзий; истинный Джем будит жалость. Эта жалость льстит моему самолюбию: дескать, ты добрее, сильнее, ты действуешь, ты сострадаешь.
Но сколь прочным может быть подобное чувство? Я имею в виду сострадание. Ответа я еще не нашел, пока что мое сострадание, моя служба, оказываемая мною помощь – вынужденны. Я тоже узник.
Вчера был их праздник, Рождество. Внизу, в Бурганефе, было оживленней, чем обычно. Били колокола на городской церкви и в замковой часовне, били долго, глухо, их звон поглощался густым снегом. В городке допоздна светились все окна. Я слушал песню, печальную, хоть она и говорит о самой большой человеческой радости – о рождении. Сидя на корточках на стене, в теплой шубе, я чествовал, что этой ночью труженики Бурганефа не такие тягостно-отчужденные, как обычно. Их объединяла вера в общего для всех них бога, надежда на общий для всех год. Каким будет он – плодородным или засушливым?
Только один я – Джема я почему-то уже в расчет не беру – нахожусь вне этой общей радости, ежась в купленном на королевские деньги тулупе на стене своей тюрьмы. Я иноверец, чужеродное тело, попавшее в христианский мир. На мне французская шуба и французского покроя узкие штаны, от чалмы я отвык еще в Буалами. Но даже если мне кусок за куском сменят всю кожу, все равно я буду здесь чужим.
Ненавижу их! Ненавижу ремесленников Бурганефа с их геранями, с банками, полными южных приправ. Но как мне хочется, чтобы они полюбили меня! Перестали видеть во мне подозрительного чужеземца, пригласили хоть в этот вечер туда, за эти освещенные окна. Чтобы я мог час-другой провести за их столом, вместе сними выпить слабенького французского вина.
С кем-то пить, говорить с кем-то, быть вместе… Воспевая некогда счастье быть гражданином мира, думал ли я, что этого гражданина мира будет окружать леденящи и неодолимый холод? «Люди! Холодно мне!» – хотелось мне вчера закричать.
«Нет бога, кроме аллаха…» – этими словами встретил меня попугай, единственный мой единоверец во Франции.
Пишу редко, потому что все дни, в сущности, похожи один на другой. Дивлюсь тому, что Джем в последнее свое просветление попросил меня записывать его историю. Что, по его мнению, могу я записать? Уж не многомудрые ли наши с ним беседы? Да мы по нескольку дней не произносим ни слова, если не считать каждодневного: «Где мой халат, Саади?», «Подай мне трубку!», «Подбрось еще дров, Саади, мне холодно!». Я сную между камином и сундуками и только изредка вынимаю лист бумаги. Поначалу Джем в такие минуты смотрел на меня с беспокойством – я пишу, пока он лежит недвижно в постели или играет в шахматы с обезьянкой. Каким представлю я султана Джема потомкам? Сейчас я уже не замечаю в нем такого рода беспокойства – Джем плюет на потомков, как и на все остальное.
О нет! Я так не могу! В конце концов, я обхожусь без гашиша, ничто и никто не может мне заменить весь мир с его бесчисленным множеством людей, городов, разговоров и дорог, поэтому я все чаще заговариваю со стражей. Я понимаю, что мне отвечают словами процеженными, возможно даже предварительно заученными наизусть по указанию брата Д'Обюссона, но рассчитываю на то, что стражи тоже скучают в Бурганефе.
Они не молчаливы: должно быть, Д'Обюссон надеется удержать Джема в сознании, подбрасывая ему новости. Таким образом узнал я, что война между Турцией и Египтом в разгаре. По сему случаю на Запад снова хлынули посланцы, Корвин и Каитбай уже не спорят, куда переехать Джему – в Египет или Венгрию, – лишь бы поближе к Баязиду, иначе Баязид распояшется.
«Последний египетский посланец предложил за Джема миллион дукатов», – говорят мне.
Тысяча и одна ночь! Не только сам Джем стал легендой – легендарной становится и цена на него. Видел ли мир человека более дорогостоящего, чем тот, кто сидит сейчас на смятой постели и передвигает фигуры – коней, солдат и башни – по расчерченной на квадраты доске?
Я не утерпел – вошел к нему, зная заранее, каким застану – немытым со вчерашнего утра, отекшим, с желто-серым лицом. В халате, который он не снимает уже неделю. Расплывшимся.
О да! У нас новость: Джем начал толстеть. Помимо гашиша, его сейчас чрезвычайно занимает еда. Единственные более или менее осмысленные разговоры наши посвящены сему предмету. Джем подробнейшим образом объясняет, что он желал бы сегодня вкусить; повар, специально вызываемый каждое утро и после обеда, слушает то, что я перевожу, и кивает. Порой я долго подыскиваю французское слово (название какой-либо нашей приправы, а так как здесь они иные, часто приходится искать замену). Заметив это во время трапезы, Джем мрачнеет и разражается цветистой бранью по адресу наших хозяев: свиньи, всеядная мразь, нелюди и прочее. А я передаю повару новые приказания, разумеется опуская умозаключения Джема.
Вчера я купал его. Джем отказывался от бани пять месяцев, уверяя, что мерзнет. Пять месяцев не видел я обнаженным бога караманских поэтов.
В клубах пара сидел человек средних лет. Единственным, что напоминало о прежнем Джеме, были ноги – все еще стройные, хотя и потерявшие упругость. Солидный слой жира покрывал спину и грудь, живот свисал складками. Да еще эта рыжая шерсть! Настоящий кабан! Не становится ли он похожим на Завоевателя с его безобразным ожирением? Нет, у Завоевателя жила каждая черточка, необузданные порывы сотрясали его короткое, шарообразное тело. Этот же крупнее, но вял, апатичен. Он похож на животное, неохотно пробуждающееся от зимней спячки. И отчего одно веко у него тяжело опущено и так медленно поднимается? Как много успели за эту зиму гашиш, неумеренная еда, неподвижность!
А наши стражи подсовывают мне все новые вести. По их словам, Корвин и Каитбай ничего не достигли, тогда как шансы Папства растут. В королевском Совете усиливаются настроения в пользу Рима. «Еще бы!» – думаю я про себя, потому что представляю, какие обещания раздают папские легаты, сколько кардинальских шапок и епископий получает Франция. Ведь оплачивает-то счета простой народ.
Я долго увещевал его, чтобы он предстал в подобающем виде перед посланцем Баязида, – Джем тупо упорствует в своей неопрятности. Я твердил ему, что стоит Баязиду проведать о том, что брат его внутренне отказался от сопротивления, как он тотчас сбавит плату и с нами начнут обращаться хуже, чем сейчас.
Вот уже несколько месяцев не разговаривали мы так долго. Собственно, говорил только я. Джем, приоткрыв один глаз, с ненавистью смотрел на меня – злился, что я нарушаю его покой. «Все ерунда!» – несколько раз бросил он.
Он прав. Я понял, что стараюсь только из желания не дать Баязиду позлорадствовать – не хочу, чтобы кто-нибудь догадался, во что превратился Джем! Я намекнул ему на это. «Велика важность!» – процедил он. А немного погодя, когда я облачал его в праздничные одежды, добавил:
– Пускай, пускай! Пускай Баязид обо всем узнает, он тогда расквасит им рожи!
– Тебе столь желанны победы Баязида? – язвительно спросил я, весь мокрый от возни с этой тяжелой, расплывшейся тушей.
– Да, победы над Д'Обюссоном и всей этой сворой убийц. – То был первый разумный ответ, услышанный от него за много месяцев.
Посланец ожидал нас в церкви – залы для приемов в Бурганефе нет. Он стоял спиной к статуе Крестителя, словно оскорбленный его присутствием. Немолодой, сухощавый человек – наверно, выслужившийся солдат, У него было обветренное лицо бывалого воина.
«Из года в год скакал он побежденными землями; имел и раны и добычу; возвращался домой, чтобы застать очередного новорожденного; наживал добро и плел интриги; униженно ползал и гордо ступал; не гнушался подкупами и убийствами, чтобы достигнуть чего-то…» – думал я, и перед моим мысленным взором проносились картины. Картины той жизни, какой живут мужи. Как непохожа она на мою!
Не мог ли разве я быть на его месте? С моим умом, познаниями, живостью? Какой дьявол сунул меня на службу вдохновения, ко двору полумужчин – меня, поэта, гражданина мира! Зачем я сам не сузил этот мир до одной империи и одного государя, ведь тогда я знал бы, что служу кому-то, кто защищает меня, чтоб я продолжал служить ему и дальше? Зачем не выбрал я себе один город, а в городе – один дом и одну жену – какой бы она ни была – меж тысячи женщин?…
Тогда… Тогда какой-нибудь сипах из Айнтаба сейчас говорил бы обо мне: «Это Саади, из нашего алая[22]». А какая-нибудь женщина говорила бы: «Это Саади, мой муж; я жду его возвращения с войны, он привезет подарки нашим детям, оденет меня в новые одежды и купит мне лаванды. Я буду ждать Саади не год, не два, а двадцать лет, потому что я его жена, а он – отец моих детей». Тогда в каком-нибудь полку и в каком-нибудь доме после смерти Саади, сипаха и отца, стали бы оплакивать его. А как отнесутся к моей смерти жители Бурганефа? Стража зароет меня за городской стеной, чтобы мое басурманское тело не оскверняло их священной земли. Город тем временем будет жить своими будничными заботами, а попугай спустя три дня смолкнет и забудет наше общее «верую»: «Нет бога, кроме аллаха…» Кто-то другой станет подбрасывать в камин дрова и мыть толстый слой жира, под которым покоится Джем, а Джем даже не заметит, что у него сменился слуга.
Моего господина ввели в церковь. Белое и золотое – будь прокляты эти цвета его одеяния! Джем стоял, неподвижно глядя поверх головы посланца. Возможно, мне это почудилось, но он выпрямил плечи, втянул живот, в последнее мгновение попытался придать себе царственную осанку.
Посланец смотрел на него испытующе – могу себе представить, какой кучей вопросов засыпает каждый раз Баязид своего посланца, как он требует, чтобы ему описали каждое изменение, происшедшее в Джеме. Выдержать этот взгляд было для Джема мукой (внешний мир давно не заглядывал в его уединение, и Джем, наверно, думал, что падение его остается тайным, неведомым). Он все же выдержал, но на обратном пути плечи у него опустились – все труднее давалось ему любое усилие.
Я отдаю себе отчет – поскольку я не курю гашиша, я вообще во многом отдаю себе отчет, – что мой господин вызывает теперь во мне скорее ожесточение, чем жалость. В последнее время во мне просыпается нечто забытое: самолюбие. Общее наше с Джемом дело проиграно, угасла и любовь моя к Джему – нет больше этих двух целей моей жизни, и я понемножку зверею. Как всякий зверь, я теперь отстаиваю свое звериное право на свободу и наслаждение – только для меня одного. Я уже нищ духом – вполне это сознаю и не испытываю никаких угрызений совести: то не моя вина. Поющий, возвышенный поэт вольно шагал улицами мира, но налетели невесть откуда грабители, кляпом заткнули ему рот и обобрали до нитки. «Держите вора! – хочу я возопить. – Держите того, кто отнял у меня иллюзию, что я человек, а не животное!»
Итак, я чувствую, как меня охватывает звериная жажда борьбы. Она завладевает мной в часы праздности – слишком много у меня праздных часов. Она напоминает мне о том, что эти часы могли бы быть наполнены действием, наслаждениями, успехами. В случае, если…
Да, пора отбросить последний фиговый листок – чувство долга к утопающему. Джем тонет, с каждым днем все глубже. Я знаю, что мое присутствие не задерживает этого погружения на дно, – никто никому не в силах помочь в том мире, в котором мы живем. Перешагни еще через одну ложь – долг сострадания, – и ты пойдешь дальше под звездами нагим, свободным и одиноким. Свободным! А ведь меня и впрямь не стерегут. Эти мерзавцы (по выражению Джема) считают, будто меня держит крепкая узда – сознание, что я кому-то нужен, – и не боятся, что я убегу. Меня не стерегут… Да и зачем меня стеречь? Ведь Саади не сын султана – он никогда не обладал преимуществами рожденного владетеля. Зачем же ему тогда влачить на себе проклятье, тяготеющее над каждым рожденным владетелем?
Да, верно, я влачу его из сострадания. Я был связан крепкими узами с человеком, с которым у нас были некогда одинаковые мысли, одинаковые вкусы и желания. Но этого человека уже не существует. Должен ли я служить воспоминанию?
Судя по всему, должен. Известия скверные. Убеги я при мертвящем однообразии наших дней, меня бы не осудили: ведь безразлично, кто останется при Джеме – я или любой другой.
Но в последнее время стражи засыпали меня новостями, даже сам командор призывал меня к себе. «Саади, – сказал он мне, – при теперешнем состоянии принца я рассчитываю на вас. Будьте готовы ко всему, Саади!»
Насколько я знаю, так подготавливают родных умирающего к близкому концу. И все же я потребовал ясности:
– Что вы имеете в виду, ваше преосвященство?
– Как мы уже известили вас, Папство надеялось завладеть наконец султаном Джемом. Еще две недели назад эти надежды казались осуществимыми. Но в начале месяца король принял посла Баязида, напомнившего Совету, что его повелитель будет соблюдать договор относительно Джема лишь в том случае, если Джем не покинет пределов Франции. В противном случае Баязид заключит мир с Каитбаем и объявит всему христианскому миру войну.
– Старая песенка, ваше преосвященство! – постарался я умалить значение этой вести.
– Не совсем, – возразил он. – Баязид-хан предложил королю помощь против любого его неприятеля при единственном условии – чтобы Джем никогда не покидал пределов Франции. А Карл VIII уже много лет ищет могущественного союзника, чтобы вернуть себе свое законное наследство – Неаполь. Как по-вашему, чем обернется союз между Францией и Турцией, если мы не воспрепятствуем ему, изъяв Джема для Рима?
– Не вижу, чем это изменит наше положение, монсеньор. Мы и так находимся во Франции, не правда ли? И так я непрерывно слышу, что наше место в Риме.
Бланшфор остался неудовлетворен исходом беседы. В сущности, чего ожидал он? Неужели он рассчитывал с моей помощью пробудить у моего господина уснувшие надежды?
– Джем, – заговорил я за ужином, – похоже, что нам предстоит новое путешествие.
– Гм, – прозвучал неизменный ответ.
– Нас перевозят в Рим. – Я нарочно преувеличил полученные известия, чтобы понять, в силах ли я вызвать в Джеме проявление каких-либо чувств.
– Пусть перевозят хоть к чертовой матери! Рано или поздно Баязид расколошматит их. Во славу Завоевателя.
(Каковы выражения, а?)
Глаза его – один наполовину прикрыт – переползают с жареного окорока к чаше с вином и обратно, вдруг взгляд свирепеет – оказывается, в зубах застрял какой-то хрящ; с нетерпеливым рычанием (как часто издает теперь Джем подобные звуки!) нетерпеливыми пальцами швыряет он хрящ в камин, потом вытирает их о халат – скользкие, они не так крепко держат кость; Джем громко чавкает, опрокидывает в глотку полную чашу вина и вытирает рукавом рот. Протягивает руку – бесцельно, он и сам не знает, чего хочет, но эти руки умеют теперь лишь тянуться и хватать; хватают ломоть хлеба и крошат его; неряшливо вытирают ладони о скатерть. Джем щелкает пальцами – одна из его новых нестерпимых привычек. Это означает: даже если б и хотел, не в состоянии больше проглотить ни куска. Он сидит еще немного, оглядывая стол как бы с сожалением, ибо окончилась единственная его работа. Отодвигается вместе со стулом – отвратительное шарканье и пыхтенье объевшегося бездельника – и вперяет один открытый, другой сощуренный глаз в огонь – о чем сейчас размышляет Джем? Отчего у меня чувство, что он сегодня чуть менее чем обычно безразличен ко всему?
Он рыгнул, прошу прощения. Чешет свои рыжие космы, он оброс ими от носа до груди, ведь цирюльника он прогнал. На миг его рука напоминает мне прежнего Джема – каким же чудом она не изменилась? Как очутилась Джемова рука у этого нечистоплотного, чужого человека?
– Рим… – хрипло шепчет он. – Ну и что ж? Пусть Рим! Только до наступления зимы, слышишь? Ненавижу холод. Слышишь? – кричит он, потому что я не отвечаю.
Это еще одна новость у нас – он кричит. Разумеется, если не безмолвствует. Сначала это бесило меня, я не люблю крика; если человек хочет тебя услышать, он услышит даже твой шепот, если же не хочет – любой крик бесполезен. Почти десять лет служу я у Джема и не помню, чтобы он когда-либо так обращался со мной. Из-за любого пустяка повышает голос, его раздражают мои движения, мое отсутствие или присутствие, мои короткие замечания относительно погоды или еды.
«Отчего он не признается, что ненавидит меня?» – спросил я себя сегодня. Отчего! А отчего я не признаюсь, что ненавижу его, это бревно, поваленное на моем пути, причину всех моих злосчастий? Презрительное сострадание, сочувственная досада, духовное отчуждение – каких только сложных названий не придумали мы для такого чувства, как ненависть!
Да, я понял: не будь Джема, я оказался бы в ином положении и в ином месте. Излишне перечислять, кем и где бы я был, бесчисленные возможности открыты любому, если только ты сам – сам! – не принесешь себя в жертву какому-то мнимому божеству. Назови его искусством, единомыслием, любовью – все равно! У всех божеств, коим мы поклоняемся, есть то общее, что все они мнимые.
Мне тридцать два года. Быть может, еще не поздно…
Уже несколько дней при нас находится некий Антуан де Жимель, молодой человек из мелких дворян. «Не усиливают ли королевскую стражу?» – думаю я. Впрочем, Антуан присоединился не к ней, а к братии – я часто вижу его в обществе монахов. Те крайне предупредительны к нему. Что бы это могло означать?
Эти размышления – что может означать то или иное – превращаются для меня в такую же необходимость, как для Джема игра в шахматы с обезьяной. Малейшая перемена в Бурганефе служит на протяжении недель пищей для моего ума. Вот, например, загадка: вчера вечером после церковной службы все, кроме караульных, сошлись в церкви – и монахи, и рыцари. После этого брат Бланшфор прошел мимо меня с самым похоронным видом. «Что-то у них не ладится», – догадался я.
В сущности, отчего я так уверен, что нам не грозит близкий конец? Это ровным счетом ничего не изменит в нашем существовании – заточение лишь последний шаг перед смертью. В какой из ближайших вечеров будет решено покончить с нами? И требуется ли принимать такое решение сообща? Подобные дела лучше всего обделываются в одиночку. Убийца отправит нас на тот свет без угрызений совести – мы опостылели даже нашим тюремщикам.
Написать завещание сегодня же вечером? Я бы написал, конечно, если б знал, что я могу завещать. Единственное мое достояние – это упущенные возможности. Превосходно!
Я, Саади из Исфахана, завещаю (кому? – вот в чем затруднение) свои шансы стать первым поэтом Востока; либо же – корсаром, который пять десятков лет бороздит моря и под конец возвращается с двумя мешками золота на Кипр, славящийся пылкими гречанками и густым вином; или же алайбегом Иени-шехира, окончившим свои дни в битве, скажем, за Вену, чья душа беспрепятственно вознесется в рай; либо, предположим простейшее, искусным медником из Эдирне, дождавшимся своего смертного часа в родном городе и у родного очага, оплакиваемым тремя женами, восемью дюжими молодцами – сыновьями и таким же числом прекрасных, как луна, дочерей.
Итак, я завещаю человечеству (ведь я гражданин мира) свои безвозвратно упущенные шансы. Аминь!
О нет! Я жив. Еще одна ночь прибавилась к бессчетным пустым ночам – без веселья, без стихов, без любви. Утро поздно проникло ко мне сквозь щель в своде, я ожидал его бодрствуя, мне не хотелось умирать во сне. Еще одно пустое утро.
Невероятно: мы – в Вильфранше! Поразительная насмешка судьбы: после семи лет заточения мы покидаем Францию из того самого порта, где впервые увидели ее, – в ту пору мы были убеждены, что прибыли сюда для краткого, полного торжеств, исторически важного посещения.
Я не верю самому себе – мы уже не в Бурганефе! Существует, значит, мир и вне Бурганефа, существует жизнь – вне шахматных сражений с обезьяной, скорбной замкнутости на монашеских физиономиях, трехцветной статуи ненавидящего меня Крестителя, обиженного безразличия горожан и ежедневного трехкратного приветствия моего попугая: «Нет бога, кроме аллаха…»
Наш отъезд походил на бегство (по правде говоря, я и счел его бегством и лишь сегодня узнал, что все произошло «законным порядком»). Поскольку королевский Совет издал решение о нашем отплытии месяц назад, а неделей позже за разрешением последовал запрет, то брат Бланшфор – тщеславие принудило его открыться нам – ввел в заблуждение королевскую стражу, огласив первое письмо и сделав все от него зависящее, чтобы последующее не достигло их начальника.
Ясно, что какой-то другой Антуан со вторым королевским пакетом испустил дух, не достигнув пределов Бурганефа; Бланшфор созвал рыцарей, огласил перед ними королевское дозволение и занялся лихорадочной подготовкой. Как я узнал (сейчас об этом можно говорить без опаски, ведь Вильфранш – корсарская крепость, а корсары и папские слуги – почти братья), в нашем похищении принял участие ряд небезызвестных лиц, начиная с двух лионских банкиров, включая герцога Бурбонского и кончая членами королевского Совета, по отношению к которым Рим проявил разорительную щедрость. Что не помешало Карлу VIII всего неделей позже взять свои слова назад, но было уже поздно, поздно!
Вместе с тем не рано ли радоваться Бланшфору?… Сейчас зима – море бешено бьется о мыс Фера, его грохотанье отдается эхом в отвесных скалах над гаванью; небо, горный туман, холодные брызги волн, завывание ветра – все это непроглядно-плотной пеленой окутало Вильфранш, словно Франция не хочет, чтоб мы выскользнули тайком из ее гостеприимных объятий.
Нас поместили в чьем-то богатом доме. Джем тут же подсел к камину и зябко съежился. «Говорил я тебе? – жалобно произнес он. – Я знал, что меня потащат зимой…» На сей раз он не кричал на меня, словно, выйдя из заточения, вновь почувствовал, как я ему необходим. «Вели им сварить грогу, Саади! И чтоб побольше перцу и сахару. У меня все тело разламывается».
Да и как не разламываться! Почти полтора года он не выходил за порог комнаты, потому что крепостная стена доводила его до безумия, – всего тридцать шагов туда и обратно. Он лежал в духоте, закутанный, распаренный, а сейчас мы неделю кряду ехали сквозь снежную вьюгу.
Я смотрел на него, пока он долгими глотками тянул подогретое, наперченное вино. На затылок и плечи этого немолодого, разбитого человека, вцепившегося в чашу с той бессмысленной силой, какую проявляют только старики и грудные младенцы. Когда чаша была осушена и я хотел забрать ее, Джем вдруг схватил мою руку: «Согреют ли они мне постель, Саади? Позаботься, прикажи им!»
Он давно не прикасался ко мне, я этого избегал. Кожа у курильщиков гашиша неприятно влажная, липкая от холодного пота. Я поспешно высвободил свою руку с чувством отвращения и вины одновременно – вот так же торопимся мы выйти из комнаты умирающего. И приготовил Джему постель, хотя дюжина папских слуг, дожидавшихся нас в Вильфранше с каравеллой из Ватикана, озабоченно хлопотала вокруг своего драгоценного гостя.
А драгоценный гость не пожелал раздеться для отхода ко сну – боялся, что простыни окажутся влажными.
«А во что превратишь их ты?» – чуть было не крикнул я, но, к счастью, сдержался, иначе между нами началась бы перебранка.
В конце концов я уговорил его лечь, желая поскорее остаться в одиночестве. После голодовки, перенесенной моим мозгом в Бурганефе, я теперь чувствовал себя перенасыщенным впечатлениями и предчувствиями. О аллах, неужто я не в заточении, неужто ты дашь мне случай спастись бегством!
Я протиснулся между караульными. Меня пропустили – из Вильфранша даже птица не могла бы упорхнуть. Я оказался на прибрежной улице. Мне хотелось послушать волны, их грохот, передававшийся от неба скалам, а от скал – небу. После сонной тишины Бурганефа этот шум пьянил меня: что-то грохочет, бьется, живет! Ты снова соприкасаешься с жизнью, Саади!
Я не услышал шагов – должно быть, они терялись в зимней буре – и вздрогнул, только когда чья-то рука коснулась моего плеча.
– Саади! – произнес незнакомый голос.
Кого только не встретишь в корсарской гавани!
– Саади! – повторил человек. – Вы не узнаете меня?
Он снял шапку. В тусклом свете окон прибрежных домов стоял Ренье. Тот самый трубадур, что подготовил наш первый побег – из Рошшинара, если не ошибаюсь.
– Брат! – как безутешная вдова, бросился я к нему на грудь.
По-видимому, мои нервы тоже расшатались, потому что я разрыдался.
– Саади! – Ренье растерянно вытирал мое мокрое лицо. – Здоровы ли вы, Саади?
Кажется, я ответил, что здоров. И постепенно пришел в себя.
– Все-таки Рим – это лучше, чем Бурганеф, не правда ли, друг?
– Лучше, Ренье.
В промежутках между этими короткими фразами мы подолгу молчали, оба смущенные нашим порывом.
– Саади, – словно набравшись смелости, внезапно сказал Ренье, – месяц назад мне попались ваши стихи. По-итальянски.
Я остолбенело посмотрел на него. Мои стихи?! Какие мои стихи?!
– Нет, нет! Я знаю, перевод всегда так же далек от первообраза, как папа римский от султана Баязида, – горячо продолжал Ренье (как будто я хоть единым звуком возразил ему). – И несмотря на это, я потрясен, Саади. Видите ли… то, чего я всеми силами стремлюсь достичь… То, что является образцом для… для новой нашей поэзии, – все это у вас доведено до совершенства. Не как нововведение, носящее еще признаки робких попыток, несовершенства, а обработано, отшлифовано, прозрачно-чисто… Я позавидовал вам, Саади. Думаю, что этим не обижаю вас – вам знакома благородная зависть умельца к еще более искусному мастеру.
Я не мог произнести ни слова, так я был растроган. Мои стихи, мастерство, совершенство… Как давно эти понятия укрылись куда-то в самые дальние, потаенные закоулки моего сознания! Неужто это я некогда слагал стихи, неужто я – тот самый Саади, чьи песни звучали над гаванями, базарами и воинскими станами? Я ли это?…
Вильфранш. Мокрая прибрежная улица – ее лизали языки бесчисленных зимних волн. Низкий туман и стужа, в которой стыли несколько одиноких огоньков – окна дома, где слуги короля, папы и Родоса толпились вокруг моего заплывшего жиром повелителя. А двое поэтов нелепо стояли среди этого маленького мирка, который не желал их знать и которого они тоже знать не желали, – стояли, дрожа от холода, и обсуждали законы стихосложения.
Да, невозможного не существует – все возможно, а может быть, и разумно. Некий разумный промысел пожелал, чтобы вчера ночью я повстречал Ренье.
– Саади, – продолжал он, – молю вас, постарайтесь понять меня. Бегите отсюда, Саади! Пусть султан Джем стоит не один, а триста миллионов дукатов, он не стоит вашей жертвы, Саади! Спустя столетия после того, как имя его будет забыто, люди еще будут читать ваши стихи; не он, а вы достойны служения. Это султан Джем должен мыть вам ноги и подавать чашу с вином! Он должен почитать себя счастливым, что умеет писать, чтобы записывать стихи, которые вы произносите после возлияний, Саади!
– Я уже семь лет не произносил ни одного стиха, Ренье… – робко сказал я.
– Вот это и есть наитягчайший грех! – Ренье словно произносил приговор. – Кто возместит урон, понесенный человечеством из-за того, что поэт Саади (нечто гораздо более редкостное на земле, чем все султаны, подлинные или мнимые) целых семь лет молчал! Бегите отсюда, Саади! Возвращайтесь домой, туда, где любое дерево, любой камень рождают в вас песню, где эту песню ожидают тысячи ушей. Я заклинаю вас, Саади!
– Я думал об этом, Ренье… Но как я покину Джема? Он беспомощен, вы даже не знаете, как он беспомощен. С каждым днем все больше.
– Вы приносите в жертву нечто не принадлежащее вам, Саади! Вы сосуд для дара божьего, вы не вправе умереть, пока не осушили его до дна. Ваши песни – собственность человечества. Раздайте их владельцам, чтобы смерть ваша была легкой, Саади! Иначе вы будете умирать в жестоких страданиях, подобно тому, как страдает женщина, умирающая с ребенком во чреве.
– Вы верите, что во мне хоть что-то осталось, Ренье? Уже много лет я хвораю, пересаженный на чужую почву…
– О Саади! – с большим чувством воскликнул Ренье.
Пора было возвращаться, мое отсутствие могли заметить. Я попрощался с Ренье, забыв даже спросить, что привело его в Вильфранш, – в такой я был растерянности. Ренье задержал мою руку в своей.
– Саади, – сказал он, – вчера скончался Карл Савойский, маленький Карл, как вы называли его.
– Маленький Карл? – вскричал я. – Как? От чего?… Карл был единственным нашим другом на этой земле!
– Говорят, Карл готовил похищение Джема во время вашего пути в Вильфранш, все уже якобы было готово. Восемьдесят верных рыцарей должны были вчера утром двинуться из Шамбери к побережью, чтобы напасть на вашу стражу под Авиньоном… А сегодня утром Карл не проснулся. Говорят, отравлен…
– Орден или король? – Я тряс Ренье за плечи, словно он присутствовал при сделке между духовными и телесными убийцами чудного белолицего юноши в восторженным взглядом.
– Не все ли равно, Саади! – ответил трубадур. – Кто бы он ни был, он принадлежал к могущественному заговору темных сил. Карл… Осиротели трубадуры Франции, брат мой по песням Саади!
– Я не могу, не хочу больше, Ренье! – стонал я в непроглядной метели. – Слишком много людей погибло уже ради Джема, один достойней другого… Если бы вы знали их так, как знаю я!.. И потом, – я понизил голос, словно выдавал важную тайну, а у тьмы были уши, – много лет назад я находил их жертву осмысленной: сотни голов падало во имя святого дела. Зачем беречь человеческие жизни, когда речь идет о победе государя, какого еще не знал мир, – жреца поэзии и передовой мысли? Теперь же… Ренье, вы ведь не видели Джема теперь?
– Нет, – ответил Ренье.
– Пришла моя очередь позавидовать вам. Уезжайте сегодня же ночью, Ренье, ибо завтра Джема, наверно, повезут в Италию, где он предстанет перед всеми три свете дня. Уезжайте, не повидав его, друг! Так вам будет легче. Ради Карла Савойского, ради нас всех, веривших, что мы не страдаем, а служим великому делу.
– Да!.. – только и ответил Ренье. И помолчав, добавил: – Тем больше у вас причин бежать, Саади!
«Благодарю тебя, Ренье! – думал я, глядя, как он исчезает за пологом тьмы. – Благодарю за то, что ты подарил мне право бежать отсюда».
Последний месяц меня так закружили события, что не было ни одной свободной минутки. В двух словах: мы вернулись в свет, мы находимся в средоточии всей мировой политики. Живем в Ватикане – сердце Запада, в покоях, предназначенных для коронованных особ. Словно дурной сон остались позади замки Дофине и Оверни, моя каморка, мертвящее безлюдье Бурганефа.
Вот уже месяц наблюдаю я за тем, как сбываются давнишние мечты Джема. Иннокентий VIII выбивается из сил, готовя великий поход; его гонцы с посланиями, подписанными Джемом, объезжают все европейские дворы; Джем чуть не ежедневно присутствует при важнейших аудиенциях, даваемых папой посланцам того или иного короля или герцога; они предлагают ему содействие, сыплют обещаниями. Мы варимся в гигантском котле политики.
Возможно ли! Ведь еще совсем недавно мы были глубоко запрятанной собственностью Ордена Святого Иоанна или же французского короля – мы так до конца и не уразумели, кого именно. Ныне я сбиваюсь с ног, устраивая встречи с высочайшими особами, служу переводчиком или сам веду переговоры – от имени моего господина, а часто даже без его ведома. Нас словно несет какой-то вихрь. Как долго будет он нести нас?
В первые дни я ощущал бесконечную усталость – я уже отвык от голосов, шума, напряжения. Весь Рим (я еще не успел, в сущности, осмотреть его, будучи круглые сутки занят), весь Ватикан с его мрамором, гобеленами, позолотой и статуями сливались пред моим взором в до боли сверкающее, кричащее пятно. Потом все стало на свои места, и я тоже нашел здесь свое место – я, Саади, единственный вельможа султана Джема, почетного гостя Ватикана.
Чтобы более или менее связно рассказать о приеме, оказанном нам в Риме, следует начать с Чивиты-Веккиа, где бросила якорь наша трирема. Это произошло 13 марта, после того как нас много недель трепали штормы. Братья-иоанниты спешили с отплытием; как я позже узнал, едва королю стало известно о том, что Бурганеф опустел, он отправил нам вдогонку двухтысячное войско. Воображаю, как французы всплеснули руками и с идиотским видом застыли, примчавшись в Вильфранш, – мы уже находились в открытом море. Однако море отомстило нам за это: шторм швырял нас из стороны в сторону, нашу трирему оторвало от сопровождавших кораблей, и мы добрались до Чивиты-Веккиа одни, точно раскаявшиеся корсары, ищущие тихой пристани.
Из Чивиты-Веккиа корабль доставил нас в Остию, а оттуда мы двинулись вверх по Тибру. Таким образом, мы ступили на итальянскую землю у самого порога Рима – в Порта Портезе. Я был так ошеломлен многоцветной и многошумной суетой, что не нахожу слов для описания оказанной нам встречи. Помню только праздничную кавалькаду – множество всадников в пышных одеяниях. Потом я узнал: то были кардинальская и папская гвардии, впереди них ехали сенаторы, чужестранные герольды, ватиканские церемониймейстеры – тьма-тьмущая неведомых мне титулов и званий.
Я весь обратился в зрение и слух – только тут почувствовал я, что соприкасаюсь с Западом. Доныне мы видели лишь провинциальные замки мелких дворянчиков, захолустную голытьбу южной Франции. Мне было легко свысока судить о ней мерками Константинополя, Никеи, Бруссы, Измира, тогда как здесь, в Италии, все по-иному: это вершина западной цивилизации, я еще не нашел для нее мерила.
Пока я стоял в замешательстве от столь неожиданного великолепия, глубоко убежденный, что это сон и скоро наступит пробуждение, в толпе встречающих возникла сумятица. Какие-то пешие люди пробирались между всадниками, те довольно грубо останавливали их – итальянский язык вообще звучит для моих ушей потоком брани.
Тогда один донельзя блистательный вельможа (мне сказали потом, что это был Франческо Чибо, незаконнорожденный сын Иннокентия VIII) вмешался и приказал дать им дорогу. Какой сюрприз! Мусульмане! Среди римской аристократии стояли десять правоверных, смущенные и униженные, без парадных доспехов.
– Нет, с султаном Джемом вы говорить не будете! – передал им переводчик приказ Франческо Чибо.
А те словно и не слышали. Они смотрели на Джема изумленными, ослепленными глазами, взирали на облаченного в белые с золотом одежды сына Великого Завоевателя – они не знали Джема семь лет назад, и новый его облик не производил на них гнетущего впечатления. Только тут я вспомнил о нем. Даже это зрелище – унижение десяти мусульман на фоне римского великолепия – не переменило выражения его лица. С тупой усталостью созерцал он своих единоверцев, как будто их восторг и страдание не имели к нему касательства. Так продолжалось до тех пор, пока один из этих незнакомцев не приблизился к нашему повелителю. Он приник лицом к правому лошадиному копыту, потом к сапогу Джема. Ритуал несколько отличался от нашего – кто же эти люди?
– Встань! – прохрипел Джем. То было единственное слово, обращенное им к послу султана Каитбая.
Потом посол приник к моему плечу. Измученный обидой и тревогой, он поведал мне свои трехмесячные мытарства – тщетные попытки получить Джема у святого престола в обмен на богатства, которые разорили бы халифат, но, быть может, спасли бы его от турецкой угрозы. Три месяца провел в Риме этот несчастный, и три месяца кардиналы обманывали его неопределенными обещаниями и всевозможными увертками. Теперь силы его были на исходе. «Я должен получить султана Джема! – как безумный твердил он мне всю дорогу до самого Ватикана (оттого я и не заметил, как мы проехали через город, у меня все плыло перед глазами). – Флот Баязида стоит в Средиземном море, под угрозой Родос, итальянское побережье. Папа перевозит Джема сюда для того, чтобы спасти Италию, одну лишь Италию: ведь Баязид поостережется тронуть итальянцев, зная, что брат его находится в Риме. А мы? А Корвин? Как не может Запад уразуметь, что речь идет не о том, каким образом оградить от завоевания ту или иную часть своих владений! Необходимо всеобщее наступление против османов, война не на жизнь, а на смерть! Поход во главе с Джемом разрушил бы империю османов изнутри – иначе все потеряно».
Густые толпы тянулись по обе стороны дороги, весь Рим вывалил на улицы, чтобы узреть живую легенду по имени Джем. А сама легенда восседала на коне с бесившим меня безразличием – неужели Джем не способен сделать над собой даже малейшее усилие? Теперь, когда мы находимся в центре событий, от которых зависит столь многое, когда наш долг – призвать всю свою волю, разум, силы, чтобы выбраться из трясины, в которой мы барахтаемся целых семь лет!
«Джем! – Мне хотелось тряхнуть его, чтобы вытолкнуть гашиш из его крови, вывести его из забвения. – Джем! Пришел наш день, ради этого дня мы столько терпели, на него возлагали все наши надежды. Вот он, Джем!»
С тем же успехом я мог говорить с трупом, теперь-то я понимаю это.
Итак, вот уже несколько недель мы в Риме, нам отвели самые роскошные покои папского дворца. Джем принимает послов и вестников, но ни в чем не переменил своих бургансфских привычек. По утрам он допоздна валяется в постели и в непристойных выражениях гонит от себя каждого, кто пытается одеть его, придать ему приличный вид. (Теперь обслуживаю его не я один – вокруг Джема суетится толпа слуг.) Наконец я – словно передо мной безумный, прибегая к разного рода уловкам, уговорам, прозрачному обману, – кое-как облачаю его. Тогда-то Джем умолкает уже намертво, тогда-то и начинается моя ежедневная пытка.
Является, скажем, венецианский посланник. Извещает о чем-либо моего повелителя, испрашивает его согласия, ищет совета. Хорошо, я тоже знаю, что это спектакль, наподобие тех, что мне доводилось видеть на площадях Измира или Ниццы; я тоже знаю, что нас почитают простофилями и что события будут решаться без всякого соизволения Джема, что мир идет своими путями, действует по своим законам. Пусть так! Но в каждой игре есть свои правила. Много лет назад мы вступили в эту игру и должны продолжать ее, иначе лучше самим взять и отравиться. А как ведет себя Джем именно сейчас!
Я понимаю: своими криками или молчанием, своей дремотной ленью или буйством он решительно объявляет, что вышел из игры, что все мы можем хоть в лепешку расшибиться, он, Джем, участвовать в ней не будет!
Ну как же! Ведь он сообщил мне об этом еще по дороге в Бурганеф: «Что бы впредь ни происходило, оно будет происходить уже без меня». Однако первоначальные действия Джема дали толчок, который передавался на протяжении всех этих лет от колесика к колесику, пока не пришло в движение нечто чрезвычайно громоздкое, сложное, и мы сегодня испытываем последствия того забытого, первоначального толчка. Вот какая история! На счастье или на беду я сохранил рассудок, чтобы расхлебывать кашу, заваренную моим обожаемым Джемом! Ведь я поистине служу завесой между бурлением страстей в мире и безумием Джема (отчего я называю его состояние безумием – возможно, есть смысл, и даже глубокий смысл, в отказе Джема от участия в игре?). Завесой, которая еще недолго сумеет выдержать напор с обеих сторон. А как он мощен, этот напер!
Всевозможные папские сановники ежечасно справляются, подпишет ли султан Джем какое-либо письмо Каитбаю или какому-нибудь подкупленному янычарскому начальнику в Бруссе; посланник Венеции тонкими намеками дает понять султану Джему, что предательство Неаполя окажется роковым для предстоящего похода; французский герольд является к султану Джему, дабы выразить глубочайшее сожаление, что мы покинули Францию, не повидавшись лично с королем, – семи истекших лет его величеству оказалось мало, чтоб повидаться с нами. Люди, люди – и слова! А я, Саади, призванный, как недавно объяснил мне Ренье, нести дар божий своему народу, кручусь, словно вертлявый царедворец, среди всех этих господ, передаю якобы суждения своего повелителя, заверяю, что письма будут подписаны сию минуту, расточаю любезности и задыхаюсь от злости.
Помилуйте! Вечером, когда все эти усердные государственные мужи возвращаются в свои дворцы и – с сознанием, что проделали за день решающую для судеб мира работу, – предаются пирам, расточительству и блуду, я сажусь у себя в комнате. За дверью (сплошь лак и позолота) почивает Джем, еще засветло отошедший ко сну. Я слышу, как он храпит – это от гашиша, а возможно, от толщины.
Наконец-то занавесь опущена – до завтрашнего утра. Завтра начнется очередное действие комедии, называющейся «Дело султана Джема».
В первый такой перерыв между действиями (первый мой вечер в Ватикане) я думал, что разрыдаюсь: не по силам мне все это. На второй вечер я смеялся. Именно так: привалился спиной к двери и хохотал как безумный. «Как прав ты, Джем! – говорил я себе. – Ты и не подозреваешь, что делаешь то единственное, чего заслуживает мир, в котором мы живем: плюешь на него!» А сегодня вечером – это пятнадцатый по счету вечер – мне не хочется ни плакать, ни смеяться. Видимо, привык.
Только вчера увидели мы папу. Наша жизнь настолько превратилась в непрерывные празднества, мы столько принимаем либо наносим визитов, что я не удивлюсь, если в одно прекрасное утро мне скажут: «Саади, сегодня вы будете представлены господу богу!»
Я иду вслед за Джемом по коридорам ватиканского дворца, и мне чудится, что именно здесь должен был обитать Минотавр; иду и размышляю. Я успел убедиться, что мой мозг не в силах вобрать в себя всю сложность этих отношений, соотношений, ходов и контрходов, которые плетутся земными властителями вокруг того, что некогда был Джемом. А ныне шествует впереди меня, снова в белых с золотом одеждах, с достоинством пьяницы – только пьяница держится с такой уморительной надменностью. Мы направляемся к папе.
Разумеется, крутом пышность, великолепие (я так пресыщен ими, что воспринимаю как нечто обыкновенное, скажем, как хлеб и соль. В конце концов, нам-то доводилось видеть Константинополь!). Разумеется, его святейшество походит и на Д'Обюссона, и на Бланшфора, и на всю свору монахов; у него есть любовница, дети и внуки. Иннокентий VIII выражает нам свое глубочайшее сочувствие, которое исторгло бы слезы из камня, не будь оно так хорошо нам знакомо – еще со времен Родоса.
На сей раз я не буду служить завесой между Джемовым безумием и миром – здесь Джему надлежит говорить самому. Послушаем!
Иннокентий излагает составленный им план похода. Близится, сказал он, прекращение всех раздоров меж христианскими государями; это – по его словам – не составит никакого труда. Будущей весной в Риме будет созван специальный собор, на котором все европейские Державы объявят, сколько войска и средств они отдадут сему великому делу. И тотчас вслед за собором – поход. Ни одному из прежних крестовых походов не сравниться с этим: то будет сверхпоход!
Я внимал объяснениям Иннокентия VIII, мужа – как я слышал – опытного и мудрого. Отчего считаю я Джема безумцем? Грезы папы ничем не уступают Джемовым! Договоры, собор, сверхпоход! Из крохотного моего заливчика в море политики (из моей комнатки в ватиканском дворце) и всего лишь за один месяц я узнал предостаточно о пресловутом единомыслии христианской Европы. Вокруг меня, Саади, слуги живого трупа, каким является Джем, кишмя кишат доносчики и тайные гонцы десятка государств; за один месяц меня восемь раз пытались подкупить, чтобы я выдал, донес, внушил, повлиял; в моих вещах роются – непонятно когда: я почти не покидаю покоев Джема – самое малое десять пар рук, я догадываюсь об этом по беспорядку, оставляемому ими после себя. Настороженное и коварное, бесстыдно-лживое единомыслие христианской Европы!
– Что скажет относительно этого ваш государь? – приведенный в отчаяние неподвижным лицом Джема, Иннокентий VIII обратился ко мне.
Я спросил Джема. И ожидал услышать в ответ обычное: «Гм». Однако (о, как мне взять назад те слова, которыми я описывал Джема как живой труп и заплывшее жиром животное!) он вперил в его святейшество вполне осмысленный взгляд, даже приподнял свое второе веко. И весьма отчетливо произнес слова, которые я перевел, признаюсь, с наслаждением – возможно, Джемово безумие передалось и мне:
– Я не стану участвовать в крестовом походе, ваше святейшество!
– Что?! – Если самообладание – добродетель монахов, то их верховному вождю полагалось бы обладать им в самой высокой степени. У Иннокентия же был вид только что разорившегося банкира. – Что?! – упавшим голосом повторил он. И после довольно продолжительного молчания вновь обратился ко мне:
– Вашему господину, вероятно, нездоровится.
– Ничуть, – ответил я. – Он в здравом уме и твердой памяти.
– Но… почему? Как? – топтался все в том же круге недоумения святой старец.
Я перевел:
– Потому что не желаю биться на стороне неверных против правоверных! – Коротко и ясно.
– А кому вручили вы свою судьбу восемь лет назад? Что искали у нас? Зачем предложили нам союз и помощь, обоюдную выгоду? – Иннокентий не помнил себя; эти вопли, вероятно, будут преследовать его и в смертный час, напоминая о том, как некое человеческое отребье довело папу, властителя над совестью всего христианского мира, до обыкновеннейшего, плебейского, я бы сказал, исступления. – Отдаете ли вы себе отчет в том, что говорите? – все более возвышая голос, продолжал его святейшество. – Вы что же, полагаете, что можно морочить королей, князей, кардиналов? Да я посвятил этому походу годы труда и унижений, он будет венцом моего властвования! Вы ли сгубите его? – Хорошо, что он сжал челюсти; я чувствовал, что он готов разразиться площадной бранью.
Я снова перевел. Откинувшись в кресле, Джем смотрел не с безразличием – о нет! То было злорадство – первое чувство, обнаруженное Джемом за последние два года.
– Бранитесь, ваше святейшество! Не стесняйтесь! Все равно вам не найти слова, достаточно обидного для человека, отдавшего себя в руки врага. Вы не находите этого слова, не правда ли? Его нет. Еще не придумано.
И снова я перевел, не зная, на кого смотреть. То ли на Иннокентия (он оцепенел, пораженный тем, что эта кукла с громким именем неожиданно оказалась человеком). То ли на Джема.
О аллах, довольно! Надо убираться отсюда, а я не могу! Джем еще не мертв – где-то в отравленной гашишем и отвращением утробе живет частица Джема. Она все реже обнаруживает себя, но эти редкие мгновения – божественная награда мне, жертвенному агнцу. Джем не мертв; настоящего Джема, а не храпящего, опустившегося, злобного бездельника увидел я сегодня. Одной фразой Джем защитил все свое забытое достоинство. Отомстил за себя и за меня, за наших сподвижников, томящихся в узилищах Родоса, за наших мертвых.
– Уведите его, бога ради! – набросился на меня Иннокентий. – Мы обойдемся и без Джема, одним его именем. Имя свое он ведь не в силах отнять у нас, не правда ли?
– Нет, – произнес Джем с такой бездонной, бесконечной усталостью, что перевернул мне всю душу. – Имя я отнять не могу…
Как подумаю, что еще недавно я сетовал на обилие празднеств, приемов и важных аудиенций, которыми нас одолевали в первые дни нашего пребывания здесь! Вплоть до того разговора между Джемом и Иннокентием, который определил нашу дальнейшую жизнь в Риме. Снова вокруг нас тихо, снова мы не видим никого, кроме стражей. Снова я завожу дружбу кое с кем из них – с Антуаном де Жимелем, к примеру. Король Франции сохранил право иметь среди наших стражей своего человека. А поскольку Франция является теперь обманутой стороной в деле Джема, она пытается вернуть упущенное. Антуан держит меня в курсе событий, сообщает о кознях, на которые пускался Орден, чтобы не допустить встречи между султаном Джемом и Карлом VIII в те семь лет, что мы провели во Франции. По его словам, братья уверили короля, что Джем набрасывается с кулаками и воплями на любого ему незнакомого христианина – все мавры ведь, как изволите знать, дикари. Антуан сообщает это с видом соучастника, надеясь расположить меня к себе. А я бы охотно спросил его: «Что за дикарь твой король, если верит подобным басням?»
Антуан – необычайно болтливый, живой и ловкий малый с плутоватыми глазами – рассказывает мне также, что не проходит дня, чтобы в Риме не убивали кого-нибудь, подосланного Баязидом с целью отравить брата. Такая казнь, говорит Антуан, зрелище грандиозное. Вчера, например, в назидание другим казнили некоего Кристофано из Анконы. В сущности, тот несколько месяцев назад сам сдался и раскрыл свой черный замысел, так что мог бы избежать ножа, если бы папа не проведал, что некто другой – Джованбатиста Джентиле – послан в Рим с тем же поручением. И так как того, второго, поймать не удалось, то вчера вывели из темницы первого, посадили обнаженного на подводу и стали возить по улицам Рима, меж тем как палач ножом отрезал у него куски тела. На Капитолии искалеченное тело сбросили с телеги и подвергли дополнительным пыткам – тисками, раскаленными клещами и прочим, а затем продырявили его в девяти местах, разрубили на четыре части и развесили на четырех воротах города. («Какая жалость, что вы не можете увидеть этого, Саади!»)
Действительно жалость. Словно мало людей уже отдали себя добровольно на заклание ради Джема, теперь еще придумывают отравителей! Сколько из них настоящих и сколько мнимых? Впрочем, глядя на словоохотливого Антуана с его плутоватым взором, я невольно верю, что он способен за полсотни дукатов отравить нас обоих с Джемом. Не говоря уж об остальных, крупных или мелких, что вертятся возле нас. Я прихожу к единственному правдоподобному заключению: Баязид не желает нашей смерти. Пока еще не желает.
Сегодня Антуан сообщил мне весть, которую я не решаюсь передать Джему, – в последнее время он не выходит из состояния оцепенелости, и я боюсь за него. А сообщил Антуан о том, что неделю назад в Венецию прибыли послы из Египта. Они умоляли Сенат исходатайствовать у Рима дозволение для вдовы Завоевателя повидаться со своим сыном. Явно привыкнув к повадкам Запада в подобных делах, она предлагает за это свидание двадцать тысяч дукатов.
Мать… Должно быть, известия об отчаянном состоянии ее сына достигли Каира либо же Каитбай потерял надежду вызволить Джема, и она, мать, просит о милости: она хочет увидеть свое дитя. Готов побиться об заклад, ей не позволят этого. В деле Джема для матери места нет, здесь она для всех только агент Каитбая или Корвина – иными словами, противной стороны.
Итак, решено: я не стану сообщать Джему эту новость.
Вчера открылся собор, над созывом которого трудился целый год Иннокентий. Судя по всему, продлится этот собор по меньшей мере год; с первого же дня стало ясно, что дела вокруг похода крайне запутываются.
Ни Джем – чье участие в походе возвещено, – ни я на заседания не допущены. Это не имеет значения – великое множество людей заинтересовано в том, чтобы осведомлять нас. Я не только как бы незримо присутствую на заседаниях, но еще и слежу за ходом мысли представителей всех европейских держав. В общих чертах их позиция сводится к следующему: каждый государь готов содействовать походу, ежели за это содействие ему будет уступлен Джем. Все они отчетливо сознают, что Джем – козырь небывалой силы, неиссякаемый источник золота. Им жаждут завладеть король Франции, германский император, Корвин, король Неаполитанский, Венеция. Это самые крупные охотники до Джема. Прочая мелюзга только лезет из кожи вон, шансов у нее никаких. Кому же из великих достанется Джем? Потому что взамен они предлагают такое, чему будет дивиться история. Так, Карл VIII обещает отказаться от притязаний на свое наследство в Италии – королевство Неаполитанское; Венеция сулит боевой союз с Папством; Неаполь – заключение мирного договора с Папством, против которого он воюет уже двадцать лет. И так далее. Если бы Иннокентий мог разделить Джема на десять частей и раздать их направо-налево, он обеспечил бы Риму убедительный перевес.
Как бы там ни было, игра продолжается. Несмотря на очевидность того, что Джем не может быть поделен на десять частей и, следовательно, девять из государей, выдвигающих его в качестве условия своего участия в походе, откажутся от этого участия (ибо не получат Джема), собор рассмотрел план военных действий против Турции. Решено составить три большие армии. Первая включит в себя войска германских держав, Венгрии и тех добровольцев, что стекаются из Юго-Восточной Европы. Вторая армия – французская. Третья будет состоять из войск итальянских государств. На Папство возложено установить связь с порабощенными балканскими народами и уладить вопрос об их участии в борьбе.
Как я узнал, единственный спор вспыхнул из-за того, кто возглавит поход. Было два основных претендента: папа и император Священной Римской империи. К решению не пришли – посол императора объявил, что его государь не шевельнет и пальцем до тех пор, пока не получит султана Джема. Дебаты продолжаются.
Думаю, не дебаты, а потасовка вспыхнула бы вчера, если бы обсуждался иной вопрос, самый важный: кому отойдут освобожденные общими усилиями земли? Ведь этот невиданный поход имеет целью освобождение определенных земель от владычества турок. Кто же будет владеть ими после того, как это освобождение состоится? Неизвестно. А какой безумец станет швырять войска и деньги, не зная за что? Посему я, Саади, бьюсь об заклад, что поход не состоится. В этом нет сомнений.
Я уже начинаю верить, что в дело Джема вмешивается само Провидение. Либо какие-то иные силы, достойно исполняющие обязанности Провидения. Позавчера, 6 апреля, спустя десять дней после открытия собора, почил король Матиаш Корвин.
Я теперь исключаю случайность во всем, что имеет касательство к Джему, поэтому не верю и тому, что король Матиаш, единственный наш настоящий союзник, возглавлявший борьбу против турецкой опасности, умер своей смертью; в сорок семь лет не умирают ни с того ни с сего.
Эта смерть была вполне неожиданна, а кое для кого и вполне своевременна, например для германского императора, только что узнавшего, что Иннокентий более склонен уступить Джема королю Матиашу (после девяти лет торговли!), нежели ему. Должен напомнить, что святой отец предложил это собору третьего апреля. Шестого апреля король Матиаш был уже мертв – некоторые умеют действовать быстро.
Могу себе представить, какой это был бы удар для Джема, будь Джем еще чувствителен к ударам, – не стало единственного нашего союзника. (Если не считать Карла Савойского, которого тоже уже нет в живых.) Я, разумеется, оберегаю Джема от этой вести, хотя и убежден, что она с трудом проникнет в его сознание, – Джем все еще живет в полном оцепенении, в каком-то полузабытьи. Теперь это уже не только гашиш, но и последствия его: распад воли, разложение сознания, онемение всех членов. Сколько еще продержится в этом полусуществовании дряхлое, разрушенное тело? Еще очень молодое, вот в чем беда. Джем с трудом волочит е о из угла в угол: уже несколько месяцев нас не выпускают даже в ватиканские сады – столь велика, по их уверению, опасность покушения; мучительно ищет, куда себя деть; его лицо кривится, точно от боли; а я не знаю, донимает ли Джема боль либо же он просто досадует нa то, что еще живет на свете. Живет, чтобы дать занятое тем двадцати государственным мужам, что с утра до вечера заседают, торгуются, сыплют угрозами и обещаниями.
Нет, не придумать более страшного издевательства чем жизнь!
До чего мы дошли! Вчера в Рим прибыл посол Баязида, дабы участвовать в соборе. Мусульманский представитель в Ватикане! Христианский бог, что ты скажешь на это?
Папа, по-видимому, немного смешался от такого неслыханного неприличия, но наш единоверец был встречен в Анконе послами Франции, Шотландии, Неаполя и Венеции. Они ввели его в Ватикан с такими почестями, что Иннокентий слова сказать не мог. Впрочем, пусть Антуан рассказывает эти басни кому другому, а не мне! Иннокентий сам пожелал беседовать с турком, но прибегнул к услугам подставных лиц, чтобы сохранить за собой право возмущаться и разыгрывать оскорбленною добродетель!
Наш единоверец был красноречив и краток: султан Баязид обещает оставить в покое христианские державы (в полном покое, до конца своих дней) – при условии, что Джем до конца своих дней останется в Ватикане.
Предложения Баязида внесли сумятицу в собор, который напоследок превратился чуть ли не в ярмарочный балаган, так говорят в городе. Если Баязид готов сохранить существующее положение вещей, поход явно лишается смысла – таково всеобщее мнение. Как будто он состоялся бы, даже если бы Баязид и решил идти войной на западные государства!
А вчера вечером Антуан распотешил меня еще одним известием – их так много, что я не успеваю все записывать! После выступления на соборе турок попросил личной аудиенции у Иннокентия; такие аудиенции с глазу на глаз обычно имеют десятки незримых свидетелей, и я еще до наступления вечера был обо всем осведомлен так, будто самолично присутствовал при разговоре между нашим соотечественником и папой. Турок заявил его святейшеству, что брат Д'Обюссон большой мошенник; по его словам, означенный Д'Обюссон получал в минувшие годы не по 45, а по 60 тысяч дукатов, не считая подарков, и разницу клал в карман. Как посмотрит на это его святейшество?
Пока его святейшество размышлял, как на это надлежит посмотреть, турок преподнес ему еще один сюрприз. Словеса, произнесенные им перед собором, предназначались собору, сказал он. Баязид-хан отнюдь не склонен обещать мир всем христианским державам только за то, чтобы Джем содержался в Ватикане, – такая плата непомерно щедра. Однако он готов подписать с папой тайное обязательство не нападать на Италию. Только на Италию, подчеркнул он. Словом, если Иннокентий негласно откажется от крестового похода, которому и без того не суждено осуществиться, Баязид не тронет Италию.
Иннокентий, естественно, весьма убедительно изобразил возмущение, гневался и призывал всех святых в уверение того, что продолжит подготовку похода. Но Баязидов посол едва ли ожидал иного – ведь он сам предложил Иннокентию не разглашать договор с Баязидом. Что ж, Иннокентий и не разглашает. Иннокентий продолжает разыгрывать спектакль, ибо знает, что на его тайной встрече присутствовали и Венеция, и Франция, и уж во всяком случае Неаполь.
Вчера вечером Антуан недовольно ворчал – его король не допустит такого поворота событий, говорит он. Куда, мол, годится, чтобы Папство в одиночку вело переговоры с Баязидом, когда Джем по праву является собственностью его королевского величества? Ну, пойдет теперь свара между папой и Карлом VIII!
Как мало трогает меня все это! Джем не имеет теперь ничего общего с делом Джема, абсолютно ничего! Все чаще думаю я о бегстве из Рима. Почему я еще не сделал ни одной попытки? Похоже, мне все же хочется увидеть, чем закончится вся эта игра, поводом для которой послужил мой господин.
Собор мало-помалу замер – послы один за другим, еще до наступления Нового года, покинули Рим. Я выиграл спор с самим собой – поход не состоится, это ясно. В особенности после того, как Баязид пообещал Италии мир.
Теперь христиане усиленно воюют между собой. Наследники короля Матиаша, к выгоде германского императора, схватились насмерть. Сдается мне, конец Венгерского королевства близок. Одна половина – у Османов, вторая – у Габсбургов. А ведь можно было! Король Матиаш мог отвоевать всю свою порабощенную землю, если бы только ему отдали Джема…
У Папства новые заботы – Ферран Неаполитанский напирает сильнее, чем когда-либо. Французы сражаются с британцами. Только в Испании христиане воюют против мусульман, испанцы теснят мавров назад в Африку.
А мы сидим в Ватикане. Джем уже полтора года не выходил за порог. Бурганефская история повторяется. Но здесь у нас по крайней мере есть комфорт.
Римская зима напоминает нашу. Не снег, а слякоть, теплое серое небо, черные от влаги деревья. Это единственное, что изменилось для нас в роскошной ватиканской тюрьме. Нет, все-таки что-то должно произойти, на какой-то час ослабнет надзор надо мной – тогда пусть меня поищут! Решено, уже давно решено, но не хочу навлекать на себя подозрения неудачной попыткой – ведь меня считают безгранично преданным слугой, который будет трястись над своим господином до последнего его вздоха. Пусть считают!
Я сделаю это без всяких угрызений, мне хотелось вполне увериться и в этом также. Джем вряд ли даже заметит мое отсутствие. За последние несколько месяцев мы не обменялись ни словом. Я так хорошо знаю все его желания и нужды, что исполняю их, не дожидаясь приказаний. Он вверяет себя моим заботам, не приказывает, не благодарит – я для него предмет, вещь, так же как и он для меня. Иногда, сидя у себя в комнате – теперь я избегаю его общества, – я слышу, как он кричит и грохочет Джем находит больше удовольствия от общения с дверью, тяжелым креслом или сундуком, чем со мной. Джем ругает свою постель из-за какого-нибудь комка в тюфяке; Джем пинает ногой дверь, если заело замок; опрокидывает с усилием свое кресло; он стучит и бранится, пока не охрипнет. А я сижу за стеной – что мне за дело до отношений между каким-то отупевшим ленивцем и его креслом?
Вчера было объявлено о важном для Рима событии: мире с Неаполем. Ферран Неаполитанский медлил с подписанием договора целых шесть месяцев, рассчитывая получить в качестве залога Джема. Ребяческие мечты! Иннокентий воевал бы еще двадцать лет, но не уступил бы другому свое достояние – Джема. Кроме того, Ферран еще девять лет назад выдал себя, пообещав отдать Джема Баязиду; Ферран уже шесть раз предпринимал попытки похитить Джема с помощью всевозможных мастеров преступного мира.
Долгожданный мир скреплен бракосочетанием незаконнорожденной дочери папы с внебрачным сыном Феррана С превеликой пышностью отпраздновал Рим свадьбу двух бастардов. До каких пор буду я дивиться этим непостижимым для моего рассудка нравам? О аллах, когда вернусь я в отчий дом?
Четвертый день подряд Рим веселится, как не веселился давно. О, если б меня отпустили взглянуть! Чествуют первую за много столетий победу христиан над мусульманами – взятие испанцами Гренады и Санта-Фе. По сему случаю король Фердинанд и королева Изабелла швырнули Вечному Городу кучу денег; мавританские сокровища Гренады с лихвой возместят потраченное. Испанский посол приказал возвести в Риме в двух местах деревянные укрепления. Нанятые нищие изображают сражения– половина одета испанцами, вторая половина разрисована под мавров. Дощатые крепости подожгли, толпа выла от удовольствия, говорят, были убитые и пострадавшие от ожогов.
Сегодня мы были свидетелями дикарского празднества. Через весь город, включая Ватикан, битый час двигалось шествие. Впереди в золоченой карете восседали Фердинанд и Изабелла, сиречь какие-то переодетые лицедеи. К. их колеснице был привязан человек с выкрашенным темной краской лицом, в рваном халате и грязной чалме, изображавший мавританского эмира Абу Абдаллу. За колесницей следовали подводы, груженные оружием, брели сотни мнимых мавров – жалкие, в крови, полуголые. Затем выступало якобы испанское войско и, разумеется, валом валили тысячи ошалелых зевак. Вопли, ругань – римляне изливают свою ненависть к исламу, осыпая побоями загримированных бедняков, которые вечером получат в уплату какую-нибудь мелочь от испанского посланника. Как я убедился, нелегко достается им хлеб насущный – с месяц еще будут ходить в синяках.
Процессия прошла под нашими окнами – не знаю, случайно ли. Впервые за много месяцев я увидел, что внимание Джема чем-то привлечено. Волоча за собой кресло, он подтащился к окну и оперся подбородком об оконницу. Единственный открытый глаз его выразил удивление, потом – бессмысленную веселость и под конец – гнев. Вблизи – потому что я тоже смотрел в окно – мне показалась отвратительной эта одноглазая физиономия с закушенной нижней губой, с звериным бешенством во взгляде, лишавшим его последнего сходства с человеком. Тем не менее я почувствовал глубоко-глубоко подо всем этим человеческую боль. Вернее, обиду.
Я тоже ощущал ее. Отчего на землях Венгрии и Боснии не выказали своей отваги столь жадные до побед римляне? Не слишком ли просто кидать грязью в загримированных бедняков? «Эй вы! – хотелось мне крикнуть толпе. – Покажите-ка себя в сражении!»
Засмотревшись, я не заметил, что Джем поднялся с кресла. Он надавливал двумя руками, всем туловищем на окно, и оттащил его я чуть не в последнюю минуту – он хотел выдавить стекло и выбраться наружу. Джем боролся неловко, вырывался, отталкивал меня ладонями, головой. Так дерутся вконец пьяные люди. Мне стало противно от запаха прелости и пота, хриплого рычанья, от прикосновения этих холодных, липких рук.
Я повалил его. Джем смотрел на меня с удивлением – еще никогда не применял я к нему силы. «Ха! Ты, да?» – прохрипел он. Остального я не слышал. Повернулся и вышел из комнаты. Мало мне того что есть, не хватало еще ощутить омерзение к самому себе!
Я запер дверь на задвижку, как будто Джем мог погнаться за мной. Немного погодя я услышал, что он пробует открыть дверь. Я молчал. Джем бормотал что-то – не со злостью, а жалобно, с мольбой. «Баязид им зa это покажет, Саади, помяни мое слово! Баязид, мой брат, мой старший брат! Он всех их ткнет мордой в собачьи зады! Первым расколошматит он Иннокентия, потом – Корвина и Каитбая, а под конец всех перемолотит, до еди-но-го! Будут знать, как водить правоверных связанными! Мой брат Баязид…»
Джем кричит эти слова в замочную скважину, первые слова, с которыми он обратился ко мне за много-много времени, а я молчу. Мне противно. Боже милостивый, зачем избрал ты столь неприглядный жребий для поэта Саади!
Нет, он не совсем безумен. Прежде всех в Риме Джем догадался, что его старший брат переходит в наступление. Да, самое время для этого, но христианство решило, что обладает чудодейственным талисманом против турецкой угрозы.
Никогда еще христианские государи не чувствовали себя в такой безопасности от Турции, как в те последние три года, что Джем находится в Риме. Мол, в любой миг они могут пригрозить Баязиду крестовым походом, возглавляемым Джемом!
Вот оно как! Они решили, будто мы то же самое, что вымазанная краской римская голытьба, которую можно побивать каменьями за поденную плату. Нет, милейшие! Мы не завоевали бы пол-Европы, если бы, помимо силы, не обладали еще и разумом, если бы не сражались против чрезвычайно близорукого врага. Неужели вы полагаете, что один-единственный человек (даже оставайся Джем под вашей опекой, имеющей целью превратить его в животное) будет вечно укрощать нашу силу? Десятилетним миром с Турцией вы обязаны только тому, что Баязид – человек ограниченный, трусливый и подловатый – подозревал у вас наличие здравого смысла. Как всякий мелкий подлец, Баязид действует только наверняка; уверенность в там, что он ничем не рискует, он приобрел как раз после собора, где проявилось и ваше «единомыслие», и способность к «единым действиям». Святейший ваш собор развязал Баязиду руки.
Уже несколько недель большой османский флот находится в Адриатике, Венеция трепещет, под угрозой Дубровник. Баязид собственной персоной повел свои войска на Венгрию, вступает в Хорватию. Это уже владения Габсбургов, нож приставлен к горлу, любезнейшие наши хозяева, – посмотрим, что будет дальше! Ведь торговля вокруг Джема и Баязидова золота была для вас важнее, чем порабощение турками половины Европы (потому что вы наживаетесь на другой половине), – теперь выходите-ка из положения! Испытайте на собственной шкуре все то, что испытали греки, болгары, сербы, боснийцы, венгры, – ведь вы находили, что их страдания значат меньше, чем ежегодные сорок пять тысяч дукатов?
– Джем! – Не помню уже, сколько времени я не обращался к нему. – Джем, наши выступили в поход!
Ему требуется время, чтобы выплыть из тумана гашиша. С мучительной досадой поднимает он ко мне лицо: чего я хочу от него, зачем зову?
– Джем! – Я обнимаю его мягкие плечи, содрогаясь от жалости, ибо помню, какими были они. Джем казался мне тогда похожим на ловца жемчуга, широкоплечий и стройный, натянутый, как тетива лука. – Послушай меня, Джем! Наши одерживают победу! Твой брат мстит за тебя, Джем!
Я плачу, уже много лет я не проливал слез, и теперь они обжигают меня. Джем остается недвижим в моих объятиях. Я плачу, как на могиле.
В комнате у меня очень тихо. Джем не пытается успокоить меня, ни о чем не спрашивает. Принося ему ужин, я застаю его в кресле, всегда в одной и той же позе. Единственный его глаз прикован к окну, к невыразимо нежным, зеленоватым римским сумеркам.
Вчера вечером Антуан меня насмешил. Он принес известие– из Ватикана послан к Баязиду человек с требованием немедленно прекратить поход на Венгрию и увести флот из Адриатики, иначе Иннокентии выпустит Джема! В самом деле, разве не смешно?
Второй посланец из Ватикана к Баязиду с той же угрозой. Первый исчез бесследно. Турецкие войска жгут Хорватию, в двух днях пути от Венеции. Ха-ха, ведь именно Венеция вела самую тонкую игру в деле Джема, именно Венеция десять лет занимается предательством, уверяя Баязида, что поход султана Джема чистая фантазия, что Франция и Папство стремятся завладеть Джемом лишь для того, чтобы получать средства на его содержание, ничего больше. Наконец, именно Венеция убедила Баязида, что он может быть вполне уверен в вынужденном бездействии своего брата, – эта уверенность и привела к тому, что Баязид находится ныне в двух днях пути от Венеции. Ограничится ли он этим?
Аферим – или, как говорят тут, браво! – Баязиду. Сегодня мы узнали (о двух посланцах Иннокентия к Баязиду ни словом не упоминается), что в знак глубокого своего расположения к святому отцу турецкий султан посылает ему бесценные дары: копье, которым был пронзен Христос на кресте, и покрывало, под которым родила младенца Мария.
В Риме ужасная суматоха. Проверка показала, что означенное копье уже двести лет хранится в Нюренбергском соборе. Какое из двух – подлинное? Как отнесется папа к вполне вероятной подделке?
Сегодня нас известили о том, что означенное копье хранится в Париже. Их уже три, это счастливое число. Счастливое для Баязида. Папа, вероятно, расчувствовался от его дружеской любезности и вряд ли направит к султану третьего посланца, дабы пригрозить ему. Вот вам случай, когда число три не принесло бы счастья Иннокентию.
Рано утром из Ватикана выступила весьма пышная процессия. Турецкий корабль поднялся по Тибру, имея на борту бесценное копье, на котором, говорят, еще заметны следы крови Христовой. Во главе процессии шествует Иннокентий VIII собственной персоной. Его руки примут христианскую святыню, хотя Иннокентий знает, что это не то копье, которым…
Антуан сегодня избегает меня, он мрачен. Это мне льстит – Антуан переносит на мою особу возмущение всех христиан; ведь Баязид потешается над ними, а они принуждены делать вид, будто этого не замечают. Мне лестно, что в моем лице Ватикан сегодня ненавидит султана Баязида.
Само Провидение (я уже говорил об этом) вмешивается в дело Джема – чем иначе объяснить роковые совпадения, которые на протяжении вот уже многих лет сопутствуют нам? По дороге с торжеств по поводу упомянутого выше копья с Иннокентием случился припадок. Он все еще в беспамятстве – это может означать близкую кончину человека, сделавшего целью своей жизни крестовый поход против турок и тайно отказавшегося от этого похода из-за причин, достаточно подробно мною изложенных.
Слишком долго отдает душу его святейшество, это вносит бескрайнюю сумятицу в жизнь Вечного Города. В страхе, что кто-либо воспользуется межвластием, кардиналы решили перевести Джема в крепость Святого Ангела. Новая темница – и какая! Сдается мне, если весь христианский мир провалится в тартарары, башня Святого Ангела уцелеет, – это каменная громада, опоясанная глубоким рвом и тремя рядами толстых стен. Поистине неприступная.
Впервые мы в тюрьме, с самого начала предназначенной для этой цели. В башне Святого Ангела пытают преступников, в ее подземельях, преданные забвению, томятся сотни неугодных и неудобных. Тут мы поистине живем на костях, да еще на весьма толстом слое. Не хочу думать об этом!
Мы покидаем башню Святого Ангела, чтобы вернуться в Ватикан. Избран новый папа – Александр VI, сиречь Родриго Борджиа. Антуан вчера наговорил мне о нем таких пакостей, что я был бы потрясен, не проведи я десять лет среди особ духовного звания. Половина его детей, оказывается, рождены от неизвестных матерей, а мать остальных – полуприличная римская матрона. Он расточает на них безумные богатства, ни перед чем не останавливается, чтобы обеспечить им власть и великолепие. «В конце концов, это не столь уж предосудительно», – подумал я. Новый папа обладает хоть одним человеческим чувством – отцовским. По словам Антуана, он участвовал во всех темных сделках, какие в его время заключались в Италии, и способен вступить в переговоры с самим дьяволом. («В отличие от кого?» – подумал я, так как память не подсказывает мне ни одного европейского государя, о ком нельзя сказать то же самое.) По милости Родриго Борджиа и всех Борджиа вообще мир дождется второго пришествия, заключил Антуан де Жимель. Мне же при встрече Александра VI с Джемом увиделось иное: дерзкий, ловкий, умный, обаятельный, решительный и быстрый – вот каков Александр Борджиа, помимо тех его свойств, что обрисованы Антуаном. Вряд ли его властвование ускорит второе пришествие. Меня почему-то не оставляет предчувствие, что Борджиа разрешит до конца дело Джема.
Он невероятно любезен с нами. Впервые за три с половиной года Джем покидает пределы Ватикана, разъезжает верхом по Риму. Почти всегда в обществе самого папы или одного из его сыновей – Чезаре, кардинала Валенсии, или Джованни, получившего титул герцога Гандийского. Они показывают Джему прославленные храмы, знакомят с христианскими святынями. Джем молчит, позволяет водружать себя на лошадь и ссаживать, тяжело ступает по церковным плитам и болезненно щурится, когда светит солнце. Александр Борджиа и сыновья его не отчаиваются – они неизменно сопровождают Джема, показываются вместе с ним народу, послам и гонцам.
Антуан де Жимель имеет определенное мнение на этот счет: Александр VI доказывает Баязиду, что брат его жив, дееспособен и очень близок с папой, – теперь уже Александр грозит Баязиду крестовым походом. «Время упущено!» – ответил бы я Антуану, который и без того в последнее время очень неспокоен. После избрания нового папы французы упорно домогаются Джема.
Честное слово, эти разговоры уже проходят мимо меня, не затрагивая. Куда девались те дни, когда в Буалами или Бурганефе я настороженно ловил каждый намек, истолковывал каждый шаг стражи и монахов, готовил побеги! Теперь мне все безразлично, решительно все. Пусть передают Джема от одного хозяина другому – только бы мне выбраться отсюда!
Выберешься, как же! С тех пор как стало очевидным, что Баязид идет на христианские земли большим походом, с тех пор как стало ясно, что некому остановить его (Корвина уже нет, а много ли может Каитбай?), нас стерегут так, что не оставляют одних даже в четырех стенах. Во время еды и сна мне приходится терпеть общество какого-то чужеземца – я уже перестал отличать их по платью, нас караулит стража европейских дворов, Ватикана, Ордена. Он стоит, привалившись к двери, глядя немигающим взглядом, пока я жую, раздеваюсь или пишу. Второй такой же стоит у Джема.
Позавчера меня стерег Антуан, был его черед. Антуан уже порастерял свою веселость, хотя в глазах еще больше плутоватой любезности. Близятся события, сказал он мне. Король Франции возмущен низостью Папства. Папа печется не о пользе всех христиан, а единственно о выгоде святого престола. «А как же иначе? – думаю я. – Джем уже настолько неопасен для своего брата, что не может обеспечить столь обширное мирное соглашение. В обмен на Джема кто-нибудь один еще в состоянии выторговать совсем небольшое соглашеньице. Между Баязидом и Ватиканом, например».
– Мой государь опасается за жизнь султана Джема, – многозначительно произносит Антуан.
И при этих словах пристально вглядывается в меня, дивится тому, что я не падаю в обморок от ужаса.
– Жизнь султана Джема находится в опасности о той минуты, когда он ступил на Родос, – отвечаю я. – Успокойте своего государя!
– А как мне успокоить вас, Саади, – говорит он, – если Баязид предложил святому отцу триста тысяч дукатов за голову Джема?
– Нет, Антуан, – отвечаю я. – Джем давно не стоит и половины. Пусть папа радуется тому, что еще получает на его содержание, это уже подарок.
– Вы недостаточно трезво смотрите на вещи, Саади, из-за состояния здоровья вашего господина. Но для мировой политики оно не имеет значения. Султан Джем теперь сыграет свою роль.
– Роль! Он не может отхлебнуть воды, не облив себе всю грудь. Но вы правы, не это важно. Ваша беда коренится в том, что Баязид убежден: никогда никакого похода Джема не будет. Кто, будучи убежден в этом, cтанет выбрасывать на ветер триста тысяч?
Говоря по правде, я притворяюсь: мне страшно. Если эти, здешние, до глупости близоруки, то Баязид в свою очередь до глупости труслив и способен глупейшим образом вышвырнуть большие деньги за смерть брата, чтобы отделаться наконец от призрака. Такой, как мне описывали его – звездочет, человек суеверный, пришибленный, – он должен бояться и призраков, не правда ли?
Хотя бы их Новый год отметить двумя-тремя словами. Из-за вечных стражей над головой, с их подглядыванием и рысканием, даже ведение записей внушает мне отвращение. Я пишу, расспрашиваю стражей и размышляю только потому, что меня страшит участь Джема, – я боюсь впасть в такое же состояние, как он. Я должен выдержать, день моей свободы, быть может, недалек. Если Джема убьют – для этого достаточно, чтобы Баязид действительно предложил триста тысяч, – я обрету свободу, не так ли? Поэтому я борюсь против собственное распада.
Перечитал написанное и ужаснулся. Неужто я желаю Джему смерти? Что ж, пора перестать притворяться, хотя бы перед самим собой: если смерть Джема единственный для меня выход, я желаю ее. Да он и без того уже многие годы мертв – что стоит ему умереть окончательно, ради моего спасения? Он обязан сделать это для меня в уплату за все, чем я ради него пожертвовал, – за тринадцать самых цветущих, самых деятельных и плодотворных лет!
О последних событиях не хочется упоминать, каждая новая весть приводит меня в бешенство: до каких пор мир будет заниматься Джемом и все более суживать его темницу! Теперь уже и Александр VI говорит о крестовом походе; на Баязида это не производит особого впечатления, он продолжает свои набеги на Венгрию, Трансильванию, Хорватию; Венеция предлагает все свои богатства, скопленные длительными и грязными делами, чтобы откупить Джема, – не рассчитывают ли они показывать его со своих крепостных стен турецкому войску, которое чуть ли не вплотную подступает к ним?
Вот потеха: разоденут Джема в белые с золотом одежды, и дюжина молодцов с превеликим трудом втащит его по лестнице к зубцам крепостной стены. Принудят ли его кричать: «Смотрите, вот он я»?
О милосердный аллах, я, кажется, теряю рассудок!
Я присутствую при событиях, которые Антуан предрекал еще несколько месяцев назад: король Карл VIII с трехсоттысячным войском вторгся в Италию. Неплохо придумано – в то время, когда турки стоят у восточной границы Италии, Франция неожиданно вспоминает, что была незаконно лишена своего неаполитанского наследства, и начинает войну. В самый канун этой войны Александр Борджиа противопоставил ей состряпанный на скорую руку союз Папства с Венецией и Миланом. Если прибавить к нему Неаполь, Италия набрала бы достаточно сил, чтобы оказать сопротивление французскому нашествию. Однако у Карла есть на полуострове свои союзники, есть друзья даже в Римском сенате, есть собственные либо подкупленные кардиналы в Ватикане. Победоносное шествие французов по Италии – достаточное тому доказательство.
Карл VIII приближается к Риму! Здесь его ожидают приверженцы и пособники; Рим голодает, потому что французские суда перегородили устье Тибра; Ферран Неаполитанский отрекся от престола в пользу своего сына Альфонсо.
Один за другим сходят со сцены участники дела Джема: Корвин, Карл Савойский, Иннокентий VIII, Ферран Неаполитанский. Неделю назад мы узнали о кончине Лоренцо Медичи. Кто остался еще? Д'Обюссон и Каитбай. И я, если в истории вообще есть место для султанова слуги, в прошлом поэта.
Вчера Карл VIII покинул Флоренцию и двинулся на Рим. В городе царят голод и страх, которым день и ночь сопутствуют преступления: убийства, поджоги, грабежи. Приверженцы Франции мстят своим врагам, а разбойники помельче воспользовались сумятицей для своих целей. Вчера вечером я из своих окон насчитал шесть пожаров. Ватиканом владеет такой страх, что никому не дают ни выйти из него, ни к нему приблизиться. Поскольку, как предполагают, Карл не постесняется взять его приступом, все подготовлено к переселению обитателей Ватикана в крепость Святого Ангела. К нам с Джемом приставлена усиленная охрана. Четыреста стражей будут сопровождать нас во время минутного перехода!
Утром пришел попрощаться Антуан; мне не слишком будет его недоставать – одним доносчиком меньше.
– До скорой встречи, Саади! – сказал он.
– Почему «до скорой»?
– Бьюсь об заклад, что через три дня, самое большее, Антуан де Жимель будет назначен начальником стражи при султане Джеме. Как только король Карл возьмет Рим.
– Хоть бы вы застали нас в живых, Антуан!
– Не сомневайтесь в этом, Саади! Вчера мой король направил Александру VI послание: Рим будет пощажен, папа, несмотря на все его гнусные преступления, сохранит престол, если добровольно передаст султана Джема французской короне.
– Значит, Джем все еще козырь в большой игре, Антуан?
– Меня всегда смешило, что вы сомневаетесь в этом, Саади. Султан Джем, говорил я вам, сыграет наконец предназначенную ему роль. Мой государь решил – в союзе с Родосом и Каитбаем – осуществить поход, проваленный по вине Александра VI. Это, конечно, тайна, но вам некому выдать ее. С этого дня вам даже во сне запретят говорить, Саади.
На том мы и расстались с Антуаном. Так же как и в многоликой своей стражей – теперь нас стерегут только папские наемники. Впервые за тринадцать лет я не вижу иоаннитских ряс. Их тоже выставили, хвала аллаху! Перевернута еще одна страница в нескончаемой истории султана Джема. Не осталось и тени от совместного владения Джемом; этой ночью мы принадлежим одному Александру VI. Этой ночью, подчеркиваю я, ибо превратности судьбы стали уже для нас чем-то обыденным. Думаю, что с завтрашнего утра нами будет безраздельно владеть французский король.
Мне приказано собрать вещи Джема – нас снова перевозят в замок Святого Ангела. Собирать особенно нечего. Джем уже много месяцев не менял платья, он сидит, лежит или прохаживается по комнате в своем старом вишневом халате. На полах его следы неумеренных обедов и ужинов, локти протерты эбеновым креслом. Три дуката в день отпускает святой отец своему подопечному, получая за него ежедневно двести дукатов. На эти три дуката мы кормим стражу (не испытывая в ней никакой нужды) и себя; на эти же деньги отапливаем помещение и оплачиваем напитки. Да еще, должно быть, нас полегоньку обкрадывают, так что Джем уже много лет подряд таскает все тот же вишневый халат.
Я укладываю в два сундука свои книги, спальные принадлежности Джема. Остальное оставляю – к чертям белые с золотом одеяния, аршины шелка для праздничной чалмы! Пусть битва, которая разыграется ночью спалит их и папский дворец – пусть весь мир сгорит этой ночью, о аллах!
Дневник я захвачу с собой. Сознаю весь риск, но нынче ночью я должен попытаться. На коротком пространстве между двумя нашими узилищами, в те несколько часов затишья перед тем, как двинется лавина войны. Я срываю последний фиговый листок – долг перед страждущим – с моей скотской наготы, чтобы далее шагать под звездами в одиночку, свободно!
Я не стану входить к Джему до прибытия стражи – она появится с минуты на минуту и доставит нас в замок Святого Ангела. Не желаю еще раз лицезреть отекшую желтовато-серую физиономию с полуопущенным веком, обвисшие плечи, беспомощно сутулящуюся спину, руки, недвижные по многу часов подряд. Я боюсь жалости – она не раз мешала мне сделать решительный шаг.
Сижу точно приговоренный. Я, Саади, сполна изведал жизнь; я не обольщаюсь – что бы ни произошло этой ночью, мои дела плохи. Либо меня прикончат при попытке к бегству, либо во всех моих снах, в каждой песне, чаше в вином, при каждом взрыве смеха или удаче меня будет преследовать желтовато-серое лицо, меня будет преследовать полнейшее одиночество Джема.
Нет, я не переменю решения, слишком долго зрело оно: этой ночью я покину тебя, Джем. Я не молю о прощении, как и ты не просил простить тебя за то, что я отдал тебе свои лучшие годы. Чем бы ни пожертвовали мы друг для друга, это было по доброй воле. А сейчас я пойду своей дорогой, Джем. Если бы ты еще был в состоянии понять, ты бы понял: человек может отдать другому много, неимоверно и непосильно много. Но не все. Все отдать – невозможно, Джем. Прощай.
Меня слегка, слегка покачивает – о аллах, какое наслаждение! Как будто мать-вселенная качает меня в огромной колыбели моря. Мать хочет, чтобы я уснул, мне нужно отдохнуть после тринадцати лет истязаний.
Только сейчас я чувствую, как безмерно устал; усталость проникла в каждую клеточку моего тела, заставляя меня круглые сутки валяться в трюме под убаюкивающий плеск моря. Словно мне от роду не тридцать семь, а семьдесят три года. Я начинаю понимать, отчего человек без отчаяния отдает себя в руки смерти, если достаточно долго прожил на свете: от усталости. Упокоиться – какое точное слово!
Вот уже несколько дней подряд я набираюсь сил, чтобы описать свое бегство – изнурительно даже воспоминание о нем. Вкратце: мне удалось улизнуть по пути в крепость Святого Ангела. Два дня прятался я в ватиканских садах. Это было нетрудно, ибо в Риме царила неимоверная суматоха. Было известно, что Карл VIII выступил из Флоренции, сопровождаемый толпами, до предела распаленными Савонаролой – лютым врагом дома Борджиа. Все возмущение народа, весьма долго терпевшего бесчинства пап и кардиналов, сопутствовало Карлу VIII в его походе на Рим. Однако в то же самое время герцог Калабрийский, брат Феррана Неаполитанского, подошел к Риму с большой армией, дабы защитить Вечный Город от иноземного нашествия. Это придало смелости Александру VI, и он отверг требование французов.
Эти новости я ловил на улицах Рима (по вечерам я выбирался из сада, одетый, как франк, как обыкновенный, среднего достатка горожанин), я слышал эти вести в трактирах, где римляне обсуждали создавшееся положение, выпивали по два-три кувшина дешевого вина и отправлялись в ночь, чтобы воспользоваться тьмой, межвластием и трусостью папских войск. Городом без закона был Рим в ноябре 1494 года.
Подобно тому как убийцу всегда тянет к месту совершенного им преступления, так и я не мог покинуть Рим, пока он не утихомирится. Я ночевал в каких-то лачугах, заговаривал со случайными прохожими – участвовал в водовороте, захлестнувшем Вечный Город. В те дни я узнал, что герцог Калабрии (его солдаты были самыми опасными разбойниками в городе) обещал защитить Рим от французов, если за это ему будет отдан султан Джем. Борджиа, само собой разумеется, ответил отказом. И герцог тут же увел свои войска, на прощанье так разграбившие Рим, как, наверно, не разграбили его варвары тысячу лет назад. Вряд ли папу это особенно расстроило – Рим есть Рим, а Джем, несмотря ни на что, остался собственностью Борджиа.
Потянулись новые дни безвластия. Каждый день появлялись в городе новые французские послы – Карл предпочитал не принуждать святого отца силой, уверенный в том, что одержал уже довольно побед и что приверженцы его в Риме достаточно сильны, чтобы он мог вступить в город освободителем. А папа медлил – очень уж Не хотелось ему уступать Джема.
Именно тогда-то я и покинул Рим. Как ни любопытно было поглядеть, чем закончится вся эта история, я опасался, что Карл установит в городе строгий порядок и тем помешает моему побегу. В середине декабря я как-то под вечер присоединился к компании пьяных грабителей, проделал вместе с ними все, что полагалось, чтобы они приняли меня за своего, потом мы напали на стражу у Порта Портезе и вышли за ворота – делить добычу вне городских стен. Я воспользовался тем, что они были поглощены дележкой, пятясь, отступил в темноту и под прикрытием кустарника кинулся прочь. Так осуществилось бегство, которое я обдумывал на протяжении долгих лет. Когда долго обдумываешь что-то, все происходит совсем не так, как тебе представлялось.
Я шел, не сворачивая, берегом Тибра, направляясь к морю. А там уже – из одной гавани в другую. На поиски корабля, вполне надежного (то есть разбойничьего), ушли еще две недели. Наконец два дня назад я нашел его: корабль без флага, бравший запас пресной воды где-то под Неаполем.
Его хозяева – левантийцы, что ровным счетом ни о чем не говорит, – якобы перевозили кедр (столь маленькое судно не в состоянии везти подобный груз). Якобы выгрузили его в Неаполе (перед лицом французского нашествия Неаполю только и заниматься торговлей!). Якобы держат курс на Бейрут (я не опровергаю этого, ибо одному аллаху известно, куда поплывет корабль, на который меня взяли в уплату за все то золото, что у меня имелось: пятнадцать дукатов, мое жалованье за пятнадцать лет службы при султане Джеме).
Я сразу же выложил их перед главарем, предложив ему обшарить мои карманы и удостовериться, что там пусто – не хочу, чтобы кто-нибудь из его головорезов заподозрил, что может найти у меня еще хоть аспру, они способны за одну аспру прикончить человека. В обмен я получил турецкое платье – ношенное, самое малое, двумя, ныне уже покойными, обладателями, а также обещание кормить меня во время плавания.
И вот я стал левантийцем. Снова ношу чалму – признаться, довольно грязную. Узкие франкские штаны сменил на широкие, подхваченные у икр шаровары. Хожу босиком, ведь мы направляемся в теплые края. На плечах у меня безрукавка, которая много лет назад, вероятно, была синего цвета. Я одет не на европейский лад – это означает, что я уже почти дома.
Позавчера вечером, пока матросы уписывали за обе щеки пшеничную кашу – мне они часто подкладывали двойную порцию, – я снял висевший на стене саз. И ощутил трепет, какого, кажется, не испытывал даже, когда впервые пел перед слушателями. В руках у меня был саз – простой, без всяких украшений, – я лаская его струны тихонько, чтобы они не подали голоса: боялся, вдруг он не настроен. Я призывал из глубин памяти слова, а они словно бы разбегались, и горло перехватывало сгустком боли. «Слова мои! – молил я. – Моя песня, мысли мои, моя радость и грусть! Вернитесь ко мне, чтобы с вами вместе я вернулся к людям!»
А матросы продолжали с жадностью есть. Фитилек в миске с маслом больше чадил, чем светил. Должно быть, я выглядел очень смешным, примостившись за крепкими, полуголыми, грязными спинами, словно выключенный из круга мужчин, которые день-деньской трудятся, смачно едят, пьют и вечно куда-то торопятся. Снова выключен. Хотя бы потому, что меня уже мутит от пшеничной каши.
Я гладил саз – нет, саз не отвергнет меня, я отбыл наказание за то, что сам оставил людей, и карающий бог должен бы уже насытиться моими страданиями! Мы квиты, оскорбленное человечество и я, оскорбивший его тем, что лишил его одного поэта. «Во имя аллаха…» – прошептал я: с этими словами начинает любое дело каждый правоверный.
Под моими пальцами, которые были как чужие, саз запел, но не прежним голосом, а незнакомым, несоразмерно громким и жестким:
«Некогда встретился мне благочестивый муж, обезумевший от любви к одной особе. Не было у него сил для терпения, не было храбрости, чтобы объясниться с предметом своей любви. Как ни укорял я его, не мог он подавить безрассудную страсть, целиком завладевшую им, и отвечал мне так:
Очень медленно достиг мой голос слуха матросов. Возможно потому, что был он неуверен, не звучен. Вся моя робость взметнулась жаркой мольбой, я не пел, а стенал: «Неужели вы не услышите меня? Люди, братья! Пустите меня к себе! Я хочу вернуться к вам!»
Один за другим подняли они глаза от еды. Один за другим положили ложки, в полной, бездыханной тишине раздалось: трак, трак, трак. Корсары сурово смотрели на меня; как все разбойники, они боялись всего поддельного, а есть ли подделка более предосудительная, чем ненастоящий поэт?
– Ты что? – глухо произнес их главарь. – Поэт? Шиир?
– Был шииром.
– Для шиира не существует «был». – Мое чистосердечие убило в нем сомнения. – Если был, значит, поэт и сейчас. А почему не сказал нам?
– Разве это имеет значение?
Главарь полез в карман, вынул десять золотых.
– Твоя дорога стоит пять, не больше. Следовало сказать, что ты шиир.
– Не надо мне этого золота, оно проклятое.
– Проклятого золота не бывает.
– Этим золотом Баязид-хан платит за страдания своего брата Джема.
Доверие дюжины разбойников вернуло мне веру в людей, я открыл свою страшную тайну совсем просто, не опасаясь предательства.
– Джема? – сморщил лоб главарь. – Дела минувшие, прошлогодний снег. У нас мало кто и помнит о нем. Держи свои деньги!
И заметив, что я опять хочу воспротивиться, приказал:
– Возьми их в уплату за песню о Лейле и Меджнуне! Я ее больше всех люблю.
И я пел о Лейле и Меджнуне. Некоторые стихи я пропускал, растеряв их в долгом своем странствии от Карамании до Бурганефа. «Э-э, да ты забыл о серне!..» – напоминал мне корсар, ведь он заплатил. Остальные слушали, довольствуясь тем, что я помнил. Разлегшись, кто на спине, кто на боку, моряки смотрели на меня, лица у них были торжественны. Поэзия заставила их смолкнуть, рассказ о великой любви давал очищение.
С того дня мне подают к каше еще и вяленой рыбы, не позволяют катить бочонок, когда мы сходим на берег за пресной водой. Я пою каждый вечер, но знаю, откажись я когда-нибудь, принуждать меня не станут – они понимают, что такое вдохновение. Саз снова послушен пальцам, я заставляю его шептать в печальных местах песни и заменять мой голос, когда устаю. Я снова господин и саза и слов – а ведь еще недавно не смел на это и надеяться.
Когда я смолкаю и все погружаются в сон, как будто я окурил их гашишем, я выхожу на палубу. Ночи холодные, небо непроглядно. Бодрствуют только трое: море, кормчий и я. Двое заняты делом, а я всматриваюсь в темноту. Мне чудится, будто я различаю ту часть неба, где всплывает солнце. Восток… Отчий дом… В последнее время я так привык к чудесам, что уже мог поверить даже этому: я возвращусь домой!
Еще не знаю, что стану я петь на площадях и пристанях – удовольствуюсь ли песнями о Лейле и Меджнуне, газелями Хафиза или Шахнамэ – богатством столь беспредельным, что может заполнить дни певца до конца его жизни, либо же моими собственными стихами, некогда рожденными в Карамании… Хотел бы я – не знаю, сыщутся ли во мне слова и сила, – сложить новую песню.
Песня об отечестве и изгнании, вот какую песню хочу я создать – я, полагавший, что у меня нет отчизны и что мой дом – весь мир, считавший изгнание простым путешествием, переменой места. Ценой тринадцати лет жизни я познал истину, которую и хочу оставить людям. Хочу поведать им, предостеречь.
«Мир не только огромен, – буду петь я, – мир еще и враждебен. Укройтесь от него в своем отечестве, в своем городе, в доме своем, отгородитесь в крохотном уголке большого мира, освойте и согрейте этот уголок, найдите себе одно какое-нибудь ремесло, занятие, дело, народите детей. Ухватитесь за что-либо в безбрежном потоке времени, в безбрежии вселенной. Изберите себе свою правду».
Нечто подобное спою я людям, если найду нужные слова. Тогда, быть может, перестанет преследовать меня Джем с его полнейшим одиночеством. Немного несправедливо было с моей стороны написать, что я заплатил за эту песню тринадцатью годами жизни. В сущности, заплатил за эту песню Джем. Всей своей жизнью.
Показания Николы из Никозии, лица без определенных занятий, о событиях, имевших место в Анталье в январе 1495 года
Неопределенные мои занятия состояли в том, что я служил важным и, главное, щедрым господам, вот что я могу сказать о себе. Родился я на Кипре, но родиной своей считаю не Кипр, моя родина – весь Левант, я знал его как свои пять пальцев. И в этом своем качестве я был нарасхват: думаю, ясно почему. Хотя и был я богатым человеком, могу с уверенностью сказать, что редко кто отрабатывал полученную плату большим трудом и большим риском, чем я.
Мое имя вам уже один раз встретилось в деле Джема – в 1482 году я был схвачен в Венеции с письмом от Каитбая к султану Джему. Вас, наверно, удивило, что меня не прикончили, и, должно быть, вы нашли этому объяснение. Могу подтвердить ваши предположения – я получил тогда жизнь и свободу в обмен на клятву перейти на службу Венеции, продолжая служить Каитбаю. В связи с этим мне приходилось частенько обращаться к османским властям в Леванте – Венеция сносилась с Баязидом, прибегая к посредничеству таких, как я, и требовала хранить в полнейшей тайне дела, отлично известные христианскому миру: свои предательские действия не только в деле Джема, но и в борьбе христиан против Турции вообще.
Избавлю вас от описания тех трудностей, которые испытывает слуга двух господ, – жизнь моя десятки раз висела на волоске, но опасность, как и все на свете, имеет свою цену: платили мне хорошо.
В декабре 1494 года, когда я находился в Анталье – это порт на азиатском берегу, напротив Кипра, – ко мне прибыл тайный посланец. Я забыл упомянуть, что март, июль, сентябрь и декабрь я каждый год проводил в Анталье, где получал поручения из Венеции, иначе им было бы трудно найти меня, мое ремесло заставляло меня колесить по свету.
Незнакомец разыскал меня у Абу Бекира, моего антальского хозяина. Он был франком, это единственное, что я могу сказать с уверенностью, хотя одет он был как левантиец. Едва я ввел его к себе в комнату, как он предложил мне выложить на стол все оружие. Я знал, что вслед за тем он меня обыщет, поэтому сделал, как он велел.
– В этом месяце вы не дождетесь поручений от Венеции, – без обиняков начал незнакомец. – У ее стен стоит Баязид. Но зато вам предоставляется возможность оказать услугу державе более могущественной, чем Венеция.
Я даже и не спросил какой – об этом спрашивать не полагается. Изобразил некоторую нерешительность – дескать, надо подумать…
– О цене договоримся потом, – мигом смекнул незнакомец. – Предупреждаю, она будет невелика, потому что ваша задача не сопряжена ни с малейшей опасностью.
– Само собой! – процедил я. – Тому, кто платит, дело всегда кажется пустячным.
– Несколько недель назад из Ватикана удрал некий Саади, приближенный султана Джема. В той смуте, какая владела Римом в те дни, было не до него, хотя его побег был обнаружен в первый же вечер. Ныне же, когда положение Александра VI упрочено его договором с французами, упомянутый Саади должен быть найден. Естественно предположить, что на него возложено какое-то поручение. Последние годы султан Джем упорно отказывается вступить в соглашение с христианскими державами, не раз выражал радость по случаю одержанных Баязидом побед. Словом, по нашим предположениям, в отношениях между братьями наступила перемена. Что это? Всего лишь настроение Джема? Либо – несмотря на усиленный надзор – он сумел снестись с Баязид-ханом? Ответы на эти вопросы пока еще не найдены. Но вот, – продолжал незнакомец, – Саади тайно бежит из Рима; Саади, в отличие от Джема, находится в здравом уме. Мы подозреваем, что поручение, которое у него есть к Баязиду, может усложнить и без того тяжкие для Италии обстоятельства. Нельзя ни в коем случае допустить, чтобы Саади добрался до Баязида или даже вступил в контакт с османскими властями в Леванте.
– Легко сказать! Когда и где сойдет на берег Саади? Какие приметы? Хотите, чтобы я нашел иголку в стоге сена.
– Если бы я мог ответить с точностью, стал бы я разыскивать вас, Никола? Вы слывете знатоком левантийских портов, самых потаенных их уголков. Как можно быстрее отыщите упомянутого Саади!
– Разыскать этого Саади и убрать его – куда как просто! А как мне оказаться в двадцати разных местах одновременно?
– Не усложняйте свою задачу, Никола! Сейчас зима, в эту пору мало кораблей находится в плавании. Есть основания полагать, что Саади воспользовался корсарским судном, – едва ли у него хватило смелости сесть на турецкий, родосский или итальянский корабль. Корсары из всех гаваней отдают предпочтение Анталье, вы это знаете лучше меня – в Анталье почти нет властей. Поэтому мы вам поручаем Анталью. В другие же порты вы разошлете своих людей. С описанием, которое я вам вручу.
– Хорошо, беру на себя Анталью. Что дальше?
– Именно потому, что действовать тут непросто – мы предполагаем, что Саади увез с собой значительную сумму и, вероятно, рассчитывает получить еще, следовательно, будет иметь охрану, – вам не справиться одному. Явитесь к османским властям и откройте им сведения, которыми вы располагаете. Каждый здешний ага захочет отличиться, поймав Джемова посланца. Дайте им такую возможность!
– Но ведь вы утверждаете, что вполне вероятен сговор между братьями, что Саади прибудет сюда как лицо, угодное султану Баязиду?
– Мы подозреваем это и сказали об этом вам, но откуда правителю Антальи знать о таком повороте в отношениях между братьями? Весь мир верит, что между Джемом и Баязидом существует смертельная вражда, – вот на это вам и нужно делать ставку!
– Уважаемый, – я решил положить конец разговору, – не будем темнить! Вы поручаете мне дело, за которое я могу поплатиться головой. Мне придется недели кряду обходить в сопровождении османской стражи все корчмы и трущобы в городе. Это означает, что любой корсар, если только он в своем уме, решит, что я прислужник властей, – а османов, знаете ли, не очень-то обожают в Анталье. Если я и обнаружу этого Саади, то тремя днями позже какой-нибудь корсар расправится со мной – мол, одним османским соглядатаем меньше. Если же не обнаружу (что всего вероятнее), мне придется держать ответ перед властями: ты, дескать, знал, что Саади здесь, знал и зачем он сюда пожаловал. Хватайте Николу из Никозии, всыпьте ему триста палок, и он выложит остальное. (Они ведь, ясное дело, заподозрят, будто я знаю и все остальное.) Вот это вы и называете неопасным делом? Да у меня на Кипре жена с тремя детишками, а тут в Анталье другая жена с двумя. Хотите, чтобы они остались сиротами?
– Каждый рано или поздно осиротеет, – утешил меня незнакомец. – Весь вопрос в том: какое ему достанется наследство?
– В таком случае потолкуем, как разумные люди, о наследстве, которое достанется моим сиротам, уважаемый!
Мы потолковали. Признаюсь, я не рассчитывал и на половину того, что выторговал. Если учесть, что не было у меня не только двух, но даже и одной жены (при моем ремесле обзаводиться женами не полагается), а дети, если они у меня есть, рассеяны под чужими именами по всему Леванту, то барыш, считайте, возрастает еще вдвое. Только бы уцелеть. «Уцелею, – сказал я себе, – мы и не такое видали!» Я решил после этого больше в Анталье не показываться.
Если хотите знать мое мнение, эти деньги платило Папство.
В тот же день явился я к османскому правителю гавани. Он не очень-то показывался на людях, турки в Анталье обосновались недавно и чувствовали себя не слишком уверенно – имея на то полное основание. С тысячью заверений в преданности сообщил я ему о полученном мною известии и своем желании довести дело до конца. Он ни на мгновение не усомнился. Во-первых, очень ему хотелось отличиться перед султаном, а во-вторых, турки вообще люди простые, легковерные. Правитель дал мне шестерых солдат, я велел им переодеться, чтобы нельзя было еще издали увидать, что идет стражи.
Первым делом разведал я, не приставало ли какое-нибудь судно в Анталье или в соседних лиманах. Оказалось – нет. Декабрьские штормы пугали мореходов высокими волнами, так что корабли выжидали в открытом море, пока стихнет, чтобы не разбиться о прибрежные скалы.
Это было мне на руку. Саади, по моим расчетам, еще не ступил на берег Азии.
Единственно, чего я опасался в те дни, так это растущего нетерпения солдат. Их вытащили из берлог, где они зимовали в тепле, и потому, что ни день, все больше злобились на меня за то, что я заставляю их рыскать по лиманам. Я побаивался, что они как-нибудь вечерком возьмут да и пришибут меня, чтобы отделаться, а потом чего-нибудь наплетут.
Но 26 декабря, должно быть, дня за два – за три перед тем, как мои подчиненные избавились бы от меня, один из них принес известие, что севернее Антальи бросил якорь корабль без флага. Восемь душ с него сошло на берег, остальные остались на борту стеречь корабль от себе подобных. Направились они, само собой, в город. Мой человек, конечно, выпустил их из виду – разве солдату по зубам наше ремесло?
Ничего. Сквозь землю не провалятся. Под вечер стали мы обходить корчмы, курильни гашиша. Вы не думайте – это на словах получается просто, на деле-то было вовсе не просто. Только отчаянные головы сунутся ночью в трущобу, где курят гашиш самые что ни на есть отпетые разбойники; их и трезвых-то лучше обойти стороной.
В первый вечер мне не попался никто, кого можно было бы принять за Саади. В сущности, приметы, которые мне сообщили, не стоили ломаного гроша: рост средний, худощав, кожа светлая, глаза и волосы черные, борода бритая. Да у нас каждый третий подходит под это описание, что же мне – всех подряд и хватать? И на что я, собственно, рассчитывал? Что Саади не переоденется моряком, солдатом или нищим? Что не станет таиться, а так прямо и выдаст, кто он такой есть?
Я почувствовал себя круглым идиотом за то, что клюнул на эту удочку. И потом, с какой стати полезет Саади в корчму или курильню? Всего разумней для него схорониться под землю, пока не найдет коня или идущий в Стамбул корабль. Обшарить все дома Антальи, что ли?
Само собой, правителю я о своих сомнениях говорить не стал, сказал только, что напал на след. А какой там след, боже правый! Каждый вечер обходил я непотребные заведения Антальи… Все зря. Хорошо еще, хоть погода стояла гнуснейшая, так что, надеялся я, не решится он отправиться в путь, а сидит где-нибудь, выжидает. В такую непогодь кораблей больше к берегу не приставало – значит, либо он пришел на том, который мы обнаружили, либо вообще не появлялся.
Как всякий холостяк, обедал я не дома, а в разных харчевнях. Потом шел куда-нибудь пить кофе – дома у меня очага не было, холодина, так я допоздна засиживался в кофейнях.
И однажды – да благословит господь этот день! – в одной захудалой кофейне, где грелись у мангала десятка два молодцов из тех, по ком давно веревка плачет, я вдруг услыхал шиира. Был он в довольно поношенной, не по-зимнему легкой одежде, светлокожий, черноглазый. Пел за плату, долго пел. Слушали его с тем благоговением, с каким слушают только на Востоке, мусульмане донельзя почитают всякое слово, изреченное или спетое.
Я тоже слушал – вернее, не слушал, а соображал: возможно ли? Если поэта используют для потайного дела, то никогда не станет он держаться как поэт. Это – первое. Второе: чего ради выберет он для пения такое открытое место – кофейню на площади перед Большой мечетью? Нет, мне, наверно, уже мерещатся призраки. В нашем тайном ремесле главное – выглядеть не тем, кто ты есть в действительности, и если ты не очень уверен в своем умении притворяться – лучше запрячься в мышиную нору.
Я собрался уходить. Дело близилось к вечеру, и надо было найти моих людей, чтоб начать очередной обход. Я не очень спешил, потому что на улице валил снег пополам с дождем и буйствовал морской ветер. «Будь проклято мое ремесло!» – думал я, завидуя тем двадцати молодцам, которые весь вечер будут слушать песни и греться у мангала.
Я стоял у двери и размышлял, куда мне двинуться, когда шиир заговорил:
– Не о Рустеме спою я вам, друзья, сегодня Вы уже много раз слушали о Рустеме. Согласны ли вы послушать одну незавершенную песню?
– За незавершенные не платят, – в шутку бросил кто-то.
– За нее уже заплачено, – тихо произнес шиир.
– Давай! Пока поешь, придумаешь конец.
– Нет. Она нелегко мне дается, друзья. Не приходилось вам замечать – когда говоришь искренне, без вымысла и украшений, всегда трудно. Будто слова даны нам не для того, чтобы раскрыть свое сердце, а чтобы спрятать его… И все же – слушайте!
Песня, прямо вам скажу, была никудышная. Шиир на все голоса повторял, как радуется он тому, что он здесь, что он наконец снова дома, ибо нет ничего страшнее на свете, чем изгнание, и тот, кто однажды был изгнан, перестает быть человеком… Что-то в этом роде.
Я видел, что и остальным слушателям песня не нравится. Кому какое дело до чьей-то там сердечной тоски, раскаянья и прочего. Люди любят, чтобы в песне было побольше разных историй. Но так как пел он бесплатно, да и честно признался, что еще не докончил песню и будет доделывать, люди слушали. А я снова принялся рассуждать. Я был совершенно убежден, что это не Саади, – слишком явные совпадения всегда подозрительны. Мало того, что шиир сам признается в том, что он шиир, он еще поет песню об изгнании. Нате, мол, глядите, вот я возвращаюсь из изгнания и жажду поскорее поделиться в вами, как оно ужасно.
«Тут что-то подстроено, – подумал я. – Мне, наверно, нарочно наплели, будто сюда должен прибыть какой-то поэт с поручением от Джема, чтобы я переусердствовал перед турецкими властями и тем выказал, что нахожусь на службе у чужестранцев. Турки преспокойно отправят меня на тот свет, и кое-кто таким способом от меня отделается, потому что я слишком много знаю, да и, что греха таить, служил одновременно двум хозяевам, а случалось, и больше чем двум».
Дело становилось и впрямь опасным. И я уже прикидывал, как мне поскорей унести ноги, чтобы те, кто его задумал, не успели довести до конца. Стал тихонько открывать дверь, надеясь незаметно выскользнуть, но тут шиир окликнул меня:
– Отчего ты покидаешь нас, друг? Неужели так не понравилась тебе моя песня?
– Что ты! – Я растерялся. Выглядело так, будто он знал, кто я и что мне нужно, и притворной любезностью собрался меня удержать. – Прекрасная песнь, но меня ждет дело.
– У всех на этом свете есть дело. – Шиир встал и подошел ко мне, а я обмер: сейчас он подопрет дверь и кого-нибудь кликнет! – У всех, кроме поэта Саади…
– Это кто ж такой? – спросил я, как дурак, уже не сомневаясь, что попался.
– Кто? Я. Почему один лишь я никому не нужен, один лишь я никуда не спешу? Вот что значит изгнание, друг! Моя песнь неудачна, я сам сознаю это: изгнание разрывает все связи между тобой и людьми…
Я стоял точно пораженный громом. Саади!.. Как поверить, что он без побоев признается в этом, что чистосердечным признанием сам устремляется навстречу смерти. Чего, черт подери, от меня хотят?
– Ты – Саади? – от растерянности переспросил я. – Вроде я где-то слышал… Не помню.
– Ты слышал обо мне в рассказах о султане Джеме, верно? Да, я тот самый Саади, что провел со своим господином тринадцать лет в изгнании. И перенес столько страданий, сколько не в силах вынести человек. Но теперь я снова среди своих! Наконец-то!
Как прикажете понимать это? Я озирался, точно загнанный зверь. Низкое, прокопченное помещение с голыми стенами и незастланными лавками; красноватые отблески мангала в темных сумерках зимнего вечера; двадцать бандитов с испитыми, заросшими физиономиями и этот незнакомец!.. Как раскусить его? Он стоял передо мной, все приметы совпадали. Он открыл мне свое имя, свое занятие, признал, что вернулся после тринадцати лет изгнания…
– А чем ты докажешь, – сказал я, мокрый от страха, – что ты и есть тот самый Саади?
– Зачем мне доказывать это, друг? Я не ищу за пережитое мною ни награды, ни славы. Прости, что окликнул тебя. Знаешь – это от боли. Боюсь я, что кто-нибудь может так же, как ты, повернуться спиной к великому моему предостережению…
Он стоял задумавшись, и в тот короткий миг, который должен был все решить, я тоже стоял и думал: а вдруг это и вправду Саади? Поэты – они ведь ушибленные, с них станет – возьмет да и начнет хвалиться и плакаться, если подвернется охотник послушать. Такие дела… Неужто подвалила мне этакая удача? И потом – допустим, обознался я, что за беда? Сам ведь признался, что он Саади, а мне именно Саади и велено убрать. Вот он, голубчик, милости просим! А если не Саади он, так вольно же ему было себя за него выдавать!
В этот короткий миг надумал я смелую штуку:
– Пусть твою песню услышат и другие, люди, твоя милость. А? Это тут близко, через две улицы. Пойдешь?
Он мигом вышел из задумчивости и поглядел на меня. Глаза заблестели, лицо прояснилось. Тот, кто называл себя именем Саади (клянусь честью! – не только тогда, я вообще так и не поверил, что этот шиир был Саади), подошел к мангалу, простился со сбродом, что сидел там, и взял свой саз.
– Ты не замерзнешь, больно легко одет? – спросил я. В нашем ремесле тоже ведь люди не бесчеловечные.
– Нет, – ответил он. – Идем!
Он дрожал от нетерпения. А у меня, как на грех, не было при себе оружия, я ведь не по службе заглянул в ту кофейню. Потому, как свернули мы в одну безлюдную улочку, пришлось мне огреть его кулаком – собрался с силами (шиир шел на шаг впереди меня) и ударил его по голове. Он упал, а я продолжал наносить удары, чтобы подольше не приходил в чувство. Взвалил его на плечо, был он не тяжелый (и этим тоже подтвердил описание, которое мне дали).
В Анталье такое зрелище не в диковинку, так что я особенно и не прятался. Отнес его в порт – там всегда стоит стража, а мне требовались два свидетеля. Вместе затолкали мы его в мешок, сунули туда же еще камень.
Будь другой час и другая погода – скажем, теплое время, да утречком, – мы бы его по всем правилам отвезли в лодке подальше в море, хотя это и не имеет значения, достаточно и двух аршин глубины. Но я заметил, в зимние вечера любое дело делаешь без охоты. Так что мы просто-напросто подкатили мешок к краю пристани и спихнули в воду.
Почему я сперва не снес его к правителю, чтобы тот опознал его, привел в чувство и допросил? Да потому, что был почти уверен (насколько в таких делах можно быть уверенным), что шиир только выдает себя за Саади.
Да, вы правы: тем и окончилось столь долгое возвращение на родину поэта Саади.
Показания Антуана де Жимеля, начальника французской королевской стражи при султане Джеме, о событиях с ноября 1494 года по февраль 1495 года
Вы слышали, я предсказывал, что займу этот пост, едва лишь мой государь получит султана Джема от Александра VI Борджиа. Сомнений у меня не было: король Карл VIII не может не взять верх. Слишком истерзана была Италия междоусобными войнами, слишком продажны были ее правители, слишком печальным было положение ее народа. По какому праву примешиваю я к истории Джема слово «народ»? Прошу прощения, но это слово примешивали к историям и более ничтожным.
Как бы то ни было, 31 декабря 1494 года, всего за один час до полуночи, мой король вступил в Рим. Звезды предрекли ему в тот год крупные удачи, и он спешил завладеть последней, самой крупной удачей, Джемом, до того, как этот год истечет.
Старая лиса Александр VI добился своего: принудил моего короля взять Рим силой и тем навлечь на себя укоры всего христианского мира. И еще к одному был он принужден: отнестись с безграничной любезностью к самому папе, коль скоро он совершил насилие над его столицей. Король понимал эти хитрые расчеты папы и нарочно целых две недели не покидал своих покоев – мы разместились во дворце Сан-Марко. Он ждал посланцев Александра. Но папа дулся, ожидал извинений. И в конце концов направили послов мы.
Переговоры между Александром Борджиа и королем заняли еще две недели. По всем остальным пунктам договора (Карл на законных основаниях занимает Неаполь, оставляет свои войска в шести папских крепостях, возглавляет поход на Турцию) обе стороны достигли согласия за два часа. Но Джем! Сколько хлопот доставил Джем нашим кардиналам и вельможам!
Да, вы правы, собственно, не Джем, а папа. Джема король даже не видел еще. Вот послушайте, что потребовал папа взамен султана Джема. Во-первых, залог в пятьсот тысяч дукатов. Во-вторых, шестьдесят французских дворян – тоже в качестве залога. В-третьих, султан Джем должен оставаться в пределах Папства, пусть и под французской стражей. И наконец, в-четвертых, спустя шесть месяцев он должен быть возвращен папе. После чего мы получим обратно деньги, заложников, а также заверения в совершеннейшем почтении.
По мнению всех французов и приверженцев Франции, мой король должен был потерять рассудок, чтобы после всех наших блистательных побед согласиться на такие условия. Вообразите: Карл VIII их принял.
– Султан Джем все еще находится в крепости Святого Ангела, – сказал он Совету. – Иными словами, в руках папы. Если мы затянем переговоры относительно Джема и Александр не узрит в обмене никакой для себя выгоды, он способен убить турка и тем лишить смысла нашу победу. Любой – я подчеркиваю! – любой ценой мы должны заполучить Джема живым. Вы видите сами, Европа напугана расширением наших границ, возможно, что спустя неделю Германия или Британия ударит нам в спину. Какими средствами достигнем мы выгодного мира, если не будем обладать Джемом?
Слова короля относительно цены вновь вызвали возражения; можно, дескать, выждать. Но король был непреклонен – он в самом деле опасался получить вместо живого трупа настоящего мертвеца.
– Джем обитает в Европе уже тринадцать лет, ваше величество! – напоминали ему некоторые. – Что заставляет ваше величество именно теперь опасаться за его жизнь?
Тогда Карл VIII огласил перед Советом письма, перехваченные у некоего Хусейн-бега. Двенадцать писем, переписка между Александром VI и Баязидом относительно «окончательного разрешения дела Джема».
Убежден, что вы и без меня догадались, в чем заключалось «окончательное разрешение». Переписка завершалась известием (переданным лично папой) о том, что король Карл идет войной на Италию с целью отнять Джема и поставить его, Джема, во главе большого крестового похода. Папа, мол, до сего времени выполнял свои обязательства перед Баязидом, а французы и не подумают выполнять их – следовательно, наступило время, когда давняя угроза – великий крестовый поход – станет реальностью. Святой отец в этом письме выглядел безумно напуганным таким поворотом судьбы, словно сам был правовернейшим мусульманином. Далее Борджиа указывал на то, что отпор, оказываемый Папством Франции, требует огромных средств, и настоятельно просил уплаты назначенного Джему содержания вперед за пять лет. Эти деньги, мол, уберегут Джема в руках Рима, если вообще смогут уберечь Рим.
Ответ Баязида был сдержанным. Султан чуть ли не приказывал Папству назначить епископом Арля Николо Чибо (Баязид, как вы можете заметить, уже назначал христианских епископов), потому что тот оказал Турции неоценимые услуги в деле Джема. Иными словами, под носом у Папства некоторые духовные лица находились на турецкой службе! Относительно выплаты пятилетнего содержания Баязид не упоминал и лишь высказывал пожелание, чтобы брат его не покидал пределов Рима.
Посему следующее письмо Александра VI было отчаянным – он писал его в тот час, когда мой король находился во Флоренции. Папа стенал, что французы стоят у порога и только чудо может спасти Папство и Турцию (извольте полюбоваться – единомыслящие и единодействующие Ватикан и Турция!). Уплата вперед пятилетнего содержания Джема – со слезами молил Александр, – иначе крестовый поход!
На латыни, причем безупречнейшей латыни, следовал ответ Баязида, и – как утверждал схваченный его посланец – султан писал его собственноручно, дабы показать кое-кому, что он отнюдь не варвар. На этой безупречной латыни Баязид отказывался быть и впредь марионеткой в наскучившем ему спектакле. Его войска победоносны, заявлял он, и крестовый поход нимало не тревожит его. Он ожидает его чуть ли не с нетерпением, ибо давно пришло время – миру надоели все эти посулы и обманы.
Одну, последнюю, возможность предлагал Александру Борджиа Баязид-хан, подсказывал средство заработать малую толику золота, если не хочет вовсе лишиться его: «Поскольку брат мой должен рано или поздно умереть, ибо его существование меж неверных является для него адской мукой, то в силах Вашего святейшества избавить его от этих многолетних страданий и помочь ему перейти в лучший, более справедливый мир. Ежели Ваше святейшество проявит к моему злосчастному брату такую милость, передав его тело османским властям в любом из портов, то вручители получат триста тысяч дукатов наличными и высочайшую мою благодарность».
Никогда не слышал я тишины более зловещей, чем та, что последовала за прочтением письма. Видите ли, в Совете было тридцать дворян, из коих каждый так или иначе был причастен к делу Джема. Тринадцать лет в наших кругах обсуждались перспективы этого дела, его выгоды или таящиеся в нем опасности. Каждый из нас – тридцати дворян – имел на своем счету или, если угодно, на своей совести солидный груз. То был XV век, он мало напоминал женский монастырь. Однако только что услышанное нами превосходило даже XV век со всеми его Борджиа, Медичи, Савонаролами, инквизицей, Макиавелли! Превосходило человеческое воображение! Султан великой империи предлагал Христову наместнику на земле плату за убийство.
Нет, я выразился бледно, да и неточно. Мусульманство – величайшая опасность для западной цивилизации – предлагало Западу, в лице его духовного пастыря, за триста тысяч дукатов самому переломить свое оружие.
Нет, и это бледно. Впрочем, постарайтесь сами найти подобающие слова.
Мы же в тот час молчали, словно заглянув в преисподнюю, словно увидав самоубийство всего христианского мира.
– После всего вами услышанного излишне говорить о том, что Александр Борджиа принял предложение Баязида. – Не знаю, как мне передать то отвращение, с каким король произнес это.
Итак, у нас не оставалось сомнений: если мы не заполучим безотлагательно султана Джема, он, хорошо просоленный, поплывет в какой-нибудь из малоазиатских портов. Пришлось согласиться на поставленные папой условия. Мы не имели намерения соблюдать их, отлично сознавая, что и Борджиа не станет соблюдать наших. Следовательно, принесли в жертву пятьсот тысяч золотых и шестьдесят французов. Ради благоприятного мира со всей Европой.
Начиная с 16 января – после того как мы передали золото и заложников, – стража при султане Джеме была сменена. Во главе двухсот рыцарей я въехал в крепость Святого Ангела – моя долгая и опасная служба в качестве защитника интересов Франции в деле Джема давала мне это право.
Папские гвардейцы опустили мост, наш отряд проехал по его окованным бревнам. «Хорошо, что мы входим сюда, – размышлял я, – но будет еще лучше, если мы отсюда выйдем!» Потому что мост за нами вновь поднялся. Мы несли стражу в покоях Джема, люди же папы сторожили всю крепость. Очень было похоже на капкан. Успокаивала лишь мысль о том, что за папской стражей находились наши, – ведь Рим был в руках французов.
Джема я застал совершенно таким же, каким он был, когда мы расстались, – с тех пор минуло уже два месяца. Он сидел перед камином, в темноте, и дремал. С отвращением подумал я о том, что буду вынужден коротать возле него свои дни. Я ведь не сарацин, не какой-нибудь Саади, чтобы равнодушно взирать на подобное зрелище! Я присутствовал при всех трапезах Джема, следил за тем, чтобы пища его опробовалась – ведь мы ожидали, что Джема попытаются отравить. Иногда турок обращался ко мне, я не понимал ни единого слова, если не считать слова «Саади». Он явно принимал меня за своего бывшего слугу. Я знал, в чем заключались обязанности Саади, недаром провел с ним целых шесть лет, поэтому отлично справлялся и без переводчика. Чего проще? Султан либо требовал свою трубку, либо просил перед сном укрыть его.
Всего десять дней продолжалась моя служба при Джеме в крепости Святого Ангела, но уверяю вас, я испытал все те чувства, какие испытывал Саади, если сарацины способны что-либо чувствовать: безграничную досаду и страх, что где-то идет настоящая жизнь, а ты находишься вне ее. И больше всего отвращение. В двадцать восемь лет я, человек благородного происхождения, с будущим и возможностями, должен губить себя, прислуживая какому-то полуживотному! «Хоть бы его вправду отравили!» – часто ловил я себя на этой мысли, забывая о том, что дорого заплачу за смерть султана Джема. Не только из ненависти думал я об этом. В самом деле, так ли уж лгал Баязид, говоря, что желает брату избавления от такой жизни?
К счастью, мне не дали времени для дальнейших размышлений. Шестого февраля мой король оставил Рим, чтобы идти на Неаполь. Опасаясь, что Александр Борджиа сразу же наложит руку на плод наших побед – на Джема, Карл VIII решил повсюду возить его за собой. Под усиленной охраной.
Как жаль, что вы не могли видеть турка, когда мы одевали его в дорогу. Уже несколько лет Джем не выходил за порог, не надевал приличного платья. Труднее всего было обуть его – ноги так отекли, что слуги перемерили четыре пары сапог, пока подыскали подходящие. Кое-как напялили на него волчью шубу с капюшоном. Мы опасались, что при его изнеженности он простудится. Под конец мне пришло в голову, что шубы, быть может, недостаточно. Оглянулся по сторонам – другой одежды не было. Тогда я стянул с постели покрывало и накинул ему на плечи.
Повели мы его. Наши шаги гулко отдавались в длинных переходах крепости – четкая солдатская поступь и медленное шарканье: турок с трудом волочил свои новые, слишком большие и тяжелые сапоги.
Во дворе было множество французов. Мы выстроились в ожидании короля. По всему было видно, что Карл VIII желает выказать своему гостю знаки большого уважения. Пока мы ожидали приезда нашего государя, я наблюдал за султаном Джемом.
Он стоял, уронив голову на грудь. И казалось, никого и ничего не замечал. Шерстяное покрывало сползло с одного плеча, край киснул в луже. Я позволил себе приподнять покрывало и заботливо укутал Джема – несмотря на все свое раздражение, я считал себя ответственным за его здоровье. Почувствовав прикосновение, турок поднял голову. Его единственный открытый глаз с недоумением уставился на меня. «Что?» – спрашивал этот усталый, тусклый глаз.
– Мы отправляемся в поход, ваше высочество, в поход, на войну! Вы поведете наши войска, вместе с королем Франции!
Я говорил излишне громко и, должно быть, сильно жестикулируя – так говорят с глухим. Джем замотал головой, показывая, что не понимает меня либо что ему все безразлично. И снова опустил голову, тяжело пыхтя.
В это мгновение грянули фанфары. Над каждым из нас развевалось знамя с гербом – французское дворянство приветствовало своего государя. Между трубачами, расставленными на подвесном мосту, показался Карл VIII. В ту пору наш государь был еще очень молод, ему было двадцать лет, солдатская жизнь в Италии несколько оживила его болезненное, бледное лицо. Почтительно, однако не скрывая любопытства, король Карл направился к нам.
– Да здравствует король! – провозгласили рыцари.
Карл ответил на приветствие, в сером свете февральского дня алые перья на его шлеме колыхались, точно языки пламени. Кардиналы, сторонники Франции, следовали со своей свитой за Карлом – ведь он считался освободителем Рима.
Слегка озадаченный странным обликом своего союзника, король взглядом словно бы попросил совета. Кардинал Сен-Дени (он был ответственным за Джема) что-то шепнул его величеству, и Карл спешился. Позвали переводчика.
– Я счастлив принимать вас в святом городе, брат мой! – перевел тот. – Да поддержит нас господь в нашем великом деле! Победоносное французское войско под моим и вашим водительством сегодня выступит на Неаполь.
Точно затравленный зверь, выгнанный из своего логовища, смотрел Джем на короля. Я видел, что он хотел отпрянуть, но отказался от этого усилия и только покачнулся. Испугавшись, что он упадет, я поторопился подхватить его. Джем что-то бормотал себе под нос. Но переводчик понял.
– Его высочество говорит, что он пленник, всего лишь пленник. Везите его, куда пожелаете. Он не в силах вам помешать.
Переводчик явно совершил оплошность, щеки короля залила краска. От обиды – разве так говорят с королем, да еще победителем? Карл VIII повернулся на каблуках и отдал несколько распоряжений. Султан Джем продолжал стоять позади него. Покрывало опять соскользнуло с его плеч.
Я считал, что всего разумней было бы посадить его в карету. Но король желал, чтобы Джем действительно возглавлял поход. Италия, весь мир столь долго слышали о крестовом походе, что Карлу хотелось показать: начало походу положено. Отлично сознавая, что дальше начала дело не пойдет – да и то дай-то бог, ибо шли настойчивые слухи о вдохновляемом Александром Борджиа союзе европейских государств против Франции. Словом, нужно было как можно скорее взять Неаполь и вернуться к себе, чтобы защищать Францию.
Итак, Джем был посажен в седло и ехал справа от Карла VIII. Он зябко ежился от зимней сырости, хотя, помимо покрывала, его укутали еще во множество одежд. Мне приказали ехать рядом с ним, потому что он мог упасть с лошади. Хорошо, что этого не произошло, мне бы не удержать его, он был чересчур тяжел.
По римским улицам нас провожала толпа, довольно густая, потому что король роздал голодающему городу продовольствие. Ниже по берегу Тибра толпа поредела – спектакль подходил к концу, все торопились по домам, в тепло. Мы же ехали весь день. И второй. И третий. Останавливались в небольших крепостях – Вальмонтоне, Кастел Фиорентино, Вероли, всех не запомнить! В первый же вечер мне было велено дать Джему на подпись какие-то бумаги. Я мельком просмотрел их. То были послания епископам Далмации, властителям греческих и славянских земель. Султан Джем призывал их к восстанию заверяя, что приближается во главе бесчисленного войска. В начале марта – говорилось в этих посланиях – союзные христианские войска высадятся на побережье. Пусть порабощенные христиане встретят их как освободителей, пусть поднимутся против владычества магометан!
«Спустя месяц мы будем во Франции, – размышлял я. – Король пытается досадить Баязиду, потому что подозревает, что тот в союзе с папой. Умно!»
Я принес Джему бумаги. Он, как всегда, сидел неподвижно у камина. Было это, кажется, в кордегардии замка Вальмонтоне. Я положил листы ему на колени. Джем не шевельнулся, дыхание его было раздражающе громким. Как объяснить ему? Я обмакнул перо, вложил в руку Джема.
– Здесь, ваше высочество! – показывал я ему оставленное для подписи место. – Будьте добры, под-пи-ши-те! Вот так. – Я жестом показывал, будто пишу.
– Саади! – выдохнул он единственное слово, понятное нам обоим.
– Нету вашего Саади! – кричал я. – Черт бы по; брал и Саади, и всех, кто наслал тебя на мою голову! Чертов мавр, грязное животное! Под-пи-ши!
Вообразите – понял! Коряво, точно пьяный, вывел он какую-то закорючку под первой страницей, под второй. Потом выронил перо. И возбужденно, лихорадочно заговорил.
Я снова взял его руку, попытался вложить в пальцы перо. И вздрогнул: рука пылала!
Что-то кольнуло меня. Турку плохо! Что будет ее мной, если он кончится? Я потрогал его лоб, покрытый холодной испариной, преодолев отвращение, пощупал грудь – Джем был в страшном жару. Что колотилось под моей рукой – неровно, то отчаянно громко, то еле слышно? Сердце Джема.
– Стража! – вопил я, мчась по незнакомым переходам, пока не наткнулся на кого-то – не помню уж, на кого. – Тревога! Султану Джему худо!
Точно сквозь туман видел я, как сбегаются люди. Я боялся, как бы не появился и король, но потом узнай, что он к тому времени )же спал. Несколько человек подняли ставшее еще более грузным тело и перенесла на кровать. Джем был неузнаваем – багровый, блестящий от пота, он ловил ртом воздух, как выброшенная на берег рыба.
– Лекаря! – слышал я встревоженные голоса. Кто-то выбежал из комнаты. То и дело входили и выходили какие-то люди, а я все думал о том, что ожидает меня, ведь я не сумел уберечь самого дорогостоящего человека на земле.
Лекарь явился час спустя, его привезли из города. Он прогнал всех, кроме меня – хотел, чтобы я описал ему симптомы болезни. Не помню, что я говорил, у меня все плыло перед глазами. Голос лекаря доносился будто издалека.
– Похоже на отравление. Медленно действующий яд. Кто-то пошел на большие расходы: этот яд чрезвычайно редок, его привозят из Восточной Азии. Поэтому стоит неслыханных денег! – Лекарь явно хвастался своей осведомленностью.
– Что касается денег, ваша милость, – сказал я, – не печальтесь! Есть охотники их уплатить!
Так мы стояли и беседовали – незнакомые друг другу свидетели тайного преступления. Лекарь умолял не называть его имени, боялся неведомого отравителя. «Особа, вероятно, важная», – все повторял он. Я обещал молчать, а сам думал о том, что всего лучше будет если не прикончить его, то посадить под замок, потому что король, наверно, пожелает сохранить в тайне болезнь Джема. Вернее, смерть. Она была бы крайне несвоевременной для французов.
Я велел лекарю подождать, покуда схожу за деньгами, чтобы заплатить ему. Вышел из комнаты, позвал стражу. Но лекарь уже испарился как дым. Очевидно, был знаком с крепостью лучше, чем я. «Час от часу не легче! – подумал я. – Завтра меня непременно спросят, куда делся лекарь».
Я провел ту ночь наедине с султаном Джемом. Не только страх испытывал я, но и облегчение: наконец-то он уйдет из моей жизни, избавит мир от крупных ставок, великих треволнений, алчности и раскаяния, коим имя было – султан Джем. Король тотчас возвратится во Францию, потому что больше ему нечем подкупать и устрашать своих врагов. А я, Антуан, вернусь в свою Бретань, где меня, наверно, забыли за эти шесть лет. Зачем, кому было нужно все это – ложь, обманы, подкупы, соперничество? Кто, в сущности, выиграл в деле Джема и кто проиграл?
Смею вас уверить – никто. Баязид-хан остался султаном, как остался бы, и не входя в эти безумные траты; в войне с ним Каитбай потерял столько же земель, сколько он потерял бы, и не помогая Джему; турки завоевали на Балканах и в Венгрии ровно столько земель, сколько завоевали бы, если бы их и не пугали султаном Джемом; моему королю пришлось вернуться во Францию, расставшись со своими честолюбивыми надеждами, вернуться к тому, с чего он начал. Борджиа и Д'Обюссон? Да они потратили на подкупы дворян, епископов и кардиналов, роздали осведомителям и стражникам ничуть не меньше, чем получили от Баязида в уплату за то, что держали Джема в заточении.
«Кому нужна суетность наша, господи! – размышлял я. – Если бы не она, жил бы я сейчас дома, в Бретани, были бы у меня уже большие дети и свой путь в жизни… Зачем терзаем мы других, если сами не становимся от этого счастливее?…»
Джем не умер ни в Вальмонтоне, ни в Кастел Фиорентино, ни даже в Вероли. Правда, теперь его уже везли на подводе, засунуть в карету было нельзя, потому что тело не сгибалось. День ото дня он все больше деревенел. Мне не удавалось просунуть между его стиснутыми челюстями ложечку с противоядием, влить хоть каплю воды. За четыре дня турок истаял так, что мне казалось, будто с него стекает не пот, а жир. Кожа – серовато-желтая под лихорадочным румянцем – собралась глубокими складками. Джем выглядел по меньшей мере пятидесятилетним. Говорят, ему было тридцать пять лет.
По ночам я бодрствовал возле него (король окружил его болезнь глубокой тайной и не разрешал, чтобы его стерег кто-нибудь другой) с тяжелой головой, со слезящимися, жаждущими хоть часа сна глазами. Все чаще приходили мне на память слова, месяц назад показавшиеся мне чудовищными: «Пусть брат мой будет избавлен от такого существования, переселится в лучший, более справедливый мир!» «Да, – повторял я про себя. – И пусть это произойдет как можно скорее».
Джем скончался в Неаполе – крайней точке наших итальянских побед, – во дворце, за день до того покинутом Альфонсо, сыном Феррана. То была горькая победа, Карл VIII знал, что она ничего не принесет ему: на севере сгущались тучи, с минуты на минуту ожидалось, что немцы нападут на Францию и принудят ее отказаться от столь легко доставшихся ей завоеваний. Мой король приказал короновать себя и королем Неаполитанским, но Александр VI отказал ему в благословении – папа надеялся на какие-то весьма близкие события.
Быть может, один лишь я знал, на. что он надеялся: на смерть Джема. Она наступила вечером 25 февраля, когда на улицах Неаполя промокшие толпы приветствовали своего нового повелителя, а тот пребывал в сквернейшем настроении – самое большее спустя неделю нам предстояло убраться из Неаполя, если мы не хотели, чтобы нам отрезали путь назад.
Джем испустил дух так неслышно, что я и не заметил. Я стоял у окна, глядя на фейерверки, слушая музыку. Внизу, в дворцовых садах, рассыпались искрами разноцветные огоньки. Они взлетали причудливыми шарами, линиями, зигзагами и печально таяли в зимнем небе.
«Вот это и есть вся наша жизнь, – содрогаясь, подумал я. – Фейерверк, плебейская музыка; празднество, за которым, ты знаешь, последует отрезвление; страдания, которые, ты знаешь, несоразмерны с наградами».
Я зажег свечи. Со светильником в руке подошел к Джему. Жар спал, лицо казалось совсем серым. Старое, ко всему равнодушное лицо. Хотя, быть может, не совсем равнодушное: смерть придала ему больше выразительности, чем жизнь в последние годы. Какая-то мягкая усталость и горечь залегли в складках рта, и кроме усталости – тихое облегчение.
«Пусть брат мой будет избавлен от такого существования…» – вспомнил я, прикрывая его остывшие веки.
На следующее утро король приказал тайно положить султана Джема в гроб и обшить гроб свинцом. Мы все еще хранили его смерть в тайне – залог того, что о ней знают все, кому знать надлежит. Под вечер – лил ужасный дождь, и город казался мертвым – мы погрузили гроб на подводу и перевезли в замок Гаэте. Поместили там в подвале. Мы не знали, каков похоронный обряд у мусульман, не решались опустить неверного в нашу священную землю, но и не хотели тащить его за собой – король был суеверен, а присутствие мертвеца в его войске не могло сойти за счастливое предзнаменование.
Оставив Джема в замке, мы удалились. Я – последним, чтобы запереть его на ключ. Мне почему-то было страшно бросить его просто так на произвол судьбы, как ненужную вещь.
Два раза повернул я ключ в двери подвала и бегом бросился догонять своих товарищей. Думаю, вы понимаете мое состояние.
Рыцари шли в ногу, как ходят все солдаты на земле. Не молчали и не разговаривали – просто уходили прочь. Я тоже пошел с ними в ногу – вернулся в строй. Я не был уже ни тюремщиком, ни сиделкой.
Все последние месяцы я ожидал, что в этот час произойдет нечто страшное: огненный дождь, землетрясение, потоп – словом, какое-то знамение. Но ничем, абсолютно ничем не было отмечено, что перевернута большая страница мировой истории.
Показания Аяс-бега о событиях с января по май 1499 года
Эти показания каждому покажутся излишними, ведь смерть – всему завершение, а Джем умер. Но аллах, словно не насытившись злосчастиями моего господина, пожелал, чтобы они продолжались и после его кончины. Еще четыре года не могло обрести покоя тело Джема. Скитания Джема продолжались.
Быть может, нет нужды сообщать вам, кто известил султана Баязида о счастливом для него событии. Венеция, конечно. Венецианцы, наверно, были сильно напуганы – мы ведь, можно сказать, стояли у их стен, и, чтобы выслужиться перед Баязид-ханом, показать, что кое-какие мелкие недоразумения между нами – чистая случайность, а дружеские чувства непреходящи, Венеция отправила в Стамбул быстроходный корабль. Он принес нам известие не только о главном событии, но и о более мелких – например, о зреющем на Балканах восстании, сообщил имена христианских священнослужителей, уличенных в связях с Францией.
Баязид не был бы Баязидом, если бы сразу поверил в известие. Он выразил свои сомнения и продолжал их выражать на протяжении еще трех месяцев. До тех пор пока Карл VIII не убрался восвояси и не поставил крест на своих притязаниях в Италии, показав тем самым, что Джем уже вышел из игры.
– Велик аллах! – произнес тогда Баязид-хан и отбил двадцать поклонов во все стороны света. – Мы не смели поверить в столь благоприятное стечение обстоятельств.
Он приказал облачить его в черные одежды, три дня ходил в трауре, а вслед за тем принял своих визирей, поздравивших его с великой радостью. Лишь в 1495 году, спустя четырнадцать лет после восшествия на престол. Баязид почувствовал себя султаном. А через одиннадцать лет, в 1506 году, он был свергнут и убит своим сыном, Селимом Страшным, – вы, должно быть, знаете об этом. Пожелал ли и Селим, чтобы его отец «был избавлен от такого существования и переселился в лучший, более справедливый мир»? Неизвестно.
Вы спросите, как сложилась моя судьба после безрезультатной поездки во Францию по приказанию Ордена. Меня снова водворили на Родос и снова поместили в темницу к тем из наших, кто еще оставался в живых. А после смерти Джема все мы были переданы Д'Обюссоном Баязиду. Баязид-хан любил кичиться своим благочестием и великодушием. Он заплатил хорошую цену, чтобы вернуть себе тех, кто преданно служил его брату. Роздал им чины, дома, деньги. Так вернулся на родину и я, пятидесяти четырех лет от роду – из коих четырнадцать провел в темницах Родоса.
Узнав о смерти брата, Баязид-хан поклялся совершить и второе благочестивое дело – со всеми почестями предать Джема земле, на родовом кладбище Османов. Лучше бы он сохранил этот обет в секрете. Чтобы не набивать цену телу усопшего.
Пять тысяч дукатов запросил король Неаполитанский, которому тело Джема досталось в наследство от французов. Но пришел Баязиду черед посмеяться, и поскольку он смеялся последним, то сделал это весьма громко. Султан отказался платить за останки Джема. Однако передача их Турции, заявил он, помогла бы укреплению дружбы между Венецией и Турцией. Другими словами: поступайте как знаете, дело ваше.
Но Запад так привык к подаркам в связи с Джемом, что не поверил своим ушам и решил задержать тело до тех пор, пока оно не поднимется в цене. Кроме того, эти пять тысяч были каплей в море по сравнению с тем, что бывшие хозяева Джема должны были получить в вознаграждение за его убийство. Триста тысяч – сам Баязид предложил столько. И Александр Борджиа потребовал их в соответствии с договоренностью.
Баязид не ответил на его письмо. Борджиа направил второе, третье и, если не ошибаюсь, даже четвертое. С тем же результатом. Баязид-хан считал себя вправе не заплатить Западу за эту последнюю услугу, находя, что предыдущие были оплачены слишком щедро. Как говорится, баш на баш.
Если хотите в конце расследования по делу Джема испытать чувство удовлетворения, постарайтесь пред. ставить себе папу Александра VI в тот миг, когда он осознал безмолвный отказ Баязида. Прекрасно, не правда ли? Самому прирезать курочку, несущую золотые яички, в надежде, что, умирая, она снесет еще одно, последнее, уже не золотое, а бриллиантовое, и вдруг курочка не приносит ничего, ровным счетом ничего! Остается печальное утешение: сбыть ее кому-нибудь на обед по цене обычной домашней птицы. Вот это и пытались сейчас сделать папа и король Неаполитанский, они просили у Баязида столько, сколько любой более или менее состоятельный человек заплатил бы за тело родного брата. Если не пять тысяч, то хоть три. Ладно! Пусть даже одну тысячу.
«Нет!» – отвечал Баязид-хан, если вообще снисходил до ответа.
Я не любил Баязида, поэтому не подозревайте меня в пристрастности, если я заявлю: Баязид поступал так не из скупости. Тысяча дукатов – ничто по сравнению с той горой золота, в которую ему обошелся Джем. Поведение Баязид-хана после смерти Джема выглядит необъяснимым.
Было бы легко объяснить его теми трудностями, которые возникли у султана вследствие кончины Джема. В самом деле, противники султана в Турции (их все еще было немало, и число их не сокращалось, благодаря чему и удался впоследствии бунт Селима Страшного) утверждали, что султан навлек на себя позор тем, что вел переговоры с гяурами и их главарем – папой. Они обвиняли Баязид-хана в том, что он унизил честь дома Османов, предоставив неверным улаживать турецкие дела посредством убийства Джема. И Баязид-хан был принужден отстаивать эту честь.
Но это одна сторона дела. Справедливости ради должен сказать, что перечисленные неприятности не были для султана неодолимыми, ропщущие были всегда и везде, и власти сообразуются с ними в единственном случае: когда сами ощущают свою слабость. В годы 1495–1499 Баязид-хан уже не был слабым. Не здесь следует нам искать причины тогдашних его поступков.
Предолго дрожал Баязид при мысли о победе Джема, предолго его шантажировали и пугали Джемом. И как бывает, когда вырвут зуб, который неделю не давал тебе есть и спать, а ты все продолжаешь чувствовать его, он по-прежнему ноет и не дает покоя, так и Баязид не мог привыкнуть к мысли, что угроза, тяготевшая над ним, исчезла. Как ни странно, ему недоставало Джема.
Вероятно, к этому прибавились еще и угрызения совести, чувство вины. А также жажда мести – ведь христиане действительно мучили турка, сына Османов, а потом и лишили жизни. Прибавлялась, быть может – хотя я не уверен в этом, – и тоска по единственному, теперь уже мертвому брату. Что ни говорите – брат… В тот день, когда Баязид узнал, что власть его упрочена, в тот самый день он остался один. Что пи говорите – совсем один…
По указанным причинам – назовем их внешней и внутренней – Баязид объявил миру следующее: «Я платил вымогателям, чтобы они заботились о моем брате, но у меня нет ничего общего с его убийцами. Более того, я покараю их!» После 1495 года, во всех последующих переговорах по делу Джема, Баязид-хан прибегал к тону резкому, даже повелевающему.
Так прошли годы вплоть до 1499-го – завершался пятнадцатый век.
Словно в его ознаменование, Баязид-хан в первые же дни возвестил о небывалом в истории событии: объявил Неаполю войну за тело Джема. Скажите, видано ли, чтобы два государства воевали ради тленных (вернее, истлевших) останков?
Мир замер от изумления – дело казалось невероятным. Но первые каравеллы Баязид-хана уже вышли из проливов и направились к Неаполю.
«Боже правый! – дивился мир. – Как может султан начать войну за тело брата, убитого по его же воле!» А-а, не ищите в истории слишком много здравого смысла, ведь историю тоже делают люди. Вот, извольте: Баязид-хан, человек, сотканный из расчетливости, страха и коварства, повел войну, продиктованную чувствами, да еще какими красивыми чувствами. Тут мне хочется дать вам один совет – позволяю себе, это потому, что много пережил и много повидал на своем веку: объясняя историю, оставляйте небольшую, но существенную ее часть необъясненной. Да она и необъяснима, примиритесь с этим.
Поскольку я присутствовал при последнем акте дела Джема, могу вас уверить, что было в нем нечто безумное. Наши тяжеловооруженные, могучие триремы, плотно набитые воинами, неожиданно свернули паруса. С мачты уже был виден Неаполь, а мы остановились – потому что навстречу нам шли не боевые корабли, а три маленькие роскошные биремы, все в резьбе и позолоте, с цветными парусами и пестрыми флагами. «Так, – подумалось мне, – какой-нибудь король, наверно, провожает свою дочь, предназначенную в жены другому королю». Это тоже было нелепо, как и все связанное с султаном Джемом, – наш враг торжественно, даже празднично передавал нам мертвое тело.
На меня было возложено принять его – мы думали, что это произойдет после обстрела Неаполя или даже чего посерьезнее. А потребовалось лишь вступить в переговоры.
Неаполитанцы проявили учтивость и твердость: в выражение своей горячей дружбы к Турции они сами доставят тело в наш порт.
«Вы уже выразили ее!» – ответил я. Меня не оставляло опасение, что они и на этот раз проведут нас. «Нет, мы бы не хотели излишне перегружать вас». Они просто таяли от любезности.
Таким образом, дабы не перегружать свинцовым гробом какую-либо из наших трирем (для которой не были тяжестью двенадцать чугунных пушек, ящики с ядрами, восемьдесят душ гребцов и две сотни воинов), мы повели прогулочные неаполитанские корабли в Валлону, на Адриатике.
Мы шли вдоль берегов Италии. Здесь восемнадцать лет назад плыл султан Джем по пути в Ниццу, и вместе с ним я. Помню, как восторгался мой повелитель этими берегами – мне тоже они казались тогда неповторимыми. Куда девалась их красота? «Да, красоты самой по себе не существует, – размышлял я. – Пока нет человека, который радуется ей, живет ею, красота мертва…» Не было больше на свете поэта Джема, а мы все – мореходы, солдаты, государственные мужи, – мы могли обходиться и без красоты.
Вечерами я перелистывал его бумаги – Неаполь передал нам все имущество Джема (довольно потрепанная одежда, одичавшая от заточения обезьянка, попугай, одна чаша и очень много бумаг). Временами мой взгляд задерживался на каком-нибудь стихе – их переписывал Саади, да будет земля ему пухом! «Оставьте Баязиду корону – мне принадлежит весь мир!» – прочел я. Помечено 1482 годом. «Джем, повелитель мой, – думал я, – повторил бы ты эти слова к концу своего изгнания?»
Мы приближались к Валлоне, когда нам преградили путь.
Не один корабль и не два – их было более двадцати: венецианские, ватиканские, французские. Зачем, спрашиваете вы? Еще одно из необъяснимых явлений в человеческой истории. Быть может, Европа так долго видела в Джеме залог своего благополучия, талисман против турецкой угрозы, что боялась расстаться с его телом? Я говорю вам саму истину: никто из властителей, приплывших сюда на своих кораблях, не сумел дать нам вразумительного ответа. Им ничего не было нужно от нас, они не требовали платы, не жаждали боя. Они говорили только: «Подождите!» – «Почему? Зачем?» – «Неужели Джем покидает нас навсегда?»
Верьте или не верьте – этот маленький корабельный городок три месяца качался на волнах в ничьих водах. Откуда проистекала наша странная, какая бывает во сне, нерешительность, чувство, что каждый из нас что-то кому-то должен, что он бежит, как вор, за которым гонятся, или суетится, как ограбленный лавочник?
Утром на шестидесяти судах просыпались около тысячи человек. И брались за свои повседневные дела – одни плыли на лодках за водой и пищей, другие стерегли каравеллы. Третьи ничего не делали. Казалось, неведомый морской дух держал нас в плену, пока не получит выкупа.
У христиан, я слышал, есть обычай – минуту помолчать над дорогим покойником. Так вот, мы хранили молчание целых три месяца, это и были похороны султана Джема. Он заслужил их. Умер не человек, а нечто неизмеримо большее: умерла легенда.
Как-то утром к нашему призрачному городку подплыла лодка. Ее прислал правитель Валлоны. Лодка привезла письмо от Баязид-хана: тот грозил снять голову всякому, кто осмелится и далее задерживать Джема!
Этот ветер надул наши паруса. И все остальные шестьдесят кораблей, груженных раскаянием и чувством вины, в один день преодолели расстояние, отделявшее нас от Валлоны. Там нас ждали. Власти отдали султанские почести простому цинковому гробу; правоверные и райя[23] стеклись со всех концов, чтобы присутствовать при этой церемонии.
На следующий день мы двинулись по дороге на Стамбул. Снова среди нас были франки из разных стран – они провожали султана Джема в его столицу. Кто звал их? Что побуждало неграмотных крестьян, христианских священников, обнищавших воинов толпиться вдоль всего нашего пути?
Если бы Саади был жив, он объяснил бы так: Джем был легендой, а легенды обладают огромной притягательной силой! Я истолковывал это иначе, потому что из всех Джемовых страданий изведал самое тяжкое – изгнание. Тысячи людей, тысячи устремлений способствовали тому, чтобы один небольшой его шаг обернулся безвозвратной разлукой с родной землей. Это принесло огромную выгоду одной части мира, она была представлена теперь, при последнем путешествии Джема, сотнями франков. Они словно благодарили султана Джема за то, что он избавил от гибели их удобный, по-новому устроенный мир. Рядом с франками должны были бы по праву шагать правители Баязидовой империи: страдания Джема привели к заключению первого подлинного обоюдовыгодного союза между Турцией и Европой.
Вы спросите, что влекло к гробу Джема простой народ. Трудно сказать… Народ как целое испытывает обыкновенно те чувства, которых не может выразить отдельный человек. Этих людей, сдается мне, влек другой союз, очень древний и прочный, союз между всеми гонимыми в человеческой истории. По их суждению, Джем познал высшую муку – изгнание. Они шли поклониться этой муке. Чтобы своим присутствием успокоить дух Джема, уверить его, что он действительно вернулся к своим.
Несмотря на то что по воле Мехмед-хана прах Османов, начиная с него самого, должен покоиться в Стамбуле, мы похоронили Джема в Бруссе. От Валлоны до Бруссы – через всю империю, которой он мечтал править, – проехал султан Джем; в Бруссе, где он правил восемнадцать весенних дней, и покоится его тело. Рядом с могилой шехзаде Хасана, брата Мехмед-хана, задушенного по его повелению, дабы не было в государстве раздоров, находится и могила Джема – любимого сына султана Мехмеда. Создавая закон, человек не ведает, кому он нанесет удар.
«Султан Джем, сын Мехмеда Завоевателя» – мерещится мне, что изображенная здесь тугра перерисована с того листа, который Джем подписал незаполненным и куда брат Д'Обюссон вписал приговор о его изгнании. Так что тело Джема придавлено не только мраморной плитой, но и рукой великого магистра.
Очень часто на этой мраморной плите можно увидеть дары – чаще даже, чем на могиле хана Османа. При жизни Джем повсюду был чужеземцем: сербом или неверным – у нас, сарацином или мавром – у христиан. Но после смерти почему-то принадлежит всем. Вероятно потому, что не придумать ничего более общего для всех людей, чем страдание.