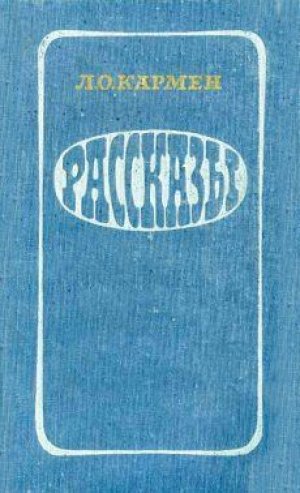
***
Клоун Икс, старый знакомый мой, покидал завтра наш город, и мы коротали последний вечер.
Номер, занимаемый им в лучшем отеле, был теплый, уютный, как каюта изнеженного лейтенанта на военном судне. На столе позванивал чистенький никелированный самовар, поблескивая сквозь решетку внизу рубинами угольков.
Нас было трое – я, он и жена его.
Мы много беседовали. Больше говорил он, и я охотно давал ему говорить, так как слушать этого человека, исколесившего Россию вдоль и поперек чуть не сто раз, забиравшегося к остякам и самоедам, много пережившего и перестрадавшего, было истое наслаждение.
– Тсс! – произнес он вдруг и прислушался.
Мы замолчали.
Теперь, когда в комнате сделалось тихо, мы услышали дикое завывание и шипение за окном.
– Неужели пурга? – спросил он и подошел к окну. – Так и есть!..
Я также подошел и взглянул через слегка заиндевелое стекло на улицу. Ветер кружил снег с невероятной силой, рвал вывески…
Клоун покачал головой и задумчиво проговорил:
– Помню, в такую погоду, тоже вечером, лет двадцать назад, я ехал степью на санях в Казань… Любопытная история была…
– Расскажите, пожалуйста.
– Можно… Помнишь, Анюта? – обратился он к жене, разливавшей чай.
– Еще бы!
Клоун развалился в качалке и стал рассказывать своим своеобразным языком, сильно морща лоб, припоминая давно забытое и тихо покачиваясь.
– История эта вот какая. Ехал я, как давеча докладывал вашему превосходительству, пардон, высокопревосходительству, в Казань на санях всей своей колонией. Впереди на мужицких санях – клетки со свиньями, козлом, крысами и прочими тому подобными артистами.
Впереди, значит, они, а позади мы с Анютой.
Перед тем как двинуться, я дал ямщикам пятерку на чай, чтобы гнали шибче. Нам, видите ли, надо было поспеть к сроку. Я был приглашен к Никитину. Слышали? Цирк есть такой! Ну-с!.. Дзинь, дзинь, дзинь. Едем.
Проехали этак верст десять и умаялись. Захотелось согреться, отдохнуть и подзакусить.
Как раз случись деревенька – маленькая такая, забытая. Из снега, как крест почернелый, торчит обгорелая полешка.
Мы – туда и прямо в первую избу.
Ну, и хоромы же, доложу вам.
Потолок валится, печь валится, стена валится – все вкривь, вкось! Духота, вонь!
Трешницу за яиц и цыпленка предлагаю.
«Уж не прогневайся, сокол, – говорит хозяин, больной и обшарпанный мужичонка, похожий больше на индуса из Бомбея или Калькутты… – Он слез с печи. – Не то что цыплят у нас в заводе нет, но и собак. Да и какая тварь тут держаться будет, коли ни кола у нас, ни двора. Кору и лебеду трескаем».
Я подивился этой нищете и думаю: «Неужели это наяву, а не во сне?»
Протер глаза. Нет, наяву! Так вот она, наша деревня!
Обратил я потом свое просвещенное внимание на бабу.
Сидит она в углу, сердечная, как воск желтая, накрывшись порванной косынкой, вся скрючившись, точно сама нужда оседлала ее, толкает зыбку, подвешенную к потолку, и тихо-тихо напевает, как у Островского, в «Сне воеводы»: «Спи, усни, хрестьянский сын!..»
Голос у нее глухой, с надрывом.
Поет – и нуль внимания на нас, как будто никого в комнате. А за стеной гудит, рвет и мечет, и изба ходит. «Ходит изба, ходит печь!..»
Подхожу к бабе и спрашиваю:
«Твой ребенок?»
Поднимает лицо, вскидывает мутные глаза и кивает головой.
«Мальчик?»
«Мальчик», – отвечает чуть слышно.
Тяжело ей, видно, говорить.
«А как звать?»
«Пронькой».
Я запахнул шубу и нагнулся к зыбке. И предо мной, как в вогнутой раме, на куче тряпья предстал уродец с большим острым животом на тоненьких, как спички, ножках, с зеленым квадратным лицом и темными, широко открытыми, немигающими глазами. Не глаза, а два придорожных оврага.
Уродец сосал что-то черное.
Я потянулся к этому черному и вижу – тряпка, простой обрывок не то войлока, не то нижней юбки.
Недурное питание! Как вы находите?!
Я снова глянул на лежащего предо мной «хрестьянского сына», на этого Проньку, и подумал, что оставить его здесь так, в этом холодиле, среди этого ужаса и нищеты, нельзя. Было бы страшным преступлением.
В город его, в город!
Окружить попечением, уходом и поставить его на ноги!
Желание вырвать хотя бы одного из сотен тысяч таких, как он, Пронек, гибнущих в глухой степи под свист и похоронный напев вьюги, дать ему соки, жизнь захватило меня всего, и я обратился почти с мольбой к бабе:
«Слушай, как тебя!..»
«Агафья».
«Вот что, Агафьюшка! Отдай-ка мне твоего Проньку. Человек я не злой и худа тебе не желаю. Я увезу его в город, в Казань, и, как за родным, смотреть буду, поить, кормить! Захочешь потом повидать его, напиши. Вышлю на дорогу туда и назад деньги. Живи у меня, сколько хочешь. Если здесь оставить его, помрет ведь. Ты как?!»
«Я как?! Да я в ноги тебе поклонюсь! – просияла баба. И откуда в ней голос взялся? – Хоша ты и барин, а душа у тебя, вижу, простая. Верно говоришь, помрет здесь. Возьми его. Богу молить за тебя будем».
«Я тебе еще десять рублей оставлю».
Несчастная в ноги. То же и муж.
Оставил я, значит, им денег, адрес – и гайда!..
Опять мы на санях…
Дзинь, дзинь, дзинь! Шире дорогу! Проньку везем!
Завернули мы его хорошенько в два одеяла и в рот бублик маковый сунули.
«Ну, как себя, сын хрестьянский, чувствуешь?» – спрашиваю его.
A он в ответ – чмок-чмок, y-y, му-у! Знай только бублик посасывает.
– Смешно было! – вставила, выглянув из-за самовара, Анна Игнатьевна и улыбнулась.
– «Эх, – говорю я, – Анюта! Дал бы бог довезти его живым до Казани. А там живо на ноги поставим».
Дзинь, дзинь, дзинь!..
Лесок…
Еще один лесок…
Овраг…
Другой, третий.
А вот и Казань!
Тпруу! Приехали…
Залезаем в номер. Днем это было.
Перво-наперво кладу я своего Проньку на кушетку и номерного в шею.
«Доктора мне. Да что одного! Валяй двоих, троих!»
Явились.
Показываю им Проньку и говорю:
«Нельзя ли этого индивидуума поставить на ноги?»
Посмотрели они на него внимательно, ощупали со всех сторон и спрашивают:
«Простите. Это сын ваш?»
«Нет!» – И рассказываю им всю историю.
Один, лысый такой, в золотых очках, профессор, надавил ему большим пальцем живот и говорит:
«Ну, чем не барабан! Это он у него, должно быть, от коры вздулся».
«Да-с, – говорит другой. – Расеюшка…»
А третий:
«Продемонстрировать бы его в Германии… То-то бы удивились…»
«Так как же, – спрашиваю, – можно как-нибудь его того? Очень хотелось бы, чтобы он жил».
Пожимают плечами.
«А вы попробуйте, – сказал один, – молока давать ему и бульону…»
Я послушался.
В цирк не хожу, контракт нарушил. Все с Пронькой своим вожусь.
Пичкаю его молоком, бульонами, окружаю игрушками.
Запятайка моя – у меня дворняжка была ученая, математик, умножения и вычисления почище гимназиста делала, – ревновать даже стала к нему. Лает на него, рычит…
Пронька ел, пил, впрочем, всего понемножку, вяло. Да и пользы на грош.
Он оставался все тем же зеленым, скучным и смотрел на меня равнодушно своими большими, темными, немигающими глазами.
Раз только удалось мне вызвать на лице его улыбку, когда петухом над ним заорал и захлопал руками.
Родное услышал.
Три дня возился я с ним.
На четвертый он повернулся ко мне боком, как бы махнул на меня, затейника-барина, рукой: «Не с того, дескать, конца начал», и уснул с оловянным петушком в руке на веки вечные…
– Ну и ревел же я над ним! Как дура какая! – закончил он…
Самовар допевал на столе свою песенку.
За окном металась вьюга…
Клоун Икс, старый знакомый мой, покидал завтра наш город, и мы коротали последний вечер.
Номер, занимаемый им в лучшем отеле, был теплый, уютный, как каюта изнеженного лейтенанта на военном судне. На столе позванивал чистенький никелированный самовар, поблескивая сквозь решетку внизу рубинами угольков.
Нас было трое – я, он и жена его.
Мы много беседовали. Больше говорил он, и я охотно давал ему говорить, так как слушать этого человека, исколесившего Россию вдоль и поперек чуть не сто раз, забиравшегося к остякам и самоедам, много пережившего и перестрадавшего, было истое наслаждение.
– Тсс! – произнес он вдруг и прислушался.
Мы замолчали.
Теперь, когда в комнате сделалось тихо, мы услышали дикое завывание и шипение за окном.
– Неужели пурга? – спросил он и подошел к окну. – Так и есть!..
Я также подошел и взглянул через слегка заиндевелое стекло на улицу. Ветер кружил снег с невероятной силой, рвал вывески…
Клоун покачал головой и задумчиво проговорил:
– Помню, в такую погоду, тоже вечером, лет двадцать назад, я ехал степью на санях в Казань… Любопытная история была…
– Расскажите, пожалуйста.
– Можно… Помнишь, Анюта? – обратился он к жене, разливавшей чай.
– Еще бы!
Клоун развалился в качалке и стал рассказывать своим своеобразным языком, сильно морща лоб, припоминая давно забытое и тихо покачиваясь.
– История эта вот какая. Ехал я, как давеча докладывал вашему превосходительству, пардон, высокопревосходительству, в Казань на санях всей своей колонией. Впереди на мужицких санях – клетки со свиньями, козлом, крысами и прочими тому подобными артистами.
Впереди, значит, они, а позади мы с Анютой.
Перед тем как двинуться, я дал ямщикам пятерку на чай, чтобы гнали шибче. Нам, видите ли, надо было поспеть к сроку. Я был приглашен к Никитину. Слышали? Цирк есть такой! Ну-с!.. Дзинь, дзинь, дзинь. Едем.
Проехали этак верст десять и умаялись. Захотелось согреться, отдохнуть и подзакусить.
Как раз случись деревенька – маленькая такая, забытая. Из снега, как крест почернелый, торчит обгорелая полешка.
Мы – туда и прямо в первую избу.
Ну, и хоромы же, доложу вам.
Потолок валится, печь валится, стена валится – все вкривь, вкось! Духота, вонь!
Трешницу за яиц и цыпленка предлагаю.
«Уж не прогневайся, сокол, – говорит хозяин, больной и обшарпанный мужичонка, похожий больше на индуса из Бомбея или Калькутты… – Он слез с печи. – Не то что цыплят у нас в заводе нет, но и собак. Да и какая тварь тут держаться будет, коли ни кола у нас, ни двора. Кору и лебеду трескаем».
Я подивился этой нищете и думаю: «Неужели это наяву, а не во сне?»
Протер глаза. Нет, наяву! Так вот она, наша деревня!
Обратил я потом свое просвещенное внимание на бабу.
Сидит она в углу, сердечная, как воск желтая, накрывшись порванной косынкой, вся скрючившись, точно сама нужда оседлала ее, толкает зыбку, подвешенную к потолку, и тихо-тихо напевает, как у Островского, в «Сне воеводы»: «Спи, усни, хрестьянский сын!..»
Голос у нее глухой, с надрывом.
Поет – и нуль внимания на нас, как будто никого в комнате. А за стеной гудит, рвет и мечет, и изба ходит. «Ходит изба, ходит печь!..»
Подхожу к бабе и спрашиваю:
«Твой ребенок?»
Поднимает лицо, вскидывает мутные глаза и кивает головой.
«Мальчик?»
«Мальчик», – отвечает чуть слышно.
Тяжело ей, видно, говорить.
«А как звать?»
«Пронькой».
Я запахнул шубу и нагнулся к зыбке. И предо мной, как в вогнутой раме, на куче тряпья предстал уродец с большим острым животом на тоненьких, как спички, ножках, с зеленым квадратным лицом и темными, широко открытыми, немигающими глазами. Не глаза, а два придорожных оврага.
Уродец сосал что-то черное.
Я потянулся к этому черному и вижу – тряпка, простой обрывок не то войлока, не то нижней юбки.
Недурное питание! Как вы находите?!
Я снова глянул на лежащего предо мной «хрестьянского сына», на этого Проньку, и подумал, что оставить его здесь так, в этом холодиле, среди этого ужаса и нищеты, нельзя. Было бы страшным преступлением.
В город его, в город!
Окружить попечением, уходом и поставить его на ноги!
Желание вырвать хотя бы одного из сотен тысяч таких, как он, Пронек, гибнущих в глухой степи под свист и похоронный напев вьюги, дать ему соки, жизнь захватило меня всего, и я обратился почти с мольбой к бабе:
«Слушай, как тебя!..»
«Агафья».
«Вот что, Агафьюшка! Отдай-ка мне твоего Проньку. Человек я не злой и худа тебе не желаю. Я увезу его в город, в Казань, и, как за родным, смотреть буду, поить, кормить! Захочешь потом повидать его, напиши. Вышлю на дорогу туда и назад деньги. Живи у меня, сколько хочешь. Если здесь оставить его, помрет ведь. Ты как?!»
«Я как?! Да я в ноги тебе поклонюсь! – просияла баба. И откуда в ней голос взялся? – Хоша ты и барин, а душа у тебя, вижу, простая. Верно говоришь, помрет здесь. Возьми его. Богу молить за тебя будем».
«Я тебе еще десять рублей оставлю».
Несчастная в ноги. То же и муж.
Оставил я, значит, им денег, адрес – и гайда!..
Опять мы на санях…
Дзинь, дзинь, дзинь! Шире дорогу! Проньку везем!
Завернули мы его хорошенько в два одеяла и в рот бублик маковый сунули.
«Ну, как себя, сын хрестьянский, чувствуешь?» – спрашиваю его.
A он в ответ – чмок-чмок, y-y, му-у! Знай только бублик посасывает.
– Смешно было! – вставила, выглянув из-за самовара, Анна Игнатьевна и улыбнулась.
– «Эх, – говорю я, – Анюта! Дал бы бог довезти его живым до Казани. А там живо на ноги поставим».
Дзинь, дзинь, дзинь!..
Лесок…
Еще один лесок…
Овраг…
Другой, третий.
А вот и Казань!
Тпруу! Приехали…
Залезаем в номер. Днем это было.
Перво-наперво кладу я своего Проньку на кушетку и номерного в шею.
«Доктора мне. Да что одного! Валяй двоих, троих!»
Явились.
Показываю им Проньку и говорю:
«Нельзя ли этого индивидуума поставить на ноги?»
Посмотрели они на него внимательно, ощупали со всех сторон и спрашивают:
«Простите. Это сын ваш?»
«Нет!» – И рассказываю им всю историю.
Один, лысый такой, в золотых очках, профессор, надавил ему большим пальцем живот и говорит:
«Ну, чем не барабан! Это он у него, должно быть, от коры вздулся».
«Да-с, – говорит другой. – Расеюшка…»
А третий:
«Продемонстрировать бы его в Германии… То-то бы удивились…»
«Так как же, – спрашиваю, – можно как-нибудь его того? Очень хотелось бы, чтобы он жил».
Пожимают плечами.
«А вы попробуйте, – сказал один, – молока давать ему и бульону…»
Я послушался.
В цирк не хожу, контракт нарушил. Все с Пронькой своим вожусь.
Пичкаю его молоком, бульонами, окружаю игрушками.
Запятайка моя – у меня дворняжка была ученая, математик, умножения и вычисления почище гимназиста делала, – ревновать даже стала к нему. Лает на него, рычит…
Пронька ел, пил, впрочем, всего понемножку, вяло. Да и пользы на грош.
Он оставался все тем же зеленым, скучным и смотрел на меня равнодушно своими большими, темными, немигающими глазами.
Раз только удалось мне вызвать на лице его улыбку, когда петухом над ним заорал и захлопал руками.
Родное услышал.
Три дня возился я с ним.
На четвертый он повернулся ко мне боком, как бы махнул на меня, затейника-барина, рукой: «Не с того, дескать, конца начал», и уснул с оловянным петушком в руке на веки вечные…
– Ну и ревел же я над ним! Как дура какая! – закончил он…
Самовар допевал на столе свою песенку.
За окном металась вьюга…
Клоун Икс, старый знакомый мой, покидал завтра наш город, и мы коротали последний вечер.
Номер, занимаемый им в лучшем отеле, был теплый, уютный, как каюта изнеженного лейтенанта на военном судне. На столе позванивал чистенький никелированный самовар, поблескивая сквозь решетку внизу рубинами угольков.