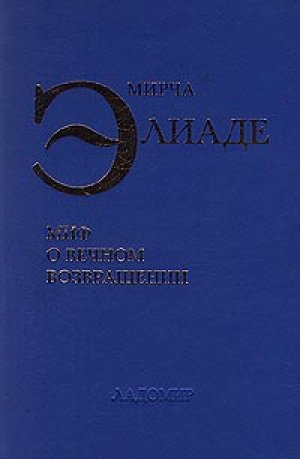
ПРЕДИСЛОВИЕ
Если бы не боязнь быть уличенным в излишке честолюбия, мы бы дали этой книге подзаголовок: "Введение и философию истории". Ибо, в сущности, подлинный смысл настоящего очерка заключен именно в этом, с той лишь разницей, что вместо последовательного спекулятивного анализа феномена истории в нем рассматриваются основополагающие концепции жизнеустройства племен, пребывающих на архаической стадии развития, которые, обладая некоторыми познаниями в области «истории», — в той форме, в какую они были облечены, — тем не менее пытались без них обходиться. При изучении народов на ранней стадии их развития нас прежде всего поразило присущее им негативное отношение к конкретно-историческому времени, их ностальгия по Великому Времени, выраженная в периодическом воскрешении мифического правремени. Смысл и функция того, чему мы дали название "архетипы и возврат к прошлому", стали ясны нам только тогда, когда мы осознали стремление этих народов отказаться от конкретного времени, их враждебность к любым попыткам обособить «историю», то есть освободить се от навязанных архетипами моделей. Однако подобный категорический отказ, подобное противопоставление не являются простым следствием исконного консерватизма первобытных племен, что и доказывает эта книга. Мы полагаем, что в удалении значения истории, то есть событии, не имеющих сакрального образца, в отказе от непрерывного мирского времени следует усматривать своего рода повышение метафизической значимости человеческого бытия. Но это возвеличивание человека, без сомнения, не имеет ничего общего с тем стремлением возвысить его, которое, после открытия "человека исторического", то есть, человека, чья значимость определяется исключительно степенью его участия в историческом процессе, просматривается в некоторых постгегельянских философских течениях, а именно в марксизме, историцизме и экзистенциализме. Проблема истории как таковой в этом очерке напрямую не затрагивается. Основной нашей задачей было выявить главные черты осмысления окружающей действительности племенами, находящимися на архаической стадии развития. Нам казалось, что даже простое описание этого осмысления представляет определенный интерес, особенно для философа, привыкшего находить проблемы и способы их разрешения в трудах по классической философии или же в событиях духовной истории Запада. Мы давно убедились, что западная философия рискует, если можно так сказать, "впасть в провинциализм": сначала ревниво замыкаясь в рамках собственной традиции, игнорируя, к примеру, проблемы и решения, предложенные восточной мыслью, а затем упорствуя в признании исключительно "событийного опыта" человека, принадлежащего к одной из исторических цивилизаций, и оставляя без внимания опыт человека «примитивного», члена сообщества, находящегося на ранней стадии развития. Нам кажется, что философам-антропологам следовало бы обратить более пристальное внимание на то, как оценивал свое положение в системе мироздания человек, досократовой эпохи (иначе говоря, человек первобытный). Более того: изучение первобытной онтологии способствовало бы обновлению основных проблем метафизики. В большинстве наших предшествующих работ, и прежде всего в "Истории религий", мы попытались представить основы этой архаической онтологии, не претендуя, разумеется, на абсолютно последовательное и полное их изложение. К великому сожалению, настоящий очерк также не является исчерпывающим решением вопроса, хотя он в равной мере адресован и философу, и этнологу, и востоковеду. Но главным образом мы надеялись, что нашим читателем станет не специалист, а просто человек, интересующийся проблемами бытия, поэтому мы часто были вынуждены втискивать в краткие формулировки то, что, будучи изложенным со всевозможными подробностями, составило бы внушительный том. Любая углубленная дискуссия повлекла бы за собой привлечение множества первоисточников и свой специальный язык, обескуражив тем самым множество читателей. Итак, мы постарались не создавать серию комментариев по проблемам, пребывающим на периферии интересов специалистов, а напротив, привлечь внимание философов и самых широких специалистов к таким проявлениям духовной жизни, которые, будучи представленными во многих уголках земного шара, несомненно, вызывают интерес и способствуют лучшему пониманию истории человечества. Рассуждения того же порядка побудили нас свести справочный аппарат к минимуму, оставив только самое необходимое, отчего в отдельных случаях вместо отсылок наличествуют лишь намеки.
Начатый в 1945 году, настоящий очерк был завершен только спустя два года. Перевод румынской рукописи был выполнен гг. Жаном Гуйаром и Жаком Сукасом, которым мы выражаем искреннюю благодарность. Наш ученый коллега и друг Жорж Дюмезиль дал себе труд прочесть перевод в рукописи, что также позволило исправить некоторые недочеты.
Каскес, март 1945
Париж, май 1947
Мирча Элиаде
Глава 1. АРХЕТИПЫ И ПОВТОРЯЕМОСТЬ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В этой небольшой книге предполагается рассмотреть некоторые аспекты онтологии общества, пребывающего на архаической стадии развития, и более конкретно, понятия бытия и реальности, выводимые из поведения человека доисторического общества. Понятие общества «доисторического» или «первобытного» включает в себя как общество, именуемое «примитивным», так и древние культуры Азии, Европы и Америки. Совершенно очевидно, что метафизические концепции архаического общества не всегда получали теоретическую формулировку; но символ, миф, ритуал отображают с разных сторон и присущими им средствами сложную организацию связных представлений о высшей реальности вещей, которую можно рассматривать как составляющую некой метафизической системы. И основная наша задача состоит в том, чтобы понять глубинный смысл всех этих символов, мирков и ритуалов и переложить его на привычный нам язык. Разобравшись в исходном значении какого-либо мифа или архаического символа, необходимо признать, что это значение является результатом осмысления определенной картины мироздания и, как следствие, содержит в себе некоторые метафизические положения. Бесполезно искать в архаических языках термины, трудолюбиво изобретенные великими философами: скорей всего, такие слова, как «бытие», "небытие", «реальность», "нереальность", «становление», "иллюзорный" и им подобные не существуют в языке австралийских аборигенов или в языках древней Месопотамии. Но отсутствие слова не означает отсутствия предмета: предмет «назван» — то есть определен в совокупности присущих ему свойств — посредством символов и мифов.
При комплексном рассмотрении поведения человека архаической стадии развития общества, поражает следующий факт: дела людей, равно как и предметы окружающего их мира не имеют собственной реальной значимости. Предмет или действие приобретают значимость, и, следовательно, становятся реальными, потому что они тем или иным образом причастны к реальности трансцендентной. Среди множества камней один становится сакральным — и, как следствие, мгновенно начинает обладать бытием во всей его полноте — потому что превращается в частицу священного мироустройства или приобретает ману (mana), или форма его наделяется определенным символическим значением, или же он начинает напоминать о неком мифологическом подвиге, и т. д. Предмет является своего рода сосудом, содержащим в себе внешнюю силу, которая отличает его от ему подобных и придает ему смысл и значимость. Эта сила может быть заключена в субстанции предмета или же в его форме; любая скала представляется сакральной, потому что само ее существование уже иерофания: нерушимая, неуязвимая, она есть то, чем не является человек. Она противостоит времени, становится реальной вдвойне по причине своего бесконечно долгого существования. Любой камень может превратиться в «драгоценный», то есть исполниться магической или религиозной силой единственно из-за символического характера своего облика или происхождения: "громовой камень" — камень, предположительно упавший с неба; жемчужина — драгоценный камень, пришедший со дна океана. Но и любые другие камни могут стать священными — так как в них пребывают души предков (в Индии, Индонезии), или же потому, что когда-то они были причастны к богоявлению (как, например, камень бетель, послуживший постелью Иакову), или стали сакральными из-за принесенной жертвы или клятвы. (ср. нашу работу История религии, с. 191 sq.).
Перейдем теперь к действиям человека, разумеется, не инстинктивным, а осмысленным; их значимость, ценность зависит не от количества затраченной на них физической энергии, а от того, как точно они воспроизводят акт первотворения, повторяют мифологический образец. Еда — не просто физиологический процесс, это постоянно повторяющееся причастие. Бракосочетание и коллективное пиршество возвращают нас к мифологическим прототипам; их повторяют, потому что изначально эти действия были освящены богами ("в те времена", ab origine*), «предками» или героями. В своих сознательных поступках «примитивный», архаический человек не делает ничего такого, что не было бы уже сделано и пережито до него кем-то другим, другим, который не был человеком. То, что он делает сейчас, уже было сделано. Его жизнь является беспрерывным повторением деяний, которые когда-то были совершены другими. Это сознательное повторение действий в рамках определенной парадигмы выдает их онтологическую сущность. Природный продукт, предмет, изготовленный человеком, обретают свою реальность, свою самобытность только в той степени, в какой они причастны к трансцендентной реальности. Деяние обретает смысл, реальность исключительно в том случае, когда оно повторяет изначальное, образцовое действие.
Ряд примеров, почерпнутых в различных культурах, помогут нам лучше разобраться в структуре архаического бытия. В первую очередь мы старались отыскать факты, наиболее ярко характеризующие механизм первобытного мышления; иными словами, факты, помогающие нам понять, как и почему вещь для первобытного человека становилась реальной. Только разобравшись в функционировании этого механизма, мы сможем вплотную приступить к анализу проблемы соотнесенности человеческого бытия и истории в архаический период развития человечества. Нашу подборку фактов мы разделили на несколько рубрик:
1. Факты, свидетельствующие о том, что для первобытного человека реальность заключается в имитации небесного архетипа.
2. Факты, свидетельствующие о придании реальности посредством причастности к "символизму центра": поселения, храмы, жилища становятся реальными, так как отождествляются с "центром мира".
3. Наконец, обряды и значимые профанные действия наделяются определенным смыслом потому, что они сознательно повторяют действия, изначально свершенные богами, героями или предками. Описание этих фактов само по себе уже первый шаг в изучении глубинной онтологической концепции, толкование которой, основанное на фактическом материале, мы и предлагаем.
1.1. Небесные архетипы ландшафтов, храмов и поселений
Согласно верованиям месопотамцев, прототип реки Тигр находится на звезде Анунит, а прототип реки Евфрат — на звезде Ирондель.[1] В одном из шумерских текстов говорится о "местопребывании божественных созданий", в котором обитают "(божество) стад и (божества) злаков".[2] У алтайских народов идеальными прототипами гор являются горы небесные.[3] В Египте природный рельеф и нумы получили названия от названий «полей» небесных: сначала обращали взоры к «полям» небесным, а уж потом начиналось их отождествление с земными географическими объектами.[4] В иранской космологии, в течении зерванизма, "у каждого земного понятия, абстрактного или конкретного, есть свой трансцендентный невидимый аналог на небесах, своего рода «идея» в ее платоновском понимании. Каждая вещь, каждое понятие обладает двумя сущностями: сущность менок и сущность гетик. Раз имеется видимое небо, значит, есть и небо менок, которое невидимо (Бундахишн (Bundahishn), 1 глава).
Наша земля имеет аналог в виде земли небесной. Каждое свойство, существующее здесь, на земле, в гетахе, имеет себе подобное на небе, и именно оно и является истинно реальным… Год, молитва… наконец, все, что делается в гетахе, одновременно происходит и в меноке. Творение попросту удваивается. С космогонической точки зрения, космическая стадия, определяемая как менок, предшествует стадии гетик".[5] В частности, всякий храм — место, в высшей степени, священное, — имел свой небесный прототип. На горе Синай Иегова показывает Моисею «образец» святилища, которое он должен ему построить: "И устроят они Мне святилище <…>. Все, как Я показываю тебе, и образец скинии и образец всех сосудов ее, так и сделайте" (Исх; XXV, 8–9). "Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе" (Исх., XXV, 40). И когда Давид дает своему сыну Соломону план строительства храма, скинии и всей утвари, он заверяет, что "все сие в письменном от Господа… как он вразумил меня на все дела постройки" (1 Пар., XXVIII,19). Следовательно, он видел небесный образец.[6] Самый древний документ, содержащий указание на необходимость следовать архетипу при постройке святилища, — это надпись Гудеа, сделанная в храме, возведенном им в Лагаше. Во сне царю является богиня Нидаба и показывает ему дощечку, где изображено благоприятное расположение звезд, а также божество, сообщающее ему план постройки храма.[7] У городов также есть свои божественные прототипы. Среди созвездий находятся прототипы всех вавилонских городов: Сиппара — в созвездии Рака, Ниневия — в Большой Медведице, Ашшура — на Арктуре и т. д.[8] Сеннахериб приказал строить Ниневию по "проекту, сделанному в стародавние времена на основании небесного предначертания". Образец не просто предшествует земному строительству — он расположен в идеальном (небесном) «краю», находящемся в вечности. Именно это и провозглашает Соломон: "Ты приказал мне построить храм во славу твоего святого Имени, а также алтарь во граде твоем, по образцу святой скинии, кою ты уже заранее подготовил" (Второканоническая Книга Премудрости Соломоновой, 9, 8) (Данная книга не сошла в состав Писания и принадлежит позднейшему времени, так как ее нет на еврейском языке. Переведена с древнегреческого.)
Небесный Иерусалим был создан Богом раньше, чем человек построил город Иерусалим: это к нему обращены слова пророка в "Апокалипсисе Баруха", II, 2,2–7, написанном на древнесирийском: "Уверен ли ты, что это именно тот град, о котором сказал я: "Разве это тебя построил я в своих ладонях?" Град, что видите сейчас вы, не тот, который был дан мне в откровении, не тот, что построен был в давние времена, когда решил я создать Рай, который показал я Адаму до его грехопадения…"[9] Небесный Иерусалим вдохновлял всех еврейских пророков: (Тови, XIII,16; Ис. LIX,11 sq; Иез. LIX) и т. д.
Чтобы показать Иезекиилю град Иерусалим, Бог послал ему видение и в это время перенес его на высокую гору (LX, 6 sq.). И Сивиллины книги хранят память о Новом Иерусалиме, где в центре сверкает "храм с гигантской башней, коя касается облаков и видна отовсюду".[10] Но самое прекрасное описание небесного Иерусалима содержится в Апокалипсисе (XXI, 2 sq.): "И я, Иоанн увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего". То же самое верование встречается и в Индии: все царские города в Индии, равно как и современные, построены по мифической модели небесного града, где во времена Золотого века (in illo tempore*) обитал Верховный Владыка. И, следуя его примеру, царь старался воскресить Золотой век, осуществить в настоящем идеальное царствование; с подобной концепцией мы будем встречаться на протяжении всего настоящего исследования. Так, к примеру, дворец-крепость Сихагири на Цейлоне, построенный по модели небесного града Алакаманда, "труднодоступен для человеческих существ" (Махавашту, 39, 2). Идеальный город Платона также имел свой небесный прототип (Госуд., 592 b. cp ibid., 500 e.). Платоновы «образцы» не находятся на звездах; но тем не менее мифологически они локализованы во внеземных сферах (Федр, 247, 250). Итак, окружающий нас мир, где ощущается присутствие человека и результаты его трудов, все эти горы, куда он взбирается, заселенные и возделанные земли, судоходные реки, города, святилища — имеют внеземные прототипы, представляемые или как «проект», "образец" или как собственно «двойник», существующий на высшем космическом уровне. Но не все в "мире, который нас окружает", имеет подобные прототипы. Например, пустыни, где живут чудовища, невозделанные земли, неведомые моря, куда не осмеливался заплыть ни один мореплаватель, и т. п., отнюдь не делят с городом Вавилоном или египетским нумом привилегию иметь свой собственный прототип. Они соответствуют мифологической модели, но иного рода: все эти дикие, варварские территории уподобляются Хаосу; они часть нерасчлененной, бесформенной субстанции, существовавшей до Творения. Поэтому, когда происходит проникновение на эти территории, то есть когда начинают их осваивать, совершают обряды, символически воспроизводящие акт Творения, неоснованное пространство сначала «космизуется», затем заселяется. Вскоре мы вновь вернемся к рассмотрению значения ритуалов освоения новооткрьггых земель. Сейчас же хотим подчеркнуть, что окружающий нас мир, окультуренный руками человека, подлинен только в той степени, в какой он подобен своему внеземному прототипу. Человек строит по образцу. Не только его город или его храм имеют небесные модели, то же можно сказать и о том крае, где он живет, о реках, его орошающих, о полях, дающих ему пищу, и т. д. На карте Вавилона изображен город, расположенный в центре обширного круга, обрамленного рекой Амер, — именно так шумеры представляли себе Рай (Космология, 22). Только строительство по образцовой модели наделяет города реальностью и значимостью.
Обустройство в новой местности, дикой и незнакомой, приравнивается к акту творения. Когда переселенцы из Скандинавии захватили Исландию, landnama, и стали распахивать ее земли, они не считали это делом новым, профанным или мирским трудом. То, что они делали, было для них всего лишь повторением первотворения: превращения хаоса в космос посредством божественного акта Творения. Обрабатывая пустынные земли, они в действительности повторяли деяния богов, которые упорядочили хаос, придав ему форму и завершенность.[11] Что может быть лучше: территориальное завоевание становится подлинным только посредством обряда вступления во владение, который всего лишь копия изначального Сотворения Мира. В ведической Индии законное вступление во владение землей осуществлялось посредством возведения алтаря в честь Агни.[12] "Говорят, что истинное владение (avasyati) наступает тогда, когда построят (garhapatya) и обустроят (avasitah) все то, что потребно для алтаря в честь огня", гласит Шатапатха-брахмана (VII,1, 1, 1–4). Но возведение алтаря в честь Агни всего лишь имитация Творения на микрокосмическом уровне. Более того, любое жертвоприношение также повторяет акт Творения, как недвусмысленно утверждают индийские тексты (напр., Шат. бр., XIV, I, 2, 26 и т. д.; см. далее гл. II). Испанские и португальские «конкистадоры» захватывали завоеванные острова и материки во имя Иисуса Христа. Установление креста приравнивалось к «закреплению» и «освящению» территории, к "новому рождению", воспроизводя, таким образом, крещение (акт творения). Британские же мореплаватели вступали во владение завоеванными ими землями во имя английского короля, нового Космократора.
Вся важность ведических, скандинавских или романских церемониалов станет еще яснее, когда мы вникнем в суть повторяемости творения, акта в высшей степени божественного. Пока же уясним одно: каждая территория, занятая с целью проживания на ней или же использования ее в качестве "жизненного пространства" сначала преобразуется из «хаоса» в «космос», то есть, под воздействием ритуала ей придается некая «форма», посредством которой она становится реальной. Очевидно, для первобытного мышления реальность проявляется в виде силы, действенности или долговременности. Исходя из этого, реальность в высшей степени сакральна: ибо только сакральное существует абсолютно, действует эффективно, творит и продлевает существование вещей. Бесчисленные сакральные действа — сакрализация пространства, предметов, людей и т. д. — свидетельствуют о жажде реального, стремлении «примитивного» человека к бытию.
1.2. Символическое значение «Центра»
Параллельно с первобытной верой в небесные прототипы городов и храмов, мы отмечаем еще целый ряд верований, более подробно зафиксированных в письменных источниках, сугь которых сводится к вере в сакральную значимость «Центра». Мы уже рассматривали эту проблему в предыдущей работе,[13] здесь же только напомним полученные нами результаты. Символика структуры Центра может быть выражена следующим образом:
а) Священная Гора — место, где встречаются Небо и Земля — находится в центре Мира.
б) Каждый храм или дворец-и, шире, каждый священный город или царский дворец — является "священной горой", и таким образом также становится Центром.
с) Будучи Axis Mundi (Мировой Осью), город или священный храм рассматриваются как место входа на Небо, под Землю и в Преисподнюю.
Проиллюстрируем каждый из предшествующих символов несколькими примерами.
А) В индийских верованиях в центре мира высится гора Меру, а над ней сияет Полярная звезда. У урало-алтайских народов также имеется центральная гора Су меру (Sumeru), над вершиной которой пребывает Полярная звезда. Согласно иранским верованиям, священная гора Хараберезаити (Elbourz) находится посреди земли и соприкасается с небом.[14]
Буддистскому населению Лаоса, проживающему к северу от Сиама, известна гора Зиннало, находящаяся в середине мира. В Эдде Химинбьёрг, как свидетельствует название, это "небесная гора"; именно в этом месте радуга (Bifrost) достигает небесного купола. Аналогичные верования мы находим у финнов, японцев и т. д. Напомним также, что семанги Малаккского полуострова полагают, что в центре мира высится огромная скала Бату-Рибн; над ней расположена Преисподняя. Некогда на Бату-Рибн росло дерево, чей ствол возносился к небу.[15] Преисподняя, центр земли и «дверь» в небо расположены на одной оси, по которой осуществлялся переход из одного мира в другой. Мы были готовы поверить в заимствование этой космологической теории пигмеями семан-гами, но есть доказательства того, что подобная теория возникла уже в доисторическую эпоху.[16] В месопотамских верованиях в центральной горе находятся входы на Небо и под Землю; это "Гора Царств", соединяющая земли между собой.[17] Собственно говоря, зиккурат (культовая башня) представляла собой космическую гору, то есть символическое изображение Космоса; ее семь этажей равнялись семи планетарным небесам (как в Борсиппе) и были раскрашены в цвета сторон света (как в Уре).
Название горы Табор в Палестине, скорее всего, происходит от tabbur, то есть «пуп», omphalos. Гора Геризим в центре Палестины, без сомнения, также представляет собой «престижный» Центр, ибо ее называют "пупом земли"(tabbur eres; ср. Суд., IX, 37: "…вот армия, что спускается с пупа Земли"). Традиция, на которую указывает Петер Коместор, гласит, что во время летнего солнцестояния солнце не отбрасывает тень на "источник Якова" (неподалеку от Геризима). В самом деле, уточняет Коместор, sunt qui dicunt locum illum esse umbilicum terrae nostrae habitabilis. (Говорят, что это место является пупом нашей земли обетованной. — Прим. перев.) Палестина, будучи расположенной на возвышенности и, следовательно, ближе к вершине космической горы, не была полностью затоплена во время Потопа. Так утверждает один раввинский текст. "Земля Израильская не была затоплена во время потопа[18]". Для христиан в середине мира находилась Голгофа, ибо она была вершиной космической горы и одно временно местом, где был создан и погребен Адам. Таким образом, кровь Спасителя падает на голову Адама, похороненного у подножия Креста, и искупает его грех. Верование, согласно которому Голгофа находится в центре мира, сохранилось на христианском Востоке (например, у малороссов; Мансика, цитируется Хольмбергом, с. 72).
В) Сами названия вавилонских храмов и священных башен свидетельствуют об их уподоблении космической горе: "Гора Дома", "Дом Горы всех земель", "Гора бурь", "Нить между Небом и Землей"[19] и т. п. Свиток эпохи царя Гудеа гласит, что "комната (бога), которую он (царь) построил, была подобна космической горе".[20] Каждый восточный город располагался в центре мира. Вавилон назывался Bab-ilani, "ворота богов", так как именно здесь боги спускались с неба на землю. В образцовой столице китайского монарха гномон не должен отбрасывать дневную тень в полдень, во время летнего солнцестояния. Такая столица, действительно, находится в Центре Мироздания, возле чудесного дерева "Дерева взметнувшегося" (kien-mou), там, где пересекаются три космических царства: Небо, Земля и Преисподняя.[21] Храм Боробудур сам является воплощением Космоса, ибо построен он по модели горы (как строились зиккураты). Поднимаясь по его лестницам, паломник приближается к Центру Мира, и на верхней террасе осуществляет переход на другой уровень, минует мирское, гетерогенное пространство и проникает в "чистую область". Города и святые места уподобляются вершинам космических гор. Именно поэтому Иерусалим и Сион не были затоплены Потопом. С другой стороны, согласно исламской традиции, самое высокое место на Земле — это Кааба, потому что "Полярная звезда свидетельствует, что она (то есть Кааба) находится прямо напротив центра Неба" (Kisa'i, цитировано Венсинком, ор. cit., с. 15). С) Наконец, по причине расположенности в центре Космоса, храм или святилище всегда являются местом входа в три космические царства: на Небо, под Землю и в Преисподнюю. Dur-an-ki, "нить между Землей и Небом", таково было название святилищ Ниппура, Ларса и, без сомнения, Сиппара. У Вавилона было множество наименований, среди которых "Исконное жилище Неба и Земли", "Нить между Небом и Землей". Именно в Вавилоне всегда осуществлялась связь между Небом и нижними мирами, ибо город был построен на bab-apsi, "Ворота apsu[22]", где apsu обозначало воды хаоса до Сотворения. Те же верования встречаем мы и у евреев. Иерусалимская скала уходила в глубь подземных вод (tehom) (еврейский эквивалент apsu). И, как в Вавилоне, имелись "ворота apsu", в скале храма Иерусалимского находились "уста tehom[23]". Подобные верования встречаются и у индо-европейцев. У римлян, например, mundus — то есть борозда, которую прокладывали вокруг того места, где должны были основать город — является местом соединения подземных миров и миров наземных. "Когда mundus открыт, значит, печальным божествам из преисподней ворота открыты", — пишет Варрон (цитируется по Макробию, Sat., I,16, IS). Италийский храм был местом пересечения миров верхнего (божественного), наземного и подземного. Вершина космической горы — не только самая высокая точка Земли: она также и пуп земли, точка, где начиналось Творение. Случается, что космогонические традиции излагают символику Центра в терминах, заимствованных, как мы бы сказали, из эмбриологии. "Святейший создал мир, подобный эмбриону. Все, подобно эмбриону, произрастает из пупа, даже Бог стал творить мир, начав с пупа, а потом мир разросся во все стороны". Yoma утверждает: "Создание мира началось с горы Сион[24]". Согласно Ригведе (например, X, 149), мироздание берет начало из центральной точки (ср. комментарий Кирфеля, Космография, с. 8). Создание человека, повторение космогонии, также состоялось в определенной центральной точке, в Центре Мира. В Месопотамии считали, что человек был изготовлен в месте, именуемом "пупом земли", из UZU (плоть), SAR (связующая нить), KI (место, земля), там, где находится Dur-an-ki, "связующая нить между Небом и Землей". Ормазд создает первобыка Эвагдата и первочеловека Гайомарда в центре мира.[25] Рай, где из ила был создан Адам, расположен, разумеется, в центре Космоса. Рай был "пупом земли" и, согласно сирийской традиции, находился на самой высокой горе. В сирийской книге пещера. сокровищ говорится, что Адам был создан в центре Земли, в том самом месте, где позднее воздвигли крест Иисуса. Те же предания сохранились и в иудаизме. Иудейский апокалипсис и midrash уточняют, что Адам был вылеплен в Иерусалиме.[26] Адам был похоронен в том же самом месте, где был создан, то есть в центре мира, на Голгофе, и кровь Спасителя (как мы видели выше) искупила и его грех. Символика Центра гораздо более сложна, но тех ее аспектов, которые мы уже осветили, для наших целей вполне достаточно. Добавим только, что аналогичная символика была присуща и западному миру, где она просуществовала вплоть до настоящего времени. Древняя концепция храма как imago mundi (изображение мира), постулат о том, что святилище воспроизводит сущность мироздания, была воспринята сакральной архитектурой христианской Европы: базилики первых веков нашей эры, как и средневековые соборы, символически воспроизводят небесный Иерусалим.[27] Что же касается символики Горы, Вознесения и "Поиска Центра", то она отчетливо прослеживается в средневековых литературах и появляется, хотя и в виде намеков, в позднейших сочинениях.[28]
1.3. Повторение космогонии
"Центр" — нечто в высшей степени сакральное, территория абсолютной реальности. Все прочие символы абсолютной реальности (Древо Жизни и Бессмертия, Источник Молодости и т. д.) непременно находятся в Центре. Дорога, ведущая в центр, — "трудная дорога" (durohana), проверка осуществляется на всех уровнях реального: сопряженный с трудностями круговой обход храма (как в случае в Боробудуром); паломничество к святым местам (Мекка, Хардвар, Иерусалим и т. д.); полные опасностей странствия в поисках Золотого Руна, Золотых Яблок, Травы жизни и т. п.; плутания в лабиринте; трудности, встающие на пути ищущего дорогу к себе, к «центру» своей сути, и т. п. Дорога эта изнурительна, полна опасностей, ибо по сути своей она является переходом от мирского к сакральному; от эфемерного и иллюзорного к реальности и вечности; от смерти к жизни; от человека к божеству. Обретение «центра» приравнивается к посвящению, инициации: существование, еще вчера мирское и иллюзорное, сменилось новым существованием, реальным, длительным и плодотворным.
Если во время акта Творения осуществляется переход от бесформенного к форме, или, говоря языком космологии, от Хаоса к Космосу; если Творение в своей временной протяженности осуществляется из «центра»; если, как следствие, все виды существующих объектов, от неодушевленных до одушевленных, существуют только на территории в высшей степени сакральной, тогда нам становится совершенно ясен символический характер священных мест ("центров мира"), геомансические* построения, предшествующие основанию городов, те верования, которые лежат в основе ритуалов, предваряющих строительство. Изучению ритуалов, связанных со строительством, и их теоретическому обоснованию мы посвятили нашу предыдущую работу;[29] к ней мы и отсылаем читателя. Здесь же напомним только два основополагающих момента:
1. Каждое творение в высшей степени воспроизводит Космогонию: Сотворение Мира.
2. Как следствие, все, что основано, размещено в Центре мира (потому что, как нам известно, само Творение также происходило из центра).
Среди множества имеющихся у нас примеров выберем тот, который представляет интерес и для дальнейшей нашей работы. В Индии, "прежде чем положить в основание фундамента хотя бы один камень… астролог определяет исходную точку закладки фундамента, которая находится прямо над змеем, поддерживающим мир. Из дерева khadira главный каменщик выстругивает сваю и с помощью кокосового ореха заколачивает ее в землю в точно указанном месте, дабы непременно попасть в голову змея".[30] Камень, закладываемый в фундамент (padmacila), кладется поверх сваи. Таким образом краеугольный камень закладывается в "центр мира". Но акт закладки фундамента воспроизводит космогонию, ибо «приколотить», забить сваю в голову змея означает повторение первого подвига Сомы (Ригведа, II, 12,1) или Индры, когда этот последний "поразил дракона в его логове" (Ригведа, IV, 17, 19) и молния его "отсекла дракону голову" (Ригведа, I, 52,10). Дракон символизирует хаос, аморфную бесформенность. Индра встречает Вритру (Ригведа, IV, 19, 3), безмятежного (aparvan), спокойного (abudhyam), дремлющего (abudhyamanam), погруженного в глубокий сон (sushupanam), разлегшегося (асауапат). Поразить его молнией и обезглавить означает совершить акт творения, переход от неявного к явному, от аморфности к оформленности. Вритра похитил реки и спрятал их в ущелье в горах. Это означает: 1) или что Вритра, подобно Тиамат или любому иному змееподобному божеству, — абсолютный властелин хаоса, предшествующего творения;
2) или что громадный Змей, похитив воду для себя одного, оставил мир погибать от засухи. Совершилось ли это похищение ранее акта Творения, или же оно произошло после основания мира, смысл остается прежним: Вритра "препятствует"[31] миру сделаться, или же существовать. Вритра, символ скрытого, латентного или аморфного, олицетворяет Хаос до Творения.
В книге Комментарии к Легенде о мэтре Маноле мы попытались объяснить строительные ритуалы, приравнивая процесс строительства к деянию космогоническому. Объяснение же таково: ничто не может существовать долго, если оно не «одушевлено», не наделено «душой» посредством жертвоприношения — прототип строительного ритуала, оно произошло при основании мира. В самом деле, в некоторых архаических космогониях мир был создан путем принесения в жертву первочудовища, символизирующего хаос (Тиамат), или же великана, из тела которого создался мир (Имир, Паньгу, Пуруша). Чтобы обеспечить реальность ипродолжительность существования постройки, повторяют божественный акт образцового творения: Сотворения мира и людей. Сначала «реальность» места закладки достигается посредством освящения участка земли, то есть его превращением в «центр»; затем значимость акта строительства подтверждается повторением божественной жертвы. Естественно, освящение «центра» происходит в пространстве, качественным образом отличающемся от пространства мирского. Парадоксальность обряда в том, что любое освященное пространство совпадает с центром мира, также как время любого ритуала совпадает с мифическим временем «начала». Посредством повторения космогонического акта конкретное время, в котором сооружается строение, проецируется во время мифическое, in illo tempore, когда происходило построение мира. Таким образом обеспечиваются реальность и долговременность постройки — не только посредством преображения мирского пространства в пространство трансцендентальное ("Центр"), но также посредством трансформации конкретного времени во время мифическое. Любой обряд, как у нас будет возможность убедиться ниже, совершается не только в освященном пространстве, то есть существенным образом отличающемся от пространства мирского, но вдобавок и в "сакральном времени", "в то время" (in illo tempore, ab origine), to есть время, когда обряд был совершен впервые — богом, предком или героем.
1.4. Сакральные модели ритуала
Каждый обряд следует божественному образцу, архетипу. Этот факт хорошо известен, поэтому мы вполне можем ограничиться всего несколькими примерами. "Мы не должны сделать то, что изначально делали боги" (Чатапатха Брахмана, VII, 2,1, 4). "Так делали боги; так делают люди" (Тайттирия Брахмана, I, 5, 9, 4). Это индийское изречение справедливо, согласно нижеприведенной теории, для ритуалов во всех странах. Эта теория объясняет как обряды народов, именуемых «примитивными», так и обряды, существующие в обществе с высокоразвитой культурой. Аборигены юго-востока Австралии, к примеру, практикуют обрезание с помощью каменного ножа, потому что так их научили мифические предки; негры народа амазулу совершают обрезание, потому что так постановил Ункулункулу (культурный герой) ш illo tempore: "Мужчины должны быть обрезаны, дабы не походить на детей".[32] Церемония хако была впервые продемонстрирована жрецам индейцев пауни верховным божеством Тиравой в начале времен. У народа сакалава на Мадагаскаре "все семейные, общественные, национальные, религиозные обряды и церемонии должны соблюдаться согласно правилам lilin-draza, то есть установленным обычаям и неписаным законам, унаследованным от предков…"[33] Нет необходимости множить примеры; все религиозные действа предположительно были предписаны богами, культурными героями или мифическими первопредками.[34] Отметим только, что у «примитивных» народов не только обряды имеют свою мифологическую модель, но и любое действие человека обретает свою значимость в той мере, в какой оно в точности повторяет действие, совершенное в изначальные времена богом, героем или предком. В конце настоящей главы мы еще вернемся к этим образцовым действиям, беспрестанно повторяемым людьми.
Однако, заметим, что подобная «теория» объясняет существование обряда не только в «примитивных» культурах. К примеру, в последние века существования Древнеегипетского государства власть обряда и слова, находящихся в ведении жрецов, зиждилась на имитации перводеяния бога Тота, сотворившего мир силой своего слова. Согласно иранской традиции, религиозные праздники были установлены Ормаздом для разграничения периодов Творения Космоса, длившегося год. В конце каждого периода, представляющего соответственно сотворение неба, вод, земли, планет, животных и человека, Ормазд отдыхал пять дней, во время которых он и установил основные маздеистские праздники (ср. Bundahishn, I, A 18 sq.). Человек только повторяет акт Творения; его религиозный календарь на протяжении года напоминает обо всех этапах космогонии, имевших место ab origine. В самом деле, священный год постоянно повторяет Творение, человек является современником космогонии и антропогонии, потому что обряд переносит его в ми фическую эпоху начала.
Бассарид в своих оргиастических обрядах воспроизводит драму Дионисия; орфист посредством инициационной* церемонии воспроизводит деяния Орфея и т. д.
Иудео-христианский шабаш также является imitatio dei (подражанием богу). Субботний отдых воспроизводит изначальное действие Господа, ибо на седьмой день творения бог "почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал" (Бытие, II, 2). Послание Спасителя — это прежде всего образен, которому необходимо подражать. Омыв ноги своим апостолам, Иисус сказал им: "Ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам" (Иоанн, XIII, 15). Смирение всего лишь добродетель; но акт смирения, осуществляемый по примеру Господа, — это уже акт веры и средство спасения: "Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга" (Иоанн, XIII, 34; XV, 12). Эта христианская любовь освящена примером, поданным Иисусом. Поступая так сегодня, мы избываем греховность человеческого существования и обожествляем человека. Тот, кто верит в Иисуса, может делать то, что делал Он; нет предела его силам и возможностям. "Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит" (Иоанн, XIV, 12). Литургия является прямым напоминанием о жизни и Страстях Господних. Далее мы увидим, что это напоминание в действительности является реактуализацией "того времени".
Брачные обряды также имеют божественный образец, и людские браки воспроизводят иерогамию, в частности, союз Неба и Земли, "Я — Небо, — произносит муж, — ты — Земля" (dyaur aham, pritivi tvam; Брихадараньяка упанишад, VI, 4, 20). У же в Атхарваведе (XIV, 2, 71) муж и жена уподобляются Небу и Земле, в то время как в другом гимне (Атхарваведа, XIV, 1) каждое действие свадебного обряда объясняется наличием образца, восходящего к мифическим временам: "Как Агни взял эту землю за правую руку, так и я беру тебя за руку… и пусть бог Савитар возьмет тебя за руку… Тваштар украсил ей платье, чтобы она была красива, согласно указанию Брихаспати и Сказителей. И да одарят Савитар и Бхага эту женщину детьми, как они одарили Дочь Солнца!" (48,49,53; перевод Л. Рену). В обряде зачатия, описанном в Брихадараньяка упанишад, акт воспроизводства превращается в иерогамию космического масштаба, где задействован целый ряд богов:
"Пусть Вишну готовит образец, пусть Тваштар обрабатывает форму; пусть Праджапати делает отливку; пусть Дхатар положит в тебя зародыш" (IV, 4,21).
Дидона празднует свой брак с Энеем во время ужасной грозы (Вергилий, Энеида, IV, 160); их союз заключается одновременно с союзом стихий; Небо, сжимая в объятиях свою супругу, изливает оплодотворяющий дождь. В Греции при заключении браков следовали примеру Зевса, который тайно соединился с Герой (Павсаний, II, 36, 2). Диодор Сицилийский (V, 72,4) уверяет нас, что на Крите жители подражали критской иерогамии;* иными словами, церемония бракосочетания обретала свою значимость, следуя образцу — изначальному событию, случившемуся "в то время".
Космогоническая структура всех этих брачных обрядов требует более подробного рассмотрения; речь идет не только об имитации образцовой модели — божественного бракосочетания Неба и Земли: имеется в виду прежде всего результат этого брака, то есть космогоническое творение. Вот почему когда в Полинезии бесплодная женщина хочет заиметь ребенка, она поступает по примеру Праматери, которая in illo tempore была повалена на землю и оплодотворена Великим Богом Ио. По этому случаю рассказчик исполняет космогонический миф.
Напротив, когда хотят развестись, запевают заклинание, в котором упоминают о "разделении Неба и Земли".[35] Ритуальная декламация космогонического мифа по случаю бракосочетания входит в число обычаев многих народов; мы вернемся к ней позже. Теперь же уточним, что космогонический миф служит образцовой моделью не только для бракосочетания, но и для любой иной церемонии, имеющей своей целью восстановление целостной полноты;, вот почему, когда речь идет об излечении, оплодотворении, рождении, полевых работах и т. п., декламируют миф о Сотворении Мира. Космогония является образцовым примером творения.
Деметра разделила ложе с Ясионом на свежевспаханном поле, в начале весны (Одиссея, V, 125). Смысл этого союза ясен: он способствует плодородию почвы, чудесным образом влияет на земные силы творения. Вплоть до прошлого века этот ритуал был весьма распространен на Севере и в Центре Европы (о чем свидетельствует обычай символического соединения супружеской пары прямо на поле)[36] В Китае молодые пары весной шли соединяться на молодой траве, дабы подтолкнуть "космическое возрождение" и "всеобщее зарождение". В самом деле, любой человеческий союз находит свое обоснование в брачном первосоюзе, космическом единении элементов.
В IV книге Ли Цзы, Юэ Линга (Книге ежемесячных предписаний) уточняется, что жены являются к императору, дабы сожительствовать с ним в первый месяц весны, когда гремят грозы. Монарх, а за ним и весь народ, следует космическим образцам. Соединение с мужчиной является ритуалом, согласованным с космическими циклами, которые узаконивают этот союз.
Всю палеовосточную брачную символику можно объяснить посредством небесного образца. Шумеры праздновали свадьбу в день отмечания Нового года; на Древнем Востоке бытовал космогонический миф, согласно которому именно в этот день был заключен священный брак; по обычаю брак этот имитируется посредством соединения царя с богиней.[37] Именно в день нового года Иштар делит ложе с Таммузом, и царь проигрывает этот мифический брак, совершая ритуальное совокупление с богиней (то есть храмовой жрицей, воплощающей собой богиню-супругу) в потайной комнате храма, на брачном ложе богини. Божественный союз обеспечивает плодородие земли; когда Нинлиль соединяется с Энлилем, начинается дождь.[38] Плодородие также обеспечивается брачной церемонией короля и прочих брачных пар живущих на земле людей, и т. д. Каждый раз, когда воспроизводится модель священного брака, то есть каждый раз, когда заключается брачный союз, происходит возрождение мира. Немецкий термин "Hochzeit" (свадьба) происходит из "Hochgezi", празднование Нового года. Брак возрождает «год» и, соответственно, наделяет его плодородием, изобилием и счастьем.
Во многих культурах половой акт часто уподобляется полевым работам.[39] В Шатапатха-брахмана, VII, 2, 2, 5 земля уподобляется женским репродуктивным органам (уоni) а посев — мужскому семени. "Ваши женщины принадлежат вам, как принадлежит вам земля" (Коран, II, 223). Ритуальные коллективные оргии в основном объясняются стремлением содействовать силам, ведающим ростом растений; они устраиваются в переломные моменты года: когда всходят посевы или когда зреет урожай; образцом для них всегда служит священный брак, символизирующий космого1точеский акт. Такова, например, оргия, устраиваемая племенем эве (Западная Африка) в период созревания ячменя; оргия узаконена символическим браком (девушек отдают божеству Питону). Такое же обоснование имеют оргии народа ораонов, устраиваемые в мае — месяце, когда произошло соединение бога Солнца с богиней Землей. Все эти разнузданные празднества тем или иным образом оправданы посредством космогонического или биокосмогонического актов: новым рождением Года, переломным моментом в созревании урожая и т. д. Во время Флоралии (27 апреля) по улицам Рима шествовали обнаженные мальчики; во время Луперкалий к женщинам прикасались руками, дабы предотвратить бесплодие; во время праздника Холи, отмечавшегося по всей Индии, были дозволены всяческие вольности; с буйством, царившем в центральной и северной Европе во время праздников урожая, безуспешно боролись церковные власти (ср., например, постановления собора в Осере в 590 г. и т. д.). У всех этих празднеств, с помощью которых люди старались добиться плодородия земель и всеобщего изобилия, был свой божественный прототип (О космологическом значении «оргии» см. гл. II).
Для настоящего исследования не столь существенно знать, в какой мере матримониальные обряды и оргии способствовали созданию мифов, подтверждающих необходимость их существования. Для нас важно, что оргии, как и брак, являлись обрядами, воспроизводящими божественные деяния или определенные эпизоды из священного действа Космогонии; человеческие действия легитимизируются, когда у них имеется божественная модель-прототип. Пусть даже миф иногда возникал после появления обряда — например, церемония добрачного соединения супругов появилась раньше, нежели возник миф о добрачных отношениях Геры и Зевса, то есть миф, оправдывавший добрачное сожительство — это совершенно не умаляло сакрального значения церемониала. Будучи формулой, миф не бывает запоздалым, но содержание его всегда архаично и всегда соотносится с таинствами, то есть с действами, предполагающими наличие абсолютной, вне человеческого бытия, реальности.
1.5. Архетипы «мирской» деятельности
В общем и целом можно сказать, что человечество, находящееся на архаической стадии развития, не знало «мирской» деятельности: каждое действие, имевшее определенную цель, как-то: охота, рыболовство, земледелие, игры, войны, половые отношения и т. д., — так или иначе было сакрализовано. Как далее нам станет ясно, действиями могут считаться только те, кто не имеет мифологического значения, то есть у кого нет образца для подражания. Можно сказать, что всякое осознанное действие, преследующее вполне определенную цель, для человека, стоящего на архаической ступени развития, представляло собой определенный ритуал. Но так как большинство этих действий подверглись долгому процессу десакрализации и в современном обществе превратились в действия «мирские», мы сочли необходимым выделить их в отдельную группу.
Возьмем, к примеру, танец. Все танцы были изначально сакральны; иными словами, они имели свои божественные образцы. В одних случаях этот образец задавало то темное или символическое животное, и в этом случае танцевальные движения воспроизводились, чтобы заклясть его с помощью колдовства, умножить его численность или получить для человека дар воплощения в это животное; в других образец создало божество (например, пиррихий, танец с оружием, придуманный Афиной, и т. д.) или герой (ср. танец Тезея в Лабиринте); иногда танец исполнялся, чтобы раздобыть пищу, воздать почести мертвым или же обеспечить упорядоченность Космоса; он мог исполняться во время инициационных, магических и религиозных церемоний, во время бракосочетаний и т. д. — обсуждения подобного рода деталей мы можем избежать. Нас интересует прежде всего предполагаемое сверхъестественное происхождение танцев (ибо каждый танец был создан in illo tempore, в мифическое время «предком», тотемным животным, богом или героем). Танцевальные ритмы берут свое начало за пределами мирской жизни человека, воспроизводят ли они движения тотемного или символического животного, или движение звезд, сами ли по себе являются ритуалом (продвижение по лабиринту, прыжки, действия с культовыми предметами и т. д.) — танец всегда воспроизводит действо эталонное или мифологическое. Одним словом, это воспроизведение, а, следовательно, реактуализация "того времени".
Сражения, битвы, войны долгое время имели ритуальную причину и функцию. Будь то постоянно подогреваемая вражда двух племенных кланов, или борьба между представителями двух различных божеств (например, в Египте сражение между двумя армиями, представлявшими Осириса и Сета), — она всегда воспроизводит эпизод из божественной космогонии. Войну или дуэль никогда нельзя объяснить рациональными причинами. Хокарт совершенно правильно объяснил ритуальную роль военных действий.[40] Каждый раз, когда возобновляется конфликт, происходит воспроизведение образцовой модели. Согласно традиции северных народов, первым поединком считается поединок Тора: Тор, спровоцированный великаном Хрунгниром, встречает его на «границе» и побеждает в единоборстве. Этот мотив мы встречаем в индо-европейской мифологии, и Жорж Дюмезиль[41] прав, когда рассматривает его как позднюю, но тем не менее исконную версию очень древнего обряда инициации воина. Молодой воин должен был повторить поединок Тора и Хрунгнира; в самом деле, инициация воина заключается в некоем доблестном деянии, мифологическим прототипом которого является убийство трехголового чудовища. К примеру, отчаянные берсерки, эти свирепые воины, следуя примеру богов, приводили себя в состояние священной ярости (wut, menos, furor).
Индийская церемония жертвоприношения царя, раджасуя, "всего лишь земное повторение древнего обряда, который первый монарх Варуна обратил в свою пользу; об этом многократно твердят брахманы… Из ритуальных объяснений, утомительных, но познавательных, следует утверждение, что царь совершает то или иное действие, потому что на заре времен, в день своего помазания, это сделал Варуна".[42] И, судя по имеющимся у нас документальным источникам, подобный механизм присущ и прочим традициям (ср. классические сочинения Морета о священном характере монархии в Египте и Лабата, о королевской власти в Ассирии и Вавилоне). Строительные ритуалы воспроизводят первичный акт космогонии. Жертва, приносимая во время строительства дома (церкви, моста и т. п.), всего лишь повторение — но уже человеком — изначального жертвоприношения, совершенного in illo tempore, чтобы дать рождение миру (см. гл. II).
Магические и фармацевтические свойства трав также обусловлены наличием небесного прототипа растения, или же тем, что впервые травы эти были сорваны богом. Ни одно растение не имеет своей собственной ценности, ценность его зависит исключительно от его сходства с образцом или благодаря повторению определенных слов и жестов, вырывающих его из мирского пространства и сакрализующих его. Вот пример двух англо-саксонских формул-заклинаний XVI века, обычно произносимых во время сбора лекарственных трав и уточняющих происхождение их целебных свойств; впервые (то есть ab origine) эти травы выросли на священной горе Голгофе (в «середине» Земли): "Приветствую тебя, о святая трава, и да произрастать тебе на земле; сначала ты росла на горе Голгофе, а посему ты хорошо излечиваешь любые раны; я соберу тебя во имя сладчайшего Иисуса" (1584). "Ты, вербена, считаешься на земле святой травой, ибо давным-давно нашли тебя на горе Голгофе. Ты исцелила нашего Спасителя Иисуса Христа и затянула его кровоточащие раны; во имя (Отца, и Сына, и Святого Духа) я соберу тебя". Целебные свойства этой травы приписывались тому обстоятельству, что ее прототип был обнаружен в решающий для мироздания момент ("в то самое время") на горе Голгофе. Она стала сакральной, потому что исцелила раны Спасителя. Сила трав зависит исключительно от точного воспроизведения изначального действия исцеления. Вот почему старая формула заклинания гласит: "Мы отправляемся собирать травы, чтобы приложить их к ранам Спасителя".[43]
Формулы христианской народной магии восходят к древней традиции. В Индии, к примеру, трава Kapittaka (Feronia elephantum) излечивает половое бессилие, ибо ab origine Гандхарва использовал ее, чтобы вернуть Варуне его мужественность. Следовательно, ритуальный сбор трав, по сути, повторение действий Гандхарвы. "Ты та трава, что выкопал Гандхарва дня Варуны, утратившего силу свою мужскую; тебя мы вырвем!" (Атхарваведа, IV, 4,1). Длинное обращение к траве, содержащееся в Парижском Папирусе, подчеркивает ее исключительную значимость: "Ты была посеяна Кроном, собрана Герой, сохранена Амоном, рождена Изидой, вскормлена Зевсом дожденосцем; ты выросла благодаря Солнцу и росе…" Для христианина врачебные травы обладали своими свойствами благодаря тому, что впервые были найдены на Голгофе. В древности люди считали, что целебными свойствами травы обязаны тому, что впервые были найдены богами. "Буквица, первым нашел тебя Эскулап, кентавр же Хирон…" — таково обращение, рекомендуемое в одном из травников.[44]
Было бы утомительно — и даже бессмысленно для целей настоящего очерка — вспоминать все мифические прототипы всех видов человеческой деятельности. Например, человеческое правосудие, основанное на идее «закона», имеет свою трансцендентную небесную модель, основанную на космических законах (tao, artha, rta, tzedek, themis и т. п.); факт этот достаточно известен, так что не стоит на нем задерживаться. "Произведения человеческого искусства являются подражанием произведениям искусства божественного" (Айтарей брахмана, VI, 27; ср. Платон, Законы, 667–669;
Политик, 306d, и т. д.) — лейтмотив архаических эстетических взглядов, прекрасно представленный в трудах Ананды К. Кумарасвами.[45] Интересно отметить, что состояние блаженства, эвдемония (eudaimonia) является имитацией удела богов, не говоря уж о различных типах энтузиазма (enthousiasmos), возникающих в душе человека через повторение определенных действий, которые совершали боги in illo tempore (оргии Диониса и т. п.): "Деятельность Бога, чье блаженство превосходит все, чисто созерцательна, и среди видов человеческой деятельности самой блаженной является та, которая более всего приближается к деятельности божественной (Никомахова Этика, 7178 Ь, 21); "насколько возможно, уподобиться Богу" (Теэтет, 1770 е)) haec Hominis est perfectio, similitude Dei (Человек, уподобившийся Богу, совершенен) (святой Фома Аквинский).
Нам следует добавить, что для первобытных племен все важные дела их повседневной жизни были ab origine проделаны богами или героями. Людям нужно только повторять до бесконечности эти образцовые и смоделированные деяния. Австралийское племя юин уверено, что все инструменты и оружие, которыми оно пользуется до сих пор, изобрел специально для него Дарамулун, "Великий Отец". Также и племя курнаи знает, что Мунганнгауа, Верховное Существо, проживал рядом с ними на земле в начале времени специально для того, чтобы научить их делать инструменты, лодки, оружие, "одним словом, заниматься теми ремеслами, которые он знал сам".[46] Во многих мифах Новой Гвинеи говорится о долгих морских путешествиях, из которых были привезены рассказы об "изначальных образцах всего того, что требуется знать и уметь мореплавателям", а также о моделях поведения, необходимых для выполнения любого рода деятельности, "будь то любовь, война, рыбная ловля, призывание дождя или какое иное действие… В рассказах этих шла речь о прототипах, подражать которым необходимо при постройке лодки, при наложении сексуальных табу, и т. п.". Когда капитан выходит в море, он уподобляется мифическому герою Аори. "На нем надет такой же костюм, какой, согласно мифу, был на Аори; как и у Аори, на лицо его нанесена черная краска, а в волосах видна монетка, подобная той, которую Аори взял с головы Ивири. Он танцует на палубе и машет руками, как Аори махал своими крыльями… Один рыбак рассказывал мне, что, когда он начинал стрелять из лука в рыбу, он сравнивал себя с самим Кивавиа. Рыбак не просил милости или помощи у этого мифологического героя: он просто уподоблял себя ему".[47]
Символика мифологических архетипов имеется и во многих других первобытных культурах. Дж. П. Харрингтон пишет о калифорнийских индейцах карок: "Что бы ни делал индеец карок, он уверен, что может это делать только потому, что иксарейавс в мифические времена показали ему пример, как это делается. Иксарейавс были людьми, прибывшими в Америку до заселения ее индейцами. Современные индейцы карок, не зная, что в действительности означает это слово, предлагают переводить его как «властелины», "предводители", «ангелы»… Существа эти жили вместе с индейцами только то время, которое понадобилось им, чтобы обучить индейцев исполнять все надлежащие обряды: при этом они повторяли: "Вот так и будут делать дальше все люди". Память об этих поступках и речах хранится до сих пор, о них говорится в магических заклинаниях индейцев карок".[48]
Встречающаяся на Северо-Западе Америки любопытная система ритуального общения, именуемая потлач, всего лишь воспроизведение обычая, установленного предками в мифологические времена; потлачу посвящен знаменитый труд Марселя Мосса "Эссе о жертвоприношении…" И подобные примеры нетрудно умножить.[49]
1.6. Мифы и история
Каждый из приведенных в данной главе примеров выявляет одну и ту же «примитивную» онтологическую концепцию: любой предмет и любое действие становятся реальными только тогда, когда они имитируют или повторяют некий архетип. Итак, реальность приобретается исключительно путем повторения или участия; все, что не имеет образца для подражания, "лишено смысла", то есть не есть реальность. Таким образом, люди тяготели к эталонному и парадигматическому типу поведения. Подобная тенденция может показаться парадоксальной, в том смысле, что человек на архаической стадии развития осознавал себя реально существующим лишь тогда, когда переставал быть самим собой (с позиций современного наблюдателя) и довольствовался тем, что воспроизводил или повторял поступки другого. Иными словами, он не осознавал себя реально существующим, то есть ощущал себя "самим собой" только в той степени, в какой он переставал им быть. Значит, можно утверждать, что эта «примитивная» онтология обладает платоновской структурой, и Платон в этом случае мог бы рассматриваться как образцовый философ "первобытного склада ума", то есть как мыслитель, сумевший оценить с философской точки зрения способы существования и поведения людей на архаической стадии развития общества. Разумеется, «оригинальность» его философского гения от этого отнюдь не умаляется; великой заслугой Платона остается его попытка теоретически обосновать видение мира, коим обладало архаическое человечество, и сделать это посредством диалектики, в той степени, в какой это было возможно на современном ему уровне развития духовности.
Однако в данном случае нас интересует не столько данный аспект платоновской философии, сколько исследование онтологии архаического общества. Утверждение, что эта онтология обладает платоновской структурой, нам мало что дает. Гораздо более важным представляется второй вывод, проистекающий из анализа вышеизложенных фактов, а именно явление отмены времени посредством подражания образцам и повторением парадигматических действий. Жертвоприношение, например, не просто в точности воспроизводит изначальное принесение жертвы божеством ab origine, в начале времен, оно совершается в то же самое мифологическое первовремя; иными словами, всякое жертвоприношение повторяет жертвоприношение изначальное и совпадает с ним по времени. Все жертвоприношения совершаются в одно и то же начальное мифологическое время; парадокс ритуала заключается в том, что мирское время и его непрерывность временно прерываются. То же самое можно сказать и обо всех повторениях, то есть обо всех воспроизведениях архетипов; посредством подражания образцам человек как бы переносится во время мифологическое, когда эти образцы были сотворены впервые. Таким образом мы отмечаем второй аспект онтологии первобытного общества: по мере того, как действие (или предмет) приобретает определенную реальность посредством повторения парадигматически заданных операций, происходит скрытое устранение мирского времени и его непрерывности, устранение «истории», и тот, кто воспроизводит действие-архетип, переносится, таким образом, в мифологическое время, где впервые случилось данное действие-архетип.
Устранение мирского времени и перемещение человека во время мифологическое происходит, разумеется, только в специальные временные отрезки, то есть тогда, когда человек действительно пребывает самим собой: во время ритуалов или значимых действий (принятие пищи, рождение, церемониалы, охота, рыбная ловля, война, работа и т. д.). Прочая его жизнь протекает в мирском времени и лишена значимости: человек пребывает в «становлении». Тексты брахманов наглядно показывают гетерогенность обоих времен, сакрального и мирского, гетерогенность модальностей «бессмертных» богов и «смертных» людей. Воспроизводя архетипическое жертвоприношение, жрец в разгар церемонии покидает мирской мир смертных и вступает в божественный мир бессмертных. Сам он говорит об этом в следующих словах: "Я достиг Неба, боги; я стал бессмертным!" (Тайттирия-самхита, 1,7,9). Если потом ему приходится вновь вернуться в мирской мир, покинутый им во время ритуала, то, сделав это без определенной подготовки, он рискует мгновенно умереть; поэтому для возвращения жреца в мирское время необходимы различные обряды десакрализации. Аналогичным образом обстоит дело и с ритуальным совокуплением; мужчина прекращает жить в бессмысленном мирском времени, потому что воспроизводит божественный образец ("Я — Небо, Ты — Земля" и т. д.). Выходя в море, меланезийский рыбак становится Аори и ощущает себя в мифологическом времени, на том его отрезке, когда совершалось искомое путешествие. Мирское пространство устраняется посредством символического Центра, благодаря которому любой храм, любой дворец, любая постройка становится центром мифологического пространства, равно как и любое осмысленное действие, совершаемое первобытным человеком, любое реальное действие, то есть любое повторение действия-архетипа, прерывает непрерывность, устраняет мирское время и осуществляет переход к времени мифологическому.
В следующей главе, где мы будем рассматривать ряд параллельных концепций, связанных с обновлением времени и символическим значением Нового года, мы еще не раз будем констатировать, что прерывание мирского времени соответствует глубокой потребности архаического человека. Нам станет ясней суть этой потребности, когда мы увидим, что человеку, принадлежащему к культуре, находящейся на архаической стадии развития, недоступно понимание «истории», и он то и дело пытается уничтожить ее. Примеры, рассмотренные нами в настоящей главе, обретут иное значение. Но прежде чем приступить к проблеме обновления времени, хотелось бы рассмотреть механизм превращения человека в архетип посредством повторения с иной точки зрения. Разберем вполне конкретный случай: в какой степени коллективная память хранит воспоминание об «историческом» событии? Мы убедились, что любой воин подражает «герою», старается как можно точнее воспроизвести модель его поведения. Посмотрим же, какие воспоминания об исторической личности, известной по многочисленным письменным источникам, сохранились в народной памяти. Приступив к рассмотрению проблемы под этим углом, мы делаем шаг вперед, ибо на этот раз нам предстоит иметь дело с обществом, которое хотя и характеризуется как «народ», однако уже не может быть названо «примитивным».
Итак, рассмотрим единственный, но характерный пример — мифологическую парадигму поединка Героя с гигантским змеем, чаще всего трехголовым; иногда на месте змея появляется морское чудовище (поединки Индры, Геракла и т. д.; сражение Мардука). Когда предания еще живы, великие властители осознанно подражают первогерою: Дарий уподоблял себя Траэтаону, иранскому мифологическому герою, который, согласно легенде, уничтожил трехголовое чудовище; для Дария — и посредством Дария — произошло возрождение истории, но история эта явилась реактуализацией исконного героического мифа. Врагов фараона называли "сыновьями развалин, волков, собак" и т. п. В тексте, именуемом Книгой Апофиса, враги, побеждаемые фараоном, приравниваются к дракону Апофису, в то время как сам фараон уподобляется богу Ра, победителю дракона.[50] Аналогичное превращение истории в миф, но с иными целями, можно найти в видениях еврейских поэтов. Чтобы иметь силы "выдержать историю", то есть пережить поражения в войнах и политические неудачи, евреи толковали современные события, обращаясь к старейшему героико-космогоническому мифу, в котором дракон одерживал временную победу, но в конце непременно погибал от руки Царя-Мессии. Их воображение придало языческим царям (фрагмент Zadochite, IX, 19–20) черты дракона: таков Помпеи, описанный в Псалмах Соломона (IX, 29), Навуходоносор, описанный Иеремией (51–34). В Завете Ашера {Testament d'Asher, VII, 3), Мессия убивает дракона в воде (ср. псалом 74–13).
В случае с Дарием и фараоном, равно как и в мессианской традиции евреев, мы имеем дело с теорией, созданной «элитой», которая интерпретирует современную историю с помощью мифа. Следовательно, речь идет о ряде современных событий, пересказанных и интерпретированных по вневременной модели героического мифа. Современный суровый критик наверняка станет расценивать претензии Дария как тщеславие и политическую пропаганду, а мифологическое превращение языческих царей в драконов представит хитроумным изобретением еврейского меньшинства, неспособного переносить тяготы "исторической реальности" и жаждущего утешения любой ценой, включая бегство в миф и wishfull-thinking. Разумеется, подобное толкование ошибочно, ибо оно не учитывает структуры архаического менталитета, однако происходит оно, помимо всего прочего, также и по той причине, что в народной памяти исторические события и персонажи сополагаются и интерпретируются совершенно аналогичным образом. Если мифологизация биографии Александра Македонского, возможно, имеет литературное происхождение, и, соответственно, ее можно считать вымышленной, то о документальных свидетельствах, о которых мы будем говорить ниже, этого сказать нельзя.
Дьедонне де Гозон, третий Великий Магистр рыцарей ордена Святого Иоанна Родосского, остался в памяти народной, потому что убил дракона из Мальпасо. Естественно, легенда наделила принца де Гозона всеми атрибутами святого Георгия, известного своей победоносной борьбой с чудовищем. Нет нужды уточнять, что поединок принца де Гозона с драконом не упоминается в документах его времени, и писать о нем начинают только два века спустя после рождения героя. Иными словами, на основании того, что принц де Гозон считался героем, его причислили к определенной категории, к архетипу, который совершенно не соответствовал его подлинным, историческим, подвигам, и наделили его мифологической биографией, в которой невозможно было обойтись без сражения с ужасной рептилией.[51]
П. Караман в прекрасно документированной работе о генезисе исторической баллады сообщает, как о вполне конкретном историческом событии (а именно о суровой зиме, упомянутой в хронике Леунклавиуса, а также и в иных польских источниках, во время которой целая армия турок нашла свою смерть в Молдавии) в румынской балладе, повествующей об этой плачевной для турок экспедиции, практически не упоминается, а само историческое событие полностью превратилось в миф (Малкош-Паша был побит царем Зимой[52] и т. п.).
Мифологизация исторических личностей наблюдается также в героической южнославянской поэзии. Героем южнославянского эпоса стал Марко Кралевич, прославившийся своей храбростью во второй половине XIV века. Историчность данного персонажа не подвергается сомнению, известна даже дата его смерти (1394 год). Но, став частью народной памяти, историческая личность Марко отходит на задний план, и биография его воссоздается заново — по мифическим стандартам. Подобно греческим героям, рожденным нимфами или наядами, мать Марко — вила, волшебница. Супруга его тоже вила, хитростью завоевав ее, он прячет подальше ее крылья, так как боится, что если она найдет их, то поднимется в небо и улетит от него (в некоторых вариантах баллады так и случается после рождения первенца; ср. миф о герое народа маори Тафаки, жена которого, спустившаяся с неба волшебница, покидает его после рождения ребенка). Марко сражается с трехголовым драконом и убивает его, в чем явно просматривается аналогия с архетипами: Индрой, Траэтаоном, Гераклом[53] и т. п. В соответствии с мифом о «братьях-врагах» он борется со своим братом Андреем и убивает его. Как и любой другой архаический эпос, цикл эпических песен о Марко изобилует анахронизмами. Умерший в 1394 году. Марко представлен то другом, то недругом Яноша Хуньяди, отличившегося в сражениях с турками около 1450 года. (Интересно отметить, что сближение этих двух героев отмечено в рукописях эпических баллад XVII века — то есть две-сти лет спустя после смерти Хуньяди. В современных эпических поэмах анахронизмы встречаются значительно реже:[54] у их персонажей не было времени превратиться в мифических героев.)
Тот же мифический ореол окружает и других героев южнославянской эпической поэзии. Вукашин и Новак женятся на вилах. Вук ("Змей-деспот") поражает дракона Ястребака и сам получает способность превращаться в дракона. Вук, правивший в Среме между 1471 и 1485 годами, приходит на помощь Лазарю и Милице, умершим веком раньше. В поэмах, действие которых приурочено к первой битве при Косово (1389 год), речь идет о персонажах, скончавшихся двадцать лет назад (например, Вукашин) или же должных умереть век спустя (Эрцег Степан). Волшебницы (вилы) излечивают раненых героев, воскрешают их, предсказывают их будущее, сообщают им о грядущих опасностях и т. п., все как в мифе, существо женского пола помогает герою и оказывает ему покровительство. Не обходится и без полного набора героических «испытаний»: надо сбить яблоко стрелой из лука, перепрыгнуть через несколько коней, узнать нужную девушку среди одинаково одетых девиц[55] и т. д.
Ряд героев русских былин, скорей всего, имеют исторические прототипы. Некоторые герои Киевского цикла упоминаются в летописях, но на этом их историчность и завершается. Нельзя даже с точностью сказать, является ли князь Владимир, центральный персонаж Киевского цикла, Владимиром I, умершим в 1015 году, или же подразумевается его правнук, Владимир II, правивший между 1113 и 1125 годами. Историческая достоверность облика и подвигов главных героев цикла — Святогора, Микулы и Вольги — почти сведена на нет; в результате они начинают необычайно походить на героев мифов и народных сказок. Один из героев Киевского цикла, Добрыня Никитич, которого в былинах иногда называют родичем Владимира, славой своей в значительной мере обязан абсолютно мифическому подвигу: он убивает 12-голового дракона. Еще один герой былин — Михаило Потыка также убивает дракона, приготовившегося пожрать девушку, только что принесенную ему в жертву.
Таким образом мы как бы присутствуем при превращении исторического персонажа в мифического героя. Речь идет об элементах сверхъестественного, призванных на помощь легенде: например, герой Вольга из Киевского цикла, способный превращаться в птицу или волка, — настоящий шаман или персонаж старинных легенд; Егорий является на свет с посеребренными ногами, позолоченными руками и усыпанной жемчугами головой; Илья Муромец более похож на великана из народных сказок- ведь он претендует на то, чтобы одновременно головой касаться Неба, а ногами — Земли! и т. д. Кроме того, происходит процесс превращения в миф исторического прототипа, ставшего героем народных эпических песен; превращение осуществляется по образцовой модели: герои «вылеплены» по образцу древних мифов. Все они появились на свет посредством чудесного рождения, и, как в Махабхарате и гомеровских поэмах, по крайней мере один из родителей имеет божественное происхождение. Как в татрских и полинезийских эпических песнях, герои предпринимают путешествие на Небо или спускаются в Преисподнюю.
Так что еще раз повторим: на подлинный характер исторического персонажа, воспетого в эпической поэзии, нет даже намека.
Историчность недолго противостоит коррозийному воздействию мифологизации. Само по себе историческое событие, каким бы важным оно ни было, не удерживается в народной памяти, и воспоминание о нем воспламеняет поэтическое воображение только в той мере, в какой это событие приближено к мифической модели. В былинах о наполеоновском нашествии 1812 года роль царя Александра I как главнокомандующего русской армией была забыта, вплоть до имени, и от битвы при Бородине осталась только фигура народного героя Кутузова. В 1912 году солдаты бригады сербской армии видели, как Марко Кралевич руководил обстрелом замка Прилеп; несколько веков назад замок этот принадлежал историческому Марко, и вот было достаточно одного героя, чтобы коллективное воображение, пробужденное его подвигом, ассимилировало его с традиционным архетипом из песен о Марко, тем более, что речь шла о собственном замке Марко.
"Миф — это последняя, а отнюдь не первая стадия развития образа героя" (Чедвик, т. III, с. 176). Это заключение только подтверждает вывод многих исследователей (ср. Кара-май и др.), что воспоминание о каком-либо историческом событии или историческом персонаже хранится в народной памяти два — от силы три века. Это объясняется тем, что народная память с трудом удерживает «индивидуальные» события и «подлинные» лица. В своем функционировании она опирается на отличные от истории структуры: использует категории вместо событий, архетипы вместо исторических персонажей. Историческое лицо ассимилируется со своей мифической моделью (герой и т. п.), а событие интегрируется в категорию мифических действий (борьба с чудовищем, братом, ставшим врагом, и т. д.). Если в некоторых эпических поэмах и сохранилась так называемая "историческая правда", то обычно она «правдива» в отношении к социальным институтам, обычаям и пейзажам, но почти никогда к определенным персонажам и событиям. Например, как отмечает М. Мурко, в сербских эпических поэмах довольно достоверно описана жизнь в австро-турецком и турецко-венецианском приграничье до заключения мира в Карловичах в 1699 году.[56] "Исторические истины" как таковые относятся к традиционным формам общественной и политической жизни (их «становление» происходит более медленно, нежели «становление» индивида) и совершенно не касаются «личностей» или «событий», словом, архетипов.
Коллективная память антиисторична. Это утверждение не предполагает ни "народного происхождения" фольклора, ни "коллективного творца" эпической поэзии. Мурко, Чедвик и другие ученые определили роль творческой личности, «художника», в создании и развитии эпической поэзии. Мы просто хотим сказать, что — независимо от происхождения фольклорных тем и большего или меньшего таланта творца эпических песен — воспоминания об исторических событиях и подлинных персонажах трансформируются в течение двух или трех веков, и только затем получают возможность войти в матрицу архаической ментальности, отторгающей индивидуальное и сохраняющей только образцовое. Подобное сведение событий к категориям и индивидуальностей к архетипам, происходящее в сознании народов Европы вплоть до наших дней, вполне согласуется с архаической онтологией. Можно даже сказать, что народная память возвышает исторического персонажа недавних времен, превращая его в подражателя архетипу и исполнителя архетипических подвигов, ибо подобная модель поведения в архаическом обществе до сих пор обладает определенной значимостью (о чем свидетельствуют приведенные в этой главе примеры), а персонажи, к примеру, вроде Дьедонне де Гозона или Марко Кралевича, таковой уже не соответствовали.
Иногда события необычайно быстро превращаются в миф, но это случается крайне редко. Незадолго до последней войны румынский фольклорист Константин Брайлою записал в селении Марамуреш великолепную балладу. В ней рассказывалось о трагической любви: молодой жених был околдован живущей в горах волшебницей, и за несколько дней до свадьбы она из ревности сбросила его со скалы. На следующий день пастухи нашли его тело, а на дереве — его шляпу. Они принесли тело в деревню; навстречу им выбежала девушка; увидев бездыханное тело жениха, она запела похоронный плач, исполненный мифологических аллюзий, настоящий литургический текст, прекрасный в своей грубоватой простоте. Таково было содержание баллады. Записывая варианты, которые ему удалось обнаружить, фольклорист спросил, в какое время разыгралась трагедия; в ответ он услышал, что это древняя история, случившаяся "очень давно". Однако продолжая опрос, фольклорист узнал, что истории этой едва ли минуло сорок лет. Также он обнаружил, что героиня ее еще жива. Посетив ее, он выслушал весь рассказ из ее собственных уст. В сущности, трагедия была весьма банальна: однажды вечером ее жених нечаянно поскользнулся на узкой тропе и сорвался в пропасть; однако он остался жив; его крики услыхали горцы, они и принесли его в деревню, где он вскоре умер. На похоронах его невеста вместе с другими деревенскими женщинами повторяла обычные ритуальные причитания, без каких-либо намеков на живущую в горах волшебницу.
Итак, несмотря на присутствие основного свидетеля, за какие-нибудь несколько лет событие лишилось какой бы то ни было историчности и превратилось в легенду: ревнивая волшебница, убийство жениха, нахождение безжизненного тела, плач невесты, изобилующий мифологическими темами. Почти все население деревни было современниками этого подлинного события; но сам факт как таковой не мог никого удовлетворить: трагическая смерть жениха накануне свадьбы была чем-то иным, чем просто несчастным случаем; она несла в себе оккультный смысл, постичь который можно было только при условии введения его в мифическую категорию. Мифологизация несчастного случая не ограничилась созданием баллады; историю про ревнивую колдунью и смерть жениха пересказывали даже в повседневных разговорах, то есть излагали «прозой». Когда же фольклорист напомнил жителям деревни подлинную версию, они ответили, что старуха все перепутала, ибо великое горе лишило ее разума. Истинным стал миф, а подлинное событие — ложью. С момента, как миф передал истории свое более глубокое и богатое звучание, он стал достоверней, чем сама действительность: миф полностью высветил трагизм случившегося.
Антиисторический характер народной памяти, невозможность удержать в коллективной памяти события и исторические лица, иначе как превратив их в архетип, то есть аннулировав все их «исторические» и «личностные» особенности, выдвигает ряд новых проблем, которых мы пока касаться не будем. Тем более, что мы уже имеем право задаться вопросом, не является ли пристрастие архаического сознания к архетипам, равно как и способность народной памяти хранить исключительно архетипы, чем-то большим, нежели просто неприятием истории со стороны традиционной духовности; не свидетельствует ли это свойство народной памяти о недееспособности или хотя бы о вторичном характере человеческой индивидуальности как таковой, индивидуальности, чья спонтанная креативная деятельность, судя по последним исследованиям, и лежит в основе достоверности и необратимости истории. Во всяком случае весьма примечательно, что, с одной стороны, народная память отказывается хранить индивидуальные, «исторические» подробности биографии героя, а с другой — высший мистический опыт предполагает последнее восхождение от Бога личного к Богу внеличностному. Столь же поучительно сравнить с этой точки зрения выработанные в различных культурных традициях концепции жизни после смерти. Превращение покойника в «предка» соответствует переходу индивида в категорию архетипа. В различных культурах (например, в Греции) души простых смертных утрачивают «память», то есть теряют то, что можно назвать их исторической индивидуальностью. Превращение умерших в духов и т. п. в определенном смысле означает их реинтеграцию в безличностный архетип «предка». Нетрудно догадаться, почему у греков только герои сохраняют после смерти свои индивидуальные качества (то есть свою память): совершая во время своей земной жизни только образцовые действия, герой сохраняет и память о них, потому что с определенной точки зрения эти действия были безличностны.
Даже оставляя в стороне варианты превращений умерших в «предков» и рассматривая смерть как некое завершение «истории» индивида, тем не менее вполне естественно, что воспоминание post-mortem (посмертное) об этой «истории» имеет ограничение, или, иными словами, воспоминание о всех страстях и событиях, связанных с индивидуальностью личности, в какой-то момент существования после смерти прекращается. Что же касается положения, согласно которому безличное существование приравнивается к собственно смерти (в той мере, в которой живет только личность, обладающая памятью и неразрывно связанная с историей), то оно значимо только с точки зрения "исторического сознания", иными словами, с точки зрения современного человека, ибо архаическое сознание не придает значения «личным» воспоминаниям. Не просто определить, какое значение вкладывается в выражение "существование безличного сознания", хотя определенный духовный опыт и позволяет это ощутить; что «личное», а что «историческое» в волнении, ощущаемом при прослушивании музыки Баха, во внимании, необходимом для решения математической задачи, в озарении, наступающем на определенном этапе исследования какого-либо философского вопроса? В той мере, в какой современный человек проникся «историческими» предрассудками, возможность безличного существования унижает его. Но интерес к необратимости и «новизне» истории человечество стало проявлять совсем недавно. И мы скоро увидим, как человечество, пребывая на архаической стадии своего развития, по мере возможности отталкивало от себя новое и необратимое, то, что является неотъемлемой принадлежностью истории.
Ab origine (лат.) — буквально переводится как «изначально».
in illo tempore (лат.) — в то время.
Геомансические — то есть прорицания относительно священных мест gh (древнегреч.) — земля, mantikh — искусство прорицания, гадания.
initiatio (лат.) — совершение таинств; посвятительные обряды, связанные с переходом к зрелому возрасту.
Иерогамия — то есть "священное бракосочетание": ierox (древнегреч.) — священный, garox — бракосочетание.
Глава 2. ВОЗРОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ
2.1. «Год», Новый год, Космогония
Обряды и верования, представленные нами в рубрике "возрождение времени", отличаются необычайным разнообразием, но тем не менее мы полагаем, что не станем вводить никого в заблуждение, если попытаемся объединить их в единую и связную систему. Нам кажется, что в настоящем очерке мы можем обойтись без описания всех видов обрядов, возрождающих время, равно как и без их морфологического и исторического анализа. Мы не ставим своей целью познать, как создавался календарь и каким образом стало возможным ввести понятие «год» в системы миропонимания различных народов. У большинства первобытных племен наступление "Нового года" означало снятие табу на новый урожай, который таким образом провозглашался пригодным в пищу и полностью безвредным для всех членов племени. Там, где выращивают несколько сортов злаков или плодов, созревание которых приходится на разные сезоны, мы нередко встречаемся с неоднократным празднованием Нового года.[57] Это означает, что "расчленение времени" производится в зависимости от обрядов, на основании которых происходит обновление запасов пищи; то есть речь идет о ритуалах, обеспечивающих продолжение жизни всей общины. (Однако мы не можем рассматривать эти ритуалы как просто отражение экономической и общественной жизни: «экономическое» и «общественное» в архаическом обществе обретают совершенно иное значение, отличное от того, которое современный европеец имеет тенденцию им приписывать.) Принятие солнечного года как единицы времени восходит к египтянам. В большинстве других древних культур (а до определенного времени даже в Египте) известен и лунный, и солнечный год, он состоял из 360 дней (или из 12 месяцев, каждый по 30 дней), к которому прибавляли 5 дополнительных дней, именуемых эпагоменами.[58] Индейцы племени зунья называли месяцы "шагами года", а год "перегоном времени". Начало года изменялось от страны к стране и было обусловлено как определенными временными периодами, так и постоянными реформами календаря, предпринимавшимися с целью согласования ритуально-значимых праздников с временами года, которым они должны были соответствовать.
Однако ни подвижность даты наступления Нового года (март-апрель, 19 июля, как у древних египтян, сентябрь, октябрь, декабрь-январь и т. п.), ни сложившаяся у разных народов различная продолжительность года не могли умалить того огромного значения, которое во всех странах придавалось окончанию временного периода и началу нового отрезка времени. Нетрудно догадаться, что нам, к примеру, безразлично, что африканский народ йоруба делит год на сезон засухи и сезон дождей, а «неделя» у него состоит из пяти дней против восьмидневной недели народа дед калабар; или что народ варунди делит год на месяцы согласно фазам луны, отчего год у него состоит из неполных тринадцати месяцев; или же что народ ашанти делит каждый месяц на два периода по десять дней (или по девять с половиной дней), и т. д. Для нас основным является повсеместное существование понятия конца и начала временного периода, выделенного на основании наблюдений над биокосмическими ритмами и вписанного в более обширную систему, а именно в систему регулярных очищений (ср. очищения, посты, исповеди в грехах и т. п. во время потребления нового урожая) и циклического возрождения жизни. Эта необходимость периодического возрождения сама по себе кажется нам весьма примечательной. Примеры же, которые мы собираемся привести, раскрывают нам нечто гораздо более важное, а именно, что периодическое возрождение времени предполагает в более или менее явной форме, и в частности, в исторических цивилизациях, новое Творение, то есть повторение космогонического акта. И это понятие периодического творения, то есть циклического возрождения времени, ставит вопрос об «отмене» истории, то есть именно ту проблему, которая для настоящего очерка является первостепенной.
Читатель, знакомый с этнографией и историей религий, не может не знать важности целого ряда регулярно повторяемых церемониалов, которые для удобства изложения мы можем распределить по двум большим рубрикам: 1) ежегодное изгнание демонов, болезней и грехов; 2) ритуальные дни, предшествующие Новому году и следующие за ним. В одной из книг Золотой Ветви, а именно в книге "Козел отпущения" (фр. пер. Paris, 1925) сэр Джеймс Джордж Фрэзэр по-своему сгруппировал большое количество фактов из обоих рубрик. Однако речь не о том, чтобы дать переоценку этим фактам на страницах данной книги. В основных чертах церемония изгнания демонов, болезней и грехов сводится к следующим элементам: пост, омовение и очищение; тушение огня и его ритуальное возжигание во второй части церемонии; изгнание «демонов» с помощью шума, криков и ударов (проводится внутри жилища), с последующим их выпроваживанием — при шумной поддержке всего племени — из деревни; подобное изгнание может быть заменено ритуальным изгнанием животного (типа "козла отпущения") или человека (типа Мамуриуса Ветуриуса), рассматриваемых в данном случае как вполне реальные транспортные средства, которые унесут беды всего племени за пределы населяемой им территории (евреи и вавилоняне изгоняли "козла отпущения" "в пустыню"). Нередко проводятся ритуальные сражения между двумя группами статистов, коллективные оргии или маскарадные шествия (маски изображают духов предков, богов и т. п.). Во многих местах еще верят, что во время этих шествий духи умерших являются к жилищам живых, живые с почтением встречают духов и в течение нескольких дней окружают их почетом, после чего многолюдная процессия провожает их до границ деревни и изгоняет их. В эти же дни устраивают церемонии инициации молодых людей (имеются свидетельства об инициационных празднествах у японцев, индейцев хопи, у некоторых индоевропейских народов и т. д.; см. далее). Почти повсеместно изгнание демонов, болезней и грехов совпадает или совпадало с определенной временной границей — с празднованием Нового года.
Разумеется, одновременное совпадение всех указанных ритуалов встречается редко; в некоторых племенах на первый план выступают обряды, связанные с погашением и возжиганием огня; в других — театрализованное изгнание (с помощью шума и яростной жестикуляции) демонов и болезней; в третьих — изгнание "козла отпущения", роль которого исполняет животное или человек, и т. д. Но универсальное значение церемонии, равно как и значение каждого из составляющих ее элементов, вполне ясно: при расчленении времени и выделении его единицы, именуемой «годом», мы присутствуем не только при действенном прекращении определенного временного интервала и начале нового интервала, но также при уничтожении прошедшего года и истекшего времени. Таков смысл ритуальных очищений: это именно сгорание, уничтожение грехов и ошибок индивида и всей общины в целом, а не простое «очищение». Возрождение, как указывает само название, является новым рождением. Примеры, приведенные в предыдущей главе, а также те, о которых мы коротко расскажем вам сейчас, отчетливо свидетельствуют, что в основе ежегодного изгнания грехов, болезней и демонов лежит попытка восстановления, пусть даже краткосрочного, изначального мифического времени, «чистого» времени, времени «мгновения» Творения. Весь Новый год — это возобновление изначального времени, то есть повторение космогонии. Ритуальные сражения между двумя группами статистов, присутствие умерших, сатурналии и оргии являются теми элементами, которые по названным далее причинам свидетельствуют о том, что в конце года и в ожидании наступления Нового года повторяются временные мифические эпизоды перехода от хаоса к космогонии.
Убедительным подтверждением сказанного является акиту, новогодний церемониал у вавилонян. Акиту вполне мог праздноваться в день весеннего равноденствия, приходящийся на месяц нисан, равно как и в день равноденствия осеннего, приходившегося на месяц тиш-рит (производное от шуру (churru) "начинать"). Несмотря на отсутствие точной даты отмечания, сомневаться в древности данного ритуала не приходится. Его идейная направленность и ритуальная структура существовали уже в шумерскую эпоху, а обособление системы акиту произошло с начала аккадской эпохи.[59] Данные хронологического уточнения отнюдь не лишние, так как мы имеем дело со свидетельствами древнейшей «исторической» цивилизации, в которой суверен играл значительную роль, ибо он считался сыном и наместником божества на земле, и, как таковой, нес ответственность за соблюдение природных циклов и упорядоченное состояние всего общества. А, значит, нет ничего удивительно, что царю выпадало играть главную роль во время церемонии встречи Нового года: ведь именно на нам лежала ответственность за возрождение времени.
Во время церемонии акиту, длившейся 12 дней, в храме Мардука в торжественной обстановке многократно декламировали "Поэму о Сотворении мира" Энума Элиш. Так происходила реактуализация сражения между Мардуком и морским чудовищем Тиамат, состоявшегося in illo tempore (в то незапамятное время); победа Мардука в этом решающем поединке положила конец хаосу. (То же можно сказать и о праздновании Нового года у хеттов, во время которого звучало повествование о решающем сражении между Тешубом, богом урагана, и змеем иллуянкой, и проигрывался их поединок[60]). Мардук творит космос из кусков рассеченного тела Тиамат и создает человека из крови демона Кингу, которому Тиамат доверила таблицы судьбы (Энума элит, VI, 23; мотив сотворения из тела первосущества встречается и в других культурах: в Китае, Индии, Иране, у германцев). Ритуалы и словесные церемониальные формулы убедительно доказывают, что подобное почитание Творения было действительно реактуализацией космогонического акта. Поединок между Тиамат и Мардуком разыгрывался в виде сражения между двумя группами статистов; этот ритуал, всегда исполнявшийся в рамках театрализованного церемониала празднования Нового года, мы встречаем у хеттов, египтян и жителей Угарита.[61] Сражение между двумя группами статистов символизировало не только изначальный конфликт между Мардуком и Тиамат; оно повторяло, актуализировало космогонию, переход от хаоса к космосу. Мифическое событие пребывало в настоящем, "пусть он и дальше побеждает Тиамат и сокращает дни ее!" — восклицал служитель культа. Поединок, победа и сотворение происходили в это самое мгновение.
В тех же рамках церемониала акиту отмечался праздник, называемый "праздником Судеб", загмук, во время которого делались предсказания на каждый из двенадцати месяцев года, отчего становилось необходимым создание двенадцати грядущих месяцев (ритуал, который более или менее выражение сохранился в иных традициях; см. ниже). Сошествие Мардука в подземное царство (божество было "пленником в горе", то есть в преисподней) соответствовало периоду печали и поста для всей общины и «смирения» для царя; обряд этот лишь недавно вписался в обширную карнавальную систему, и мы не можем настаивать на достоверности полученных о нем сведений. В это же время происходило изгнание зла и грехов при помощи козла отпущения. Наконец, цикл завершался иерогамией божества с Царпанитум; священное бракосочетание воспроизводилось царем и храмовой рабыней в спальне богини, а завершалась церемония, разумеется, коллективной оргией.[62]
Итак, праздник акиту включает в себя целый ряд драматических элементов, предназначение которых-уничтожение истекшего времени, восстановление первичного хаоса и повторение космогонического акта:
1. Первое обрядовое действо являет эпоху господства Тиамат и таким образом обозначает возврат к мифическому времени, предшествующему творению; предположительно все существа изначально пребывают в морской бездне, апсу. Воцарение "карнавального короля", «смирение» подлинного монарха, перевертывание всего общественного порядка (согласно Берозу, рабы становились господами, и т. п.), словом, наступала всеобщая неразбериха, отменялся порядок и иерархия, воцарялись «оргия» и хаос. Можно подумать, что мы присутствуем при «потопе», уничтожающем все человечество, чтобы подготовить прибытие нового, возрожденного человеческого существа. Впрочем в вавилонской традиции в описании потопа, сохранившемся на табличке XI эпопеи о Гильгамеше, как раз упоминается о том, как Ут-Напишти, прежде чем сесть на корабль, который он построил, чтобы избежать потопа, устроил праздник "как в день Нового года (акиту)". Упоминание о потопе, а иногда просто о воде, мы находим и в некоторых других преданиях.
2. Сотворение Мира, происходившее in illo tempore, ежегодно воспроизводится в начале года.
3. Человек, хотя и частично, но все же принимает непосредственное участие в этом космогоническом созидании (сражение между двумя группами статистов, представляющих Мардука и Тиамат; «мистерии», разыгрываемые по этому случаю — согласно Циммернау и Райтценштайну[63]); как мы уже видели в предыдущей главе, человек — участник действа как бы переносится в мифическое время, становится современником космогонии.
4. "Праздник судеб" — еще одно ритуальное действо творения, во время которого решается «судьба» каждого месяца и каждого дня.
5. Иерогамия — конкретная реализация «возрождения» мира и человека.
Ритуалы празднования Нового года в Вавилоне имеют аналогичное значение во всем палеовосточном мире. А так как мы уже коснулись некоторых из них, то можно закрывать их список. В замечательном исследовании "Еврейский Новый Год и происхождение эсхатологии"(The Semitic New year and the origin of eschatology ("Acta orientalia", 1,1923. P 158–199) , не получившем заслуженного признания, голландский ученый А. Д. Венсинк выявил симметричность различных систем мифо-церемониальной встречи Нового года во всем семитском мире; в каждой из этих систем преобладает центральная идея о ежегодном возвращении хаоса, за которым следует новое творение.[64] Венсинк ясно показал космический характер ритуалов встречи Нового года (можно усомниться в справедливости его теории относительно «истоков» этого ритуального космогонического действа, которые он усматривает в регулярно повторяющемся спектакле увядания и зарождения растительности; в самом деле, для «примитивных» народов Природа — это иерофания**, и "законы природы" являются откровением, подтверждающим существование божества). Даже если потоп, любая водная стихия каким-то образом и представлены в ритуале встречи Нового года, для нас гарантией являются совершаемые по этому случаю жертвенные возлияния и взаимосвязь между этим обрядом и дождем. "И вот во время месяца тишри был создан мир", — утверждает Рабби Элиезер; "во время месяца нисана", — утверждает Рабби Йошуа. Впрочем, оба эти месяца относятся к дождливым.[65] Поэтому во время праздника кущей решается количество дождей, назначенных на грядущий год, то есть определяется «судьба» грядущих месяцев.[66] Христос освятил воды в день Богоявления, в то время как обычным временем крещения у первых христиан были дни Пасхи и Нового года. (Крещение приравнивается к ритуальной смерти человека, за которой следует его новое рождение. На космическом уровне крещение равно потопу: отмена границ, слияние всех форм, отход в бесформенность.) Ефрем Сирин, разумеется, видел ежегодное повторение мистерии Творения и попытался объяснить ее: "Господь заново создал небеса, потому что грешники поклонялись небесным телам; Он заново создал мир, оскверненный Адамом; Он создал новое творение с помощью своей слюны" (Нimn. Eph., VIII, 16; Wensinck, 169).
Отдельные фрагменты древнего представления, рассказывающего о поединке божества с морским чудовищем, воплощающим хаос, и победе божества, угадываются также в еврейском церемониале встречи Нового года, каким он сохранился в культовой церемонии, принятой в Иерусалиме.
Недавние разыскания Мовинкеля, Педерсона, Ганса Шмидта, А. Р. Джонсона и т. д. выявили ритуальные элементы и космогоническую и эсхатологическую значимость Псалмов, а также показали роль царя в праздновании Нового года, когда отмечается торжество главы светлых сил яхве над силами тьмы (морской хаос, первочудовище Рахав). За этим торжеством следовало воцарение Яхве и повторение космогонии. Умерщвление чудовища Рахава и победа над Водами (означающая упорядочение мира) равнялось созданию Космоса и одновременно «спасению» человека (победа над «Смертью», гарантия пищи на будущий год[67] и т. д. Ограничимся же пока рассмотрением одной из черт архаической культуры, а именно периодического повторения (в "конце года", Исх., 34,22; в «конце» года, там же, 23,16) Творения (потому что поединок с Рахавом предполагает реактуализацию первоначального хаоса, в то время как победа над "водными глубинами" может обозначать только установление "прочных форм", то есть Творения). В дальнейшем мы увидим, что в сознании еврейского народа эта космогоническая победа становится победой над чужеземными царями, настоящими и будущими; космогония утверждает мессианство и апокалипсис, и таким образом закладываются основы философии истории.
То обстоятельство, что периодическое «спасение» человека непосредственно соотносится с гарантией пищи на грядущий год (освящение нового урожая), не должно заворожить нас до такой степени, что мы станем усматривать в данном церемониале только отголоски «примитивного» аграрного празднества. В самом деле, с одной стороны, пища во всех архаических обществах обладала ритуальной значимостью; то, что мы называем "витальной ценностью", являлось, скорее, выражением онтологии в биологических терминах; для архаического человека жизнь является абсолютной реальностью, и как таковая она священна. С другой стороны. Новый год, праздник, называемый праздником кущей (hag hasukkt), подлинный праздник Яхве (Суд., 21, 19; Левит, 23, 39, и т. д.) происходил в пятнадцатый, день сентября (Втор., 16,13; Зах., 14,16), то есть через пять дней после iom hakippurim (Лев., 16, 28) и ритуального изгнания козла отпущения. Таким образом, сложно разделить эти два религиозных обряда: избавление племени от грехов и празднование Нового года, особенно если вспомнить, что до принятия вавилонского календаря его седьмой месяц приходился на первый месяц календаря еврейского. Обычно во время iom hakippurim девушки шли за околицу деревни или поселения и там развлекались и веселились, что нередко служило поводом для выбора невесты и заключения брака. В этот день смотрели сквозь пальцы на всякого рода излишества, часто устраивали буйные пиршества, и это напоминает нам последний период акиту (который также празднуется за пределами селения), чем еще раз подтверждается, что правила церемониала празднования Нового года везде примерно одинаковы.[68]
Браки, сексуальные вольности, коллективное очищение путем исповедования в грехах и изгнание козла отпущения, освящение нового урожая, возведение на трон Яхве и празднование его победы над «Смертью» также входят в сложную систему церемониала. Амбивалентность и полярность этих обрядов (пост и излишества, печаль и радость, отчаяние и оргия, и т. д.) свидетельствуют всего лишь об их дополнительной функции в рамках одной системы. Основными же событиями, без сомнения, являются очищение посредством козла отпущения и повторение космогонического действа, совершаемого Яхве; все остальное актуализируется в зависимости от потребностей, различные стороны одного и того же деяния-архетипа, а именно возрождения мира и жизни путем повторения Космогонии.
2.2. Периодичность Творения
Сотворение мира, таким образом, происходит ежегодно. Бесконечное повторение космогонического акта превращает каждое празднование Нового года в открытие новой эры, позволяет мертвым возвращаться к жизни и поддерживает в живых надежду на Воскресение плоти. Вскоре мы затронем вопрос о соотнесенности церемонии празднования Нового года с культом мертвых. Теперь же скажем, что почти повсеместное распространение верований, по которым мертвые возвращаются в свои семьи (нередко как "ожившие покойники") перед Новым годом (в те двенадцать дней, что отделяют Рождество от Богоявления), свидетельствует о надежде на отмену времени на том отрезке мифического существования, когда мир разрушен и создается вновь. Тогда мертвецы могут вернуться, ибо все преграды между мертвыми и живыми уничтожены (ведь воссоздается изначальный хаос!), и они вернутся, потому что — и в этом заключается весь парадокс — время остановится, а, значит, мертвые смогут снова находиться среди живых. А так как в этот момент ожидается новое Творение, то они надеются вернуться к долгой и вполне осязаемой жизни.
Вот почему там, где верят в воскрешение плоти, знают, что это воскрешение случится в начале года, то есть в начале новой эры. Леманн и Педерсен доказали это применительно к семитским народам, а Венсинк (цит. пр., с. 171) собрал множество доказательств применительно к христианской традиции. Например, "Всемогущий воскрешает тела вместе с душами в день Богоявления" (Ефрем Сирин, Гимны, 1,1) и т. п. Текст на пехлеви, переведенный Дармстетером, гласит: "В месяц Фравардин, в день Хурдат государь Ормазд начнет воскрешать и раздавать "вторые тела; и мир возродится с новой силой, а с ним и демоны, и соблазны и т. д. И повсюду настанет изобилие; и никто не станет более вожделеть пищи; мир очистится, а человек освободится от врага своего (от злого духа) и навсегда обретет бессмертие".[69] Однако Казвини утверждает, что в день Навруза Господь воскресил мертвых "и вернул им их души, и дал свои распоряжения небу, и оно пролило на них дождь, и оттого у людей появился обычай в этот день лить воду".[70] Тесные связи между идеей творения из воды (водная космогония; потоп, периодически возрождающий историческую жизнь; дождь), рождением и воскресением подтверждаются следующим высказыванием из Талмуда: "У Господа есть три ключа: ключ дождя, ключ рождения и ключ воскрешения мертвых" (Ta'anit, fol 2a; Венсинк, с. 173).
Символическое повторение Творения в рамках празднования Нового года у мандеев Ирана и Ирака сохранилось и теперь. Уже в наши дни сразу после наступления Нового года иранские азербайджанцы бросают семена в горшок с землей; они утверждают, что делают это в память о Творении. Обычай сеять зерно во время весеннего равноденствия (напомним, что во многих цивилизациях год начинался в марте) был распространен во многих ареалах и всегда соотносился с аграрными культами.[71] Но вегетация растительности является одним из символических действ, входящих в ритуал календарного возрождения природы и человека. Земледелие — всего лишь один из видов деятельности, обладающий символическим смыслом и входящий в ритуал периодического возрождения. И если символизм "земледельческой версии" получил широкое распространение — благодаря своему народному и эмпирическому характеру — нельзя ни в коем случае рассматривать ее как основу и цель сложного символического ритуала периодического возрождения. Истоки символических календарных церемоний восходят к мистическому отношению к фазам луны; в сущности, с этнографической точки зрения можно утверждать о наличии календарного символизма в доаграрных обществах. В основе идеи возрождения лежит возврат к первичному и основному, то есть повторение Творения.
Таким образом, обычай проживающих в Персии татар интегрируется в иранскую космо-эсхатологическую систему, в рамках которой он осуществляется и объясняется. Навруз, персидских Новый год, является одновременно праздником Ахура Мазда (празднуемый в первый месяц, в "день Ормазда") и днем, когда произошло сотворение мира и человека.[72]
Именно в день Навруза происходит "обновление творения".[73] Согласно традиции, о которой сообщает Димаски (Кристенсен, II, с. 149), царь провозглашал: "Наступил новый день нового месяца нового года; надо обновить состарившееся временем". В этот день судьба человека определялась на год вперед (Аль-Бируни, с. 201; Казвини, пер. Кристенсен, II, 148). В ночь Навруза повсюду горят многочисленные огни и огоньки (Аль-Вируни, с. 200), и исполняется обряд очищения водой, и совершаются жертвенные возлияния, дабы обеспечить обильные дожди на грядущий год {там же, с. 202–203). Однако во время "большого Навруза" существовал обычай, согласно которому каждый сажал в горшок семь сортов семян и "в зависимости от быстроты появления всходов делал вывод о будущем урожае".[74] Аналогичный обычай — "определять судьбу" Нового года существовал у вавилонян; у мандеев и езидов вплоть до наших дней сохранился обычай "определять судьбу" во время празднования Нового года.[75] Здесь наблюдается следующая зависимость: так как Новый год — это повторение космогонического акта, то двенадцати дням, отделяющим Новый год от Богоявления, до сих пор придается особое значение: их считают прообразами двенадцати месяцев года. На основании этих верований в Европе крестьяне с помощью метеорологических показаний, полученных в эти двенадцать дней, определяют погоду на каждый месяц года и количество дождей.[76] Стоит ли напоминать, что именно в эти дни отмечался праздник кущей, во время которого предсказывалось количество дождя, который должен был выпасть в каждый месяц года. В ведические времена индийцы выбирали среди зимы двенадцать дней, дабы узреть в них прообраз и отражение будущего года (Ригведа, IV, 33, 7).
Однако в отдельных регионах в определенные времена существовали и другие обряды; например, у иранцев, согласно календарю Дариуса, был еще один день Нового года, митраган, праздник Митры, приходящийся на середину лета. Когда оба праздника вошли в один и тот же календарь, митраган стали считать предвестием конца света. Персидские теологи, пишет Аль-Бируни, "полагали, что митраган является знаком возрождения и конца света, ибо именно ко времени митрагана все растущее достигает своих пределов и больше не обладает субстанцией для продолжения роста, а животные прекращают размножаться". Соответственно, Навруз персы стали рассматривать как начало мира, потому что зарождение жизни происходит во время Навру за" (Хронология, с. 208). Как пишет Аль Бируни, по традиции конец истекшего года и начало нового рассматриваются как глобальное истощение биологических ресурсов, то есть как настоящий конец света. ("Конец света", то есть конец некоего определенного исторического цикла, не обязательно связан с потопом, но также с огнем, жарой и т. п. Величественное апокалиптическое видение засушливого лета и Исайе, 34, 4, 9-11 представлено как возвращение к хаосу. Ср. аналогичные описания в Бахман-Яшт, II, 41 и у Лактанции в "Божественных Установленнях",[77] VII, 16, 6.)
Профессор Ж. Дюмезиль в своем труде Le Probleme des Centaures проанализировал структуру церемонии празднования конца и начала года в большей части индо-европейского мира (у славян, ассирийцев, индийцев, греко-римлян) и выделил элементы обряда инициации, сохранившиеся, благодаря мифологии и фольклору, почти без изменений. Изучая мифологию и обычаи культовых тайных союзов и "мужских тайных союзов" у германцев, Отто Хофлер также пришел к выводу о важности ритуалов, связанных с двенадцатью вставными днями, а особенно с Новым годом. Обширная работа Вальдемара Льюнгмана посвящена обычаю зажигать огни в начале года и карнавальным обрядам двенадцати посленовогодних дней, однако мы не во всем согласны с ее направленностью и результатами. Напомним также исследования Отто Хута и И. Хертеля, которые, исходя из изучения материала романских и ведических времен, особенно настаивали на обновлении мира через оживление огня во время зимнего солнцестояния, то есть на обновлении, приравненном к новому творения.[78] Мы же отметим только некоторые характерные черты представленных обрядов, важные для нас:
1) двенадцать промежуточных дней предопределяют двенадцать месяцев года (см. также обычаи, упомянутые выше);
2) во время соответствующих двенадцати новей вереница оживших покойников возвращается в свои семьи (появление в последнюю ночь года лошади как образцового символа животного из потустороннего; явление хтонических богинь из загробного мира — Хольды, Перхты, "дикой охоты" и т. п. во время этих двенадцати ночей); нередко (у германцев) это возвращение включено в число обрядов тайных мужских союзов;[79]
3) в это время зажигают и гасят огни,[80] и, наконец,
4) это время для инициации, существенным элементом ритуала которой является именно тушение и зажигание огней.[81]
В сложном комплексе мифоподражательных церемоний, сопровождающих конец истекшего года и начало года нового, следует выделить также:
5) ритуальные поединки между двумя группами соперников (см. выше с. 91 и ел.) и
6) эротический характер некоторых обрядов (преследование девушек, «гандхарвические» свадьбы, оргии (см. выше, с. 98 и ел.)).
Каждый из этих мифологически обусловленных обрядов подчеркивает исключительную важность дней, предшествующих первому дню Нового года и следующих за ним, хотя эсхато-космологическая функция Нового года (уничтожение истекшего времени и повторение Творения) обычно не бывает выражена эксплицитно, за исключением ритуалов предсказания погоды в будущие месяцы и тушения и возжигания огней. Однако имплицитно функция эта присутствует в каждом из следующих мифообусловленных действ. Разве, например, нашествие духов умерших не является знаком приостановления профанного времени, своего рода парадоксом, когда одновременно сосуществуют «прошлое» и «настоящее»? В эпоху «хаоса» сосуществование всеобще, ибо все модальности совпадают. Последние дни истекшего года могут быть соотнесены с хаосом до Творения, подтверждением чему служит пришествие мертвецов, аннулирующее законы времени а также присущие этому периоду сексуальные излишества. Даже когда из-за нескольких последовательных реформ календаря сатурналии больше не совпадали с концом прошлого и началом нового года, празднества эти тем не менее продолжали означать отмену всех и всяческих норм и провозглашали смену ценностей (хозяева и рабы менялись местами, с женщинами обращались как с куртизанками и т. п.) и всеобщую вседозволенность; буйство охватывало все общество, и все формы общественной жизни сливались в неопределенное единство. Тот факт, что оргии у первобытных народов происходили преимущественно в переломные моменты, связанные с урожаем (когда семя уже посеяно), подтверждают существование симметрии между разложением «формы» (семян) в недрах поля, и разложением "социальных форм" в хаосе оргии.[82] И будь то растения или люди, в обоих случаях мы присутствуем при возврате к изначальному единству, к установлению «ночного» времени, когда границы, очертания и расстояния становятся неразличимы.
Ритуальное тушение огней вписывается в ритуальную систему — этим кладется конец существующим «формам» (износившимся от продолжительности своего существования), расчищается место для появления новой формы, вышедшей из нового Творения. Ритуальные поединки между двумя группами статистов реактуализируют космогоническое время поединка между богом и перводраконом (змеем, почти повсюду олицетворявшим все невыраженное, неоформленное, невычлененное). Наконец, совпадение инициационных обрядов — во время которых зажигание "нового огня" играет особенно важную роль — с сакральными днями перед Новым годом объясняется также появлением покойников (члены тайных инициационных союзов одновременно являлись воплощениями предков), равно как и самой структурой этих церемоний, всегда предполагающих «смерть» и «возрождение», "новое рождение" "нового человека". Для инициационных обрядов невозможно подобрать более подходящих временных рамок, чем те двенадцать ночей, когда истекший год исчезает, уступая место другому году, другой эре: то есть то время, когда посредством реактуализации Творения мир начинается заново.
Отмеченная почти у всех индоевропейских народов данная схема мифической и ритуальной встречи Нового года — с ее карнавальным шествием, животными из загробного мира, тайными союзами и т. д. — без сомнения, в своих основных чертах существовала начиная с периода индоевропейской общности. Но подобные сложные церемонии полностью или, по меньшей мере, в отдельных своих аспектах, уже упомянутых нами в настоящем очерке, не могут считаться исключительно созданием индоевропейцев. Мифо-ритуальный церемониал празднования Нового года как повторения Творения был известен у шумеро-аккадцев, то есть за несколько веков до появления индоевропейцев в Малой Азии, а основные его элементы мы находим еще у египтян и евреев. Но так как генезис мифических и ритуальных систем здесь нас не интересует, мы удовольствуемся удобной гипотезой, согласно которой эти две этнические группы (народы Ближнего Востока и индоевропейцы) соблюдали подобный обряд уже в доисторическую эпоху. Впрочем, гипотеза эта подтверждается тем фактом, что аналогичная обрядовая система присутствует и в такой удаленной от центра культуре, как японская. Александр Славик, отмечая наличие симметрии в организации культовых тайных союзов у японцев и германцев, подчеркивал наличие множества параллельных черт (см. его статью "Культовые тайные союзы у японцев и германцев"(Slawik A. Kultische Geheimbunde der Japaner und Germanen)). У японцев, как и у германцев (и у других индоевропейских народов) в последнюю ночь года являются животные из подземного мира (лошади и т. д.), хтонические подземные боги и богини; в это время тайные культовые мужские союзы устраивают маскарадные шествия, мертвые являются к живым, и проходят обряды инициации. В Японии культовые тайные союзы существуют с глубокой древности (Славик, с. 762), поэтому мы вправе исключить из причин их возникновения влияние семитского Востока или индоевропейской культуры — по крайней мере на уровне наших современных знаний. Мы всего лишь можем утверждать, осмотрительно пишет Александр Славик, что как на Западе, так и на Востоке Евразии, культурный комплекс «посетителя» (души умерших, божества и т. п.) сформировался в доисторическую эпоху.
Это еще одно подтверждение архаического характера церемонии празднования Нового года.
Между тем в японской традиции можно проследить понимание церемониала окончания года как некой мистической психофизиологии. На основании исследований японского этнографа д-ра Мазао Ока[83] Александр Славик включает ритуалы тайных союзов в так называемый комплекс тама. Тама — духовная субстанция, пребывающая в человеке, в душах умерших и в «священных» людях; когда зима сменяется весной, тама приходит в движение и стремится покинуть тело и одновременно побуждает мертвецов идти к жилищам живых (культурный комплекс "посетителя"). Согласно толкованию Славика (с. 679 и сл.), праздники предназначены для того, чтобы воспрепятствовать этой духовной субстанции покинуть тело и зафиксировать в нем ее присутствие. Возможно, что одной из целей церемониала празднования конца и начала года также является «закрепление» в теле тамы. Впрочем, из всей этой психофизиологической японской мистики для нас важен соответствующий кульминационный момент, знаменующий конец одного и начало следующего года; возбуждение гномы и ее стремление покинуть свое привычное тело в период перехода от зимы к весне (то есть в последние дни года истекающего и первые дни года грядущего) является просто элементарным физиологическим способом отхода в бесформенное, реактуализацией «хаоса». В этом ежегодном кризисе тамы первобытный человек, опираясь на свой опыт, усматривает знак неизбежного смешения, завершающего определенную историческую эпоху, дабы смогло произойти ее обновление и возрождение, то есть чтобы повторить историю с самого начала.
Приведем еще ряд календарных ритуалов, бытующих у калифорнийских индейцев карой, йорук и хупа; эти ритуалы известны под названиями "Новый год", "восстановление мира" или «пристанище» ("обустройство"). Установление ритуалов приписывается бессмертным мифическим существам, населявшим землю до появления людей; это те бессмертные существа, которые первыми провели церемонии "обновления мира"; в наши дни смертные проводят их в тех же местах. "Эзотерические, магические и явные цели центрального ритуала системы, — пишет Кребер, — включают в себя восстановление владения или закрепление территории, жертвоприношение первинков, возжигание огня и заговаривание болезней и бедствий на следующие год или два". Следовательно, мы имеем дело с ежегодным воспроизведением космогонической церемонии, установленной in illo tempore бессмертными существами, ибо одним из наиболее важных символических деяний является деяние, называемое туземцами "установлением мировых столпов"; эта церемония проходит в последнюю темную ночь, а появление новой луны означает воссоздание мира. А так как церемония празднования Нового года включает в себя также снятие запрета на новый урожай, это еще раз подтверждает, что речь идет о всеобщем возобновлении жизни.[84]
Говоря о "восстановлении мира", можно вспомнить идеологию, лежащую в основе религии "Танца привидений" ("Ghost-Dance religion") — мистического движения, получившего распространение среди северо-американских индейских племен в конце XIX века; его идеологи предсказывали наступление всеобщего возрождения, то есть неотвратимость конца света, следом за которым будет восстановлен рай на земле. "Религия Танца привидений" сложна, о ней невозможно рассказать в нескольких словах, однако для наших целей достаточно упомянуть, что адепты ее старались ускорить "конец света" путем частого массового общения с мертвыми, осуществляемого посредством танцев, длящихся по четыре-пять часов кряду. Мертвецы заполоняли землю, вступали в контакт с живыми и таким образом производили своего рода «смешение», возвещавшее завершение текущего космического цикла. Но так как мифические видения «начала» и «конца» времени подобны, равно как эсхатология подобна космогонии — по крайней мере, в некоторых своих аспектах, то космогония*, эсхатон "религии танца привидений" воскрешала мифическое illud tempus «рая», первичного изобилия.[85]
2.3. Непрерывное возрождение времени
Все приведенные в данной работе материалы достаточно разнородны, однако, это не повод для разочарования. Мы не собираемся делать скоропалительных выводов в столь кратком историко-этнографическом очерке. Мы всего лишь намеревались предпринять феноменологический анализ календарных обрядов очищения (изгнания демонов, болезней и грехов) и церемонии празднования конца и начала года. И разумеется, мы первыми признаем существование множества до сих пор не решенных проблем, возникших из-за различий, нюансов и несовпадений, имеющихся в пределах каждой группы сходных верований и обусловленных происхождением и ареалом распространения последних. Вот почему мы сознательно избегали давать какие-либо истолкования с позиций социологии или этнографии и довольствовались простым разъяснением основного смысла обрядов, вытекающего из них самих. Ведь, в сущности, мы стремились всего лишь понять их смысл, старались увидеть то, что они выражают, оставляя для будущих исследователей анализ частностей, относящихся как к происхождению, так и к истории каждого из мифо-ритуальных комплексов.
Разумеется, существуют — даже рискнем написать: должны существовать-вполне определенные различия между разными группами календарных обрядов — хотя бы потому, что мы имеем дело как с «историческими» временами и народами, так и с «вне-историческими», именуемыми обычно «цивилизованными» и «примитивными». При этом нелишне отметить, что структуры празднования Нового года, во время которого воспроизводится Творение, наиболее эксплицитно выражены у «исторических» народов, то есть у тех, с кого, собственно, и начинается история: у вавилонян, египтян, евреев, ассирийцев. Можно предположить, что эти народы, сознавая, что они первыми строят «историю», зафиксировали свои собственные деяния для потомков (разумеется, неизбежно превратив их в категории и архетипы, как мы это уже видели в предыдущей главе). Впрочем, эти же народы также испытывали глубочайшую потребность периодического обновления, уничтожая истекшее время и повторяя космогонию.
Для «примитивных» же народов, до сих пор живущих в раю архетипов, время существует лишь на биологическом уровне, не превращаясь в «историю»; их первобытное сознание не затронуто разрушительной мыслью о необратимости событий, и посему они периодически возрождаются, совершая обряд изгнания "злых духов" и каясь в грехах. Однако потребность периодического возрождения, испытываемая этими народами, доказывает, что и они тоже не могут постоянно пребывать в состоянии, названном нами выше "раем архетипов", и что их память также начинает фиксировать (разумеется, не столь интенсивно, как память современного человека) необратимость событий, то есть распознавать «историю». Итак, первобытные народы расценивают существование человека в Космосе как грехопадение. Необъятная и монотонная морфология покаяния в совершенных грехах, обстоятельно представленная в труде Р. Петтацони "Покаяние в грехах"(Pettazzoni R. La Confessione dei peccati. Bologna, 1935.), подтверждает, что даже в простейших человеческих сообщесгвах «историческая» память, то есть воспоминания о событиях, не восходящих ни к одному из архетипов, о событиях «личного» характера (в большинстве случаев о "грехах") является чем-то совершенно невыносимым. Нам известно, что изначально признание вины имело магическое значение, так как вину можно было искупить каким-либо физическим способом (кровью, словом и т. д.). И разве интересующая нас процедура исповеди — а она обладает магической структурой — не является именно потребностью первобытного человека освободиться от воспоминаний о «грехе», то есть о ряде событий «личного» толка, совокупность которых и составляет «историю».
Отметим также, какое поистине огромное значение придавали творящие историю народы коллективному возрождению, которое осуществлялось при помощи повторения космогонического действа.
Также можно было бы вспомнить, что по различным причинам, и в том числе и по причине метафизичности и внеисторичности духовной культуры индейцев, космологические обряды празднования Нового года у индейских племен не имеют такого масштаба и размаха, какими обладали соответствующие церемониалы в древних государствах Ближнего Востока. Мы также можем вспомнить, что такой, в высшей степени приверженный истории народ, как римляне, был постоянно одержим идеей "конца Рима" и стремлением обрести систему renovatio (обновления). Однако сейчас мы не собираемся уводить читателя в дебри принципов обновления. Поэтому напомним только, что помимо периодических церемоний отмены «истории», традиционные общества (то есть все общества, вплоть до тех, которые составляют "современный мир") знали и использовали для обновления времени также и иные методы.
В других работах (Comentarii la legenda Mesterului Manole; см. также предыдущую главу) мы уже показали, что ритуал возведения постройки также в более или менее эксплицитной форме подражает космогоническому акту. Для первобытного человека подражание архетипической модели является возвратом к мифическому времени, когда впервые произошло воплощение архетипа. Следовательно, эти обряды, не являющиеся ни коллективными, ни календарными, также прерывают течение мирского времени и проецируют того, что их отправляет, в мифическое время, in illo tempore. Мы уже видели, что все обряды повторяют божественный архетип, и воспроизведение данного архетипа всегда происходит в современное ему мифическое, атемпоральное время. Однако, обряды, связанные с постройкой, свидетельствуют и о большем: а именно об имитации, и, следовательно, о воспроизведении космогонии. Постройка каждого нового дома открывает "новую эру". Каждая постройка — это абсолютное начало, то есть каждая постройка восстанавливает первоначальный момент, полноту настоящего, в котором нет ни малейшего намека на «историю». Разумеется, те обряды постройки, что сохранились вплоть до наших дней, большей частью являются пережитками, поэтому практически невозможно определить, в какой мере исполнение их обусловлено сознательным опытом тех, кто их исполняет. Впрочем, данное рационалистическое замечание можно опустить. Исключительное значение имеет тот факт, что человек почувствовал потребность воспроизвести космогонию в своих постройках вне зависимости от предназначения этих построек; воспроизведение это сделало его современником мифического момента начала мира, и он возвращался в начальное время так часто, как это было возможно, дабы возродиться. Интересно, смог бы кто-нибудь определить, в какой мере те, кто в наши дни продолжают исполнять обряды, связанные с постройкой, еще осознают их значение и ощущают себя причастными к таинству. Хотя опыт их, скорее всего, является мирским: "новая эра", открываемая постройкой, является "новым этапом" в жизни тех, кто будет жить в этом доме. Но структура мифа и обряда от этого остается неизменной, даже если опыт, полученный посредством их актуализации, носит всего лишь мирской характер: постройка — это новая организация мира и жизни. Современный человек, менее восприимчивый к чудесам жизни, тем не менее обретает опыт renovatio, когда строит новое жилище или когда туда въезжает (аналогично празднованию Нового года, который повсюду в современном мире по-прежнему означает конец прошлого и начало "новой жизни").
В большинстве случаев документальные материалы, имеющиеся в нашем распоряжении, вполне убедительно свидетельствуют: постройка святилища или жертвенного алтаря повторяет космогонию, но не только потому, что святилище является моделью Мира, но и потому, что оно воспроизводит различные временные циклы. Вот, к примеру, что пишет Иосиф Флавий (Иудейские древности, III, 7, 7) о традиционном символизме Иерусалимского храма: три части святилища соответствуют трем космическим ярусам (дворик — «море», то есть внутренние области. Святой Дом — Земля, и Святая Святых — Небо); 12 хлебов, лежащих на столе, — двенадцать месяцев года; канделябр с 70 ветвями представляет деканы (то есть зодиакальное членение семи планетных систем на десятки). Строя храм, конструируют не только мир, но и Храм космический.
О строительстве Храма как о повторении космогонии свидетельствует также жертвоприношение, совершаемое брахманами. Каждая жертва, приносимая брахманами, обозначает новое сотворение мира (ср., например, Чатапатха-брахмана VI, 5,1 sq.). В самом деле, сооружение жертвенника задумано как "сотворение мира". Вода для замешивания глины — первовода; глина, ложащаяся в основание алтаря, — земля; боковые приделы обозначают атмосферу, и т. д. Более того, каждый этап постройки жертвенника сопровождается рецитацией объяснительных строф, в которых уточняется, какой комический ярус только что был создан (Чат. — бр., I, 9,29; VI, 5,1 sq.; 7, 2,12; 63,1; 7,3, 9).
Но если возведение жертвенника имитирует космогонию, то собственно жертвоприношение имеет иную цель: переделать первоединство, то есть единство, существовавшее до Творения. Ибо Праджапати создал Космос из самого себя; но как только он исчерпал себя, "он испытал страх смерти" (Чат. — бр., X, 4, 2, 2), и боги приносили ему жертвы, дабы восстановить и оживить его. Подобным же образом тот, кто в наши дни приносит жертвы, воспроизводит это первовосстановление Праджапати. "Тот, кто это понял, совершает доброе дело, даже если просто довольствуется пониманием (не исполняя никакого обряда); тем самым он восстанавливает распавшееся на куски божество (делая его), целым и полным" (Чат. — бр., X, 4, 3, 24, и т. д.). Сознательное стремление принести жертву дабы восстановить первоединство, то есть восстановить Все, что предшествовало Творению, — очень важная характеристика индийского менталитета, жаждущего первоединства; к сожалению, мы не можем подробнее остановиться на этом вопросе. Нам достаточно констатировать, что каждая жертва, приносимая брахманом, воспроизводит архетипический акт космогонии, и это совпадение "мифического момента" и "современного момента" также предполагает отмену профанного времени, равно как и беспрерывное обновление мира.
В самом деле, если "Праджапати — это год" (Айтарейя-брахмана, VII, 7, 2 и т. д.), "Год — это смерть. Того, кому это известно, смерть не коснется" (Чат. — бр., X, 4,3,1). Ведический жертвенник, согласно удачной формулировке Поля Мюса, является материализацией Времени. "Алтарь огня — это год… Ночи — это закрывающие его камни, этих камней 360, потому что год насчитывает 360 ночей; дни — это кирпичи yajusmati, и их тоже 360; значит, в году 360 дней" (Чат. — бр., X, 5, 4,10). В определенный момент сооружения жертвенника закладывают два кирпича, именуемые "временами года" (rtavya), в тексте это прокомментировано следующим образом: "Почему мы кладем эти два камня? Потому что Агни (этот жертвенник огня) — это год… Этот жертвенник огня — Праджапати, а Праджапати — это год" (ibid., VIII, 2,1,17–18). Восстанавливая, посредством ведического алтаря, Праджапати, восстанавливают также космическое Время. "Жертвенник огня имеет пять ярусов… (каждый ярус — это время года, пять времен года составляют год, и Агни (= жертвенник) — это Год…) Так вот, этот распавшийся на куски Праджапати и есть Год, и пять частей его тела, распавшегося на куски, это времена года. Пять времен года, пять ярусов. Размещение этих ярусов друг над другом означает, что Праджапати восстанавливается из времен года… Итак, пять частей его тела… это времена года, равно как и элементы направления; пять восточных направлений, пять ярусов. Итак, когда складывают ярумы, создают из восточных элементов Праджапати, который и есть Год" (Чат. — бр.,[86] VI, 8,1,15; 1, 2,18 sq). Итак, каждый раз сооружая новый ведический алтарь, не только повторяют космогонию и восстанавливают Праджапати, но также восстанавливают «Год», то есть возрождают Время, «создавая» его заново.
Английский антрополог А. М. Хокарт в блестящем и полемически заостренном труде Kingchip исследовал церемониал возведения на трон царя у различных народов, как «цивилизованных», так и «примитивных», сопоставив его с ритуалами инициации (которые автор рассматривает как производные от структуры церемониала возведения на трон). Давно известно, что инициация — это "новое рождение", в его ритуал входит смерть и Воскресение. Заслуга же Хокарта состоит в том, что он выявил элементы инициации в церемониале коронации и на этом основании определил глубинное сходство этих ритуальных церемоний. Интересно отметить, что на островах Фиджи, у аборигенов острова Вити-Леву интронизация вождя именуется "творением мира", в то время как у аборигенов острова Вануа-Леву она носит название mhuli vanua или tuli vanua, термины, которые Хокарт переводит как "обработка земли" ("fashioning the land") или "обустройство земли" ("creating the earth").[87] В предыдущей главе мы показали, что освоение территории приравнивается у скандинавов к повторению творения. Для аборигенов островов Фиджи «творение» происходит каждый раз, когда к власти приходит новый вождь; подобная концепция в более или менее аналогичных формулировках сохранилась и в иных регионах. Почти повсюду новое правление воспринимается как возрождение истории народа или даже всеобщей истории. С каждым новым правителем, сколь бы ничтожен он ни был, начинается "новая эра". Часто в формулировках обряда сквозит лесть, их отличает выспренность стиля. Нас эти формулы интересуют исключительно потому, что до нас они доходят как отражение пышных церемоний возведения на трон. В первобытном сознании "новая эра" начинается не только с каждым новым царствованием, но также с заключением очередного брачного союза, с рождением очередного ребенка и т. д. Ибо космос и человек обновляются постоянно и всеми возможными способами, прошлое же уничтожается, болезни и грехи изгоняются и т. д. Формальная сторона ритуала варьируется, однако сущность остается неизменной, все стремятся к единой цели: уничтожить истекшее время, устранить историю, дабы постоянно, посредством повторения космогонического акта, возвращаться in illo tempore.
Вновь обратившись к аборигенам островов Фиджи, отметим, что они повторяют «творение» не только по случаю возведения на трон вождя, но и всякий раз, когда бывает плохой урожай. Эта деталь, которой Хокарт не придал особого значения, так как она не подтверждает его гипотезы о "ритуальных истоках" космогонического мифа, кажется нам весьма примечательной. Всякий раз, когда жизнь оказывает под угрозой и когда Космос, по их мнению, исчерпан и опустел, фиджийцы чувствуют потребность вернуться in principium (к началу); иными словами, они ожидают возрождения космической жизни, не reparatio (исправления), но именно recreatio (повторного творения) этой жизни. Отсюда проистекает важность обрядов и мифов, так или иначе связанных с «началом», истоками, первичностью (новые сосуды, "вода, набранная до рассвета" в магических обрядах и народной медицине, все, что связано с детьми, с "сиротой"[88] и т. д.).
Мысль о том, что жизнь нельзя исправить, а можно только создать заново посредством воспроизведения космогонии, отчетливо прослеживается в ритуалах исцеления. Действительно, у многих первобытных народов основным элементом исцеления является артикуляция космогонического мифа) подобный обряд засвидетельствован, например, у народов Индии, находящихся на архаической стадии развития: бхилов, санталов, байга.[89] Посредством воспроизведения космического творения, этой образцовой модели всяческой «Жизни», надеются восстановить физическое здоровье и умственную полноценность больного. В вышеупомянутых племенах артикулируют космогонический миф также по случаю рождения, бракосочетания и смерти, ибо эти события всегда символизируют возврат в начальное время изначального изобилия, образцовое воспроизведение которого стремятся обеспечить посредством каждой из указанных «ситуаций».
У полинезийцев число «ситуаций», когда чтение вслух космогонического мифа почитается весьма эффективным средством, еще больше. Согласно мифу, вначале были только Первоводы, плавающие в космических потемках. В "бескрайнем пространстве" пребывал верховный бог Ио, который выразил желание выйти из состояния покоя. Тотчас же явился свет. Затем Ио продолжил: "Пусть разделятся воды, пусть сделается Небо, пусть образуется Земля!" Итак, посредством космогонических слов Ио началось существование мира. Вспоминая эти "древние примитивные заклинания… древнюю и первобытную мудрость (wananga), благодаря которой произошло произрастание из пустоты, и т. д.", современный полинезиец Харе Хонги смущенно, но выразительно добавил: "Итак, друзья мои, согласно нашим сакральным обычаям, имеется три весьма важных случая применения этих древних заклинаний. Первое применяется во время оплодотворения бесплодной самки; второе во время обряда очищения души и тела; третье и последнее произносится во время торжественного обряда умирания, во время войны, крещения, когда вспоминают предков и говорят иные, столь же важные слова, произносить которые могут только жрецы". Заклинания, с помощью которых Ио создал Вселенную, то есть благодаря которым он породил и продолжает порождать светлый мир, — эти же самые слова употребляются в обряде оплодотворения бесплодной самки. Заклинания, благодаря которым Ио зажег во мраке свет, используются в обрядах, призванных возвеселить души омраченных и опечаленных, бессильных и дряхлых, пролить свет на потаенные предметы и уголки, вдохновить тех, кто слагает песни и претерпевает превратности войны, равно как и во многих других обстоятельствах, когда человек впадает в отчаяние. Во всех подобных случаях во время ритуала, цель которого — пролить свет и даровать радость, воспроизводятся слова, с помощью которых Ио победил и рассеял мрак. Третьим идет черед подготовительного обряда, передающего последовательное изготовление различных форм, происходившее во вселенной и в истории рода человеческого.[90]
Космогонический миф также служит полинезийцам архетипической моделью для всех «творений», какими бы они ни были: биологическими, психологическими, духовными. Слушая рассказ о рождении Мира, становишься в высшей степени современником космогонии. Примечательно, что у индейцев навахо космогонический миф рассказывают в основном, желая исцеления. "Все обряды сосредоточены вокруг пациента, Хатрали (тот самый пациент, ради которого происходит артикуляция) может быть болен или просто повредиться умом, то есть испугаться какого-нибудь сна; подобная же церемония проводится и во время инициации, дабы с помощью артикуляции передать инициируемому те культовые знания, которыми обладает шаман, ибо «Мужчина-Лекарь» не может проводить процедуру исцеления прежде, чем она не будет ему передана служителем культа".[91] Церемония исцеления также включает в себя исполнение сложных рисунков на песке (sand-paintings), символизирующих различные этапы творения и мифической истории богов, предков и человечества. Эти рисунки (которые необычайно похожи на индо-тибетские мандалы) один за другим воспроизводят события, случившиеся in illo tempore. Слушая исполнение космогонического мифа (за которым следует артикуляция мифов о происхождении) и рассматривая рисунки на песке, больной выталкивается из мирского времени и попадает в правремя: он вернулся «назад» к истокам Мира и в своем роде присутствует при космогонии. Нередко в тот день, когда начинается чтение мифа или sand-paintings, пациент принимает ванну; в самом деле, ведь он тоже возобновляет свою жизнь в прямом смысле этого слова.
У индейцев навахо, как и у полинезийцев, следом за космогоническим мифом следует исполнение мифа о происхождении, где содержится мифическая история всех «начал»: сотворение человека, животных и растений, происхождение обычаев и традиций, а также различных навыков и т. д. Таким образом больной проходит через всю мифическую историю мира, от творения и вплоть до момента настоящей артикуляции. Подобный обряд очень важен для понимания первобытной и «примитивной» медицины. Вспомним также, что на древнем Востоке, равно как и во всех «народных» медицинских традициях, будь то в Европе или в ином месте, лекарство считается действенным, только если известно его происхождение, и, как следствие, употребление его делает больного современником того мифического времени, когда оно было открыто. Вот почему во многих заклинаниях наряду с рассказом о том, как божеству или святому удалось побороть болезнь, упоминается и «история» этой болезни или же демона, ее вызвавшего. Например, в ассирийском заклинании против зубной боли говорится о том, что "после того, как Ану сделал небеса, небеса сделали землю, земля сделала реки, реки сделали протоки, протоки сделали пруды, пруды сделали Червя". И Червь "в слезах" отправился к Шамашу и Эйа спросить, что будет дано ему в пищу, иначе говоря, "для разрушения". Боги предлагают Червю фрукты, но тот просит у них человеческие зубы. "Раз ты сказал так, о Червь, пусть Эйа разобьет тебя своей могучей дланью!"[92] Здесь мы присутствуем не только при простом повторении парадигмы целительного деяния (Эйа уничтожает Червя), обеспечивающего эффективность лечения, но и при мифической «истории» болезни, упоминанием о которой целитель отбрасывает пациента in illo tempore.
Приведенные нами примеры можно было бы умножить, но мы не собираемся давать исчерпывающий анализ всех затронутых в нашем очерке тем, а всего лишь размещаем их согласно общей его направленности: выявлению необходимости периодического обновления путем отмены времени, существовавшего в архаическом обществе. Как коллективные, так и индивидуальные, как циклические, так и спорадические, все обряды возрождения всегда содержат в своей структуре и своем значении элемент возрождения посредством воспроизведения архетипического деяния, преимущественно космогонического действа. Мы же должны подчеркнуть, что эти архаические системы, отменяя конкретное время, пытаются таким образом избавиться от истории. Отказ хранить память о прошлом, даже о самом недавнем, кажется нам признаком особого устройства человеческого менталитета. Это, если говорить кратко, отказ архаического человека воспринимать свое бытие как историческое, отказ наделить значимостью «память» и, как следствие, нерегулярные события (то есть события, не имеющие архетипической модели), которые, в сущности, и составляют конкретное течение времени. В конечном счете мы полагаем, что глубинный смысл всех этих обрядов и установок состоит в стремлении обесценить время. Доведя эти обычаи и варианты установочного поведения, о которых мы упомянули выше, до их логических пределов, можно прийти к следующему заключению: если времени не придают никакого значения, стало быть, оно не существует; более того, как только время начинают ощущать (из-за «прегрешений» человека, то есть тех случаев, когда человек удаляется от архетипа и попадает в течение времени), его беспрепятственно аннулируют. В сущности, если представить себе подлинную перспективу жизни архаического человека (жизнь, сведенную к повторению архетипических деяний, то есть к категориям*, а не к событиям, к беспрестанному воспроизведению одних и тех же первомифов и т. д.), то хотя она и протекает во времени, человек тем не менее не ощущает его бремени, не замечает необратимости событий, иными словами, совершенно не отдает себе отчета в том, что характеризует и определяет осознание времени. Подобно мистику или же человеку глубоко религиозному, первобытный человек всегда живет в настоящем. (Именно в этом смысле можно сказать, что религиозный человек является человеком «примитивным»; он повторяет деяния некоего другого, и благодаря этому повторению постоянно живет во вневременном настоящем.)
Для первобытного человека возрождение времени происходит постоянно, даже во временном интервале, именуемом «годом», что доказывается древностью универсальных верований, связанных с Луной. Луна умирает первой, но она же первой и воскресает. В другой нашей работе[93] мы показали важность лунарных мифов в образовании первых связных «теорий» смерти и возрождения, плодородия и возрождения, инициации и т. д. Здесь же нам достаточно напомнить, что так как Луна и в самом деле служит для «измерения» времени (в индо-европейских языках большинство терминов, обозначающих месяц и луну, происходят из корня те-, давшего в латыни как mensis, так и metior, "измерять"), и фазы ее доказывают — задолго до определения солнечного года и в гораздо более конкретной форме — наличие единиц времени (месяц), то одновременно она является и доказательством "вечного возвращения".
Фазы луны — зарождение, рост, уменьшение, исчезновение, и через три темные ночи новое ее появление — сыграли огромную роль в выработке циклических понятий. Подобные концепции мы встречаем главным образом в апокалиптических видениях и архаических антропогониях; потоп или наводнение уничтожает человечество, исчерпавшее себя и погрязшее в грехах; заново возрожденное человечество зарождается обычно от некоего мифического «предка», спасшегося от катастрофы, или от лунарного животного. Стратиграфический анализ данных групп мифов выявляет их лунарный характер (ср. главу о луне в нашей работе Traite d'Histoire des Religions). Это означает, что лунарный цикл не только определяет короткие отрезки времени (недели, месяцы), но также служит архетипом для длительных сроков; в самом деле, «рождение» человечества, его взрастание, его одряхление (его "изношенность") и его исчезновение уподобляются лунарному циклу. И это уподобление важно не только потому, что оно выявляет для нас «лунарную» структуру всеобщего становления, но также и своими оптимистическими последствиями: ибо все, как и луна, никогда не исчезает навсегда, потому что за одной луной всегда непременно следует другая, а, значит, и исчезновение человека, даже всего человечества (потоп, наводнение, исчезновение целого континента и т. д.) не обладает необратимостью, ибо от пары выживших особей родится новое человечество.
Циклическая концепция исчезновения и нового появления человечества сохранилась также в исторических культурах. По широко известному утверждению Бероза, в III веке до н. э. во всем эллинском мире распространилась халдейская доктрина "Великого Года", откуда она затем была заимствована римлянами и византийцами. Согласно этому учению, мироздание вечно, но каждый "Великий Год" оно уничтожается и вновь восстанавливается (число тысячелетий, разделяющих "Великие Года", варьируется в зависимости от школы); когда семь планет соберутся под знаком Рака ("Великая Зима"), случится потоп; когда эти планеты встретятся в знаке Единорога (то есть во время летнего солнцестояния "Великого Года"), Вселенную поглотит огонь. Скорей всего, это учение о периодических всеобщих катастрофах разделялось также Гераклитом (к примеру, фрагмент 26 В = 66 D). Во всяком случае, оно было известно Зенону и нашло отражение в космологии стоиков. Миф о гибели мира в огне (ekpyrosis) явно был в моде между I веком до н. э. и III веком н. э. во всем римско-восточном мире; постепенно он стал составной частью философских теорий, берущих свое начало в греко-ирано-иудейском синкретизме.
Похожие идеи встречаются в Индии и Иране (без сомнения, испытавшие влияние — по крайней мере в своих астрономических расчетах — вавилонской мысли), равно как и у индейцев майя с полуострова Экатан и у ацтеков в Мексике. Нам еще придется вернуться к этим вопросам, но теперь мы имеем возможность пояснить, что мы хотели сказать, определяя характер лунарных культов как «оптимистический». На деле данный оптимизм сводится к сознанию нормальности циклических катастроф, к уверенности, что катастрофы эти имеют смысл, а главное, что они никогда не будут необратимыми.
В «лунарной» перспективе периодическая смерть человека и всего человечества необходима, как необходимы три дня мрака, предшествующие «возрождению» луны. Смерть человека и человечества необходимы для их же собственного возрождения. Форма, какова бы она ни была, ослабевает и изнашивается от самого факта своего существования, тем более существования продолжительного; чтобы вновь обрести силы, она должна вновь вернуться в аморфное состояние, пусть даже на мгновение, реинтегрироваться в состояние первичной нерасчлененности, откуда она произошла; иными словами, она должна вернуться в «хаос» (в космическом плане), в «оргию» (в общественном плане), во «мрак» (для посевов), в «воду» (крещение в человеческом плане, «Атлантида» в плане историческом и т. д.).
Следует подчеркнуть, что доминирующим аспектом всех лунарных космомифологических теорий является циклическое возвращение того, что было раньше, иначе говоря, "вечное возвращение". Также в них прослеживается мотив повторения архетипического деяния, проецируемого на все уровни: космический, биологический, исторический, социальный и т. д. И в этом мы также усматриваем циклическую структуру времени, возрождающегося при каждом новом «рождении», на каком бы уровне оно ни происходило. Подобное "вечное возвращение" свидетельствует об онтологии, не затронутой проблемами времени и становления. Подобно тому, как греки мифом о вечном возвращении пытались удовлетворить свою метафизическую жажду «оптического» и «статичного» (ибо с точки зрения бесконечности становление вещей, постоянно возвращающихся в прежнее состояние, имплицитно аннулируется, и, таким образом, можно утверждать, что "мир остается на месте"[94]), также и «примитивный» человек, наделяя время цикличностью, аннулирует его необратимость. Прошлое — это всего лишь предопределение будущего. Ни одно событие не является необратимым, и никакое изменение не является окончательным. В определенном смысле можно даже сказать, что в мире не происходит ничего нового, ибо все, что есть, — это всего лишь повторение прежних первичных архетипов; данное повторение, актуализируя мифическое время, в которое было совершено архетипическое деяние, постоянно поддерживает мир в одном и том же всеобщем изначальном времени. Время всего лишь делает возможным появление и существование вещей. Но никакого решающего влияния оно на их бытие не оказывает, ибо оно само постоянно возрождается.
Гегель утверждал, что бесконечная повторяемость заложена в природе вещей, отчего "ничто не ново под солнцем". Все, о чем мы рассказали выше, подтверждает существование подобной концепции в обществе, находящемся на архаической стадии развития: для человека данного общества явления повторяются до бесконечности, отчего и вправду под солнцем ничего нового не происходит. Но, как мы уже говорили в предыдущей главе, эта повторяемость имеет определенный смысл: повторение наделяет события реальностью. События повторяются, потому что они подражают архетипу: образцовому Событию. Кроме того, путем повторения время прерывается или, в крайнем случае, смягчается его разрушительный характер. Однако замечание Гегеля заслуживает внимания по иной причине: Гегель стремится обосновать такую философию истории, где бы историческое событие, пусть даже необратимое и автономное, могло бы, тем не менее, быть включено в открытую диалектическую систему. Для Гегеля история «свободна» и всегда «нова», она не повторяется; но несмотря ни на что, ход истории согласуется с замыслами Провидения; таким образом, у истории есть образец (идеальный, но все же образец), содержащийся в диалектике самого Разума. Истории, которая не повторяется, Гегель противопоставляет «Природу», где явления воспроизводятся до бесконечности.
И все же мы видели, что на довольно значительном отрезке времени человечество всеми возможными способами отторгало от себя «историю». Можно ли из этого заключить, что на протяжении данного периода человечество пребывало в природном состоянии, что оно еще не выделилось из Природы? "Только животное поистине невинно", — писал Гегель в начале своих "Лекций по философии истории". Первобытные люди не всегда чувствовали себя невинными, но старались стать таковыми, периодически каясь в своих прегрешениях. Можем ли мы усматривать в этом стремлении к очищению ностальгию по утраченному животному раю? А может быть, в этом желании первобытного человека не иметь «памяти», не замечать времени, используя его исключительно для измерения своего биологического существования, не "проникаться чувством времени", не превращать время в фактор сознания, следует усматривать его жажду «быть», его стремление к бытию, такому, каким бытийствуют архетипические существа, чьи деяния он беспрестанно воспроизводит?
Суть проблемы состоит именно в этом, и, разумеется, мы не собираемся обсуждать ее всего в нескольких строках. Но у нас есть основания утверждать, что ностальгия «примитивного» человека по потерянному раю полностью исключает стремление вернуться в "рай животных". Все мифические воспоминания, повествующие о «Рае», напротив, рисуют нам картину идеального человечества, пребывающего в блаженстве и наслаждающегося богатствами духа, чего никогда не может быть на земле, где человек "впал в грех". И действительно, в мифах многих народов содержатся намеки на некую, весьма отдаленную, эпоху, когда люди не будут знать ни смерти, ни работы, ни страданий, а для получения пищи им будет достаточно всего лишь протянуть руку. In illo tempore боги спускались на землю и жили среди людей; люди же, в свою очередь, могли свободно подниматься на небо. В результате ритуальной ошибки сообщение между Небом и Землей было прервано, и Боги удалились более высоко в небеса. С тех пор людям приходится работать ради своего пропитания; утратили они также и бессмертие.
И мы пришли к выводу, что желание человека архаического общества отвергнуть «историю» и продолжать бесконечную имитацию архетипов свидетельствует о его стремлении к реальному, его ужас «потереться» в ничтожной суете мирского существования. Неважно, что формулы и образы, через которые «примитивный» человек выражает реальность, порой кажутся нам детскими и даже смешными. Поступки первобытного человека определяются глубинным смыслом: его поведение определяется верой в абсолютную реальность, противостоящую мирскому миру «нереальностей»; в конечном счете, мирской мир не является собственно «миром»; он есть нечто в высшей степени «нереальное», не-созданное, не-существующее: ничто.
Следовательно, мы получаем право говорить о существовании архаической онтологии, и только с учетом этой онтологии мы сможем постепенно постичь — не отвергая огульно — поведение, пусть даже самое необычное, человека из "примитивного мира"; ведь в действительности поведение это соответствует его отчаянному стремлению не потерять связь с бытием.
Иерофания — тo есть священное явление- ieros (древнегреч.) — священный, painoo — являть, открывать.
Космогония — как видно из текста, использование Элиаде термина «космогония» весьма условно. В известном смысле, архаический человек не знал никакой космогонии как некой системы взглядов на происхождение вселенной; для него все сущее изначально одушевлено. Напротив, тема происхождения как Творения неотделима от ветхозаветной традиции, согласно которой Бог творит мир ex nihile, из ничего.
"Категория" — древнегреческое слово. Один из трактатов Аристотеля называется kathgoria: kata — «сверху-вниз», agoreuw — "говорить на агоре". «Категория» буквально значит: на агоре публично выдвигать, бросать сверху вниз обвинение, обвинять кого-либо в нарушении законов. В данном случае Элиаде трактует термин «категория» предельно широко.
Глава 3. «НЕСЧАСТЬЕ» И «ИСТОРИЯ»
3.1. «Нормальность» страдания
В этой главе мы хотели бы рассмотреть человеческую жизнь и "историческое существование" с новой точки зрения. Как уже было показано, первобытный человек стремится — с помощью всех имеющихся в его распоряжении средств — противопоставить себя истории, которая рассматривается как цепь событий неотвратимых, непредвиденных и обладающих своей автономной ценностью. Он отказывается принимать ее и признавать за ней какую-либо ценность в качестве именно истории, но не всегда в состоянии отрешиться от нее: например, он бессилен перед космическими катастрофами, военными поражениями, социальной несправедливостью, связанной с самой структурой общества, личными несчастьями и т. д. Поэтому было бы интересно взглянуть, каким образом выносит подобную «историю» первобытный человек — иными словами, как справляется он с бедствиями, несчастьями и «страданиями», выпадающими на долю каждого индивидуума и каждой человеческой общности.
Что означает «жить» для человека, принадлежащего к одной из традиционных культур? Прежде всего, это означает жить согласно модели, находящейся вне власти человека, а именно — архетипу. Следовательно, это означает жить в самой реальности, поскольку — об этом достаточно много говорилось в первой главе — истинно реальными являются только архетипы. Жить в соответствии с архетипами означало почитать «закон», поскольку именно в законе воплощалось изначальное поклонение божеству, принятие in illo tempore тех норм существования, которые были созданы каким-либо божеством или мифологическим персонажем. И хотя первобытный человек, как мы видели, упразднял время посредством повторения парадигматических жестов и участия в периодических церемониях, он, тем не менее, жил в согласии с космическими ритмами — мы можем даже сказать, что он был интегрирован в эти ритмы (достаточно вспомнить, сколь «реальными» были для него день и ночь, времена года, лунные фазы, солнцестояния и т. п.).
Что же могли означать в рамках подобного существования «страдание» и «боль»? Это отнюдь не бессмысленное испытание, которое человек должен уметь выносить в той мере, в какой его невозможно избежать, — подобно тому, как приходится выносить тяготы климата. Независимо от природы страдания и его видимой причины, оно всегда имеет смысл, оно совпадает если даже и не с прототипом, то с установленным порядком вещей, ценность которого не оспаривается. Не раз говорилось, что великая заслуга христианства в сравнении с древней средиземноморской этикой состоит в том, что оно придало ценность страданию и преобразило боль негативного порядка в опыт, имеющий духовный «позитивный» смысл. Это утверждение верно, если речь идет о придании ценности страданию и даже о стремлении к боли в спасительных целях. Но, хотя дохристианское человечество не стремилось к страданию и не придавало ему (за несколькими редкими исключениями) дополнительной ценности в качестве инструмента очищения и духовного роста, оно никогда не считало его лишенным значения. Мы говорим здесь, разумеется, о страдании как событии и историческом факте, о страдании, вызванном глобальной катастрофой (засуха, наводнение, смерч и т. д.), потрясением жизненных основ (пожары, рабство, унижение и т. д.) или социальной несправедливостью. Подобные страдания именно потому и можно было выносить, что они не воспринимались как произвольные или случайные. Нет необходимости приводить примеры, настолько это очевидно. Когда первобытный человек лишается урожая из-за случившейся засухи, а скота вследствие болезни, когда у него умирает ребенок, а сам он дрожит от лихорадки или терпит постоянные неудачи на охоте и т. д., ему известно, что все эти несчастья произошли не по воле случая, а путем вмешательства магических или демонических сил, с которыми должен бороться колдун или жрец. Именно поэтому он (или сообщество, если речь идет о космической катастрофе) обращается к колдуну, чтобы устранить магическое влияние, или к жрецу с целью вернуть благосклонность богов. Если их вмешательство не дает никакого результата, страдальцы взывают к почти забытому в иное время Верховному Божеству, и умаляют его о помощи, принося ему жертвы. "Ты, что вверху, не отнимай у меня моего ребенка, он еще слишком мал!" — просят кочевые селькнамы с Огненной земли. "О Цуни-гоам, — умоляют готтентоты, — ты один знаешь, что на мне нет никакой вины!" Во время урагана низкорослые семанги протыкают себе лодыжки бамбуковым ножом и разбрасывают капельки крови во все стороны с воплем: "Та Педн! Я не очерствел сердцем, я плачу за свою вину! Прими мой долг, я плачу его тебе".[95] Подчеркнем мимоходом пункт, который мы детально рассматривали в нашей работе "История религий": в культе народов, называемых первобытными. Небесные Верховные Существа призываются на помощь в последнюю очередь, когда все другие средства отвратить «страдание» (засуху, избыток дождей, несчастье, болезнь и т. д.) исчерпаны, и вмешательство других божеств, демонов и колдунов не принесло результата. При таких обстоятельствах семанги исповедуются во всех грехах, которые они, по их мнению, совершили — этот обычай встречается порой и у других народов, причем всегда это означает последнее средство отвращения страдания.
Вместе с тем, каждое действо магического ритуала, призванного бороться со страданием, со всей очевидностью показывает его смысл: оно происходит из-за магического воздействия врага, нарушения табу, проникновения в зону влияния злокозненных сил, гнева божества или — когда все предположения оказываются неверными — по воле или вследствие гнева Верховного Существа. Первобытный человек-и, как мы скоро увидим, он в этом не одинок — не может представить себе ничем не вызванного страдания:[96] оно происходит либо по собственной вине человека (в этом случае он убежден, что провинился перед богом), либо по желанию злого соседа (в этом случае магическое воздействие обнаруживает колдун) — но в основании всегда лежит какая-то вина или, по крайней мере, причина, отождествляемая с волей забытого Верховного Существа, к которому человек, в конечном счете, и вынужден обратиться. В любом из этих случаев «страдание» становится понятным и, как следствие, переносимым. Первобытный человек борется с ним всеми доступными ему магическими и религиозными способами, но он выносит его в моральном плане, ибо оно не абсурдно. Самым критическим моментом «страдания» является его начальная стадия — страдание приводит в смятение в той мере, в какой причины его остаются не ясны. Как только колдун или жрец определит причину, которая несет смерть детям или животным, вызывает засуху или проливные дожди, уводит от охотника дичь и т. д., «страдание» становится выносимым — оно обретает смысл, его можно включить в определенную систему, дав ему объяснение.
То, что мы сказали выше о "первобытном человеке", во многом остается верным и применительно к человеку архаических культур. Разумеется, мотивы, посредством которых оправдываются страдание и боль, варьируются от народа к народу, но оправдание имеется всегда. В целом, можно сказать, что страдание рассматривается как следствие отклонения от «нормы». Не подлежит сомнению, что «норма» варьируется от народа к народу и от цивилизации к цивилизации. Но нам важно отметить другое: страдание и боль в рамках архаической цивилизации никогда и нище не воспринимались как «слепые» и лишенные смысла. Вот почему индусы довольно рано выработали понятие о карме — универсальном законе причинно-следственных связей, в котором учитываются события и страдания, испытанные человеком, и одновременно обосновывается необходимость трансмутаций. В свете кармического закона страдания не только обретают смысл, но и получают позитивное значение. Страдания в нынешнем существовании являются не только заслуженными, ибо они предстают как роковое последствие совершенных во время предшествующих существовании преступлений и ошибок, но и благословенными, ибо только благодаря им можно принять и упразднить часть кармического долга, тяготеющего над человеком и определяющего цикл его будущих существовании. Согласно воззрениям индусов каждый человек рождается со своим долгом, но обладает полной свободой увеличить или уменьшить его. Его существование представляет собой долгую серию платежей и займов, соответствие между которыми не всегда выглядит очевидным. Любой, у кого есть хоть крупица разума, способен безмятежно сносить страдания, боль, полученные удары, обрушившиеся несправедливости и т. д., поскольку в каждом из них восстанавливается кармическое равновесие, не достигнутое в ходе предшествующего существования. Совершенно ясно, что индийская философия стремилась найти и довольно рано обнаружила те способы, при помощи которых человек может освободиться от бесконечной цепи причинно-следственных связей, обусловленных кармическим законом. Однако подобные решения никоим образом не затрагивают смысла страданий, а, напротив, усиливают его. Равным образом, йога и буддизм исходят из принципа, что все существование есть мука, однако человеку предоставлена возможность вырваться вполне осязаемым и окончательным образом из бесконечной последовательности страданий, к которым сводится, в конечном счете, любое человеческое существование. Но буддизм, подобно йоге и всем прочим индийским концепциям завоевания свободы, ни на одну секунду не ставит под сомнение «нормальность» самой муки. Что касается Веданты, то здесь страдание считается «иллюзорным» лишь в той степени, в какой иллюзорна вся Вселенная — ни полное муки человеческое существование, ни Вселенная не являются реалъностями в онтологическом смысле этого термина. За исключением материалистических школ Локаята и Чарвака, отрицающих существование и «души», и «Бога», и считающих бегство от боли и стремление к наслаждению единственной достойной человека целью, вся остальная Индия придавала вполне определенные смысл и функцию страданиям любого типа — космическим, психологическим или историческим. Карма гарантирует, что все происходящее в мире находится в полном соответствии с нерушимым законом причин и следствий.
Хотя нигде больше в архаическом мире мы не встретимся со столь наглядным, как карма, определением «нормальности» страданий, повсюду мы обнаружим сходную тенденцию придать мукам и историческим событиям "нормальное значение". Совсем не обязательно приводить здесь все проявления этой тенденции. Почти везде мы встретим архаическую концепцию (у первобытных людей она является доминирующей), согласно которой страдание целиком зависит от воли божества, которое производит его либо своим непосредственным вмешательством, либо разрешает наслать его другим силам — демоническим или божественным. Гибель урожая, засуха, разграбление города врагами, утрата свободы или жизни, бедствие любого вида (эпидемия, землетрясение и т. д.) — все это тем или иным образом находит свое объяснение и оправдание в трансцендентальном мире, в сфере божественного управления. Быть может, бог побежденного города оказался менее могущественным, чем бог победоносной армии, быть может, все сообщество или его отдельное семейство допустило роковую ошибку в отправлении культу, быть может, в дело вмешались чары, демоны, проклятия, ритуальные провинности — любому страданию, коллективному или индивидуальному, непременно находится объяснение. И, как следствие, страдание становится выносимым. Более того: в средиземноморском и месопотамском регионах страдания людей были довольно рано привязаны к страданиям божества. Это означало включение их в архетип, определяющий одновременно реальность и «нормальность». Очень древний миф о страданиях, смерти и воскресении Таммуза находит свое отражение и неоднократно повторяется почти во всем древневосточном мире, и реликты этого сценария встречаются даже в постхристианской теологии. Сейчас не время затрагивать космическо-аграрное происхождение и эсхатологическую структуру Таммуза. Мы только напомним, что страдания и возрождение Таммуза стали также образцом для страданий других божеств (например, Мардука) и, без всякого сомнения, изображались (следовательно, повторялись) каждый год царем. Плач и радость народа, вспоминающего о страданиях, смерти и возрождении Таммуза или любого другого космическо-аграрного божества, оказывали на сознание архаического Востока влияние, масштаб которого еще не был по достоинству оценен. Ибо речь шла не только о том, что за смертью человека последует возрождение, но и о том, что страдания Таммуза оказываются утешительными для каждого конкретного человека. Любое страдание можно было вынести, вспоминая трагедию Таммуза.
Ибо эта мифическая драма напоминала человеку, что страдание не является окончательным, что за смертью следует возрождение, что всякое поражение уничтожается и заменяется финальным триумфом. Совершенно очевидна аналогия между этими мифами и лунарной драмой, кратко обрисованной в предыдущей главе. Но мы хотим сразу же подчеркнуть, что Таммуз — или любой другой вариант того же архетипа — оправдывает или, говоря другими словами, делает выносимыми страдания «праведника». Бог — а уж он-то, безусловно, «праведен» и «чист» — страдает безвинно. Его подвергают унижениям, избивают до крови, бросают в «колодец», то есть в Ад. Именно тогда Великая Богиня (или «вестник» в более поздних теологических версиях) навещает его, придает ему мужества и возрождает. Этот столь утешительный миф о страданиях божества чрезвычайно долго сохранялся в сознании восточных народов. Профессор Дж. Вайденгрен числит его среди прототипов манихейства и маздеизма[97] — разумеется, с учетом неизбежных изменений и новых значений, приобретенных в эпоху греко-восточного синкретизма. Как бы то ни было, мы должны обратить внимание на следующий факт: подобные мифологические сцены представляют собой чрезвычайно архаическую структуру, которая происходит-если не в «историческом», то хотя в формальном плане — из лунарных мифов, в древности которых у нас нет права сомневаться. Мы уже отмечали, что лунарные мифы обладают оптимистическим видением жизни в целом: все происходит циклическим образом, за смертью неизбежно следует возрождение, за катаклизмом — новое творение. Парадигматический миф о Таммузе (распространившийся и на других месопотамских богов) предлагает нам углубление подобного оптимистического взгляда: теперь речь идет не только об «искупленной» смерти индивидуума, но и о пережитых им страданиях, — по крайней мере, это можно допустить, исходя из теологических переосмыслений мифа о Таммузе в маздеизме и манихействе. Согласно воззрениям этих сект, человек по сути своей обязан пережить то, что выпало на долю Таммузу: заключенный в «колодце», ставший рабом "Князя Тьмы" человек будет пробужден Вестником, который принесет ему счастливое известие о грядущем спасении и «освобождении». Хотя у нас нет никаких документальных свидетельств, позволяющих распространить подобные выводы и в отношении Таммуза, мы склонны полагать, что драма его не рассматривалась как совершенно чуждая драме человека. Отсюда громадная «популярность» обрядов, связанных с божествами, которые получили название растительных.
3.2. История как Богоявление
Евреи воспринимали каждое новое историческое бедствие как наказание, ниспосланное Яхве, разгневанного мерзкими грехами, в которых погряз избранный народ. Никакое военное поражение не казалось абсурдным, никакое страдание напрасным, ибо за всяким подобным «событием» всегда угадывалась воля Яхве. Более того: можно сказать, что эти катастрофы были необходимы, — они были предусмотрены Богом с той целью, чтобы еврейский народ не шел против своей судьбы, отвергая религиозное наследие, завещанное Моисеем. В самом деле, каждый раз, когда «история» позволяла и наступала эпоха относительного экономического процветания и мира, евреи отступались от Яхве и предавались богам своих соседей — всевозможным Ваалам и Астартам. Только исторические катастрофы направляли их на правильный путь, насильственно обращая все взоры к истинному Богу. "Но когда возопили они к Господу и сказали: согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам; теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить Тебе" (I Цар. XII, 10). Это возвращение к истинному Богу в момент краха напоминает отчаянный призыв первобытного человека, который вспоминает о существовании Верховного Существа, только осознав страшную опасность и потерпев неудачу при обращении к прочим могущественным «силам» (божествам, предкам, демонам). Однако евреи, после появления на их историческом горизонте воинственных ассиро-вавилонских империй, постоянно жили под страхом обещанной Яхве кары: "А если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших (I Цар., XII, 15).
В ужасающих видениях пророков была еще более усилена мысль о неизбежной каре, которую обрушит Яхве на Свой народ, не сумевший сохранить веру. И лишь в той мере, в какой подобные пророчества были подтверждены катастрофами — что, впрочем, происходило начиная от Илии и кончая Иеремией — эти исторические события приобретали религиозное значение, то есть с полной очевидностью представали карами, ниспосланными Господом в наказание за нечестивость Израиля. Благодаря пророчествам, в которых современные события интерпретировались с точки зрения неколебимой веры, эти события превращались в "богоявления негативного порядка" — в «гнев» Яхве. В результате они не только обретали смысл (поскольку мы уже убедились, что в восточном мире любое историческое событие имело свой смысл), но и нерасторжимо связывались друг с другом, ибо являлись конкретным воплощением все той же единой божественной воли. Таким образом, пророчества впервые придают ценность истории: они выходят за рамки традиционного циклического видения, где всему сущему обеспечено вечное возвращение, и открывают однонаправленное, линейное время. Это открытие будет признано далеко не сразу и не войдет в сознание всего еврейского народа — древняя концепция, как будет показано ниже, удержится надолго.
Но впервые мы видим, как укрепляется и распространяется мысль о том, что исторические события имеют ценность сами по себе — в той мере, в какой они определены волей Бога. Этот Бог еврейского народа уже не восточное божество, созидающее посредством жестов-архетипов, а личность, которая постоянно вмешивается в историю и раскрывает волю свою при помощи событий (вторжений, осад, битв и т. д.). Исторические факты становятся таким образом «деяниями» человека, стоящего перед Богом, и в качестве таковых приобретают религиозную ценность, которую до сих пор ничто не могло им гарантировать. Поэтому справедливо будет сказать, что евреи первыми открыли значение истории как богоявления — эта концепция, как и следовало ожидать, будет подхвачена и развита в христианстве.
Мы даже можем задать себе такой вопрос: не влечет ли за собой в обязательном порядке монотеизм, основанный на непосредственном и личном вмешательстве божества, «спасение» времени, "придание ему ценности" в рамках истории? Разумеется, понятие об откровении встречается в более или менее явной форме во всех религиях — можно даже сказать, во всех культурах. В самом деле, в первой главе мы показали, что жесты-архетипы, в дальнейшем без конца повторяемые людьми, были одновременно почитанием жрецов и божества. Первый танец, первый поединок, первый поход за рыбой, равно как первая брачная церемония или первый обряд, становились образцом для подражания, ибо являли собой способ существования божества, первочеловека, культурного героя и проч. Но все эти откровения произошли в мифическом времени, в экстратемпоральный момент начала всего сущего — поэтому, как мы показали в первой главе, в определенном смысле все сущее совпадает с началом мира, с космогонией. Все происходило и было явлено посредством откровения тогда, in illo tempore: сотворение и мира, и человека, равно как обустройство последнего в Космосе в состоянии, мельчайшие детали которого были предусмотрены заранее (психология, социология, культура и т. д.).
Совершенно иначе обстоит дело с монотеистическим откровением. Оно произошло во времени, в исторической протяженности: Моисей получает «Завет» в определенном «месте» и в определенный «момент». Разумеется, здесь также обнаруживаются архетипы в том смысле, что эти события, возведенные в ранг образца, будут повторяться, — но они повторятся лишь по завершении времен, иными словами, в новом illud tempus. Например, согласно пророчеству Исаии (XI,15–16), чудесные переходы через Красное море и реку Иордан повторятся "в тот день". Вместе с тем откровение, данное богом Моисею, остается привязанным к определенному моменту во времени. И поскольку это откровение одновременно стало богоявлением, оно приобретает новый масштаб — его ценность определяется именно тем, что оноуже необратимо, оно превратилось в историческое событие.
Впрочем, мессианизму с трудом удалось осуществить эсхатологическую валоризацию* времени: будущее возродит время, иными словами, вернет ему изначальную чистоту и целостность. In illo tempore, включается, таким образом, не только происходившее в начале, но и в конце времен.[98] Равным образом, легко обнаружить в этих мощных масштабных пророческих видениях древнейший сценарий ежегодного возрождения Космоса посредством повторения творящего акта и патетической драмы Царя. Мессия выполняет — естественно, на более высоком уровне — эсхатологическую роль Царя-бога или Царя-представителя божества на земле, главная миссия которого состояла в том, чтобы периодически возрождать Природу во всей ее полноте. Его страдания напоминают муки Царя, но, как и в древних сценариях, в конечном счете, победа всегда остается за Царем. Единственное отличие состоит в том, что эта победа над силами мрака и хаоса не воспроизводится регулярно и ежегодно, а отнесена к будущему и мессианскому illo tempore.
Под "гнетом истории" и давлением пророчески мессианских испытаний народ Израиля создает новую интерпретацию исторических событий. Не отказываясь окончательно от традиционной концепции архетипов и повторения, Израиль стремится «спасти» исторические события, воспринимая их как проявления воли Яхве. Если, к примеру, для месопотамских народов индивидуальные или коллективные «страдания» были «выносимы» в той степени, в какой они были порождением борьбы между божественными и демоническими силами, то есть являлись неотъемлемой частью космической драмы (поскольку с начала времен и ad infinitum — до бесконечности — творению предшествует хаос, в котором оно склонно раствориться; поскольку с начала времен и ad infinitum каждое новое рождение предполагает страдания и муки, и т. п.), то для Израиля эпохи мессианских пророков исторические события могли быть выносимы потому, что так захотел Яхве, с одной стороны, и потому, что они были необходимы для окончательного спасения избранного народа, с другой стороны. Подхватив древние сценарии (типа Таммуза) о «страстях» бога, мессианизм придает им новое значение тем, что в первую очередь аннулирует возможность их повторения ad infinitum. Когда явится Мессия, мир будет спасен раз и навсегда и история прекратит свое существование. В этом смысле можно говорить не только об эсхатологической валоризации будущего, "того дня", но также и «спасении» исторического развития. История теперь не воспринимается бесконечно повторяющимся циклом, как это представлялось первобытным народам (создание, порча, уничтожение, ежегодное возрождение Космоса), или такой, как она была сформулирована (мы это сейчас увидим) в концепциях вавилонского происхождения (создание, уничтожение, создание, разделенные значительными временными промежутками: тысячелетиями, "Великими Годинами", Эонами) — история, непосредственно контролируемая волей Яхве, воспринимается как цепь «негативных» или «позитивных» богоявлений, каждое из которых имеет собственную ценность. Нет сомнений, что все военные поражения могут быть сведены к одному архетипу — гневу Яхве. Однако каждое из этих поражений, хоть и является по сути повторением одного и того же архетипа, все же несет в себе непреложный отличительный знак — личное вмешательство Яхве. Например, гибель Самарии, невзирая на сходство с гибелью Иерусалима, отличается тем, что вызвана она была новым жестом Яхве, новым вмешательством Господа в историю.
При этом не следует забывать, что подобные мессианские концепции принадлежат исключительно религиозной элите. В течение многих веков эта элита занималась религиозным воспитанием народа Израиля, но ей не всегда удавалось вытеснить традиционные древневосточные оценки жизни и истории. Периодические возвращения евреев к Ваалам и Астартам во многом объясняются их нежеланием признавать ценность истории, иными словами, воспринимать ее как Богоявление. Для многих народных слоев, в частности, для земледельческих сообществ древняя религиозная концепция (концепция "Ваалов и Астарт") была предпочтительной — она приближала их к «Жизни» и помогала выносить Историю или даже не замечать ее. Несокрушимое стремление мессианских пророков смотреть в лицо истории и принимать ее как ужасающий диалог с Яхве, их стремление считать военные поражения плодотворными в морально-религиозном смысле и выносить их, поскольку они необходимы для примирения Яхве с народом Израиля и для конечного спасения, стремление рассматривать любой момент как решающий и, как следствие, придавать ему ценность в религиозном смысле — подобное стремление требовало слишком сильного духовного напряжения, и большинство израильского народа отказывалось этому подчиняться,[99] точно так же, как большая часть христиан — особенно из народной Среды — отказывалась вести жизнь подлинного христианина. Было куда утешительнее — и удобнее — обвинять в несчастьях и испытаниях чью-то «злокозненность» (чары и т. д.) или «небрежение» (ритуальная ошибка), которые можно легко исправить при помощи жертвоприношения (даже если требовалось приносить в жертву Молоху новорожденных детей).
В этом смысле классический пример жертвоприношения Авраама великолепно иллюстрирует разницу между традиционной концепцией повторения архетипического деяния и новым измерением — верой, обретенной вследствие религиозного испытания.[100] С формальной точки зрения жертва Авраама представляет собой приношение Богу новорожденного — обычай, очень распространенный в древневосточном мире, в котором евреи существовали вплоть до эпохи пророков. Первенец часто считался ребенком бога — действительно, повсеместно на древнем Востоке девушки имели обыкновение проводить ночь в храме, где и зачинали от бога (от его представителя-жреца или от его посланника — "чужестранца"). Жертвуя первенца, божеству отдавали принадлежащее ему. Юная кровь питала истощившуюся мощь бога (божества, получившие название плодородных, истощали свою плоть, дабы поддержать мир и обеспечить его изобилие, — следовательно, им самим необходимо было периодически возрождаться). В определенном смысле и Исаак являлся сыном Бога, ибо был дарован Аврааму, когда жена его Сара давно миновала возраст, подходящий для материнства. Однако Исаак был дарован им за их веру, ибо родился во исполнение обещания Бога и в награду за веру. Жертвоприношение Авраама, невзирая на формальное сходство со всеми другими приношениями новорожденных в древнесемитском мире, коренным образом отличается от них по своему значению. Тогда как для остального древнесемитского мира такая жертва при всей ее религиозной функции была всего лишь обычаем, обрядом, смысл которого был совершенно ясен, для Авраама это было актом веры. Авраам не понимает, почему от него требуют такой жертвы, но он совершает ее, поскольку этого потребовал от него Господь. Этим актом, внешне совершенно абсурдным, Авраам творит новую религиозную суть — веру. Другие люди (весь восточный мир) остаются еще в сфере сбережения сакрального, но Авраам и его последователи выходят за ее пределы. Прежние жертвы принадлежат, если воспользоваться терминологией Кьеркегора, «общности»: в их основании лежат архаические теофании, где речь идет только и циркуляции сакральной энергии в Космосе (от божества к природе и человеку, затем от человека — посредством жертвоприношения — вновь к божеству и т. д.). Эти акты заключали свое оправдание в самих себе, ибо входили в логичную и стройную систему — принадлежащее Богу должно вернуться к нему. Для Авраама Исаак был даром Господа, а не плодом непосредственной и телесной близости. Между Богом и Авраамом разверзлась пропасть, цепь непрерывного развития навсегда прервалась. Религиозный акт Авраама задает новый религиозный масштаб: Бог оказывает личностью, субстанцией с "четкими параметрами" — он приказывает, одаривает, требует без всякого рационального (то есть общего и заранее известного) оправдания, и для него все становится возможным. Этот новый масштаб создает предпосылки для появления «веры» в иудео-христианском смысле слова. Мы привели этот пример с целью показать новизну еврейской религии по сравнению с традиционными структурами. Точно так же, как пережитый Авраамом опыт можно считать новым религиозным поведением человека в Космосе, пророчества и мессианское восприятие исторических событий обретают в сознании израильской элиты не виданный ранее масштаб — событие становится богоявлением, где раскрывается как воля Яхве, так и личные отношения между Богом и избранным народом. Та же концепция, обогащенная посредством христологических интерпретаций, станет основой для философии истории, которую христианские мыслители, — начиная со святого Августина, — будут стремиться создать. Но, повторим еще раз, и в христианстве, и в иудаизме открытие этого нового масштаба религиозного опыта — веры — не влечет за собой радикального изменения традиционных концепций. Вера всего лишь становится доступной для каждого христианина в отдельности. Подавляющее большинство народонаселения, именуемого христианским, продолжает вплоть до сегодняшнего дня защищаться от истории, стараясь не замечать ее и предпочитая выносить ее, нежели придавать ей значение «негативной» или «позитивной» теофании.[101]
Принятие и оценка истории иудейской элитой не означает, впрочем, что рассмотренное нами в предыдущей главе традиционное поведение окончательно исчезло. Мессианские верования в конечное возрождение мира ясно указывают, что и они тоже являются антиисторичными. Поскольку еврей не может больше не замечать или регулярно уничтожать историю, он выносит ее в надежде, что она окончательно прекратится в тот или иной определенный момент. Необратимость исторических событий и времени компенсируются ограничением истории во времени. В духовной сфере мессианства сопротивление истории оказывается более сильным, чем в сфере традиционных архетипов и повторения: если в последнем случае история отвергается, игнорируется или уничтожается периодическим повторением Творения и периодическим возрождением времени, то согласно мессианской концепции историю следует выносить, поскольку она несет эсхатологическую функцию, но вынести ее можно лишь потому, что она в один прекрасный день непременно завершится. История, таким образом, уничтожается не в силу того, что человек осознает себя в вечном настоящем (совпадение с вневременным моментом откровения и создания архетипов), не посредством ритуального и регулярного повторения (например, в обрядах, связанных с началом года) — она уничтожается в будущем. Периодическое возрождение Творения заменяется единственным, уникальным возрождением, которое произойдет in illo tempore в будущем. Но стремление покончить с историей раз и навсегда является таким же антиисторическим поведением, как это было в других традиционных концепциях.
3.3. Космические циклы и история
Значение, приобретенное «историей» в рамках различных архаических цивилизаций, нигде не проявляется с такой отчетливостью, как в концепциях "Великого Времени" — иными словами, в великих космических циклах, о которых мы упоминали в предыдущей главе. Нам следует вернуться к ним, поскольку именно здесь впервые четко выявляются две тенденции: одна традиционная, явственно ощущаемая (но никогда с точностью не формулируемая) во всех «первобытных» культурах концепция циклического времени, периодически возрождаемого ad infinitum, вторая — «современная» концепция конечного времени, представляющего собой отрезок (хотя также циклический) между двумя вневременными бесконечностями.
Почти везде эти теории "Великого Времени" бытуют наряду с мифом о последовательной смене эпох — считая от "золотого века", который всегда находится в начале цикла, в непосредственной близости от парадигматического illud tempus. В обеих концепциях — бесконечного циклического и ограниченного конечного времени — этот золотой век представляется достижимым; говоря иными словами, он повторяется — бесконечное число раз в первой концепции и лишь один раз во второй. Мы возвращаемся к этим фактам не ради их вневременной значимости (которая весьма велика), а с целью уяснить смысл «истории» с точки зрения каждой доктрины. Мы начнем с индийской традиции, поскольку именно в ней миф о вечном возвращении претворился в самой смелой форме, убеждение в периодическом разрушении и воссоздании Вселенной присутствует уже в «Атхарваведе» (X, 8, 39–40). Живучесть подобных воззрений в германской традиции (всемирный пожар, рагнарёк, за которым следует новое творение) подтверждает индоарийскую структуру этого мифа, который можно, следовательно, рассматривать в качестве одного из многочисленных вариантов архетипа, исследованного в предыдущей главе. (Возможные восточные влияния на германскую мифологию не обязательно должны ставить под сомнение подлинность и автохтонный характер мифа о рагнарёк. Впрочем, было бы весьма трудно объяснить, почему индоарийцы не могли иметь — в эпоху их доисторической общности — такую же концепцию времени, как у других «первобытных» народов.)
Однако индийская философия развивает и выстраивает в стройную систему ритмов, управляющих периодичностью творения и космического разрушения. Мельчайшая единица цикла называется юга (эпоха). Каждая юга начинается и заканчивается соответственно «зарей» и «сумраком», которые связывают «эпохи» между собой. Полный цикл или махаюга включает в себя четыре «эпохи» неравной протяженности, причем самая долгая открывает цикл, а самая короткая завершает его. В силу этого первая «эпоха», крита-юга, продолжается 4000 лет с добавлением 400 лет «зари» и еще столько же — «сумерек». Далее следуют трета-юга в 3000 лет, двапара-юга в 2000 лет и кали-юга в 1000 лет (плюс «заря» и «сумерки», обладающие, разумеется, соответственной протяженностью). Далее, каждая махаюга длится 12 000 лет (Many, I, 69 sq.; Махабхарата, III, 12, 826). Прогрессирующему уменьшению протяженности каждой юги соответствует в человеческом плане уменьшение продолжительности жизни, которое сопровождается растлением нравов и оскудением разума. Этот упадок на всех уровнях — биологическом, интеллектуальном, этическом, социальном и т. п. — особенно выразительно показан в пуранах (см., например, Ваю Пурана, I, 8; Вишну Пурана, VI, 3). Переход от одной юги к другой осуществляется, как мы уже видели, посредством «сумерек», которые означают убывание добродетели в недрах самой юги — и каждая из них заканчивается полной тьмой. По мере приближения к концу цикла, то есть к четвертой и последней юге, «тьма» все больше сгущается. Кали-юга, в которой мы пребываем в настоящее время, считается "эпохой тьмы". Полный цикл завершается «распадом» — пралая — и самый радикальный из них (махапралая, "великий распад") произойдет в конце тысячного цикла.
Г. Джекоби[102] справедливо полагает, что в изначальной доктрине одна юга равнялась полному циклу, включавшему в себя рождение, «истощение» и разрушение Вселенной. Кстати говоря, подобная концепция была ближе к ар-хетипическому мифу, к лунарной структуре, которую мы рассмотрели в работе Traite d'Histoire des Religions. В позднейших философских построениях изначальный ритм «творение-разрушение» был всего лишь расширен и умножен до бесконечности благодаря тому, что единица измерения (юга) была включена во все более обширные циклы. 12 тысяч лет махаюги считались "божественными годинами", каждая из которых длится 360 лет, что дает в сумме 4 320 000 лет за один космический цикл. Тысяча таких махаюг составляет кальпу, 14 кальп составляют одну манвантару. Одна кальпа равна одному дню жизни Брахмы, вторая кальпа равна ночи. Сто подобных «лет» составляют жизнь Брахмы. Но даже такая значительная протяженность жизни Брахмы не исчерпывает всего времени: боги не вечны, и космическое творение с последующим разрушением продолжается ad infinitum. (Добавим, что в других системах расчета соответствующие длительности увеличиваются в гораздо большей степени.) В этой лавине цифр[103] следует прежде всего выделить циклический характер космического времени. В самом деле, мы присутствуем при бесконечном повторении одного и того же феномена (творение-разрушение-новое творение), потенциально имеющегося в каждой юге ("заря" и "сумерки"), но окончательно реализующегося в махаюге. Таким образом, жизнь Брахмы состоит из 2 560 000 подобных махаюг: каждая из них включает одни и те же периоды (крита, трита, двапара) — в завершение же наступает пралая, рагнарёк ("окончательное" разрушение посредством регрессии всех жизненных форм в аморфную массу, что происходит в конце каждой кальпы во время махапралая). Помимо этой метафизической девальвации «истории», которая в соответствии со своей продолжительностью и благодаря самому этому факту вызывает «эрозию» всех «форм», ибо исчерпывает их онтологическую сущность, и помимо мифа об изначальном совершенстве, который здесь также наличествует (миф о рае, постепенно утерянном людьми в силу того простого обстоятельства, что он осуществился, обрел форму и длительность), в этой оргии цифр нашего внимания заслуживает вечное повторение основополагающего ритма Космоса — периодическое разрушение и новое творение. Из этого цикла, который не имеет ни конца, ни начала, человек может вырваться лишь через акт духовной свободы (ибо все индийские сотериологические решения сводятся к обязательному освобождению от космической иллюзии и к обретению духовной свободы).
Две крупнейшие религиозные системы — буддизм и джайнизм — принимают основные положения той же самой общеиндийской доктрины о циклическом времени, сравнивая его с колесом о двенадцати спицах (этот образ использован уже в ведических текстах: см. «Атхарваведа», X, 8,4; «Ригведа», 1,164,115 и т. п.). Буддизм принимает в качестве единицы измерения космического цикла кальпу (пали: каппа), которая включает в себя разное число «неисчислимых» (асанкхия, пали: асанкхейя). В палийских источниках обычно говорится о четырех асанкхейя и о ста тысячах каппа (см., например, Джатака, I, р. 2); в текстах Махаяны число «неисчислимых» варьируется между 3, 7 и 33 — эти цифры связываются с восхождением Бодхисаттвы в тот или иной Космос.[104] Прогрессирующий упадок человечества выражается в буддийской традиции постоянным сокращением длительности жизни. Так, согласно Дигха-никая, II, 2–7, в эпоху первого Будды-Випасси, который появился 91 каппу тому назад, продолжительность жизни человека равнялась 80 тысячам лет; в эпоху второго Будды-Сикхи (31 каппа тому назад) — 70 тысячам лет и т. д. Седьмой Будда-Гаутама появляется тогда, когда продолжительность жизни составляет всего 100 лет — иными словами, она сократилась до самого крайнего своего предела. (Мы встретим тот же мотив в апокалиптических иранских и христианских текстах.) Тем не менее, для буддизма, как и для индийской философии в целом, время является безграничным: Бодхисаттва воплотится в земном обличье, чтобы объявить счастливую весть о спасении всех живых существ in aeternum*. Единственная возможность вырваться из времени, разорвать железный круг существовании — это упразднение в себе человеческого и достижение Нирваны.[105] Впрочем, все эти «неисчислимые», все эти бесконечные эоны выполняют также сотериологическую функцию: при одном взгляде на них человек приходит в ужас и по необходимости сознает, что ему придет миллиарды раз вновь и вновь обретать свое мимолетное существование и выносить все те же бесконечные страдания, вследствие чего в нем усиливается тяга к бегству — то есть стремление окончательно выйти за пределы «существующего».
В индийских философских построениях о циклическом времени вполне очевидно выражено "отречение от истории". Подчеркнем все же коренное различие между индийскими и архаическими концепциями: если человек, принадлежащий к традиционным культурам, отказывается от истории посредством периодического упразднения творения и обновляет тем самым вневременное мгновение начала начал, то индийская мысль в высшем своем усилии лишает ценности и отвергает саму эту реактуализацию изначального времени, которую не желает больше признавать удовлетворительным решением проблемы страдания. Между ведическим (иными словами, архаическим и "примитивным") и махаяническим восприятием космического цикла разница точно такая же, как между — если применить общую формулу — архетипической (традиционной) антропологической и экзистенциалистской (исторической) позицией. Карма, закон универсальной причинно-следственной зависимости, могла служить утешением в сознании индуса добуддийской эпохи, поскольку она оправдывала человеческое существование и учитывала накопленный исторический опыт — но со временем она становится воплощением «рабства» человека. Именно поэтому все метафизические построения и все технические приемы индийской философии стремятся к уничтожению кармы в той самой мере, в какой готовы предложить освобождение человека. Однако если бы доктрины космических циклов были только иллюстрацией теории универсальной причинной зависимости, мы не стали бы их рассматривать в этом контексте. Действительно, концепция четырех юг привносит новый элемент — объяснение (и, следовательно, оправдание) исторических катастроф, прогрессирующего упадка человеческой биологии, социологии, этики и интеллекта. Время — в силу того простого факта, что оно имеет длительность — постоянно ухудшает состояние космоса и, следовательно, человека. Из того простого факта, что мы живем в рамках кали-юги, иными словами в "эпоху мрака", развивающейся под знаком распада и продвигающейся к неизбежной катастрофе, нам предначертано судьбой выносить больше мук в сравнении с людьми предшествующих «эпох». Ныне, в наш исторический момент, мы не можем ожидать ничего другого: мы можем лишь вырваться из космического рабства — именно в этом и проявляется сотериологическая функция кали-юги, именно эту привилегию дарует нам катастрофическая, исполненная мрака история. Индийская теория четырех эпох, таким образом, укрепляет силы и утешает человека, которого история ужасает. Давайте прикинем:
1) с одной стороны, страдания выпали ему на долю в силу того, что он живет в эпоху сумеречного разложения — это помогает ему осознать хрупкость человеческого существования и тем самым способствует его освобождению,
2) с другой стороны, эта теория делает ценными и оправдывает страдания того, кто не избрал освобождение, но зато покорно выносит свое существование — именно потому, что он понимает драматический и катастрофический характер эпохи, которую ему придется прожить (или, точнее, пережить).
Нас особенно интересует второй вариант, выпадающий на долю человеку, который живет в "эпоху мрака" и конца цикла, поскольку этот вариант встречается в других культурах и в другие исторические периоды. Суметь вынести то, что являешься современником катастрофической эпохи, сознавая при этом, какое место она занимает на нисходящей траектории космического цикла — такому подходу предстояло доказать свою эффективность главным образом в сумерках греко-восточной цивилизации.
Мы не станем обсуждать здесь многочисленные проблемы, связанные с восточно-эллинистическими цивилизациями. Единственный интересующий нас аспект — это осознание той ситуации, в которой человек этих цивилизаций оказывается перед лицом истории и, в частности, перед лицом современной ему истории. Именно поэтому мы не станем задерживаться на происхождении, структуре и эволюции различных космологических систем, где подхватывается и углубляется древний миф о космических циклах. Равным образом, мы не будем говорить о философских последствия (от досократиков до неопифагорейцев) этих космологических систем, поскольку они интересуют нас лишь в той мере, в какой им удается ответить на следующий вопрос: в чем состоит смысл истории — той совокупности пережитого, которая была накоплена в силу неизбежных географических факторов, особенностей той или иной социальной структуры, стечения политических обстоятельств и т. д.? Сразу же отметим, что в эпоху эллинистически-восточных цивилизаций подобным вопросом задавалось лишь незначительное меньшинство людей — те, кто ощущали свой разрыв с миром архаической духовности. Громадное большинство их современников признавало — особенно поначалу — власть прежних архетипов, от которых они отойдут очень поздно (и, быть может, вовсе не окончательно, как это очевидно, например, в случае с земледельческими общинами), вследствие сильнейших исторических потрясений, связанных с завоеваниями Александра Македонского и едва ли завершенных даже с падением Рима. Однако философско-космологические мифы, получившие более или менее научную форму в трудах этого меньшинства, начиная с досократиков, со временем обретут громадную популярность. Почти недоступная в V веке до Р. X. теологическая система через четыре столетия превратится в доктрину, утешительную для сотен тысяч людей (об этом свидетельствуют неопифагорейство и неостоицизм в римском мире). И, само собой разумеется, греческие и греко-восточные доктрины, в основании которых лежит миф о космических циклах, интересуют нас именно с точки зрения их последующего «успеха», а не в плане их вневременного значения.
Этот миф был еще вполне прозрачен в первых досократических спекуляциях. Анаксимандр знает, что все родилось из апейрона (бесконечности) и вновь вернется к нему. Эмпедокл объясняет вечную смену творения и разрушения Космоса (цикл, где можно различить четыре фазы,[106] почти аналогичные четырем «неисчислимым» буддийской доктрины) чередованием двух основополагающих начал — филия (любовь и нейкос (вражда). Как мы уже видели, Гераклит принимает и идею о всемирном пожаре. Что касается "вечного возвращения" — периодического обращения всех живых существ к своему прежнему существованию — это один из тех редких догматов, о которых мы можем с полной уверенностью утверждать, что они наличествовали в изначальном пифагорействе (у Дикеарха, которого цитирует Порфирий в Vita Pyth, 19). Наконец, благодаря недавним исследованиям, получившим великолепное обобщение в работе Ж. Биде,[107] можно считать весьма вероятным, что по крайней мере некоторые элементы платоновской концепции имеют ирано-вавилонское происхождение.
Мы еще вернемся к этим возможным восточным влияниям. Остановимся пока на интерпретации, данной Платоном мифу о циклическом возвращении, и обратимся прежде всего к фундаментальному тексту, а именно — Политику (260с sq.).
Платон считает причиной космических возвратов и катастроф двойное движение Вселенной: "…Нашей Вселенной управляет либо Божество, которому подчинен весь цикл превращений, либо она сама, когда эти превращения достигают уровня, подходящего для этой вселенной; и тогда она начинает двигаться в противоположном направлении, повинуясь собственному толчку…" Смена направления сопровождается гигантскими катаклизмами — "почти полным вымиранием живых существ в целом и человеческого рода в частности, от которого остается, как и следовало ожидать, лишь малое число представителей" (270с). Однако за этой катастрофой следует парадоксальное «возрождение». Люди начинают молодеть, "седые волосы старцев становятся черными" и т. п., тогда как мужчины и женщины зрелого возраста с каждым днем уменьшаются в росте вплоть до размеров новорожденного ребенка, и "если это усыхание продолжится, они окончательно перестанут существовать". Трупы умерших в это время "исчезают без видимых следов, в течение нескольких дней" (270е). Именно тогда рождается раса "Сынов Земли" (гегенейи), память о которых сохранили наши предки (271 а). В эту эпоху Кроноса не было ни диких зверей, ни вражды между животными (271 е). Мужчины этой эпохи не имели ни жен, ни детей: "Выйдя из земли, они возвращались к жизни и не помнили ничего, что с ними происходило в их предыдущем существовании". Деревья в изобилии отдавали им свои плоды, они спали обнаженными на земле, не нуждаясь в постели, ибо во все времена года климат был благоприятным (272а).
Описанный Платоном миф об изначальном рае отчетливо просматривается в индийских верованиях; он встречается у древних евреев (например, мессианское illud tempus в книге Исаии, XI, 6, 8; LXV, 25), в иранской (Денкарт, VII, 9-35 и проч.) и греко-латинской традиции.[108] Этот миф, впрочем, прекрасно укладывается в архаическую (и, возможно, универсальную) концепцию "райского начала времен", которую мы обнаруживаем в любой трактовке изначального illud tempus. И нет ничего удивительного в том, что Платон воспроизводит подобные традиционные взгляды в диалогах, написанных в старости, ибо сама эволюция его философской мысли принуждала вновь обращаться к мифическим категориям. Ему, разумеется, были известны воспоминания о "золотом веке" Кроноса в эллинской традиции (ср., например, четыре века Господа в Трудах и днях, 110 sq.). Однако подобная констатация ничуть не мешает нам увидеть в Политике и определенные вавилонские влияния: например, там, где Платон приписывает возникновение периодических катаклизмов воздействию планетарных возмущений — в некоторых работах недавнего времени[109] подобное объяснение выводится из вавилонских астрономических понятий, с которыми эллинский мир позднее познакомился благодаря Вавилонским древностям Бероза. Согласно Тимею, отдельные катастрофы происходят из-за смещения планет (ср. Тимей, 22 и 23е, потоп в рассказе жреца Саис), тогда как объединение всех планет приводит к "совершенному времени" (Тимей, 39d), то есть к завершению "Великой Годины". Как замечает Ж. Биде (op. cit., p. 83), "мысль о том, что планетам достаточно собраться вместе, чтобы вызвать всемирное потрясение, несомненно халдейского происхождения". С другой стороны, Платону, судя по всему, известна и инарская концепция, согласно которой целью всех этих катастроф является очищение человеческого рода (Тимей, 22d).
Стоики в свою очередь восприняли рассуждения относительно космических циклов, сделав упор либо на вечное повторение (например, Хрисипп, фрагм. 623–627), либо на катаклизм — экпиросис, завершающий космические циклы (встречается уже у Зенона, фрагм. 98 и 109 по изданию фон Арнима). Черпая вдохновение у Гераклита или непосредственно в восточной теологии, стоицизм соотносит эти идеи с "Великой Годиной" и с космическим пожаром (экпиросис), который периодически уничтожает вселенную с тем, чтобы возродить ее. Со временем мотивы "вечного возвращения" и "конца света" станут доминирующими в греко-римской культуре. Периодическое обновление мира (метакосмесис) являлось, впрочем, излюбленной доктриной неопифагорейства, который, как показал Ж. Каркопино, имел наряду со стоицизмом наибольшее количество приверженцев в римском обществе 11-1 века до Р. X. Однако принятие мифа "о вечном возвращении", равно как и мифа об апокастасисе (этот термин возникает в эллинском мире после Александра Великого), свидетельствует о том, что эти две философские системы исповедуют стойкое отвращение к истории и желание защититься от нее. Мы рассмотрим каждую из этих концепция отдельно.
В предыдущей главе было показано, что миф о вечном возвращении в той новой трактовке, которая была дана греческой философией, означает максимальное усилие для "придания статичности" поступательному движению, для уничтожения необратимости времени. Все мгновения и все события Космоса повторяются бесконечное число раз, поэтому их исчезновение оказывается в конечном счете мнимым; в перспективе бесконечного каждое мгновение и каждая ситуация остаются на своих местах и приобретают тем самым онтологическую сущность архетипа. Следовательно, среди всех форм поступательного движения поступательное движение истории также насыщено существованием. С точки зрения вечного повторения исторические события преображаются в категории и обретают тем самым онтологическую сущность, которую они имели в рамках архаической духовности. В некотором смысле можно даже сказать, что греческая теория вечного возвращения представляет собой завершающий вариант архаического мифа о повторении архетипического жеста, точно так же, как платоновская доктрина об идеях является последней — и наиболее разработанной — версией концепции архетипа. Стоит обратить внимание и на то, что обе доктрины обрели блестящую в своей законченности форму в период величайшего расцвета греческой философской мысли.
Но особую популярность приобрел во всем греко-восточном мире миф о всемирном пожаре. Наиболее вероятным представляется то, что миф об уничтожении мира огнем, из которого праведники выйдут невредимыми, имеет иранское происхождение (ср., например, Бундахишн XXX, 18) — по крайней мере, в версии, известной "западным магам", которые, как это доказал Кюмон (La Fin du Monde, p. 39 sq.), принесли его на Запад. В стоицизме, Сивиллиных книгах (например, II, 253) и иудео-христианской литературе именно этот миф положен в основу их апокалиптических откровений и эсхатологии. Как ни странно, миф этот был утешительным. В самом деле: огонь обновляет мир; благодаря огню возрождается "новый мир, избавленный от старости, смерти, упадка и гниения, обретающий вечную жизнь и вечный расцвет; в это время мертвые встанут из гробов, а живым будет даровано бессмертие; мир станет постоянно обновляться по желанию людей" (Яшты XIX, 14, 89). Следовательно, речь идет об апокастасисе, которого праведным нечего опасаться. Финальная катастрофа положит конец истории — иными словами, человека ожидает вечность и блаженство.
Благодаря недавним исследованиям Ф. Кюмона и Г. С. Ниберга,[110] удалось несколько прояснить темные вопросы иранской эсхатологии и уточнить степень их влияния на иудео-христианский апокалипсис. Как и в Индии (в определенном смысле и в Греции), в Иране получил хождение миф о четырех космических эпохах. В утерянном маздеистском тесте Судгар-наск (его содержание передается в Денкарте, IX, 8) говорится о четырех веках: золотом, серебряном, стальном и "в смеси с железом". Те же металлы упоминаются в начале Бахман-яшта (I, 3), где, впрочем, чуть дальше (II, 14) говорится о космическом древе и его семи ветвях (золотой, серебряной, бронзовой, медной, оловянной, стальной и "в смеси с железом"), что вполне совпадает с мифической семикратносгыо истории у персов (ср. Cumont, La Fin du monde, 71 scj.). Эта космическая седмица возникла, вероятно, под влиянием халдейских астрономических толкований, в которых каждая планета «управляет» тысячелетием. Но в маздеизме гораздо раньше появилось представление о Вселенной протяженностью в 9000 лет (3 х 3000), а зерванизм, как это установил Ниберг (Questions de cosrnologie, p. 41 sq., 235), довел максимальные пределы этой Вселенной до 12 тысячи лет. В обеих иранских системах — как, впрочем, во всех концепциях космических циклов — мир погибнет от огня и воды, per pyrosiuin et cataclismum("От пожара и потопа" (лат.)), как напишет позднее Фирмик Матери (III, 1). Для нас, в сущности, не имеет значения, что в зерванистской системе "безграничное время" — эерван акарана — предшествует и следует за "ограниченным временем" протяженностью в 12 тысяч лет; что в рамках этой системы "время обладает большим могуществом, нежели оба Творения" (Бундахишн, chap. I, Nyberh, p. 214–215) — иными словами, творения Ормазда и Ахримана; что зерван акарана, оказывается, не было созданием Ормазда и, следовательно, не подчинено ему.
Мы вполне можем обойтись без обсуждения всех этих проблем, поскольку нам важно подчеркнуть следующее: согласно иранской доктрине — независимо от наличия или отсутствия в ней представлений о "бесконечном времени" — история не является вечной, она не повторяется и когда-нибудь завершится эсхатологическими экпиросисом или потопом. Ибо финальная катастрофа, которая положит конец истории, станет одновременно судом над этой историей. Именно тогда — in illo tempore — всем придется держать ответ за то, что они делали "в истории", и лишь признанные невиновными познают блаженство и вечность.[111]
Виндиш показал, какое важное значение имели эти маздеистские идеи для христианского апологетика Лактанция (ср. Cumont, р. 68 scj.). Мир был сотворен Богом за шесть дней, а в седьмой он отдыхал — из этого следует, что мир будет длиться шесть эонов, во время которых "зло победит и восторжествует" на земле. В течение седьмого тысячелетия князя демонов закуют в цепи, а человечество будет наслаждаться покоем и полной справедливостью. Затем демон вырвется из своих цепей и возобновит войну с праведниками, но, в конечном счете он потерпит поражение, и в конце восьмого тысячелетия мир будет сотворен вновь и навечно. Это деление истории на три акта и восемь тысячелетий, судя по всему, было известно христианским хилиастам (см. Cumont, р. 70, № 5), но иранское происхождение этой схемы не подлежит сомнению, хотя подобная эсхатологическая версия истории получила распространение на всем средиземноморском Востоке и в римской империи через посредство греко-восточных теологических концепций.
О близости конца мира возвестит ряд бедствий, и первым среди них станет падение Рима и уничтожение Римской империи — подобное апокалиптическое видение часто встречается в иудео-христианстве, но о нем знают также и иранцы (см. Cumont, p. 72). Впрочем, апокалиптический синдром встречается во всех традициях. Лактанций, как и Бахман-яшт, заявляет, что "год станет короче, месяц уменьшится, день сократится" (цит. по: Cumont, р. 78, № 1) — это то же самое представление о порче Космоса и человека, с которым мы встречались в Индии (где продолжительность человеческой жизни уменьшается с 80 тысяч до 100 лет) и которое широко распространилось в греко-восточном мире через посредство различных астрологических доктрин. Тогда обрушатся горы, и земля станет гладкой, люди начнут желать смерти и завидовать мертвым, и в живых останется лишь каждый десятый из них. "Это время, — пишет Лактанций (Instltittiones divinae (Божественные установления), VII, 17, 9; Cumont, p. 81), — когда будет отвергнуто само понятие справедливости, и невинность подвергнется поношению, когда дурные люди обрекут праведных на гонения, когда придут в забвение порядок, закон и воинская дисциплина, когда никто не будет выказывать почтения седовласой старости, когда все забудут о молитвах, когда не будет ни у кого жалости к женщинам или детям, и т. п.". Однако вслед за этой предварительной стадией придет очистительный огонь, который уничтожит дурных людей, а затем наступит тысячелетие блаженства — его ожидали также христиане-хилиасты, о нем было возвещено Исаией и в Сивиллиных книгах. Люди познают новый золотой век, который продлится до конца 7-го тысячелетия, ибо после этого последнего сражения всемирный экпиросис поглотит вселенную огнем, благодаря чему родится новый мир — справедливый, вечный и счастливый, не подверженный астральным влияниям и освобожденный от владычества времени.
Равным образом, евреи ограничили продолжительность мира семью тысячелетиями (ср., например. Завет Авраама, Этика Еноха и т. п.), однако раввины никогда не поощряли определение конца мира посредством арифметических расчетов. Они довольствовались утверждением, что о конце мира будет возвещено рядом космических и исторических бедствий (голод, засуха, войны и т. п.). Затем явится Мессия: тогда мертвые восстанут из гробов (Исаия, 26,19), Бог победит смерть, и мир обновится (Исаия, 65, 17; в Книге Юбилеев, I, 29 говорится даже о новом Творении).[112]
Мы встречаем здесь, как и во всех рассмотренных выше апокалиптических доктринах, традиционный мотив всеобщего падения нравов, торжества зла и мрака, которые предшествуют смене Эона и обновлению Космоса. В одном из вавилонских текстов[113] апокалипсис описывается следующим образом: "Когда все это случится на Небесах, прозрачное станет мутным, а чистое — грязным, все народы придут в смятение, никто не станет слушать молитв, гадания окажутся неблагоприятными…" "В этом царстве люди начнут истреблять друг друга и продавать детей своих с целью наживы, муж оставит жену свою, а жена — мужа, и дочь прогонит мать свою из дома". Другой безымянный автор возвещает, что солнце не будет больше всходить на небо, что луна больше не покажется, и т. п.
Однако в вавилонской концепции за этим периодом сумерек всегда следует новая райская заря. Как и следовало ожидать, райская эпоха часто начинается с интронизации нового владыки. Ашшурбанапал считает себя восстановителем Космоса, ибо "с тех пор, как Боги милостью своей утвердили меня на троне моих отцов, Адад ниспослал дождь свой… хлеба щедро уродились на полях… урожай был обилен и велик… стада умножились, и т. д.". (Набукудурриусур говорит о себе: "Благодаря мне земля моя познала царство изобилия, годы процветания". В одном из хеттских текстов Мурсили следующим образом восхваляет правление своего отца: "…В царствование его страна Хатти благоденствовала, при нем умножились и народ, и скот, и стада".[114] Это, несомненно, архаическая и универсальная концепция: она встречается у Гомера, у Гесиода, в Ветхом Завете, в Китае.[115])
Допустив некоторое упрощение, можно сказать, что у иранцев, равно как у евреев и христиан, отпущенная на долю Вселенной «история» имеет свой предел и конец света и совпадает с уничтожением грешников, воскрешением мертвых и победой вечности над временем. Но хотя эта доктрина становится все более и более популярной в I веке до Р. X. и в первые последующие столетия, ей не удается окончательно вытеснить традиционную доктрину периодического обновления времени посредством ежегодного повторяющегося Творения. Как мы показали в предыдущей главе, реликты этой доктрины сохранились у иранцев вплоть до позднего Средневековья. Равным образом, эта доктрина, доминировавшая в домессианском иудаизме, не исчезла целиком, поскольку в раввинистических кругах затруднялись установить точный предел, установленный Богом для Космоса, и предпочитали говорить лишь о том, что illud tempus непременно когда-нибудь наступит. С другой стороны, в христианской эллинистической традиции дается понять, что BASILEYA TON DEON(Царство Божие (греч.)) уже присутствует среди (ENTOS) тех, кто верует: следовательно illud tempus извечно пребывает в настоящем и достижим для любого человека, в любой временной момент — посредством метанойи. Поскольку речь идет о религиозном поведении, абсолютно не совпадающем с традиционным, иными словами, о «вере», периодическое обновление мира становится в христианстве обновлением самого человека. Но для того, кто включен в это вечное nunc(Ныне (лат.)) царства Божия, «история» завершается столь же бесповоротно, как и для человека архаических цивилизаций, который упразднял ее периодически.
Следовательно, и для христианина история может быть обновлена — воздействием каждого верующего и через него самого — даже до второго пришествия Спасителя, когда она и все творение будут окончательно уничтожены.
Обсуждение спорных вопросов по поводу революции, произведенной христианством в диалектике уничтожения истории и освобождения от власти времени, увело бы нас слишком далеко в сторону от данного эссе. Заметим только, что даже в трех великих религиях — иранской, иудейской и христианской — которые ограничили продолжительность Космоса тем или иным числом тысячелетий и стоят на том, что история окончательно завершится in illo tempore, сохраняются следы древней концепции о периодическом обновлении истории. Говоря другими словами, история может быть упразднена и, следовательно, обновлена немалое количество раз, прежде чем осуществится финальный эсхатон. Добавим, что в основе христианского литургического года лежит периодическое и наглядное повторение Рождества, Страстей, смерти и воскрешения Иисуса — со всеми кон нотациями, которые эта мистическая драма вызывает у христианина; иными словами, это личное и космическое обновление посредством реактуализации in concrete рождения, смерти и воскрешения Спасителя.
3.4. Судьба и история
Мы напомнили обо всех этих эллинистически-восточных доктринах, имеющих отношение к космическим циклам, с одной-единственной целью — извлечь из них ответ на вопрос, который мы задали в начале этой главы: каким образом человек выносил историю?. Ответ обнаруживается в каждой отдельно взятой системе: в зависимости от ее положения в космическом цикле — невзирая на наличие или отсутствие повторения — он определяет историческую судьбу человека. Это никоим образом нельзя считать фатализмом, какой бы смысл в него ни вкладывали, поскольку речь не идет о счастье или несчастье каждого конкретного индивидуума. Эти доктрины дают ответ на вопросы о судьбе всей современной истории, а не только индивидуальной судьбы. Человечеству (а под словом «человечество» каждый понимает известную ему совокупность людей) предназначено пережить определенную долю страданий в силу того, что оно пребывает в определенном историческом моменте — то есть, в космическом цикле, который идет к упадку или близится к своему завершению.
Каждый индивидуум волен абстрагироваться от этого исторического момента и — ввиду неизбежности его роковых последствий — найти утешение либо в философии, либо в мистике (чтобы оценить совершенно поразительное увеличение числа тех, кто пытался абстрагироваться от «истории», нам достаточно вспомнить о невероятном количестве теологических спекуляций, сект, таинств и философских систем, которые заполонили средиземноморский Восток в столетия сильнейшего исторического напряжения). Однако исторический момент в целом не имел возможности избежать своей судьбы, роковым образом проистекающей из самого пребывания на нисходящей траектории того цикла, к которому он принадлежал. Подобно тому, как в индийской системе каждый человек кали-юги может обрести личную свободу и духовное блаженство, но не в его власти избежать конечного уничтожения этого сумеречного мира во всей его полноте, в представленных ранее разнообразных доктринах исторический момент во всей своей полноте может быть только трагическим, мучительным, несправедливым, хаотическим и т. п. Невзирая на возможность бегства, предоставленную отдельным современникам, он обречен быть предвестником финальной катастрофы.
Действительно, у всех циклических систем, получивших распространение в эллинистически-восточном мире, есть одна общая черта — в рамках каждой из них современный исторический момент (какой бы ни была его позиция во времени) представляет собой упадок по сравнению с предыдущими историческими моментами. Мало того, что современный Эон уступает всем другим «векам» (золотому, серебряному и т. д.), но даже в рамках нынешнего века (то есть, в нынешнем цикле) «мгновение», в котором пребывает человек, ухудшается по мере движения времени. Эту тенденцию к девалоризации текущего момента не следует трактовать как пессимизм. Напротив, в ней выражается скорее излишний оптимизм, ибо в ухудшении современного положения вещей по крайней мере некоторые люди видели приметы неизбежного грядущего обновления. Начиная с эпохи Исаии, многие живут в тревожном ожидании военных катастроф и политических потрясений, которые служат неоспоримым признаком мессианского illud tempus, которое должно обновить мир.
Тем не менее, при всем разнообразии человеческих реакций, все они сходятся в одном: историю можно вынести не только потому, что в ней имеется смысл — в конечном счете она необходима. И для тех, кто верил в повторение всего космического цикла, и для тех, кто верил лишь в один приближающийся к своему завершению цикл, драма современной истории представлялась необходимой и неизбежной. Уже Платон, невзирая на свое снисходительное отношение к определенным системам халдейской астрологии и использование их в собственных целях, осыпал сарказмами тех, кто впадал в астрологический фатализм или уповал на вечное повторение в строгом (стоическом) смысле этого термина (ср., например, Государство, VIIi, 546 sq.). Что до христианских философов, то они вели ожесточенную борьбу против такого же астрологического фатализма,[116] заметно усилившегося в последние века Римской империи. Как мы сейчас увидим, святой Августин будет защищать мысль о вечности Рима с одной-единственной целью — опровергнуть fatum, доминирующий в циклических теориях. Однако столь же верно и то, что астрологический фатализм также учитывал ход исторических событий и тем самым помогал «современнику» понять их и вынести их, делая это столь же успешно, как разнообразные греко-восточные теологические системы, неостоицизм и неопифагорейство. Управляется ли история движением светил или же просто космическим процессом, непременно предполагающим полный распад в силу фатальной связи с изначальным объединением; подчиняется ли история воле Бога, предугаданной в видениях пророков, и т. д., результат всегда получается одинаковым: нет в истории такой катастрофы, которая была бы произвольной и случайной. Империи возникали и рушились, войны приводили к бесчисленным страданиям, испорченность, падение нравов, социальная несправедливость и т. д. постоянно возрастали именно потому, что это было необходимою, иными словами, предусмотрено космическим ритмом, демиургом, расположением светил или волей Бога.
В этой перспективе история Рима приобретает особую, благородную значимость. Несколько раз в ходе своей истории римляне испытывали ужас при мысли о неминуемой гибели города, пределы существования которого — согласно их верованиям — были положены в самый момент его основания Ромулом. Жан Юбо с изумительной проницательностью анализирует в работе Grands muthes de Rome ключевые моменты этой драмы, вызванной расхождениями в подсчетах «жизни» Рима, а Жером Каркопино напоминает об исторических событиях и духовном напряжении, благодаря которым сохранялась надежда на не катастрофическое возрождение Города (Virgile et le mystere de la IV eglogue). В периоды всех исторических кризисов два сумеречных мифа неотступно преследовали воображение римского народа: 1) жизни Города положен предел, ее продолжительность ограничена определенным количеством лет ("мистическое" число, открытое Ромулу двенадцатью орлами); 2) "Великая Година" посредством всемирного пожара — экпиросиса — положит конец всей истории, а, следовательно, и Рима. Сама римская история довольно долго опровергала эти страхи. Ибо через 120 лет после основания Рима стало понятно, что увиденные Ромулом двенадцать орлов не означают отпущенного Городу исторического срока в 120 лет, как многие опасались. Через 365 лет появилась уверенность, что пока нет речи о "Великой Године", в которой каждый год жизни Города был бы равен одному дню, и было высказано предположение, что судьба даровала Риму иную "Великую Годину", составленную из двенадцати месяцев по 100 лет. Что же касается мифа о смене ухудшающихся «веков» и вечном возвращении, разделяемого Сивиллой и философами, которые интерпретировали его в духе теорий о космических циклах, то несколько раз возникала надежда, что переход от одного «века» к другому может осуществиться без всемирного экпиросиса. Однако надежды эти всегда сопровождались тревогой. Каждый раз, когда исторические события приобретали масштаб катастрофы, римляне приходили к убеждению, что Великая Година близится к завершению и Рим находится накануне гибели. Когда Цезарь перешел через Рубикон, Нигидий Фигул возвестил о начале космическо-исторической драмы, которая положит конец Риму и всему человеческому роду (Лукан, Фарсалия, 639, 642–645; Carcopino, op. cit., p. 147). Но тот же самый Нигидий Фигул полагал (Carcopino, 52 sq.), что экпиросис не является фатальным, и возрождение, неопифагорейский метакосмесис, вполне может произойти без космической катастрофы — мысль, которая затем будет подхвачены и развита Вергилием.
В "Эподе XVI" Гораций не смог скрыть своих страхов относительно грядущей судьбы Рима. Стоики, астрологи и восточные теологи видели в войнах и бедствиях знаки неизбежной фатальной катастрофы. Исходя либо из расчетов «жизни» Рима, либо из доктрины космическо-исторических циклов, римляне были убеждены в том, что при любом раскладе Город должен исчезнуть до наступления нового Зона. Однако империя Августа, утвердившаяся после долгих и кровавых гражданских войн, будто бы установила pax aeterna. Страхи, порожденные двумя мифами — «веком» Рима и концепцией "Великой Годины", — показались тогда беспочвенными: Август вновь основал Рим, и нам больше нечего бояться за его «жизнь» — так мог сказать себе тот, кто твердо верил в мистическое значение увиденных Ромулом двенадцати орлов. Переход от железного века к золотому осуществился без экпиросиса — так мог сказать себе тот, кого неотступно преследовала мысль о космических циклах. Именно поэтому Вергилий заменяет последний saeculum (Век, поколение (лат.), а именно — век Солнца, вызывающий всемирный пожар, — веком Аполлона, наступившим без экпиросиса, и высказывает предположение, что войны оказались теми самыми знаками, которые предвещают смену железного века золотым (ср. Carcopino, p. 45 sq.). Позднее, когда царствование Августа действительно покажется новым золотым веком, Вергилий попытается развеять страхи римлян относительно срока, отпущенного Городу. В Энеиде (I, 255 sq) Юпитер уверяет Венеру, что не назначил римлянам никаких временных или пространственных пределов: "Я даровал им бесконечную империю" (His ego пес metas rerum пес tempora pono: imperium sine fine dedi, cp. Hubaux, p. 128 sq.). И именно после появления Энеиды Рим был провозглашен вечным городом (urbs aeterna), a Август — его вторым основателем.
Дата его рождения — 23 сентября — стала рассматриваться, как "отправная точка той Вселенной, чье существование Август спас и лик которой полностью изменил" (Carcopino, p. 200). Тогда распространилась надежда, что Рим может обновляться регулярно, ad infinitum. Отныне, освободившись от мифа о двенадцати орлах и экпиросисе, Город, по словам Вергилия (Энеида, VI, 798), расширится до тех пределов, что "превышают дороги Солнца и года" (extra anni solisque vias).
Здесь мы становимся свидетелями наивысшего усилия с целью добиться освобождения от астральной судьбы или от закона космических циклов и вернуться — посредством мифа о вечном обновлении Рима — к архаическому мифу ежегодного (и, главное, не катастрофического!) возрождения Космоса путем его вечного пересотворения Властителем или жрецом. Это, прежде всего, попытка переоценки истории в космическом плане, когда исторические события и катастрофы приравниваются к подлинным космическим пожарам или распадам, которые должны периодически уничтожать Вселенную, чтобы она могла возродиться вновь. Таким образом, в каждую мирную эпоху история обновляется, и, следовательно, начинается новый мир — в конечном счете (как мы убедились в случае с мифом, сложившимся вокруг Августа), Властитель повторяет Творение Космоса.
Мы привели пример с Римом, чтобы показать, как исторические события подверглись переоценке при помощи рассмотренных в этой главе мифов. Включенные в определенную теорию-миф (век Рима, Велика Година и т. д.) катастрофы не только могли быть терпимым для современников, но и обретали позитивную оценку сразу же после своего появления. Разумеется, учрежденный Августом золотой век пережил свое время лишь благодаря тому, что было им привнесено в латинскую культуру. История позаботилась о том, чтобы опровергнуть "золотой век" сразу же после смерти Августа, и для современников вновь началась жизнь в ожидании неизбежной катастрофы. Когда Рим был захвачен Аларихом, возникло убеждение, что знак двенадцати орлов Ромула восторжествовал — Город вступил в двенадцатый и последний век своего существования. Только святой Августин стремился доказать, что никому не дано знать, в какой именно момент Господь примет решение завершить историю; что, в любом случае, "вечный город" — град Божий — существует, хотя всем прочим городам согласно их природе положен предел; что в силу этого жизнь или смерть народа не зависит от какой бы то ни было астральной судьбы. Христианская мысль стремилась, таким образом, окончательно преодолеть старые мотивы вечного повторения — точно так же, как она пыталась преодолеть все прочие архаические воззрения, открыв значение нового религиозного поведения или «веры» и сделав упор на оценку человеческой личности.
"Валоризация" (франц. valorisation) означает "придание чему-либо большого по сравнению с прежним значения", "повышение цены". Другими словами, «оценивать». Соответственно «девалоризация», франц. de valorisation) означает "переоценка".
Глава 4. "УЖАС ПЕРЕД ИСТОРИЕЙ"
4.1. Устойчивость мифа о "вечном возвращении"
Проблема, к которой мы приступаем в последней главе, далеко выходит за рамки поставленных нами в этом эссе задач — поэтому мы ограничимся здесь лишь самыми общими соображениями. В самом деле, нам необходимо сопоставить "исторического человека" современности, который все знает о самом себе и желает быть творцом истории, с человеком традиционных цивилизаций, который, как мы уже показали, занимал по отношению к истории негативную позицию. Человек традиционных цивилизаций либо периодически уничтожал историю, либо подвергал ее переоценке, всегда находя универсально-исторические модели и архетипы, либо, наконец, приписывал ей метаисторический смысл (циклическая теория, эсхатологические значения и т. п.), — но в любом случае он не признавал ценности исторического события самого по себе, или, говоря другими словами, не рассматривал это историческое событие в качестве специфической категории своего собственного существования. Сравнение этих двух типов человеческого поведения неизбежно влечет за собой анализ всех современных теорий «историцизма» — с той оговоркой, что детальный их анализ увел бы нас слишком далеко от темы настоящей работы. Тем не менее, мы обязаны бросить беглый взгляд на проблему человека, который сознает самого себя лицом историческим, поскольку современный мир в настоящее время еще не целиком воспринял «историцизм»; более того: мы являемся свидетелями борьбы двух концепций — архаической, которую мы назвали бы архетипической и неисторической, и современной, постгегельянской, которая считает себя исторической. Мы ограничимся изучением лишь одного, но при этом самого существенного аспекта данной проблемы — тех решений, которые предлагаются в перспективе историцизма современному человеку с целью помочь ему вынести все более мощное давление современной истории.
В предыдущих главах мы привели множество примеров того, каким образом человек традиционных цивилизаций выносил «историю». Напомним, что он защищался от истории тем, что либо периодически упразднял ее благодаря повторению космогонического акта и периодическому обновление времени, либо придавал историческим событиям метаисторическое значение, которое было не только утешительным, но прежде всего структурным — то есть обладало способностью включаться в четко определенную систему, где Космос и человеческое существование имели присущий каждому из них смысл. Мы должны добавить, что эта традиционная концепция защиты от истории и этот способ выносить исторические события продолжали доминировать в мире вплоть до самого недавнего времени; равным образом, даже и сегодня они продолжают утешать европейские землевладельческие (= традиционные) сообщества, которые упорно держатся за подобную неисторическую позицию и именно поэтому вынуждены отражать яростные атаки революционной идеологии всех типов. Христианизация простонародных слоев европейского населения не сумела полностью упразднить как концепцию архетипов (где исторический персонаж превращается в образцового героя, а историческое событие — в мифическую категорию), так и циклические или астральные теории (благодаря которым история получает оправдание, и муки, вызванные историческим давлением, обретают эсхатологический смысл). Приведем лишь несколько примеров. Завоеватели-варвары эпохи раннего Средневековья были отождествлены с библейским архетипом Гога и Магога, а затем обрели онтологический статус и эсхатологическую функцию. Несколько веков спустя христиане увидели в Чингисхане нового Давида, призванного осуществить пророчества Иезикииля. При таком взгляде страдания и катастрофы, произошедшие вследствие появления варваров на историческом горизонте Средневековья, оказались «выносимыми» — точно такой процесс несколькими тысячелетиями ранее позволил вынести ужас перед историей обитателям древнего Востока. Подобные оправдания исторических катастроф еще и сегодня помогают сносить тяготы существования десяткам миллионов людей, которые по-прежнему видят в нескончаемом давлении событий знак божьей воли или астрального рока.
Если мы взглянем на другую традиционную концепцию — теорию циклического времени и периодического обновления истории, независимо от наличия или отсутствия в ней мифа "вечного повторения" — то убедимся, что и она, в конечном счете, проникла в христианскую философию, хотя первые христианские мыслители вели с ней ожесточенную борьбу. Напомним, что в христианстве время реально в силу того, что имеет смысл — Искупление. "Человечество движется по прямой линии — от изначального Грехопадения к финальному Искуплению. Смысл этой истории является единственным в своем роде, поскольку Воплощение — факт единственный в своем роде. Не случайно так упорно повторяется в главе IX Послания к Евреям и в Первом послании Петра (Prima Petri, III, 18), что Христос отдал жизнь за грехи наши только один раз, раз и навсегда (hapax, ephapax, semel); это событие не принадлежит к явлениям повторяющимся, неоднократным (pollakis). Ход истории, следовательно, направляется и определяется единственным в своем роде, уникальным по определению фактом. В силу этого судьба человечества, равно как и частная судьба каждого из нас, включается — также один раз, раз и навсегда — в конкретное и необратимое время, "время истории и жизни"".[117] Именно эта концепция линейного времени и истории, которую уже во II веке наметил Ириней Лионский, будет воспринята святым Василием, святым Григорием и окончательно разработана святым Августином.
Однако, невзирая на усилия этих Отцов Церкви, теории циклов и астральных влияний на судьбу человека и исторические события будут использованы, пусть даже частично, другими Отцами и религиозными писателями — такими, как Климент Александрийский, Минуций Феликс, Арнобий, Теодорет. Конфликт между этими двумя фундаментальными концепциями Времени и Истории продолжался вплоть до XVII века. Мы не можем изложить здесь суть великолепных исследований Пьера Дюана и Л. Торндайка, дополненных и расширенных Сорокиным.[118] Напомним лишь, что в период расцвета Средневековья циклические и астральные теории начинают доминировать в историологических и эсхатологических трудах. Получив широкое распространение уже в XII веке (Thorndike, I, р. 455 sq.; Sorokin, p. 371), они становятся объектом систематического изучения в следующем столетии — благодаря, прежде всего, переводам арабских авторов (Duhem, V, p. 223 sq.). Основное направление усилий — это попытка установить все более точные корреляции между космическими и географическими факторами и соответствующими периодами (подобный подход был предложен уже Птолемеем в Тетрабиблии во II веке до Р. X.). Такие мыслители, как Альберт Великий, святой Фома, Роджер Бэкон, Данте (Пир, II, гл. 14) и многие другие верят, что циклы и отдельные периоды подчиняются влиянию звезд, которое либо происходит по воле Бога и служит ему средством воздействия на историю, либо — и эта гипотеза постепенно становится доминирующей — могущество звезд является силой, имманентно присущей Космосу.[119] Короче, если воспользоваться формулировкой Сорокина (ор. cit., p. 372), в Средние века господствует эсхатологическая концепция (в двух своих существенных аспектах — творение и конец мира), дополненная теорией циклических волн, которая объясняет периодическое возвращение тех или иных явлений. Эта двойная схема лежит в основе философских рассуждении вплоть до XVII века, хотя параллельно уже начинает зарождаться концепция поступательного прогресса истории. В Средние века зачатки этой теории можно обнаружить у Альберта Великого и святого Фомы, однако с наибольшей четкостью и цельностью она представлена в Вечном Евангелии Иоахима Флорского, который включил ее в свою гениальную эсхатологию истории — самую значительную из тех, что появились в христианстве после святого Августина. Иоахим Флорский делит историю мира на три великих эпохи, каждую из которых вдохновляет и направляет соответственно один из членов Троицы — Отец, Сын, Дух Святой. В видении калабрийского аббата эти эпохи последовательно раскрывают по ходу исторического развития новый масштаб божества, что означает постепенное движение человечества к совершенству, которое в последней фазе — вдохновленной Святым Духом — приводит к полной духовной свободе.[120]
Но, как уже было сказано, господствующей тенденцией постепенно становится стремление увековечить циклические теории. Наряду с объемистыми астрологическими трактатами возникают также первые проявления научной астрономии. В силу этого в теориях Тихо Браге, Кеплера, Кардан, Дж. Бруно или Кампанеллы циклическая идеология мирно уживается с концепцией линейного прогресса, приверженцами которой выступают такие мыслители, как Ф. Бэкон или Паскаль. Начиная с XVII века теория линейного и поступательного движения приобретает все больше сторонников, порождая веру в бесконечность прогресса. Провозглашенная уже Лейбницем, эта вера начинает доминировать в век «просвещения» и, благодаря триумфу эволюционистских идей, подвергается вульгаризации в XIX веке. Только с приходом нашего столетия вновь появляются признаки определенного отторжения представления о линейности исторического прогресса и возникает некоторый интерес к теории циклов (Sorokin, p. 379 sq.): так, мы присутствуем при реабилитации понятий цикла, волн, периодических колебаний в политической экономии; в философии Ницше выдвигает на первый план миф о вечном возвращении; что же касается философии истории, то такие ученые, как Шпенглер или Тойнби, по-новому осмысляют проблему периодизации,[121] и т. п. По поводу этой реабилитации циклических концепций Сорокин вполне справедливо замечает (р. 383, п. 80), что нынешние теории о смерти Вселенной не исключают гипотезу о создании новой Вселенной — это несколько напоминает теорию "Великой Годины" в греко-восточных теологических рассуждениях и состоящий из юг цикл индийской философии (см. выше). В сущности, можно было бы сказать, что лишь в современных циклических концепциях архаический миф о вечном повторении достигает вершины своего развития. Ибо средневековые циклические теории довольствовались тем, что определяли периодизацию событий, включая их в космические ритмы и подчиняя роковому воздействию звезд. Благодаря этому имплицитно утверждалось и циклическое повторение исторических событий, даже если такое повторение не считалось продолжающимся ad infinitum. Более того: поскольку исторические события зависели от циклов и астральных влияний, они становились постижимыми и даже прогнозируемыми, ибо для них можно было найти совершенную модель, войны, голод, бедствия, вызванные современной историей, были всего лишь имитациеи архетипа, установленного звездами и небесным распорядком, в котором далеко не всегда отсутствовала воля божества. Точно так же, как и на закате античности, эти новые версии мифа о вечном повторении были источником наслаждения для интеллектуальной элиты и источником утешения для тех, кто испытывал на себе давление истории. Крестьянские массы — как в древности, так и в современную эпоху — не слишком интересовались циклическими и астральными формулами, поскольку находили поддержку и утешение в концепции архетипов и повторения; эту концепцию они «переживали» не столько в космическом и астральном, сколько в мифическом и историческом плане (превращая, например, исторических персонажей в образцовых героев, исторические события в мифические категории, и т. п. — в полном соответствии с диалектикой, суть которой была раскрыта ранее).
4.2. Затруднения историцизма
Возвращение циклических теорий в сферу современной мысли чрезвычайно знаменательно. Не чувствуя себя достаточно компетентными, чтобы определить их истинность, мы заметим лишь, что сформулированный в терминах Нового времени архаический мир выдает, по крайней мере, одно стремление — попытку обнаружить смысл и трансисторическое оправдание исторических событий. Стало быть, мы вернулись на догегельянские позиции, поскольку решения в духе «историцизма» — от Гегеля и Маркса до экзистенциализма — имплицитно поставлены под сомнение. Ведь со времен Гегеля все усилия были направлены на то, чтобы сохранить и дать общеисторическому событию как таковому, событию в себе и для себя. "Если мы признаем, что вещи являются такими, как они есть, по необходимости, иными словами, не произвольными и не случайными, мы тем самым признаем, что они должны быть такими, как они есть", — писал Гегель в своей работе, посвященной немецкой конституции. Понятие исторической необходимости спустя столетие приобретет победоносную актуальность — ибо все жестокости, извращения и трагедии Истории получали и продолжают получать оправдание требованиями "исторического момента". Весьма вероятно, что сам Гегель не желал заходить так далеко. Но, решив примириться с собственным историческим моментом, он вынужден был в каждом историческом событии видеть волю Мирового Духа. Именно по этой причине он считал "чтение утренних газет чем-то вроде позитивного благословения наступившему утру". С его точки зрения, ежедневный контакт с событиями сам по себе помогает человеку сориентироваться в своих отношениях с миром и Богом.
Каким образом мог Гегель знать, что именно является необходимым в Истории и, следовательно, должно осуществляться именно так, как осуществилось? Ему казалось, будто он знает волю Мирового Духа. Мы не станем говорить о дерзновении подобного подхода, который, в конечном счете, упраздняет как раз то, что Гегель желал спасти в Истории — человеческую свободу. Но в его философии истории есть один аспект, чрезвычайно для нас интересный, поскольку в нем сохраняется кое-что от иудео-христианской концепции — историческое событие рассматривается как проявление Мирового Духа. Таким образом, мы наблюдаем явный параллелизм между гегелевской философией и теологией истории у еврейских пророков: для них, как и для Гегеля, событие считается необратимым и самоценным, ибо это новое проявление воли Бога — как мы помним, эта позиция была несомненно «революционной» в рамках традиционных цивилизаций, управляемых вечным повторением архетипов. Следовательно, согласно Гегелю, в судьбе народа сохраняется трансисторическое значение, поскольку любая история оказывается новым и все более совершенным проявлением Мирового Духа. Однако с приходом Маркса история лишилась всякого трансцендентального значения — теперь она становится всего лишь проявлением классовой борьбы. В какой мере подобная теория могла оправдать исторические страдания? Достаточно вспомнить, среди прочего, страстное негодование таких мыслителей, как Белинский и Достоевский, которые задавались вопросом, как могут быть искуплены — в свете марксисткой или гегелевской диалектики — трагедии, вызванные угнетением, массовым голодом, депортациями, унижениями и убийствами, которыми переполнена история человечества.
Тем не менее, марксизм сохраняет за историей определенный смысл, ибо события не рассматриваются в нем как череда случайных действий: они включены в стройную систему и, главное, имеют точную цель — окончательное уничтожение ужаса перед историей, «спасение». Таким образом, в терминах марксисткой философии истории воспроизводится Золотой Век архаических эсхатологических концепций. В какой-то мере можно согласиться не только с тем, что Маркс "поставил гегелевскую философию с головы на ноги", но и с тем, что он осуществил на чисто человеческом уровне переоценку изначального мифа о Золотом Веке, но с одной лишь разницей — Золотой Век располагается в конце истории, хотя ему следовало находиться также и в начале. Именно в этом состоит для убежденного марксиста тайна исцеления против ужаса истории: если современники "темных веков" утешались тем, что увеличение их страданий и возрастание зла в мире в целом ускоряет финальное избавление, то убежденный марксист нашего времени перед лицом драмы, вызванной давлением истории, точно так же воспринимает зло как необходимость, видя в нем предвестие неизбежной близкой победы, которая навсегда положит конец любому историческому «злу».
В рамках различных концепций философского «историцизма» становится все труднее выносить "ужас перед историей". Это происходит из-за того, что любое историческое событие обретает в них свой полный и единственный в своем роде смысл. Нам достаточно напомнить здесь, что в связи с теоретическими затруднениями историцизма выказывали беспокойство уже такие мыслители, как Риккерт, Трёльч, Дильтей и Зиммель; эти опасения лишь частично были развеяны в недавних работах Кроче, К. Манхейма или Ортеги-и-Гассета.[122] Мы не собираемся дискутировать по поводу философских обоснований исгорицизма как такового или обсуждать возможность создания "философии истории", которая сумела бы преодолеть релятивизм. Сам Дильтей в семидесятилетнем возрасте признавал, что "относительность всех человеческих понятий является последним словом исторического видения мира". Напрасно надеялся он, что "allgemeine Lebenserfahrunf"("Всеобщий здравый смысл"(нем.)) окажется заветным средством для преодоления этой относительности.
Тщетно и Майнеке взывал к "опыту совести" в качестве транссубъективного подхода, способного выйти за пределы релятивизма исторической жизни. Хайдеггер уже взял на себя труд разъяснить, что историческое восприятие человеческого существования препятствует каким бы то ни было попыткам выйти за пределы Исторического Времени.
Для нашей работы представляет интерес только один вопрос: каким образом можно вынести "ужас перед историей" в рамках историцизма? Простая констатация того факта, что перед нами историческое событие, иначе говоря, оно произошло именно так, а не иначе, вряд ли может служить ему оправданием и освободить человечество от внушенного им ужаса. уточним сразу же, что речь не идет о проблеме зла, которое — под каким бы углом его ни рассматривать — остается проблемой философской и религиозной; речь идет о проблеме истории как таковой, о проблеме «зла», связанной не с условиями человеческого существования в целом, а с поведением человека по отношению к другим людям. Хотелось бы понять, к примеру, как можно вынести и оправдать муки и исчезновение стольких народов, которые страдают и исчезают с лица земли лишь по той простой причине, что они оказались у истории на дороге, что им довелось жить рядом с Империями, озабоченными своей постоянной экспансией, и т. д. Какое может иметь оправдание, скажем, тот факт, что Юго-Восточная Европа была обречена на страдания в течение многих веков — ив силу этого ей пришлось отказаться от малейших поползновений пробиться на более высокий уровень исторического существования, от всяких попыток творчества в общемировом масштабе — и все это лишь потому, что она лежала на пути у азиатских завоевателей и стала потом ближайшим соседом Османской империи? Да и в наши дни, когда историческое давление не предоставляет более никакого укрытия, как сможет человек вынести катастрофы и ужасы истории — начиная от депортаций и массового истребления и кончая атомными войнами — если за всем этим не увидит он никакого знака, никакого трансисторического намерения, если все это будет лишь слепой игрой экономических, социальных и политических сил или, что еще хуже, результатом тех «свобод», которые присвоило себе меньшинство, чтобы без помех распоряжаться на сцене всемирной истории?
Мы знаем, как смогло человечество в прошлом вынести все выпавшие на его долю страдания — они считались наказанием Божьим, приметой упадка «Века» и т. д. И с ними примирялись лишь потому, что они имели мета-исторический смысл, и потому еще, что для большей части человечества, остававшейся в рамках традиционной культуры, история не обладала и не могла обладать собственной ценностью. Каждый герой повторял архетипический жест, в каждой войне возобновлялась битва между добром и злом, каждая новая социальная несправедливость отождествлялась с муками Спасителя (а в дохристианском мире — со страстями божественного Вестника или растительного божества), в каждом новом убийстве видели повторение славной кончины мучеником, и т. п. Для нас совершенно не важно, в какой степени были эти верования наивными и всегда ли подобный отказ от истории оказывался эффективным. Значение, по нашему мнению, имеет только один факт: именно благодаря подобному подходу десятки миллионов людей в течение долгих веков выносили величайшее историческое давление — и они не предавались отчаянию, не сводили счеты с жизнью, не впадали в состояние духовного бесплодия, которое всегда влечет за собой релятивистский или нигилистический взгляд на историю.
Впрочем, мы уже отмечали, что еще и сегодня весьма значительная часть населения Европы, не говоря уже о других континентах, продолжает оставаться в рамках традиционной, «антиэволюционистской» культуры. Следовательно, проблема встает только перед «элитой», ибо лишь ей приходится осмыслять — все более напряженно — свою позицию по отношению к истории. Не подлежит сомнению, что христианство и эсхатологическая философия истории по-прежнему способны удовлетворить значительную часть этой элиты. Равным образом, до определенной степени верным является утверждение, что марксизм — особенно в своих народных формах — представляется для некоторых людей защитой против ужаса истории. Одна лишь эволюционистская позиция, во всех ее разновидностях и нюансах — от «судьбы» Ницше до «темпоральности» Хадегтера — оставляет человека безоружным.[123] И это вовсе не случайное совпадение, что отчаяние, amor fati и пессимизм были возведены этой философией в ранг героических добродетелей и инструментов познания.
Тем не менее, хотя эта позиция является самой современной и, в некотором смысле, неизбежной для всех мыслителей, которые считают человека "существом историческим", ей не удалось окончательно подчинить себе современную философию истории.
Мы отметили выше различные недавние тенденции, нацеленные на переоценку цикличной периодичности и даже вечного возвращения. Эти тенденции свидетельствуют не только о пренебрежении к «историцизму», но и к истории как таковой. Похоже, мы имеем полное основание видеть в них сопротивление истории и более того — бунт против исторического времени, попытку вновь включить это историческое время, обогащенное опытом человеческого существования, в космическое, циклическое и бесконечное время. Стоит напомнить, что творчество двух самых значительных писателей нашего времени — Т. С. Эллиота и Джеймса Джойса — проникнуто глубочайшей ностальгией по мифу о вечном повторении и, в конечном счете, упразднении времени. Равным образом, мы имеем право предположить, что по мере нарастания ужаса перед историей, по мере осознания хрупкости существования в рамках истории, позиции историцизма будут окончательно поколеблены. И в тот момент, когда история окажется способной сделать то, что до сей поры не удавалось ни Космосу, ни человеку, ни случаю, а именно — полностью уничтожить человеческий род, мы, быть может, станем свидетелями отчаянной попытки поставить "исторические события" под запрет при помощи реинтеграции человеческого общества в культуру (искусственную в силу своей заданности) архетипов и их повторения. Другими словами, вполне возможно представить себе эпоху, причем, не слишком удаленную, когда человечество ради своего выживания полностью прекратит "творить историю" — в том смысле, в каком ее творили начиная с появления первых империй — и предпочтет повторять предписанные архетипические жесты, постаравшись забить такую опасную и бесполезную вещь, как спонтанное действие, рискующее иметь «исторические» последствия. Было бы очень интересно сравнить неисторическое поведение грядущего общества с райскими и эсхатологическими мифами Золотого Века — мифами о начале и конце времен. Впрочем, мы собираемся продолжить эти размышления в другой работе, поэтому вернемся к нашей проблеме: отношение исторического человека к воззрениям архаического и те доводы, посредством которых он пытается их опровергнуть в рамках эволюционистского подхода.
4.3. Свобода и История
Мы с полным правом можем трактовать неприятие концепций исторической периодизации и вытекающий из него в конечном счете отказ от архаических концепций архетипов и
повторения как сопротивление современного человека Природе, как желание "исторического человека" утвердить свою автономию. В свое время Гегель с благородной самонадеянностью заявил, что в Природе не происходит ничего нового. Фундаментальное различие между человеком архаических цивилизаций и современным «историческим» человеком состоит в том, что последний придает все большую ценность историческим событиям, иными словами, тем «новшествам», которые для человека традиционной культуры были либо незначительной случайностью, либо нарушением нормы (следовательно, «ошибкой», "грехом" и т. д.) — в силу этого их следовало периодически «изгонять» (упразднять). Человек, сознающий себя существом историческим, неизбежно увидит в традиционной концепции архетипов и повторения неоправданную реинтеграцию истории (то есть, «свободы» и "новизны") в Природу (где все повторяется). Ибо архетипы, скажет современный человек, также являются «историей», поскольку представляют собой определенные жесты, действия или распоряжения — пусть даже считается, что они происходили in illo tempore, но они тем не менее произошли, то есть родились в определенное время и «случились» точно так же, как любое другое историческое событие. В изначальных мифах часто говорится о рождении, жизни и исчезновении божества или героя, «цивилизующие» деяния которых повторяются затем до бесконечности. Это означает, что у архаического человека также имеется «история» — пусть даже примитивная и соотнесенная с мифическим временем. Упорный отказ архаического человека от истории и нежелание осознать себя в конкретном времени свидетельствуют, таким образом, о его слишком рано насупившей усталости, о патологической боязни движения и действия: оказавшись в ситуации, когда следует либо принять историческое существование и связанный с этим риск, с одной стороны, либо целиком погрузиться в Природу, с другой стороны, он делает выбор в пользу такой реинтеграции.
Современный человек имел бы даже право увидеть в столь полном подчинении архаического человека архетипам и повторению не только наивный первобытный восторг перед первыми созидательными, спонтанными, свободными деяниями и бесконечно повторяющееся поклонение им, но и чувство вины человека, совсем недавно вырвавшегося из животного (Природного) рая, — именно это чувство заставляет включить в рамки вечного повторения природы те изначальные, созидательные и спонтанные деяния, которыми ознаменовалось освобождение. Продолжив свой критический анализ, современный человек мог бы, пожалуй, обнаружить в этом страхе, этих колебаниях и этой усталости перед лицом любого неархетипического деяния стремление Природы к равновесию и покою; и он обнаружил бы такую же тенденцию в нарушении равновесия, которое фатальным образом сопровождает каждое буйное проявление Жизни — некоторые считают нарушением равновесия даже потребность разума унифицировать Реальность путем познания. В конечном счете, современный человек, который принимает или верит, что принимает историю, может упрекнуть архаического человека, пленника мифического мира архетипов и повторения, в креативном бессилии или, что означает почти то же самое, в неспособности справиться с риском, неотделимым от любого созидательного деяния. Для нашего современника человек может быть творцом лишь в той мере, в какой он является существом историческим) говоря другими словами, нет у него иной возможности созидать кроме той, которая черпает силы в его собственной свободе) следовательно, ничто ему не дозволено, кроме свободы творить историю, сотворяя самого себя.
На критические высказывания современного человека человек традиционных цивилизаций мог бы ответить обличениями прямо противоположного толка — и одновременно они стали бы апологией архаического типа существования. Все более спорным выглядит утверждение, сказал бы он, что современный человек способен сотворить историю. Напротив, чем более он становится современным,[124] иными словами, лишенным защиты перед ужасом истории, тем меньше у него шансов творить историю. Ибо эта история либо делается сама по себе (благодаря тем зёрнам, что произросли из деяний, совершенных в прошлом, несколько веков или даже несколько тысячелетий тому назад: упомянем лишь последствия открытия земледельческих культур или способов обработки металлов, промышленную революцию XVIII века и т. п.), либо совершается все более ограниченным числом людей, которые не только запрещают своим современникам прямо или косвенно вмешиваться в созидаемую ими (или им) историю, но и сверх того обладают вполне достаточными возможностями, чтобы заставить каждого индивидуума выносить последствия этой истории — то есть жить в постоянном и нарастающем страхе перед ней. Свобода творить историю, которой так гордится современный человек, на самом деле иллюзорна почти для всего человеческого рода. Самое большое, что остается человеку, это свобода выбирать между двумя возможностями: 1) оказывать сопротивление истории, создаваемой незначительным меньшинством людей (и в этом случае у него есть свобода выбора между самоубийством и неизбежными репрессиями); 2) вести существование, недостойное человека или же спасаться бегством. Свобода, вытекающая из «исторического» существования, имела место — и то с определенными ограничениями — лишь в начале современной эпохи, но она становится все более недостижимой по мере того, как эта эпоха обретает свое «историческое» значение, то есть отчуждается от любой трансисторической модели. Поэтому марксизм и фашизм, например, естественным образом приводят к появлению двух типов исторического существования: вождя (единственного «свободного» человека) и подчиненной ему массы, которая обнаруживает в историческом существовании вождя не архетип своего собственного существования, а руководящую силу, которая позволяет им совершать те или иные действия.
Таким образом, для человека традиционной культуры современный человек отнюдь не является свободным существом или творцом истории. Напротив, человек архаических цивилизаций может гордиться своим способом существования, который дарует ему возможность быть свободным и творить. Он свободен стать лучше, чем был, свободен уничтожить свою собственную «историю» путем периодического уничтожения времени и коллективного возрождения. Эту свободу по отношению к собственной «истории» человек, считающий себя «историческим», никакими средствами обрести не может, ибо собственная его «история» абсолютно необратима и вдобавок является неотъемлемой частью человеческого существования. Нам известно, что архаические и традиционные общества допускали свободу начинать каждый год новое, «чистое», незапятнанно добродетельное существование. И речь здесь идет вовсе не о подражании Природе, которая также периодически возрождается, "начинаясь вновь" с каждой весной и обретая в каждой весне новую могучую силу. Ибо Природа повторяет саму себя, и каждая новая весна — все та же вечная весна (то есть повторение акта Творения), тогда как «чистота» архаического человека после периодического уничтожения времени и обретения своих незапятнанных добродетелей позволяет ему на пороге каждой "новой жизни" достичь существования в вечности и, вследствие этого, окончательно — hic et nunc(Здесь и теперь (лат.)) — уничтожить мирское время. Незапятнанные «возможности» Природы в начале каждой весны и «возможности» архаического человека в начале каждого нового года не идентичны.
Природа обретает только саму себя, тогда как архаический человек обретает возможность окончательно преодолеть время и утвердиться в вечности. В той мере, в какой ему не удается это сделать, в той мере, в какой он "совершает грех", то есть впадает в «историческое», временное существование, он каждый год мешает себе реализовать эту возможность. Однако в любом случае он сохраняет свободу уничтожить подобные ошибки, упразднить воспоминание о своем "падении в историю" и сделать новую попытку окончательного выхода из времени.[125]
С другой стороны, архаический человек, безусловно, имеет право считать себя в большей степени творцом, нежели современный человек, который по собственному убеждению является творцом всего лишь истории. В самом деле, каждый год архаический человек становится участником повторения космогонии — акта творения по определению. Можно даже добавить, что в течение некоторого времени человек был «творцом» в космическом плане, поскольку имитировал эту периодическую космогонию (повторяя ее, между прочим, и во всех других жизненных сферах, ср. с. 98 и ел.[126]) и принимал в ней участие. В связи с этим уместно напомнить о «созидательных» сторонах восточных философских систем и обрядов, в частности, индийских, которые также остаются в рамках традиционной культуры. Восток с полным единодушием отвергает мысль об онтологической необратимости существования, хотя и признает изначальной в определенном смысле «экзистенциалистскую» идею (а именно, констатацию того факта, что «страдание» является типической ситуацией любого космического существования). Но при этом Восток отказывается считать человеческую судьбу окончательной и необратимой. Восточные обряды нацелены, прежде всего, на то, чтобы упразднить или преодолеть условия человеческого существования. Тут можно говорить не только о свободе (в позитивном смысле) или об освобождении (в негативном смысле), но и творении — ибо речь идет именно о сотворении нового человека. Подобного сверхчеловека— человека-бога — исторический человек никогда не помышлял создать даже в своем воображении.
4.4. Отчаяние или вера
Строго говоря, подобный диалог между архаическим и современным человеком не имеет большого значения для решения нашей проблемы. В самом деле, при всей разноголосице мнений относительно свободы и творческих возможностей исторического человека совершенно очевидно, что ни одна из эволюционистских философских систем не способна защитить его от ужаса перед историей. Можно было бы представить себе еще одну, последнюю попытку спасения истории и создания ее онтологии, когда события рассматривались бы как серия «ситуаций», посредством которых человеческий разум осознает уровни реальности, не постижимые иными средствами. Подобное оправдание истории не лишено интереса,[127] и мы обещаем вернуться к этой теме в другом месте. Но мы уже и сейчас можем заметить, что такая система способна защитить от ужаса перед историей лишь тогда, когда в ней постулируется существование хотя бы Мирового Духа. Какое утешение дает нам знание того, что страдания миллионов людей позволили открыть конечный уровень человеческого существования, если за этим уровнем остается лишь небытие? Еще раз повторим, что мы не обсуждаем здесь истинность эволюционистской философии — нас интересует лишь то, в какой мере может подобная философия спасти от ужаса перед историей. Если исторические трагедии оправдываются тем, что они послужили для человека инструментом познания границ человеческого сопротивления, то подобное оправдание никак не может спасти от отчаяния.
В сущности, безнаказанно выйти из культуры архетипов и повторения можно лишь при условии принятия философии, не исключающей существование Бога. Это, кстати говоря, подтвердилось, когда за пределы культуры архетипов и повторения первым вырвалось иудео-христианство, которое ввело в религиозный опыт новую категорию — веру. Не надо забывать: если вера Авраама состояла в том, что для Бога нет ничего невозможного, то вера христианства означала, что нет ничего невозможного для человека. "Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей: "Поднимись и ввергнись в море", и не усумнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, — будет ему, что ни скажет. И потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, все получите, — и будет вам" (Марк, XI, 22–24).[128] Вера в данном контексте, как, впрочем, и во многих других, означает полное освобождение от всякого рода естественных «законов» и, следовательно, ведет к высшей степени свободы, какую только может вообразить человек — возможность оказывать влияние даже на онтологический статус Вселенной. Поэтому она является созидателъной свободой по определению. Другими словами, она представляет собой новую формулу сотрудничества человека с творением и была дарована ему первой — оставаясь при этом единственной — в момент выхода за пределы традиционной культуры архетипов и повторения. Лишь такая свобода (помимо ее сотериологической и, следовательно, религиозной в строгом смысле этого слова ценности) способна защитить современного человека от ужаса перед историей — это свобода, которая исходит от Бога и опирается на него. Любая другая современная свобода может, конечно, принести некоторое удовлетворение тому, кто ею обладает, однако она бессильна оправдать историю, а это равносильно ужасу перед историей с точки зрения любого человека, который не лукавит сам с собой.
Впрочем, можно сказать, что христианство — это «религия» человека современного и исторического, человека, который одновременно обрел личную свободу и линейное время (вместо времени циклического). Равным образом, интересно отметить, для современного человека, признающего историю как таковую, а не как повторение, существование Бога становится настоятельной потребностью — в отличие от человека архаических и традиционных культур, который мог защищаться от ужаса перед историей с помощью всех упомянутых в этой книге мифов, обрядов и ритуалов. Заметим к слову: хотя концепция Бога и связанного с ней религиозного переживания существовала уже в самые отдаленные времена, она порой замещалась другими религиозными «формами» (тотемизм, культ предков. Великие Богини плодородия и т. п.), которые больше отвечали религиозным потребностям «примитивного» человека. В рамках культуры архетипов и повторения можно было вынести ужас перед историей, если таковой обнаруживал себя. С тех пор, как была «придумана» вера в иудео-христианском смысле этого слова (= для Бога нет ничего невозможного), человек, вырвавшийся за пределы архетипов и повторения, может защититься от этого ужаса только при помощи Бога. Ибо лишь при условии веры в существование Бога он обретает свободу (в силу своей автономии во Вселенной, управляемой по своим законам, или, говоря другими словами, в силу «появления» во Вселенной нового и уникального в своем роде существа), и одновременно уверенность, что все исторические трагедии имеют трансисторическое значение — даже если это значение не всегда внятно для человека в его нынешнем состоянии. Любая иная позиция современного человека ведет, в конечном счете, к отчаянию. Это отчаяние вызвано не только самой природой человеческого существования, но и сознанием того, что в исторической вселенной подавляющее большинство человеческих существ испытывает постоянный (пусть даже и не всегда осознанный) ужас перед историей.
В этом смысле христианство, безусловно, оказывается религией "падшего человека" — в той мере, в какой современный человек ощущает необратимость своего включения в историю и в прогресс, а также в той мере, в какой история и прогресс означают падение, обусловленное их полным и окончательным отречением от рая архетипов и повторения.