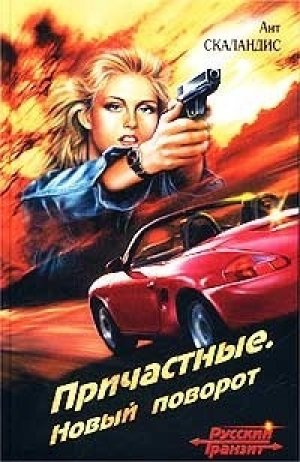
ПРОЛОГ
Киев встречал меня не слишком ласково.
Садились сквозь густую облачность, а на летном поле холодный и влажный ноябрьский ветер сразу хлестнул по лицу, как обиженная девушка, которой ты обещал прийти вовремя, но вновь опоздал, да не на десять минут, как обычно, а на все полчаса, и вместо покаянных слов и огромного букета, полагающегося в таких случаях, решил отделаться маленькой шоколадкой и милыми шуточками.
Было с чего обидеться, хотя Киев и не девушка, а, по слухам, отец городов русских. Так ведь я и опоздал изрядно. В девяносто седьмом мне было действительно хорошо на Украине, и я клялся очень скоро вернуться, а вот, получается, прилетел только через два года.
«Ну ладно тебе, не дуйся! — улыбнулся я городу, ступая под козырек аэровокзала и беззлобно смахивая с головы и плеч снежную крупу. — Какие могут быть обиды? Привет, отец!»
А потом был Лешка Кречет, который тоже встречал меня весьма странно. Его, как всегда, ненормально чистый автомобиль, на этот раз сверкающий черным лаком «лендровер-дискавери», я вычислил еще издалека и некоторое время гадал, мыл он его прямо здесь, в Борисполе, или вообще приехал на чем-то другом, ведь дороги повсюду мокрые и грязные. Да и теперь, когда я вышел на площадь перед зданием аэропорта, с унылого неба цвета застиранной портянки сыпался гадкий мокрый снежок.
Лешка стоял, перегнувшись через капот и сосредоточенно тер куском мягкой замши ветровое стекло.
— Привет, — сказал я, подойдя вплотную. — Мы едем куда-нибудь?
— Привет, — небрежно оглянулся Лешка, словно я был его сотрудником, опостылевшим хуже горькой редьки за несколько тяжелых недель без выходных, и как бы неохотно пояснил: — Сейчас. Видишь, стекло протираю. Мне кузов помыли специальным американским шампунем. Отличный состав, после него грязь совсем не прилипает, но эти уроды ухитрились залить раствором и стекла. Смотри, разводы какие жуткие, не видно же ни черта!
— Под снегом бесполезно, — заметил я. — Это же что-то на основе парафина, да? Надо оттирать по сухому.
— Знаю, — все так же недовольно буркнул он и продолжил свое занятие. Ну хоть чуть-чуть. Видишь, вот здесь уже лучше.
Что и говорить, важную тему обсуждали мы с ним. Михаил Разгонов, имеющий высшую категорию причастности в службе ИКС, и Олексей Кречет, один из ведущих политтехнологов Украины и человек с исключительными полномочиями в другой международной организации, названия которой я не знал, однако в могуществе оной имел счастье убедиться не однажды.
И я решил сменить тему:
— Вот, возвращаюсь в Россию насовсем.
— Знаю, — кивнул он еще более равнодушно, чем по поводу моего технического замечания.
— Слушай, с тобой неинтересно, — обиделся я. — Ты все на свете знаешь.
— Ах, ну да! — подколол он. — Ты же преподаешь в Берлинском университете. Нравится читать лекции тем, кто ничего не знает?
Потом бросил наконец свою дурацкую замшу в приоткрытую водительскую дверь, попал точно между ручкой передач и ручкой раздатки, и добавил уже серьезно:
— Я очень многого не знаю на самом деле. Садись, рассказывай. Машина новая, купил сегодня, быстро, по случаю и ни с кем не советуясь, так что прослушку поставить еще не успели.
— Понял, — только и сказал я, внезапно осознав, что совершенно не представляю, с чего начать.
Лешка рванул с места, как участник автородео, я бы не удивился, если б он еще и ручник на себя дернул, вставая на задние колеса для прыжка. В общем, годы шли, а Кречет оставался верен себе: самые последние модели самых пижонских марок, никаких водителей и юношеская лихость в управлении. Не только машинами, людьми — тоже.
Через какую-нибудь минуту мы уже летели по трассе со скоростью сто восемьдесят, обгоняя всех.
— Обычно, — поведал Кречет, на трассе меня никто не обходит.
— А если «порш» или, скажем, «додж-вайпер»? — поинтересовался я.
— Ну, если «порш»…. - проговорил он задумчиво. — Да их на весь Киев десятка полтора. Случалось. Конечно, случалось….
— А на «лендровере» вообще ездят с такой скоростью?
— Вообще — нет, но на моем — нормально. На поворотах, конечно, надо сбавлять, — добавил он, проходя поворот на ста сорока, впрочем довольно плавный поворот. — А то ведь и перевернуться можно.
Перевернуться не перевернулись, но в дверь меня вдавило капитально, и под этим наклоном я отчетливо увидал в правом зеркале серебристую «БМВ», проходившую этот вираж следом за нами примерно на той же скорости. Если не больше. Совершенно автоматически я отметил, что именно эта «бээмвуха» отпарковалась от стоянки буквально через секунду после нас.
— Это что, сопровождение? — мотнул я головой назад.
— Нет, это хвост, — сказал Лешка спокойно. — Скорее всего. В город въедем, поймем наверняка — тогда и оторвемся.
— А надо? — полюбопытствовал я.
— Да, в общем-то, нет, они все и так знают, откуда и куда я еду, просто не люблю, когда в затылок дышат. Да, а кстати, тебя сразу ко мне отвезти? Нинка дома. Обедом покормит. Или со мной в офис поедешь?
— Да лучше с тобой, — ответил я, не раздумывая. — Ты там надолго?
— Часа два, думаю, проторчать придется.
— Нормально. Кофе нальешь?
— Не вопрос, — улыбнулся Лешка. — Марьяна у меня отлично заваривает по-турецки.
«Бээмвуха» потеряла нас. А я за полчаса пути успел рассказать Кречету совсем не так мало: про Тополя и Вербу, окончательно сошедших с ума, про наши странные контакты с сотрудниками ЧГУ, про надежду перевербовать их, про зашедших в тупик яйцеголовых из Спрингеровского центра в Дуранго, не способных до сих пор дать обстоятельную оценку явлению точки сингулярности и мрачному пророчеству с таинственных дискет. В этом месте Кречет улыбнулся, вспоминая нашу веселую последнюю встречу в том самом загадочном нигде. Оказывается, они с Юркой Булкиным девятнадцатого апреля были в музее Булгакова, а потом вышли на Андреевский спуск и не спеша побрели вверх, продираясь сквозь толпу меж рядами художников и торговцев сувенирами, и вдруг — бац! — никакой толпы вокруг, а впереди океанский берег, и Волга, и Берлин, и Москва….
— Ты думаешь, это было на самом деле? — спросил я немного наивно, по-детски, почти как беременный Верунчик.
— Конечно, — кивнул он с небрежной уверенностью полубога.
— Ну и как это понимать?
— А оно тебе надо? — вопросом на вопрос ответил Лешка, стилизуя свою, похоже, серьезную мысль под новорусский фольклор.
— Не хочешь отвечать?
— Да нет, — он пожал плечами. — Я и сам ни черта не понимаю. Но при этом абсолютно убежден: нам с тобой научные основы этого дела ни к чему. Любуясь восходом, не рассуждают о небесной механике. А тем более для того, чтобы смотреть телевизор, совсем не обязательно знать его устройство и принцип действия.
— Вот так ты ставишь вопрос, — несколько опешил я и перешел к делам более свежим. — Ты знаешь, кто такой Эльф?
Я специально задал вопрос внезапно и очень внимательно следил за его лицом, но и Лешка понял, что я слежу. Он и бровью не повел. Паузу выдержал очень естественную, потом уточнил:
— В каком смысле? К чьей мифологии относится? По-моему, к скандинавской.
— Дурака не валяй, ладно? — изобразил я легкую обиду. — Я спрашиваю, знаешь ли ты Юриуша Семецкого?
— Семецкого, Семецкого, — повторил Кречет как эхо. — А он Семецкий или Симецкий?
— Он через «е» пишется, — безнадежно вздохнул я.
— Тогда нет, я знал одного Симецкого, и его звали Мойшей.
Разговор увял, и я еще раз сменил тему, рассказав о том, как месяц назад умер в Швейцарии Марк Львович, отец Белки, как мы ездили хоронить тестя, успевшего за час до смерти распорядиться, чтобы тело его никуда не возили. Впрочем, я и раньше знал, сколь пренебрежительно относился этот умнейшей человек к судьбе своих останков. Главное, считал он, поменьше хлопот, а на могилу ездить — дело десятое. Не у дурацкого холмика, поросшего цветами, о человеке вспоминать надо, а повсюду, повсюду, где жили вместе, где вместе работали, пили, спорили, отдыхали…. Будет что вспомнить хорошего — вот и отлично, а не будет — грустно, но тоже ничего. Марк Львович был материалистом до мозга костей, и Белка категорически поддержала последнюю волю отца, хотя у Зои Васильевны и зародились было серьезные сомнения, ведь к тому моменту мы уже знали, что возвращаемся в Москву. «Ничего, мамочка, — сказала моя мудрая жена. — Зато всегда будет не повод, а серьезная причина в Швейцарию поехать».
Ну а теперь, когда визы были оформлены нам всем, Белка задержалась сначала в Берлине — для всяких формальностей, связанных с отправкой контейнера, потом вместе с Андрюшкой махнула в Ланси, чтобы уже втроем с матерью вылететь в Москву из Женевы. Дом швейцарский решено было продать: Зоя Васильевна рвалась на родину еще сильнее дочери. Ну а на всякий случай нам всем хватило бы и берлинского особнячка, который и попросторней, и посовременнее, да и место, прямо скажем, более подходящее для семейки сумасшедших урбанистов.
Пару слов сообщил я Кречету о наших отношениях с Белкой, практически безоблачных уж полгода, как минимум. О последнем свидании с Вербой решил даже не упоминать. Безумная страсть на ковре в Кемпинском являла собою сцену из другой пьесы. Можно соглашаться или не соглашаться, принимать или не принимать, но отношения между Причастными — это всегда много больше, чем адюльтер, и предметом для ревности служить они не могут. Точнее, не должны. Ведь я совсем не уверен, что сумел бы в очередной раз объяснить подобную истину жене. И все же с годами Белочка моя катастрофически умнела. Она окончательно разлюбила щекотать нервы всякими глупостями как мне, так и себе, поэтому разговоры об изменах у нас практически полностью сошли на нет. Думаю, узнай Белка, что я раз шесть или восемь (буквально так) предавался радостям земным с Паулиной, она бы не слишком расстроилась. Но я не считал нужным рассказывать об этакой ерунде.
Меж тем Кречет совершенно неожиданно проявил странный интерес к теме семейных отношений, задавал конкретные вопросы, и на отдельные откровения меня таки раскрутил. Сам он при этом все мрачнел и мрачнел, словно от успехов в моей личной жизни зависела президентская предвыборная кампания на Украине. Это было совсем не похоже на Лешку, и я уж было собрался спросить его прямо в лоб, в чем дело, но тут мы и приехали.
В старом доме на Проризной, в большом офисе с высокими потолками началась сразу немыслимая суета: люди, телефоны, бумаги, листание каких-то файлов в компьютере, демонстрация будущих предвыборных плакатов. Однако и про кофе забыто не было. Принесли ароматного, крепкого, в наилучшем виде, и коробку конфет «Гетьман» с музыкой, и рюмочку доброго коктебельского коньяка — для меня. Лешка не стал, на работе у него с этим строго.
Потом как-то все поутихло. Пока внезапно в дверь не ввалился референт, выпаливший еще с порога, что, мол, такого-то такого-то застрелили.
— Когда? — быстро спросил Лешка.
— Да только что. Еще даже в новостях не передавали.
— Доигрался хрен на скрипке, — процедил Кречет злорадно и вдруг виновато покосился на меня, словно выматерился при ребенке.
Я прямо обалдел, а он еще возьми и добавь:
— Извини, Мик, знаю, что нехорошо, но… собаке собачья смерть. Он с бандюганами работал и сам по жизни бандюган. Там другого и ждать не приходилось.
Я не знал, о ком они говорят, потом, уже в машине, по радио услыхал: убили мэра одного из областных центров — не мелкая персона. Но дело было в другом. Я действительно не люблю, если кто-то радуется смерти, тем более насильственной. Кречет знал это, вот и начал извиняться. Я счел нужным несколько сгладить ситуацию:
— Ты с ума сбрендил, Ол! Ну, убили и убили. Работа такая, не ты же его заказывал?
Лешка бросил на меня дикий обжигающий взгляд:
— А теперь ты с ума сбрендил, Мик. Я никогда и никого не заказываю. Коля! — окликнул он референта, уже собравшегося покинуть нас. — А в Интернете сообщение прошло?
— Три минуты назад еще не было.
— Постарайтесь сделать так, чтобы наше информационное агентство опередило всех.
— Хорошо, — кивнул Коля, — думаю, получится.
Внезапно мне сделалось грустно от этой чертовой политики, где сообщение о смерти важнее самой смерти, а деньги, ради которых убивают, несоизмеримо дороже человеческой жизни, даже жизни мэра.
— Скоро домой поедем? — жалобно поинтересовался я.
— Да, — сказал Лешка, — вот эту фигню сейчас доделаю и все, — он постучал пальцем по какой-то декларации или программе, лежащей перед ним уже битых полчаса с одной-единственной поправкою. Сделать следующие никак не позволял телефон или визиты референтов.
Кречет выделил ярким зеленым маркером одну строчку, потом раздраженно бросил его на стол, помассировал виски двумя руками и наконец пристально посмотрел на меня.
— Я от Нинки уходить собираюсь.
— Вот те на! — выдохнул я.
Впрочем, я уже был готов к чему-то подобному.
— Случилось что-нибудь?
— Ой, Мик, у нас там такое! Это не жизнь, это литература. Ладно. Давай вечером. Махнем куда-нибудь, выпьем по-нормальному. Я тебя с Тамарой познакомлю.
Тут же раздался очередной звонок, и оказалось, что это меня. Кому могло прийти в голову искать Разгонова по служебному телефону Кречета, в то время как все мои родственники, друзья и деловые партнеры прекрасно знают, что я не расстаюсь с трубкой и не выключаю ее никогда, а определенному кругу лиц известен и второй мой номер — для экстренной космической связи? Впрочем, именно среди этого круга полно сумасшедших, объяснять логику их поведения — дело более чем безнадежное. И я угадал. Это был псих из психов — старый друг Кречета по пернатому сообществу, представитель доблестной Третьей силы, а с некоторых пор добровольный помощник и консультант Причастных — Стив Чиньо собственной персоной.
— Здравствуйте, Микеле, — заговорил он нарочито по-итальянски, а ведь прекрасно знал, мерзавец, с английским и немецким у меня гораздо лучше. — Я в Киеве, вот и звоню вам по местному номеру.
Объяснение было сильным: неужели у этого миллиардера деньги закончились и он решил экономить на звонках? Почему-то меня сразу разозлил его фортель, как, впрочем, и итальянский язык, да и само появление высокомерного всезнайки на Украине.
— Добрый день, дорогой товарищ Чиньо! — отрапортовал я. — Это не вы ли случайно сидели в серебристом «БМВ»?
— Нет, — ответил Чиньо с достоинством после короткой паузы. — В той «БМВ» сидели местные… товарищи.
— Тогда как рассматривать ваш визит: это сопровождение или слежка?
— Откуда такая агрессивность, Микеле? — похоже, Стив искренне обиделся. — Я просто хотел встретиться с вами.
— Вот как? — пришлось немножко сбавить обороты. — А Вайсберг обещал, что я приеду на родину безо всяких секретных заданий.
— Ну, если Вайсберг обещал…. - многозначительно протянул Стив, а потом бесцветно закончил: — Значит, так и будет. Я не предлагаю вам никаких новых заданий. Всего лишь два совета. Выслушаете?
— По открытому каналу связи? — решил уточнить я.
— Ну, не такой уж он и открытый, — проворчал Чиньо. — К тому же наши враги едва ли смогут использовать эти советы нам во вред. Так слушайте. Первое. Когда и если у вас возникнет необходимость звонить Причастным, при прочих равных условиях — звоните всегда Тополю, а не Кедру. Вербу вообще лучше не трогайте. И второе: по приезде в Москву сразу заведите собаку.
Так и знал, что услышу какую-нибудь чушь. Я шумно выдохнул в трубку и воздержался от комментариев. Но тут же и поклялся мысленно: буду вести себя с точностью до наоборот.
— У меня все, — невинно проговорил Стив. — Ну разве что еще один ма-а-аленький штришок — не совет, а так дополнение: не затягивайте с поездкой к Анжею. Он вам все это подтвердит, а то я уже по вашему дыханию чувствую, до какой степени вы со мною не согласны.
«Вот зараза!» — подумал я и решил достойно отпарировать:
— Ну, конечно, Стефанио, вы же большой специалист по вдохам и выдохам. Если не ошибаюсь, одна из ваших книг так и называлась — «Роль секса в психосинтезе и сознательное дыхание».
— А вы эрудированный мальчик, Микеле, — отечески похвалил Стив, — и все-таки нам необходимо встретиться. Я обязательно должен вам кое-что передать. Будьте на связи.
Последняя информация почему-то уже не расстроила меня, даже наоборот. Должно быть, потому (пришло в голову после), что, поставив точку в нашем разговоре решительным разрывом связи, Чиньо оставлял мне возможность поквитаться при встрече.
— Мы едем? — нетерпеливо спросил я у Кречета еще раз.
— Уже да, — кивнул он, — но обедать будем все-таки у Нины.
— Никаких возражений. Надеюсь, готовит она по-прежнему отменно?
— О да, дружище, совсем не кулинарные ее способности послужили причиной нашей размолвки, — он помолчал и добавил серьезно: — Быть может, это единственное, что в ней осталось от прежней Нины.
Мне не хотелось верить, что какие-то два года могли так сильно изменить человека, но по дороге в машине Кречет все же не удержался и кое-что поведал о жене, очевидно, хотел подготовить к встрече. Оказывается, они много-много лет не изменяли друг другу. Даже потребности такой не было. Хотя возможностей — море: и когда Лешка крутился на телевидении среди артисток, и потом, когда в администрации президента ему по рангу полагались госдевочки для релакса, и тем более теперь, когда ушел на вольные хлеба и всякий контроль за его жизнью сделался весьма затруднительным не только для жены, но и для очень серьезных спецслужб. Соответственно и у Нины имелся маневр и красивое оправдание, мол, ты весь в работе, ты обо мне забыл. Но оба держались. Точнее, даже не так: оба не думали об этом. Потому что удержаться на самом деле немыслимо. Когда нельзя, но очень хочется, то можно. Это не просто шутка, это истинная правда. И вот захотелось. Обоим сразу. Они так и не выяснили до сих пор, кто был первым, потому что сначала отчаянно врали, скрывая все друг от друга, а затем в пароксизме откровения заврались в противоположную сторону, наговаривая каждый на себя и едва ли не соревнуясь в подлости. Почему так произошло? Надоели друг другу за много лет? Чрезмерно завысили требования? Устали от почти идеального благополучия? Кинулись на поиск острых ощущений? Кречет сам не знал ответа. Но теперь это казалось несущественным. Они были бы готовы простить друг другу все: в конце концов, почти двадцать лет вместе и почти взрослая дочь и еще много всяких «почти», которых все равно не хватило, потому что появилась она. Разлучница. Со стороны Нины тоже были весьма интересные фокусы, но главную роль сыграла все-таки Тамара.
На появлении главной героини Лешка и закончил свой рассказ, так профессиональный драматург завершает первое действие пьесы. А тормознули мы, как всегда, резко, с визгом у самого подъезда, и он сказал:
— Пошли. Жрать охота.
Да, Нина Кречет выглядела неважно. Она заметно располнела, ссутулилась, в общем, перестала следить за собой. Сделались отчетливо видны морщинки в уголках глаз, темно-русые, красивые волосы вроде и уложены как надо, а лежать не хотят, и рука, которую я галантно поцеловал, предательски выдавала возраст. (Боже, да разве сорок лет — это возраст для женской руки?!) Но главное, цвет лица. Нет, оно не было бледным. Я искал нужное слово, потом вспомнил и испугался: есть такое старинное выражение почернеть лицом. Лешка тоже смотрел на жену пристально и мрачно. Мы оба чувствовали: что-то случилось. Однако Нина вымученно улыбнулась и сказала:
— Как я рада тебя видеть, Миша! Да вы раздевайтесь. Проходите. Чего встали тут, давно готово все.
Говорок у нее был все тот же — милый, южнорусский, уютный, и я начал потихоньку оттаивать, да и стол, как всегда, ломился от салатов и закусок, от всевозможных домашних изысков. Возникло несколько бутылок отличного крымского вина, Лешка лично извлек из морозилки початый штоф горилки, немедленно покрывшийся густым инеем до уровня жидкости — классическая водка в шубе. В общем, разлили, выпили, прокомментировали невозможность простудить горло замороженной водкой, оценили чудесную форель слабого посола, нежинские огурчики, фаршированные баклажаны, свинину, запеченную по-домашнему, пирожки с грибами и визигой…. Начался легкий треп ни о чем, тут и Ксюша подошла, она теперь тоже пила вино, и при ней можно было рассказывать взрослые анекдоты. Так прошел добрый час, все словно и забыли о проблемах и разногласиях — ах, какая образцовая семья! Иллюзия рухнула с первым телефонным звонком. (И как это он молчал так долго? Ну да, Лешка мобильник свой на время обеда выключил — старое доброе правило многих серьезных людей, а городской номер полчаса, как минимум, занят был Ксюшиным Интернетом). И вот — звонок. Трубку взяла Нина.
— Да.
Слушала секунд пять, вновь чернея лицом.
— Да?!
Слушала еще секунд десять. Лешка вскочил, уже поняв, кто это. Только я ни черта не понял, главное, мне было неясно, что он собирается делать. Зато Ксюше все стало ясно в миг, и она бросилась наперерез отцу. Всех опередила Нина. С криком: «Ну уж нет!» ринулась к балконной двери, отворила ее, размахнулась, швырнула трубку во двор.
— Вот так! — произнесла победно и удалилась в комнату.
— Мама, ты что?! — свистящим шепотом вопросила Ксюша и вылетела с кухни следом, но уже через полминуты метнулась на улицу искать трубку. А Лешка все это время стоял столбом. Я, признаться, тоже, зато начал потихонечку понимать происходящее и поинтересовался:
— Она что, не могла позвонить позже на сотовый?
— Зачем? — скривился Лешка. — У нас все равно каждый день что-нибудь подобное происходит. Поехали.
— А это удобно? — спросил я растерянно.
— Уехать из дома, где трубками телефонными бросаются? Пошли быстрее.
Уже одетые, мы столкнулись в дверях с Ксюшей.
— Не работает, — выдохнула девушка.
— Понятное дело, — процедил Кречет. — Вообще-то метание в сугроб инструкцией не было предусмотрено.
Потом достал бумажник вынул сотню и протянул дочке:
— Завтра купи, пожалуйста, новую трубку. И ложитесь спать пораньше. Мы поздно вернемся.
Я не спросил, куда мы едем. Лешке, похоже, было все равно, мне — тоже. Место выбирала Тамара, перезвонившая буквально через пять минут. И оказались мы в солидном ночном клубе, уютном и почти пустом по случаю буднего дня. Тамару повстречали у дверей заведения, и она мне сразу понравилась. Лет на пятнадцать моложе нас, не красавица, но обаятельная, не худенькая, но стройная, подтянутая, складненькая такая, а любовь, преданность, желание отдать всю себя прямо светились в ее глазах — мечта любого мужика. К тому же с первых реплик в разговоре мне стало ясно, что она еще и не глупая. Потом узнал: Тамара — врач-гинеколог, четыре года работает в хорошей клинике, при этом у нее неплохая эрудиция, прекрасное умение общаться и еще не остывшее, почти юношеское любопытство ко всему на свете.
— Ты любишь ее? — спросил я Кречета, когда мы ненадолго остались вдвоем.
Лешка думал ровно три секунды.
— Нет. Она меня любит. А мне просто очень хорошо с нею. А с Ниной в последнее время мне стало тяжело. Я никого не люблю, Мик. Только себя.
Вот, наверно, и все, что он скрывал от своей подруги. Об остальном мы говорили вместе — о Нине, о Ксюхе, о друзьях, обо всех проблемах, включая политические. А на маленькой полукруглой сцене вертелись вокруг шеста две роскошные стриптизерки. Работали они отлично и настраивали на лирический лад. Так что разговор о вселенских тайнах ну никак у нас не получался. Лешка беспрерывно курил, медленно потягивал коньяк и упорно изливал мне душу, сворачивая с любой темы на дела сердечные и давая понять, что судьба Причастных, чекистов, Третьей силы и вообще всей цивилизации волнует его куда меньше, чем собственный любовный треугольник. Кого-то это мне напоминало! Не далее как в конце весны я точно так же вел себя в разговоре с приехавшим ко мне Вайсбергом. Но у меня-то была так, легкая интрижка, а потом изысканный домашний деликатес с ароматным перчиком специально заказанной измены. А тут все случилось по-взрослому: обе женщины воспротивились делить Кречета, каждая тащила одеяло на себя, и одеяло это уже трещало по всем швам. Еще какой-нибудь месяц, если не меньше, и все вокруг заорут: «А король-то голый!» (В смысле голый Кречет под разорванным надвое одеялом.) И Лешка терзался от дурных предчувствий. Он и жить так больше не мог, и разводиться не мечтал совершенно, а уж тем более жениться по новой. Он просто хотел, чтобы его оставили в покое, но ситуация в последние полгода развивалась по нарастающей: от телефонных перепалок — к попытке суицида (Нина в сентябре глотала таблетки, насилу откачали ее), от хождений ко всевозможным колдунам до попыток обеих женщин заказать киллера друг для друга…
Да, вынужден был признать я, это уже не просто литература — это настоящий мистический триллер. И Лешка не видел выхода из сложившейся ситуации. Никакие деньги и никакая власть в подобном положении не помогали, и тоску он на меня нагонял жуткую.
Господи, зачем я только сюда приехал?
И вдруг после очередной порции коньяка Кречет все же сподобился сделать паузу в душеизлияниях и неожиданно выдал, наклонившись ко мне и перейдя на заговорщицкий шепот (Ага! Значит, и еще кое-что скрывает он от Тамары…):
— Хочешь знать, кто он, твой любимый Эльф?
Я молча кивнул, ожидая нетривиального продолжения. И услышанное мною превысило все мыслимые ожидания.
— Он — не совсем человек. Он — один из наших, то есть из Посвященных. Ты слышал что-нибудь о Братстве Посвященных?
— Нет, ничего не слышал, — признался я честно.
— Значит, настало время услышать. Если Владыка Чиньо в Киеве, значит действительно пора.
«Владыка Чиньо! — молнией сверкнуло у меня под черепом. — Так его называли на том странном сборище, посылавшем на смерть таинственного Юру Семецкого. Кассета, привезенная Тополем и спаленная в моем камине, неясные, тревожные мысли, взбаламутившие меня в тот вечер…. Стало быть, эти самые „владыки“ и величают себя Братством Посвященных. Тогда я кое-что знаю о них, только поздно уже рассказывать. Пусть Кречет расскажет».
Ну, он и рассказал. А я слушал, и в голове вертелось лишь одно: да, от любви, конечно, сходят с ума, но я бы никогда не подумал, что это происходит так быстро и так серьезно, а тем более с кем — с прожженным циником Лешкой!
Я не верил ему. Да и как было поверить?
Картинка вырисовывалась примерно следующая. Посвященные — это такие люди, которые в принципе умеют возвращаться с того света. Удается не всем, но есть профессионалы. Эльф — один из них. Он расставался с жизнью и благополучно воскресал уже девятнадцать раз. И это среди Посвященных своеобразный рекорд. Так что вовсе не на смерть его посылали. А на очередное, да непростое, но вполне обыкновенное для этого типа задание. И то, что теперь Семецкий живет в Москве под чужой фамилией, сидит тихо как мышь и ни во что не суется, — это для всего мира счастье великое. И мне, как человеку, едущему в российскую столицу, перво-наперво следует знать: у Посвященных свои законы, они без нас между собой разберутся, а влезать в их внутренние разборки обычным людям неможно (Кречет так и сказал — неможно с нарочитым нажимом на этом архаичном слове).
— Никому неможно, — повторил он, — никаким Причастным и даже Деепричастным. Иначе — беда.
— Плоско шутишь, — поморщился я. — Да и концепция бессмертия, скажу тебе честно, слабенькая. Кажется, у Егорки Стульева лет пятнадцать назад была такая повестуха, так, если помнишь, мы на ней дружно потоптались тогда в Дубултеевке.
— Брось, у него фэнтезюха была, про рыцарей, — мгновенно вспомнил Лешка и повесть Стульева, и шутливое название нашего семинара, улыбнулся ностальгически. — Между прочим, я в Малеевке так и не был ни разу, только в Дубулты…. — Потом словно проснулся: — Но я тебе не про фэнтези говорю, я говорю про жизнь. Про самую серьезную угрозу для жизни планеты. Цивилизация в опасности.
Прозвучало ужасно нелепо, и я не мог не спародировать последнюю фразу:
— Социалистическое отечество в опасности. У Ильича была такая статья. Правильно?
— Социалистическое отечество в опасности, — тупо повторил Лешка и не справился с первым словом, получилось что-то вроде «социститьское».
Господи, да он же пьян! Хорошо, что Тома вышла куда-то в этот момент.
Я взял Кречета за плечи, встряхнул его и предложил:
— Ол, давай еще по сто граммов и поехали отсюда. А в дороге ты мне спокойно признаешься, что все это было шуткой.
— Не совсем, — уклончиво ответил Лешка и хитро улыбнулся, на глазах трезвея. — Я думаю, вот как надо: ты напиши на эту тему роман. И напечатай его. Тебе все равно в Москве делать нечего будет. Егорка Стульев — хороший человек, но у него не тот класс. А у тебя получится написать про Посвященных. Причем ты пиши все как есть, даже имен и дат изменять не надо. А по фактическому материалу тебе помогут. О'кей?
Я насторожился:
— Это что, задание?
— Нет, просто совет.
И он щелкнул пальцами, заказывая очередную порцию любимого коньяка «Давидофф экстра олд».
Потом вернулась Тамара, и мы до самого отъезда вновь говорили о делах сердечных.
На обратной дороге Кречет попросил меня сесть за руль, его что-то совсем разморило. Куда ехать, объясняла Тамара. Мы проводили ее до подъезда в унылом новом квартале занесенных снегом пятиэтажек. Лешка чуть-чуть взбодрился, но все равно остался на месте пассажира и до самого дома кемарил. И только уже перед сном, это было часа в четыре, когда мы вышли на застекленный балкон выкурить по последней сигаретке, разговор вернулся к главной теме.
— Ты сказал, если я встречусь с Эльфом — быть беде. Я правильно понял?
— Да, — кивнул Кречет, — тебе нельзя с ним встречаться. Вообще не стоит вступать в контакт с Посвященными. Наши люди постараются отслеживать это. Лозова твоя в курсе. И Форманов — тоже в курсе. Но от случайностей никто не гарантирован. Вот почему сегодня я уполномочен предупредить тебя лично.
— И ты сам — Посвященный? — полюбопытствовал я, делая вид, что поверил во всю эту фантастическую ахинею.
— Нет, — ответил он предельно серьезно, — в том-то и дело, что нет. Они меня втянули в свои игры. Это случилось очень давно, и назад уже нет дороги, но я такой же простой смертный, как и ты, только знаю намного больше. К сожалению, — добавил он после паузы.
— Вернемся к случайностям, от которых никто не гарантирован, напомнил я. — Какая именно нас ждет беда?
— Да очень простая, — сказал Лешка. — Тот самый конец света.
— Ну, это не страшно, — улыбнулся я. — Шактивенанда уже пугал однажды, а потом сам прилетел на голубом вертолете, и все закончилось цирковым номером на калифорнийском берегу Оманского залива в городе Твери Киевской губернии, Берлинского уезда. Не говоря уже о том, что конец света все равно наступит со всей неизбежностью, если верить тому же Шактивенанде.
— А разве ты веришь? — быстро спросил Кречет, терпеливо выслушавший всю мою абракадабру.
— Нет. А ты?
— А мне не надо верить — я просто знаю, что все так и будет. Конец света, ожидаемый через год с небольшим, — это всего лишь укол. Тонюсенькой иголочкой и под наркозом. Боли никто не почувствует. А мир получит смертельную дозу яда, медленно действующего яда. Насколько медленно? А вот это и будет зависеть…. - он замялся, — …в частности от тебя. В значительной степени от тебя, — добавил он с нажимом.
— Перестань. — Я ощутил препротивный холодок под рубашкой, словно какие-то скользкие, мокрые твари поползли у меня по спине. — Перестань, Ол.
— Хорошо, Мик, пошли спать.
Поздний завтрак в безумном семействе Кречетов прошел на удивление тихо и мирно. Если не считать, что Лешку выдернули из-за стола срочным звонком то ли премьера, то ли Председателя Верховной Рады, и он, не допив кофе, кинулся завязывать галстук и скидывать на дискету важную информацию из компьютера. В общем, до аэропорта меня взялась подбросить Нина, так что всю дорогу по городу и по трассе я был вынужден слушать новую версию их семейного конфликта.
«Все это было бы смешно, когда бы не было так… страшно». Разночтения получались более чем существенными. Мало того, что Нина, разумеется, не изменяла Лешке не только с его лучшим другом, но и вообще ни с кем, так ведь оказалось, что Кречет еще и спит регулярно со своей секретаршей Марьяной; и тем не менее это именно он наглотался в сентябре таблеток до полусмерти, а еще раньше собирался стреляться. Нина же никаких киллеров не заказывала, зато в августе вскрывала себе вены и даже продемонстрировала мне довольно выразительный шрам на левом запястье. Я окончательно запутался в этой истории. А если еще учесть, что и Тома успела мне рассказать кое-что свое, пока Лешка дремал в машине, то получался уже чистой воды Акутагава. Есть у него такой замечательный рассказ, где пятью участниками излагается пять версий одной и той же трагедии, а какая из них правда, не знает и сам автор.
В Борисполе мы с Ниночкой нежно попрощались, оставаясь лучшими друзьями, ведь я сумел не обидеть ее ни словом, ни взглядом. Но, проводив глазами печально-лиловый «ситроен», я шумно выдохнул и с облегчением закурил.
С неба падали легкие снежинки, но теперь эта не ко времени наступившая зима уже скорее радовала меня. Я еще от Кречета созвонился с Белкой, поэтому знал, что она вместе с Андрюшкой встретит меня во Внукове. Шереметьево было бы, конечно, лучше. Ну да черт с ним! Главное, я наконец возвращаюсь домой. И совершенно мне не хотелось звонить «древовидным» друзьям — ни Тополю, ни Кедру, ни даже Вербе. То есть почему даже? Вербе в первую очередь звонить не хотелось. Зачем она мне теперь? Я возвращался к прежнему московскому семейному счастью, с любимой Белкой и сыном. Я буду писать новый роман, я найду интересную работу, я обзвоню всех друзей и обойду все места, «где был счастлив когда-то…».
От этих примитивно-радужных мыслей меня отвлек очень высокий человек в шикарном черном пальто и тоже черной, но легкой, совсем не по погоде шляпе, надвинутой на глаза. Он вынырнул из снегового тумана, словно какой-нибудь старик Хоттабыч, прошедший сквозь стену, и я сразу почуял неладное. А ведь у меня даже пистолета с собой не было. Я же теперь простой мирный гражданин, строго соблюдающий правила авиаперелетов. Господи, о чем я думал? Разве от того зла, что угрожало мне теперь, можно отстреливаться? Ну если только серебряными пулями….
Передо мной стоял Стив. Владыка Чиньо. О, как же я мог забыть о назначенной им обязательной встрече?
— Добрый день, — сдвигая шляпу на затылок, чинно поклонился Чиньо (аллитерация, прошу заметить, нарочитая).
— О! — восхитился я. — Мы говорим сегодня по-русски, Владыка Чиньо?
— Да, бодхисатва.
— Кто, простите? — я надеялся подколоть его, но проиграл и этот раунд, опешив от его непонятного обращения.
— Ну, друг мой, стыдно не знать классического буддизма. Но вы еще молоды, и вам простительно. Вот, возьмите это, и тогда многое станет понятнее.
Он протянул мне изящную кожаную папку, оказавшуюся, впрочем, достаточно увесистой.
— Что здесь? — поинтересовался я. — Не зазвенит в «рамке»?
— Не должна, — сказал Стив. — Это всего лишь рукопись, которой вряд ли заинтересуется таможня. А вот вы почитайте, почитайте.
— Зачем? — я вновь становился агрессивным.
— Все очень просто, Микеле. Помните Давида Маревича? Вы познакомились с ним в точке сингулярности….
Я вздрогнул, потому что Маревича этого помнил слишком даже хорошо. Все, что происходило там, было записано мною досконально и перечитано много раз. Именно Давид рассказывал о том, как его убили в 91-м и как теперь он оказался вот тут, с нами, в 99-м.
«Маревич — Посвященный!» — мгновенно щелкнуло в голове.
— Так вот, — продолжал Чиньо, — здесь его дневник. Давид хотел, чтобы вы его опубликовали под своей фамилией. Как фантастический роман.
— Ничего себе! Давид сам просил вас об этом? — спросил я с трогательной наивностью, словно какой-нибудь Шурик из «Кавказской пленницы».
— Ну разумеется. Он не профессиональный писатель. Над текстом придется поработать. И знаете что, желательно вести рассказ от третьего лица и не менять ни одного имени, ни одной фамилии. Ни одной.
Я чуть было не сказал, что все это уже слышал от Кречета, но потом передумал и дурашливо козырнул:
— Будет сделано.
— Это очень важно, Микеле, — тяжко вздохнул Чиньо.
Тогда я совладал с улыбкой и, насколько мог серьезно, произнес:
— Честное слово. Я готов написать этот роман. Честное слово.
— Ну вот и славно, — искренне обрадовался Стив, — теперь идите. А то уже регистрация заканчивается.
Я протянул ему руку. Мы расставались друзьями, я сам удивлялся тому, как это получилось, но Чиньо решил все испортить. Он догнал меня у самого паспортного контроля.
— О Боже, которого нет! — несколько странно воскликнул он. — Чуть не забыл.
Хитрец! Разве такие люди что-нибудь забывают?
— Возьмите еще вот это.
Маленький желтый конверт. Не заклеенный. И в нем — ну да, фотография, обгоревшая с двух углов. Слишком хорошо знакомая мне фотография.
— Что это? — глупо спросил я.
— Ее нашли на месте взрыва в Гамбурге. А Верба просила передать лично вам. Просто потому, что это именно ваша фотография.
— В каком смысле? — обалдел я.
— Вам виднее, — Чиньо пожал плечами…
…И все. Затерялся в толпе.
А с обгорелого фото мне улыбалась запредельно эротичная рыжая бестия Светлана Петрова, с которой я даже не был знаком, но, черт возьми, уже вхлопался из-за нее в какую-то зловещую историю.
Ну совершенно не нужна она мне сегодня, ну никаким боком не нужна! Господи! И при чем здесь Чиньо? При чем здесь Эльф? При чем здесь Верба, наконец? Что они придумывают? Ну ладно бы Татьяна хоть свою фотографию присылала, а то какой-то мистический гибрид всех моих женщин. А ведь именно так я и воспринял впервые этот загадочный и прекрасный образ, из-за которого почему-то сходили с ума те двое, спаленные в адском пламени гамбургского взрыва….
И все-таки я позвонил Вербе. Злой как черт.
— Татьяна, что за хреновину ты мне прислала?! — я орал по-английски и в оригинале оно звучало куда грубее.
— Остынь, дорогой, — проворковала Верба. — Ты не потерял папку с делами обитателей Покровского бульвара? Вот и вложи картинку в нее. Верни на место. Какого черта, спрашивается, ты дарил фотографию Рыжиковой Дитмару Линдеманну? Прозаик, ты сам все запутал. А получилось в итоге очень смешное совпадение. Эта Светлана как две капли воды похожа на Нику, жену Линевича и любовницу Эльфа. Понимаешь? Сходство точнее, чем у тебя с Малиным.
— Милое сравненьице, — проворчал я, — не многовато ли двойников на один квадратный километр?
— Мне тоже кажется, что многовато, а Кедр уверяет, что все нормально.
— Передавай ему привет, — буркнул я уже относительно мирно.
И тут меня поторопили. Оказывается, я задерживал всю очередь на паспортном контроле.
— Проходите, гражданин.
— Oh, excuse me, please!*
И я шагнул вперед столь торопливо, что споткнулся о чью-то сумку и едва не упал.
Когда мы переступили порог квартиры, где теперь предстояло жить долго и счастливо, я сразу спросил:
— Ну и как тебе, нравится?
— По-моему, здорово, — откликнулась Белка. — Потолки высоченные, роскошная полукруглая стена — ну прямо зала для танцев, вообще воздуха в доме много и света. А холл, ты посмотри, какой холл просторный!
— Это ты мне рассказываешь? Я тут жил, — улыбнулся я. — Или это был не я?
— Это был не ты, — охотно согласилась Белка. — Это был Малин со своей Вербой. — И неожиданно спросила: — А ты больше не будешь мне изменять?
— Не буду, — шепнул я. — Никогда не буду тебе изменять. Я люблю тебя, Бельчонок!
Обнял, прижал к груди, задохнулся от нежности, но уже в следующую секунду внезапно ощутил дискомфорт. Зачем она так прямо спросила? Зачем я так наивно и бессовестно ответил? Ведь это же ложь. По определению. Да, у нас настоящая любовь, проверенная временем, обоюдными изменами, страданиями и даже пережитым ею кошмаром моей мнимой смерти. Но… никогда не говори «никогда». По-английски это звучит эффектнее. Кажется, какой-то из фильмов про Джеймса Бонда так и назывался: «Never say never». Это золотой принцип, его следует исповедовать каждому, даже совсем молодым людям, а уж таким, как мы, опытным бойцам любовного фронта, — и подавно. У меня были строки, посвященные Белке пятнадцать лет назад:
Весьма удачное стихотворение. Там еще был эпиграф из «По ком звонит колокол» Хэма, насчет того, что нельзя одновременно любить и стрелять из пулемета. Но, конечно, я лукавил, точнее, намеренно закладывал в первую строчку двусмысленность: нет, не о пулемете и не о пишущей машинке шла речь — просто о реальном взгляде на жизнь. Вот так на заре наших отношений я сумел схватить самую суть будущей долгой и счастливой совместной жизни. Ну и зачем же теперь потянуло на слюнявую романтику? Осталось только выдохнуть горячо о том, что любовь сильнее смерти, подкрепить это оригинальное утверждение строчками пронзительной средневековой лирики, скажем, из Марии Французской или Бернара де Вентадорна и — все…, можно спокойно ехать покупать мебель.
Я удержался от продолжения. От самоиздевки вслух тоже, впрочем, удержался и переключил разговор на другую тему:
— Мне кажется, я вернулся в Москву для того, чтобы снова начать писать. Не по-английски и не о политике. Я хочу сочинять простые хорошие книжки о простых и хороших людях.
— И все равно это будет фантастика, — подколола Белка. — Ты ничего другого не умеешь.
— Ну, если действительно писать о хороших людях, то это и вправду будет фантастика, — улыбнулся я грустно.
— Фу, каким ты стал пессимистом. А у меня просто отличное настроение!
К моменту этого разговора Белка еще ничего не знала о пресловутом дневнике Давида Маревича, а я так сразу подумал: «Маревич был хорошим человеком, да, хорошим, но совсем не простым. Зачем я обманываю себя?» И еще подумал: «А можно ли будущий роман назвать фантастическим?» Но ничего этого я не сказал вслух, не хотелось портить отличное настроение. И просто спросил:
— Ты веришь, что я напишу удачную книгу?
— Конечно, верю, — улыбнулась моя славная Белка. — У тебя все книги удачные, особенно те, которые написаны дома. Ты посмотри, посмотри вокруг как тут здорово! Мне ужасно нравится в этой квартире, в этом районе…
— …в этом городе, в этой стране, на этой планете, в этой Га…
— Перестань, Мишка, скажи лучше, сколько понадобится времени, чтобы перебраться из отеля в наше новое уютное гнездышко?
Я призадумался:
— Недели, думаю, хватит. Ремонт уже сделали. Вопрос только в обстановке и прочих мелочах.
— А знаешь, что меня радует здесь больше всего?
— Вид из окна, — предположил я.
— Почти угадал. Меня радует этот переулок, и уютные дворики, и окрестные бульвары. Здесь чудесное тихое место, почти как у нас, на Бронной. А кстати, почему мы не вернулись туда? Твой Горбовский не мог организовать возврат нашей старой квартиры?
— Горбовский мог все, но так было надо, — пояснил я с нажимом на последнее слово и не удержался от горькой усмешки: — Да уж, тихое место…
Белка словно не услыхала иронии, и я пояснил:
— Первая граната разорвалась в этой квартире весной девяносто второго. А уже более серьезная бомба — в декабре девяносто пятого, за минуту до того, как мы встретились с тобой в бэтээре после четырехмесячной разлуки. Помнишь?
— Помню, — кивнула Белка, хмурясь. — Зачем ты сейчас ворошишь тот давний кошмар? Я же все равно не видела тогда ни дома, ни даже переулка. Я все это помню только с чужих слов. Да, в этой квартире творилось черт знает что, но это было давно, в какой-то совсем другой жизни. Ведь правда?
— Правда, — я согласился. — Только уютное гнездышко еще раз взлетало на воздух спустя два года.
— Что ты хочешь сказать? — Белка совсем помрачнела. — Что эта квартира будет вечно взрываться? Она кем-то проклята?
— Нет, — ответил я совершенно серьезно. — Как раз наоборот. Наша уютная норка в старинном Лушином переулке исчерпала лимит чудовищных несчастий и теперь станет обителью тихих радостей и творческих взлетов. Я это знаю наверняка.
Господи! И что же меня так тянуло на торжественные клятвы и обещания? Словно я так и норовил сглазить. Накликать беду. Нарваться на крупные неприятности….
Очередную возникшую в разговоре паузу нарушила теперь уже Белка еще одним резким поворотом темы:
— Слушай. Давай возьмем собаку! У меня так давно не было собаки!
«Приехали, — подумал я. — Неужели вездесущий Стив успел окучить и Белку? Да нет, случайное совпадение. Нельзя сейчас спрашивать об этом. Нельзя…».
Услышав советы Чиньо там, в Киеве, я сразу поклялся сделать все наоборот, и вот теперь понял, что не удастся. Моя любимая жена действительно хотела завести собаку, и отказать ей в этом было бы просто жестоко. Да и вообще глупо.
— Бордосского дога, — откликнулся я, не слишком затягивая паузу.
— Нет, — возразила Белка решительно. — Я знаю, что ты всю жизнь мечтаешь о псине размером с лошадь, но такое животное не для города. Где ему тут бегать? Нет, нет, собака должна быть средних размеров, с универсальными характеристиками, то есть никаких крайностей. Ты же знаешь, я люблю не догов и не мопсов, а самых собаческих собак.
— Дворняжек, что ли?
— В том числе, но необязательно. Просто должна быть длинная морда, нормальные уши и полноценный хвост. Например, далматин.
— У Тимофея Редькина был далматин, — вспомнилось мне.
— Кто такой Редькин? — спросила Белка.
— Предыдущий владелец этой квартиры. Нет, далматина брать нельзя, — я решительно подвел черту. — Это значило бы искушать судьбу.
Теперь уже Белка криво ухмыльнулась:
— Все вы сумасшедшие в этой вашей службе ИКС. С Редькиным что-то случилось? Ты был знаком с ним?
— Шапочно, — кивнул я. — Ты его тоже видела, хоть и говоришь, что решительно ничего не помнишь. А случилось с нашим Тимофеем много всякого. Только, знаешь, Бельчонок, это слишком, слишком серьезная история. Давай как-нибудь в другой раз. Сейчас не хочется.
— Не хочешь — не рассказывай, — пожала плечами Белка. — Давай покурим и поедем.
— Давай.
Я закурил еще одну сигарету и отправился путешествовать по квартире, изучая каждый ее уголок внимательно, как сотрудник секьюрити, готовящий встречу важных людей. А Белка пошла в другую сторону и разглядывала что-то свое.
Встретились мы вновь на гулкой от отсутствия мебели кухне, и выяснилось, что Белка так и размышляла все это время о собаках.
— Я придумала, — сказала она, — давай возьмем лабрадора. Прекрасная многопрофильная и очень устойчивая порода. И обязательно сучку. У меня всегда коты — мальчики, а собаки — девочки.
— Отличная мысль, — согласился я.
На самом деле мне было все равно, и, чтобы Белка не заметила этого безразличия, я тут же спросил:
— А кличку-то какую дадим?
— Капа, — мгновенно ответила Белка, словно уже давно, перебрав все мыслимые имена, остановилась именно на этом.
— Капа — это такой загубник у боксеров, в сечении напоминает одноименную греческую букву.
— Нет, — возразила Белка. — Капа — это сокращение от Капитолины.
— Ну, если так, тогда я согласен. Капитолийский холм, «Капитал» Маркса, капремонт…. В общем, капитальная собака для солидных людей с капиталом.
Меня, признаться, искренне радовало, что Белка думает о зверях, а не о взрывах и страшных тайнах. Какая разница — заводить бордосского дога или левретку, девочку или мальчика? Назвать собаку Капой или Шляпой? О чем она говорит, Господи? Да заводи ты хоть старого крокодила по кличке Гроб!
«Все будет хорошо, милая», — бормотал я мысленно.
«Все будет хорошо», — убеждал я уже не столько ее, сколько себя.
Меж тем тоненькое, еле слышное, но гадостное предчувствие, словно комариный писк, зудело где-то глубоко-глубоко на самом донышке моей израненной души. Руки туда не дотягивались, и нечем было прихлопнуть мелкое и вредное насекомое. И это сильно мешало нашей общей радости. Отчаянно мешало.
А роман я начал писать в первую же неделю, еще до переезда, сидя ночами в шикарном номере «Балчуга-Кемпинского», любуясь в солнечные дни кремлевскими башенками и луковками, провожая глазами лениво плывущие по не замерзшей еще Москве-реке грязные льдины. Я писал книгу быстро, яростно, жадно. Нет, не только потому, что на родине и впрямь работается лучше. Были и другие причины. Посерьезнее. Я ведь не утерпел тогда, еще перед выходом на посадку папочку Стива раскрыл и заглянул в первую страницу рукописи…. А как заглянул, так и читал, не отрываясь, до самой Москвы. Страничек там было не менее двухсот довольно плотного текста, но я не только успел дочитать до конца, я успел за каких-то полтора часа — …как бы это поточнее сформулировать?.. Я успел придумать весь роман, который хочу написать. И я действительно уже хотел писать его, я уже знал, что просто не смогу не написать.
Тут вот какое дело, братцы. Еще не добравшись до последней страницы, на которой Давид описывал собственную смерть (уже хорошо, правда?), я с абсолютной ясностью осознал: никакой это не Маревич пишет, а я, лично я, Миша Разгонов, все это и придумал, только давно-давно, возможно, в прошлой жизни, и успел уже подзабыть, а вот теперь вспомнил, причем вспомнил намного больше того, что вмещала в себя рукопись, и пока снова не потерял из памяти, мне просто необходимо было все это записать….
Ну, я и записал, потратив на работу добрых полгода. Скажете, это много? Да я в жизни своей так быстро романов не писал, тем более что получилось вроде недурственно, основательно, добротно, самому понравилось.
Спросите, занимался ли я чем-нибудь еще в эти полгода? Конечно занимался. И непременно обо всем расскажу. Только попозже. А пока запомните меня в воздухе над взлетно-посадочной полосой аэропорта «Внуково», даже роскошную квартиру в Лушином переулке не надо пока представлять, считайте, что я туда еще не доехал. И познакомьтесь-ка для начала с тем, что получилось в итоге из дневников Давида Маревича.
Часть первая. КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ
(Из дневников Давида Маревича)
— Какая глупость, — сказал он. — Все, что от тебя требуется, это вынуть щеколду из тела, когда умрешь. Черт возьми, каждый делал это тысячи и тысячи раз. А то, что они этого не помнят, вовсе не означает, что они этого не делали. Какая глупость.
Джером Дэвид Сэлинджер. «Тедди»
Глава первая. ВЕРТЕП С БОГИНЕЙ
Отец Давида — Юрий Геннадиевич Маревич не был сантехником, но алкоголиком был. И Давид чувствовал себя страшно далеким от мира своих прежних одноклассников из соседних цековских и совминовских домов. Юрий Геннадиевич, историк по образованию, преподавал в школе, потом работал в издательстве, потом начались диссидентские дела, вызовы в КГБ, упрямство, закончившееся судом и ссылкой за тунеядство. Отмотав срок, отец еще пять лет жил на «сто первом километре», под Каширой. И только в семьдесят шестом, когда Давид уже заканчивал школу, ему удалось вернуться в Москву. К этому времени отец сделался совсем другим: молчаливым, дерганым, нелюдимым. И не пил. Никогда, ни грамма. Однажды только сорвался, и Давид понял: отец теперь пьет по-другому.
Ушел в запой дней на десять, и мать едва не выгнала его из дома. Но тут как раз свершилось чудо: Давида приняли в университет, все как-то разом нормализовалось, отец нашел работу в отделе писем какого-то полунаучного журнала, а матери — она была тогда секретаршей у начальника райсобеса прибавили зарплату в родной конторе. И три с небольшим года все катилось ни шатко ни валко с видимым благополучием, пока не наступил восьмидесятый год. В ту новогоднюю ночь отец сказал, что не может не выпить после ввода наших войск в Афганистан. Выпил. И больше не трезвел уже никогда. Умер он в самом конце восемьдесят третьего в больнице.
А за три месяца до того, в ночь с двадцать девятого на тридцатое сентября, случилось событие, значимость которого на тот момент мог оценить только сам Давид, да и то — разве он понял, что произошло на самом деле? Он только почувствовал: свершилось нечто, выходящее за рамки его персональной ответственности, его личных интересов, его внутреннего мира…
Все получилось очень нескладно. После первого захода в парилку даже еще не сделали по глотку, а только открыли одну бутылку пива, когда в замк…EEеi с шумом повернулся ключ и, бешено сверкая глазами, перед ними возник Витькин старший брат. Кричать он не стал, просто подозвал к себе Витьку, и было слышно, как старший с тихой яростью выговаривал младшему, что это все-таки восстановительный центр, а не римские бани, что пиво и сигареты здесь совершенно недопустимы, что девять человек для четырехместной сауны — многовато, что спасибо еще баб с собой не привели и что, в конце-то концов, он ему не первый раз все это говорит. Витька стоял, понуро опустив голову, и переминался с ноги на ногу, а остальные, поняв, что сеанс окончен, стали потихонечку вытираться, одеваться и укладываться.
Витька догнал их уже во дворе, когда вовсю дискутировался вопрос, куда теперь пойти и чем заняться. Аркадий предложил совершенно дикий вариант: махнуть к нему на дачу. Он крутил на пальце ключи от отцовской «Волги» и уверял, что шесть, а может, и семь человек в нее впихнется. Но столько желающих не набиралось, потому что был четверг, а не суббота. Мишель сказал, что у него в квартире хоть и восемь комнат, а такую ораву он все равно позвать не может, дескать, их даже вахтер в подъезд не пустит. Навалились на Владика. У того как раз предки во Франции были, но Владик быстро отбрехался: оказалось, сеструха Клепа сегодня день рождения отмечает, а у него с Клеопатрой договор о невмешательстве в дела друг друга. Рестораны и кафе исключались сразу — с наличностью оказалось неважно, — и народ совсем уж было загрустил, когда чувствовавший себя виноватым Витька пригласил всех к себе в гараж. Идея принята была на ура, и еще успели до закрытия в магазин «Вино. Фрукты», где прикупили пару вермута и пяток «арбатского». А пива с собой было много. Давиду почему-то совсем не хотелось мешать его с вином, и словно буриданов осел он мучился проблемой, на каком из напитков остановить свой выбор.
В гараже оказалось тепло и уютно. Стоваттная лампочка освещала чистые стены, бетонный пол и блестящего «жигуленка». Нашлась скамейка, пара стульев и табуретка, а двое сели в машину, открыв с одной стороны дверцы. Стаканов на всех не хватило. Пили по очереди, как старые друзья. Но вообще-то Давид чувствовал себя чужим в этой компании. Только Витька и Аркадий учились вместе с ним в школе. Остальных он узнал позже, и знакомство с ними было шапочным. Некоторых вообще видел впервые и даже не успел запомнить имен. Признаться, и со школьными своими товарищами встречался он теперь редко. Давид был очень чужим в этой компании. Лишь общие стаканы и объединяли его с ними. Может, поэтому вдруг захотелось стать пьяным. Чтобы все на свете сделалось проще и радостнее. А ведь на самом-то деле — к чему обманывать себя? — Давид радовался возможности иногда общаться именно с одноклассниками, такими не похожими на него. Когда он слушал их рассказы о жизни, совсем другой, далекой, незнакомой, манящей и отталкивающей одновременно, возникало странное сладковатое, тревожно-тоскливое чувство — нет, не зависти, а скорее удивления и растерянности, чувство прикосновения к запретному, словно в двенадцать лет попал на фильм для взрослых или подсматриваешь в чужое окошко. А ребята рассказывали свои истории небрежно, просто, не подозревая об их тайном (для Давида) смысле, рассказывали, чтобы вместе посмеяться и тут же забыть. Ведь по большей части это были всякие веселые байки с изрядной долей вымысла. Никто не обижался, если говорили прямо: «Ну, это ты брешешь!» Или: «Все, что рассказывает Владик, — дели на восемь».
Выпив вермут и перейдя на «арбатское», компания слушала Аркадия, который долго и бездарно, в основном весело хихикая сам, рассказывал о пришедшем к нему однажды телемастере, тоже, очевидно, пьяном и оттого навязчиво требовавшем у хозяина некую особенную отвертку, каковая, будучи найдена, в итоге не понадобилась. Собственно, в этом и заключался весь юмор. Ужасно смешно. И компания совсем уж было начала скисать, когда в оставленной Давидом широкой щели незакрытых дверей гаража появилась фигура Сереги Мавританова — Мавра. Он зашел наудачу, не обнаружив друзей по домам. При себе он имел литровую бутыль шикарного испанского бренди «Сото» и встречен был ликующими воплями. Компания резко поделилась на две почти равные части: четверо, отказавшись или почти отказавшись устраивать дикий коктейль, разбежались по домам, ссылаясь на дела и самочувствие, а пятеро плюс шестой — Мавр с энтузиазмом взялись за уничтожение крепкого напитка, который благодаря качественному коньячному спирту основы и тонкому изысканному букету легко проскакивал без закуски. И когда бренди почти не осталось, Витька, предусмотрительно пивший немного, предложил:
— Вот что, мужики, по-моему, вариант, предложенный Аркашей, назрел.
— В смысле? — не понял Гоша, уже давно забывший, о чем шла речь.
— В смысле махнуть к нему на дачу, — пояснил Витька. — По дороге завернем на мою, а у меня там два литровых пузыря водки «Абсолют».
— А телки? — спросил Мишель, всегда остро озабоченный сексуально, независимо от количества выпитого.
— Ты че, давно в Барвихе не был? Там с девочками не проблема, — со знанием дела заявил Гоша.
«Волгу» Аркашкиного отца решили не трогать — Витька предоставил свои «Жигули» из соображений удобства и вообще.
Неожиданно возникло осложнение. Стартер отчаянно крутился, грозя посадить аккумулятор, а двигатель даже не чихал.
— Погоди, урод, не крути, — сказал Аркадий. — Дай подумать, что это может быть.
Задумались все. Давид задумался тоже и внезапно почувствовал, что нет ничего важнее на свете, чем здесь и сейчас завести эту машину. Он никогда не был водителем и даже не изучал устройство автомобиля — так, где-то что-то слышал на уровне среднеэрудированного человека. А сейчас вдруг увидел свечи. Он четко представил себе их конструкцию, место расположения, и ему ужасно не понравились покрытые копотью, совершенно черные и словно жирные от масла контакты.
— Витька, — проговорил он незнакомым самому себе голосом, — у тебя, наверно, свечи забросало.
Витька вздрогнул, потому что был трезвее других. Спросил удивленно:
— А ты откуда знаешь? Вообще, очень может быть. Вчера холодно было, я прогревался долго, а потом забыл подсос выключить, так весь день и ездил.
— Ну ты и козел, — ласково пожурил Аркадий, которого уже начало развозить. — Значит, ща вывинтим и будем прокаливать, это же как два пальца…
— Ну тогда мы никуда не поедем, — заныл Мишель. — Фигня это все. Я пошел домой.
— Спокойно, ребята, — проговорил Давид все тем же замогильным голосом. — Не надо ничего вывинчивать, я их так почищу. Помолчите минутку.
Он еще раз представил себе эти аспидно черные контакты, мысленно надвинулся на них глазами и несколько раз с усилием моргнул. Веки его отяжелели, ресницы, казалось, загнулись внутрь и глаза отчаянно защипало. Но он уже видел, что дело сделано. Контакты заблестели праздничной чистотой надраенного металла. Давид крепко зажмурился, инстинктивно потер глаза кулаками. Потом отнял руки и с ужасом обнаружил полоски черной сажи на первых фалангах обоих указательных пальцев.
— Все? — спросил Витька полуиронично-полуиспуганно.
— Все, — сказал Давид. — Заводи.
Общее оцепенение прошло, но тишина сохранялась: все пятеро ждали, и каждый готовился выдать какую-нибудь плоскую остроту типа: «Факир был пьян…».
Но фокус удался. Машина завелась, что называется, с полтычка. Все радостно загалдели и полезли внутрь, не выказывая особого удивления. Чего не бывает в жизни!
— Да ты у нас медиум, Дейв! — гоготал Аркадий, приобняв Давида.
А Гоша заметил:
— Деточка, все мы немножко медиумы. Особенно когда дадут стакан. Вот сейчас еще пузырь раздавим, и я начну глазами машины тормозить.
— Ты лучше пару клевых телок тормозни, — посоветовал Мишель.
А у поста ГАИ на Рублевке чуть было все не сорвалось. Длинный худощавый инспектор в белоснежных крагах взмахнул полосатым жезлом, и Витька, естественно, остановился. Других машин поблизости видно не было, и косить под дурачка, мол, товарищ милиционер, я думал, это не мне, не представлялось возможным. Восемьдесят километров в час на правительственном шоссе превышением скорости обычно не считается, да и шесть человек в «Жигулях», в общем, ерунда, но придраться, конечно, могут к любому — такова селява — и пятерку на штраф друзья бы все вместе безусловно нашли. Беда была в другом: даже от Витьки, который вполне уверенно держал руль, пахло за версту.
— Ну что, ребята, — спросил Витька мрачно, — кто самый трезвый? Кто вместе со мной пойдет разбираться?
— Трезвых поищи в другом месте, — ответствовал Гоша. — А здесь нужен тот, кто отбрехаться сумеет. Посмотрите, мужики, у кого хотя бы паспорт с собой, чтобы щегольнуть фамилией. Постовой-то местный, не может наших предков не знать.
Все призадумались. Однако Мишель, портрет дедушки которого в числе четырнадцати высших лиц государства трудящиеся носили на демонстрациях по всем праздникам, не имел при себе даже студенческого билета. Витькин папа из ВЦСПС и отец Мавра — скромный союзный министр — для гаишника вряд ли высоко котировались. Гошины родители работали в МИДе, но, похоже, были теми еще дипломатами, а значит, фамилии их вообще глубоко законспирированы, так что наличие Гошиных документов рояли не играло. Некоторая надежда оставалась на Аркадия — фамилию одного из самых главных генералов МВД милиционер должен был помнить. Но уж больно пьян был сам Аркадий, а к тому же вместо мидовского пропуска любил он таскать с собой гэбэшную ксиву, то есть курсантский билет Высшей школы КГБ, а это не совсем те корочки, которые надо показывать ГАИ…
— Знаю я здешних ментов, — процедил Витька. — Бывает, на такого нарвешься, ни деньги, ни фамилия не помогут, им бы только дырку тебе проколоть и протокол составить. Тут один с Иркой Андроповой ехал, так все равно штрафанули и права отобрали.
— Брехня, — вяло откликнулся Гоша.
— Не брехня, — возразил Мишель, — просто менты Андропова не любят с давних пор…
И пока они трепались, так и не решив, кому выходить на встречу со стражем порядка, тот подошел сам, вплотную подошел, нагнулся к Витьке и козырнул. Витька приоткрыл окошко наполовину и, не поворачивая головы, чтобы не дай Бог не дыхнуть гаишнику в лицо, протянул документы. Смешно это было: запах в машине стоял такой, словно бутылку водки, бутылку вина и пару пива равномерно разлили по всем сиденьям и по полу. Инспектор потянул носом воздух и уже приготовился что-то сказать, на ходу меняя тему своего выступления, но…
Давид, сидевший на заднем сиденье слева, успел открыть окно полностью, высунуться и окликнуть:
— Товарищ капитан!
Погоны он в темноте разглядел плохо, но какая разница, главное, чтобы оглянулся, главное — поймать глаза, а дальше… ему секунды хватит.
— Товарищ капитан, я — майор Мелентьев, начальник опергруппы Шестого управления МВД. (Что за чушь?! Почему шестого? Да и есть ли такое? Но «товарищ капитан» с лейтенантскими погонами — теперь он разглядел их смотрит только на Давида и очень внимательно слушает.) У нас — спецзадание. Машина с частным номером — это конспирация. И запах алкоголя для камуфляжа. Очень важное спецзадание, товарищ капитан. Промедление в выступлении смерти подобно. (Ну, это уж он лишнее сморозил, это кажется, из Ильича. Но товарищ капитан проглотил — смотрит, слушает.)
Только не отпускать глаза, только не отпускать!
Инспектор медленно поворачивается, кося по-прежнему на Давида, возвращает документы Витьке, еще раз козыряет, опускает руку с жезлом, и все это молча и как-то нехотя, словно во сне. Наконец инспектор отводит взгляд, и Давид шепчет Витьке:
— Газуй, газуй быстро!
— Что ты ему сказал? — проснулся Аркадий.
На улице ветер. Никто ничего толком не слышал.
— Да так, — замялся Давид, — объяснил, что мы не очень простые люди.
— Дейв у нас медиум, загипнотизировал товарища, — улыбнулся Гоша, оборачиваясь с переднего сиденья.
Хорошо ему там, у него ноги длинные — вот почему Гошу пустили вперед. А Мавр, маленький, худенький, зажатый посередине, почти сползший на пол, заворчал:
— А на кой хрен его гипнотизировать? Менты — они же тупые. Помнишь анекдот, как милиционер проверяет, есть ли спички в коробке?
— Или этот, — оживился Мишель. — Встречаются два мента…
— Да пошли вы!.. — обиделся Аркадий — все-таки из семьи милицейского генерала, но обиделся беззлобно, напоказ, настроение-то у всех хорошее было, от души отлегло.
Только Витька молчал, он слышал лучше всех, от первого до последнего слова, какую лапшу вешал Давид на уши инспектору. И машину он водить начал раньше всех, а потому и понял: такого просто не могло быть. Впрочем, Дейв еще в школе слыл завзятым прикольщиком, любил всякие фокусы, розыгрыши, кажется, и гипнозом увлекался, какую-то старинную книжку по технике внушения приносил — это точно. А теперь… они давненько не виделись, мало ли что он освоил параллельно за годы своей учебы на экономическом. В экстрасенсов всяких Витька особо не верил, но и прожженным скептиком себя не считал. Поэтому теперь он ни о чем не спросил Давида — просто вел себе машину и ждал дальнейших неприятностей. Да, да, именно неприятностей. Вот сейчас гаишник оклемается и кинется звонить на следующий пост. Обязательно позвонит. И тогда такое начнется! Страшно подумать. Оказание сопротивления должностному лицу при исполнении служебных… Не дай Бог! А отец спросит: «Ну и зачем ты брал с собой этого парня? Мало ли что в школе учились! Я тебе говорю: у тебя должен быть свой круг общения. Вечно какие-то электрики и шоферы в доме болтаются. Ты еще женись на уборщице! Влип? Сам виноват». Так оно все и будет, думал Витька.
Но пост у развилки проехали без проблем. И дальше — тоже, до самой дачи. А поганое чувство все не отпускало. И пока в гараж забегал за бутылками, и пока здорового черного терьера Бима, выбежавшего из темноты, трепал по голове и холке, мельком поглядывая на светящиеся окна второго этажа, где бабка с дедом, наверно, как раз садились чай пить. Не отпускало тоскливое тянущее чувство: как-то все неправильно, не так, не так. Поэтому одну бутылку открыл прямо на ходу, с треском разрывая фирменную пленку, натянутую поверх алюминиевой пробки, и глотнул жадно прямо из горлышка.
— Вот, мужики, одна неполная была, — доложил, возвращаясь, в машину.
А мужикам уже было все равно. Загудели, заокали,
о-о! — зашелестели, потирая от нетерпения руки.
— Ну, тебя только за смертью посылать, — не избежал дежурной шутки Мишель, и все загоготали, вспоминая анекдот.
Аркадий, увидев роскошную водку, проснулся окончательно и начал шарить по карманам, звеня ключами и выбирая нужные.
Выпили.
А вот Давид выглядел плохо. Бледен был и смотрел в одну точку.
— Дейв, ты чего? — спросил Витька, снова ощущая тоску. — Водки тяпнешь?
Давид встрепенулся, как разбуженный, смешно похлопал ресницами.
— Не люблю из горла. И потом, закусить нечем.
— Это «Абсолют-цитрон», ее даже запивать необязательно. Вот тебе стаканчик. Хлопни.
Давид выпил. Водка была и впрямь удивительная. Лимонный ликер какой-то, а не водка. Подумать только, что гады-буржуи делают!
Сели, тронулись дальше. Ехать осталось минут пять. Так сказал Аркадий. Но ехали они существенно дольше. Заплутали, что ли? Или это все уже смешалось в голове у Давида? Кажется, они еще раз выпили без закуски, когда выходили из машины. А потом опять куда-то поехали. Нет, потом они уже никуда не ехали — сидели в мягких креслах в очень теплой просторной комнате, звучала музыка, свет был приглушенный, а еще — много цветов в горшках и камин, и девушки какие-то танцуют, а он сидит полулежа с бокалом чего-то ароматного в руке, и ему хорошо-хорошо, так хорошо, что хочется заснуть, но стоит закрыть глаза, и он опять оказывается в «Жигулях», на темном петляющем через лес узком шоссе. Окошко раскрыто полностью, ветер свистит, хотя скорость черепашья, вкрадчивая такая скорость — километров пятьдесят, ведь повороты резкие, и темень хоть глаз коли, и после остановки у ГАИ перепуганный Витька осторожничает.
Как же так это все получилось? Как же так?
Давид знал, что иногда ему удается то, чего не могут другие. Случаи были редкими, очень редкими. Он коллекционировал их, вспоминал, пытался сопоставлять и анализировать. Но никогда раньше он не умел управлять своими экстраординарными способностями. Сегодня получилось. Почему? Неужели теперь он станет настоящим экстрасенсом? А что — деньги начнет зарабатывать. Какие, к черту, деньги, дурак?! Посадят тебя в закрытый институт и будут исследовать под микроскопом. Впрочем, он ведь станет сопротивляться, убегать. Так что никто особо не разгуляется — прихлопнут его, и все дела. Грустно.
Он вдруг с удивительной ясностью вспомнил самый первый из тех невероятных случаев.
Август. Скоро в третий класс. Считанные дни до школы. Почти все уже приехали с дач. Во дворе шумная веселая компания. Но сейчас мальчишки разошлись обедать, а его мама еще не позвала, он вдруг остался один.
Старый московский дворик, отделенный от улицы чугунной решеткой забора, небольшим флигелем с мезонином и воротами, давно не закрываемыми на замок по причине отсутствия штатного дворника. Как здорово было кататься на этих скрипучих воротах, где между вертикальными прутьями словно специально для детских рук и ног приварены были небольшие перекладинки. Между флигелем и глухой стеной соседнего дома заботливыми руками давних жильцов разбит был садик с цветочными клумбами, кустами сирени и жасмина, с детской песочницей и неизменной двухпудовой качалкой из цельнотянутых стальных труб. А в центре садика под сенью роскошного раздвоенного ясеня, служившего в зависимости от обстоятельств царским троном, лошадью, креслом пилота и чем угодно еще, возвышалась странная неизвестного назначения постройка оштукатуренный и давно не крашенный кирпичный куб с ребром метра в полтора и с двумя заколоченными окошками. Именовался он в народе Колодцем, ибо доски от окошек вопреки стараниям местного жэка перманентно отдирали великовозрастные шалопаи, и только совсем-совсем нелюбопытные люди из окрестных домов могли не знать, что обшарпанный кубик — это лишь верхушка айсберга. Вниз под землю на страшную, по детским понятиям, глубину (а на самом деле, должно быть, метров на пять-шесть) уходила шахта с ржавыми скобами по стенам, и на дне Колодца имелась тяжеленная бункерного типа железная дверь, до середины своей скромной высоты заваленная всяческим мусором и словно на века замершая в чуть приоткрытом состоянии. Сквозь узкую щель, оставленную кем-то в безумно далекие времена, сквозил холодный и жуткий мрак, не побеждаемый никакими фонариками и самодельными факелами. О загадочном мире по ту сторону железной двери слагались легенды. По вечерам в сгущавшихся сумерках было принято рассказать какую-нибудь новую историю о мертвецах, сброшенных в Колодец и бесследно исчезнувших, или о гигантских разумных крысах, умеющих просачиваться в узкую щель приоткрытой двери. По вечерам — только рассказывать, а изучать Колодец возможно было исключительно при свете дня, улучив момент, когда вокруг нет взрослых и путь через окно открыт очередным добрым взломщиком. Собственно, уже для спуска на дно требовалось известное мужество, заглянуть в щель — это был следующий уровень сложности, а о том, чтобы разобрать мусор и попытаться открыть дверь, говорили конечно, но так, как говорят об экспедиции на Северный полюс: мечтали, строили планы, обсуждали варианты последствий это была дальняя, очень дальняя перспектива.
И вот в тот раз среди дня Додик вдруг оказался один во дворе. Один на один с Колодцем. Когда светило солнышко, Колодец становился совсем не страшным. Он бывал и дозорной башней, и капитанским мостиком на корабле, и фашистским дотом посреди поля, а зимой, навалив сугробы почти вровень с Колодцем, здесь играли в «царя горы». Страшный, не страшный, а что-то необычное было в Колодце всегда, древнюю тайну охранял он и днем и ночью. Он и склонившийся над ним старый ясень с раздвоенным стволом, с несколькими горизонтально протянувшимися ветвями — одна, огромная, шелестела прямо перед их окном на третьем этаже, а другая, поменьше, нависла над Колодцем совсем низко: кажется, чуть подпрыгнешь — и вот уже достал, зацепился, как за перекладину турника, и ветка прогнется, спружинит, и будешь качаться как обезьяна в джунглях, как Тарзан. Здорово! Но куда там — это только кажется, что допрыгнешь. На самом деле высоко. Однако с каждым годом он рос, а ветка (может, и вправду так было?) опускалась ниже. Позавчера, когда вернулся в Москву, залез на Колодец и почувствовал: теперь сможет. Допрыгнет. Точно. Зря он, что ли, в деревне столько тренировался в прыжках с обрыва и лазании по деревьям! Только при ребятах не хотелось: вдруг опозорится. А теперь момент настал. Пока никто не видит…
И было такое ощущение, что какая-то теплая волна поднялась из таинственного Колодца, подхватила его, поддержала, и в волшебно прекрасном полете, в миг почти сказочного парения в воздухе он легко, как гимнаст за брусья, ухватился за ветку ясеня, оказавшуюся где-то на уровне груди… Разве такое бывает? Или это сон? Как он смог?.. Ветка конечно прогнулась и конечно спружинила: вниз — вверх, вперед — назад, а крыша Колодца — вот она — очень близко под ногами, того и гляди чиркнешь, даже не надо спрыгивать, отпустил ветку, и все — уже стоишь. Отпустил. Зашумела листва, умчалась вверх.
— Ништяк! Зэконско! Забойно! — Все известные восторженные восклицания вырвались у него сразу.
И захотелось повторить. Он смотрел наверх, как покачивается растревоженная ветвь, ждал, пока она остановится, и рассеянно переступал ногами. Все. Пора. Еще один прыжок в небо.
Р-р-р-а-аз!.. И кто-то схватил его за ногу. Резкая, обжигающая боль в лодыжке. Полная потеря ориентации.
Он падал не то что не сгруппировавшись, он падал даже не вжав голову в плечи. Падал, как манекен из папье-маше, опрокидывался, оставаясь ногами на краю Колодца, потому что правая ступня попала случайно в строповочную ржавую петлю и зацепилась, застряла там и только теперь, уже сломанная (растянутая? вывихнутая?), высвобождалась. А головой он упал точно, прицельно — на торчащее осколками вверх бутылочное донышко.
После он осмотрел и это донышко, и кровь вокруг. После. А тогда…
Тогда его не стало. Он был действительно уверен, что умер. По-детски это совершенно нормально так считать. Для детства не существует понятия «смерть» в чистом виде. В голове ребенка оно просто не может оформиться логически. Смерть как идея распадается на три приемлемые для понимания составляющие: всепоглощающий страх или боль, которую невозможно вытерпеть; внешняя картина гибели, наблюдаемой со стороны в кино или в жизни; и, наконец, индивидуальное ощущение потери сознания. Три эти ипостаси никак не связываются друг с другом, и потому практически любой ребенок не то чтобы верит, не то чтобы знает, а просто чувствует, что он бессмертен.
Больно, очень больно, страшно, потом… ничего не помню… и снова все вернулось — значит, умер и воскрес. Ничего особенного. Так со всеми бывает, просто не все хотят и не все могут рассказать об этом. Потому что не все воскресают здесь. Вернее, почти все воскресают не здесь. Вот в чем дело. Так он решил для себя тогда, и все было абсолютно ясно.
Ему повезло. Он воскрес там же, где умер, только в другой позе: сидел, прислонившись к стенке Колодца, и кровь заливала глаза. А боли уже практически не было ни на макушке, ни в ноге. Только ужасный страх сжимал сердце. Поэтому он вскочил и понесся домой. Взлетел на третий этаж, позвонил в дверь. Мама открыла и всплеснула руками, теряя равновесие:
— Господи! Что случилось?
— Упал. Ударился, — коротко объяснил Додик и только после этого наконец расплакался.
— Быстро в ванную!
Мама сумела совладать с собой и выделить самое главное в тот момент. Вызов «скорой», слезы, обмороки, нравоучения — все потом, потом. А там, в ванной, бедная мама еще раз едва не лишилась чувств.
— В чем это ты перепачкался?! — страшным голосом спросила она.
— Где? — не понял Додик. — Где перепачкался?
От обиды, растерянности и страха он заплакал еще громче.
— Что это за красная гадость?! — кричала мама не своим голосом.
— Это кровь! Обыкновенная кровь!
— Чья кровь?! С кем ты играл?
— Ни с кем, я был один, это моя кровь!
— Зачем ты врешь мне?! Быстро раздевайся и полезай в ванну!
Она уже сама раздевала его, срывая заляпанную рубашку и треники странно дрожащими руками. Почему странно? От чего дрожащими? Он вдруг понял — от омерзения. Потому что один раз уже было такое, когда года два назад Додик притащил в квартиру дохлую кошку, притащил на плече, обнимая ручонками, прижимаясь к пушистому боку щекой, уверенный, что кисоньке еще можно помочь. Да, она уже не шевелится и не дышит, да, глазки закрыты, но ведь она, кажется, еще теплая…
С тем же остервенением, теми же нервно дрожащими руками намыливала тогда мама его лицо и голову, злорадно, не беспокоясь о попадающем в глаза мыле: сам виноват, са-а-ам, думать надо было, ду-у-умать, что делаешь. И он орал, потому что было жутко обидно, ведь он хотел как лучше, кошечку хотел спасти. А сейчас было еще обидней, потому что он вообще ни в чем не виноват. Упал, разбился насмерть, снова стал живым — радоваться надо!..
Отплакавшись, он сразу заснул, даже обедать не стал, а сквозь сон слышал, как пришел отец, и мама рассказывает ему о случившемся: «…плачет и ничего не может объяснить», «Если б ты видел этот ужас!», «Голова, лицо, рубашка — все в какой-то красной гадости!», «…действительно похожа на кровь…»
Красная гадость. Красная Гадость — это же совсем другое. Это — такое большое пятно на глухой стене соседнего дома, кровавое пятно, сделавшееся от времени темно-бордовым, почти черным.
Додику было лет шесть или семь, когда появилось это пятно. Рассказывали — теперь ему уж казалось, что он слышал сам, но он не был в этом уверен — рассказывали, что в ту ночь из их садика раздавались душераздирающие крики, никто не рискнул выйти во двор, вызывали милицию, но когда наряд приехал, никого уже не было, никого. А наутро на стене обнаружили большое красное пятно с длинными потеками, и жирные капли на концах застывших струек еще матово поблескивали. «Пьяные идиоты разбили банку с краской», — сказали взрослые. «Я знаю, это здесь ночью женщину убили. Головой об стену. Слышали, как она кричала?» — шепотом сообщил старший из мальчишек — татарчонок Федя. Кто был прав, осталось неясным. Только никакой разбитой банки, никаких осколков под стеной не лежало.
Еще много лет стену не штукатурили и не чистили, и жутковатое пятно, как произведение абстрактной живописи, украшало ее, делая местной достопримечательностью. А тогда уже дня через два дети рискнули приблизиться к страшному месту и даже отколупнуть немного Красной Гадости. Маленькие засохшие капли называли почему-то «сисечками». Были они еще мягкими и издавали непонятный запах — резкий, сладковатый и странно будоражащий. Запах засохшей крови? Возможно, но кто из них мог знать, как пахнет засохшая кровь? А вот краски с таким запахом Додик ни до, ни после не встречал нигде.
«Сисечкам» Красной Гадости находили разнообразное применение в играх: ими как страшными снарядами обстреливали солдатиков на вырытых под кустами позициях; их добавляли в зловещее варево колдунов; их собирали — кто больше — в маленькие алюминиевые коробочки из-под фотопленки и закапывали в тайниках; Красной Гадостью, как смертельным ядом, натирали боевые стрелы индейцев… В общем, при таком хищническом расходовании ресурсы Красной Гадости быстро иссякли: «сисечки» элементарно кончились, да и все пятно в целом засохло до окончательного затвердения и почернения. Кончилась Красная Гадость. Осталась легенда. А мама так небрежно произносила эти слова…
Потом он опять заснул, уже крепко. И видел странный сон. Он спускается в колодец, спускается бесконечно долго, все стены колодца залеплены Красной Гадостью, совсем свежей, собственно, даже не залеплены, а истекают ею, как березовый ствол истекает соком по весне. Запах стоит одуряющий. Кто сказал, что во сне нельзя почувствовать запах или вкус? Наконец он внизу. Железная дверь открыта настежь. Он шагает во мрак, легко шагает, без страха. И тотчас же падает, опрокидывается, зацепившись ногой за высокий порожек. И вот когда он переворачивается с ног на голову, когда получает возможность взглянуть на мир с изнанки, оказывается вдруг, что никакой там не мрак, это здесь, в реальности, мрак, и реальность осталась позади, а там (что значит «там»? что значит «здесь»?) яркое-яркое зеленое небо и ослепительно красивые скалы, розовые, как фламинго, как облака на восходе, как фруктовое мороженое за семь копеек. Жутко красиво. И чтобы все это описать, ему приходится произносить про себя очень много совершенно незнакомых слов, и вообще он рассуждает, как взрослый, может, он и есть уже взрослый, заглянул невзначай в собственное будущее — делов-то! И кто-то тихим вкрадчивым голосом подсказывает ему: «Никому не говори о том, что здесь увидел. Слышишь, ни-ко-му».
Все, на этом сон кончается. Нет, он не проснулся, просто кончился сон, как фильм в кинотеатре. Опять стало темно. И вроде надо выбираться наверх, да неохота. И тогда он понимает, что выбираться наверх на самом деле не надо, потому что это он не сейчас видит сон, это он его тогда у Колодца увидел, когда умер, а сейчас просто вспоминает. И Додик еще раз спокойно заснул.
А наутро он ничего не забыл, но и не рассказал ничего. Ничего. Никому. Он действительно в тот день проспал с обеда и до утра. Ни мать, ни отец не будили его. А потом не заставляли вспоминать. Кто-то подсказал им, что нельзя так грубо бороться с амнезией.
Спустя какое-то время водили Додика к психиатру. К знакомому, чтобы мальчик не боялся, чтобы не подумал чего. А он и не думал. Психиатр симпатичный оказался. Говорил с ним долго, об интересном, о всяком-разном. А под конец прямо при мальчике заявил родителям: «Не паникуйте. Совершенно здоровый ребенок. Обычные трудности роста — и больше ничего».
Но он-то помнил, что все было на самом деле: и ощущение полета, и бутылочное донышко, и кровь вокруг, его кровь, и резкая, непереносимая боль в лодыжке. И розовые скалы под зеленым небом.
Вот такие трудности роста.
Почему же теперь так остро и четко, до мельчайших деталей он вспомнил далекий случай из детства? Почему?
И еще…
Девушки все танцуют, они уже полураздетые. И танцуют они, курвы, не просто так. Профессионалки, что ли? Он опять закрывает глаза и опять оказывается в машине, ветер свистит, деревья мелькают, и он снова думает о прошлом.
…А вот еще был случай.
Подмосковный лес. Осенний романтический поход на втором курсе универа. Догорает костер. Они остались вдвоем: он и Наташка. Их оставили вдвоем. Он догадывается, для чего, а Наташка, кажется, нет. Точнее, не так: она просто не рассматривает его как возможного партнера. На недотрогу-то она мало похожа. Может, и не девушка уже. То есть наверняка не девушка. Но дело в другом: за Давидом закрепилась странная репутация чудака, которого секс вообще не волнует. Того, что он еще «мальчик», никто наверняка не знал, зато знали точно: с бабами он не спит. И сегодня Давид должен разрушить этот образ. Он решил, он знает как. А вот пробует, и не получается. Стандартные шутки, стандартные нежности — не работают. Но он должен. Возникает дикая решимость. На безумный поступок. Любой. Все равно какой. Теперь — все равно.
— Наташка, — говорит он, — хочешь фокус покажу?
— Покажи, — улыбается она, уже заинтригованная.
Он хватает из костра сочащуюся карминным светом головешку и зажимает в кулаке.
Наташкины глаза расширяются, она сейчас завизжит. Нет, не визжит, а глухо, хрипло:
— Дурак…
Он разжимает кулак — на ладони черный, совершенно холодный уголек. И никакого запаха паленого мяса.
— Не бойся, потрогай.
— Ух ты! А еще раз можешь?
— Могу!
И смог.
И все. И после — затяжной поцелуй, и его черная от сажи рука лезет к Наташке под штормовку, под ковбойку, под майку, а бюстгальтеров она не носит… Они катаются по траве, и он жарко шепчет:
— Я превращаю пламя костра в пламя своей безумной страсти, сейчас ты будешь вся гореть!..
Наташка и хихикает, и распаляется все сильнее, они катаются по осенней сухой траве, оставляя на ней все больше и больше становящихся ненужными курток, джинсов, маек, трусов, костер скрывается за кустом, да и погас он уже, ни черта не видно, полная тьма, но видеть ничего и не надо, надо только осязать, осязать, дикая, дикая страсть, неудержимая!..
— Я вся горю, я вся горю, — шепчет Наташка, захлебываясь в стонах, и он уже тоже едва сдерживается, закатывает глаза, кусает губы…
— Я вся горю-у-у!..
И чернота взрывается ярким карминным светом, и он расслабленно откидывается на спину, разбрасывая руки, и из разжатых кулаков выкатываются на траву два ярко сияющих уголька.
Наташка ничего этого не видит. Кажется, она вообще в отключке. Пахнет дымом. Пахнет горелой травой.
Это была первая женщина Давида. О любви между ними речи не шло. Какая, к черту, любовь! Просто важный этап в познании жизни. Для него. Вот так холодно и сухо — определил смысл случившегося.
К тому времени он уже научился понимать, когда это приходит. Как только в жизни наступал переломный момент, если от какой-нибудь мелочи зависела вся дальнейшая судьба, тогда и включались эти внутренние резервы. Сначала приходило осознание: сейчас, пора, «промедление в выступлении смерти подобно»! И он давал какой-то еле заметный сигнал своему другому «я», своему alter ego, и оно просыпалось и начинало действовать, и действовало уже независимо от его первого «я» — воли. И так случалось семь раз. Дважды он читал чужие мысли, один раз увидел сквозь бумагу номер экзаменационного билета, один раз выиграл в лотерею, не очень много, но как раз тогда до зарезу нужны были деньги, и, наконец, еще один раз разбросал взглядом превосходящего противника в темном переулке, быть может, вновь спасая себя от смерти.
Что же такое (или кого же) спасал он теперь, добавив в свою коллекцию еще два уникальных случая, и не просто, а по-новому уникальных — два случая управляемой магии — спокойной, без надрыва, без вспышек страсти, без страха, без провалов в небытие. Что случилось? Что? И почему с такой детальной ясностью, словно только что посмотренные кадры фильма выплыли из прошлого лишь два эпизода — первый и последний?
Он размышлял над этим теперь, сидя в удобном мягком кресле на даче большого милицейского начальника товарища Ферапонтова, музыка обволакивала его, как вор прокрадывалась внутрь не только через уши, но и через кожу, непонятно, чего было больше: собственно музыки или ритмичной вибрации; а к знакомому сочетанию запахов винных паров и табачного дыма все явственнее примешивался тяжелый, дурманящий аромат обнаженного женского тела. Сонливость прошла совсем, даже опьянение медленно рассеивалось (так ему казалось). Он сидел с закрытыми глазами, наслаждаясь странным ощущением погружения в себя. Медитация. Хрупкую иллюзию впадания в эту экспромт-нирвану разрушил чей-то голос:
— Эй, чувак, почему спишь? Да еще с пустым бокалом! Совминовские коньяка принесли.
Он открыл глаза. Рожа, наклонившаяся к нему вместе с роскошной матовой бутылью, была незнакомой. Но эта рожа любезно наполнила ему бокал, и Давид тупо прочел надпись: «Calvados». Потом рожа уплыла в сторону, и глазам Давида открылась картина в духе Босха и Сальвадора Дали. Почему-то именно в таком жутковато-сюрреалистическом аспекте воспринял он царивший в комнате вертеп. Голых девушек было теперь существенно больше, чем одетых, да и парни уже начали раздеваться. То есть что значит начали? Он пригляделся: две пары уже сплелись, одна на диване, одна на полу, другие пока еще «танцевали».
Давид опрокинул содержимое бокала как водку.
Но это была не водка — он словно растворил в себе глоток теплого, пронизанного солнцем воздуха над берегом Средиземного моря, глоток росы с мягких яблоневых листьев и налитых тяжестью спелых плодов. И в тот же миг все уродцы Босха отряхнули чудовищные панцири и коросту, сбросили мерзкую чешую и дряблую кожу, девичьи тела засветились в таинственном полумраке дивной теплотой античного мрамора, и тогда дверь распахнулась, и в окружении ангелов небесных и слуг земных вошла она. Богиня. Прекрасная, как Венера Боттичелли. И он поднялся ей навстречу, потому что сразу понял: вот ради чего, ради кого он рвался сюда через дикую смесь алкогольных напитков, через закопченные свечи Витькиного «жигуленка», через все злокозненные посты ГАИ.
Давид шагнул, оступился и упал перед Венерой на колени.
Венера оказалась еще пьянее его. Она уже не могла самостоятельно сохранять вертикальное положение. Ее поддерживали Гоша и некий отвратительный толстяк с гадкой сальной улыбкой. Из одежды на Венере просматривались мужская рубашка, завязанная на животе узлом, изящные туфли на высоком каблуке (или это уже не одежда?) и металлически блестящая карнавально-сексуальная полумаска, закрывавшая лицо от прически до губ (а это одежда?). Правую руку Венеры Гоша удерживал так, чтобы ладонью прикрывать ее лобок, а левую — толстяк двумя своими сильно прижимал к груди. Очевидно, удерживать руку на весу он уже просто не мог. В общем, каноны были соблюдены. Правда, сама Венера пыталась заплетающимся языком петь песню на английском языке, но это, как ни странно, совсем не разрушало образа. Сознание Давида окончательно раздвоилось, и теперь пьяный придурок на коленях уже полностью подчинялся могучей воле проснувшегося alter ego.
— Где вы ее откопали? — удивительно трезвым голосом поинтересовался Аркадий, с отчетливым чмокающим звуком отлепляя от себя оседлавшую его полненькую девчушку в одних прозрачных трусиках. — Она ж танцевать не сможет. Несите на третий этаж — кто-нибудь да оттрахает.
— Слушаюсь, сэр, — дурашливо поклонился Гоша, чуть не уронив Венеру на пол.
Толстяк выпустил левую руку богини, цепляясь теперь просто за ее груди. Троица развернулась на сто восемьдесят градусов и, не без труда вписавшись в дверной проем, начала восхождение по узкой деревянной лестнице. Давид поднялся с колен и пошел за ними как привязанный.
Комната на третьем этаже была небольшой, пустой и прохладной. Толстяк и Гоша уложили Венеру на чистый, застеленный розовой скатертью стол, при этом руки ее оказались заброшены за голову, а ноги слегка разведены и полусогнуты в коленях — ни дать, ни взять роженица. Закончив процесс укладки, Гоша и толстяк спросили друг друга:
— Ты будешь?
— Не-а. А ты?
— Я тоже не хочу. Некрофилия какая-то.
— Точно.
Обернулись. Сосредоточенно, долго, оценивающе смотрели на Давида.
— Вот! Он ее и оттрахает, — торжественно заявил Гоша.
— А как его зовут? — неожиданно поинтересовался толстяк.
— Его зовут Самуил, — уверенно сообщил Гоша.
— А-а-а! — обрадовался почему-то толстяк. — Самуил, оттрахай ее, пожалуйста. Девочка очень хотела. Да вот нажралась. Оттрахай. Только маску не снимай. Ты, Самуил, здесь человек новый, тебе не надо знать, кто она, вдруг ее папа будет сердиться. А тебе, Самуил, совсем ни к чему знать, кто ее папа. Договорились?
— Договорились, — ответил Давид мрачно.
Оба сразу ушли, а он увидел на внутренней стороне двери тяжелый засов и быстро задвинул его.
Ну, вот и все, свершилось.
Торжественный сумрак узкой длинной комнаты с рядами стульев вдоль стен, маленькой кушеткой в дальнем конце и господствующим по центру столом окрашивали сусальным золотом четыре тусклых светильника, сработанных под старинные канделябры. Мраморное совершенство божественной плоти вдруг шевельнулось. Руки, освободившись от уже совсем не нужной одежды, легли вдоль тела ладонями вниз, и одновременно очень медленно начала подниматься спина, плечи, шея, лицо в серебристой маске, ноги, сгибаясь в коленях, раздвигались все шире, шире, высокая полная грудь нацелилась вперед и вверх набухшими острыми сосками, мелкая сладостная дрожь прошла по животу…
Давид стоял перед нею, окаменев и пожирая взглядом ее всю. Всю, а не отдельные особенно вкусные детали. Она была прекрасна, она была божественна в своем бесстыдстве — Венера! И наконец она открыла глаза, и из прорезей маски полыхнуло в него рубиново-красным. И яркое солнце вспыхнуло в комнате между ними.
Знание, Великое Высшее Знание пылающим шаром ворвалось в голову Давида и рассыпалось внутри и вокруг дождем сверкающих брызг. Свет Знания, свет солнца, вспыхнувшего среди ночи, свет тысячесвечной люстры над столом, которую он включил одним легким взмахом ресниц, — ослепительный свет залил все вокруг: розовую скатерть, бордовые стены, золотые канделябры, зеркальный потолок. И дикая первобытная страсть, неодолимо толкавшая его в объятия Богини Любви, уравновесилась вдруг величественным спокойным сознанием причастности к тайнам Вселенной. Теперь он был посвящен. Теперь он знал так же, как и она, что после земной жизни их ожидает другая, совсем другая — вечная жизнь. И это было не как религиозный дурман, не как мистическое откровение, даже не как научное открытие — это было… как проснуться утром от душного кошмара и увидеть, что ты не один под солнцем.
Теперь она стояла перед ним на коленях, подняв руки раскрытыми ладонями вверх, словно поддерживая невидимый драгоценный сосуд.
— Я буду жить вечно? — спросил он.
— Да, — ответила она.
— И мы вечно будем вместе с тобой, Венера?
— Да, — ответила она. — Только не в этой жизни.
— Почему?
— Потому что здесь я не могу быть с кем-то. В этой жизни я создана для всех. Я действительно Венера. А ты… Ты вообще не создан для этой жизни.
— Почему? — снова спросил он.
Она не ответила. Помолчала, потом вдруг сказала:
— Все это случилось так нежданно.
— Ты о чем? — не понял Давид.
Она упрямо повторила, теперь уже с продолжением:
Полное безумие. Венера читала стихи. Странные, непонятные, сюрные. То ли для детей написано, то ли, наоборот, ребенком. Дьявольщина какая-то.
— Коньяком, — автоматически поправил Давид. — Так точнее. Или нет. Лучше — табаком. Всюду сильно пахло табаком! Что за бред — запах василька? Сама придумала?
— Конечно. Это же поэзия, дурачок. Именно васильком. Я так чувствую!..
— А-а, — протянул Давид. — А сегодня полнолуние, что ли?
— Да, — сказала она. — То есть нет. Не знаю. Просто сегодня Особый день. Для тебя. Только ты лучше молчи. И постарайся понять: ты теперь будешь жить согласно Высшему Закону — Закону Посвященных. Рано или поздно ты встретишь Владыку, который объяснит тебе все. А я… я просто одна из тех, кому доступны высшие радости. Вот так. Любимый, иди ко мне!
— Ты не снимешь маску? — спросил он.
— Нет, — ответила она. — Ты видишь мои глаза — я вижу твои. Что еще нужно? Я люблю тебя! Я больше не могу без тебя.
Ее поза — поза торжественной клятвы стала опять плавно перетекать в позу призыва, в позу ждущей, пылающей, неутоленной страсти, и Давид почувствовал, что еще мгновение, и все бессмысленные грубые покровы просто лопнут на нем…
Еще никогда в жизни он не раздевался так быстро, еще никогда в жизни он не желал кого-то так сильно, еще никогда в жизни он не получал настолько больше, чем желал. Никогда.
Сколько времени они пробыли вместе? Какой смешной вопрос! Разве то, что они делали вдвоем, происходило во времени?
Что такое любовь, он узнал именно в эту ночь. Любовь бессмертной богини к бессмертному богу. И что такое божественный секс, да, да, именно божественный секс, в котором чисто и свято все, абсолютно все…
Мутное розовато-серое зарево уже начинало размывать черноту за деревьями, когда Венера набросила на плечи строгий синий плащ и ушла через окно. Он приблизился к распахнутым створкам и поглядел вниз. К подоконнику была приставлена лестница. Стремительная фигура богини мелькнула среди деревьев, прощально взметнулась вверх легкая кисть.
— Я хочу тебя снова, Венера! — крикнул он.
— Мы очень скоро встретимся! — раздался в ответ ее нежный удаляющийся голос.
— И это все, что можешь ты сказать в печальной дымке позднего рассвета? Обман смешон, когда глаза — в глаза. Любовь моя, ты понимаешь это? — пробормотал он себе под нос. — Чьи это стихи? Тоже ее?
Лестница была деревянная, свежетесаная. С карниза и с облетающих ветвей срывались тяжелые холодные капли росы.
И было хмурое утро. Давид открыл щеколду и спустился вниз. Некоторые еще спали — вповалку, накрывшись пледами и куртками. Другие сидели вкруг стола. Аркадий потягивал роскошное баночное пиво, кажется «Хольстен», Витька лечился «фантой» — не хотел снова иметь дело с ГАИ. Гоша бродил по комнате, как тень отца Гамлета, и искал, во что налить кофе из маленькой, почерневшей от времени турки. Чашек почему-то нигде не было. Мавр вдумчиво цедил коньяк из большого красивого фужера. Предложил Давиду.
— Не, — вяло отказался он, — не пью по утрам.
— Даже пива? — удивился Аркадий.
— Даже пива.
— Ну уж шампанское-то точно хорошо! — вступила в разговор растрепанная деваха в мятом пеньюаре и с сомнительной чистоты стаканом в руке. Сейчас там было, конечно, игристое вино, а вот вчера, похоже, тушили бычки. Анька, например, всегда по утрам шампуньское трескает.
— Да! — вскинулся вдруг Гоша. — Ну и как тебе Анька, Дейв?
— Какая Анька? — тупо спросил Давид, уже понимая, конечно, о ком идет речь.
— Неверова Анька, — пояснил Гоша, — которая в маске вчера была.
— Неверова?! — обалдел Давид. И спросил совсем глупо: — Дочка товарища Неверова?
— Тамбовский волк тебе товарищ, — глухо проворчал Витька.
Товарища Неверова носили на демонстрациях вместе с дедушкой Мишеля. И уж такого Давид никак не ожидал. Любимая. Богиня. Посвященная. И плюс ко всему — дочка члена Политбюро. Или кандидата в члены? Какая разница! Похоже, в связи с этим известием его alter ego решило вздремнуть. Оно пропало куда-то, и Давид сделался вмиг самым обыкновенным человеком, сильно перебравшим и проведшим ночь в любовных утехах. Голова затрещала, откровенно разламываясь на куски.
— А трахается она классно, — засвидетельствовал Гоша и спросил: Правда, Дейв?
— Ух ты, ах ты, все мы космонавты! — недовольно заворчала растрепанная деваха, оскорбившись на комплимент Аньке в ее присутствии.
— Трахается она классно, — повторил как эхо Давид. И вдруг выпалил: А! Наливай минасали!
— То-то же! — обрадовался Мавр и плеснул Давиду коньяка.
Но легче не стало. Стало только тяжелей.
Уезжали, кажется, той же компанией. Нет, не совсем. Мишеля не удалось разыскать в груде спящих на полу девиц, видели только ногу его, до остального не докопались.
Глава вторая. ЗАКОН СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ
Веня Прохоров плохо помнил тот день, когда стал Посвященным. Произошло это лет десять назад, ему еще двадцати не исполнилось. Учился в автодорожном и увлекался, как все, сразу многим. Больше всего — книгами.
Странно увлекался: освоив технику быстрого чтения, проглатывал сотнями фантастические, детективные, приключенческие романы и научно-популярные книжки о всевозможных чудесах, загадках природы и феноменах истории. Запоминал крайне мало: авторов — никогда, названия — изредка, а факты и фантастические гипотезы образовывали в его голове такую мешанину, из которой выудить что-нибудь конкретное было практически невозможно. Очевидно, Веня ловил кайф от самого процесса чтения, так что результат его мало интересовал. Однако для столь активных, как он, читателей времена были не самые благоприятные, даже отделы книгообменов еще не появились, а в букинистах и просто магазинах лежало такое, чего и даром брать не захочешь. Так что читательская лихорадка естественным образом привела Веню на Кузнецкий мост, а экономические законы черного рынка — к не менее естественному выводу: чтобы покупать здесь книги, надо их еще и продавать, иначе денег взять будет негде.
В общем, Веня Прохоров был человеком подкованным во всех отношениях: эрудированным до безобразия и практичным до цинизма.
А Давид при первой же встрече обнаружил, что Веня еще и туп до необычайности. То, что слесарем теперь работает, — это понятно, а вот как ухитрился институт закончить? Однако именно Прохоров стал вторым после Анны Посвященным, встретившимся на пути Давида, и не пообщаться с ним было просто невозможно.
Давид пригнал в очередной раз свой драный «Москвич» к Вальке Бурцеву на сервис, точнее на автобазу парфюмерной фабрики, где никогда нельзя было понять, чем сильнее пахнет — бензином или одеколоном, и где под шумок всеобщего разгула кооперативного движения шустрые ребятишки ухитрились одними из первых срубать некислые деньги на казенном оборудовании и почти не платя никаких налогов. Главным в команде и был Валька Бурцев. Случайный знакомый, он вдруг стал Давиду удивительно близким человеком.
Остановив машину в огромном ремонтном боксе, Маревич вышел и кликнул Вальку, но в гулком помещении никого не было. Из соседней ямы, над которой стояла полуразобранная «волжанка», вылез крупный плечистый парень в ватнике. Ничего особенного, парень как парень: лицо перепачканное, усики и неопрятные вихры, торчащие во все стороны из-под свалявшегося меха ушанки. Но вылез, глянул на Давида, и тот, еще не успев ничего сказать, почувствовал, как сердце сжалось вдруг, замерло секунд на пять и забилось очень странно, по-новому, в этаком как бы сложно модулированном ритме. Сердце передавало мозгу шифровку — так он позднее назвал это для себя. А тогда впервые узнал, как один Посвященный узнает другого. Но всегда ли так? Ведь Анна-Венера…
— Веня, — представился парень, — Прохоров. Давай сразу на «ты».
— Маревич, Давид. Конечно на «ты», ведь мы уже слишком много знаем друг о друге.
— Да уж. Закурим?
— Давай. «Честерфилд» будешь?
— Аск! Ну что, чиниться начнем или хочешь поговорить? Валька за запчастями упилил. А я тут новенький.
— Поговорить хочу.
Но разговор-то как раз и не клеился. Вопрос — ответ, вопрос — ответ, недомолвки, односложные реплики.
— Ты давно? — спрашивал Веня.
— Четыре с лишним года.
— А я уже шесть. Ну и скольких знаешь?
— Да никого не знаю… ну, то есть… ты второй, — поправился Давид.
Не хотелось говорить про Анну, но ведь не сам же по себе он сделался Посвященным.
— Погоди. Как второй? А те семеро? — ошалело спросил Веня.
— Какие семеро?
— Ну ты даешь! — Веня уже не знал, что сказать.
Вот тогда и начался у них настоящий разговор. И Веня Прохоров рассказал.
Там, на Кузнецком мосту, его и нашли трое Посвященных — трое смутно знакомых книжных спекулянтов. Сугубо по делам пригласили в квартиру неподалеку, где сидели еще четверо. И все сильно старше него. Сначала решил, что это менты. Крупным воротилам, как всегда, все сходит с рук, а мелкоту вроде него метут почем зря. У нас же вечно стрелочник виноват. Перепугался Веня насмерть. Потом пригляделся — нет, не менты, скорее бандиты. Стало еще страшнее. А они вдруг начали говорить о бессмертии и об иных мирах. Все, чуваки, крыша съехала. И так странно было: то, что говорили эти семеро, как-то помимо воли укладывалось у Вени в голове возникало собственное знание, но из-за леденящего, панического страха он этого поначалу не заметил и воспринял обряд Посвящения как очередной треп о летающих тарелочках, бермудских треугольниках, биолокации, экстрасенсах, зомби и прочей хорошо ему знакомой и любимой ерунде. Тем более что разговор вдруг решили традиционно смочить портвейном. И тогда (с перепою, что ли? Да нет, вроде и не настолько пьяные были) его довольно жестоко избили за какое-то неосторожно сказанное слово. «Не менты, не бандиты, — думал Веня, — а все-таки влетел, доигрался хрен на скрипке!» И он уже начал соображать, что Посвящение — это серьезно, ведь за бермудские тарелочки, биосенсов и экстралокацию его еще ни разу не били. И решил для себя, что компания Посвященных — нечто вроде секты или масонской ложи, одним словом, собрание шизиков, он только никак не мог взять в толк — его-то зачем сюда приплетают. Собственно, он этого и по сей день не понял.
— Видишь ли, Давид, как это можно понять, когда никто, никто на Земле не знает принципа отбора Посвященных? Они говорят: Закон Случайных Чисел. Все с большой буквы. Во как это называют.
Не очень-то верилось Давиду, что никто-никто не знает. Раз есть принцип отбора, значит, кто-то его придумал. А Закон Случайных Чисел чепуха, да и только. При чем здесь математика? Но спорить не было смысла. Все, что рассказывал Веня, было для Давида внове, и хотелось просто узнать побольше.
— И что, — спросил Давид, — ты потом сам по этой же схеме посвящал других?
— Конечно. И не раз. Практически все происходит вот как. Стоит семи Посвященным собраться вместе в Особый день, как они узнают имя нового. Все семеро. Одновременно. Откуда? А вот от верблюда! Или от Бога. От фонаря. От… звезды. Назвать-то это можно как угодно, но лучше совсем никак не называть. Тогда жить легче.
— Погоди, а кто назначает Особый день?
— Владыка.
— Так ты и Владыку знаешь?
— Конечно, — теперь уже снова удивлялся Веня. — Ты, брат, какой-то дикий. Со своими же надо общаться! Я дам тебе телефон Владыки.
— А Владыка бутылки глазами двигает? — глупо спросил Давид.
— При чем здесь? Мы же говорим о Посвященных.
Вот-те на! А он-то, он-то почему такой? Это что же, одно к другому не имеет отношения? Значит, молчать, скрываться и таить? От всех и от «своих» тоже? Потому что настучат. А защитить себя разве он сумеет? От хулиганов, от всяких травм, от мелких неприятностей — безусловно, его управляемой магии хватит. А от КГБ? И тогда, значит, все-таки вперед, на следующий круг бытия? Он не хочет. Он хочет быть здесь до конца, до упора. «Ты вообще не создан для земной жизни». Кто это сказал?
— Хочешь, я дам тебе несколько наших телефонов?
А? Что? Это Веня, что ли, его спрашивает? Встрепенулся. Ответил вопросом на вопрос, почти невпопад:
— А КГБ ты не боишься?
— Да пошли они! Ну телефон прослушивают, ну иногда какой-то дятел в подъезде маячит. А мне чо? Я ж ничо такого не делаю. У меня вон мать на православии задвинутая, так я к этим дятлам с детства привык, уже и не пугаюсь. Понимаешь?
Давид понимал. Но с трудом. Веня был слишком, слишком другим. Информацию о Посвящении он проглотил так же, как очередную увлекательную книжку, и без видимых последствий для организма выпустил из себя, отправил дальше по цепочке. Уникальный человек! Лучше, говорит, совсем никак не называть. Так, говорит, жить легче. Атас! Действительно легче. И КГБ бояться не надо. Чего ему, Вене Прохорову, в самом деле бояться КГБ? Такие, как он, не представляют опасности для режима. И режим это знает, оберегает их, холит и лелеет, выращивает, как шампиньоны.
А вот телефон Владыки Давид у Вени взял. Это было действительно важно. «Рано или поздно ты встретишься с Владыкой. И он тебе все расскажет». Так говорила Анна. Анна Неверова. Анна Венерова. Венера.
Теперь та странная осень была уже далеко-далеко. Но иногда она возвращалась ошеломительно яркими образами, в деталях, в подробностях, как события минувшего часа. Ну да, ведь это же специфическая особенность его памяти.
Черт, как много у него специфических особенностей! С таким набором странных качеств долго на свободе не живут. А он вот живет каким-то образом. Каким? Ведь не таким же, как Веня Прохоров? А чем он, собственно, лучше? Чем вообще отличается? Ну как же, он это уже выяснил. Посвященные не экстрасенсы, а Давид Маревич — экстрасенс. Веня Прохоров — тупой, а он… А он влюбленный. В дочку Политбюро. Дословно так и подумалось еще тогда: дочка Политбюро. Некрасиво торчащее посередине слово «член» выкинулось как-то само собой.
Дочке Политбюро он звонил еще в начале октября. А хотел звонить в тот же день. Но не смог даже трубку поднять. Лежал пластом целые сутки. Мать чуть «скорую» не вызвала, а батя — веселый был в тот момент, даже предлагал «подлечиться» — сказал: «Ерунда. С кем не бывает. Не гони волну, мать, завтра все пройдет». Батя оказался прав. Почти. Такое бывает, со многими бывает, но не в столь юном возрасте. В двадцать четыре с похмельем справляются по-молодому быстро. Вот только Давид в тот день перестал быть молодым. В одно мгновение, минуя зрелость и старость, из молодости — в вечность. Это страшно. От этого ох какое тяжелое похмелье бывает! Можно сказать, ломка, а не похмелье.
По-настоящему он пришел в себя только через неделю. И не удержался, выпросил у Витьки телефон. Витька знал номер только на дачу и сразу честно предупредил:
— Не вспомнит она тебя, зря звонишь. Все ведь ужратые были, а она особенно. Да, и еще: звони на всякий случай из автомата или хотя бы с работы. Тебе же не надо, чтобы твой номер в картотеку попал.
— В какую картотеку? — рассеянно спросил Давид.
Мысли его были не здесь.
— В какую надо, — улыбнулся Витька.
Дошло. Мог бы и сам сообразить. Но Витька — молодец, настоящий друг.
Давид позвонил с работы, из чужого отдела. (Конспиратор хренов!) Застал. Больше того, она сама взяла трубку.
— Аня?
— Да.
— Привет, это Давид.
— Какой Давид? Куда вы звоните?
Черт! Он же не представлялся ей! Они вообще не знакомились!!
— Аня, мы были вместе на даче у Аркадия. Я…
— Какого Аркадия? Что вы хулиганите? Где вы взяли этот телефон?
— У Витьки… Аня! Любимая! Венера! Это же я, неужели не узнаешь?!
Пауза. Короткая и выразительная.
— Идиот! Больше никогда не звони по этому номеру. Никогда. Ты понял?
И — отбой. Короткие гудки. Слава Богу, никто не вошел в кабинет, пока он тут орал. Бедный начальник сектора! Вдруг его вызовут в партком? Или куда там — в первый отдел? Боже! О чем он думает? А о чем еще думать? Конечно, она узнала его. Иначе не перешла бы на «ты», не задала последнего вопроса. Но Витька оказался прав в главном. Туда не надо было звонить. Туда вообще нельзя звонить — слишком высоко. Она сама его найдет, когда нужно будет. Найдет. Вот только когда? Вдруг он так и не дождется, не доживет?.. Тьфу-у-у! Действительно идиот! Как он может не дожить? Просто пока еще трудно помнить об этом всегда…
Вот так. Теперь он иногда разговаривает стихами, а иногда счищает ресницами нагар со свечей. И потому он никуда не пойдет за эту любовь — ни на крест, ни на костер, ни на плаху — не такая это любовь. И человек он не такой. Вообще уже не человек. Ну не совсем человек. А высшая доблесть Посвященных — умение ждать. Кто-то сказал: умереть за правду легко, попробуйте жить за правду. Для обычных людей это справедливо с известной поправкой. Для Посвященных — стопроцентная истина. Умирать для них не просто легко — умирать сладко и радостно. А вот жить — здесь и сейчас сплошная непрерывная ломка. Ради чего жить? Может, ради ответа на этот вопрос?
Сколько времени он боролся с отчаянным желанием умереть? Неделю? Месяц? Год? Или все эти четыре года? Он жил, просто имея в голове Знание. Притирался к нему, прилаживался, пытался совместить свои серые или, наоборот, слишком пестрые будни с безумием нового положения в мире. Потом наконец смирился, как смиряется инвалид с необходимостью пользоваться костылями. Да, именно так, Знание было равнозначно отсутствию чего-то очень важного и привычного для нормальных людей. Он долго не понимал, чего именно. Потом понял: страха смерти. Оказалось, что жить без него гораздо труднее. Да, искренне верующие люди тоже не боятся умирать. Но они верят в будущую жизнь, а Посвященные знают о ней. Существенная разница. Знание в отличие от веры не упрощает, а усложняет жизнь. Знание — тяжкий груз и боль, ибо сказано: «Кто умножает знание, тот умножает скорбь». Экклезиаст наверняка был Посвященным. Наверняка.
Перед самым Новым годом умер отец, и Давид ничем, ничем не смог помочь ему. Он впервые тогда усомнился в физической реальности происшедшего там, в Барвихе, тридцатого сентября. Что, если все это — просто пьяный бред? Элементарные глюки с перепою! Какое еще, к едрене-фене, Посвящение? Какое Знание?! С чего он взял, что это действительно знание, а не идея фикс болезненное состояние ума? Сходить к психиатру? Но тот знакомый, к которому водили в детстве, давно уехал через Израиль в Штаты, а пойти к любому — так уж лучше прямиком на Лубянку, там и психиатра предоставят, и стоматолога, и хирурга… И тогда он начинал злиться. И вызывал из прошлого яркие — ярче окружающей реальности — образы: бордовая комната с золотыми канделябрами, Венера на розовом столе, угольки на ладонях, Колодец, Красная Гадость, Розовые Скалы на фоне зеленого неба… А потом со стены на кухне вместе с шурупом срывалась сковородка или сигарета прикуривалась без всякой спички и все. Он разряжался, остывал, медленно возвращалось спокойное ощущение абсолютной достоверности Знания. И спокойная убежденность: живи как жил. Так надо. Не дергайся. Всему свое время.
А время шло. И кое-что вокруг начало меняться. В восемьдесят пятом, когда воцарился Горбачев, вдруг выяснилось, что экономика вовсе не должна быть экономной. Просто она должна быть. И все. Кто-то из журналистов придумал. Не важно, кто. Важно, что правильно.
Работа в институте оживилась. Премии стали существенно возрастать. У Давида появились первые публикации в научных, околонаучных, потом в совсем ненаучных журналах. В последних платили лучше всего.
Он всегда умел откладывать деньги. Даже со стипендии. А стройотряды и шабашки позволили открыть счет в сберкассе. Так что, когда строго по свистку началось ускорение и первые ростки хозрасчета в виде гонораров и премий сделались вполне ощутимыми, не прошло и года, как Давид, оценив свой капитал, понял: можно искать вариант. Пусть скромненький, но — автомобиль. Высшая, запредельная мечта советского человека. А он вот так запросто возьмет и купит, получит права, станет автолюбителем и поедет — сам за рулем! — в Барвиху, да, да, в те места, «где был счастлив когда-то»… Зачем? Бред собачий.
Но случай подвернулся, и именно с той стороны. Аркадий Ферапонтов покупал новую модную «восьмерку» и продавал свой старый «Москвич» за четыре куска. Три с половиной у Давида уже было и пятьсот рублей он остался должен. По тем временам — обычное дело.
Машина знакомила с новыми людьми — с соседями-автомобилистами, с доставалами запчастей, с механиками и слесарями. Так появился в его жизни Валька Бурцев. Когда впервые Давид услышал, как обильно, смачно и вычурно матерится он со своими работягами на парфюмерной автобазе, просто сразу догадался: парень с высшим образованием; просто проникся симпатией; просто почувствовал родственную душу. Ну а потом оказалось, что главное не это. На самом-то деле Валька был очень не похож на других. Другие бесились от злости на страну, на порядки, на власть, на себя, друг на друга, а Валька оставался неизменно добрым ко всем, помогал кому мог и радовался. Другие трещали без умолку, рассуждали о нравственности, философствовали, лезли в политику, нервничали из-за ерунды. А Валька говорил мало, всегда спокойно и занимался делом. Все мужики носили какое-нибудь обтрепанное старье (а, все равно достать ничего невозможно и переплачивать неохота!), забывали чистить ботинки и гладить брюки, не успевали бриться и даже мыть руки перед едой плевать на все, бардак — он и есть бардак. А Валька, когда ни увидишь его чистенький, отутюженный, подтянутый, гладко выбритый, и руки как у врача перед приемом — это при его-то работе в мастерской! Словом, общение с Валькой вселяло оптимизм, давало ни с чем не сравнимое ощущение душевного комфорта. Раз существуют такие люди, значит, мир еще не безнадежен. Слова, слова, сопливая романтика, но рядом с Валькой Бурцевым верилось в лучшее. Всерьез верилось.
Давидовым «Москвичом» Бурцев, как правило, занимался лично. Любил его. Понимал, чувствовал, как живого. Давид и сам любил свою машину, но не так. Так он не умел. Потому что Валька вообще все машины считал живыми существами. Искренне считал. Не дурачился, не выпендривался, а на самом деле видел в них братьев наших меньших. Рассказывал всевозможные истории из жизни автомобилей, подтверждавшие его правоту, а уж про свою-то старенькую «пятерку» мог говорить бесконечно. И как она чихает и кашляет на морозе, и как обижается, если подолгу ее не заводят, и как дрожит, когда он, Валька, — с похмелья, и еще рассказывал, как однажды договорился о встрече с женой, а та опаздывала, сильно опаздывала, он начал нервничать, ездил кругами, чувствовал уже что-то недоброе, и машина чувствовала, а потом оказалось — действительно беда: авария, больница, а у «пятерки» в движке клапан прогорел насквозь, абсолютно новый клапан, ну не бывает такого, не бывает — разве что на нервной почве…
Со стариком «Москвичом» Валька сразу установил неформальный контакт, научился понимать с «полуслова», и Давид уже не влезал никогда по ходу «процедур» или тем более «операций». Да, да, медицинская терминология лучше подходила для такого общения с машиной. А отправляя в очередной путь подлеченного ветерана, Валька умолял:
— Ты с ним поласковей, Дод, старенький он уже, но держится молодцом и прослужить может долго.
Иногда, если у Давида было туго с деньгами, Валька делал ремонт за так. С учетом всеобщего оголтелого перехода на рыночные отношения, когда даже родные братья начинали давать друг другу деньги под проценты, казалось это совсем удивительным. И однажды — настроение, что ли, было поганое? Давид не удержался, спросил:
— Валь, скажи честно, тебе-то на хрена все это нужно?
Валька пожал плечами, улыбнулся, как только он один умел — открыто и чисто, подумал секундочку и ответил:
— А вот нравится мне делать другим приятное!
Ответ? Ответ. Вот нравится ему — и все! Хоть ты застрелись. Собственная его, Давида, исключительность сильно тускнела рядом с Валькой, и хотелось (почему? что за логика?) быть самым обыкновенным, таким, как все.
А, между прочим, водить машину, даже пригонять ее на ремонт, даже порой самому возиться с ней — это было простое обывательское счастье, по которому он соскучился за два года медленного схождения с ума. И однажды, подрабатывая, как все, на бензин, он посадил к себе симпатичную девушку со странным именем Мадина. Посадил, как выяснилось, надолго.
Без регулярной половой жизни он тоже соскучился. А нерегулярная перестала радовать — вроде годы уже не те. Иногда он даже начинал думать: а может, им, Посвященным, это уже не требуется. Может, их интересует только божественный секс. Оказалось — нет. С Мадиной тоже было хорошо. Правда, о любви здесь опять речи не шло. Как с Наташкой. А потому и жениться он не собирался. Потому ли? Черт его знает, почему. Вообще-то особой регулярности в общении у них не получалось. Негде было. У Давида — больная мать, у Мадины — сестры-братишки, мелочь пузатая. Чаще всего они «любили» друг друга в машине, в его задрипанном «Москвиче». И если поначалу это было романтично, то потом все больше и больше раздражало.
И, наконец, суровым декабрем восемьдесят седьмого, когда Давид потерял мать, а столбик термометра не раз и не два ухнул аж почти до сорока, оказалось, что между ним и Мадиной все окончательно вымерзло: уже не нужна была ни пустая квартира, ни самостоятельная счастливая совместная жизнь. Называется, дождались. Кто кого разлюбил, спрашивать было глупо, потому что никто никого и не любил. Просто Мадине пришло время искать настоящего мужа, а Давиду — расставаться с иллюзиями и возвращаться в свое безумие.
Со смертью матери обвалился в небытие огромный пласт прежней жизни, а новый, открывшийся ему вдруг (или не вдруг?), отсвечивал холодным розовым блеском вечности. Мертвенным блеском. Смерть была не только во вчера, но и в завтра. Смерть взяла его в кольцо. С этим ощущением он жил всю зиму. И ощущение не обмануло.
Когда зима уже почти кончалась, двадцать какого-то февраля, то есть через два месяца после похорон матери, он узнал, слушая вражьи голоса, что дочка товарища Неверова покончила с собой, выбросившись из окна восьмого этажа.
Причина называлась тривиальная и даже скучная с точки зрения политической — наркотики.
Он позвонил Витьке.
— Как ты думаешь, мне можно прийти на похороны?
Он даже не пояснил, чьи. А Витька ответил раздраженно:
— Не надо. Неужели ты до сих пор ее вспоминаешь? Я тебе говорю: не надо.
«Что бы ты понимал, козел! — подумал Давид злобно и сам себя одернул: — За что? Витька просто не в курсе. Как еще он может реагировать?»
Вышел на улицу, сел в машину и долго грел движок, еще не понимая, куда собирается ехать. На работе у него библиотечный день. Друзей, к которым можно нагрянуть без звонка, практически не осталось. Да и к кому нагрянешь среди дня? Значит, куда? В Барвиху, «где был счастлив когда-то»? И с высокого берега — проламывая лед, в Москву-реку вместе с машиной. Красиво! Или еще красивей — с разгону в ворота ее дачи, чтобы стрелять начали. Впрочем, не начнут они стрелять, патронов пожалеют — просто остановят, схватят, побьют ногами. Потом допрашивать будут. Больно и противно. Ничего красивого… Матерь Божия! О чем он думает?
А движок вдруг захлебнулся, едва не заглох и даже на полностью вытащенном подсосе заработал неровно, натужно, словно вот-вот начнет «троить». И сразу стало ясно, куда он поедет. На профилактику. Никакого серьезного повода, чтоб заявляться к Вальке, не было, но мелочь всякая, разумеется, поднакопилась — если зимой ездишь, что-то всегда накапливается. До парфюмерной автомастерской было минут двадцать от его дома, но никогда еще он не водил так плохо. Чудо, что не забодал никого по дороге. У руля вдруг появился безумно большой люфт, тормоза едва срабатывали, стрелка давления масла залипла на нулевой отметке, ручка регулятора обогрева салона обломилась под пальцами, как хрупкая веточка, а уже возле самых ворот автобазы он проколол переднее правое колесо. Но даже это было не все. Потом оказалось, что последним аккордом стал лопнувший ремень генератора. Вот Валентин-кудесник! Сделал-таки машину живым существом. И теперь вместе со своим хозяином «Москвич» отказывался жить. В опустевшем без Анны Неверовой мире он агонизировал, бился в судорогах, буквально на ходу отбрасывал копыта, то есть колеса. И Давиду вдруг сделалось смешно. Истерика? Возможно, это была истерика. Но он сдержался и не въехал в ремонтный бокс, хохоча. Он просто положил голову на руль и сказал:
— Спасибо, друг.
Старичок «Москвич» принял удар на себя, высосав из Давида без остатка всю его тягу к самоубийству. И захотелось жить. Или выжить. Да, именно выжить. Но захотелось сильно, как никогда.
Анна Неверова, Анна Венерова… Анна ушла. Про Посвященную нелепо говорить «умерла». Анна ушла, она будет ждать его там. Какая разница сколько. Ведь там не существует понятия «время»… А с чего он, собственно, взял, что не существует? Не важно, не важно… Она будет ждать его, она обещала, они непременно встретятся, а сегодня, сейчас его место здесь, «бороться и искать, найти и не сдаваться!..» Это откуда? Опять из Ильича, да нет, это какая-то хорошая книжка была. Не важно, не важно…
Эйфория. Глухое отчаяние, перешедшее в слепую эйфорию. Может, не случайно именно в этот момент оказался с ним рядом Вениамин Прохоров? Протянул перепачканную ладонь и представился. Конечно, не случайно. Разве в жизни Посвященных бывают случайности?
Пока команда из трех человек с отчаянным энтузиазмом героев-хирургов из советского фильма семидесятых годов возвращала к жизни горе-самоубийцу старичка «москвича» (не хватало только нервных сестричек-реаниматоров, в ужасе закатывающих глаза, и их возгласов типа «Это последний шанс!», «Мы теряем его!»), — так вот, пока команда трудилась, Давид успел сходить пообедать в заводскую столовку, и обсудить с вернувшимся Валькой все общие темы, и прогуляться до метро за сигаретами, и даже позвонить по данному Веней телефону.
Владыку звали Игорь Альфредович Бергман. Он ни о чем не расспрашивал, ссылки на Прохорова вполне хватило, просто назначил день и время. В воскресенье, в шесть вечера. И объяснил, как добраться.
Была среда. Третий день творения, подумалось почему-то. Что же там сотворил Бог на третий день? Ответ пришел сразу, хотя он никогда не учил Библию наизусть.
«И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо… И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер и было утро. День третий…»
Он ехал домой на уже совсем исправном старикане и думал, что ж это за подсказка такая. Если сегодня день третий, что считать первым и вторым? Откуда вести отсчет? От повторного рождения в детстве? Нет, это здесь ни при чем. Сказал же Веня, что Владыка бутылки глазами не двигает. Так что отсчет можно и нужно вести только от тридцатого сентября. Вот он, настоящий День Один. Действительно, Он сказал тогда: да будет свет. И стал свет. А вот день вторый… Очень мутно описан второй день творения в каноническом тексте Книги Бытия. Какую-то непонятную воду отделял Бог от воды же, посередине зачем-то твердь заделал, и все уже решили, что это грунтовые воды, а над ними озера и реки — ан нет! Бог возьми да и брякни, что твердью назвал он небо. Ни фига себе пельмень! В общем, на второй день Бог откровенно запутался в своих деяниях. Но, согласитесь, немного странно обвинять Всевышнего в подобном бессилии, а потому естественнее заподозрить его в маленькой хитрости. За первый-то день он изрядно намаялся: и небо с землей, и свет, и вообще понедельник — день тяжелый. Вот и решил во вторник сачкануть, а чтобы людям потом неповадно было устраивать себе такой же выходной, напустил туману: то ли твердь посреди воды, то ли вода посреди тверди, а вчитаешься повнимательнее и видишь, что без дня второго все только яснее и проще.
Вот и Давид обошелся без второго дня. Сразу третий для него настал. Живая жизнь, живые ростки полезли, и теперь уж их не остановить. Но почему так? Почему сейчас? Отчего? А вот ни от чего! От звезды, как говорит Веня Прохоров. Закон Случайных Чисел. Три этих странных слова как-то особенно цепко угнездились в мозгу Давида. Слышал он такое выражение раньше? Ну конечно слышал. Экономист все-таки, математику учил весьма основательно. Статистику тоже, как говорится, проходили. Но сейчас не о том… Бах! Озарение. Не математика, не статистика — фантастика.
Попадался такой закон в одном романе, который лет пять или шесть назад он небрежно листал по диагонали. А роман назывался… да, точно, «Заговор посвященных» или… ЧТО?!! «Заговор Посвященных»?!
…Вот с какой там буквы было в названии — с маленькой или с большой, — он не помнил. Но уже давил на все педали сразу и, грамотно тормозя коробкой передач на поворотах, отчаянно гудел и громыхал, а машину все-таки заносило, потому что сорок километров в час на повороте — это даже летом многовато… Влетел в квартиру, в комнату, перерыл всю полку с фантастикой — нет нигде! И вспомнил. Отдал почитать. Еще тогда. Эдику Цукерману. Взять обратно забыл. Эдик славился тем, что подолгу держал книги. У него надо было спрашивать, и почаще. А в восемьдесят четвертом Эдик уехал в Израиль. Или в Штаты через Израиль. For good. Всегда хотелось скаламбурить: уезжают for good, а остаются for bad*. Сейчас каламбурить не хотелось, хотелось плакать от обиды.
Ох уж этот третий день творения! Как назвать процесс, обратный творению? Уничтожение? Нет, это слишком прозаично. В канонических текстах таким словам быть не положено. Лучше — умертвие. Не совсем точно, зато явно лучше: третий день умертвия. Планомерного умертвия мира в себе и себя в мире. Э! Да не из той ли книги такая странная фраза?
И тогда всплыло в памяти с уже привычной для него ослепительной ясностью. Пушкинская площадь. Вечер. Молчащий фонтан. Не тот, который за спиной Александра Сергеевича, а новый, простенький овал со струйками в середину, перед Некрасовской библиотекой. Гоша, Витька и он гуляли вместе по Бронной и вот присели тут на лавочку. Давид считал это полнейшим кретинизмом — вот так просто болтаться по улицам. Атавизм какой-то, инфантильность, граничащая с дебильностью.
С Витькой и Аркадием они любили вот так ходить осенью семьдесят первого, в шестом классе, когда все трое впервые влюбились. Причем Витька и Аркадий — в Надюху, ничуть между собой не соперничая (как это было возможно?), а Дод — конечно в Зинку, признанную большинством первую красавицу класса. Говорили вечерами напролет о девчонках, мечтали, предавались невероятным, иногда почти хулиганским, будоражащим душу фантазиям, раззадоренные, принимались звонить по всем телефонам из автоматов, заранее приготовив кучу двушек, говорили всякие глупости, смеялись, а в сентябре еще традиционно заходили в коммуналку к Доду выпить фруктовой воды, закупленной в непомерном количестве на его день рождения — кажется, на три, если не на четыре таких захода хватило. Давид открывал дверь ключом, чтобы не беспокоить соседей, Витька громким смешливым шепотом распоряжался: «Виски, Дейв!», и Дод шел на кухню за стаканами, а бутылки стояли здесь же, в уголке, где все трое приседали на корточки, пробки срывали о педаль прислоненного к стене старого отцовского мопеда, и божественно вкусная розовая шипучка — виски с содовой! расплескивалась по стаканам. Славное это было время. Они казались друг другу настоящими друзьями. Казались или были? Наверно, тогда все-таки были.
Но годы брали свое. И у дружбы, и у людей, и у этих прогулок. Давид теперь не знал, когда все успеть: институт, плавание, книги, фильмы, театры, выставки — хотелось ничего не упустить. Но и людей упускать не хотелось, этих — особенно. Почему-то общение со старыми, точнее, бывшими друзьями представлялось очень важным. Корыстный интерес? Да нет, он ничего у них никогда не клянчил — считал ниже своего достоинства. Скорее был интерес к их жизни, этакий академический интерес. Ведь он же будущий экономист, а это (ему казалось) почти социолог, почти философ. Ему очень хотелось знать, как живут там, наверху.
А жили там скучно. Учились без интереса. Читали мало. Много слушали музыку. Современную англо-американскую, разумеется. Пили тоже много и тупо. Говорили (и не только говорили) о бабах. А остальное время — убивали. Вот на таких, например, прогулках. Время корчилось, молило о пощаде, но куда там! Могли по несколько минут идти молча. Это считалось нормально. Только Давид ощущал тягостную неловкость. Дурачок!
Потом Гоша вдруг изрекал:
— Я тут сделал открытие.
— Чего, чего? — Витька подгребал ближе.
— Открытие, говорю, сделал. С похмелюги на завтрак изумительно хорошо похавать печень трески. Без всякого хлеба и масла. Только запить чем-нибудь. — Он делал многозначительную паузу. — А можно и не запивать. Понимаешь, и калорийно, и проскакивает изумительно.
— Надо взять на вооружение, — откликался Витька, и они еще минут пять шли молча.
Когда прощались, Гоша вдруг спросил:
— Дейв, книжку не купишь?
— Какую? Покажи. Может, и куплю.
— Обалденную.
Это была традиционная присказка. Однажды Давид поведал этим охломонам, сколько стоят популярные книги по ценам толкучки на Кузнецком или Пролетарке. Он искал тогда для себя любимый том из «Библиотеки литературы США» — Воннегут и Сэлинджер под одной обложкой. И Гоша вдруг вскинулся:
— Сколько, говоришь? Четвертак?! Сейчас принесу. У меня есть такая.
Странные ребята, продолжал недоумевать Давид, все у них есть: машины, дачи, многокомнатные квартиры, гаражи, импортные шмотки и еда, билеты в любой театр через спецкассу, книги по спецзаказам тоже любые, а с наличностью в карманах — вечная беда. Вот и становятся «фарцой» через одного. Гоша фарцовщиком не был, но книжку у родителей стибрить и загнать, если выпить хочется, — дело святое. За такие-то башли!
Сделка состоялась, к взаимной радости сторон. А через неделю Гоша, окрыленный коммерческим успехом, втюхал растерявшемуся Давиду некий сборник «Запад вблизи» — очерки прогрессивных журналистов Америки и Европы, который не стоил не только объявленных пятнадцати(!) рублей, но, пожалуй, и тех двух с десятью копейками, что были обозначены на обложке. Давид заплатил, мучимый странным чувством: вроде обещал. Потом безумно ругал самого себя: ладно бы Витьке помог, а то какому-то Гоше! И стал после этого разборчивей, настороженней. Начал отказываться. Например, «Час быка» Ефремова — да, это дефицит, а Франсуа Мориака — оставь себе. Проживем.
И вот опять обалденная книга. «Заговор Посвященных», фантастический роман.
— А автор-то кто?
— Хрен его знает, тут не написано.
— Как это? — Давид был заинтригован.
— Ну сам смотри.
— Правда. Забавно. Тут и издательство, что ли, не указано?
— Не знаю, это же не у нас напечатано, — объяснил Гоша.
— Ладно, не свисти.
— Да правда! Где ты видел, чтоб у нас так печатали?
— Ви-идел, — загадочно протянул Давид, уже прикидывая, что книжку надо брать.
— Фантастика? — заглянул через плечо Витька. — Терпеть не могу фантастику.
— Почему? — удивился Давид, перечитавший целую прорву этого рода литературы.
— Да потому, что они там всегда плывут к Северному полюсу на какой-нибудь космической ракете, все такие мужественные и красивые, особенно штурман и капитан, и фамилии у них типа Полещук, Седых… Седых обязательно.
— Ты каких писателей читал? — решил уточнить Давид.
— Ну, самых известных — Казанцева, Немцова, Адамова… кто там еще?
— Там — уже почти никого. С тобой все ясно, Витька.
— Слушай, — прервал их литературоведческую дискуссию Гоша. — Ты берешь?
— Сколько?
— Сорок.
— Обалдел?
— Так ведь оттуда. За валюту куплена.
— Нет, это несерьезно, — очень солидно заявил Давид и зачем-то добавил, как дурак: — За двадцать возьму.
Гоша тут же (тут же!) согласился, ударили по рукам, и все сразу начали торопиться.
В метро он жутко ругал себя всю дорогу: «Бизнесмен чертов! Экономику изучаешь, а элементарно торговаться не можешь! Он бы за десятку отдал. Берет ведь задарма, а деньги ему нужны, ох как нужны! А тебе, как видно, не нужны, ты у нас миллионер!..» Так костерил себя, что даже книгу, по обыкновению своему, не открыл, не было должного настроя.
И вообще к этой странной книжке априори сложилось у Давида неприязненное отношение. Уж слишком она была чудная. Самиздат? На раз безусловно, но откуда такая качественная печать, бумага переплет. Буржуазная пропаганда? Но тогда где хотя бы два слова — что это, кто это, зачем, кому предназначается? Предисловие какое-нибудь, в конце-то концов. Ни черта! «Заговор Посвященных». Фантастический роман. И сплошной текст от третьей до триста двадцатой страницы. Русский текст. Любопытный. Все-таки он начал читать. В тот же день перед сном.
Было там про какого-то полицейского. Российская империя, обратно переименованный Кенигсберг, начало двадцать первого века. Не фантастика, а полный бред. Интересные детали попадались. Язык — ничего, любопытный, сексуха — очень откровенно, не по-нашему, а в целом — раздражало. Потому что непонятно. Например, «Остров Крым» у Аксенова — тоже своего рода фантастика, но там — сатира, ясно с пол-оборота, а здесь — ни два ни полтора. Как говорили в школе, что хотел сказать автор?
Подряд он прочел немного, листанул вперед. Там пошла какая-то философская заумь, стилизованная под канонические религиозные тексты. Читалось с трудом. Выхватывались отдельные интересные фразы. Что-то запомнилось. Но вообще захотелось бросить. И он бросил. Погасил свет. А на следующий день и позже все некогда было вернуться к этой тоскливой ахинее антисоветского происхождения. Друзья буквально завалили книгами, которые надо было читать срочно. И когда недели через две-три Эдик приволок ему Набокова — «Лолиту» и «Приглашение на казнь», захотелось в благодарность тоже дать ему что-нибудь этакое. И он, очевидно, подсознательно стремясь избавиться от непонятно раздражающей книги, предложил Цукерману «Заговор Посвященных». Цукерман вцепился с энтузиазмом. (А во что он вцеплялся без энтузиазма?)
И книжка канула навсегда.
Но ведь помнил же он что-то. Даже теперь. Что-то помнил.
Давид напрягся, закрыл глаза, расслабился, еще раз напрягся, и всплыли из памяти две страницы — разворот с фотографической точностью.
…вплотную к нему Борис и вкрадчиво зашептал на арамейском:
— А вот скажите, Владыка Шагор, почему так непреклонен великий Закон Случайных Чисел?
(Вот он, Закон Случайных Чисел! Вот он! Только не спугнуть текст, только удержать!)
— А я объясню вам, друг мой Борис! — молвил Шагор, поднимаясь. Однако позвольте мне перейти на греческий. Так понятнее будет.
— Я предпочел бы на древнекитайском, но… как вам угодно, коллега. Еще одно маленькое уточнение. Отбор на высшие уровни не подчиняется, насколько я могу судить, этому закону. Вы согласны?
— О, безусловно! Так слушайте. Информационное пространство Второго уровня не бесконечно. Такова была и есть изначальная данность. Машина не умеет и не хочет иметь дело с бесконечно большими величинами.
«Машина! — подумал Шумахер. — Конечно, он имел в виду компьютер. Чрезвычайно удобный греческий язык! Что за люди, эти демиурги! Он, кажется, даже не уловил моего сарказма по поводу древнекитайского. Далась им поэтика мертвых языков! Интересно, сколько иероглифов понадобилось бы в действительности для обозначения слова „компьютер“, да не просто компьютер, а „компьютер девятого поколения“? Может, всего один?»
— Машина имеет дело с конечными величинами, и это касается как числа критериев оценки, так и количества принципов отбора, то есть величин второго и третьего логического порядка, — вещал Владыка. — Эксперимент на условной модели с отбором по любым фиксированным факторам привел, заметьте, коллега, это очень важно! — к весьма печальным результатам. Вы спите, что ли, мой юный нобелевский лауреат? Печальным результатом я называю полное разрушение модели объекта за относительно короткий промежуток времени.
— Нет, я не сплю, мой юный Демиург! (Опять не чувствует иронии, зараза.) Если перевести все, что вы сказали, на нормальный английский язык, получается так: проводя селекцию вида homo sapiens хоть по расовому признаку, что не оригинально; хоть по половому, что оригинально, но тоже не ново; хоть по принципу близости к кормушке, что наиболее традиционно, но и наиболее омерзительно; хоть по интеллекту (максимально современный, но и предельно глупый подход, ибо это, по сути, тот же спартанский отбор по состоянию здоровья); хоть по любым другим, самым возвышенным и изысканным религиозно-философским, морально-этическим, романтично-поэтическим и сексуально-идиотическим критериям — результат один: медленное, но верное вымирание вида. Не остается ничего другого, как уповать на Ее Величество Случайность. Так?
— Вы совершенно правы, хотя и многословны. А с чувством юмора у меня, прошу заметить, все в порядке, равно как и с чтением мыслей на любом из доступных вам языков. Только не подумайте, что теперь я стану мстить за оскорбление. Боже упаси! Мы, демиурги, и слов-то таких не знаем. Мы, демиурги, вообще народ тихий и затюканный, работаем без выходных, премий нам не платят, зарплату задерживают, сволочи, а цены-то растут, хоть сегодня беги в ОВИР и прямиком…
На этом страничка текста обрывалась. Давид поймал себя на том, что курит и как всегда, не доставая зажигалки. Черт, не хватало еще на людях такое выкинуть!
Тут же рука потянулась к телефону. Цукермана теперь, разумеется, не найти. Но, может, Гоша что-то знает. Читать не читал, но вдруг хотя бы вспомнит, где взял книгу.
Гоша был дома и, что поразило, вспомнил с лету. Даже не пришлось название говорить. А ведь какой-то суеверный страх подсказывал Давиду: не произноси вслух этих слов — ЗАГОВОР ПОСВЯЩЕННЫХ. Не произноси.
— Удивительно дурацкая история получилась, — охотно начал рассказывать Гоша. (Чувствовалось, что дело прошлое и теперь он откровенно смеется над всеми тогдашними неприятностями.) — Эту злосчастную книгу отцу принес знакомый полковник из погранслужбы. Они у себя на таможне конфискуют целые горы запрещенной литературы. В Шереметьеве, например, специальная машинка стоит, и полагается тут же, не отходя от кассы, мелко-мелко шинковать в капусту всю эту вражью пропаганду. И составлять акт. Но сам понимаешь, как у нас инструкции выполняются. Книжки ведь принимают по счету, а макулатуру — по весу. Так что все, что мало-мальски интересно, ни один псих уничтожать не станет. Литература стабильно растаскивается сотрудниками. Не на продажу, нет. Продажа — это на самом деле уже статья. Распространением называется. Берут просто для себя. У нас же самая читающая страна в мире. А в Комитете вообще сплошь профессиональные читатели работают. Папахен мой, например, очень любит всякую такую фигню читать. Но тут он ее, кажется, прочесть не успел, хотя на полочке, в глубине, книжонка долго стояла. Черт меня дернул именно ее вытащить! Не прошло, кажется, и недели, как папахен хватился. Где, говорит, где она? Ты не брал?! И глаза совершенно дикие, как будто его через пять минут уволят или расстреляют. Я испугался, конечно, и дурачком прикинулся, мол, знать не знаю и видеть не видел. Мне-то зачем эти проблемы? Ну ладно, вроде утихло все. А еще через какое-то время отец при мне разговаривал по телефону, как я понял, с начальством. Неприятно так разговаривал, нервничал. И вдруг совершенно неожиданно схватил меня за рукав и — прикрыв трубку, свистящим шепотом:
— Гоша, ты, правда, не брал эту книгу?
Я чуть не помер со страху, но все же не растерялся:
— Да ты чего, па? Конечно, нет.
А он вдруг как-то странно успокоился и сказанул в трубку такое… Я чуть не грохнулся посередь холла.
— Товарищ генерал, — сказал он, — могу свидетельствовать: эта книга сама собою исчезла. Да, товарищ генерал. Да. Обязательно в письменном виде. До свидания, товарищ генерал.
Вот такие, брат, пироги с котятами. А у тебя, значит, свистнули книжонку мою. Красиво. Ну и хрен с ней! Как говорится, дьяволу — дьяволово. А мы тогда на твой двадцатничек неплохо погудели!..
Давид молчал ошарашенно, и Гоша счел нужным добавить:
— Боишься, телефон прослушивают? Не бойся, сейчас уже времена другие.
Однако в воскресенье выяснилось, что времена примерно те же, что и были.
Старенькую хрущобу с облупившимся мелким кафелем в ржавых потеках он нашел без труда. Пять минут ходьбы от Даниловского рынка. Подошел к исцарапанной необитой двери на четвертом этаже. Совсем уже собрался звонить, когда голос за спиной окликнул:
— Молодой человек!
— А? Что?
Крохотная белоснежно-седая сухонькая старушка выглянула на лестничную клетку, зябко кутаясь в серый пуховой платок.
— Молодой человек, вы к Игорю Альфредовичу?
— Д-да.
— Не звоните. Его забрали вчера.
— Как?!
— Ну, эти в штатском, пришли и забрали. Не звоните. Опасно. Я знаю. У меня сына расстреляли в сорок девятом.
— Спасибо, — пробормотал Давид и ссыпался вниз по лестнице.
А в подъезде топтался высокий гражданин в плотном шерстяном пальто и каракулевой шапке пирожком. Может, греется? Или ждет кого? Гражданин поднял глаза на Давида. Ласковые такие, спокойные и пустые, как дырки в носках. Конечно ждет. Его, родимого, и ждет.
— Вы к кому? — глупо спросил каракулевый пирожок.
«Где ж ты раньше был, идиот? По нужде во двор бегал? „Вы к кому?“ спрашивают на входе!»
— Это пятый корпус? — перешел в наступление Давид.
— Н-нет, — замялся от неожиданности пирожок. — Это третий.
— А мне нужен пятый, я ошибся, не видно ни черта в темноте….
И мимо него, на улицу, и за угол, и бегом, все время бегом…
Из дома позвонил Вальке.
— Слушай, Веня Прохоров будет завтра на работе? Он мне книжку интересную обещал.
— Нет, его не будет, Дод, Веня уволился.
— Чего это?
С каким трудом далось ему это небрежное «чего это?»! Только не выдать себя!
— В четверг заявление подал, в пятницу работал последний день, спокойно сообщал Валька. — Какие-то у него семейные обстоятельства. Может, ездить далеко. Он же в Химках живет. Вообще, честно тебе скажу: жалко. Механик отличный. А всего-то три месяца у меня и проработал.
— У тебя есть его телефон? Ты же знаешь, я по части книжек чокнутый, оправдывался Давид.
— У него нет телефона. Записывай адрес: улица Маяковского…
Давид записал. Но уже тогда понял: Веню он больше не увидит.
Собственно, можно было и не ехать. Пилить черт-те куда по гололедице и грязному московскому снегу, чтобы убедиться… В чем? Он не знал точно. Потому и поехал.
Маленькие розоватые двухэтажки среди деревьев. Ну прямо дачный поселок. Коттеджи западного типа. Идиллия.
А нужный ему дом сильно обгорел. Видно, только что, этой ночью. Еще не все пожарные уехали. Машина стоит, запах гари, закопченные стены, крыша железная даже дымится (или парит?) и место происшествия оцеплено милиционерами. Болтливый по молодости сержантик рассказал:
— Человека тут убили ночью или под утро. Молодого парня из пятой квартиры. А потом подожгли, наверно, следы заметали.
Неожиданно рядом возник гражданин. Словно бы знакомый. Ах, ну да! Рожа другая, хотя и похожая, а пальто и пирожок — ну прямо с одного склада брали.
— Вам, простите, кого? Вы, простите, куда?
— А я в третью квартиру, — импровизирует Давид.
— А там сейчас никого нет.
— Очень, очень жаль. Я по объявлению по поводу продажи холодильника.
Пирожок делает круглые глаза.
— Наверно, я ошибся. Это какой дом?
Он уже не слышит ответа. За деревья, за угол, к дороге, к автобусной остановке, где народ кучнится, и дальше — к своей машине, и бегом, все время бегом…
Значит, теперь вот так. Всегда. Бегом и только бегом.
И вздрагивать от телефонных звонков, и перед дверью оглядываться и чутко вслушиваться, и шарахаться в темноте от каждого куста. Значит, теперь вот так.
Не хочу, сказал он себе. И больше не буду искать никаких «своих». Зачем? Кому это нужно? Мне самому? На фиг, на фиг. А высшее руководство в лице безвременно ушедшей Венеры никаких инструкций не оставляло, если не считать туманной фразы: «Ты не предназначен для земной жизни». Ишь, без меня меня женили. Не предназначен, говорите? А вот хочу и буду жить здесь. На самом деле не хочу, но все равно буду. Всем назло. А якшаться с этими подпольщиками означает впрямую, откровенно нарываться на тюрьму или скорую гибель. Пошли вы все в баню! Между прочим, в этих… заветах, что ли… как раз и сказано…
Он вдруг вспомнил еще несколько строк из «Заговора Посвященных». Всего заветов там было девять, но он, наверно, все не прочел, во всяком случае сейчас вспомнил два. О том, что Посвященный должен жить обычной жизнью, как все, не выделяться; и о том, что нельзя торопить смерть. Грех это великий. Вот так. А ведь все эти игры в догонялки с КГБ — что это, как не нарушение обоих заветов сразу?
Или он просто струсил?
Вспомнился отец, отказавшийся стучать на друзей и поломавший себе жизнь навсегда. А он, Давид, он бы смог так? Наверно, нет. Потому что он трус. Бегом от квартиры Бергмана. И от сгоревшего дома Вени — тоже бегом. Хотя, казалось бы, чего бояться? Ведь смерти не существует. Вот когда становится ясно, что трусы боятся не смерти. Трусы боятся жизни. Боятся боли и тошноты, боятся сложностей-неприятностей, очень боятся всяких лишений. Так много радостей на свете, так многое хочется повидать, испытать, вкусить. И тебе еще нет тридцати. Целый вагон желаний… Или рассудить по-другому: тебе уже почти тридцать, а ты еще ни черта не видел, не пробовал! И теперь, значит, надо от всего добровольно отказаться? Чего ради?!! Ради спасения души? Какой, на хрен, души?! Душа — это что вообще такое? Кто-нибудь знает? Может, тогда ради спасения человечества? Ну, нет уж, дудки. Спасали это гребаное человечество. Было, и не раз. Пустое занятие. Пу-сто-е.
Встал, подошел к зеркалу и посмотрел себе в глаза.
Так и есть: мелкий ничтожный человечишка. На всех ему наплевать. Думает только об удовольствиях. Эпикуреец хренов. Гедонист-онанист. А его выбирают в Посвященные. Отец вот Посвященным не стал, спился и просто умер. Валька, золотой человек Валька — тоже не Посвященный. А туповатый Прохоров, выдающийся слесарь и книжный спекулянт с инженерным образованием пожал-те! И Анечка Неверова — доченька едва ли не Самого, барвихинская поблядушка, наркоша и пьянь — туда же! «Богиня»!..
Святотатствуешь? Нравится тебе? Нервы щекочешь? Прекрати. Противно.
Не прекращу. Потому что все это правда. Потому что бессмертием должны награждаться лучшие, а не всякая шелупонь! Это несправедливо! Кто это все придумал? Ах, ну да, Закон Случайных Чисел. Как там объяснял этот Шагор… Или Шумахер? Хорошая фамилия. Шумахер — значит сапожник. Шумахер без шумах. Точнее, «без шузов», но «без шумах» — красивее. Бред.
Если для бессмертия отбирать лучших, кто-то должен этим заниматься. Допустим, Бог. Традиционная концепция. Но у Бога тоже есть родственники, и личные пристрастия, и право на ошибку. И это не циничный эпатаж. Это действительно так, потому что Бога сотворил Человек по образу и подобию Своему. И, значит, Сапожник прав. Да нет, все-таки не Сапожник, а Шагор. В общем, они там весь этот отбор доверили Машине. А Машина — как водится, дура и тычет своим глупым пальцем наугад. И вот таким замечательным способом они строят там у себя Новый Прекрасный Мир. Идиотизм. Ох, доберусь я когда-нибудь до этой небесной канцелярии! Ох, наведу там шмон!..
Ой! Что это?
Давид по-прежнему стоял перед зеркалом, но он больше не видел своего отражения. Не потому, что отражение исчезло (что он, дьявол, что ли?), а потому, что теперь он смотрел на себя со стороны. Душа, о которой, «на хрен, никто не знает, что это вообще такое» (цитирую по памяти), благополучно отделилась от тела. Картина Репина «Приплыли».
Давид смотрел, как он отходит от зеркала, ложится на диван, запрокидывает голову, вытягивает руки вдоль тела.
Помирать, что ли, собрался? Сильный вопрос. Такой вопрос собственному телу может задать только очень смелая душа. И ответ на него тоже требуется сильный.
Ответом стал звонок в дверь. В два часа ночи. А этот идиот, то есть тело этого идиота, небрежно глянув на часы, встало и пошло открывать.
На пороге широко улыбалась очень милая девушка с длинными каштановыми волосами. Изящные босоножки на шпильках, короткая черная кожаная юбка, легкий светлый батничек в цветочек — в общем, для зимы самое оно.
А сердце вдруг заколотилось сильно-сильно и в невероятно торжественном музыкальном ритме. Что это? «Свадебный марш» Мендельсона? Да нет, пожалуй, больше похоже на «Маленькую ночную серенаду» Моцарта. Не силен он в музыке, что поделать. Но вот удивительно: сердце стучало не в теле его, а в душе. Да, да, именно так!
— Я пришла, — заявила красавица. — Не валяй дурака, спускайся, ты нужен мне целиком.
А он действительно смотрит на всю эту сцену сверху, как бы болтаясь под потолком в прихожей. Она что же, видит глазами душу? Ну, раз так, делать нечего, глупо играть в прятки.
Он опускается и нехотя соединяется с телом. А тело времени не теряло: девушка уже у него в объятиях. Приятная девушка — нежная такая, и пахнет от нее изумительно. (Любимое Гошино словечко. Что там у него было изумительно? Печень трески с похмелья? А вот теперь духи изумительные.)
— Куда ты торопишься, дурачок? — Жаркий шепот.
В какую небесную канцелярию?
— Теперь уже никуда не тороплюсь.
— Вот и правильно. Не надо никуда торопиться. — Еще более жаркий шепот. — Ты совершенно особенный человек. Ты слишком, слишком многое умеешь. Это опасно: почти ничего не знать и столько уметь. Не торопись, дурачок. Ты не создан для земной жизни, но всему свое время. И ты еще не выполнил здесь предназначенную тебе миссию. Ты даже не общался с Владыкой. А ведь ты нужен другим людям.
— Каким людям, Шарон? (Откуда он узнал, что ее зовут Шарон? Неважно, неважно…) Я был нужен только Анне. Но Анна ушла.
— Да… Анна… ушла. Анна… там, а мы… здесь… — Еле слышный, прерывистый, страстный шепот.
Матерь Божия, она уже раздела его! Как это у нее получается, непрерывно что-то говорить и целовать, целовать все его тело: лицо, шею, плечи, грудь, ниже, ниже…
— Шарон! Я люблю Анну. Я хочу к ней, Шарон!
— Люби, Давид, люби свою Анну, только теперь она далеко, очень далеко, а я здесь, разве я тебе не нравлюсь?
— О, Шарон! Я же люблю Анну! О, Шарон, Шарон…
Ну нету же больше никаких сил терпеть эту сладкую муку! Какие еще нужны слова?! Какие слова? О, Шарон! Только жаркую плоть — губами, руками, языком, всей кожей вобрать в себя, утопить в себе — и выплеснуть обратно, и снова вобрать, и снова выплеснуть… О Боже!
— Но ведь это же просто секс, Шарон.
— Дурачок, просто секс — это одна из величайших ценностей во Вселенной. Правда. Ты это поймешь. Потом.
А пока — живи здесь, люби свою Анну, мечтай о ней, но не пытайся уйти. Потому что ты нужен людям на Земле. Это очень важно.
— Погоди. Но этот ваш мир, ведь он совершенно реален. Разве оттуда не возвращаются? Разве оттуда нельзя вернуться?
— Ты задал два разных вопроса, Давид. Оттуда не возвращаются. Но оттуда можно вернуться.
Она оделась и ушла. Самым обычным образом — через дверь. А он вернулся к зеркалу и посмотрел на часы-будильник, стоящие возле кровати. Они громко тикали в тишине. И секундная стрелка бегала. Но было по-прежнему ровно два.
Зачем-то — Фома неверующий! — он набрал на телефоне «сто», хотя сразу прекрасно понял: все это было на самом деле, но только не здесь и не сейчас. Это было вне времени. Это было — там.
Глава третья. НАРОДНЫЙ ЕВРЕЙ СССР
После ночи с Шарон период его философствований практически закончился. Наступило полное безразличие — безразличие человека, вдруг еще раз понявшего главное. Именно вдруг и именно еще раз, потому что главное было, как всегда, предельно просто и не ново: надо жить, как все, как раньше, как жил всегда. Посвящение не дает никаких прав, возможности — да, но это совсем не одно и то же. К тому же не все возможности следует использовать.
Как прошли эти полтора года? Целых полтора года! Если б кто на самом деле спросил — Давид не ответил бы, честное слово. Были они вообще, эти полтора года? Или…
А что или? Сон наяву.
Время, недобитое его друзьями из советского высшего общества, время, покинутое Анной, время, изувеченное внезапным появлением потусторонней девушки Шарон, — это время, всегда такое простое и монотонно текущее, теперь окончательно заболело, заметалось в конвульсиях, и уже ничего, ничего нельзя было понять.
Работал в институте. Над чем? Писал статьи. О чем? Печатался. Где? Пил водку. С кем? Спал с женщинами.
С какими? Читал книги. Чьи? Ни на один из этих вопросов у него не было конкретного ответа (не знаю, не помню, затрудняюсь сказать — из вариантов, предлагаемых обычно социологами). Ну не было ответов — и все тут.
А потом, в новогоднюю ночь с восемьдесят девятого на девяностый он вдруг словно очнулся и понял, мгновенно суммировав всю полученную за время «сна» информацию: жизнь вокруг сделалась принципиально другой. Исчез бумажный привкус свежего ветра перемен, размокла старая советская бумага в непривычно огромном океане новой информации, сгорела в пожарищах межнациональных конфликтов. И во все более свирепых порывах уже не ветра урагана — отчетливо проступил запах большой крови и едкого порохового дыма.
Оказалось, что новости надо теперь не просто слушать, а воспринимать всерьез, переваривать и примерять на себя. Он переварил, примерил и вздрогнул. Мир изменился. Мир стал другим.
Вспомнилось вдруг двадцать третье апреля — митинг Демократического Союза на Пушкинской, когда даже не дали ничего толком сказать по поводу тбилисских событий, потому что на каждого демонстранта приходилось минимум по десять милиционеров (на самом деле омоновцев, но тогда еще к слову этому не привыкли). Стражи порядка стремились схватить любого раньше, чем он вякнет, да только система уже дала трещину, уже слишком много людей откровенно не боялись ее и кричали из толпы: «Фашисты! Позор!» И это было ново, это было почти шоком тогда. Приятным шоком. И Давида захлестнуло ни с чем не сравнимое ощущение собственной свободы и значимости.
То, что происходило, происходит, и то, что еще произойдет в мире, зависело теперь от каждого. Кончились времена «винтиков». На самом деле кончились. И он, Давид, перестал быть винтиком в третий раз.
Впервые он ощутил свою незаменимость, когда узнал, что «двигает глазами бутылки». Потом — когда стал Посвященным. Ведь Посвященный, даже если захочет, не сможет ощутить себя пешкой или песчинкой в космосе. Теперь он не был рабом и быдлом вместе со всеми. Со всеми, кто решил для себя в тот год не быть рабом. Знакомьтесь: Давид Маревич — Трижды Невинтик Советского Союза. Это вам не хухры-мухры.
А цены меж тем вкрадчиво ползли вверх, институтской зарплаты ни на что не хватало, а подрабатывать, кроме как статьями, он не умел, теперь не умел. Раньше-то все было понятно: разгрузка вагонов, стройка, ночные смены на «холодильнике», а нынче требовалось что-то другое — торговать, посредничать, выступать дилером, осуществлять менеджмент — все это казалось Давиду таким чужим, хотя в теории он разбирался получше многих: дилера от дистрибьютора отличал запросто и брокера с маклером ни за что бы не спутал, но самому осваивать рыночную экономику… Он даже не представлял, с какого боку подступиться, и вполне утешался пусть редкими, но все же относительно постоянными гонорарами за свои перестроечные опусы в газетах и журналах.
В тот январский день он как раз ехал из любимой редакции, очень довольный как размером гонорара, так и статьей, опубликованной в авторском варианте, без единой купюры — тогда это было еще почти в новинку и радовало.
А вот машина не радовала. С прогоревшим глушителем и чем-то очень важным, отвалившимся спереди, она стояла на приколе у Вальки. Поэтому Давид и ехал на метро. А когда не бываешь в подземке часто, там даже начинает нравиться: тепло, светло, и весь вагон уютно шелестит газетами.
А кто без газеты, тот с журналом или книгой. Трудно, почти невозможно найти нечитающего. Самая читающая страна в мире. Без дураков — в перестройку это было именно так. Свою статью Давид уже перечитал, поэтому теперь, заглянув через плечо впереди стоящему, невольно начал изучать материал в «Московских новостях», посвященный событиям в Баку. Но на «Площади Свердлова» «Московские новости» сошли, Давид вынужден был оторвать взгляд и поднять его на входящую толпу, чтобы оценить ситуацию, чтобы хоть не мешаться у дверей, и…
Словно в перекрестье прицела, поймали его печальные черные маслянистые глаза.
«Девушки не должны так пристально смотреть на мужчин… Ба! Да я же знаю ее! Или кажется?.. Сердце: тук — тук-тук — тук — тук-тук-тук — тук тук-тук… Модуляция. Шифровка. Это Алка. Алла Климова. Она — Посвященная».
Алка была его одноклассницей. Правда, не с первого, а с шестого класса, но это никакого значения не имело. Все равно ее бы в жизни не приняли в элитарную компанию отличников и пижонов, считающих себя взрослее других, в компанию, к которой естественно и без вопросов причисляли Давида. Климова считалась забитой патентованной дурой и безнадежной дурнушкой. С годами, по мере остывания этой юной жестокой категоричности некоторые стали замечать в ней девушку, но лично Давида по-прежнему раздражала нескладная сутуловатая фигура с короткими ногами, вислым задом и маленькой грудью, крупный нос картошкой и какая-то очень темная негладкая кожа, ее вечно нелепая, почти мальчиковая стрижка и идиотская привычка глупо улыбаться не к месту. Если что и было хорошее, так только эти черно-зеленые и всегда влажные, как маслины, глаза, доставшиеся в наследство от отца-армянина. Однако и они Давида почему-то раздражали.
Не настолько, конечно, чтоб хранить память об Алке все эти годы. Но он часто вспоминал свою первую любовь Зину Колесникову — тонкую, изящную, трепетную, по-хорошему кокетливую, невероятно женственную с самых детских лет, Зину, к сожалению, не доставшуюся ему, начхавшую на всех влюбленных в нее «высокопоставленных» одноклассников, ушедшую в актрисы и рано выскочившую замуж за режиссера на двадцать пять лет старше ее. Давид частенько с тоскою возвращался мыслями к своей потерянной навсегда Зине, и вот тогда, бывало, по ассоциации, как полнейший ее антипод, как вопиющий пример непохожести людей вспоминалась Алка Климова.
Некоторое время толпа разделяла их, но Алка уже улыбалась своей ничуть не изменившейся за десять — да нет, уже за четырнадцать! — лет дурацкой глупой улыбкой. На «Маяковской» ей удалось протиснуться почти вплотную к нему, но Давид кивком в сторону двери дал понять, что выходит, и в итоге их благополучно вынесло на перрон.
— Привет, — радостно сказала Климова.
— Привет, — он вдруг почувствовал невесть откуда взявшуюся волну ответной симпатии к ней. — Как поживаешь?
Вот так и спросил: не «Сколько лет уже?..» не «Как это мы вдруг встретились?», а просто, буднично: «Как поживаешь?»
— Нормально. В школе преподаю. Дети — такие дураки! Я от них устаю ужасно…
«Ну, понесла, — подумал Давид. — Неужели это тот самый случай, когда спросишь из вежливости, а тебе начинают всерьез и подробно?»
Но подумал без злости, даже без тогдашнего юношеского раздражения. И на первом месте была тут действительно не «посвященность» ее, а что-то другое. Ностальгия по прошлому, по детству? Реакция на ее радость? Сочувствие к родственным ей армянам, недавно пережившим чудовищное землетрясение, а теперь уничтожаемым в Баку, как некогда по всей Оттоманской империи. Он только что читал «Московские новости».
Поговорили и об этом. Они вообще проболтали минут сорок, не сходя с места. Традиционный чисто московский идиотизм: назначить деловое свидание или случайно встретиться в метро, остановиться якобы на минутку и простоять час, мешая входящим и выходящим, встречным и поперечным, отчаянно надрывая глотку и напрягая слух всякий раз, когда девяносто децибел очередного прибывающего или убывающего состава врываются на станцию. Поездов таких убыло и прибыло не меньше двух десятков, прежде чем она (она, а не он!) вдруг сказала:
— Ладно, мне пора. А ты вот что, Давид… ты позвони Владыке. Если не боишься. Он вернулся в Москву. Сам понимаешь, времена потеплели. Но все равно, если боишься, не надо.
Что ж она его так настойчиво пугает?
— Я позвоню, — ответил он коротко, про боязнь даже комментировать не стал, а потом добавил: — Ты считаешь, нам снова пора объединяться?
— Я не знаю, — честно сказала Климова, не вдаваясь в подробности, кто и с кем объединялся раньше. — Ты у Владыки спроси. Так позвонишь? крикнула она, впрыгивая в вагон.
И осталось непонятным: это она опять про Владыку или теперь уже про себя?
Как была дура, так и осталась!
Давид улыбнулся и пошел к эскалатору.
И вот снова воскресенье, и снова мороз покусывает щеки — опять он без машины, как тогда. Впрочем, два года назад было теплее, потому что валил весь день крупный снег, Давид из-за него и не сел за руль: видимость скверная, пробки, да и засыпанный «Москвич» откапывать лень. Сегодня пеший рейс вызван необходимостью.
А вот хрущоба у Даниловки выглядела все так же, и подъезд, где опять было совершенно пусто, и обшарпанная дверь на четвертом этаже.
Игорь Альфредович открыл сам — высокий, худощавый, совершенно седой, только усы почти черные, лицо со множеством морщин, правый глаз заметно косит, и удивительно приятная улыбка в полной гармонии с дымящейся трубкой в углу рта.
— Проходи, Додик, проходи.
Здесь представляться не было никакой необходимости, и не только потому, что исправно сработала их внутренняя система паролей.
— А ты похож на отца, — продолжал Бергман. — Правда, Норочка? Это Норочка, Нора Викентьевна, моя жена. Мы знали твоего отца, Додик. Недолго, но знали. Еще для «Хроники текущих событий» вместе материал готовили.
Нора Викентьевна, женщина не молодая, лет пятидесяти, но обаятельная, произвела на Давида очень приятное впечатление. Она была похожа на мать, и от этого всколыхнулись где-то в глубине теплые мягкие пласты детских воспоминаний. Однако «сердечный дешифратор» молчал.
И очевидно, возникшее недоумение четко отразилось на лице, потому что Бергман сразу сказал:
— Предупреждая твой вопрос, Додик: Норочка — не Посвященная. Тебе, наверно, кажется по молодости лет, что мы должны создавать семьи только среди своих. Это абсолютно неверно. Во-первых, «посвященность» — не болезнь и по наследству все равно не передается. Во-вторых, в совместной жизни важнее всего не Знание, даже если оно высшее и тайное, а понимание. Норочка меня понимает и любит. Этого больше чем достаточно. Да ты садись. Закуривай, если куришь. У нас тут всюду можно. А сейчас чаю нальем.
Нора Викентьевна принесла с кухни чайник и, глянув на часы, напомнила:
— Телевизор включи. Сейчас ровно девять будет.
— Ох, правда! — Игорь Альфредович засуетился, несколько раз щелкал не совсем исправным выключателем, наконец экран вспыхнул, и они успели только-только к началу программы «Время».
А день был тот самый — двадцать первое января девяностого. Танки в Баку. Вынужденная мера. Десятки жертв в официальном сообщении, а значит люди уже умели вычислять правду — на самом деле сотни. И по экрану заструилась кровь, постепенно заливая весь его красным цветом. На советском телевидении такое было впервые. Впервые такое позволили. Даже Игорь Альфредович не ожидал, шептал ошарашенно:
— Во, кровищи-то, кровищи!..
Потом они долго смотрели молча. Наконец Бергман спросил:
— Думаешь, они ввели туда войска, чтобы спасать армян от азербайджанских бандитов?
— Не думаю, — сказал Давид, — я внимательно следил все эти дни за событиями, и не по этому завиральному телевидению, а по «Свободе». Спасать в Баку уже практически некого. С помощью танков там пытаются сохранить лишь советскую власть. Но это глупо.
— Не просто глупо, — поправил Игорь Альфредович. — Это преступно. Но я уже и не жду ничего хорошего от этого режима.
— Так как же с ним бороться теперь? — вырвалось у Давида. — Так, как вы раньше боролись, наверно, уже не годится.
— Конечно, не годится, — согласился Бергман. — Но с ним уже и не надо бороться. Он сам погибнет.
— Когда? — не удержался от вопроса Давид.
— Не знаю. Правда, не знаю. Скоро. Но лично я уже не хочу на это смотреть. Мне на прошлой неделе дали разрешение на выезд.
Игорь Альфредович помолчал, раскуривая трубку.
— Эти идиоты признали меня евреем — им так удобнее, хотя во мне ни капли еврейской крови. Я вообще из поволжских немцев, но честно скажу, как еврей, натерпелся за жизнь много. В паспорте-то написано «русский», а кто у нас обычно русский с фамилией Бергман и отчеством Альфредович? Даже варяжское имя Игорь не выручало. В сорок восьмом вышибли из института, едва туда поступил. В сорок девятом вообще пришлось работу искать не в Москве, в Коломне жил у родственников. Приютили безродного космополита. На том официальное мое образование и закончилось. Потом уже не хотелось никуда поступать: и от марксизма-ленинизма тошнило, и опять же с милицией разговаривать проще, когда ты не с дипломом, а с квалификационной книжкой токаря шестого разряда. Этакий соединяющийся пролетарий всех стран. А с милицией разговаривать приходилось часто. Из-за фамилии особенно часто. И я шутил: «Вот женюсь, возьму фамилию супруги». В итоге не взял, конечно. Псевдоним придумал — это да. Его теперь весь мир знает: «Посев», «Континент», «Грани» — там я не Бергман, там я — Урус Силоваров.
А для милиции всегда был Бергман. И не только для милиции.
С этими впервые познакомился как раз в Коломне, когда независимую стенную рабочую газету выпустили. Не зависимую от парткома. В районной гэбухе меня так и спросили: «Что ж это вы, гражданин Бергман, опять русский народ с пути истинного сбиваете?» А я ему в ответ: «Гражданин начальник, а я не еврей, я просто интеллигентный человек». Старая добрая шутка, она для меня на всю жизнь актуальной осталась. А гражданин начальник тогда вспылил. Правда, после проверил мое личное дело и убедился, что прав-то я, но что ж поделать: бьют, как говорится, по морде, а сажают все-таки по паспорту. Месяца два меня в изоляторе держали, не предъявляя никаких обвинений. Впрочем, обвинения в этой стране никогда особо не требовались. Но времена, по счастью, были смутные: то ли Круглов сменил Берию, то ли Серов Круглова… Что у них там происходило — сам черт ногу сломит. Но меня, так или иначе, выпустили. Ну а потом до шестьдесят четвертого я еще успел перебраться в Москву. Работал опять-таки на разных заводах.
Почему-то принято считать, что среди рабочих не было диссидентов. Свидетельствую: это полнейшая неправда.
В шестьдесят восьмом меня чудом не посадили. Ограничились высылкой. В семидесятые я жил в Москве уже только нелегально. Тут-то и начались самые серьезные знакомства и самые серьезные дела. Из нашумевших я знал практически всех: Солженицына, Сахарова, Буковского, Щаранского, Новодворскую, Григоренко, Марченко, Казачкова… Они подчас не знали друг друга, но знали меня. Скажи, разве такого человека можно терпеть на свободе. Конечно, гэбульники меня живо упрятали. Сначала на обычную зону. Там у меня была кличка Еврейчик и весьма высокий авторитет, обижать никому не позволяли. Так что с урками сидел я недолго. Обрати внимание, Додик, среди уголовки совсем не было антисемитизма.
А вот в Казани, в спецбольнице, куда я попал после очередной тюрьмы, антисемитизм был лютый. Может, потому, что евреи были самыми упрямыми. Евреи да еще, пожалуй, мусульмане, но ведь тамошним садистам до фонаря было, они просто от настоящей человеческой стойкости зверели. А стойкость возможна лишь тогда, когда у человека вера есть. Настоящая большая вера. Или Знание.
Игорь Альфредович первый раз по ходу этого неожиданно пространного рассказа упомянул о своей исключительности, и как-то так между прочим, небрежно. Но Давид понял. Мол, слушай, слушай, мальчик, я не в маразме, я тебе самое главное рассказываю, самое главное для всех Посвященных. И Давид слушал.
— В общем, когда я оттуда вышел живым и сохранившим ясность ума, я уже верил во всех богов сразу и считал себя настоящим евреем — заслуженным евреем Советского Союза, нет, выше — народным евреем СССР. Шутки шутками, но так уж получилось. Так что я на сегодняшних чекистов не в обиде. Пусть высылают как еврея. Это справедливо и почетно.
Давид отлично понимал рассуждения Игоря Альфредовича. Его библейское имя в сочетании с белорусской фамилией Маревич для малограмотных борцов за чистоту славянской крови тоже звучало недвусмысленно, и он уже сам натерпелся если и не притеснений, то уж издевок — точно. Впрочем, изучение собственной родословной (к сожалению, возможности его в этом плане были невелики) не давало права утверждать, что еврейская кровь в нем отсутствует. И внутренне Давид слегка бравировал своей «многонациональностью».
Игорь Альфредович залпом допил уже совсем остывший чай и как бы подытожил:
— Уезжаю, Додик, уезжаю. Пропала собачка, маленькая, беленькая… надоело жить в этой стране! Середину помнишь сам. Не при женщинах будет сказано.
— А мне тоже пора ехать? — осторожно спросил Давид.
— Нет, — жестко ответил Бергман. — Зачем? Тебе это совершенно ни к чему. Молодым здесь жить, и ты это скоро поймешь. Может, так скоро, что еще и я не уеду.
В его словах слышалась уверенность, основанная на четком знании, и Давид невольно улыбнулся.
— Сигареткой не угостишь? — спросил Игорь Альфредович. — Надоело трубкой пыхтеть.
Сигареты в то время были в страшном дефиците, и, протягивая Владыке нераспечатанную пачку, Давид безусловно совершал поступок. Именно в этот момент он вдруг вспомнил, с кем, собственно, разговаривает. Очевидно, и это отразилось на его лице, потому что Бергман мгновенно откликнулся:
— Догадываюсь о твоем главном вопросе.
Откликнулся еще и рыжий кот Васька, распушивший вдруг сверх всякой меры огромный хвост и утробно проурчавший «М-м-а-а-о». Бергман закурил, потом надел на правую руку старую драную кожаную перчатку гигантского размера (для кого шили такую?) и принялся играть с котом, пытаясь ухватить его за широкую морду, а Васька шипел, бил наотмашь когтистой лапой и вцеплялся острыми зубами в дряблые черные пальцы огромной ненатуральной руки.
— Я создаю ему образ врага, — пояснил Игорь Альфредович. — Видишь, как свирепеет. Боевой кот!
Давид смотрел на эту странно политизированную игру и думал, что, наверно, так и надо: сидеть здесь, курить, пить чай, говорить о совсем далеких от Посвящения предметах, играть с котом… стоп! Все не случайно. Все это может оказаться ритуалом. И отодвинув еще на время свой главный вопрос, о котором уже догадался Бергман, Давид спросил:
— А коты бывают Посвященными?
Игорь Альфредович даже в «образ врага» играть перестал и взглянул на Давида с неподдельным уважением:
— Боюсь, я недооценил тебя, Додик. Бывают. Именно коты. Другие животные — нет, а коты бывают. Потому что они не просто животные. Ну да ладно. Ты конечно же хочешь знать, почему меня зовут Владыкой. Объясняю: у нас, Посвященных, это слово означает не человека, облеченного властью, а человека, владеющего всей полнотой информации. Может, сам термин «владыка» — не слишком удачный перевод. Но как еще сказать? Властелин? Слишком похоже на пластилин или вазелин. Властитель? Страшновато как-то. А «владыка» — принятое обращение к высшим чинам духовенства — не самая плохая аналогия, согласись. Это по форме, а по сути… Ну, ты ведь в курсе: Посвящение есть процесс обретения Знания. Все Посвященные получают Знание в очень компактной, но ограниченной форме. Мгновенно узнают, что будут жить вечно, что смерть — это не смерть и что они не одиноки в мире.
А как, почему, что, зачем, откуда взялось, кто придумал — это все медленно, частями, умеренными порциями, потихонечку, как науки в университете, чтобы голова не лопнула. Торопиться ведь некуда: не узнаешь чего-то в этой жизни — узнаешь в следующей. А Владыка — человек избранный. Избранный среди избранных. Он получает все знания сразу, целиком. Зачем? Ну а как же? Кто будет других учить? Я, по крайней мере, так понимаю. Но это лишь одно из объяснений. Почему у Владыки голова не лопается? Значит, такую голову выбирают. Много ли нас, Владык? Точно не знаю. Во всяком случае, несколько. Есть в Европе Владыка Шпатц, в Америке — Владыка Джереми, в Индии — Владыка Бхактавинвагма…. Как нас выбирают? Очевидно, так же Закон Случайных Чисел.
— А откуда вы узнаете, Владыка, — спросил Давид, — что уже известно мне, а что — еще нет?
— Читаю мысли. Но не все, не пугайся, лишь отдельные, по теме. Честное слово. Ты это поймешь. Ведь мысли Посвященных, пришедшие извне, живут как бы независимо от их мозга. Непонятно? Я сам не понимал. В КГБ объяснили. Они меня там психотропными препаратами пичкали и думали, что я им Высшее Знание выболтаю, пока в отключке буду лежать. Хрена лысого! Не для того Высшее Знание создано, чтобы на их поганые пленки записывать. Все Канонические Тексты, все высшие законы мироздания, всю историю Посвященных, даже все адреса и телефоны нынешних друзей-Посвященных я могу сообщить только добровольно, и даже элементарная физическая боль уже блокирует эту информацию. Представляешь?
— Здорово! — выдохнул Давид. — Так, значит, мы сильнее их?
— Ни черта! — остудил его Владыка. — Сильнее их те, кто призвал нас. Демиурги. Но это очевидно. Обратное было бы по меньшей мере странно. А вот такие, как мы, способны стать сильнее, только если будем вместе. Может, для этого я и уезжаю.
Он помолчал, вновь раскуривая трубку.
— Здесь немыслимо бороться со злом, Додик. Здесь, в России, все поставлено с ног на голову. Здесь утверждают, что общественные интересы по определению — испокон веку выше личных. Здесь говорят, что «умом Россию не понять», а также, что наши часы самые быстрые часы в мире и что вообще Россия — родина слона. Я вернусь сюда, очевидно. Вернусь, когда Россия станет другой.
— А она станет?
— Обязательно. Только боюсь, Додик, что ты опоздаешь на метро.
— Ничего, поеду на такси.
— Хорошо зарабатываешь?
— Да нет, так себе, просто надоело копейки считать.
— А надо, Додик, зарабатывать хорошо. Тебе здесь жить.
Он вдруг совершенно внезапно опять превратился из Владыки в обычного Игоря Альфредовича. Что это значило? Аудиенция закончена?
— Я еще месяца два буду в России, Додик. Обязательно звони и заходи.
Ну а вот и конкретика!
— Ладно, Игорь Альфредович, тогда я побежал? До свидания, Нора Викентьевна!
А гражданин в каракулевом пирожке топтался-таки внизу в подъезде. Но Давид вдруг ощутил в себе такую удаль, такую лихость: наплевать ему и на этого гражданина, и на всю их проклятую контору. Мимо прошел с достоинством, «не повернув головы кочан». И пирожок вел себя тихо, кажется, даже глаз не поднял.
Сколько раз еще он встречался с Владыкой? Оформление документов затянулось, Игорь Альфредович покинул страну только летом, в конце июля, а до этого Давид бывал у него каждую неделю. Приходил, как на учебу, и Владыка шутил:
— Ну, у нас с тобой прямо воскресная школа.
— А что, разучивание Канонических Текстов действительно напоминает уроки Закона Божьего, — отвечал
Давид.
Но практические советы, которые давал Владыка, были очень далеки от дел богоугодных. Собственно, приходилось изучать основы диверсионно-разведывательной деятельности: шифровки, тайники, конспиративные встречи, выявление хвоста — черт знает что. Владыка готовил из него настоящего бойца на все случаи жизни. Ну и конечно занятия эти он проводил не дома. Точнее, не всегда дома. Давид по просьбе Бергмана стал приезжать на машине, они вырывались вдвоем из города по Варшавке или по Профсоюзной и в нескольких километрах за кольцевой бродили меж полей, по лугам, иногда просто вдоль обочины шоссе. Предложение погулять по лесу было Владыкой отвергнуто:
— Не для того мы сюда ездим, Додик, чтобы какой-нибудь оглоед притаился за деревом с направленным микрофоном.
— Неужели дело настолько серьезно? — удивлялся
Давид.
— Намного серьезнее, чем ты думаешь, — грустно улыбался Владыка.
Но поначалу Давид плохо понимал принцип, по которому некоторые совершенно жуткие, с его точки зрения, вещи можно было обсуждать в квартире, как уверял Бергман, напичканной жучками, а другие, абстрактные и не то что КГБ, а и Академии наук едва понятные темы, были табу, ради них требовалось отрываться от хвоста, а потом мерзнуть на ветру в грязном по весне колхозном поле.
Со временем он разобрался: за примитивную антисоветчину теперь уже (а может быть пока еще) не преследуют, а вот древние тайны Посвященных дюже как беспокоят власть предержащих.
Владыка, бывало, приговаривал, когда они оказывались вне зоны действия всех мыслимых микрофонов:
— Что, плохо слышно вам? Ну, извините! Да и потом, ведь вы же все это знаете. Чего не знаете — поспрошайте у людей, а мы уж с Додиком по душам покалякаем.
В одну из первых таких прогулок Давид рассказал Бергману о Шарон и спросил:
— Что это значит: оттуда не возвращаются, но оттуда можно вернуться?
— Видишь ли, Додик, можно не только вернуться с того света, можно вообще все. Теоретически. Нет во Вселенной запретов ни на какие чудеса в силу ее безграничного многообразия. Можно направлять время вспять и в сторону, можно сворачивать и разворачивать пространство, можно уничтожать и вновь создавать целые миры, живущие по любым придуманным законам. Но когда можно все, побеждает хаос. Это неинтересно. (Прими сейчас такой аргумент. Ведь в нашем контексте о нравственности говорить невозможно.) Поэтому есть Закон. Закон — это всегда ограничение в правах. Именно в правах, возможности ограничить нельзя — они остаются прежними. Так вот, ограничивая себя в правах, мы побеждаем хаос и создаем гармонию. Додик, для тебя настало время услышать все девять заповедей Высшего Закона Посвященных. Услышать и запомнить.
Заповедь первая: Если тебе открылся путь, идти по нему можно и вперед, и назад. Но ты иди по нему только вперед, ибо это правильно.
Заповедь вторая: Помни, Посвящение дается свыше, но это не награда и не кара, ибо не заслужили мы ни того ни другого.
Заповедь третья: Умножай знание в себе, а не в мире и не пытайся творить добро, ибо злом оно обернется.
Заповедь четвертая: Живи той жизнью, какой живут все живые, ибо прежде всего ты — человек.
Заповедь пятая: Не убивай, ибо кровавому пути не будет конца.
Заповедь шестая: Не зови смерть, ибо власть над нею иллюзорна.
Заповедь седьмая: Не люби смерть сильнее жизни, ибо сладость смерти мимолетна, а жажда жизни неутолима и вечна.
Заповедь восьмая: Не верь в богов людских, ибо един бог твой и нет его.
И девятая заповедь: Помни, величайший из грехов — возвращение назад, ибо все прочие грехи от него и родятся.
— То есть девятая заповедь, по существу, повторяет первую. Ее еще называют Главной Заповедью, — подытожил Бергман.
Конечно, Давид заучил все это быстро и навсегда, но сначала…
— Игорь Альфредович, я читал эти заповеди в книге!
— «Заговор Посвященных»? — спросил Владыка.
— Вы тоже ее читали? Откуда она взялась?!
— «Текст трех питак с комментариями к ним мудрейшие бхикшу в прежние времена передавали изустно, но когда увидали они, что люди отпадают, собрались все бхикшу вместе и, желая сохранить истинное учение, записали его в книгах».
— Кто такие бхикшу, кто такие питаки? Это тоже из Канонических Текстов?
— Да, — сказал Владыка. — Питаки, в переводе с санскрита «корзины», то есть корзины знаний, корзины законов — это священные тексты раннего буддизма, про них и идет речь в этой цитате из книги, которая называется «Махаванса». Пятый век нашей эры. А Будда жил еще за тысячу лет до того. Сам-то он, конечно, был Посвященным, а вот последователи его, эти самые бхикшу, — кто ж теперь разберется? Да я и не об этом сейчас. Просто история повторяется, Додик. Кто-то должен был рано или поздно попытаться «записать истинное учение в книгах», чтобы люди не отпадали. Да только современные заокеанские «бхикшу» кое-чего не поняли про нашу страну: здесь никто и не собирался отпадать, здесь просто до поры до времени ушли на дно, а когда святотатственная книга проникла через границу, мы нашли в себе силы выйти из подполья и уничтожить ее. Я лично сжег два экземпляра. Вот и вся история, Додик.
— А могло такое быть, — поинтересовался Давид, — что фантастическое описание будущего в «Заговоре Посвященных» — не выдумка, а правда?
— Могло.
— Но там какая-то Российская империя в начале двадцать первого века…
— Я уже объяснил тебе: возможно все.
— И заглянуть в собственное будущее можно?
— Конечно, можно, только это еще больший грех, чем возвращение на Землю.
— А искушение велико? — спросил вдруг Давид.
— Очень велико, — ответил Владыка глухо, и стало ясно, что он не хочет больше говорить на эту тему.
В другой раз Давид спросил:
— Что такое Особый день, Владыка? Веня Прохоров, ну, тот, что нас познакомил, уверял, что вы назначаете его.
— Особый день — это такой период времени (он может длиться больше или меньше суток), когда наиболее вероятно взаимопроникновение миров. Особый день индивидуален для каждого человека и всегда привязан к определенной географической точке. Когда у группы Посвященных совпадает Особый день, они собираются вместе и узнают имя нового. Также по Особым дням приходят Новые Знания, и только в эти дни возможно возвращение назад — с высшего уровня на низший. Периодичность наступления Особых дней подчиняется исключительно Закону Случайных Чисел. Но отдельные Владыки иногда узнают о наступлении Особых дней заранее и могут сообщить другим.
— Посвященных с каждым днем становится больше. Правильно? Чем закончится этот процесс?
— Естественный вопрос, Додик. Но мой ответ разочарует тебя. Когда Посвященным станет каждый четвертый на Земле, мир изменится.
— А поподробнее?
— Ты все узнаешь, Додик. Когда настанет Самый Особый день, для всех особый. И каждый четвертый станет Посвященным. Каждый четвертый….
— Но я хочу все знать сегодня! — перебил Давид.
— Сегодня нельзя, — мирно возразил Владыка.
— А если я узнаю об этом случайно? — почему-то еще сильнее раздражаясь, спросил Давид. — Ведь во Вселенной возможно все. Абсолютно все.
— Не разменивайся на дешевые парадоксы, Додик. Может ли Бог создать такой камень, который сам не сможет сдвинуть с места? Бог-то может, что ему, Богу… И создаст, и сдвинет, и еще создаст. А вот случайно получить главный ответ нельзя. Потому, что в жизни Посвященных не бывает случайностей.
Эти последние слова как-то особенно запали Давиду в душу. Не потому ли, что он и сам уже думал так однажды? Да нет, не однажды… А ведь Владыка не может не знать об этом, не может, потому что мысли читает, и тем не менее повторяет вновь повторяет как заклинание: «В жизни Посвященных не бывает случайностей…»
Потом наступил май, и, уже по чудесной погоде прогуливаясь вдоль ярко-зеленого поля, Игорь Альфредович вдруг остановился и сообщил:
— Я хочу сделать тебе подарок, Давид.
Он сказал не Додик, а Давид — это было странно.
— У тебя когда день рождения?
— Тринадцатого сентября.
— Вот видишь, как удачно. А сегодня тринадцатое мая. Твое число. Считай, к дню рождения. Держи.
Он вынул из взятой с собою сумки и протянул Давиду тяжелый сверток. Давид принял подарок.
Грязноватая тряпка и запах металла со смазкой даже сквозь нее. Он догадался, еще не развернув. Матово блеснула вороненая сталь.
— «Макаров», что ли?
На университетских лагерных сборах приходилось держать в руках и даже стрелять. Получалось, признаться, плохо.
— Ага, — сказал Игорь Альфредович, — Лерины мальчики из Демократического Союза мне подарили. Говорят, вам, Игорь Альфредович, без оружия теперь нельзя. Я им: «Да бросьте, ребята, небось, самим нужнее, вы революционеры, а я — что? Я — человек мирный. Заберите». «Никак невозможно, — говорят, — это — подарок». И правда, гляжу: гравировку сделали. Смотри.
На рукоятку нашлепана была сверкающая стальная пластинка с надписью: «Народному еврею СССР для самообороны».
— Сам понимаешь, — объяснял Владыка, — через границу это везти нельзя, во всяком случае, такие проблемы мне не нужны, а кому здесь отдать? Кроме тебя, некому. Впрочем, если боишься, можешь сразу выбросить. Статья все-таки. Но вручаю все равно тебе.
— Я ничего не боюсь, Игорь Альфредович. И вообще, когда такой бардак в стране, когда не сегодня-завтра примут закон о свободном ношении оружия…
— Романтик, — перебил его Бергман, — такого закона в России еще очень долго не примут. Так что будь осторожен. А что не боишься — правильно. Посвященным бояться нечего, в этом их преимущество. И потому наш долг тащить за собой других. Впрочем, об этом мы с тобой уже не раз говорили.
— Игорь Альфредович, — Давид помялся, но все-таки начал. — Игорь Альфредович, одного я все-таки боюсь в этой жизни. Боюсь потерять Анну. Навсегда. Скажите, такое возможно?
Владыка сверкнул на него глазами, быстро опустил их и какое-то время сидел молча и неподвижно.
— Давид, а ты уверен, что любишь ее?
Давид вспомнил Наташку, двух других девчонок раннего периода, Мадину, грудастую соседку с третьего этажа, симпатичную худенькую проститутку из Дома кино, наконец, Шарон — Посвященную, царицу секса, владеющую всеми божественными навыками. Вспомнил, сравнил… нет, сравнивать было глупо просто вспомнил всех и ответил:
— Ну конечно я люблю ее. С чем это можно перепутать, Игорь Альфредович?
— Да путать-то особо не с чем, — пробормотал Бергман в растерянности. — Просто это очень серьезно, Додик. Если она надумает вернуться, значит, вернется как раз в один из Особых дней, а эти сволочи вычислят и захотят специально разлучить вас, к великому сожалению, такое возможно, ведь они, поганцы, как раз изучили схему… ну, ты, конечно, постараешься… да нет, не помогает это… тогда вот как…
Он словно разговаривал уже сам с собой, бормотал все тише, тише, и Давид окончательно перестал понимать смысл этой бесконечно длинной, в самой себе запутавшейся фразы.
— В общем, для такого случая пистолет будет тебе особенно нужен, неожиданно завершил Владыка. — Бери.
— Я уже взял. Спасибо, Игорь Альфредович.
Так в мае девяностого года Давид Маревич почти официально получил звание Народного еврея СССР.
В том же мае, тремя днями позже, позвонил Геля — приятель по универу Вергилий Наст.
Какое можно придумать сокращение от странного имени Вергилий? Вера? Гиля? Получился почему-то Геля. Наст уверял, что и родители звали его именно так. Вергилий тоже был с экономического, но старше Давида лет на семь, и познакомились они относительно случайно. Давид принес в многотиражку свою, как ему казалось, вполне безобидную статью о перспективах развития хозрасчета и его возможных социальных последствиях, но статья попала не в газету, а сразу в партком, оттуда спустили в комитет ВЛКСМ. Комсомольское начальство и вызвало Давида для разговора. Времена были брежневские, глухие, и обвинения в очернительстве социализма и пресмыкании перед Западом звучали сурово. Дело пахло исключением из комсомола, а значит, из университета тоже. Именно Вергилий, бывший тогда «зампооргом», спас ситуацию. Произнес пламенную адвокатскую речь, что твой Плевако, и удивительным образом переломил мнение всех собравшихся. В итоге даже выговора не дали, а Вергилий, проникнувшись симпатией к головастому пареньку, решил использовать его неуемную энергию в мирных целях и стал привлекать к активной общественной работе. На этой почве Давид и Геля почти подружились, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы через год Насту не предложили вдруг двухгодичную командировку в Йемен. На кой ляд нужен арабам советский экономист, Давид плохо понимал, но по молодости лет такими вопросами всерьез не задавался, да и вообще в рамках тогдашней идеологии все было нормально: мы же строили социализм во всем мире, в том числе и в Йемене.
А в универ на комсомольскую работу Геля уже не вернулся и из жизни Давида пропал надолго, чтобы появиться вновь через много лет, и опять спасителем, опять добрым волшебником.
— Привет. Узнаешь, Дейв? — раздался голос в старой треснутой трубке замызганного аппарата, который Давид по случаю стибрил из родного НИИ взамен своего сломавшегося.
Голос у Гели был низкий, вальяжный, манера говорить — солидная, неторопливая: полное соответствие внешности — сто девяносто сантиметров от пола при ста двадцати килограммах и умеренно избыточном брюшке. Впрочем, когда они снова встретились, брюшко оказалось уже неумеренно избыточным, и сколько там было килограммов, одному Богу известно. А всегда пышные пшеничые усы стали теперь непривычно длинными, ну прямо как у скай-терьера или запорожского казака. А в остальном это был все тот же Геля — большой, добродушный, фантастически умный и потрясающе чуткий.
В общем, ему нужен был экономист с журналистскими наклонностями, ну то есть публицист с экономическим образованием, ну, говоря короче, ему нужен был Давид Маревич. А куда нужен-то? А вот куда.
Он, Геля Наст, собственной персоной создал ни много ни мало общественную организацию абсолютно нового типа («В двух словах не расскажешь!»), с надежными источниками финансирования, с широченным спектром прав, с ошеломительными перспективами.
— Понимаешь, все, о чем сегодня так звонко и часто треплются с трибун, мы будем тихо, без рекламы осуществлять. Абсолютно реально, на практике, благо нам дали такую возможность. И не завтра, а сегодня. И помогать мы решили не человечеству, не стране, не абстрактному народу, а людям. Понимаешь, сегодня надо не строить и не ломать, не перестраивать и не ускоряться. Сегодня наступила страшная эпоха. Эпоха перемен. Мы это понимаем, и для нас есть только одна достойная задача — помочь людям выжить. Выживание — вот единственная благородная цель нашего времени. А работы будет непочатый край. Уж в этом ты мне поверь, Дейв.
Геля говорил как всегда — красиво, но без красивостей, умно, а без мудреностей, просто, но не примитивно. Умел комсомольский работник Геля говорить. Однако не в этом было дело. Уж больно суть его идеи понравилась Давиду.
Слово это — выжить, выживание — ему и самому нередко приходило в голову, а за последние годы особенно.
В мире тупости, садизма, бессмысленной алчности и лжи жить было, в общем-то, незачем. Тем более Посвященному. Не нравится — уйди, никто не держит. Но удержаться здесь, когда никто не держит, удержаться самому, назло всем — было делом чести. Ты на дистанции, ты на трассе, стыдно сойти, не добравшись до финиша. Тяжело? Больно? Дыхалка кончается? А ты иди — дело чести! Это не называлось «жить», это действительно называлось «выживать».
И вот его же, Давида, словами ему объясняют цель жизни и работы! Наверно, это и было главным, из-за чего он сразу согласился. К тому же еще со студенческих лет испытывал Давид странную, необъяснимую, от самого себя скрываемую симпатию к Вергилию. В какой-то момент симпатия превратилась в такой откровенный восторг и обожание, что по юной неопытности он даже испугался: да уж не отсвечивает ли это все голубизной? Потом сравнил Гелю с любимой девушкой, посмеялся сам над собой и понял: конечно, здесь совсем другое. Тоска по дружбе, по настоящей мужской дружбе. Да, именно так.
А теперь, когда он уже положил трубку, договорившись прямо на завтра о времени встречи в офисе (слово-то какое!), все эти воспоминания, сомнения, восторги и вздохи слились внезапно в одно устойчивое подозрение: Геля тоже Посвященный. Стал за это время или — скорее всего! — был уже тогда. Почему и помог Давиду — будущему Посвященному. Почему и звонит теперь. Почему и говорил околичностями. Для своих — все понятно, для прослушивающего офицера — информации ноль. Нельзя же, в самом деле, сказать, что организация абсолютно нового типа — это первое в нашей стране легальное объединение Посвященных. Перестройка перестройкой, но не до такой же степени. Однако он понял, понял! Боже, какое счастье! Наконец-то, наконец-то жизнь вновь обрела смысл.
И ведь не зря он так долго готовился к этому моменту, не зря терпел тоскливые будни, упорно посещал воскресную школу Владыки и не сдавался, не сдавался, не сдавался…
В офис Давид влетел с опозданием. Небольшая комната, обильно уставленная стульями, а народу набилось до черта. Некоторые даже сидели на столах, и все, все внимательно слушали. Говорил не Геля, а небольшого роста смутно знакомый бородатый мужчина лет пятидесяти. Геля сидел рядом. Улыбнулся вошедшему одними глазами, одновременно кивая, мол, садись, послушай, и в тот же миг сердце Давида заколотилось с невероятной силой, буквально выстукивая торжественный марш. Такого мощного сигнала не было ни с Веней, ни с Алкой, ни с Владыкой, разве что с Шарон — да, именно при появлении красавицы Шарон его прямо-таки разрывало от переполнивших чувств. Вот идиотская аналогия! Неужели он действительно испытывает к Геле сексуальное влечение? Давид тогда весело и сразу отбросил в сторону эту нелепую гипотезу и объяснил свою неумеренную реакцию просто общей восторженностью момента.
Он действительно был счастлив, что не обманулся, что такой замечательный Геля будет теперь с ним вместе по гроб жизни, что он нашел людей, с которыми можно работать плечо к плечу и горы свернуть, они понимают друг друга…
«Вот в чем дело! — осенило его. — Их же тут много, Посвященных, оттого и сердце скачет, как очумелое, ведь не было такого еще ни разу».
Наконец он немного успокоился, присев на краешек стола, и заставил себя слушать. Тут же понял, откуда знаком ему человек, державший речь. Это был редактор со странным именем Гастон Девэр из не очень научного, но зато очень популярного журнала «Наука и время», где однажды вышла статья Давида. Редактор ему тогда понравился и своими шутками, и своими дельными замечаниями, и своей решительной просьбой называть его просто по имени, ибо Гастон Константинович — абсолютно непроизносимо. И это воспоминание Давида порадовало. А теперь стало сразу ясно, что Гастон Девэр уже совсем не редактор: докладывал он все больше о делах финансовых, о зарплатах, премиях, льготах, о перспективах коммерческой деятельности Группы (это слово произносилось отчетливо с прописной буквы), и чувствовалось однозначно, что бывший редактор из «Науки и времени» — не последний в Группе человек. Так и оказалось — он был Гелиным замом. И после него говорил сам Вергилий. Говорил еще красивее, чем по телефону, и к концу этого выступления впечатлительному Давиду в пароксизме еще с порога нахлынувшей и никак не отпускавшей эйфории вдруг почудилось, что наш беспутный, заблудший мир наконец-то спасен, уже спасен. Ведь он, Давид, пришел неофитом в «Группу спасения мира». Так помпезно и беззастенчиво называлась вся эта шайка-лейка. Точнее, полностью она называлась еще забавнее и еще выспреннее: Союз коммерсантов, либералов, антикоммунистов и демократов «Группа спасения мира». Получалось СКЛАД ГСМ, то бишь склад горюче-смазочных материалов. Лихо. Но махнувшие на все рукой к тому времени органы власти без возражений зарегистрировали официально такое игривое имечко общественной организации.
Самое время было покурить. Не один Давид думал об этом, некоторые уже в нетерпении грызли сигареты. Геля объявил перерыв. И когда из тесного офиса люди высыпали в коридор, оказалось, что народу не так уж и до черта всего человек пятнадцать — двадцать.
Через год с небольшим Давид будет знать их всех как облупленных, хотя кто-то к тому времени уже уйдет и много, неумеренно много появится людей новых. А в первый день замечательных «ребят» из Группы представлял ему Геля.
Ян Попов — блистательный переводчик-синхронист с английского и арабского, в последние годы театровед, литературовед.
Дима Фейгин, самый молодой, но очень талантливый социолог. Английский, французский, испанский — свободно. Написал книгу, которая вышла в Америке и Германии, но пока кроме неприятностей ничего за нее не получил. Деньги зарабатывал частными уроками. Теперь книга обязательно выйдет у нас. А Дима уже пишет новую.
Олеся Жгутикова — лучший бухгалтер в Москве. Научит кого угодно минимизировать все налоги, не нарушив ни одного закона.
Петр Михайлович Глотков — отставной полковник, классный водитель, незаменимый хозяйственник.
Жора Грумкин — отставной автогонщик и просто бог в авторемонтном деле.
Павел Зольде — художник-оформитель, художник-дизайнер, художник-полиграфист, в общем, художник на все руки. Живописью тоже не брезгует.
Маша Биндер — душа фирмы, женщина, способная вести за собой даже в горящую избу и остановить на скаку не то что коня, а и самого секретаря райкома. По образованию физик, но любим мы ее не за это.
Юра Шварцман — кандидат химических наук, бывший начальник отдела в НИИ, с детства имел пристрастие к торговле и вот теперь получил возможность самовыражаться в роли коммерческого директора.
Иван Иванович Чернухин — ветеран советской журналистики, главный редактор и ответсекретарь многих-многих изданий. Последнее место работы «Наука и время».
Женя Лисицкая — сто двадцать слов в минуту. На машинке. В разговоре гораздо больше.
Вася Горошкин — сто девяносто семь — рост, сто тридцать пять — вес, профессиональный телохранитель, майор в отставке. Нужна нам, в конце концов, своя служба безопасности?
Лазарь Ефимович Плавник — математик, известный правозащитник, член «Хельсинкской группы».
Гарик Сойкин — заведующий производством одной из крупных типографий. Главный наш консультант по издательству и полиграфии. Вот купим свою печатню — сделаем его директором.
Леонид Моисеевич Гроссберг — самый знаменитый адвокат Восточного полушария, крестный отец нашей
Группы.
Илона Ручинская и Лида Кубасова — просто замечательные и во всех отношениях талантливые девушки.
Потом пили чай и даже немножко с коньячком, ели бутерброды, приготовленные действительно талантливыми во всех отношениях девушками, и Гастон, поглощая вкуснейшую баночную ветчину, приговаривал:
— Своевременный прием калорийной пищи — это, между прочим, один из основных аспектов проблемы выживания.
А ему, дурачась, кричали:
— Гастон! Пожалуйста, еще чаю! Гастон!
Звучало как «гарсон», и все смеялись, Гастон сам смеялся, хоть и был для них начальником. Вот такие тут нравы.
Травили анекдоты вперемежку с обсуждением в кулуарах серьезных деловых вопросов, комментировали очень солидно, со знанием многих недоступных прессе подробностей последние политические события. Здорово было.
У Давида возникало ощущение, что всю эту безумно разношерстную, но в чем-то главном удивительно спаянную компанию он знает очень-очень давно.
Он вписался в «Группу спасения мира» так, будто сам ее придумал.
А примерно через месяц Вергилий пригласил его домой. Сказал, поговорить надо. О важном.
Весь остаток мая и июнь Давид крутился, как бобик, на благо родной организации. Оформленный на должность, обозначенную в штатном расписании красивыми словами «менеджер по маркетингу», непосредственно исследованием рынка он, конечно, не занимался. Не до рынка было в то время. Давид как молодой и ретивый занимался всем сразу. Главным его делом на первое время стало налаживание контактов со всей администрацией бывшего министерского здания.
Здание это получил по наследству некий благотворительный фонд с длинным и малограмотным названием «Всесоюзный Центр культуры и гуманитарной помощи социально незащищенным слоям населения, детям и юношеству». Буквально так. Похоже, юрист, сочинявший это название, уж очень старался воткнуть в него все, что позволяет освободить общественную организацию от налогов. И цели своей он достиг, точнее не он, а президент Всесоюзного Центра, народный депутат, всемирно известный актер и режиссер Ромуальд Коровин. Кто мог устоять перед его обаянием и напором? Лично премьер утвердил Положение о Центре, согласно которому благотворительный фонд был избавлен от любых платежей в бюджет на пятнадцать(!) лет — по понятиям восемьдесят девятого года это означало «на веки вечные». И конечно, Коровин развернулся. Нет, никакого обмана не было: и малоимущим помогли, и культуру спасали из последних сил, и для детей кино снимали хорошее, и праздники устраивали красивые, с размахом, но главным было другое. Для всего этого требовались деньги, и Центр научился самостоятельно их делать, а не клянчить у государства.
Коровин, добившись статуса этакой свободной экономической зоны, пригрел под своей крышей чертову гибель коммерческих фирм, плодившихся в те годы, как саранча. И было не важно, чем фирма занималась — хоть изготовлением детских презервативов, главное — внеси в устав два-три благородных пункта по теме основной деятельности Фонда и исправно отчисляй дяде Ромуальду положенные суммы в размерах, разумеется, существенно меньших, чем те налоги, от которых тебя избавили. Доброе дело. По-настоящему доброе. Сотрудники многочисленных фирм между собой в шутку называли Центр «благотворительным министерством», но Давид вдруг понял: не такая уж это и шутка. Благотворительность здесь была самой настоящей, ведь в фирмах работали люди, и пусть начальство, как говорится, хапало, пользуясь новой ситуацией в стране (старой ситуацией чиновники тоже пользовались неплохо), зато теперь оно делилось с подчиненными, и, надо сказать, щедро делилось.
Это стало особенно зримо, когда в конце месяца Давид получил зарплату, расписавшись за нее в ведомости. Почти тысячу(!) рублей чистыми. Такие деньги он мог бы делать, разве что уйдя в борзые кооператоры, — на пирожках или майках, но там еще и рэкету отдай, а здесь все культурно, спокойно, под надежной, почти государственной опекой.
В общем, выживание шло полным ходом. Лозунг, брошенный Вергилием Настом, по существу, сиял и на знамени Ромуальда Коровина, и это создавало впечатление масштабности, победоносности самой идеи спасения мира, вселяло надежду и подпитывало неугасающий энтузиазм Давида. Ради Гели и ГСМ он теперь действительно готов был заниматься чем угодно. И занимался: выбивал мебель и оргтехнику для офиса; открывал рублевые и валютные счета в банках; регистрировал печать — в РУВД, товарный знак — в Патентном институте, а разрешение на издательскую деятельность — в Госкомпечати; возил на подпись бесконечные бумаги в райком, райисполком и даже в Моссовет. На сон и еду времени оставалось негусто, вечера проходили в непрерывных телефонных созвонках, но и это не раздражало — наоборот, нравилось.
И вот теперь Геля пригласил к себе.
— Приезжай, — сказал, — часикам к девяти. Поговорим о важном.
И объяснил, как идти от метро.
«Москвич», точно назло, был у Давида опять в полуразобранном состоянии, но какое, к черту, метро! Он взял тачку — фигли-мигли с такой-то зарплатой! У «Щербаковской» попросил тормознуть, там ларьки неплохие, и купил за сумасшедшие деньги бутылку настоящего итальянского сухого и пачку «Салема», а потом, совершенно не торопясь отпускать водителя, несколько раз выходил из машины, чтобы разобраться, к тому ли дому подрулили.
Геля жил на Звездном бульваре. И это было символично. На шестнадцатом этаже — тоже символично: поближе к звездам. С балкона, куда они то и дело выходили покурить, открывался роскошный, почти космический вид на Москву с ирреально красивой, подсвеченной в ночи Останкинской телебашней в центре пейзажа. Непривычно огромная, близкая, вся в красных точках неоновых огоньков — не башня, а прямо ракета на старте. Дух захватывало.
Геля встретил Давида как родного. Жена его, маленькая изящная брюнетка, оказалась очень милой и приветливой женщиной. Двое сыновей, Толик, четырнадцати лет, с джойстиком компьютерной игры в руках и восьмилетний Миша с хомяком по кличке Чудик, вежливо поздоровавшись, удалились в дебри большой квартиры. А еще Давида встретили книги, великое множество книг, уже давно не умещавшихся ни в какие полки и шкафы.
В гостиной поразил воображение гигантский «Сони Супертринитрон», по тем временам настоящая экзотика. Давид не удержался, полюбопытствовал:
— Сколько?
Геля стыдливо улыбнулся и сказал шепотом:
— Двадцать.
Грех, мол, такие деньги на себя тратить, но, с другой стороны, куда ж их девать?
Давид прикинул, что ему еще рановато о таком телевизоре мечтать, но если учесть, как он рванул со старта… Чем черт не шутит, через годок-другой…
— Ну вот скажи, как тебе вообще наша Группа? — начал Геля свой разговор о важном, при этом неторопливо, основательно, с уважением размещая в мягком глубоком кресле собственное грузное тело.
— Вообще — здорово, — честно признался Давид.
Я и не ожидал, что так приятно будет работать. (На самом деле ожидал, ну да ладно, фраза все равно искренняя получилась.)
Геля, довольный, улыбался.
— Лично я всегда мечтал создать коллектив единомышленников, которым приятно работать друг с другом, и чтобы одновременно была возможность всем хорошие деньги платить.
— Тебе это удалось, Геля. Правда. (Вообще разговор совершенно кретинический, но вот диво — он их обоих устраивает!)
— Ну скажи, ведь действительно получилась организация нового типа. Да?
— Конечно, Геля. Мне кажется, по этому поводу стоит… Извини, я чуть не забыл.
Давид метнулся к своей сумке, выудил красивую длинную бутыль.
— А давай без этого, — со странным выражением попросил Геля.
— Почему? — простодушно поинтересовался Давид.
И Геля стал разливаться:
— Ну понимаешь, еще рано. У нас ведь сейчас самая работа. Обедаем ночью, спать некогда. Я читать перестал, пишу одни договора, сметы, калькуляции. Отдохнуть мечтаю, но нельзя. Сейчас — нельзя. Бешеный ритм. А алкоголь расслабляет. Выбивает из работы сразу. Понимаешь? Вот закончим важный этап (я даже сейчас объясню, какой) и тогда — конечно, тогда обязательно. Устроим праздник. А сейчас — не. Ладно? Сейчас не надо.
— Господи! — выдохнул Давид. — Да разумеется. Это я так. Конечно, ты прав. Работа есть работа. Я тоже когда пишу, ни грамма, ни капли. Конечно, ты прав, — повторял он уже из прихожей, убирая пузырь обратно.
«Идиот! — подумалось вдруг. — Кто ж так делает? Надо было на столе оставить».
Но извлекать бутылку второй раз было бы уже слишком, и, чтобы замять возникшую неловкость, Давид очень кстати вспомнил про толстый журнал со своей самой главной статьей, который принес сегодня, чтобы подписать Вергилию на память. В ответ Геля оставил ему автограф на своей книжке. Оказывается, это Наст под псевдонимом В. Сугробов писал увлекательные футурологические фантазии. Давиду они пару раз попадались — по транспорту, по связи, а эта, новая, называлась «Архитектура двадцать первого века».
Давид написал: «Вергилию Насту от автора — с надеждой в самом ближайшем будущем тоже подарить свою книгу». Этакий тонкий намек, мол, помоги издаться. Геля выдал формулировку более обтекаемую: «Давиду дружески и с обоюдными надеждами». Слово «надежда» трогательно совпало в обеих надписях, в общем, это была идиллическая сцена, оставалось только прослезиться. И чтобы сменить тему, Давид спросил:
— А ты Игоря Бергмана знаешь?
— Лично — нет, а так — разумеется. Очень уважаю этого человека. Говорят, он собрался уезжать.
— Да, — подтвердил Давид. — Но самое удивительное, что он тоже Посвященный.
Геля как будто вздрогнул (а может показалось), во всяком случае, смотрел он на Давида странно.
— Нет, правда, — словно начал оправдываться Давид. — Ведь я-то с ним хорошо знаком.
Но желание подробно рассказывать о Владыке уже пропало, слишком странная реакция была у Вергилия. Черт их разберет, этих Посвященных. Конечно, Геля должен знать, что Бергман — Владыка. Может, между ними какие-то старые счеты?
— Мне просто казалось, — Давид окончательно смешался, — ну, показалось… что это очень важно, что все мы Посвященные…
— Видишь ли, Дейв, — Геля уже вернулся в свое нормальное состояние, снова был улыбчивым и вальяжным. — У нас ведь не все Посвященные. Надеюсь, ты уже понял это. И лично мне думается, что это не главное. Как ты считаешь?
— Конечно, конечно, — снова поспешил согласиться Давид. — Игорь Альфредович о том же самом мне говорил. Когда делаешь большое и чистое дело, главное — окружить себя порядочными людьми, а Посвященные… ведь там Закон Случайных Чисел.
— Ну, разумеется, вот ты и понял меня, пойдем покурим, а ведь мы, Дейв, очень большое дело затеяли…
На балконе почти не видели лиц друг друга, но разговор пошел как-то особенно хорошо.
— На самом деле невероятно трудно искать людей в свою команду, объяснял Геля. — Бывает, и умный, и талантливый, и знающий, а копнешь поглубже — он так называемый патриот, первым делом выясняет, сколько процентов еврейской крови у твоей жены или у тебя самого.
— Во мне четверть, — зачем-то сообщил Давид, хотя это было и не совсем так.
— Я-то по нулям, — улыбнулся Вергилий, — в роду одни хохлы, насколько хватает глаз, но Верка — чистокровная, хоть и из Ташкента. Слышал, кстати, что там делается?
— Что, и там тоже?
— Ну конечно, буквально расстрелы мирных демонстраций. Верка к сестре ездила…
Давид поймал себя на том, что про Ташкент уже не слушает. Это была какая-то лишняя информация. Перегруз….
— …и между прочим, нужна еще одна девочка, — услышал вдруг он, — с образованием, конечно, но молодая, бойкая, вроде Илоны и Лиды. А главное, она должна быть из своих. Я сейчас всех своих и спрашиваю.
— Есть такая девочка! — выпалил Давид, и получилось торжественно, как у Ильича.
До чего ж замусорены мозги этими цитатами! Геля даже рассмеялся. А Давид, естественно, подумал о Климовой. Дура, конечно, зато Посвященная и уж вне всяких сомнений — своя. Даже национальность почти подходит. (Бородатый анекдот: «Берегите евреев», — словно в бреду говорит умирающий старый армянин. Все в недоумении, а он повторяет: «Берегите евреев. Их перебьют — за нас возьмутся».) Вот черт! О чем же он думает, в самом деле?
Рассказал Вергилию об Алке. Тот велел приводить и знакомить. И, наконец, Геля поведал об идее учреждения Международного Фонда ГСМ и о существенном расширении структуры организации в связи с этим. Создание Международного Фонда планировалось как первый шаг, а дальше — постоянное представительство ГСМ где-нибудь в Швейцарии или Австрии, наконец, целая сеть филиалов по всему миру, и вот уже мы — граждане Вселенной.
— Это важно, — объяснял Вергилий, — дело, которое мы задумали, представляет ценность для всего человечества, и мы не можем позволить себе быть зависимыми от причуд и произвола властей в одной отдельно взятой стране, даже такой, как Советский Союз. Наша работа по выживанию не должна останавливаться. И потом — давай будем честными перед собой, — если здесь действительно начнется что-то страшное, пусть у нас хотя бы будет куда уехать. Подумаем о конкретных людях, подумаем о детях, в конце концов.
У Давида не было детей, но перспектива переселения в Швейцарию выглядела заманчиво, да и оправдание для эмиграции Геля придумал красивое. Оправдание, достойное таких людей, как они.
Ну а пока требовалось делать все последовательно: умножение капитала, разветвление структуры, учреждение Фонда.
Вот почему люди так остро понадобились.
— Документы по Фонду к концу недели Гроссберг должен подготовить, заканчивал Геля эту тему, — тогда и почитаешь, а сейчас вот что…
Они уже попили чаю и снова вышли на балкон. Сделалось совсем темно, окна в домах горели через два на третье, и только инфернально красноватый шпиль телебашни все так же упрямо пронзал низкие облака.
— Мы тут с Гастоном посоветовались. Нам нравится, как ты взялся за работу. Решили поставить тебя директором Финансовой компании ГСМ с правом первой подписи в банке. Помнишь, непосредственно ты и регистрировал финкомпанию как самостоятельную юридическую единицу. Вот и принимай дела.
Давид обалдел.
— Геля! Ты что? Ну, я, конечно, экономист, да… но ведь в финансах ни уха, ни рыла.
— А кто в них ухо? Кто в них рыло? — улыбнулся Геля. — Думаешь, товарищ Геращенко что-нибудь смыслит в современной финансовой системе? Да в этой стране ее все равно надо создавать с нуля. Вот смотри.
Геля решительно вернулся в комнату, взял чистый лист, ручку и за десять минут изобразил с минимальными комментариями очень простую и точную схему организации нормального коммерческого банка и принципов его взаимодействия с Минфином и Центробанком страны.
— Вот. Америку открывать не надо. Все это известно, а меня, слава Богу, кое-чему успели научить за границей. Держи для начала. — Он протянул Давиду листок.
А литературой мы тебя обеспечим. Не боги горшки обжигают. Справишься. Я знаю.
— Спасибо, Геля.
— Тебе спасибо. Мне в самом деле приятно, что есть на кого опереться. Штат у тебя будет пока небольшой, а вот окладик раза в два подымем…
Уезжал он тоже на такси, потому что никакой другой транспорт уже не работал. Уезжал и думал: а удалось ли поговорить о важном? Удалось. Еще как! Но только он так и не понял, что было самым важным для Гели. Для Давида — конечно, последнее. Чего греха таить. Он — и вдруг директор! Это было столь невероятно, что на какое-то время заслонило все вокруг. Радость распирала его, он даже начал таксисту рассказывать про ГСМ. Но путь был коротким, по ночной-то Москве, и рассказать он успел немного. А так хотелось поделиться хоть с кем-нибудь, так было грустно возвращаться в пустую квартиру!..
У двери (у его двери!) стояла эффектная длинноногая девица с пышной прической. Черты ее лица были далеки от мировых стандартов красоты, но глаза с поволокой, большой чувственный рот, высокая грудь под облегающей кофточкой, очень короткая юбка, очень высокие каблуки — в общем, профессиональная обольстительница. Так он решил в своем восторженном состоянии. А девица спросила:
— Вы Давид Маревич?
— Я.
— Ну, слава Богу. Вам конверт очень важный из Симферополя от Зямы Ройфмана.
— А вы что, такой специальный ночной почтальон? — улыбнулся Давид. Мне следует где-нибудь расписаться?
— Нет, — ответила она серьезно. — Я сестра Зямы.
И расписываться нигде не надо. Пока. Мне пора.
— Да вы что?! — Давид схватил ее за руку, потому что сестра Зямы действительно сделала шаг в сторону лестницы. — Вы с ума сошли! Куда можно идти в такое время? Два часа ночи.
— Домой. Я тут совсем недалеко живу.
— Какая разница! Это невозможно! Как вас зовут?
— Марина.
— Мариночка! — торжественно объявил Давид. — Как директор Финансовой компании ГСМ я официально приглашаю вас немедленно отметить мое вступление в должность.
Вот когда пригодилась бутылка итальянского вина.
И коньяк, который оставался дома. Марина, он уже слышал про нее, только не был знаком, работала на студии Горького ассистентом режиссера и, когда было нужно, помогала брату, официальному представителю ГСМ в Крыму, передавать с проводниками поездов всякие важные документы, благо жила недалеко от Курского вокзала. Марина была уже в третий и явно не последний раз замужем, образ жизни вела богемный, и для нее пропилить на такси в два часа ночи по Бульварному кольцу от Никитских ворот до Покровских действительно не представлялось проблемой, а не поймает тачку, так и пешком рвануть через центр можно. (Откуда на Красной площади хулиганы? Там одни менты.) Про Давида ей Геля сказал, что вот-вот будет дома, потому что уже ушел, а она у подруги сидела, только оттуда пора было сваливать, там люди не такие — им с утра на работу, — вот она и решила под дверью подождать, конверт-то на самом деле важный.
А конверт был действительно эпохального содержания — нотариально подтвержденное заявление какого-то шведского гуманиста с мировым именем, отдыхавшего в Ливадии и заарканенного Ройфманом, — иностранец требовался позарез Фонду СМ для регистрации документов. Очень важный конверт. Но еще важнее — высокие бокалы с золотистым итальянским чудом, и быстро сотворенный умелыми женскими руками вкусный салатик, и рюмка хорошего коньяка, и глаза с поволокой, и быстрые, тонкие, нежные пальцы, и большие чувственные губы, он и не представлял, что губами (и зубами!) можно делать такое. Боже, какой восторг, или ему просто очень-очень одиноко и не надо никаких Групп, никакого спасения мира, никаких Посвященных не надо, нужно только простое человеческое тепло, уют, забота, ласка…
Утром стало предельно ясно, что для уюта, заботы и ласки Марина подходит меньше всего. В девять ее разбудил звонком режиссер. (Когда успела дать телефон? Впрочем, ночью звонила куда-то, это точно.) И Марина, матерясь, едва успела принять душ, допить из горла остатки сухого, смешав с последней каплей коньяка, глотнуть кофе и накраситься. Тут во дворе и засигналил студийный «рафик».
И все-таки она поселилась у Давида. Только позже, уже почти зимой. А сейчас, допивая кофе на вновь опустевшей холостяцкой кухне, он вдруг вспомнил, как уже перед самым сном, часов в пять или шесть, потянулся в карман пиджака за сигаретами — себе и ей, а пиджак был не то чтобы повешен, а скорее скомкан, но на спинке кресла, поэтому из кармана вместо сигарет сначала выпал «макаров». И какого черта он таскал оружие с собой? Ах да! Они же с утра ездили за город смотреть землю под строительство коттеджей, и Давиду взбрело в голову проверить исправность пистолета на природе. Случая не представилось, а потом домой заехать было некогда, вот и проносил весь день за пазухой.
— Ой, дай посмотреть! — восхищенно прошептала Марина. — Настоящий?
— На, посмотри.
— Дейв, это ты народный еврей СССР? — Марина поглаживала пальцем гравировку.
— Я, — почти не соврал Давид.
Ему было ужасно неохота объяснять сейчас, откуда взялось такое звание.
— Похож, — констатировала Марина и, затушив в пепельнице половину сигареты, добавила:
— Давай спать.
Глава четвертая. ПОЖАР НА СКЛАДЕ ГСМ
— Раздел два. Точка. Цели и задачи Фонда. Нету точки. Все буквы прописные. Пункт два, точка, один, точка. Основной целью Фонда является…
— Точка.
— Нет, еще не точка.
— Слушай, достал ты со своими точками! Не обезьяне диктуешь.
— А кстати, если стадо обезьян будет бесконечно долго стучать по клавишам пишущих машинок, рано или поздно они напечатают всю Британскую библиотеку. Эта мысль принадлежит, кажется, Максвеллу, — поведал Давид.
Климова посмотрела на него и неуверенно улыбнулась, пытаясь сообразить, сказал он что-то обидное для нее или нет. Наконец решила, что нет, хихикнула и вернулась к работе.
— …является объединение граждан СССР, иностранных граждан, лиц без гражданства…
— Кто такие лица без гражданства?
— Лица без гражданства — это бомжи, проститутки и… обезьяны. С человеческим лицом. Климова! Мы так никогда не закончим.
— Ну ладно, ладно, поехали.
— …без гражданства, организаций, учреждений, предприятий и общественных формирований на основе общности их интересов, направленных на исследование литературно-художественными, научными и другими творческими средствами возможных путей развития личности и человечества, на приближение и закрепление ожидаемых и желательных изменений в социально-экономической и духовной жизни мирового сообщества…
Господи! Что ж это за язык такой суконный! Вроде все съедобное, а прожевать невозможно. Ну что это за другие творческие средства исследования, помимо научных и художественных? Интуиция? Мистические прозрения? Шизоидный бред? На самом деле это просто привычка опытного юриста Гроссберга в каждом пунктике оставлять себе зазор, мол, как же, как же, батенька, а мы и это предусмотрели, читайте: лица без гражданства изучают человечество безумным способом.
— Дальше, — попросила Климова.
— О! Дальше самое интересное, — дурашливо объявил Давид. — Пункт два-два. Целями Фонда являются также координация, мобилизация… химизация, механизация и электрификация всей страны.
— Чего? — Климова обернулась в испуге.
— Со слова «химизация» не печатать.
— Ну кто домой-то торопился?
— Я. Но, видишь ли, устав величайшего из фондов — Фонда Спасения Мира невозможно читать без слез. И без смеха сквозь них. Продолжаем.
Давида несло. Настроение было просто великолепное.
— …и поощрение творческих усилий его участников по разработке и пропаганде оптимальных решений проблем современности, укреплению мира и взаимопонимания между народами, сохранению природной среды, утверждению прав и свобод человека, оказание содействия деятелям искусства, науки и культуры, организациям, работающим в направлениях, отвечающих целям Фонда. Ф-ф-у-у! — выдохнул он. — А какое восхитительное сочетание слов: содействие деятелям!
— Да ладно тебе, не придирайся, — подал голос Димка Фейгин. Бюрократический стиль — одно из великих направлений в мировой литературе. Оно древнее беллетристики и канонических текстов, древнее поэзии и анекдотов, а в грядущем переживет века. Кстати, я свою работу закончил.
— А что там у тебя? — спросила Климова. — Ты говорил, а я не помню.
— Заметка для «Столицы». Будет желание — прочтете.
Я откатал две копии на ксероксе. Спешу заметить, стиль совсем другой.
— Не сомневаюсь, — провозгласил Давид, подходя к окну и закуривая: Алка не любила запаха дыма. — Чаю выпьешь?
— Нет, ребята, я побежал. Уже девять. Все комнаты, кроме этой, закрыты. Вот ключи. Счастливо оставаться. Кстати, слыхали? Ельцин из партии вышел.
— Иди ты! — не поверил Давид. — Когда?
— Сегодня. Я «Свободу» слушал. Бросил партбилет — и все дела.
— Класс, — сказала Климова.
А когда они остались вдвоем, Давид спросил ее прямо от окна, выдохнув дым в открытую створку:
— Ну и как тебе Геля?
— Отличный парень. Нет, правда, он мне понравился, хотя и не люблю таких толстых и неспортивных. Он, между прочим, похвалил мою работу о буддизме, обещал где-нибудь напечатать.
Давид читал немного раньше «работу» Климовой — статейку страничек на двенадцать машинописных — и в принципе соглашался с ее основным смыслом. Речь там шла о том, что нам, гражданам эпохи перестройки, бывшим советским людям, потерявшим опору старой идеологии, утратившим веру во все и всех, ближе любых других оказываются сегодня именно идеи раннего буддизма. Ведь две с половиной тысячи лет назад люди оказались точно в таком же положении. И великий Гаутама попытался перенести центр тяжести их интересов с почитания Бога на служение Человеку. Будда не столько стремился создать новую систему Вселенной, сколько мечтал внедрить в повседневную жизнь новое чувство долга. Религия, провозгласившая спасение, достигаемое совершенствованием характера и преданностью добру, спасение без посредничества священников и обращения к богам — это уже не религия, не совсем религия. Для Давида были давно опорочены практически в равной мере и христианство, и коммунизм, так что новая вера выглядела вполне привлекательно, если бы только не обилие словечек типа «дхарма», «бодхи», «мадхьямики», «хинаяна», «абхимукхи» и даже такая непроизносимая штука, как «Маджджхима». Всего этого было в избытке на двенадцати страницах климовского творения, что и заставляло Давида относиться иронически к идее кровного родства ГСМ и буддизма.
— Это хорошо, если Геля статью напечатает, — сказал он. — А кто еще в ГСМ показался тебе симпатичнее других?
— Не знаю. Ты хочешь спросить, кто еще в ГСМ Посвященный? По-моему, никто.
— Очень может быть, — проговорил Давид. — Именно это я и хотел от тебя услышать.
— Слушай, Дейв, а ты уверен, что сам Вергилий — Посвященный?
На подобный вопрос отвечать было нечего. И Климова сама продолжила:
— Ведь когда мы с тобой подошли, он стоял не один.
— Я помню, но с ним рядом был только Петр Михалыч. Все остальные болтались достаточно далеко. Правильно?
— Пожалуй, — неуверенно произнесла Климова. — Наверно, ты прав.
— Да ты с ума сошла, Климова, я прав на все сто! Михалыч — он же отставной полковник, в органах, наверно, служил. Как он может быть Посвященным?! Ты с ума сошла. Давай дальше работать. Я уже покурил, а чаю после попьем.
— Давай, — согласилась Климова безропотно.
— Итак. Пункт два-три. Точка. Ой, извини.
— Ой, извини. Напечатала. Дальше.
— Перестань. Значит, так. Разработка и поддержка программ исследования глобальных и региональных проблем средствами художественного и научного творчества на профессиональном уровне. Двоеточие. Два-три-два. Содействие гуманистическому воспитанию граждан, демократизации общественной жизни…
«Слова, слова, слова… Или как там у Владимира Асмолова:…и бушует река болтовня!»
Это было двенадцатого июня тысяча девятьсот девяностого года. Давид чувствовал себя прекрасно. Уютно, спокойно, комфортно — вдвоем с секретаршей Алкой Климовой в своем директорском кабинете. Не с любовницей-секретаршей, как это принято повсеместно, а просто с секретаршей, хорошей школьной подругой. Любовница была другая — чумная, непредсказуемая Марина, Мара — вся из себя порывистая, как актриса («Ах, у меня сегодня съемка, ах, мне ночью опять на телевидение!..»). Алка же была просто другом. Возможно такое? Выходит, что возможно. Уж не благодаря ли тому, что они Посвященные. Но в любом случае это было здорово.
Он провожал ее до дома, если засиживались допоздна, на своем «Москвиче» или на Жориных служебных «Жигулях». У подъезда она протягивала руку по-мужски, и глаза ее сияли.
И было все так здорово до самой осени. Почти до зимы.
В конце июля провожали Бергмана.
Был простой будний день четверг, но отпрашиваться на это мероприятие Давиду не пришлось, пришлось просто извиняться, потому что Геля отмечал свой сорокалетний юбилей и практически для всего руководства объявил нерабочий день. Как потом рассказывали, гулял Вергилий Наст широко: куплен был, ну, то есть взят в прокат целый пароход, на коем приглашенные доплыли от Северного речного вокзала до Солнечной Поляны и там пировали день и ночь напролет с кострами и цыганами (буквально — с живыми цыганами!), с поливанием шашлыков и дам шампанским, с визгами в кустах, с купанием голяком при луне и последующими безобразными плясками, переходящими в свальный грех… Все это — по слухам, так что, где проходила граница правды и вымысла, Давид судить бы не взялся.
Смутное сожаление об упущенных возможностях, мучившее его достаточно долго, в конечном счете было побеждено благородной гордостью истинно Посвященного, то есть человека исключительного, умеющего встать над.
А, в общем-то, какой у него мог быть выбор? Не проводить Владыку, с которым в этой жизни он расставался, очевидно, навсегда? Немыслимо. А что такое встречи в следующей жизни, он пока еще плохо представлял себе, хотя в теории был уже познакомлен с общими правилами неземного бытия. Плевать на неземное — успеем. Хотелось просто и по-людски проводить до аэропорта, до трапа, настоящего человека, Учителя, Владыку, почти отца — таким Бергман стал для Давида за эти полгода. И, как он понял, не только для него.
Народу на прощальный обед собралось немало, целая толпа для скромной квартирки. Люди на лестнице стояли. Шампанским никого не поливали, да и водку пили так — символически. Зато плакали многие. И друзья — ровесники Игоря Альфредовича, и старики-фронтовики, победившие фашизм внешний и смело повернувшиеся теперь лицом к лицу с фашизмом внутренним, и мальчики-девочки из ДС, готовые грудью встать на защиту Бергмана от чего угодно. А похоже, было от чего, потому что другие мальчики, постарше и в одинаковых серых плащах, тоже покуривали здесь же, на лестнице, но ни во что, по счастью, не вмешивались. Не дураки же они, в самом деле!
В аэропорт поехали всего человек десять. И Давид оказался в числе самых близких друзей, ехал, правда, во второй машине, но там, по ходу томительного ожидания, когда же наконец объявят рейс на Вашингтон, они поговорили. Владыка должен был найти время для разговора с ним тет-а-тет. И нашел. Все слова были важные, теплые и значимые, но — ожидаемые. Как обязательный ритуал. И только под самый конец Давида ждал сюрприз. Скорее неприятный.
— Знаешь, Додик, очень не нравится мне твой Вергилий, — проговорил Игорь Альфредович с чувством, словно хотел, чтобы именно эти слова лучше всего запомнил его ученик. — Никто из наших не помнит, не знает его. Понимаешь, никто. Бывают такие Посвященные, которые нарочито избегают встреч со своими. Но это всегда настораживает. Во-первых, как правило, они бывают запоздавшими, то есть позднообращенными людьми, и долго на Земле не живут. А во-вторых, у них всегда свои, от всех далекие цели, что опасно. Конечно, тебе виднее, Додик, ты его близко знаешь. Но я даже по рассказам твоим — уж прости старика за откровенность! — не люблю этого Гелю Наста. Подумай над моими словами. Только, упаси тебя Бог, которого нет, понять это как руководство к действию. Сама идея ГСМ хороша. Ты же помнишь, я радовался, когда ты попал туда. Да и деньги, которые они платят, хороши. Но ты не просто Посвященный, Додик, ты совершенно особенный человек, во всяком случае, для меня, поэтому прошу, будь осторожен, будь всегда рассудителен, не делай глупостей и тогда… ты встретишь Анну. Ведь для тебя это самое главное? Правда?
Вот так странно он и закончил свою неожиданно длинную прощальную речь, помолчал немного, прислушался и сказал:
— Кажется, наш рейс объявляют. Прощай, Додик! И до встречи! До встречи! Ты понял?
Он понял. Но не до конца. Да и где ему было понять?
В пятницу на работу пришли не все, зато те, кто пришел, пахали исключительно интенсивно: во множестве рождались новые письма и договора, принимались и отправлялись факсы, мелькали бесконечные посетители, телефон трезвонил, не переставая, в комнате, где стоял большой ксерокс, тоже работавший без передышки, сделалось жарко и отчаянно пахло аммиаком. Про перерыв на обед забыли дружно. Так что когда к концу дня из банка приехала Жгутикова с последней выпиской, все уже стояли на ушах. Гастон взял выписку в руки, глянул и призвал народ к тишине.
— Господа! — объявил он. — Поздравляю всех. Сегодня мы стали миллионерами. На счету ГСМ впервые образовалась сумма, превышающая миллион рублей. Ура, господа!
Васю Горошкина тут же послали за коньяком, и конец дня превратился в праздник. Гелю, конечно, вспоминали, но отсутствие его было для всех вполне понятно. А Давид, помнится, тогда впервые подумал, что и без Гели у них совершенно замечательная компания.
Хуже было в понедельник. Геля пришел с утра вялый, хмурый, как будто и не было выходных. Давид успел с ним только двумя фразами перекинуться и умчался по срочным делам в Центробанк. А когда вернулся, Гели уже не было.
— Ему что-то с сердцем плохо стало, — небрежно пояснил Попов, сидевший в Гелином кабинете. — Праздники стали тяжело даваться. Возраст.
— Да иди ты, — сказал Давид.
— Не иди ты, а так и есть. Вот доживешь до сорока, сам узнаешь.
Подходил срок давно спланированной Вергилием поездки в Голландию. Геля не говорил, но Давид догадывался, это как раз по поводу европейского филиала. Голландия не Швейцария (в смысле нейтральности и защищенности), но тоже страна, вне всяких сомнений, замечательная и привлекательная. А связи там сугубо Гелины, личные, и кроме него никто из гээсэмовцев поехать не мог.
И вот тринадцатое августа, понедельник, восемь дней до предполагаемого отлета в Амстердам. Геля на работе не появляется. Что ж, решил поработать дома. Понедельник — день тяжелый.
Четырнадцатое августа. Давиду звонит секретарша Коровина. Ромуальд через знакомого министра и с оформлением командировки от Всесоюзного Центра культуры достал Вергилию билет на Амстердам. Срочно выкупать! (Боже, ну как все сложно, без знакомого министра и за границу не улетишь!) Но Гели нигде нет. А билет-то стоит не хухры-мухры — тысячу девяносто два рубля! Как назло, в кассе финкомпании тридцать рублей с мелочью, и Юра Шварцман, у которого дипломат вечно набит казенной наличкой, тоже где-то носится. Закон подлости. Не беда: Давид бегом (да, да, бегом на метро, потому что машины тоже все в разлете!) несется домой, берет свои кровные и выкупает билеты. Мог это сделать кто-то еще? Разумеется. У всех гээсэмовцев по нескольку кусков дома зарыто было. Но никому не приходит в голову вынуть их вот так запросто. Кроме Давида. «Это же Геля!» — думает он.
А телефон на Звездном бульваре по-прежнему не отвечает. Правда, известно, что Верка с сыновьями уехала на Юг. Мало ли куда Геля мог уйти! Но, с другой стороны, это-то и страшно: один в квартире. Все советуются и решают ждать до утра. Ну зачем к нему ехать? Дверь ломать, что ли? А Давид всю ночь не смыкает глаз.
Пятнадцатое августа. Утром ничего не изменилось. Вот когда начинается легкая паника. Нервничают уже почти все. Только Гастон Девэр спокоен как танк. Говорит, такое уже бывало. И не раз. Что же он имеет в виду? Спрашивать неудобно.
Чисто по-женски больше других переживает Маша Биндер.
— Я, знаешь, тоже не девочка, — говорит она Давиду по телефону. Понимаю: все может быть. Поверьте, мужики, надо ехать. Дверь того не стоит. Черт с ней, новую вставим. А то мало ли что…
Маша боится произнести, что именно, а Давид боится даже подумать, ведь только ему одному по-настоящему страшно. Ну, может быть, еще Климовой. Если, конечно, она как следует подумала. Теперь Давид уже ясно понимает: других Посвященных в Группе нет. А что может случиться с Посвященным, известно слишком хорошо: Анна, рассказы Бергмана, история с Веней. Нет, уж он-то точно не поедет ломать дверь. Если там гэбэшная засада, что может быть глупее, чем так бесславно погибнуть. У него же совершенно другая задача.
В этот день после работы он едет с Витькой на дачу. Витька давно приглашал, а тут вроде точно сговорились. Не отменять же! На даче, конечно, хорошо: прогулка на реку, коньяк, фрукты, сухое вино. У Витьки чудесная жена Галя, работает в советско-итальянском СП, получает четыреста рублей, и Витька комплексует: с перестройкой папашу его задвинули совсем, комсомольская работа теперь откровенно неперспективна, в институте, где он остался на кафедре, платят гроши — в общем, Витька дошел до того, что в каком-то кооперативе по совместительству работает шофером, и рубликов двести пятьдесят у него в месяц выходит.
Давид улыбается — не с превосходством, не злорадно, а скорее философски. Вот и пришли новые времена. Теперь он, отпрыск плебейского рода Маревичей, зарабатывает больше всех своих друзей из вчерашнего высшего света, и это он, Давид Маревич, привез сегодня и коньяк и сухое. Пожалуйста, угощайтесь!
Но смертная тоска и тревога не отпускают, особенно здесь, в двух шагах от дачи Аркадия, той самой дачи… Он звонит ребятам из ГСМ каждые десять пятнадцать минут. И никого, никого не может застать. Наконец на проводе Юра Шварцман:
— Нашелся Геля. Он дома. Успокойся. Что вы все переполох подняли, как бабы? Ну, выпил человек, с кем не бывает, отключил телефон. Теперь у него сидит мать. Не дергай их, Дейв. Он тебе сам позвонит.
У-у-у-ф-ф.
Давид почувствовал, что из него просто выпустили воздух.
А Витька почувствовал, что пора наливать:
— Давай! Дернем, чтоб твоему Геле меньше досталось.
Потом откуда-то взялся Аркадий с бутылкой водки, и они все напились.
Шестнадцатое августа. Витька подбрасывает до офиса на Чистых Прудах. В одиннадцать звонит Геля, едва ворочая языком:
— Слш, Дыф, мн очн плох, зафтр пзвню.
И тогда у Давида все сильнее и сильнее начинает болеть голова. Этакое запоздало пришедшее «после вчерашнего».
С обеда он уходит домой спать.
Семнадцатое августа. В восемь утра будит звонком Геля и через полчаса приезжает. На ногах стоит твердо, но разговаривает странно: весело, однако не своим голосом. То ли уже принял, то ли держится на таблетках.
— Вот это — килограмм. — Он протягивает пачку красненьких. — А это довесок. Меня такси ждет. Спасибо тебе, Давид. Ну, я поехал. За валютой на Ленинградку. Оттуда позвоню.
Не позвонил. Это уже не удивляет.
Около трех в трубке голос Гастона: Геле опять плохо, он дома, валюты не поменял, там безумная очередь и никакой надежды, и вообще надо срочно сдавать билет, куда ему, к черту, лететь! Какая Голландия?!
Но сдать билет в советской стране — дело не менее сложное, чем приобрести его. Кто покупал, тот и сдает — инициатива наказуема. Давид носится как ошпаренный по этажам «благотворительного министерства» и чудом застает всех кого надо в бухгалтерии и администрации, но около четырех звонит сам Геля — голос почти нормальный — и распоряжается: билет не сдавать, а менять. Дело только в валюте, ведь без денег он не поедет, а здоровье тут вообще ни при чем, и еще надо, очень надо взять у центровского начальства загранпаспорт, поставить в посольстве голландскую визу, опять вернуть начальству, и это все так сложно и ответственно, что никакой Лидочке или Илонке поручить подобное нельзя…
Давид начинает функционировать уже в каком-то автоматическом режиме и успевает все, что можно успеть. Затем решает уточнить у Вергилия планы на следующий день, но к телефону подходит его мама и достаточно невнятно объясняет, что Геля отошел ненадолго, куда — она не знает. С чувством смутной тревоги Давид уходит из конторы, берет такси и едет на Звездный.
А там сидит совершенно замечательная мама Алевтина Ивановна, и Глотков, и Вера, и Толик с Мишей, и даже хомяк Чудик, вот только Гели нет. Он ушел в неизвестном направлении еще часа в четыре, пока мама отлучилась в булочную, не дождавшись, разумеется, Веры с детьми, которых Петр Михалыч только что привез с вокзала.
У Михалыча появляется интересная творческая работа — поставить на место напрочь свороченную раковину в ванной. («Кто же это ее свернул? Ай-ай-ай!») А Давид и Вера сидят на нераспакованных чемоданах посреди комнаты и молча курят, стряхивая пепел на ковер. Как в кошмаре. Потом, словно вдруг очнувшись, выходят на балкон. Вера начинает откровенничать, вспоминает, как они с Гелей нашли друг друга совсем не так давно, Мишка у них общий, Толик — Верин, а у Гели есть еще старший — Данила, который живет отдельно. Вера рассказывает, как тяжело им жилось до ГСМ, как вздохнули теперь… Давид очень скоро перестает ее слушать. Гелина жена выворачивает ему наизнанку «душу номер два». Нет, он не обижается, просто перестает слушать. Ему все понятно. Вера — не Посвященная. Тот же случай, что и с Бергманом. Никогда в жизни любящая женщина не станет рассказывать правду о таком муже случайному человеку. Вот только почему он-то случайный? Неужели Геля не рассказывал? Какой же он чудной, право!
И Давид и Вера, оба страшно психуют и высаживают на пару целую пачку «Явы» за два часа. Но психуют они очень по-разному, каждый по-своему, и оттого не заглушают, а только усиливают тревогу друг друга.
«Кто-то очень не хочет, чтобы Вергилий ехал в Голландию. Вот в чем дело, — рассуждает Давид. — А запой это или злые козни врагов — какая разница, с точки зрения Посвященных любое препятствие является давлением внешним. Разглядеть бы только этих врагов, встретить их во плоти, тогда бы легче стало. Но он все равно победит. Не может не победить. Ведь когда что-то в его жизни особенно важно, включаются скрытые резервы, просыпается alter ego, и это как раз такой случай — он чувствует. И он не сдастся».
А Вера чисто по-женски боится за любимого человека, за здоровье его и за жизнь. Как им понять друг друга?
Особенно интересно, чего боится Михалыч. Он уже третий час возится с раковиной в ванной. Не слишком ли? Ага, закончил. Появляется в комнате. Светлые, очень умные, проницательные глаза. Удивительно приятная манера говорить. Мягкая кошачья походка. Где он мог раньше работать, этот интеллигентный отставной полковник? Ах да, кто-то же говорил ему. Димка, кажется. Глотков до ГСМ был одним из руководящих работников нашего представительства в ООН и вроде бы даже сотрудником секретариата. Полковник. В ООН. Это же КГБ!
Под черепом тихо разрывается бомба. Ну вот и все. Если это КГБ, если Глотков давно их пасет, если Геля пропал не случайно, значит… Да, он, Давид Маревич, Посвященный и просвещенный Владыкой, бессилен что-либо изменить в такой ситуации. Против лома нет приема.
А Петр Михалыч тем временем, адресуясь преимущественно к Алевтине Ивановне, в который уж раз на памяти Давида жалуется на свои крайне неудобные имя и фамилию.
— Представляюсь: Глотков. Мне говорят, понятно: как композитор. Да нет, говорю: композитор — ГлАДков, а я ГлОТков Петр Михайлович. А, говорят, как Достоевский! Да нет же, говорю, Достоевский — Федор Михайлович, а я Петр…
И тогда Давид разворачивается, как сомнамбула, громко прощается, глядя в пространство, и уходит, оставляя всю семью Вергилия Наста на попечение композитору Достоевскому.
— Я позвоню вам, Давид! — кричит вдогонку Вера.
Не позвонит. Он это знает наверняка. Не позвонит.
И не позвонила. А он опять не спал всю ночь.
Восемнадцатое августа. Семь сорок утра. Геля звонит сам. Как ни в чем не бывало. Голос абсолютно трезвый:
— Дейв, касса открывается в восемь, я уже не успеваю, тебе там ближе…
И не завтракая, не умываясь, натягивая майку и застегивая ширинку на лестнице, — бегом. Международная авиакасса на Петровке. Оказался в очереди седьмым. В девять пятьдесят уже свободен. Дату вылета поменял (на двадцать второе, причем через Питер, из Москвы по четным в Голландию не летают), да вот билета не получил. Все несколько сложнее оказалось: штраф — двадцать пять процентов стоимости — принимают только по безналичному расчету. Во идиотизм-то! Кому расскажешь — не поверят. В общем, конца истории не видно.
В состоянии легкого отупения с примесью прямо-таки мальчишеской гордости от сознания важности выполняемого дела, Давид доходит до площади Ногина и от метро звонит Геле. Но автомат глотает единственную двушку, и тогда, вопреки всякой логике, он едет на Звездный бульвар.
Он уже готов не застать там никого, или застать полную квартиру трупов, или…
Нет, у Гели все нормально. Приезду Давида старший товарищ не удивляется. Они вместе завтракают. Говорят о всякой чепухе и упорно обходят скользкие вопросы. Геля иногда держится за сердце и даже не курит. Похоже, ему теперь действительно плохо. Курит только Давид, Геля за компанию выползает на балкон. Стоит, тяжело привалившись к стене. Давид разговаривает с ним почти как с ребенком: «Все будет хорошо, Геля», «Ты не расстраивайся, Геля» и прочие подобные благоглупости.
Так что же, ничего и не было? Было. Меня, брат, не обманешь!
Давид не глубоко, не насквозь, но читает мысли Вергилия. Собственно, в самом верхнем слое — там и читать особо нечего: апатия, раздражение, тошнота, недовольство всеми и всем. Но Давид напрягается и видит вчерашнее. Видит…
Геля покупает у метро в ларьке бутылку очень хорошего французского коньяка, рублей за триста, а потом, высосав ее до половины в кустах за детской площадкой, бросает… нет, задумавшись на секундочку, аккуратно ставит на землю и уходит, уходит далеко, очень далеко, он уговаривает себя не пить, не пить сейчас, не пить сегодня, не пить завтра, не пить вообще никогда, он ходит кругами по Москве, и сначала круги расширяются, расширяются, а потом становятся все уже, уже, все ближе, ближе к тому месту, где он оставил ЕЕ, он сжимает кольцо, он возвращается, уже темно, совсем темно, а бутылки нет. Нет! НЕТ!!!
И тогда он покупает в ларьке самую дешевую водку. И пьет ее из горла в чужом подъезде, и, плача, разбивает о перила едва ли не полную бутылку…
Они беседуют о какой-то чепухе, и Давиду уже почти удается докопаться до третьего слоя, до причин, заставивших Вергилия пить. Жутким, могильным холодом веет от этих причин…
Но тут Геля говорит, вздыхая и морщась:
— Дейв, ты меня извини, я пойду лягу.
На какое-то мгновение Давид перехватывает его взгляд и чувствует: он догадался. («Я знаю, что ты знаешь, что я знаю…»)
Ну, вот и хорошо, вот и замечательно.
Давид уезжает, а потом дома всю субботу и все воскресенье лежит на диване совершенно больной, лишь иногда вставая чего-нибудь съесть.
С билетом утряслось. С валютой — тоже. По специальному разрешению Министерства финансов Внешэкономбанк выдал-таки товарищу Насту сто пятьдесят четыре гульдена как одну копеечку, то бишь как один цент. И Геля улетел в назначенный срок. И что-то важное там подписал, и в Гаагу съездил, и по «розовому кварталу» пошастал, и тюльпанов пособирал в лугах среди ветряных мельниц. И что-то там наливали ему. Давид не знал, что именно пьют в Голландии, а у Гели спросить не решился. Но из самолета в Шереметьеве Гелю вынимали. Сам он идти не мог. Впрочем, это уже было неинтересно.
Интереснее было другое. Гастон Девэр собрал Высший Совет Группы в отсутствие Гели и простым большинством голосов вывел из состава руководства двух человек: Яна Попова и Пашу Зольде.
Попов был самым независимым человеком в конторе. Давно привыкший к большим деньгам, загранпоездкам и вхождению запросто в высокие кабинеты, Ян не слишком дорожил должностями и окладами. Более всего он ценил свое собственное время и, похоже, заявление о выходе из Совета написал сам. В ГСМ его интересовала не власть, а интересная работа, которой его никто лишать не собирался.
С Пашей ситуация была совершенно иная. Старейший друг Гели и один из отцов-основателей ГСМ, членство в Высшем Совете он полагал для себя принципиальным, поэтому после «вынесения приговора» сразу швырнул на стол заявление об уходе и выскочил из кабинета. Никто не попытался остановить его, а Гастон, хладнокровно подписав бумажку, перешел к следующему вопросу повестки дня.
Неприятный осадок остался у Давида от этого инцидента. Оказывается, в коллективе единомышленников, в организации абсолютно нового типа, тоже существуют свои «тайны мадридского двора». Абсолютно ясно стало одно: это не Гастон работает у Гели, наоборот — Геля работает у Гастона. Девэр властный, жесткий и, похоже, беспринципный человек, а Геля — честный, добрый, порядочный, но слабый. Конечно, он больше любит Гелю, и именно Геля привел его сюда, но работать-то приходится с такими, как Гастон, потому что только они и умеют по-настоящему работать. Такова селява.
— Давид, а вас я попрошу остаться, — словно Мюллер Штирлица, неожиданно задержал его Девэр.
И когда все разошлись, открыл окно настежь, разрешил курить и сказал прямо, без экивоков:
— Мне кажется, Давид, вы не согласны с увольнением Зольде. Так?
— Так, — решил не врать Давид.
— А я хочу, чтобы вы поняли, чем руководствуюсь я. Павел замечательный человек и очень талантливый художник. Мы давно дружим домами, с ним так славно посидеть на кухне, попить водки и поругать партию и правительство! Но работать, как выяснилось, совершенно невозможно. Павел проявил массу энтузиазма при создании Группы. Для него это было романтикой, чем-то вроде антипартийного заговора, но теперь, когда начались будни, когда наваливается самая обыкновенная рутина и надо просто пахать, он, великий Зольде, не хочет делать ни черта. Он принимает ГСМ все за ту же кухню, где можно пить водку и ругать правительство. Но за это, дорогой мой Давид, нигде и никогда не платили денег. Мы, конечно, «Группа спасения мира», но не надо нас путать с Армией спасения. Мы собрались, чтобы вместе зарабатывать деньги. Из этих денег мы даже готовы помочь не умеющим зарабатывать достойным людям. И если завтра Павлу Зольде перестанут платить за его гениальные картины, как уже было однажды, я первый выделю ему стипендию из собственного кармана. Но художнику Зольде, а не члену Совета, потому что член Совета — это рабочая лошадь, а оклад члена Совета как-то неприлично называть пособием по безработице. Вот так, мой юный друг.
Давид закурил вторую сигарету и неожиданно для самого себя спросил:
— Гастон, скажите, а вы француз?
На какую-то секунду Гастон растерялся, а потом повернулся к Давиду горбоносым профилем и, рявкнув что-то малопонятное, но явно по-немецки, объявил уже на чистом русском:
— Я истинный ариец, характер у меня нордический, в связях, порочащих… нет, это опустим. Ненавижу жидов и коммунистов. Создал для борьбы с ними ГСМ и, как самый хитрый, именно их и набрал себе в штат. Ведь даже фюрер понимал, что бывают нутциге юден. Ну а тех, которые уже не нутциге, вроде Зольде, — тех коленом под зад!
— Извините, Гастон, я просто так спросил.
— И вы извините. Я просто так ответил.
И добавил после паузы:
— Моя мать — еврейка из Марселя. Отец — наполовину русский, наполовину латыш. Воевал в Испании, там и познакомились. Вот такой я француз, ну, примерно такой же, как Зольде — немец.
— А Вергилий…
— Вергилий Наст — чистокровный украинец.
— Я не о том. Вергилий в курсе, что Пашу уволили?
— Нет, — честно признался Гастон. — А зачем? Он бы сейчас развел бодягу, всех бы разжалобил, запутал вконец. Любит наш общий друг адвокатские речи произносить.
А это сегодня неактуально. Я вам честно скажу, Давид. Иногда мне ужас как хочется уволить самого Наста.
— Что же мешает? — улыбнулся Давид.
— Да бросьте вы! Неужели не понятно?
— Не понятно, — сказал Давид.
Гастон странно посмотрел на него и принялся объяснять:
— Ну, во-первых, Геля Наст — живое знамя нашей Группы, во-вторых, только он так тонко чувствует людей, с которыми нам по пути, в-третьих, Сугробов — это все-таки имя и, наконец, в-четвертых, у него уникальные связи. Как вы думаете, кто нас вывел на старика Ромуальда?
А зарубежные каналы… Да о чем говорить! Вот и возимся с ним как с ребенком.
— Понятно. Гастон, а можно еще один вопрос? Глотков из КГБ?
— Насколько я знаю, нет, он служил в военной разведке. За что его оттуда вышибли, не наше с вами, как говорится, дело. А сейчас ему просто нужны деньги. Трудяга он добросовестный, дай Бог каждому. А то, о чем вы подумали, Давид, просто смешно. Уверяю вас. Да, мы не дети и знаем, что есть такое управление КГБ, которое занимается идеологией. К сожалению, несмотря на все перестройки, оно по-прежнему существует, правда, ведет себя намного тише. Однако отождествлять с этим управлением все спецслужбы нашей страны, по меньшей мере, наивно. Поверьте, мой юный друг, старому еврею. Я не выходил на площадь с лозунгом «За вашу и нашу свободу», но мысленно всегда был именно с теми людьми, а позднее со многими из них познакомился. Так вот, у нас в стране, считайте, каждый четвертый так или иначе сотрудничал с КГБ, и если сегодня мы от них от всех отмахнемся, работать станет просто не с кем. Вот так.
Давид невольно вздрогнул от магического сочетания слов «каждый четвертый»: что бы это значило? Но постарался скрыть свою реакцию и философски ухватился за последнюю мысль Гастона:
— А может, тогда есть смысл отмахнуться от всей страны?
(Тут же подумал про себя: «Или от всего мира».)
— Некоторые так и делают. Их трудно осуждать. Но лично я хочу работать здесь. Мне нравится заниматься бизнесом в России. И я собираю вокруг себя людей, которые в этом со мною солидарны. Кстати, в отличие от Вергилия я не люблю красивых слов, и все-таки «Группа спасения мира» — название и для меня не случайное. Потому что, мой юный друг, — можете это записать для последующего цитирования — если что и спасет этот мир (в чем я, признаться, сильно сомневаюсь), так уж, во всяком случае, не красота. И не слепая вера в сотню разных непримиримых богов. Мир спасут профессионалы и трудяги люди, знающие цену деньгам и не считающие материальный достаток величайшим злом. Только они реально могут спасти мир и уже спасают его. Но, к сожалению, на каждого здорового и честного прагматика приходится по доброму десятку воров, маньяков, идиотов-мечтателей, лентяев и просто дураков. Кто кого, время покажет. Но я предпочитаю не ждать, а работать. Можете мне сейчас ничего не отвечать. Просто если в принципе согласны, оставайтесь с нами, Давид, во многом вы мне симпатичны. И не думайте о всякой ерунде. Не обращайте внимания на Вергилия, когда он жрет коньяк. И на Глоткова, который в любой момент может быть обратно призван Генштабом. Живите настоящим, Давид. Работайте. Вы никогда не думали бросить курить? Попробуйте. Я бросил десять лет назад. Это очень повышает работоспособность.
— Я знаю, — сказал Давид и, с минуту поколебавшись, закурил последнюю оставшуюся сигарету.
Что ж, перейдем на «Мальборо» по сороковнику за пачку. У метро есть ларек, который всю ночь работает, и там не спрашивают талонов на табак.
«Мальборо» помогало думать, но загадка оставалась неразрешимой. Да, Гастон Девэр не мог знать о великом пророчестве Посвященных, но цифру свою он тоже взял не с потолка. В СССР действительно каждый четвертый взрослый человек работал на КГБ. И каждый четвертый потенциально был Посвященным, то есть заведомо противостоял КГБ. Закон равновесия? А что же остальная половина человечества? Их куда отнести? Вспомнилось нечто по аналогии. Борис Слуцкий делил всех людей на три категории: тех, что прочитали «Братьев Карамазовых», тех, что еще не прочитали, и тех, которые никогда не прочтут. Остроумно. Вот и ищи ответ у Достоевского. За инертную половину человечества ведут свою вечную битву Бог и дьявол. И, может быть, в этом случае, мир все-таки спасет красота?.. Во, какую философию накрутил вокруг слов Гастона! А что если это просто случайное совпадение?
Да только в жизни Посвященных не бывает случайностей….
Ночью первый раз позвонил из Штатов Владыка.
«Как устроились?» — «Нормально. А у тебя с работой?» — «Все хорошо». «Приглашение прислать?» — «Сейчас некогда. Лучше ближе к лету. Спасибо». «Ну, в общем, все отлично?» — «Да». — «И у нас также».
Разговор ни о чем. Смысл один — сообщить друг другу: живы-здоровы, движемся прежним курсом.
А потом вдруг Бергман сказал:
— Додик, запомни.
И в тот же момент Давид понял с абсолютной ясностью, что их разговор прослушивают. Давиду известны были эти байки, мол, когда Комитет включается, в трубке такой легкий щелчок раздается, и голос абонента как бы отдаляется. Чепуха — современная техника такова, что ничего заметить уже давно нельзя. Но он-то, он-то видел: их прослушивают. И это было крайне неприятно.
— Додик, запомни, — сказал Бергман. — Ровно за две недели до Нового года будет Особый день. Если ничего не помешает, в жизни твоей произойдет важное.
— А что, что может помешать?! — Сердце его сразу заколотилось, он уже думал об Анне.
— Например, пожар, — сказал Владыка.
— Пожар?
— Ну, это может быть не совсем пожар, — туманно уточнил Владыка. Додик, прощай, у меня тут монетки кончились.
И даже телефона не оставил, куда звонить. Значит, бесконечное ожидание и холодная пустота, вновь образовавшаяся в душе.
Из КГБ не пришли. И даже не вызвали туда.
Незаметно случилась осень, а когда сквозь облетевшую листву просунул свою скользкую льдистую морду ноябрь, стало ясно, что и зима не за горами.
В конторе вдруг устроили несуразно пышный праздник на седьмое ноября. Нет, семьдесят третью годовщину Октябрьского переворота нарочито не вспоминали. Геля Наст перечеркнул великий пролетарский праздник навечно, объявив седьмое ноября днем рождения ГСМ. Оказывается, два года назад именно в этот день шесть отцов-основателей, точнее пять отцов и одна мать (Вергилий, Гастон, Юра Шварцман, Паша Зольде, Ян Попов и Маша Биндер), собравшись на квартире у Гели, родили историческую идею. Не важно, что прошло еще больше полугода, прежде чем удалось оформить все бумаги, открыть первый банковский счет и получить офис, тогда еще не на Чистых прудах, а скромненький, на окраине — не важно, день рождения есть день рождения. Шаловливая мысль поплясать на коммунистических гробах всем понравилась, и праздник состоялся.
Геля, веселый, бодрый, полный энергии, пил только апельсиновый сок и фанту, но произносил много тостов и активно чокался с каждым персонально. Остальные пили шампанское, ликер, коньяк и пытались стать еще веселее Гели. Дима зажигательно пел под гитару все подряд — от красивых испанских баллад до сомнительного полублатного российского фольклора последних лет. Молодой художник Гена Сестрорецкий, ученик Зольде, специально к празднику развесил по стенам забавные картинки — цикл графических работ «Всемирная история сотворения и спасения», — где каждый из присутствующих мог разыскать себя и от души посмеяться. Охвачен был период от библейских легенд, где Вася Горошкин изображался одновременно и Давидом, и Голиафом, до наших времен, где «железная леди» Маша Биндер бросалась в объятия Юры Шварцмана, на лысине которого красовалось недвусмысленное пятно. Но самой ядовитой показалась Давиду картинка, где преувеличенно большой и толстый Геля выступал в роли Людовика Тринадцатого, а преувеличенно маленький и тощий Гастон — в роли кардинала Ришелье. Неужели такую расстановку сил понимают все и давно, настолько давно, что этого уже никто не стыдится?
А впрочем — в сторону! Шампанское — лучших сортов, ликер потрясный, закуски изумительные, домашнего приготовления, девушки постарались. А сами девушки? Празднично одетые, накрашенные, надушенные, улыбчивые, раскованные! И была среди них одна — самая красивая и самая раскованная Марина Ройфман. Невероятно, но и у нее день рождения пришелся на седьмое.
Гастон да и Геля тоже относились к Маришке сдержанно, можно сказать, настороженно, но в такой день сестру отсутствующего Зямы не позвать было нельзя. Ну а Марина, как она это умела, завладела вниманием всех мужчин. Давид не возражал, даже не ревновал, когда она откровенно флиртовала со всеми подряд. Он знал, что вечер кончится, и они останутся вдвоем. У них уже было слишком серьезно, чтобы Давид стал ревновать из-за такой ерунды. Но оказалось, что есть другой человек, который в этот вечер ревновал, и ревновал безумно……
Наконец Давид выпроводил на улицу всех пьяных гавриков, разбредшихся в разные стороны к метро, сдал ключи, попрощался с администрацией, при этом непрерывно одергивая Маринку, рвавшуюся то петь песни, то целовать каждого встречного. Но когда они доехали до Арбата и пошли по бульвару, затем переулками и дворами — к нему домой, разговор неожиданно пошел о Климовой.
— А эта твоя секретарша — тяжелый случай, доложу тебе.
— В каком смысле?
— Да в любом! Во-первых, страшна, как смертный грех. Главное, подать себя совершенно не умеет. Солдат в юбке, точнее солдатик, маленький глупый солдатик. Во-вторых, она же ничего не может скрыть. Ты что, не видел, как эта ощипанная курица на тебя смотрела?
— Как? — откровенно не понимал Давид.
— Ну ты даешь! Нет, вы, мужики, точно недоделанные какие-то. Да у нее же в трусах мокро становится, когда она на тебя смотрит.
— Перестань.
— Что «перестань»? Да ты бы ее только пальцем поманил, она бы тебе прямо там при всех отдалась. Я тебя уверяю.
— Ну, правда, перестань.
— Дейв, я с тебя тащусь! Ты прямо крот какой-то слепошарый. Разве можно до такой степени ни черта не видеть?! Ее ведь устраивало даже, что ты смотришь на меня и от этого возбуждаешься, она согласна была бы, чтоб ты возбуждался со мною, а спал с ней. Знаешь, как мужики порнухи насмотрятся и с бешеным энтузиазмом начинают своих постаревших жен трахать, от которых без допинга уже давно тошнит. А от этой любого тошнить будет, вот она и надеялась. Но тут я взяла и показала: тебе — промежность, а ей — язык. Понимаешь теперь, почему она так взбеленилась? Ну, извини, ну, надоела она мне. А так, еще по стакану бы зарядили и могли с ней устроить «лямур де труа». Не желаешь, кстати? Надо же девку наконец жизни учить. Тридцать два года — возраст серьезный. Я бы сказала, критический.
Может, это действовал алкоголь, но Давид слушал откровения Марины, как монолог из эротического фильма про какую-нибудь Эммануэль или мадам «О»: суть произносимого оставалась где-то за кадром, зато практический эффект был налицо. Они еще только вошли в подъезд, а он, не в силах дольше терпеть, сжал Марину в объятиях и быстро завладел ее губами, заранее зная, что ее большой, горячий, жадный рот тут же перехватит инициативу. А где они упали, когда наконец вошли в квартиру, не помнил уже ни он, ни она.
За утренним кофе Марина сообщила:
— Я ушла от мужа.
Давид не слишком удивился, предложил запросто:
— Живи у меня. Я, кажется, еще и раньше предлагал.
— Спасибо, — сказала Марина. — Но у меня еще и с работой паршиво.
— Что, со студии теперь вышибут?
— Нет. Но у нас же как: много работы — много денег, мало работы — мало денег. А просто за символической зарплатой приезжать — как говорится, жалко времени на дорогу.
— Ты что, считаешь, я не заработаю на нас двоих?
— Но я так не привыкла, — заявила Марина, — я женщина самостоятельная, эмансипе, как говорят французы. Мне своя работа нужна и свои деньги. Устрой меня в ГСМ.
— А Зяма что говорит?
— Зяму я уже накрутила, — объяснила она, — чтобы Гастону плешь проел. Но если и ты со своей стороны, будет хорошо. Ладно?
— Ладно. Послушай, Марин, советское правительство подарило нам еще целых три выходных дня. Геля поддержал это начинание и обещал никого не тревожить даже звонками. Что будем делать?
— Трахаться, — улыбнулась она.
— Принимается, — сказал Давид.
И это был трехдневный медовый месяц. Они действительно почти не выходили из дома, благо в доме все было, а погода стояла дрянная. Правда, десятого пришлось все-таки выползти за хлебом и на рыночек проехаться до Семеновской. Купили там клюквы, яиц два десятка (по десятку в руки), зато по три(!) рубля, и пижонских сигарет в ларьке. А где их взять не пижонских, когда талоны давно кончились?! Хорошо тем, у кого мамы, бабушки, сестры, детишки некурящие, а бедным сироткам Давиду и Марине приходилось тяжело. Но радостно. Очень радостно.
А под конец затянувшегося уик-энда она спросила:
— Дейв, а что, если я привезу сюда Илюшку?
— Сколько ему? — поинтересовался Давид.
— Девять. Он с моим вторым живет сейчас и с его грымзой.
— Давай с Илюшкой подождем пока, — предложил Давид. — Ладно?
— Ладно, — согласилась Марина.
Они не собирались расписываться. Кажется, Марину уже подташнивало от брачных церемоний. И Давида такое положение устраивало на все сто.
Первый послепраздничный день в конторе начался с угрюмого взгляда Климовой и ее холодно-вежливых реплик.
Что ж, умудренная жизнью Марина оказалась права: он нашел себе подругу, а друга потерял. Не все сразу — это законно.
А разговор с Гастоном (именно с Гастоном — не с Гелей же!) провел, как ему казалось, очень ненавязчиво. Мол, ему, Давиду, давно казалось, что в штате финкомпании не хватает еще одной толковой девицы, а тут вдруг познакомился поближе с Маринкой Ройфман… Что он знал о ней раньше, ну образованная, ну наш человек, ну внештатный курьер-почтальон-помощник, ну кинодамочка с известной студии, а оказалось, вы не поверите, Гастон…
— Поверю, — цинично прервал его Гастон в этом месте. — Вам хочется помочь беспутной девушке. Желание, вполне достойное сотрудника ГСМ. И о ваших личных отношениях я в целом осведомлен. Зяма рассказывал, вы ему симпатичны. Однако. Однако, мой юный друг, Марина — девушка непростая. Человек она, безусловно, наш, только в определенном состоянии становится неуправляемой.
Я готов ее принять на работу, скажем так, с декабря, но под вашу, Давид, личную ответственность. Понимаете? Буквально: она что-нибудь натворит, а отвечать будете вы.
Было нечто ужасно неправильное в этом разговоре, но Давид подумал секунду и согласился. А Гастон обещал на Совете доложить о новой сотруднице без ссылок на него.
Когда Маревич вышел на лестницу, в курилку, там стояла радостная компания молодых гээсэмовцев: Олеся с Юлей, Фейгин с Сестрорецким, Марина, которая быстро и органично вписалась в коллектив. Она действительно умела работать, а не только красиво пить и гулять. Давид поглядел на веселые лица перекуривающих и улыбнулся. Похоже, только что делились последними анекдотами.
— Слыхал? — спросил Дима у Давида. — Панамова уже увольняют.
— Это который помощник Гроссберга? Конечно, слыхал.
— А знаешь за что? Ему из архива ГСМ дали документы посмотреть. Некоторые. А он так увлекся, просидел до полуночи и просмотрел их все. Интересные оказались документики, особенно финансовые. Нет, насчет нарушений я ничего не скажу, я в этом вопросе не копенгаген, но вот размер премий у начальства, то бишь дивиденды за каждый квартал прошлого и этого года поразили воображение Леши Панамова. Они чье хочешь воображение поразят. Мы-то по тыще в месяц получаем и радуемся, думаем: во, класс! А, например, Гастон с Гелей еще в восемьдесят девятом (прикинь тогдашние цены на все) выписывали себе помимо зарплаты, сам понимаешь какой, кварталки по двадцать — двадцать пять кусков.
— Ну и Бог с ними, — сказал Давид, — я чужих денег не считаю.
— Я тоже, — согласился Дима. — Но почему об этом никто не знал? Ведь сегодня все доходы фирмы и все оклады у нас на виду. И заметь, Панамов далеко не обо всем рассказывает, я чувствую.
— Еще бы, — страшным голосом сказал Сестрорецкий, — есть такая информация, за разглашение которой сразу убивают.
В общем, свели все на шутку. И балагур Дима подвел черту:
— Я вам так скажу, ребята и девчата. Склад ГСМ — штука хорошая, полезная, для ведения боевых действий совершенно необходимая, но если там вдруг начинается пожар, гасить его почти без толку. Это дело будет не просто гореть, оно будет взрываться. А значит, уносите ноги, господа, как только почуяли специфический запах дыма.
— Ты на что намекаешь? — встревоженно спросила Олеся. — Я все-таки, извини, главный бухгалтер.
— Да пока ни на что, но ты приглядись, как смотрят иногда Гроссберг или Плавник на Чернухина, Наст на Девэра, а Шварцман и Сойкин на Попова, приглядись, как Ручинская сверлит взглядом тебя, Кубасова готова порой пристукнуть Глоткова, а Климова безмолвно рычит на Маревича и Маринку. Что, разве не так?
— Да ну тебя, пессимист неприятный, — фыркнула Олеся.
И тут из коридора отчетливо потянуло гарью: то ли задымившейся соляркой, то ли вспыхнувшим керосином.
Давид, как человек самый близкий к местной администрации, обеспокоенно кинулся выяснять, в чем дело, но еще успел услышать Димкино шуточное:
— Ну, я же говорил…
Оказалось: чепуха. Во внутреннем дворе воспламенилась банка с краской, на которую кто-то, очевидно, из окна бросил бычок. Но Давиду очень, очень не понравился этот инцидент, произошедший в Особый день, за две недели до Нового года.
Больше в этот день ничего не произошло.
Новый год встретили спокойно. Даже радостно.
Ну а потом началось. Про события в Вильнюсе и Риге никто уж и не говорит. Своих хватало.
Климову командировали в Питер с официальным письмом к какому-то молодому, лет сорока, но уже великому тамошнему химику, членкору, без пяти минут академику, создавшему беспрецедентный международный научный центр. Информацию эту выудил где-то Чернухин, за долгую свою редакторскую жизнь научившийся разбираться во многом, в том числе и в химии. А тут показалось Иван Иванычу, что это свой человек. Гээсэмовцем, может, и не станет, все-таки слишком занятой, а вот членом Фонда стать просто обязан. Такие люди и формируют его. В общем, Климова поехала.
И она еще не вернулась, когда Давид, случайно поинтересовавшись у Гели, как же фамилия того химика, в ответ услышал:
— Этого питерского академика? Борис Шумахер его зовут. В газетах не читал разве? Про него уже пишут…
Шумахер без шумах. Борис.
Мы же все-таки не в Германии, у нас эта фамилия редкая, и Давид почувствовал, как еще один предохранитель сгорел у него в голове.
Вернулась Климова, и все самые худшие подозрения подтвердились.
Ну, во-первых, ездила она зря, Шумахер, сославшись на занятость, отказался от сотрудничества вообще. Это для всех.
А для Давида персонально — другая, особая информация:
— Шумахер — Посвященный. Он хорошо знает Владыку. Общается с ним сейчас. Знает Владык в других странах, так как много ездил по миру на свои конференции. Шумахер знает больше, чем Бергман, знает про тебя, про меня. Он, например, рассказал мне, кто нас посвятил.
— И про меня? — с тревожным любопытством спросил Давид.
— Ну конечно, я же говорю, он все знает. Тебя посвятил…
Давид задержал дыхание.
— …какой-то Веня Прохоров. Правильно?
— Правильно, — сказал Давид, шумно выдохнув.
Откуда она знает про Веню? Рассказывал он ей или не рассказывал? Рассказывал или нет? Черт!
Он не мог вспомнить.
— Так ты слушай главное, что сказал Борис. Слушай и запоминай. Цитирую дословно: «Вы что там у себя в Москве, с ума посходили — работать в такой организации?! Она же засвеченная со дня образования! Может, она просто провокаторская — ваша „Группа спасения мира“. Ведь там же гэбист на гэбисте!» Вот так. И он советовал нам с тобой, если хотим, переезжать к нему в Питер. Только не сразу. Сначала надо просто уволиться и уйти на дно. Отсидеться где-нибудь в деревне. Ты понял меня?
— Я тебя понял. Я должен подумать. С Гелей посоветоваться.
— А вот с Гелей советоваться он как раз и не велел.
— Это еще почему? — вскинулся Давид.
— Потому что Геля твой — не Посвященный. Я же еще тогда говорила.
— Врешь ты все! — закричал Давид.
В этот момент он окончательно понял, что она действительно врет, и возможно, все, от начала до конца. Ведь ключевая фраза где была? «Нам с тобой надо уволиться и уйти на дно». Нам с тобой. Права Маринка, ради этого «нам с тобой» она еще и не такое придумает. А ты туда же, Шумахер без шумах, про Веню Прохорова знает!.. Про Анну знает он? Ни фига! И на Гелю черт-те что плетет. Никакой это не Шумахер! К черту! Домой! И с Маринкой водку пить!
Климова плакала. Плакала громко, навзрыд. Они сидели в его директорском кабинете, и Давид, помнится, еще подумал напоследок: «Вот дура. Нашла где вселенские тайны выкладывать. Если за нами и ее разлюбезным Шумахером охотится КГБ, в этом кабинете наверняка полно жуков. Кстати, вот и еще одно доказательство ее вранья. Еще одно».
В конце января Климова уволилась по собственному желанию. Из-за КГБ? Да нет, конечно, просто из-за Давида. Но Маревич все-таки решил зайти к Вергилию, поговорить тет-а-тет. Выбрал момент, сказал:
— Гель, нехорошо это, что Алка увольняется.
— Сам знаю, но у нее там семейные обстоятельства, с матерью что-то, мне даже вникать неудобно.
— Ничего у нее не с матерью, — сказал Давид. — Все это из-за меня. Неразделенная любовь.
— Шутишь, — не поверил Наст.
— Какие уж там шутки, когда она Посвященная, и я Посвященный. И какая сволочь придумала послать ее в Питер к этому Шумахеру?
— При чем здесь?! — Геля даже сигарету уронил.
— А при том! Она уверяет, что Шумахер — тоже Посвященный. Ты-то хоть знаешь, так это или нет.
— Я? Подожди минуточку.
Геля снял трубку, набрал номер и чуть было не начал разговаривать с несуществующим абонентом. Да вовремя сообразил, что Давида на такой чепухе не проведешь. Тем более что в кабинете было тихо, и длинные гудки хоть и еле-еле, а слышались.
— Извини, Дейв, мне надо очень срочно уехать. Позвони мне вечером домой.
Он демонстративно затушил в пепельнице только что закуренную сигарету и поднялся.
— Но это очень важный разговор!! — закричал Давид. — Ответь мне хоть что-нибудь!!!
Он кричал, потому что было страшно. И Геля остановился в дверях на секунду, сморщился, словно от боли, и повторил:
— Извини, Дейв.
Вечером у Вергилия, разумеется, был отключен телефон. А на следующий день он не вышел на работу. Кто-то из ребят дозвонился. Кажется, уже традиционно это сумел сделать Шварцман.
— Вергилий Терентьевич заболел, — официально доложил он всем заинтересованным лицам.
И болел Вергилий Терентьевич долго, даже дольше, чем в прошлый раз. А ехать к нему на Звездный Давид передумал. Все. Это у него уже пройденный этап. С алкоголиками всегда тяжело, будь они хоть начальники, хоть гении, хоть Посвященные. Тяжело.
Глава пятая. ОДИН НА ОДИН С КГБ
Последний муж Маринки был сценарист с телевидения, и напрочь она разругалась с ним, а не с режиссером, поэтому, когда начались съемки нового фильма по чьему-то совершенно другому сценарию, режиссер начал ей названивать и просить о помощи. Маринка ломалась, канючила какое-то время, мол, я теперь в солидной фирме работаю, однако ее болезненная любовь к кинематографу победила, и тем паче, что съемки шли по ночам, бессменный в течение многих лет ассистент Марина Ройфман снова включилась в творческий процесс без отрыва от «основной работы». Столь бешеный ритм заставил ее резко сократить количество поглощаемых спиртных напитков, что радовало Давида, однако и на секс сил теперь оставалось не много, что его огорчало. Поэтому в итоге Маревич сумел, согласовав вопрос с Юрой Шварцманом, вывести Марину из-под смертельного удара Гастона и договориться о работе на полставки.
Но в том январе съемки были как-то особенно интенсивны, Давид перестал видеть свою гражданскую жену по ночам и начал подозревать ее любимого режиссера в коварных планах сделаться четвертым мужем. Самому Давиду такое ни в коем случае не грозило, и он пытался относиться к этому псевдоадюльтеру философски. Но все равно было грустно: вроде и не один, а вот, поди ж ты, опять одинок.
В дверь позвонили. Десять вечера. Поздновато уже для незваных гостей.
— Кто там?
— Откройте, я из милиции.
В начале девяносто первого в ответ на такие просьбы иногда еще открывали запросто. Но Давид на всякий случай глянул в глазок, благо есть. Человек не прятался. Пришел без формы, но в глазок совал какое-то удостоверение. Фиг прочтешь таким образом.
Открыл. Прочел. Спокойно, не торопясь. Человек в штатском никуда не спешил. Это и был человек в штатском. Майор Терехов, но не из милиции.
— Вы уж извините. Мы когда правду говорим, некоторые не открывают, думают, шутка. И в ответ шутят: мол, сейчас не тридцать седьмой год, валите, мол, отсюда, КГБ скоро распустят. А нам, сами понимаете, обидно такое слушать. Ну а моя милиция меня бережет. Милицию народ любит, что бы там ни сочинял ваш брат журналист, каких бы там ни писали романов под названием «Мент поганый». Кредит доверия у милиции еще очень высок. Распишитесь вот здесь, пожалуйста.
Длинную речь произнес товарищ в штатском. Для чего бы это? Ведь не для того же, чтобы Давид покрасивее расписался…
А расписаться пришлось за врученную повестку в аккуратно разлинованном журнале, и запомнилась поэтому фамилия предыдущего товарища по несчастью некоего Фирсова Виктора Андреевича.
— Значит, мы вас ждем, Давид Юрьевич. В четверг вечером, после шести. А адрес там печатными буквами написан. До свидания.
— А все-таки, простите, чем обязан? — не удержался Давид от глупого вопроса уже вдогонку уходящему майору.
Терехов остановился и, обернувшись, с вежливой улыбкой сказал:
— В четверг вам все объяснят.
Первая мысль была такая: никуда не ходить. Приглашение (а оно так и называлось — «Приглашение»!) уничтожить и выкинуть все из головы. Как он выбрасывал всегда бесконечные повестки из военкомата. Тоже своего рода приглашения: на сборы, переподготовку, на вручение нового звания (было и такое, как выяснилось потом, а он не пошел, остался для себя лейтенантом). Но тут тебе, брат, не военкомы домогаются. Тут, брат, дело посерьезнее. Не ходить, значит, удариться в бега. А что может быть глупее? Для Посвященного — это глупость в квадрате. Называется бегать от судьбы. Или от собственной тени. Он ведь даже не знает, когда настанет следующий Особый день, не знает, сколько ему еще надлежит ждать Анну, или Шарон, или кого-то третьего, кого-то способного пролить свет на смысл и срок его земного существования, для которого он, Давид, кстати, и не предназначен.
Ну ладно, прекращай демагогию. Что, если эти искусствоведы в штатском все-таки берут его на понт, как райвоенкомат: не придешь, и хрен с тобой, ежика вычеркиваем. Может такое быть? В наше время все может быть. Они даже могут оказаться не гэбистами, а бандитами какими-нибудь, мафиози. Запросто.
И что? А ничего!
Давид вдруг очень ярко представил себе, как они — не важно кто послезавтра, то есть в назначенный вечер, приходят к нему (как вариант: ловят в любом другом месте), уже раздраженные, уже озлобленные, и с порога начинают материться и дубасить ногами (куда только девается вся их хваленая вежливость?) И вот уже его, Давида, с отбитыми почками и мокрыми штанами заталкивают в машину и доставляют все равно туда же(!). Куда он мог бы сам прибыть двумя часами раньше безо всех этих приключений.
Красиво рассуждаешь, скотина, а рассуждать на самом деле не о чем. И советоваться не с кем. Это твоя личная проблема. Не Гели, не Гастона, не Витьки, не Вальки Бурцева, даже не Маринкина, а только твоя личная. Вспомни все, чему учил Бергман, и вперед. Да, а кстати, куда идти-то?
Он посмотрел. Ну конечно, конспиративная квартира.
И хорошо и плохо. Если верить опыту Игоря Альфредовича — это еще не арест. Но, с другой стороны, таким визитом дело не кончится. И вообще он предпочел бы побывать в «святая святых» и плюнуть там на темно-красный ковер, по которому ходили ноги легендарных сатрапов.
Может, поэтому таких, как он, туда и не приглашают?
Но рассуждай не рассуждай — четверг настал быстро, а пролетел еще незаметнее. Пистолет он отнес на работу еще в среду и убрал в сейф, во внутренний отсек, под свой личный ключ. Правда, специфика ситуации заключалась в том, что от внешнего отсека ключ был только у Гастона и Гели, так они специально придумали. В общем, без посторонней помощи Давид и до оружия теперь добраться не мог, но он чувствовал: в существующем положении — это лучший вариант. Главное — переждать возможный обыск. Не вечно же ему жить в таком страхе!
Гастону наплел про зубного врача. Маринке по телефону сказал, что может задержаться в конторе. Если вдруг съемку отменят, чтобы не удивлялась. И поехал. До метро «Автозаводская», а дальше пешочком. Почему-то подумалось: негоже перед ГБ выпендриваться, мол, такой я крутой, городским транспортом не пользуюсь.
Поднялся на шестой этаж, позвонил. Отворил ему симпатичный молодой человек, так и оставшийся затем в прихожей, а в комнате за накрытым чайным столом встречал майор Терехов, и с ним капитан Сомов, как представился новый искусствовед — очень маленький, кругленький, розовощекий, совсем нетипичный и оттого еще более раздражавший.
— Садитесь, вот ваша чашка. Чаю, между прочим, рекомендую выпить, заботливо пояснил Терехов. — Мы туда ничего не подмешивали, уверяю вас, а чтобы не нервничать, согласитесь, все-таки лучше глоток-другой, в горле-то небось и так уже пересохло…
«Сволочь, — подумал Давид. — Вот только начни спрашивать, я на тебе отыграюсь».
А спрашивать начали издалека. Никаких чудес. Рутина. Родился, учился, женился… Не женился? Ну и правильно! К отцу как относился? Хорошо? А как еще можно относиться к отцу? Ах ну да, можно еще относиться плохо! Нет, он хорошо относился. Ну а такая фамилия — Бергман что-нибудь говорит ему? Что-нибудь говорит. Бергман Игорь Альфредович. Ах Альфредович! А я-то думал, речь об Ингмаре Бергмане, «Земляничная поляна», понимаете ли, «Осенняя соната», «Фанни, понимаете ли, и Александр». Улыбаются. Юмор оценили.
— Где познакомились?
Слова звучат очень жестко. Глаза смотрят холодно. Похоже, театр абсурда закончился и начинается допрос.
— Где познакомились? У него дома, разумеется, и познакомились.
— Адрес, телефон — откуда?
— От отца, естественно! (Молодец, Дод! Молодец. Кто бы подумал, что ты так сможешь! Ведь они это проглотили, они поверили! Вперед, смелее!)
— Вы встречались с Бергманом где-нибудь еще, кроме его дома?
— Н-нет, впрочем… ну как же! На митингах встречался. Четвертого февраля, например, на Октябрьской, у «Шоколадницы». Место сбора у нас там было.
Товарищи в штатском заскучали. И тогда розовощекий кругленький капитан спросил, не отрывая глаз от своей чашки:
— Давид Юрьевич, вы читали книгу под названием «Заговор Посвященных»?
— Нет, никогда. А кто ее написал? (Получите, гады! Ухожу в несознанку, да еще попутно пробую у вас кое-что узнать.)
— Вопросы здесь задаем мы.
(Фи, какая банальность! Однако узнать ничего не удалось. И не удастся. Счет один-один.)
— Конечно, конечно, — принял он правила игры.
Я просто думал уточнить, по названиям, знаете, не все книги помню. Много читать приходится.
— Что, и такого много?! — Искреннее удивление на лице Сомова, и сразу взгляд обратно в чашку.
— Какого такого? — спросил Давид.
Сомов тяжко вздохнул и сообщил:
— Эдуарда Абрамовича Цукермана, Эдика Цукермана убили агенты Моссада из-за этой самой книжки. А книжка опять пропала… Такие дела, Давид Юрьевич, а вы говорите: «нет, никогда, какого-такого»…
Быстрый, очень быстрый взгляд из-под бровей, и опять — сосредоточенно так ложкой по донышку чаинки двигать. Интеллектуальное занятие.
Давид покосился на майора Терехова — и тот глаза прячет.
Матерь Божья, что ж это за новая форма допроса: вместо камеры с голыми стенами, сильной лампы в лицо и стеклянных, бесстрастных, немигающих глаз уютная комнатка, ароматный чай и интеллигентская стеснительность палачей! С ума они, что ли, все посходили? И чего им от меня надо? Они же все знают. А про меня знают больше меня. Зачем же, спрашивается, вызывали?..
И вдруг он начал понимать. А может, просто вспомнил. Из рассказов Бергмана.
Они его изучают. Наблюдают, как диковинного зверя. Не в лаборатории, не в зоопарке, а в заповеднике — в условиях, приближенных к естественным. Впрочем, до клетки уже рукой подать.
Пауза затянулась, и Давид спросил:
— Чего вы от меня хотите?
— Понимания, — ответил Сомов охотно. — Искренности.
— Шагов навстречу, — добавил Терехов. — Помогите нам. Мы, например, готовы вам помочь. Вам ведь плохо, Давид Юрьевич?
— В каком смысле?
— Вы одиноки. Разве не так? И вам никто не поможет. Ни ваша… жена. Ни «Группа спасения мира». Вергилий Наст мир спасает. И своих детей. От нищеты. До вас ли ему?
— Это несправедливо, — обиделся вдруг Давид.
Может, потому и обиделся, что сам в последнее время думал примерно так же. Но кто дал право этому мерзавцу говорить про Гелю?
— Справедливо, справедливо, — отмахнулся мерзавец. — Вы это скоро поймете. И все равно придете к нам. Потому что вы станете никому не нужны, совсем никому, а мы такими, как вы, занимаемся профессионально. Ну что, так и договоримся? В следующий раз сами придете? Вот телефончик…
И тут Давид понял окончательно, со всей своей нечеловеческой ясностью понял, что гэбуха-то блефует, что не знают они, как с ним справиться, не знают, только убить могут, а убивать жалко, не наигрались еще, да и не только жалко, а страшно. Вот оно! Эти двое его боятся. Потому и глаза попрятали, голубчики. Потому и позвали сюда, на специально оборудованную квартиру и подальше от своего паучьего центра. Не только эти двое — они там все боятся его!! Или это уже мания величия? Проверим! Что-то ты, товарищ Терехов, уж больно смело смотришь на меня. Шалишь, товарищ Терехов…
И он попробовал сделать с майором ГБ то же, что когда-то с инспектором ГАИ на Рублевке.
Нет. Майор оказался ушлый, отвернулся сразу и буркнул то ли Сомову, то ли ему:
— Хватит на сегодня. Давайте заканчивать.
Они оба резко поднялись, и Давид невольно поднялся тоже.
— Я могу быть свободен?
— Разумеется, голубчик, — гнусно проворковал кругленький Сомов.
Давид шагнул в прихожую и остолбенел. Третий, самый молодой, стоял, широко расставив ноги, и целился в него из какой-то чудовищной базуки или гранатомета, целился и приговаривал:
— Да вы не пугайтесь, Давид Юрьевич, это не «стингер», это вообще не оружие, это у нас прибор такой.
Может, молодой и не врал, но «прибор такой» еще больше не понравился Давиду, особенно алый огонек лазерного прицела. Или не прицела? Он был точно такого же глубокого красного свечения, как глаза Анны в тот день… Скверная ассоциация, неуместная. Мышцы его тела напряглись, плечи расправились, кулаки сжались, ноги вросли в пол.
Терехов был профессионалом и моментально заметил это. И заорал из-за спины Давида:
— Лейтенант! Отставить прибор!!
И лейтенант со своей базукой быстро ретировался на кухню.
— Извините нас, ради Бога, — пробормотал майор, глядя в стену.
А Сомов, прощаясь, для пущей надежности даже ладонью глаза прикрыл, с понтом потирая их:
— Устал, знаете ли, как собака. Тяжелый день сегодня выдался. Так вы звоните, Давид Юрьевич, не забывайте нас.
…А Геля как ни в чем не бывало вынырнул из небытия в очередной раз, и уже наступил март, и народ готовился к светлому женскому празднику, на котором всеми любимый генеральный директор конечно же будет пить только апельсиновый сок и фанту. Так уж был устроен Геля: не признавал праздников, ни пролетарских, ни церковных, а пил по своему, только ему понятному графику. Сложно был устроен Геля, даже слишком сложно.
Давид держался с ним нарочито индифферентно: а что, собственно, случилось? Ничего не случилось. Гастон все, что считал нужным, доложил или еще доложит, а нам с тобой, Геля, говорить уже не о чем. Строго говоря. О Шумахере забыли. Все! Какой Шумахер? Не было его, и Климовой не было, все хорошо, Восьмое марта близко-близко, расти, расти моя… ну да, я как раз об этом, а ты думал, мы тут за работой уже и о женщинах думать перестали, как можно-с, как можно-с!..
Потом обсудили еще одну модную тему. Скоро, уже очень скоро — в середине мая — состоится наша «Ялтинская конференция» — Второй съезд Фонда Спасения Мира. Первый, учредительный, прошел в московском Доме журналиста в сентябре. Прошел, признаться, наспех — так надо было, ловили момент — и потому получилось бледненько: мало участников, мало публики, мало журналистов. Компенсируем теперь. Южный берег Крыма. Синее море, белый пароход. Шикарный отель и иностранцев больше, чем людей. Гулять — так гулять! Заодно и отдохнем, кстати.
— А вот скажи, Геля, с девушкой можно будет туда поехать?
— Кому, Дейв, тебе? Ну конечно можно!
Давид специально не конкретизировал, с какой девушкой. Он еще не знал этого наверняка.
Съемки фильма у Маринки кончились. И начался запойчик. Небольшой такой, скромненький, но запойчик. Может, оттого, что режиссер укатил в Америку, а может, и так — от общей тоски. Давид «оформил ей бюллетень», то есть предупредил: до следующего понедельника девушки не будет. А Гастон сказал:
— Если девушки и в понедельник не будет, передайте ей, пусть не приходит совсем. Я вас предупреждал, Давид.
— Я все помню, — потупил взор Маревич.
Когда он пришел в тот день с работы, Маринка спала, не раздевшись, в кресле. Он пришел злой, как тысяча чертей. Даже хотелось выпить. Но посмотрел на Маринку, и расхотелось. Просто открыл окно на кухне, сварил кофе, закурил.
Геля кончился для него навсегда. Без выяснения обстоятельств. Просто было противно копаться в грязном белье. Коммерция, рвачество, доносы, бабские обиды — и все это называется «Группа спасения мира»! Как это по-нашему, по-советски!
Он только забыл еще одну составляющую. Геля, Климова и он Посвященные. Вот такой винегретик. А ведь проблемы Посвященных — это не то, от чего можно отмахнуться. Оставался майор Терехов, как дырка в голове, оставался загадочный Шумахер, оставалась давняя пропавшая книга, то и дело напоминавшая о себе. С кем можно обо всем этом? Со своими. Только Геля теперь не казался ему своим. Он сделался физически неприятен, и это было сильнее логики, сильнее Высшего Закона Посвященных. Значит, уж лучше Климова. Простим женские слабости, будем выше этого. И он набрал Алкин домашний.
Подошла ее мать:
— Кто? Кто это? Не слышу! А, Давид… Дави-и-ид…
И она заплакала.
Насилу он добился элементарного, минимального набора вразумительных фраз…
Не было больше Климовой.
На этом уровне бытия Алки Климовой больше не существовало.
Поехала в Питер. Попросила: если что случится, на работу ни в коем случае не сообщать, потому что с этой работой она больше не хочет иметь ничего общего. И ведь случилось! Как чувствовала доченька. В день приезда у самого Московского вокзала. Грузовик. Водитель — олух, молодой, неопытный, резко затормозил. Гололед.
— Гололед, гололед был, — повторяла мать и на этом слове захлебывалась.
Он положил трубку и обещал перезвонить. Зачем? Ведь Климову уже похоронили.
Растолкал Маринку.
— Мара, слышишь, Мара, накрылась твоя «лямур де труа». Алку Климову убили.
— Что? Кто?! — Маринка трезвела на глазах.
— В Питере. Автокатастрофа.
— И чего, дура, туда потащилась? — растерянно проговорила Маринка, а потом закрыла лицо руками и завыла в голос.
Теперь оставался один Шумахер. Ну, еще, конечно, Владыка, так ведь он телефона не оставил, а Америка без телефона — это, считай, тот же иной мир. Существовал, разумеется, как запасной вариант еще один достаточно экстравагантный способ — ходить по Москве и «на ощупь» искать своих. Однако, помимо Закона Случайных Чисел, существовал в ином мире еще какой-то закон — явно не случайных и даже совсем не чисел. По этому закону получалось, что Давид встречает своих в десятки, в сотни раз реже, чем они все встречают друг друга. Кто-то там наверху оберегал его от этих встреч. Или других оберегал от него. Ведь дай волю Давиду, и Посвященным станет не каждый четвертый, а каждый второй без всякого изменения мира. Владыка еще год назад обратил внимание Давида на это странное обстоятельство: Маревич не находит друзей по «посвященности».
Один раз, впрочем, нашел, ну и попал пальцем в небо. Если не сказать в дерьмо. Ведь ГСМ, как теперь выяснялось, это нечто враждебное Посвященным. Не зря говорят: слова умерших приобретают особый смысл. Что, если убитая Климова (да, убитая, он знал, убитая!) сказала ему правду о Шумахере?
Телефон выдающегося химика современности Маревич выудил у Ивана Ивановича непосредственно. Чернухин даже не слишком интересовался, зачем. «Вы уже не мальчик, Давид, вы директор солидной фирмы, вас в пору Давидом Юрьевичем величать», — говорил ему, бывало, ветеран советской научной журналистики. А Маревич не стал ему рассказывать, кто именно совсем недавно называл его Давидом Юрьевичем. Тем более что на этот раз Чернухин воздержался от привычной риторики, а просто продиктовал питерский номер членкора Шумахера директору солидной фирмы.
Да только не порадовал Маревича вкрадчивый голос Посвященного Бориса.
Можно ли по голосу узнать своего? Владыка уверял, что нет, но ведь Давид не обыкновенный человек — экстрасенс, ядрена вошь! — и он почувствовал: на том конце провода Посвященный. Хотя на том конце провода вообще никого не было. Только высококачественный японский автоответчик голосом Бориса Шумахера на русском, английском и немецком сообщил: «Извините. Хозяин отбыл в Нью-Йорк, ожидается прибытием в июне месяце».
«Псих ненормальный! — подумал Давид. — Ну кто такие вещи на автоответчик наговаривает? Обворуют же квартиру. Или она у него на охране в милиции?»
Давид почти не ошибся: квартира Шумахера стояла на такой охране, что все мелкие и даже не очень мелкие воришки, сунувшиеся туда, крепко пожалели бы о содеянном и другим наказали бы нехорошее место не трогать. Только Давид узнал об этом много позже, а тогда…
Тогда он понял: кто-то там наверху подарил ему трехмесячный отпуск. Выкинуть из головы, Гелю, Шумахера, Веню, Владыку, Алку и даже Анну. Жить как все. Не ворошить прошлое, не торопить будущее, то есть смерть. Жить настоящим. Кто это ему советовал? Ах, ну, конечно, Гастон. Вы правы, Гастон!
Что мы имеем в настоящем: Маринку, интересную работу и достаточно денег. Уже неплохо. А что мы имеем в ближайшей перспективе? Новый «Москвич» и Ялту — ну просто великолепно! И КГБ нас не трогает, уже две недели не звонит и не пишет — ура!
Новый «Москвич». Самая современная из выпускаемых в стране машин. По замыслу. Исполнение, конечно, хромало, как это у нас обычно принято, но все, что было не дотянуто в прямом и переносном смысле, дотягивал Жора Грумкин — дотягивал в лучшем виде и за бесплатно, то есть за свою зарплату. Давид совсем перестал употреблять алкоголь — он безвылазно сидел за рулем. И Марина потихонечку училась пить меньше — то ли положительный пример действовал, то ли просто жизнь сделалась спокойнее. Из ГСМ она уволилась, сказав:
— Не намерена больше терпеть этих девэровских штучек! В понедельник ему надо выйти обязательно. А пошел он на хрен! Может, я во вторник выйти хочу или в среду. Додик, ну ты же заработаешь на меня денег?
Раздраженный тон менялся на ласковый, грубые словечки — на нежные, и они вдвоем начинали мечтать, как поедут сначала к братану Зяме в Симферополь, а потом на ЮБК — оттянуться по-настоящему за казенный счет.
— Слушай, — ворковала Марина, — в этой вашей конторе коммуниздят все, кто сколько может. Надо же и нам с тобой, котик, урвать свою пайку.
Они пристрастились к воскресным поездкам за город. Не большой пьяной компанией, а именно вдвоем, с бутылкой сухого вина или совсем без бутылки, главное, чтобы никого вокруг, березы, птицы, свежий воздух. И они любили друг друга каждое воскресенье, как в первый раз, сначала в машине, а потом, когда стало теплеть, — на земле, расстелив что-нибудь. И, наконец, уже совсем ничего не расстилая, на мягкой молодой травке, под зеленым пухом едва намечающейся листвы.
За неделю до отъезда в Ялту Давид на всякий случай подошел к Гастону. Уточнить, все ли в порядке. Ведь Юра уже заказывал билеты, а Лида расписывала народ по номерам. Хотелось убедиться, что никаких препятствий не возникнет.
— Гастон, вы в курсе, что мы едем вдвоем с Мариной?
— Да, я в курсе. Давид, помните анекдот? Как вы относитесь к решениям последнего съезда КПСС? Поддерживаю и одобряю. А к постановлениям последней сессии Верховного Совета? Поддерживаю и одобряю. А к международной политике нашей партии и правительства? Поддерживаю и одобряю. Ну а свое-то мнение у вас есть? Есть. Но я его не поддерживаю и не одобряю. Вот и у меня, Давид, по этому поводу есть свое мнение, которое я не поддерживаю и не одобряю.
— Ну зачем вы так?
— А затем. Геля вам разрешил — я знаю. И вообще вы упрямый как черт. Но Марина уже давно не наш сотрудник.
— Я за нее заплачу.
— Да перестаньте, Давид, разве в этом дело. Вы — директор, какой вы подаете пример подчиненным? Это опять все тот же разговор. Очевидно, Ян был все-таки прав тогда, а Юра просто слишком хорошо к вам относится.
— Ах вот как! — вспылил Давид. — Значит, я просто еще не дослужился до того, чтобы ездить на отдых за казенный счет с любовницей. Не дослужился так и скажите, открытым текстом, а что вы мне мозги компостируете!
— Вы именно так ставите вопрос? И кого же, простите, вы имели в виду, говоря о любовницах? — завелся в ответ Гастон.
— Да ладно, мы же с вами интеллигентные люди! Не будем разбирать по пунктам всю эту гадость.
Давид развернулся и пошел.
— Постойте, Давид, постойте. Всего два слова.
Давид остановился и закурил, уже готовый извиняться за резкость. Разговор происходил в коридоре, и курить здесь, слава Богу, можно было, ни у кого не спрашивая.
— Всего два слова, Давид. Даже во времена господства коммунистов у некоторых из нас не удавалось отнять права свободного выбора. Сегодня тем более выбор у вас есть. Делайте его, мой юный друг.
— А я уже сделал, господин директор. Мне поздно менять решение.
— Очень жаль, — Девэр подвел черту, и теперь уже он собирался уходить.
— Мне тоже, — несколько загадочно откликнулся Давид, оставляя последнее слово за собой.
Ах, если бы Гастон Девэр мог знать, какой именно выбор стоял перед Давидом Маревичем, какие именно проблемы приходилось ему решать. Впрочем, Девэр был человеком необычайно прозорливым и, кажется, что-то чувствовал. Может, поэтому и не торопился гнать взашей давно зарвавшегося юнца. Двадцать лет разницы в возрасте позволяли ему считать Давида мальчишкой.
А в Ялте было не просто хорошо, в Ялте было замечательно. Правда, в связи с обострившейся политико-экономической ситуацией в стране и мире из всех многочисленных иностранцев на Съезд пожаловали один болгарин и один поляк. Зато приехал широко известный ученый — социолог и публицист академик Василий Евгеньевич Ладинский-Пестель. Он был безусловным гвоздем программы. Давид и в конференц-зале, и в приватных беседах слушал Ладинского буквально с открытым ртом, и только расстраивался ужасно, что молчит его сердечная сигнализация — еще один достойнейший человек пролетел мимо Посвящения по идиотскому Закону Случайных Чисел.
Ладинский-Пестель в один из первых же дней выступил с сенсационным докладом под условным названием «Советский Союз наутро после вчерашнего: социологический прогноз». Он четко разложил по полочкам и расставил по углам все происходящее в стране, каждому политику дал лаконичное определение и убедительно объяснил, где кому место. Ельцина неожиданно окрестил властным и удачливым диктатором, а Горбачева назвал отыгравшим свое и исполняющим ныне роль английской королевы, то есть почетной персоны без реальной власти. Затем краткими тезисами обосновав полную бесперспективность союзной экономики, он добавил сюда чудовищные ошибки в национальной политике, а также общеизвестную гибель старой идеологии и предрек неизбежный развал Империи Зла к концу лета — началу осени текущего года. В мае месяце еще ни у кого не хватало смелости на такое предположение, полную фантастичность которого засвидетельствовал присутствовавший в зале модный писатель-фантаст Грегор Шунтиков.
А Давид слушал, и дьявольское его сверхчутье подсказывало: Ладинский знает, что говорит, все так и будет. Ну видел он, что не Посвященный этот академик, ну и что?! Все равно после доклада подошел к нему и спросил:
— Василий Евгеньевич, а вы сами верите в предсказание будущего?
— Эх, молодой человек, — вздохнул Ладинский. — Молодой человек, я давно уже ни во что не верю. И вам не советую. А будущее можно и нужно рассчитывать. Чем я и занимаюсь, между прочим.
— Вы меня не поняли, наверно, Василий Евгеньевич. Вы верите, что ваши расчеты влияют на исход событий в будущем?
— И в это тоже не надо верить, чудак вы человек! Это очевидная истина. Во-первых, в силу известного физического закона о влиянии любого прибора на измеряемую величину, а во-вторых, разве не для того мы с вами вместе создали этот Фонд спасения мира? Именно для того, чтобы активно влиять на происходящее.
Разговор-то был, в общем, чисто теоретический, но потом Давид не раз и не два вспоминал его, улавливая в каждой реплике скрытый смысл. Неужели такое возможно? Два человека, ну не самых простых человека — гениальный академик Ладинский-Пестель и чокнутый Посвященный-экстрасенс Давид Маревич — постояли минут пять рядом на узкой улочке, сбегающей к пронзительно синему морю, обменялись уникальной информацией, выкурили по сигарете и… бац! Девятнадцатое августа, ГКЧП, танки на улицах, развал Империи. Смешно связывать напрямую? Наверно, смешно. Но так уж вышло, у Давида — связалось. И не до смеха было.
А в остальном Ялта была Ялтой — нормальным сказочным городом на берегу сказочного Черного моря посреди сказочной теплой весны. И все как будто помолодели, и даже никто ни на кого не злился, никто никому не завидовал. Да и зачем? Геля резвился с Лидой Кубасовой, при том, что полконторы лично и хорошо знало его Верку, быть может, не самую замечательную женщину на свете, но любящую и заботливую; Плавник был верен своей Илоне, а она ему, что уже начинало казаться всем даже трогательным; а Попов, любитель самых юных девочек, тайно встречался с Юлей, и выглядело это ужасно смешно, ведь какие, к черту, тайны могут быть в родном коллективе. Про неженатых и говорить не стоило, обстановка располагала, и даже самые безнадежные импотенты во время «Ялтинской конференции» приводили к себе в номер каких-нибудь девушек.
Так шли дни.
Цветущие магнолии, олеандры и глицинии, массандровские мускаты и игристые вина, странные, очень вкусные мексиканские сигареты «Импала» с ментолом за пять пятьдесят в местном магазине, вкуснейшие копченые куры, домашняя колбаса, зелень и корейская морковка с рынка, эротические фильмы вечерами и ночами по кабельному каналу отеля и нежное, страстное «Люблю тебя, люблю!», которое только здесь, на Юге, под запах роз и моря, под пение цикад и шелест волн звучит так сладко и неповторимо, и совсем не важно, что цикады не поют в мае, совсем не важно…
Ради этого, в сущности, стоило наплевать и на Гастона, и на Гелю, и на всех прочих евреев французского происхождения, а также хохлов с древнеримскими именами.
А какие вопросы обсуждало высшее руководство ГСМ на своих закрытых собраниях по ходу форума, Давид совершенно не запомнил, хотя все их исправно посещал и даже пьяным вроде не был. Больше того, как раз тогда, перед отъездом в Крым (поводом стал шальной гонорар, кажется, из «Нового мира»), Давид на все имевшиеся в наличии деньги купил фантастическую по тем временам игрушку — видеокамеру «Нэшнл» — почти по цене нового автомобиля. И взял ее с собой.
Он отснял в Ялте шесть кассет, не слишком разделяя, где личные, интимные кадры, а где общественно значимые. Монтажом собирался заняться в Москве, и уж тогда появятся на свет два выдающихся произведения киноискусства — одно об исторической «Ялтинской конференции-2», другое лирическое об их с Маринкой чудесном отдыхе.
А за два дня до отъезда подошел Дима Фейгин и небрежно так передал:
— Дейв, Гастон просил тебя зайти к нему в номер.
Зашел. В номере у Гастона сидели все отцы-основатели. На сдвинутых столах — водка, вино, помидоры, зелень, копченое мясо и сало. Женщин никого. Мальчишник. Или военный совет. На второе похоже больше, уж слишком публика солидная.
Гастон улыбнулся и спросил вдруг на ты:
— Водки выпьешь?
От неожиданности Давид сразу согласился. Хотя почувствовал подвох, напряженность какую-то в воздухе. И пока он опрокидывал рюмку и заедал мокрым куском чего-то, во что слепо ткнулась рука, Гастон прокомментировал с дурацкой улыбкой:
— Знаете, Давид, великий хирург Пирогов во время войны, прежде чем отстричь солдатику ногу, предлагал ему водки откушать.
Э, да Гастон-то сегодня навеселе. Это было поистине необычное зрелище. А вот шутки у Гастона нехорошие. Давид очень ясно ощутил, как холодный ланцет полоснул по сухожилиям, скривился от боли, застонал еле слышно и чуть не рухнул на пол. Уже через секунду все прошло, захохотавшая над остротой Гастона публика ничего и не заметила.
— Так вот, — взял вдруг слово Чернухин. — Вопрос-то на самом деле серьезный, Давид. Мы хотели поинтересоваться у вас, зачем вы производили здесь видеосъемку.
— Чт-т-то?
Как хорошо, что он уже все прожевал и проглотил, особенно водку, иначе пришлось бы долго кашлять.
— К-как то есть зачем? Для истории.
— Куда вы собираетесь передать эти пленки?
— Никуда! Вы что? Чисто для себя, для внутреннего пользования в ГСМ.
— И где вы намерены хранить кассеты?
Жесткий профессионально продуманный допрос. Майор Терехов и тот разговаривал с ним мягче. Давид был полностью выбит из колеи.
— К-какая разница, где?
— Большая. Вы хоть понимаете, что это видеоматериал, содержащий информацию политического и конфиденциального характера? Вы обязаны сдать эти материалы нам, — резюмировал Чернухин.
— Я? Обязан?
Вся эта комедия абсурда никак не укладывалась у Давида в голове. Он чисто случайно попал взглядом в Гелю. Тот смотрел жалостливо, по-собачьи и, выразительно моргнув, развел руками. Полная беспомощность.
Матерь Божья, да кто ж здесь начальник?!
Гастон зачем-то выпил больше нормы и пытался все свести на шутку. Попов с едва скрываемым удовлетворением кивал головой, мол, мы же вас предупреждали. У Гроссберга лицо имело растерянное и отстраненное выражение типа «А я-то здесь при чем?» Юра Шварцман стыдливо прятал глаза. И только композитор Достоевский, незаменимый хозяйственник и матерый военный разведчик, смотрел на Давида прямым, ясным, честным и — ё-моё! сочувственным взглядом.
Давид еще раз прикинул, от кого можно ждать поддержки, понял — не от кого — и, резко развернувшись, бросил уже через плечо:
— Сейчас принесу.
Он чуть не упал на лестнице, пока поднимался бегом на свой этаж. Слава Богу, Маринки не было, они с Юлькой Титовой пошли прошвырнуться по бережку. Мара не позволила бы ему отдать кассеты и сама пошла бы ругаться. Обратно он тоже бежал. Почему? Наверно, просто хотелось покончить с этим скорее.
— Я принес! — объявил Давид и продолжил специально заготовленной фразой: — Я принес, но есть ма-а-аленькая проблемка, господа, как говорят в американских фильмах, плохо переведенных на русский язык: на этих кассетах действительно присутствует конфиденциальная информация, я бы сказал, информация приватная, интимная.
Я же объяснял вам, что снимал для себя.
А там на самом деле были кадры с полуобнаженной Маринкой — не хватало еще, чтобы эти старые козлы похотливо хихикали и пускали слюни, просматривая его «секретный материал».
— Тоже мне проблема, — хмыкнул Вергилий, уже переставший чувствовать себя виноватым и озабоченный теперь чисто техническими вопросами. — Сотрем все записи прямо сейчас.
— Каким образом? — полюбопытствовал Давид. — Кассеты же маленькие, нестандартные. Адаптора я с собой не брал, так что в видюшник их не вставишь.
— Ну а с помощью камеры нельзя, что ли? — спросил Попов.
— Можно, — сказал Давид, — со скоростью записи. Девять часов. Я этой фигней заниматься не буду, а другому человеку камеру не доверю. Я, видите ли, считаю, что у любой техники должен быть только один хозяин.
— А это правильно, между прочим, — согласился вдруг Петр Михалыч. Как вариант, можно эти кассеты сжечь. В Москве купим Давиду новые.
— Веселый костерчик получится, — заметил Юра, — а вонищи-то, вонищи-то будет!
— Вы меня умиляете, коллега, — улыбнулся Михалыч. — Корпуса-то зачем уничтожать? Сжигают только пленку. Она горит быстро, как порох, и дыму от нее совсем не так много. В одной пепельнице можно все это хозяйство спалить.
— Господа, о чем мы говорим? Я не понимаю, — возмутился вдруг Гроссберг.
— Действительно, — поддержал его Чернухин. — Оставляйте кассеты, Давид. Никто не собирается их смотреть. Обещаю вам. Неужели вы не доверяете моему слову?
И Давид понял: смотреть их действительно никто не собирается. Не в этом дело. И все-таки сказал, прежде чем уйти (терять-то было уж совсем нечего):
— Доверие, Иван Иванович, это такое чувство, по-моему, которое бывает только взаимным.
И все. И разве только дверью не хлопнул.
«Сволочи! — стучало в висках. — Вот сволочи! Ненавижу всех!» По коридору навстречу шел Фейгин.
— Димка! Ты знаешь, зачем меня вызывали?
— Нет.
— Тогда пошли в бар, выпьем чего-нибудь, я тебе расскажу.
И когда в бутылке коньяка осталось уже совсем на донышке, Димка сформулировал афоризм.
— Помнишь, — сказал он, — Гелины слова о том, что главная цель ГСМ это выживание. Так вот я понял: цель не изменилась, просто политика выживания плавно перетекла в политику выживания из. Из ГСМ. Скольких они уже выжили, посчитай. А мы с тобой на очереди. Наливай по последней.
В день отъезда, двадцатого мая, и на побережье, и в Симферополе шел проливной дождь. Настроение у Давида окончательно испортилось. А тут еще, что называется, до кучи подлил нежданную ложку яда добрый Зяма Ройфман. Он так и сказал уже на перроне, прощаясь, за каких-нибудь двадцать секунд до плавного отползания вагонов:
— Я к тебе исключительно по-доброму отношусь, Дод, поэтому и скажу: не путайся ты с моей лахудрой. Поиграл и хватит, до добра это не доведет. И ничего мне сейчас не отвечай. Не надо. Будь здоров, Дод.
А Давид и не хотел отвечать. Ничего. Никому. Да провались они все пропадом!
В Москве было пыльно и душно. Однако почему-то с утроенной силой захотелось работать. Наотдыхался уже.
И работать хотелось именно в этой прогнившей насквозь конторе со всеми ее дрязгами и интригами. Он принимал теперь и жесткую конкуренцию, переходящую во взаимную ненависть, и маниакальную подозрительность стариков, и глупую ершистость молодежи, и неравноправие, граничащее с кастовостью, и подчинение всех задач одной, главной — извлечению сверхприбыли. Он и мечтал-то теперь прежде всего зарабатывать деньги побольше и побыстрее. Период романтических увлечений красивыми идеями кончился, наступило время трезвых оценок. Он знал теперь про ГСМ все (так ему казалось), а потому искренне был готов служить интересам фирмы.
И в интересах фирмы в течение двух часов был подготовлен, согласован и подписан приказ об освобождении Маревича от должности директора финансовой компании. Временно исполняющим обязанности тут же, то есть тем же приказом, назначили огорошенного Димку. А Давида по его личной просьбе (все эти кредиты-депозиты надоели хуже горькой редьки) перевели на должность менеджера в торгово-коммерческую структуру, возглавляемую Шварцманом. Гастон не обманул — он никогда не обманывал в делах — и оставил Давиду прежний оклад, причем возможностей для дополнительного заработка сделалось даже больше. И вроде не на что обижаться, ведь имидж, авторитет, место в президиуме — все это суета суетствий, внешняя, позолоченная шелуха. А все равно обидно. Почему? Может, не удавалось забыть эти чертовы ялтинские кассеты, а может, добил его на сей раз очередной Гелин запой.
Сколько можно, ядрена вошь?! Как только на работе трудности, неприятности, как только самые принципиальные вопросы решаются, так его нету, гада! Генеральный директор хренов! Теперь уже трудно было считать это случайным совпадением.
А в подъезде у Давида опять маячили давешние топтуны из ГБ. Не приставали, не трогали, даже закурить не спрашивали, но вот уж неделю как прописались здесь капитально. Чертовщина какая-то: стоит Вергилию слететь с катушек, искусствоведы в штатском тут как тут. Кажется, в третий раз он это замечает. Связи, конечно, никакой, но все равно противно. Или все-таки есть связь? Может быть, уже и это нельзя считать случайным? В жизни Посвященных случайностей не бывает. Не слишком ли часто он вспоминает эту фразу? Но трудно, трудно не вспомнить.
Особенно стало трудно после третьего серьезного разговора с Гастоном.
Было уже поздно, почти никого не осталось в комнатах ГСМ, да и вообще на этаже, во всяком случае, никого, кто мог бы зайти без стука, но Гастон счел нужным закрыть дверь на ключ изнутри.
«Ого! — подумал Давид. — Дело швах».
— Садитесь, — предложил Гастон, — курите. Во-первых, вот ваши кассеты.
Это был все тот же цветастый пакетик, в который Гастон завернул их там, в Ялте, и словно тем же скотчем заклеенный. И оказалось, действительно тем же. Дома он смеха ради вставил одну из кассет в камеру, поглядел. Ничего там было не стерто. И на остальных пяти — тоже. Никому это оказалось не нужно. Чего, наверно, и следовало ожидать. Только теперь Давиду было даже не смешно. Теперь, после откровений Гастона.
— Хотел попросить у вас прощения за тот неприятный инцидент в отеле, неожиданно сказал шеф. — Я им говорил тогда: либо запрещайте съемку в самом начале, либо просто объясните парню, что это не для прессы. Чего было огород городить? Но этот мракобес Чернухин!.. Доберусь я еще до него, смершевец старый!
— Кто, кто, простите? — Давид решил, что ослышался.
— Смершевец. Слышали про такую организацию? СМЕРШ. Смерть шпионам. Иван Иваныч там и проходили службу-с во время оно.
— И кем же он там служил-с? — ядовито добавил Давид.
— В звании каком — не знаю, но по молодости лет — исполнителем, конечно.
— То есть приговоры приводил в исполнение, контрольные выстрелы в голову, что ли?
— Не знаю, может быть, — рассеянно ответил Гастон. — Теперь-то уж он давно в отставке, но органы, сами знаете, быстро не отпускают.
— Органы, по-моему, вообще не отпускают.
— Бросьте, Давид, кому он нужен сегодня, такой старый? Лет уже двадцать в журналистике трудится, если не больше, а от смершевских привычек избавиться не может. Устал я от него, Давид, сил нет, еще в редакции устал. Но деться пока некуда: квалификация, авторитет, связи…
— Компромат, — добавил Маревич.
— А, перестаньте! Какой может быть компромат на бедного старого еврея?
— Был бы человек хороший, а компромат найдется, — философски заметил Маревич.
Гастон посмотрел на него очень внимательным и долгим взглядом.
— Вы что-то знаете, Давид? Что-то конкретное?
— Да ничего я не знаю, Гастон! Однако сын ваш где учится? В Гарварде? Правильно? Разве это не достаточный компромат, по советским-то понятиям?
— По советским этого было бы даже многовато, — согласился Гастон, — но сегодня дети за границей не только у меня. Гроссберг, Сойкин, Плавник, Шварцман — все поступили так же. И вообще, мой юный друг, хочется верить, что советские времена почти закончились.
— Вы очень точно выражаетесь, Гастон. Хочется верить. И особенно мне нравится слово «почти». Видно, из-за этого «почти» вы и собрали вокруг себя такой безумный коллектив: половина евреев-диссидентов, половина чекистов-«отставников». Композитора Достоевского, говорите, Попов привел? Так? Я тут подумал: а сам-то он в двадцать три года, не будучи членом партии, корреспондентом ТАСС в Нью-Йорк — это что такое?!
— Это ПГУ, Давид.
— Что, простите?
— Первое Главное Управление КГБ. Внешняя разведка.
— Вот видите!
— Что «вот видите»? Горошкин — тоже из КГБ, из «девятки», естественно, если вам это интересно. Но теперь-то он там не работает. И Ян не работает в разведке. Господи! Какие же у нас у всех вывихнутые мозги! Сделали из КГБ пугало и шарахаемся от одного названия, на митингах кричим: «Долой КГБ!» А почему не «Долой министерство культуры!»? Там такие же сволочи сидят… Ах, если б вы знали, Давид!..
И замолчал. Но ведь сказал уже, сказал «а» — значит, теперь скажет и «б». Это же Гастон.
— Давид, а вы не пробовали пойти по цепочке дальше и задаться вопросом, кто привел Яна Попова, ну, то есть кто познакомил меня с Яном.
— Кто?
— Это так просто, Давид! Нас ведь было всего шестеро. Ну же, смелее!
Машка Биндер и Павел Зольде отпадали сразу. Юра Шварцман был похож на чекиста, как Давид на эфиопа. Оставался… зампоорг в универе, Йемен, связи за рубежом…
— Неужели Наст?!
— Ужели, мой юный друг, ужели. И я хочу, чтобы вы наконец это знали. Как вы думаете, кто бы нам позволил в самом начале восемьдесят девятого года зарегистрировать откровенно антикоммунистическую организацию. Ну, правда, в учредительных документах, чтобы не дразнить гусей, мы все-таки написали «анархистов», а не «антикоммунистов». Но именно чтоб не дразнить гусей — вообще нам была зеленая улица. Нас прикрывал Геля — штатный офицер Управления «З», того самого, Давид, идеологического, «диссидентского», как его называли. То есть Геля был как бы внедрен в нашу Группу, а на самом деле работал и работает против системы.
— А вы не допускаете, — спросил Давид, — что он как бы работает против системы, а на самом деле внедрен в нашу Группу.
— Допускаю, — сказал Гастон. — Потому и завел сегодня с вами этот разговор. Я все эти два года ломал голову, на чьей же стороне Геля. А потом вдруг понял: ни на чьей. Он как Максимилиан Волошин. Помните, в «Гражданской войне»: «…молю за тех и за других». Тяжело молить за тех и за других сразу. И некоторые, не такие как Волошин, от этого спиваются. А потом я понял еще и другое: не важно, на чьей стороне Вергилий Наст душою, важно, что практически он помогает работать нам. Цинизм? Конечно. Но поймите, Давид, если все пойдет как надо, очень скоро не будет ни той ни этой стороны, бывшие коммунисты и антикоммунисты перемешаются, как фрукты в компоте. Но в переломный момент будет очень важно не упустить инициативы, не потерять контроля над ситуацией. На самом деле я уже не чаю уйти из-под этой чертовой «крыши». Время «Ч» близится, и вы можете мне помочь, если захотите, конечно.
— Каким же образом? — окончательно запутался Давид в хитрых интригах ГСМ.
— Мне кажется, вы очень скоро уйдете от нас. Я не гоню вас, упаси Господь, я это просто чувствую. Так вот, если вы будете уходить и вам уже станет наплевать на все отношения внутри фирмы, опубликуйте все, что я вам тут наговорил, в какой-нибудь многотиражной газете, без ссылок на меня, разумеется. Вот и все. Конечно, я мог бы пообещать вам в благодарность хорошее место в несуществующей пока фирме, которую я, дай то Бог, создам после всего, но мне кажется, вам это не нужно.
— Вы правы, Гастон. Мне. Это. Не нужно, — сказал Давид с расстановкой и добавил: — А над вашим предложением я подумаю. Кстати, вы не боитесь, что он сейчас слушает нас?
— Не боюсь. Он сейчас спит.
— Вы ему сами, что ли, наливаете в нужный момент?
— Не без этого, Давид, не без этого, иногда приходится, — грустно улыбнулся Гастон.
— Ну, хорошо, а его сотрудники не могут нас с вами слушать?
— Бросьте, Давид, у них сейчас денег нет, чтобы дорогостоящие жучки на такую шелупонь, как мы с вами, тратить!
Эх, Гастон Девэр, если б ты знал, на какие жуткие базуки с красными глазами находятся деньги у них. Если, конечно, это они, а не еще кто-нибудь. Рассказать тебе, что ли, про майора Терехова? Да нет, нельзя. У вас свои игрушки, у нас свои. Грызитесь без меня. Одного только не понимаю: как Посвященный может работать на ГБ? Или уже все в этом мире перевернулось?
Голова у Давида пухла, делалась квадратной и шла кругом. Одновременно.
Вдруг начал названивать последний муж Марины. И она снова запила, не глухо, не по-черному, но запила все-таки.
И был уже июнь. Чтобы развеяться, решили махнуть вместе с Фейгиным и Женей Лисицкой к Маринке на дачу. Не в самом ближнем Подмосковье, но что такое расстояние, когда есть своя хорошая новая машина! И все было здорово: и дорога, и лес, и речка, и птички, и цветы в саду, и ранняя клубника в огороде. Но под вечер на них откуда ни возьмись свалился Федор, великий сценарист, тот самый, что названивал в последнее время.
— Как он узнал, что мы здесь? — спросил Давид, отведя Маринку в сторону. — Ты что, сама ему рассказала?
— Н-ну да, — замялась Маринка, — я думала… в приятной, непринужденной обстановке… надо же наконец разобраться, поговорить…
— О чем говорить? Зачем?! — обалдел Давид. — Хочешь вернуться к нему возвращайся, я тебя не держу. У нас по отношению друг к другу никаких обязательств.
— Не надо так, Дейв, не надо…
— А как надо, Мара? Так, как ты? Позвать сюда этого идиота! Это ж надо было додуматься!
Разговор получился совершенно тупой. Маринка так и не определилась, чего она хочет. Давид не хотел ровным счетом ничего. А Федор, явно не жаждавший вернуть себе жену, просто злился, что она ушла, и люто, по-звериному ревновал к любому мужику. Мужиков таких навидался он много, но сейчас перед ним был один — Давид. Ведь Димка с Мариной не спал, во всяком случае, Федор не знал об этом. Ну и после третьей бутылки водки разговор перешел в новую стадию. Стадия получилась очень короткой, потому как бывший муж, уже не тратя лишних слов, вынул из-за голенища (для этого, что ли, и сапоги надел?) здоровенный охотничий нож. Давид с тоскою подумал об оставленном в сейфе пистолете, ведь Федор был на голову выше, косая сажень в плечах и, как рассказывала Маринка, служил в десанте.
Давид помнил, как встал и отошел к стене, лихорадочно ища глазами, чем бы тяжелым бросить в это ополоумевшее животное. А все остальные сидели, словно в ступоре, не в силах шелохнуться, и Федор не торопился, куражился, ревел страшным голосом, нес какую-то ахинею про отрезание яиц и прочее.
Как не хочется умирать! Как это некстати сегодня. Ведь даже не Особый день. Откуда он знает? Зн-а-а-ает. Неважно откуда. От звезды. Ну куда же ты прешь, придурок? На кой я тебе сдался? Может, именно для этой ситуации вручил ему Владыка «макарова», а он сегодня не взял с собой? Нет, не мог он ошибиться, не мог случайно забыть оружие в сейфе. В жизни Посвященных не бывает случайностей.
Остановись, громила! Остановись, идиот! Моя жизнь нужна только мне. И моя смерть — тоже. Тебе ничего не обломится с моей смерти, кретин! Ты слышишь? Почему ты не слышишь?! Стоять!!! Нет? Так зарежь себя сам!
Телефона на даче не было — это же не Барвиха. А машина почему-то долго не заводилась. Нервы, просто нервы…
Федор умер в больнице.
На Давида не стали заводить уголовное дело. Федор в сознание не приходил, но свидетелей самоубийства оказалось достаточно. Дактилоскопическое исследование оставшегося на даче ножа подтвердило их показания. Да и по логике вещей ситуация выстраивалась вполне стандартная.
Только Маринка ушла от него навсегда, бабским своим чутьем почуяв неладное. Она еще тогда, на даче, на миг протрезвев, сказала страшным голосом:
— Ты колдун, Дейв, колдун! Федор не мог себя зарезать, я слишком хорошо его знаю…
И Давид вспомнил давнее: «Дейв, да ты у нас медиум!» Кто это говорил? Гоша? Нет, кажется, Аркадий…
А Маринка хлопнула еще полстакана («Мужики, не мешайте, мне надо, иначе я буду никакая!») и после этого ревела и хохотала, билась головой о стенку и тихо скулила — в общем, толку от нее было мало. Да и от Димы толку было не много: он почти ничего не говорил и только выполнял любые поручения в рамках использования его грубой мужской силы. А основная нагрузка легла на Женьку, как самую трезвую, и на него, Давида, единственного, кто мог вести машину, хотя и с трудом. Но здесь обошлось без приключений: все-таки не Москва. Ночь они провели в приемном отделении районной больницы, а наутро, когда от врачей уже ничего не требовалось, отправились в милицию.
Все эти подробности вспоминались теперь как дурной сон. Все — от пророческих слов Зямы на симферопольском перроне до писания дрожащей рукой объяснения в душной полутемной конуре какого-то подмосковного РУВД, он даже не запомнил, какого именно. Все это хотелось выкинуть из головы, отбросить как можно дальше и навсегда. Но одно — главное — не отпускало.
Он ведь нарушил еще один завет. Нет, заповедь. Бергман говорил, что правильно — заповедь, как у Моисея, как у Христа. Он нарушил Пятую заповедь: не убивай, ибо кровавому пути не будет конца. Да, это так, он убийца. Следователь не мог этого понять, а Маринка почувствовала и ушла. Да разве дело в Маринке! Какую по счету заповедь нарушил он теперь, по своему внутреннему счету, какую? Третью, четвертую? Он считал Посвящение карой. Он жил не как все. Он пытался творить добро назло всем. Он торопил смерть и заочно любил ее сильнее жизни. Наконец, защищаясь, он убил человека… Матерь Божья, да он нарушил все, абсолютно все Заповеди Посвященных, вот только Матерь Божью поминал он всуе, потому что не верил на самом деле в богов земных. Значит, одну, предпоследнюю заповедь все-таки не нарушил. Но это уже ничего не меняло. Похоже было, что пора нарушать Главную заповедь, то есть умирать и возвращаться обратно…
Мысли об этих абстрактных для земного существования понятиях успокаивали, как чтение Библии или Корана, но конкретные угрызения конкретной совести накатывали вновь.
Почему он сказал ему «Зарежь себя сам!»? Ведь мог же просто заставить бросить нож и уйти. Или не мог? Ну конечно не мог! Если бы у его «управляемой магии» были такие неограниченные возможности, он бы и кагэбистам сказал: «Ребята, отстаньте, забудьте про меня». И проблем бы не стало.
А проблемы были.
Позвонил Терехов.
— Узнаете?
— Нет.
— Майор Терехов. Что же вы, Давид Юрьевич, не звоните, не заходите?
— Да как-то все, знаете ли, дела, — ответил Давид в таком же идиотическом тоне.
— Дела подождут, Давид Юрьевич. Какие у вас теперь дела? Из ГСМ пора увольняться, жена от вас ушла, друзья… А вот, кстати, хороший вопрос: есть ли у вас друзья, Давид Юрьевич?
— Есть, — злобно буркнул Давид.
— Так это прекрасно, Давид Юрьевич! Что ж вы злитесь? Заходите к нам вместе с друзьями. На той недельке, ладно? Адрес другой, мы вам объясним, а телефончик — прежний. До свидания, Давид Юрьевич. Привет друзьям.
Вот так и поговорили.
А правда, есть ли у него друзья? Или он уже действительно остался совсем-совсем один? Один на один с КГБ. Эти-то его никогда не бросят.
Сначала позвонил Витьке. Встретились, как всегда, на Пушкинской. Рассказал все, ну, то есть почти все — вопросы, связанные с Посвящением, вывел за скобки. Витька сделался мрачнее тучи. У него за год дела немного наладились, сидел заместителем директора в хитром советско-германском СП и откусывал потихоньку от колоссальных по масштабам финансовых операций (по-русски говоря, хищений) в Западной группе войск. Вывод Советской Армии из бывшей ГДР обещал быть долгим, и Витька совершенно не хотел осложнять себе жизнь весьма стремными Давидовыми проблемами.
— Чего ты от меня-то хочешь?
— Сам точно не знаю. — Давид беспомощно развел руками. — Я не уверен, что это КГБ. Понимаешь?
— Ты предлагаешь мне выяснить? Позвони Гошке.
— Лучше, если ты с ним поговоришь.
— Хорошо, — согласился Витька.
— А если это КГБ?.. — начал Давид нерешительно.
Витька перебил его:
— Если это КГБ, никакой Гошка тебе не поможет. У его папы фамилия не Крючков и не Горбачев.
— Ну, Витька, ну я же ни сном ни духом, у них же на меня ничего нет и быть не может, — самозабвенно врал Давид (зачем?), — а просто по старым связям сегодня уже не должны никого трясти!
— Дейв, — сказал Витька по-доброму, но твердо, — я этого ничего не знаю и, честно говоря, не хочу влезать.
А что обещал, сделаю.
Он отзвонился быстро, через два дня:
— Привет, старик, это Виктор. Слушай сюда. Клиенты, предложенные тобою, оказались ровно теми людьми, о каких мы и говорили при встрече. Как партнеры они нашу фирму не устраивают, так что пока не найдешь новых клиентов, Дейв, лучше не беспокой нас. Ладно? Дел очень много.
Из этого шифр-монолога трудно было понять, обращался ли он за помощью к Гоше или привлек кого-то еще из своих знакомых, но одно прочитывалось бесспорно: это все-таки КГБ. А значит «…не беспокой нас. Ладно? Дел очень много». Ладно, Витька. Ладно.
Так одного за другим он отсекал от себя людей. Возможно, когда Терехов сказал о друзьях, он специально провоцировал своего подопечного. Но Давиду уже нечего было терять.
Оставался только Борис Шумахер.
Детективный сюжет разворачивался всерьез, и Давид решил звонить в Ленинград из приемной Коровина, спросив разрешения у знакомой секретарши. Если тут и идет прослушка, так по другому ведомству — сразу не догадаются совместить, а если за ним следят непосредственно и непрерывно, тогда уже на все наплевать — звони хоть из дома — никуда не скроешься.
— Алло! Слушают вас, — откликнулся на том конце солидный баритон.
Очень хотелось для верности позвать к телефону Бориса, но что-то подсказало ему: не надо, не зови, это он и есть.
— Здравствуйте, с вами говорит Давид Маревич.
В ответ — тишина, наполненная ровным дыханием, затем щелчок и металлический женский голос:
— Ждите ответа. Ждите ответа. Ждите ответа. Ждите…
Он положил трубку, сказал «спасибо» и ушел, не рискнув перезванивать. Что бы это значило?
Разгадка пришла скоро.
«Неделька», на которой майор Терехов ждал его к себе в гости с друзьями, подходила к концу. Надо было решаться.
В городе установилась дикая, расслабляющая жара. С каждым днем делалось душнее, и к пятнице все столбики московских термометров зашкалили среди дня за тридцать пять. Кончилось это, понятное дело, грозой. Но и ливень не принес прохлады. Просто стало влажно, как где-нибудь в Батуми.
Давид сидел в шумной даже под вечер комнате торгово-коммерческой службы, изучал очередной пришедший факсом прайс-лист и вяло отвечал на телефонные звонки под стрекотание двух принтеров, в левое ухо — громче, в правое — тише, потому что стоит дальше. И тут для полного счастья зазвонил еще и местный телефон.
— Давид Юрьевич, это Лариса, референт Коровина. Поднимитесь, пожалуйста, к нам, вас спрашивают из города по номеру Ромуальда Степановича.
— А это точно меня? — удивился Давид, чуя недоброе.
— Да, человек просил Давида Маревича.
— Здравствуйте, Давид. Вы на машине? — начал человек с места в карьер.
— Да. А что?
— Вас ждет один ваш деловой партнер из Ленинграда.
— Да, да!
Сердце забилось учащенно.
— Так вы сейчас выходите и поезжайте по бульварам в сторону Пушкинской, — объяснял человек. — На Страстном мы будем вас ждать, сразу за Екатерининской больницей. Представляете? Вот и славно. Какая у вас машина?
— Новый «Москвич», белый, сорок шесть пятнадцать.
— Я записал. Пожалуйста, поторопитесь, у него очень мало времени.
Вот теперь Давид понял, что не зря учил его Бергман всем азам диверсионно-разведывательной деятельности. Наконец-то и пригодилось.
Первым делом он ринулся в свой бывший кабинет к сейфу. Процесс передачи дел, конечно, затянулся, и ключ от внутреннего отделения все еще был у него, а не у Димки, а вот от внешнего… Какая удача! Гастон, по-видимому, искал какой-то документ, нашел или нет, неясно, но дверцу оставил открытой. А Дима болтал с незнакомой миловидной посетительницей и на телодвижения Давида внимания обращал мало.
Открыть дипломат, прижать к стене, дверцу несгораемого шкафа — пошире, теперь ключ, два поворота… вот он, на месте, все нормально, да еще здесь и десятитысячная пачка казенных денег новехонькими бумажками по сто. Взять, что ли? Зачем? А, на всякий случай. Лишним не будет. А потом вернет. Дома есть, просто сегодня вряд ли придется попасть домой…
— Слышь, господин директор, извини, что отвлекаю, Шварцман ушел уже, так ты Гастону передай: я срочно уехал. Звонок был интересный — дело на сто лимонов.
Лимон — это было новое модное словечко, и в коммерческой службе любили щегольнуть им.
— Хорошо, — сказал Фейгин солидно, — поезжай.
Давид подумал мельком: «Забурел, уже забурел».
На Страстном, сразу за Екатерининской больницей, его прижал к обочине милицейский желто-синий «козел».
«Ну, вот и все», — успелось подумать.
Что он нарушил? Да вроде ничего, даже перестраивался, никого не подрезав, но какое это теперь имеет значение? Моя милиция меня бережет. Найдут пистолет в дипломате, большие деньги без документов и плюс, как назло, выпил в обед две рюмки коньяка, наверняка еще не выветрилось, ведь не думал, не думал, что так рано ехать придется. Это же просто бред какой-то! В последний, критический момент выйти на самого Шумахера, и вот так бесславно — нелепейшим арестом — завершить этот Особый день. Стоп! Откуда он взял, что этот день Особый?
А ведь взял же откуда-то…
Из «уазика» вылез милиционер и направился к нему.
Ну что, сержант, объяснить тебе, что я из Шестого управления МВД, выполняю спецзадание, а запах алкоголя — для камуфляжа. Лет десять назад я это умел, сержант. Попробуем сегодня?
«Успеешь, — сказал ему кто-то. — Не горячись».
Нет, не сержант — тот молчал, наклоняясь к окошку и улыбчиво козыряя. И не сам Давид, уж свой-то внутренний голос он узнавал хорошо. Это был чужой внутренний голос. Внешний голос.
— Товарищ водитель, пройдите, пожалуйста, в мою машину, — сказал сержант.
И в нарушение всех принятых правил житейской мудрости Давид выбрался из-за руля и сразу пошел. Спасибо еще ключи из замка вынул.
Да и как он мог не пойти? Сержант-то оказался Посвященным.
А на заднем сиденье «уазика», у окна, задернутого шторкой, сидел чернявый мэн лет сорока, именно мэн — в костюмчике от Кардена, в очках с итальянской оправой, на коленях суперкейс крокодиловой кожи и поверх него изящно скрещенные белые холеные руки в сверкающих перстнях.
— Меня зовут Борис Шумахер.
Сердце Давида в невыразимом приступе восторга сыграло туш.
— Ну как, красиво? — поинтересовался мэн.
— Что именно?
— Торжественный туш в мою честь.
— А вы умеете этим управлять?
— Учимся помаленьку, — скромно заметил Шумахер. — Ну ладно, дружище, время. Значит, так. Я сейчас выхожу и тихонько иду в сторону Пушкинской. А вы тихонько едете туда же. Потом я поднимаю руку, вы тормозите и подсаживаете меня, для порядка поторговавшись. И дальше всю дорогу мы разговариваем как случайный попутчик со случайным леваком. Вы уверены, что ваша машина не нашпигована всякой дрянью?
Давид пожал плечами.
— Я тем более не уверен. А кстати, за вами не было хвоста?
— Я слишком мало проехал, чтобы всерьез судить об этом.
— Что ж, это не дилетантский ответ, — похвалил Шумахер. — Ступайте, граф, нас ждут великие дела.
И когда, изрядно покружив, они выехали из города по Ленинградке, солнце уже садилось. Маревич вдавил педаль в пол, машина выдала сто сорок с лишним и ясно дала понять, что это еще не предел. Вот и славно! Шоссе сделалось вдруг совсем пустым, и ни о каком хвосте уже не могло быть и речи. Разве что вертолет, но это слишком шумно и заметно, к тому же такому пижону, как Шумахер, похоже, не слабо завязать узлом лопасти любого вертолета.
— Закурим, — предложил Борис, когда они отошли уже достаточно далеко от машины и присели на поваленное дерево.
Было бы странно, если б крутой мэн предложил ему «Беломор» или «Приму». А он «Беломор» и не предлагал — вынул экзотические разноцветные сигареты «Мультифильтр». Шестьдесят рублей за пачку Давид всегда жалел, потому не пробовал до сих пор, а сигареты достойные оказались.
— Значит, так, Давид, начну с главного. Уходите из ГСМ. Завтра же. Пока не поздно.
— А когда будет поздно?
— Когда вашу славную группу прикроют и разгонят.
— Кто же ее прикроет?
— Ну, в некоторых кругах эту идею вынашивают давно. А нынешним летом ситуация назрела. Я виноват перед вами, Давид. Я слишком многого недооценил. Например, чисто человеческих отношений. Передал зимой предупреждение через Климову, а Климова, оказывается, была к вам неравнодушна. Вот уж воистину любовь сильнее смерти! Но я и другого не учел. Я, старый дурак, не понял, кто вы. Думал, так, обычный Посвященный. Ну, еще экстрасенс в придачу. Делов-то! Экстрасенс вы, кстати, довольно слабенький. Но сочетание отдельных параметров привело к потрясающему, абсолютно непредсказуемому эффекту. Моя агентура прохлопала все это, а когда мы спохватились, оказалось, что столь любимое нами ведомство давно отслеживает каждый ваш шаг. Специалисты с Лубянки меня перешустрили, и теперь уже ничего не оставалось, как только сесть им на хвост.
— И с каких же пор меня пасет КГБ?
— Но это же элементарно, Уотсон! С двадцать первого января прошлого года. Ведь разговаривать на квартире Бергмана — это все равно что делать доклад в приемной КГБ.
— А Бергман не знал об этом?
— Знал, конечно, только уже не боялся. Он-то сразу понял, что вы совсем не простой человек. Игорь Альфредович прозорлив, и он не ошибся. Но теперь…
Шумахер вдруг замолчал, и Давид спросил:
— Так что, теперь именно КГБ хочет разогнать ГСМ?
— Насколько я могу судить, именно КГБ, — сказал Шумахер.
— Так ведь они же эту Группу, по существу, сами и создали!
— Я тебя породил, я тебя и убью, — пробормотал Шумахер. — А вам, Давид, откуда это известно? Догадались?
— Нет, добрые люди рассказали. — Он задумался на секундочку: говорить — не говорить? — Гастон Девэр недавно поведал.
— Вот как, — задумчиво проговорил Шумахер. — Интересное кино получается.
— Послушайте! — вдруг словно проснулся Давид.
А вы-то, Борис, кого представляете? (С кем, с кем он теперь откровенничает?! Нашел себе, понимаешь, нового кумира! Шумахер без шумах. Еще один Посвященный-просвещенный! Этот кем окажется?)
И ведь оказался.
— Ах, простите, я не представился полностью. Борис Шумахер, Центральное разведывательное управление США.
Картина Репина «Приплыли». Осталось встретиться с агентом галактической контрразведки, а дальше будут уже только носилки и смирительная рубашка.
— А как вы думали? — объяснял меж тем Шумахер. — Если здесь и сейчас против Посвященных играет такое могучее ведомство, как Комитет государственной безопасности, чтобы как-то защитить себя, мы просто вынуждены прибегать к помощи альтернативных организаций. Иначе нам просто не дадут жить и работать. А я, простите, ученый! У меня, между прочим, свои, и очень серьезные, виды на эту планету и это человечество.
«Во-во, — думал Давид, словно сквозь сон, — уже пошли разговоры про планету. Взгляд из космоса. Интересно, на какую еще планету имеет виды этот безумный ученый, этот mad scientist?»
— Ладно, — оборвал себя Шумахер. — Речь не об этом. Сейчас мы говорим о вас. Если Гастон вам все рассказал, значит, вы уже должны были понять, что идеи майора Терехова не всегда совпадали с идеями полковника Наста…
— П-простите?
Удивляться Давид уже разучился, но на сей раз было такое ощущение, что его сильно ударили по голове.
— Я понял: вы не совместили в голове две половинки одного целого. Я даже понимаю, почему. Вы же считали Гелю Посвященным. Долго и упорно верили в это. Но теперь-то вы поняли, кто в ГСМ настоящий Посвященный?
— Теперь… понял. Шило на мыло, — пробормотал Давид. — Бергман же уверял меня, что в спецслужбах не бывает Посвященных.
— Бергман прав, но до известной степени. Да, Петр Глотков — полковник Главного разведуправления Генштаба, и он же — Роджер Трейси, полковник Агентства национальной безопасности США. И все-таки прежде всего он боевой шарк Черной гвардии Шагора.
Давид вздрогнул от последнего имени и зачем-то спросил:
— Шарк — это акула?
— Да, шарк — это акула.
Шумахер вдруг продекламировал:
— Помните такие строчки, Давид?
— Помню. (Откуда он их помнит, откуда?)
— Очень хорошо. И теперь вы должны понять, почему вас так сильно трясло на той исторической встрече в ГСМ. Не было там десятка Посвященных, там был один, но не вашей конфессии, а это очень серьезный момент.
— Так, значит, Шарон — тоже акула? — осенило Давида.
— Какая Шарон? — невольно выпалил Шумахер и тут же поспешил исправить возможно создавшееся впечатление от его недоуменного вопроса. — Ладно, про Шарон вы мне потом расскажете.
Не знает ведь, не знает про нее ни черта, а признаться не хочет, дорожит своим имиджем всезнающего пророка. Небрежно так: потом расскажете. А самому не терпится! Потерпишь. Сегодня не расскажу. Будут и у меня свои тайны.
— Я тоже не люблю акул, — тем временем говорил Шумахер, — но сегодня Петр Михалыч играет на нашей стороне. В отличие от Вергилия Терентьевича, который становится нашим, только когда пьян. Я хочу, чтобы вы знали, Давид, Наст уже давно, еще с восемьдесят восьмого, является сотрудником специального отдела в Управлении «З» — отдела, который занимается Посвященными. Так что он не столько ГСМ прикрывал, как думает ваш Гастон, сколько пытался (и не без успеха) закамуфлировать свою бурную деятельность по изучению Посвященных — и препарированных под микроскопом, и в естественной среде обитания — так называемая этологическая концепция. Последняя идея принадлежит лично ему. Зам его, подполковник Терехов (только вчера, кстати, новое звание получил), идею эту не разделяет и все активнее сопротивляется. Дело кончится плохо. Вы же не могли не заметить: только Геля в запой, Терехов тут как тут, выставляет грубую наружку и давай на вас давить. Ведь до чего обнаглел, гаденыш!
К себе пригласил, теперь вот названивает. Так что с этим Гелиным алкоголизмом дело кончится скверно. Я вас уверяю, Давид. Вам пора ноги делать.
— Куда? — тупо спросил Давид.
— Ну, для начала хотя бы ко мне в Питер.
— И прямо у Московского вокзала, на Лиговке, меня сшибет грузовик.
— Нет, — серьезно сказал Шумахер, — теперь уже у них руки коротки.
— Ой ли!
— Я вам говорю. Все продумано. В Финляндию очень легко вас переправить. А оттуда — в Штаты. Документы прямо завтра закажем.
— Красиво, — оценил Давид. — Мы едем сейчас?
— Нет, — сказал Шумахер, — сейчас нельзя.
— Что, аэропорт, вокзалы — все схвачено? Так давайте по шоссе. Я вполне выдержу ночь за рулем.
— Не в этом дело, Давид. У вас сегодня Особый день.
— Точно, — согласился он.
— А как вы об этом узнали? — поинтересовался Шумахер.
— Как?.. — Давид пожал плечами. — Да просто догадался.
— Вот в том-то и беда. У других так не бывает. Я же говорю, вы человек необычный. Другие в Особый день просто встречаются и посвящают новенького. А что с вами происходит в Особый день, это, знаете ли, одному Богу известно. Которого нет, — добавил Шумахер, соблюдая восьмую заповедь. — И тут никакое ЦРУ вмешиваться не вправе. «Избравший путь, да пойдет по нему вдаль и еще дальше». Не нами сказано.
— А «Заговор Посвященных» кто написал? — вспомнил вдруг Давид о вертевшемся у него вопросе. — Вы, что ли?
— Помилуйте, Давид, как можно! «Заговор Посвященных» — бесстыдная и опасная попытка вопреки заповедям издать древние Канонические Тексты. Думаю, делалось это не раз, на всяких языках, во всяких странах, и авторов мы вряд ли отыщем. Не главное это.
— А что же главное? — в рассеянности спросил Давид.
Шумахер посмотрел на часы и жестко ответил:
— У меня время кончилось. Сейчас это главное. Пойдемте к машине. И там я буду молчать. А вы остановитесь у ближайшего поста ГАИ, чтобы я вышел.
— Хорошо. А мне-то куда деваться?
— Куда хотите. До рассвета вам надлежит быть в Москве. А потом… мы вас сами найдем, не беспокойтесь.
— Но вы же и представить себе не можете, куда я пойду. Или вы уже все просчитали?
— То есть? — Шумахер остановился и глянул настороженно поверх очков.
— То есть вы просто толкаете меня в лапы майора, то бишь подполковника Терехова. У меня же никого, никого не осталось. Только вы! А вы тоже меня бросаете. Значит, ехать к Терехову?
— Упаси вас Бог, которого нет!
— Но у меня же действительно никого, никого не осталось!
— Вы абсолютно уверены? — загадочно и многозначительно спросил Шумахер. — Подумайте.
И все, и дальше — тишина. Из-за кустов показалась его машина.
Матерь Божья, какая жара! И дождик уже два раза шел, и темно скоро будет, а такая жара! Ну, чего теперь ждать? Что делать? Куда поворачивать руль? Кого вспоминать? Да, на что же он намекал, этот псих ленинградский? Подумайте, сказал. Сам пусть думает. Человек-загадка! Американский шпион недобитый! Шарк боевой, прости Господи! Или нет, шарк боевой — это не он…
Да пошли они все в баню! Ни о чем не хочу думать! Вообще ничего не хочу. Вон лежит в бардачке бутылка хорошего грузинского коньяка «Варцихе». И пистолет. В дипломате. Пора бы переложить в карман. Сейчас приеду домой, выжру коньяк и спать. А потом застрелюсь. Нет, сначала коньяк, потом застрелюсь, потом — спать. Или не так? Сначала застрелюсь, потом коньяк (по этому поводу) и… можно уже не спать. Чехов новоявленный! Не смешно. Потому что это не шутка. Ведь такие, как ты, действительно пьют коньяк и после того как застрелятся.
Дождь опять заливал стекла, не оставить ни щелочки, душно, очень душно, а вентилятор, сволочь, гонит горячий воздух, особенно по ногам. Какой же идиот придумал эту конструкцию системы охлаждения?
Он остановился напротив своего подъезда, открыл дверцу и вышел под дождь. На улице было, как в бане, асфальт дымился и, казалось, шипел. Сильный порыв ветра швырнул тяжелыми каплями сбоку в лицо. Душ Шарко. Интересная фамилия. Шарко означает Акуленко. Петро Акуленко.
Петро Акуленко, ну, то бишь композитор Достоевский стоял возле его подъезда под зонтиком. Основательный такой, симпатичный, с ясными глазами. Смотрел он как-то немножко в сторону, знаков приветствия не подавал. Что это: охрана или ловушка?
Ах, Боря, Боря! Великий Шумахер! Неужели я должен вместо Терехова выбрать Глоткова и кидаться в объятия к нему? А мне-то казалось, что это все равно, какая из спецслужб будет наматывать твои кишки на лебедку. Я не прав, Боря?
Но Давид не успел принять решения по поводу Глоткова. Две серые фигуры метнулись из мокрой темноты в его сторону. И сразу расхотелось стреляться, спать и даже жрать коньяк. С композитором Достоевским или без него. Хотелось теперь только жить. Просто жить. А для этого надо было драпать.
Как хорошо, что он даже не заглушил движок, как хорошо! Что, козлы?! Пока вы сядете в свою тачку, пока развернетесь, я уже буду далеко, я же здесь все дворы знаю, я таким хитрым путем на набережную выскочу!..
Но именно на набережной он увидел в заднее зеркальце черную «Волгу», которая никак не хотела отставать. Два полных круга ехала за ним, два полных круга.
Напрячься, что ли, поставить раком эту «Волгу»? Нет, только не это! Опять трупы, кровь — нельзя, не хочу. Ну а что еще он умеет? Перекрыть им бензин? Интересная мысль. Но глупая. Вообще все глупо. Не бандиты же на хвосте. А у гэбухи таких машин миллион. Вышлют следующую и только злее станут. Надо просто оторваться. Совсем оторваться. Но как?
Батеньки! «Шпион-экстрасенс»! Собрался кому-то глазами бензин перекрывать, а сам-то бак не залил. Минут на десять — пятнадцать осталось. Может, ты, брат, того, из их бака в свой перекачаешь по воздуху? Знаешь, как военные самолеты дозаправляются? И куда ты едешь вообще? В сторону Измайлова? Почему?
А действительно, почему? Измайлово. Парфюмерная фабрика. Валька. Вот видишь, а говорил, у тебя никого не осталось. Валька Бурцев, палочка-выручалочка. Откуда только Шумахер мог знать о нем? Ну, мало ли откуда — Шумахер, он такой: наружка, прослушка, шпанская мушка… Слушай, ты, мушка, а за что же ты Вальку собираешься так подставить?..
В пору было отпустить педали, морду на руль и — в столб. Но… нет, нет! Он сейчас что-нибудь придумает. Ну, вот же светофор, со стрелкой, сложная развязка, трамвай ползет навстречу и налево, то есть наперерез… И на мигающий зеленый, вперед, перед самым носом, тетенька, милая, тормозни, спасибо, а вот теперь поддай, поддай! И сзади скрежет, и хруст, и мат.
Да живы они, живы, не убил он никого. Удалось, в точности как надо удалось. Значит, все-таки есть Бог на небесах! Бог, которого нет.
И Валька оказался на работе. Случай для лета не слишком редкий, но все же мог и не застать, ведь не созванивались.
Отправив своих на дачу, Бурцев, как правило, пропадал на работе днями и ночами. И денег побольше, и вообще — чего дома-то делать? Видюшник, что ли, смотреть? Надоело уже. А тут ребята — весело, хорошо. Золотой человек Валька!
— Ну, с чем пожаловал, коммерсант? Опять загадочная дырка в коробке передач? Трансмиссионное маслице уходит? Э, да ты, брат, какой-то взмыленный. Случилось что? Нельзя так много работать в такую жару. Здоровья не хватит. Пойдем ко мне наверх, перекурим, чаю попьем.
— Погоди, Вальк, дай отвертку.
— Крестовую? — деловито осведомился Бурцев.
— Кажется, да. Номера отвернуть.
Больше Валька ничего не спрашивал. Молча следил за процессом. А Давид вручил ему оба номерных знака и сказал:
— Порежь их на мелкие кусочки и раствори в электролите. Или в чем они там растворятся?
— Да ты сбрендил, Дод! Это же твоя машина. Или я что-то путаю?
— Это была моя машина. За мной сейчас гнались, и больше на этой машине никуда ездить нельзя. Я тебе сейчас все расскажу, а ты уж сам решай, разбирать ее на части, сдавать в милицию или просто выкатить к чертовой матери за ворота. От греха. Когда они придут и спросят, решать будет уже поздно.
— Погоди, как, то есть, придут? Ты от них оторвался или они где-то здесь?
— Я от них оторвался, иначе просто не стал бы к тебе заезжать. Но они все равно придут, они тебя вычислят. Понимаешь, это же не рэкетиры какие-нибудь с Рижского рынка.
— А кто они, Дод, мафия? — Валька сделал страшные глаза.
— Сам ты мафия, — горько усмехнулся Давид. — Это КГБ. Ты только не сердись на меня, Валька! Господи, что я говорю — «не сердись»! Ты только не проклинай меня потом, Валька. У меня действительно, кроме тебя, никого не осталось. Так уж вышло, Валька, не проклинай.
— Ты что, с дуба рухнул? Причитаешь, как баба. Когда это я вашего КГБ боялся. Просто ты мне сейчас спокойно объяснишь, что тебя с ними связывает, что беспокоит, где клапана стучат, а где масло подтекает. Понятно? И без паники. Пошли наконец наверх, чайку попьем.
Мог ли он Вальке рассказать все? Нет, конечно. Это же крыша съедет враз у кого угодно. Он рассказал ту половину правды, которая была наиболее безопасна и все же убедительна.
Он прикурил без спички сигарету, сбросил глазами на пол сигаретную пачку, еще какую-то подобную же чепуху продемонстрировал. И все стало понятно. И отработали они с Валькой несколько легенд и несколько вариантов поведения. В итоге выбрали самый лучший, при котором Бурцев получался полностью отмазан, при котором ничего, ну абсолютно ничего ему не грозило. И Валька был готов защищать интересы всех экстрасенсов мира, отстаивать их права в прессе и с трибуны Съезда народных депутатов, обличать и клеймить нещадно произвол спецслужб и т. д. и т. п. Особенно после того, как они выпили уже не чаю, а бутылку «Варцихе». А они ее выпили на двоих, потому что Давид настаивал, у меня, говорил, сегодня Особый день, и ты, говорил, Валька, просто не имеешь права со мной не выпить. И когда доцедили с донышка последние капли, Давид вынул пачку в десять тысяч, положил на стол и сказал:
— Это тебе.
— С ума сошел? Зачем мне такие деньги? За что?
— За все. Ты меня от смерти спас.
— За это не платят.
Давида уже слегка развезло, жара и нервотрепка делали свое дело, но он помолчал и все-таки понял: Валька прав.
— Извини, — сказал Давид. — Считай, что я просто оставляю их тебе на хранение. Мне сейчас придется скрываться, по кустам бегать, я же их просто потеряю или украдут у меня.
Бурцев согласился, понял и деньги убрал.
А ведь на самом деле у Давида, кроме Вальки, никого не осталось. Он бы ему и квартиру оставил. Но ведь по нашим законам — невозможно. Машину оставляет, но и из этого вряд ли что хорошее получится. Так хоть деньги…
— Спасибо, Вальк. — Он стал прощаться. — За все спасибо, правда. И не поминай лихом. А я как выплыву из подполья, сразу тебе позвоню, честное слово. Прощай, Валька!
И он пошел пешком в сторону Чистых прудов. Через Электрозаводский мост, по Бакунинской, Спартаковской, по Карла Маркса, через Садовую, зачем-то мимо Маринкиного дома, переулками, по улице Обуха и на Покровский бульвар… Пешком это было далеко, ох как далеко!
А троллейбусы уже не ходили, и метро, конечно, не работало, да и какое метро, там же полно милиции. И таксомоторов он боялся: остановишь машину, а в ней шестеро головорезов — к черту, к черту! До утра еще далеко, Особый день кончается с рассветом, он должен дойти до конторы, обязательно должен. Почему до конторы? Да потому, что там его не ждут, не могут ждать, в такое-то время. Ведь по канонам любых спецслужб, это же полный бред возвращаться туда, откуда все и началось…
Он шел и шел через всю Москву, пустую и страшную, как после войны или эпидемии. Где же люди, где? Куда подевались машины? Может, он просто спит? Спит на ходу?
А вода падала с неба и высыхала. И снова падала, и снова высыхала. Но прохладнее не становилось. Становилось только душнее. Фонари на бульваре вздувались тяжелыми мертвенными пузырями, и трехцветный огонь светофоров стекал на мокрый асфальт и разматывался длинными нитями по трамвайным рельсам…
Маревич шел сквозь духоту, сквозь мерцание городских бликов, сквозь плывущий с бульвара июньский липовый дурман, и ему казалось, что размякший асфальт подается под каблуком, как это было среди дня, хотя сейчас, ночью, после дождя, асфальт конечно же снова затвердел. Но, Господи, какое это все имело значение?! Теперь, после безумно долгого дня и полбутылки грузинского коньяка «Варцихе». Он даже не замечал прилипшей к телу рубашки, противно хлопающих бортов летнего пиджака и чмокающих кроссовок.
Он и ее не заметил.
Просто налетел на нее у светофора, задумавшись и едва не упав. Придержал за локоть, и этого скоротечного касания было достаточно… Нет, не для того, чтобы понять, кто она. Это представлялось, конечно, очень романтичным — объяснить все так: «С первого прикосновения я понял, что это она. Ведь именно так мы и были когда-то знакомы». Но он-то знал, что дело в другом. Интерес был чисто сексуальным, обнаженно сексуальным. С первого касания (не с первого взгляда — взгляд был позже, и вообще с первого взгляда бывает любовь), именно с первого касания — яркая вспышка страсти в измученной, затравленной душе. Вспышка, озарившая единственный смысл, единственный путь к спасению, единственный выход, оставшийся после всего, что случилось за этот день.
— А повнимательней нельзя, господин хороший? — спросила она одновременно грубо и вежливо.
Легкая белая кофточка с кружевами сладострастно облепляла высокую грудь, и короткая черная юбка в обтяжку лоснилась то ли от дождя, то ли просто материал был такой. Девушка промокла насквозь.
— Конечно можно, — ответил он, мгновенно подхватив ее тон, — даже нужно, барышня!
Барышня улыбнулась. Они вместе перешли трамвайную линию и вступили на широкий бульвар, полого поднимавшийся в гору.
Бледный, вспотевший, словно бы чахоточный фонарь высветил мокрые пряди ее волос на плечах и большие темные, почти черные кружки сосков под тонкой и от воды совсем прозрачной тканью. Он почувствовал, что возбуждается сверх всякой меры, а меж тем они поднимались по бульвару молча, и было непонятно, идут они вместе или нет, тем более что во мраке под кронами деревьев он не мог видеть ее глаз.
И все-таки он знал: они идут вместе. Отныне и навсегда. Да, именно так: отныне и навсегда. Безумие. Полное безумие. Так не бывает. Это просто усталость. Смертельная усталость. И отчаяние. И полбутылки коньяка «Варцихе» из Курского гастронома. Коньяк был грузинского розлива и потому божественный на вкус.
— У вас не будет закурить? — спросил он ее под следующим фонарем.
Темные кнопочки под влажной материей топорщились все так же призывно.
— Если не промокли, — сказала она. — Сейчас посмотрю.
И раскрыла сумочку. В ее ладошке оказался сначала баллончик со слезоточивым газом, торопливо брошенный обратно, и лишь потом — пачка длинного «Салема».
— За тридцать? — поинтересовался он.
— За пятнадцать.
— В «Людмиле»?
— Ага, — кивнула она, протягивая сигарету.
И добавила, как чужестранка:
— Однако цены у вас!..
Он чиркнул зажигалкой и выдал традиционную шутку:
— Патриотическая.
Зажигалка была самая обыкновенная — дежурная тайваньская штамповка с доисторическим колесиком, но обклеенная яркой пленкой в виде американского государственного флага.
— Уезжаешь? — неожиданно спросила она, сразу переходя на ты.
— Да, — сказал он с откровенностью идиота. — Сегодня точно решил: уезжаю.
— Туда? — спросила она многозначительно, чуть скосив глаза в сторону зажигалки.
Потом глубоко затянулась и, выпустив в сторону дым, провела по губам кончиком очаровательного язычка.
Он ощутил горячий прилив страсти и, не контролируя себя, схватил ее за мокрые плечи, притянул, почти прижал к груди.
Ее глаза, темные настолько, что посреди радужки едва выделялся зрачок, матово поблескивали двумя спелыми вишнями. Она не прятала их. И губы она не прятала тоже. Влажные, ждущие, полураскрытые… Жаркое дыхание с ароматом дорогого ликера, волосы, пахнущие дождем и сиренью, вздрагивающие плечи… Ах, какая душная, душная ночь! Душная до озноба…
— Ты что-то спросила? — Он словно очнулся. — Ах да! Куда я уезжаю. Нет, не туда. Дальше.
— Дальше?
В голосе ее было удивление, но удивление человека знающего, а не то растерянное недоумение, какое бывает, если брякнешь, не подумав, первому встречному какую-нибудь мудреную непонятицу.
И он разъяснил уже со всей откровенностью:
— Я решил наконец отправиться в другой мир.
— И я, — она трогательно прильнула к нему. — Я тоже. Давай уйдем вместе прямо сегодня.
— Давай. А почему сегодня?
— Сегодня Особый день.
— Самый Особый? — спросил он, замирая.
— Да, милый, да! — Она не говорила, а еле слышно дышала ему в ухо. Именно сегодня туда уйдет каждый четвертый.
«И мир изменится», — продолжил он про себя, но она услышала и кивнула.
И тогда между ними больше не осталось преград. Совсем не осталось. Потому что они узнали друг друга.
Вся одежда вымокла насквозь. Его легкие летние брюки прилипли к ногам, и тепло ее тела он почувствовал так, как если бы они разделись. Ее плечи, грудь, бедра, живот были горячими, а еще был маленький сладостный островок — очень горячий. Потом он понял, почему так сразу смог почувствовать ее призывный жар: под тонкой промокшей синтетической юбкой больше не было ничего, только этот волшебный треугольник.
— Я хочу тебя, Давид! — шепнула она и захватила пылающим ртом его пересохшие от нетерпения губы.
— Что, прямо здесь? — спросил он, тяжело дыша, но все же сумев прервать поцелуй. — Ты шутишь, Анна?
— Вовсе нет, — вполне серьезно откликнулась она. — Два часа ночи.
Их руки, пробежав пальцами по спинам друг друга, спустились ниже. Он сжимал в ладонях восхитительные круглые половинки и чувствовал волшебные касания пробирающихся под ремень ноготков.
На влажной земле, светя в ночи оранжевыми огоньками, догорали две длинные белые сигареты…
О, этот быстрый упругий язычок! О, эта мокрая ткань, закатывающаяся вверх по бедру! О, эти трепетные складки обжигающей плоти!..
— Давай не так, — выдохнула она, когда он уже слился с нею и восторженно замер, опершись на спинку лавочки.
Она заставила его сесть и села сама, а потом лечь, и скамейка была шершавой и жесткой, а потом они снова стояли, но уже по-другому, и снова сидели — иначе, совсем иначе, и каждый раз это было как вспышка звезды, как взрыв гигантской вакуумной бомбы, втягивающей в себя, поглощающей весь мир, это было как скачок по ту сторону, как провал в небытие и возвращение назад. А они оба знали, что это такое, и он и она помнили, как это: уйти и вернуться обратно. Они не знали только, что любовь и смерть — это почти одно и то же. Потому что смерть они не называли смертью — среди Посвященных это было не принято. А любовь… Наверно, за долгие восемь лет они просто забыли, что такое любовь. И теперь наслаждение длилось и длилось. И почему-то за все это время по бульвару не прошел ни один человек, или они не видели их, и только несколько раз с характерным звуком прошелестели широкие мягкие шины роскошных иномарок, да однажды прогрохотал по стареньким рельсам безумный ночной трамвай, светящийся и нарядный, как китайский бумажный фонарик, а с деревьев срывались капли, и вдруг этих капель сделалось больше, еще больше, и стало ясно, что это снова пошел дождь, и она закричала.
Некоторое время они шли молча. Потом он спросил:
— Мы идем к тебе домой?
— У меня теперь нет дома. Просто нужно зайти в одно место. Это близко.
— А нужно ли? — усомнился он.
— Нужно, — ответила она, и они снова помолчали.
— Помнишь рассказ О'Генри «Фараон и хорал»? Очень трудно достичь именно того, к чему отчаянно рвешься.
А как только оно становится тебе не нужным, вдруг само падает к ногам.
— Что ты хочешь сказать? — настороженно прищурилась она, поворачиваясь к нему и даже останавливаясь. — Я подумала о том же. Я вернулась в ваш мир недавно, но почти сразу решила бежать. Мне снова стало невыносимо, понимаешь, невыносимо в этой реальности. А теперь, с тобой… Слушай! Я тоже не хочу уходить, правда… Значит, кто-то поможет нам?
— Очевидно, — сказал он, уже понимая, кто. — А ведь порою так трудно найти свой, настоящий, правильный путь туда.
— Да что ты! — улыбнулась она. — «Избравший путь, да пойдет по нему вдаль. И еще дальше». Не нами сказано.
Теперь уже он остановился и пристально посмотрел на нее. Потом сказал:
— Суицид — великий грех. Неужели ты совершишь его вторично?
Обо всем, что касалось смерти, они говорили донельзя вычурно, наиболее далекими от жизни фразами.
Она ничего не ответила, и через какое-то время, старательно подыскивая слова, разговор снова продолжил он:
— Почему ты была… так странно одета? Ты всегда так ходишь… летом?
Собственно, он хотел спросить, почему она без трусов, но это прозвучало бы ужасно грубо, и потому он мялся. Но она поняла.
— Я сбежала от одного человека, который хотел меня изнасиловать.
— Изнасиловать? — тупо переспросил он, но интонация получилась такая, словно он удивился и не поверил.
Она поняла по-своему. Она и говорила-то теперь сама с собой.
— Н-ну, не совсем так… Просто когда я уже почти отдалась ему, вдруг поняла… даже не могу объяснить, как…
А действительно, как я это поняла? Наверное, просто чутье. Как у собаки. Я вдруг почувствовала, что он из этих, из охотников… за нами. Понимаешь?
— Понимаю. И ты сбежала?
— Ага.
— И это было совсем недавно.
— Ну конечно.
— И мы идем теперь туда же? Здорово.
— Что здо… — начала было она и вдруг поняла.
— Пошли назад, сейчас же, поехали ко мне! — проговорил он быстро.
Но было уже поздно. Они вышли на Садовое кольцо. Оглянувшись, он увидел двоих в простой серой милицейской форме. Стражи порядка стояли почти у самого подъезда. Впереди, со стороны реки, появились еще двое таких же. Не многовато ли для трех часов ночи?
— Это тот самый подъезд?
— Да.
— Он сквозной?
— Да! Быстрее!
Глупость, полнейшая глупость. Он же знает этот подъезд. Здесь же Сахаров жил. Андрей Дмитриевич. Еще совсем недавно. А вдова и по сей день живет, Елена Боннэр.
И гэбульники здесь торчали и торчат днем и ночью, днем и ночью…. «Господи, Анна, ты с ума сошла? Куда ты ведешь меня?!»
Конечно их ждали внутри. Даже не у второй двери, а на лестнице, ведущей вверх. Эти уже были без формы — в характерных серых плащах. И тогда он выхватил пистолет и сразу начал стрелять. Он знал, что стрелять надо сразу.
С этими по-другому нельзя: никакие угрозы и предупреждения, никакие финты не помогут — во всех остальных случаях они опередят. Он выстрелил дважды, и оба искусствоведа в штатском — один повыше, другой пониже рухнули. Он даже удивился. Может, просто залегли? А милиция осталась снаружи и совсем не реагирует на выстрелы. Ну, понятно, те, что не исчерпали пока кредит народного доверия, были всего лишь статистами, загонщиками. Так чего же хотят настоящие артисты, чего хотят главные охотники? Очень скоро он понял и это, когда высокий резко поднялся, отвлекая внимание на себя, а второй, пониже и пошире в плечах, лежа и почти не шевелясь, выпустил прямо из рукава длинную очередь в Анну, точно в нее, только в нее, именно в нее…
«Ну, вот и все, — успел подумать он. — Давай, я жду. Почему же ты не стреляешь в меня, серый плащ? Патроны кончились?»
Коренастый искусствовед улыбался. Улыбался странно, загадочно, словно за этой улыбкой пытался скрыть что-то совсем другое. И, оглядываясь, Давид еще не увидел, а скорее почувствовал крадущегося сзади и понял, понял: его не хотят убивать, его хотят разлучить с нею, навсегда, хотят не дать им уйти вместе, а они умеют, умеют, сволочи, ему же говорили об этом… И он выстрелил назад, в нападавшего, а потом еще пулю — тому, кто убил ее, и еще пулю — второму, длинному, а последние две он оставил себе, но хватило одной, хватило…
МЕЗОЛОГ*
Начальник отдела спецопераций генерал-майор Владимир Геннадиевич Кулаков или, как звали его подчиненные, дядя Воша, еще в приемной ощутил смутную тревогу нехорошего предчувствия. Вместо знакомого адъютанта, исправно козырявшего всегда с улыбкой, но строго по форме, его приветствовала очаровательная блондинка в майорских погонах, забывшая подняться из-за стола навстречу старшему по званию и совершенно по-светски проворковавшая:
— Здравствуйте, Владимир Геннадьевич. Будьте так любезны, присядьте на минуточку. Алексей Михайлович немного занят.
— Он же сам вызвал меня, — озадаченно прокомментировал эту просьбу Кулаков, но послушно опустился в мягкое кресло.
Блондинка нажала клавишу селектора изысканно плавным движением тонкой руки и почти пропела:
— Алексей Михайлович! Кулаков сидит напротив меня.
— Пусть посидит еще полминуты, — пробасил Форманов.
И Кулаков понял, что неприятности его ждут серьезные, вплоть до назначения на новую должность без повышения оклада жалованья.
Ну а когда вошел в кабинет, затосковал еще сильнее. На стуле у стены, как всегда, с идеально прямой спиною и фантастически мрачной рожей сидел Игнат Никулин, постаревший лет на десять. А вроде и не виделись-то всего год…
— Здравствуй, Володя, — сказал Игнат, вставая и протягивая длань.
— Здравствуй, Игнат, — ответил Кулаков.
Ну, слава Богу, хоть рукопожатие его осталось таким же крепким.
Самый знаменитый, старейший, можно сказать, легендарный агент ЧГУ. Никулин, Стивенс, Петров, Джаннини, Чуханов, Каргин, еще полтора десятка фамилий, которыми он успел обзавестись за жизнь, не говоря уже о кличках. Но среди кличек была любимая — Грейв, то есть могила в переводе с английского. Прозвище неслучайное, заслуженное. Ведь Игнат был одним из феноменов, с неизбежностью попавших в сферу поиска созданного еще при Горбачеве Четырнадцатого управления КГБ. Полную невосприимчивость Никулина к любым психотропным препаратам, то есть умение молчать всегда и везде, специалисты по чудесам и аномалиям из новоиспеченного главка обнаружили в картотеке ГРУ. А Грейв как раз трубил тогда якобы простым танкистом в Афгане. Ну, внедрили в его бригаду нужных людей, проверили. И действительно, под самыми новейшими уколами молчал этот человек. В тот же год его и вербанули. Молодой Володя Кулаков сам участвовал в той операции.
А почему столь уникальный специалист, успевший поработать на КГБ, ГРУ, ЦРУ, ИКС и еще Бог весть сколько иных организаций, в восемьдесят девятом, после изящно инсценированной гибели в Афгане, отправился по зарубежным тюрьмам и только больше года спустя вновь материализовался в Москве, Кулаков не знал. Но то, что все это время, вплоть до наших дней, Игнат Никулин был едва ли не главным оперработником и одним из главных идеологов уже нового, отделенного от Лубянки ЧГУ, — это начальнику особого отдела было хорошо известно. У Грейва не было своего отдела, но и Кулакову он не подчинялся — только напрямую Форманову. Уж больно разными делами они занимались. Дядя Воша — сугубо практическими операциями, Грейв — все время какой-то чертовщиной. От рассказов его об уже закрытых делах (впрочем, эти дела никогда не закрывались окончательно) веяло потусторонней жутью, и Кулаков инстинктивно сторонился Никулина, норовя лишь вежливо поздороваться с ним в коридоре. И вот: вызвали на ковер, посадили друг против друга. Значит, припекло.
— Ну как, прочел?
И Грейв кивнул на пластиковую папку с прижимными резиночками по углам, которую Кулаков держал в левой руке.
«Приплыли», — подумал дядя Воша.
Вопроса он ждал, но от Форманова и не вначале. Неужели даже для Грейва теперь именно это самое главное? Странная фантастическая повесть, которую ему поручено было прочесть, сидела в голове занозой, раздражающе непонятной и оттого мешающей думать. Ну да, автором ее был Михаил Разгонов, тот самый, что благодаря уникальному внешнему сходству почти пять лет выдавал себя за руководителя российского ИКСа Сергея Малина, погибшего летом 95-го. Да, Причастные благодаря этому прозаику водили за нос все спецслужбы бывшего Советского Союза. Да, теперь этот Жюль Верн новоявленный приехал в Москву при довольно странных обстоятельствах и чисто формально имел контакты с людьми, попадавшими ранее или попадающими до сих пор в разработку по линии ЧГУ.
Наконец, темой повести была жизнь Посвященного, попавшего под колпак КГБ и погибшего в неравной борьбе на этом уровне бытия. Сама история Братства Посвященных явно была известна автору не понаслышке. Но чего ж тут удивительного? Это при советской власти закрытая информация жестко секретилась и любая утечка становилась форменным ЧП. А сегодня в обычных газетах что ни день публикуются сверхсекретные материалы всех спецслужб мира, и никто уже не обращает на это внимания. А главное, рядовой читатель все равно ничему не верит. Транслируй хоть информацию о конце света по всем каналам ТВ — паники не будет. Специалисты — другое дело, но эти разнюхают все, что надо, и без помощи беллетристов.
В общем, Кулаков никак не думал, что по поводу этакого произведения, кстати, и не опубликованного еще, стоило устраивать столь серьезное совещание. Ну, ввел Разгонов в сюжет реального персонажа, не меняя фамилии — известного правозащитника Игоря Бергмана. Ну и что? Он же и дочку члена Политбюро настоящей фамилией величает. Нашел чем удивить! Это раньше не принято было, а современные писаки никаких правил признавать не хотят….
Примерно в таком духе Кулаков и ответил. Никулин долго, внимательно слушал, не шевелясь и глядя в одну точку, как неживой. И дядя Воша нехотя завершил, чуть растерянно пожимая плечами:
— В общем, забавная повестушка. У меня дочка любит такие. А я к фантастике всегда скептически относился….
И вот тогда Грейв, абсолютно седой, похудевший, осунувшийся, похожий на вяленого снетка с белесым налетом соли, слегка поморщился, словно от комариного укуса, и проворчал:
— Бергман, товарищ Неверов… разве в этом дело? Там же все — ВСЕ! фамилии настоящие. Это никакая не фантастика и вообще никакая не повесть. Это диверсия. Это попытка разрушить наш мир.
— Не понял, — честно признался Кулаков.
— А вот зря ты не стал читать целиком мой апрельский отчет о точке сингулярности.
— Не моя тематика, — жестко ответил Кулаков в последней наивной попытке отмахнуться от мистического кошмара.
— Теперь будет и твоя тоже, — припечатал Грейв.
Кулаков покосился на начальника, и Форманов еле заметно кивнул. Все, назад дороги нет.
— Вспомни, что тебе рассказывал Большаков про Эльфа.
И почему-то только теперь у Кулакова в голове склеились две половинки одного целого. Ба! Так ведь это именно Эльф называл себя Посвященным в ту последнюю ночь перед собственной смертью. Вот ведь срабатывают подсознательные защитные силы организма! Закончена операция — и абзац! Не хочется думать о непонятном — и выкидываешь из головы все лишнее….
— Так что брат, с одним Посвященным ты уже работал напрямую.
— Что ты хочешь сказать, Игнат? Эльф тоже был с вами в точке сингулярности?
— К счастью, нет, но как раз там был Давид Маревич, которого шлепнули сотрудники спецотдела тогдашнего ЧГУ.
— То есть Маревич — не литературный герой, а абсолютно реальная личность?
— Вот именно. Пойми же ты наконец, Володя, в этой книге, которую кто-то хочет публиковать, все, абсолютно все — правда. Уж я-то знаю. Я был одним из тех, кто занимался уничтожением спецотдела по работе с Посвященными в девяносто первом году. С Вергилием Настом знаком был шапочно, а вот с Петром Михалычем Глотковым мы не один фунт лиха вместе скушали…. И я вам скажу, товарищи, — Грейв поднялся, приблизился к столу и, навалившись на него всей тяжестью будто обессилевшего вмиг тела, перешел на зловещий шепот, обращаясь уже не столько к Кулакову, сколько к шефу. Появление Маревича в точке сингулярности — это еще полбеды. Хуже, если он появится в нашем реальном пространстве, сегодня, сейчас. А он, похоже, уже появился. Иначе откуда у Разгонова вся эта информация?
— Мало ли откуда? — предположил Форманов. — Ее могли передать Разгонову другие Посвященные. Например, тот же Бергман, он же Владыка Урус, еще там, в Штатах, или Владыка Шпатц из Мюнхена, ты же знаешь, что они дружат с Алексеем Кречетом.
— Знаю, — кивнул Грейв. — И все-таки думаю, что Маревич появился лично. И еще у меня большое подозрение, что погибший Эльф тоже вернулся на Землю. Итак: Давид Маревич, Анна Неверова, Борис Шумахер, Юриуш Семецкий…. Еще трое вернутся — и все.
— Что — все? — простодушно решил уточнить Кулаков.
— Конец света, — сказал Грейв бесцветным голосом.
И Кулакову захотелось проснуться. Это ж надо! Пройти две войны, дослужиться до генерала, воспитать блестящую смену, начать искренне верить в возрождение России.
И дома все хорошо: жена, дети, внуки, все любят друг друга, и даже с деньгами — тьфу-тьфу, наконец-то! — стало совсем неплохо…. Короче, дожить до вполне благополучных времен. И для чего? Чтобы мрачный злобный старик, выживший из ума, сидя напротив, предрекал тебе конец мира через несколько месяцев?
— Мы-то что должны делать? — не выдержал дядя Воша, как человек сугубо практический.
Никулин не растерялся. У него уже был готов ответ:
— Для начала мы должны нейтрализовать Разгонова.
— В каком смысле?
— Во всех смыслах. Лишить его инициативы. Приставить хорошую, очень хорошую круглосуточную наружку, а заодно внедрить агента влияния.
— На бульвар? — поинтересовался Форманов.
«Бог мой! — подумал Кулаков, — генерал Форманов, как минимум, пятый человек в стране после Президента, а в международной иерархии рейтинг его едва ли не еще выше, и вот сам Алексей Михалыч рассуждает об этакой ерунде — знает, помнит и держит в голове разгоновские прогулки с собакой по бульвару! Кто-то из нас определенно сошел с ума».
— Через бульвар не стоит, — помотал головою Грейв. — Используйте любую другую структуру.
— Другой структуры нет, — доложил Форманов.
И Кулаков окончательно осознал, что командуют здесь не генералы, а полковник Никулин. Такая уж была тема.
— Михалыч, ты издеваешься? Нет подходящей организации, значит, создайте. И кандидатуру агента обязательно согласуйте со мной. Вот, собственно, и все. Пока — все. Но это только начало.
— Почему? — строго спросил Форманов.
В голос его возвращались начальственные нотки.
— Потому что Разгонов пишет вторую часть романа.
— О как! — сказал Форманов. — С теми же героями?
— Разумеется. Разгонов пишет сценарий для нас с вами. Сегодня именно он решает, как нам жить и когда умирать.
Кулаков даже не успел спросить, насколько серьезно можно относиться к последнему утверждению. Грейв продолжал, повысив голос и никому не давая вздохнуть:
— Мы должны очень внимательно отслеживать каждую страницу, выходящую из-под его пальцев. И если хоть что-нибудь в этом сценарии нам не понравится, реакция должна последовать незамедлительно.
Дядя Воша напряг все мышцы и стиснул зубы, из последних сил заставляя себя молчать. Форманов тяжко вздохнул:
— Но ведь Разгонов — это тебе не Дима Холодов.
— Конечно, — согласился Грейв с ледяным спокойствием профессионального убийцы. — Поэтому мы и разговариваем здесь, и только втроем. До встречи через неделю, товарищи.
Высохший, как мумия, свирепый старик неожиданно резко поднялся и вышел, никому не пожав руки.
Форманов вытащил из ящика стола початую пачку и, не без труда совместив трясущуюся сигарету с дрожащим огоньком зажигалки, жадно втянул в себя первую порцию дыма. А ведь еще вчера хвастался, что уже неделю не курит.
Кулаков тоже запалил сигаретку и с удивлением отметил, что даже не вспоминал о курении по ходу разговора.
— У Игната астма открылась. Его от одного запаха табачного крутит.
— А-а, — протянул Кулаков.
Он все ждал, когда же Форманов скажет что-нибудь по существу. Но Форманов ничего не говорил. Он только все курил и курил. Одну сигарету от другой.
Собаку мы взяли еще в ноябре. Белка в таких вопросах решения принимала мгновенно. Лабрадор, значит, лабрадор. Он же ретривер золотистый. Позвонила в самый элитный клуб и в тот же день привезла зверя, не советуясь со мной. А чего со мной советоваться, если я лабрадоров этих с ньюфаундлендами путаю по чисто географическому признаку? Зверь, конечно, оказался славный большелапый, вислоухий почти трехмесячный щенок-переросток, глядящий на нас доверчивыми черными маслинами, а шкура этого чуда и впрямь отливала настоящим червонным блеском. В общем, приобретение одобрили все: и я, и Зоя Васильевна, и конечно Андрюшка. Этот в полном восторге был и утренние прогулки клятвенно обещал взять на себя. Ни я, ни Белка от столь благородного предложения отказаться не могли, взрослым в обязанность поставили дневные и вечерние выходы — на том и порешили. Ну а выбранное еще неделю назад имя никто менять не собирался — Капа, так Капа. И собаке вроде понравилось — откликаться начала быстро.
Я бы конечно, назвал ее Чинья. То есть лебедушка по-итальянски (в честь того, кто велел мне завести это животное, — тонкая получилась бы подколка!), но по-русски подобная кличка явно не звучала, так что родные меня бы не поняли. А для себя… что мне стоило, в конце-то концов, наплести этому Стиву по телефону, что я именно так собаку и окрестил. Вряд ли мой итальянский друг в ближайшее время в Москву приедет с проверкой. И вообще, были у меня проблемы и посерьезнее.
Я, например, все ломал голову уже который день, вставлять или не вставлять в свой новый роман одного из самых знаменитых Посвященных (на первом уровне бытия) — Избранного Владыку Стива Чиньо. Под его настоящей фамилией, разумеется. Ведь так было прошено по отношению ко всем другим персонажам. Про себя Стив ничего не сказал. Но почему он должен стать исключением? Уж рубить правду-матку, так без тормозов. И вот это стало бы посильнее собачьей клички и «Фауста» Гёте! В первую часть, то есть в откровения Маревича, старина Стив как-то у меня не вписывался, но я ведь уже и вторую половину романа в тезисах набросал. И отдельные фрагменты текста ваять начал. Работать в ту пору хотелось как никогда. Хотя и мешало вокруг многое. Честно сказать, все больше по мелочам. Всерьез никто и ничто не в силах был свернуть меня с намеченного пути: ни бытовые проблемы, связанные с переездом; ни дурацкая предвыборная лихорадка с разнузданной прессой, захлебывающейся от черного пиара (это было новое модное словечко в России); ни звонки забытых друзей, прослышавших о моем возвращении; ни тот самый Бульвар, воспетый нашими следаками по делу Редькина — Бульвар с большой буквы, на который мы с Белкой вышли уже в самом начале декабря.
Признаюсь, от этого первого выхода на совместную с народом прогулку я ожидал едва ли не чудесной разгадки всех тайн, включая природу точки сингулярности и роль Посвященного Эльфа в мировой истории. И откуда такая детская наивность накатила?
Не скрою и другого: с наибольшим нетерпением предвкушал я встречу со Светланой Борисовной Петровой, чья фотография так неотвязно преследовала меня уже полгода. Честно говоря, я даже рассчитывал избавиться от этой злосчастной карточки на второй или третий день знакомства. Никто мне подобных инструкций не давал, так ведь и запрещающих директив не поступало. Значит, что хочу, то и делаю.
И, между прочим, на досуге я уже проработал несколько версий, связанных с пресловутой Светой Петровой, в девичестве Равингеровой. Во-первых, я навел справки по обычным каналам и с удовлетворением отметил, что папа ее со странно обрусевшей немецкой фамилией, несмотря на пенсионный возраст, по сей день трудится в МИДе, а стало быть, проходит и по нашему любимому ведомству, где дослужился до весьма внушительного звания подполковник. Немудрено, что и девочку свою едва ли не сразу после школы устроил он в швейные мастерские КГБ.
Я, конечно, запросил архив за те годы, в официальной части все было скучно до оскомины: карьерный рост от простой швеи до модельера в спецателье; незаконченное высшее, известное мне еще по стандартному досье, гэбэшной окраски не имело; загранпоездки — только с родителями; в девятнадцать лет замужество, потом подряд двое детей — сын (1982) и дочь (1984) с перерывом меньше двух лет — и плавный переход от хождения на службу к надомной работе. Муж, Семен Васильевич Петров, тоже работал в КГБ — слесарем в автохозяйстве Девятого главного управления, но был уволен за пьянку. Никаких интересных контактов ни у него, ни у нее не прослеживалось, и только в одной характеристике пятнадцатилетней давности наткнулся я на слова: «Петрова С.Б. выполняла также особые поручения руководства». Как собака, почуявшая след, я не пожалел нескольких дней на разработку очередной шпионской гипотезы. В итоге добродушный майор с Лубянки просветил меня, что подобная формулировка означает не более чем дежурное предложение постучать на ближних. И кстати, не поленился он для меня выяснить, что Светлана не слишком усердствовала в этом древнем искусстве, даже, наоборот, считалась сексотом неперспективным, так как начальство свое ни в грош не ставила, а друзей уважала. Потому частенько ершилась, обижалась и с детской непосредственностью грозила нажаловаться папе. В общем, и тут у меня облом получился.
Наконец, существовало еще одно предположение. А что, если Светлана Борисовна Равингерова-Петрова-Рыжикова (последняя фамилия — это бульварная кличка, образованная от имени ее собаки — Рыжего) является Посвященной? Но и от этой версии следовало отказаться, ведь и мои хвойно-лиственные начальники, и наши пернатые кураторы ясно дали понять: с Посвященными мне не то что работать, а и встречаться ни в коем случае нельзя. Не стали бы они меня к опасному контакту подталкивать.
Таким образом, возможностей оставалось совсем немного, если не сказать, что просто две: либо имело место чисто случайное портретное сходство Светланы с Никой и не менее случайное бульварное знакомство ее с Мурашенко и Редькиным; либо всех этих людей, включая меня, связывало нечто, доселе неведомое никому, какое-нибудь мистическое родство душ, или как любил говаривать Редькин, начитавшийся всякой эзотерической ахинеи, единение на астральном уровне.
В любом из двух вариантов возврат портрета-путешественника его хозяйке представлялся очень интересным и даже конструктивным ходом. Тем более что ни Верба, ни кто другой из наших не сумели внятно объяснить мне, откуда в стандартном досье выплыла художественная фотография. Во бардак-то! Ну, я и надеялся, что хоть сама Светлана прольет свет на эту крайне корявую ситуацию.
Конечно, на первую прогулку я с собой фотокарточку не потащил, тем более что и Белка моя ничего о ней слыхом не слыхивала, ну а потом…… Впрочем, лучше обо всем по порядку.
Тот день выдался не слишком морозным, но и не слякотным, а этаким мягким, ласковым, со свежевыпавшим чистым снежком, от которого наши четвероногие братья всегда приходят в неописуемый восторг. Так что народу на Бульвар пришло изрядно. Почти всех в один вечер и довелось повидать. И узнавал я своих фигурантов сразу и безошибочно, как старых знакомых. Практически всех. Даже женщин, внешность которых куда сильнее подвержена сезонно-возрастным изменениям (макияж, прическа, одежда, даже настроение на прекрасный пол влияет сильнее). Но я узнал чуть ли не издалека и Ланку Маленькую, и Валю Карандину. А вот Рыжикову — не узнал.
Она просто оказалась другой. То есть совсем другой. Словно и не два года прошло, а все двадцать. Впрочем, кто мне сказал, что пресловутый снимок делался в девяносто седьмом? Ну да ладно, все равно грустно: вместо сверкающих изумрудов — усталые глазки-щелочки над огромными страшными мешками; вместо румянца — впалая бледность щек, а тонкие губы печально поджаты и почти не видны; вместо рыжих локонов — нелепая вязаная шапочка, надвинутая на лоб; наконец, изящная фигурка упрятана под безразмерной курткой и вместо спортивной осанки — сутулость умученной домохозяйки. Кто это? О какой сексапильности, о какой магической силе мы говорим? Отдать фото с портретом той коварной искусительницы в руки вот этой женщине здесь и сейчас — издевка, нонсенс, почти кощунство…. Бог знает, о чем думал я в свой первый вечер на Бульваре, не узнав, а лишь вычислив Ланку Рыжикову.
Зато ее узнала Белка. Как говорится, всего не предусмотришь. В который уж раз мы пришли к выводу, что Москва — город маленький. Рыжикова узнала Ольгу еще раньше. Немудрено: Белочка-то не слишком постарела с тех пор. С каких именно? Оказывается, с девяностого года. «Так долго не живут», прокомментировала Ланка, и я невольно вздрогнул от этой ее мрачной шутки: разве девять лет — так много? Впрочем, для меня — очень много. Видать, и для нее тоже…. Так вот, в девяностом обе девушки ходили на курсы вязания крючком в некую школу в Тетеринском переулке, рядом с Таганкой. Помню, помню, Белка одно время увлекалась всякими такими курсами, странная была эпоха, многие подались в шитье, вязанье и прочее рукоделие — купить-то ни черта невозможно было. Потом все как-то разом изменилось….
В общем, теперь у Белки сразу появилась на бульваре подруга, это облегчило наше дальнейшее общение с компанией, да и потомственный дворянин Рыжий с первого взгляда влюбился в юную Капу. Сучки на Бульваре вообще в дефиците. А тут еще такая красивая и неискушенная.
А Рыжий — он ведь настоящий ловелас, к тому же признанный хозяин Бульвара и полный оторвыш по характеру. В общем, все получилось неожиданно здорово. Я тут же выкинул из головы мутную детективную ерунду, забыл про фотографию, мистику, чудеса и настроил себя на простые земные радости: веселая компания, чудесные собаки и славная погода. В тот же вечер нам намекнули, что здесь для новичков принят ритуал «прописки», в ближайшую пятницу или субботу полагалось принести пару бутылок. Ну уж с этим у Разгонова никогда заминки не было! «Все, — решил я, — работать буду дома, за компом, а на бульвар надо выходить для отдыха». Вот так.
А вообще все было крайне забавно. Я ведь появился в компании как абсолютно новый человек, меня никто здесь ни разу в жизни не видел, но я-то знал их всех как облупленных и в лицо, и по фактам биографий, я только обязан был скрывать это строго по системе Станиславского. Удалось? Да, как будто удалось. Шпионы редко ловятся на избыточном знании, гораздо чаще страдают недоучки. Причем осведомленность необходимо было скрывать, ну максимум месяц. Дальше она сделалась естественной, и уже вряд ли хоть один из аборигенов стал бы задаваться вопросом, от кого именно я услыхал ту или иную подробность, пусть даже интимного свойства. Бульварный коллектив и спустя два года после исчезновения отсюда Редькина оставался уникальным сообществом, почти семьей, где доверяли друг другу самые неожиданные тайны.
А к тому же состав участников несколько переменился с тех пор.
Зловещего Пахомыча, служившего некогда «в одном полку» с Грейвом, на Бульваре больше не было. Нет, никто его не убивал, даже посадить не пытались. По слухам, Геннадий Мурашенко просто тихо спивался дома и с некоторых пор сторонился шумных компаний и старых знакомых того периода, когда судьба столкнула его, хотелось верить уже в последний раз, со страшным и, казалось, уже не раз погибшим сослуживцем. Очередная «реинкарнация» Никулина-Чуханова не сулила его младшему товарищу ничего хорошего, и отставной полковник ГРУ подсознательно, чисто интуитивно избегал новых приключений на Бульваре.
Совсем канула без следа главная участница позапрошлогодней драмы Юлька Соловьева. Эта вышла замуж за американца и обреталась теперь где-то в Оклахоме.
Тимофея Редькина тоже встречать не приходилось, и бульварной компании, и спецслужбам было хорошо известно, что он навсегда переселился в Тверь. Да и кому он был теперь нужен?
Наконец, бывшая семья Редькина, как известно, еще накануне того зимнего взрыва в Лушином переулке переехала назад в свое Чертаново, а восстановленную за счет службы ИКС квартиру они некоторое время сдавали, затем поддались на уговоры и очень выгодно продали некой фирме. Понятно, что фирма была подставной и платили Редькиным, разумеется, опять мы. Поэтому теперь было бы крайне странно привозить далматинку Лайму из Чертанова на Покровский бульвар выгуливать. Марину Редькину и тем более мать ее Веру Афанасьевну совершенно не тянуло в отныне страшные для них места.
Полковник Жмеринский, все так же успевавший помимо преподавания в академии работать на коммерческой фирме, где за куда меньшее рабочее время платили куда большие деньги, потому что там, в отличие от армии, ценили не звездочки на погонах, а его инженерные знания и умения. Эрдель Боб стал совсем старым, плохо видел и слышал, случалось, не мог дотерпеть до прогулки и делал лужи дома, как маленький, в общем, доставлял массу хлопот и вызывал глухое недовольство Гошиной жены Нелли.
Ланка Маленькая по-прежнему работала медсестрой за какие-то смешные копейки, хотя опыт ее и авторитет ценили теперь в поликлинике намного выше. А Ваня Бухтияров крутился как мог, но после кризиса все не удавалось ему вернуться к прежнему уровню заработков.
Олег Карандин, днем собиравший для денег музыкальные звонки в школах или подключавший мигающие гирлянды на чахлых московских деревьях, по ночам упорно писал все более сложные компьютерные программы. На всякий случай я поручил спецам из Спрингеровского Центра влезть через Интернет в компьютер Олега и проанализировать последние разработки. Результаты оказались ошеломительными. Карандин, возможно, не до конца осознавая, что делает, подбирался к проблеме управления и контроля над глобальной сетью. Тополь сразу предложил вербануть его. Шактивенанда категорически не советовал.
И, наконец вмешался Чиньо.
— Вы что, ребята, обалдели?! — примерно так, если перевести на русский, высказался он в ходе сверхсекретного совещания. — На Бульваре может находиться только один агент службы ИКС. Сегодня это Разгонов, и, пока он не завершит там свою миссию, никакое иное вмешательство недопустимо.
А я, если честно, ни черта не понимал в собственной миссии, поэтому не только завершить, но и начать ее выполнение было для меня несколько проблематично. Ну да ладно. Я же вам про обитателей Бульвара рассказываю. Вернемся к составу участников.
Появились и новые любопытные персонажи, органично вписавшиеся в компанию.
Сашка Пролетаев, бывший слесарь, бывший строитель, бывший водитель троллейбуса, а ныне охранник широкого профиля, стороживший сутками, посменно, все что поручат: от заснеженного склада дорожной техники до шикарного бутика, торгующего элитными мехами, от детской поликлиники до ночного клуба. Единственный член сообщества, не имеющий в настоящий момент собственной собаки, он недавно развелся с женой, вернулся к маме, в район своего детства, общего по дворам и школе с Ваней Бухтияровым. На Бульвар выходил всегда, если не дежурил, наша компания была для него единственным спасением от одиночества и тоски. Если не считать водки. Пил Сашка регулярно, не только с нами, но человеческого вида никогда не терял и вообще был добрейшей души человеком. Отсутствие образования компенсировал ему живой ум, и Пролетаев, особенно после стакана, был способен поддерживать разговор на любую тему.
Писатель Владимир Иванович Елагин, на двадцать лет меня старше, литературовед, пушкинист, поэт. Конечно, два писателя в одной маленькой компании — это недопустимо высокая концентрация творческих личностей на квадратный километр, особенно если учесть, что жена его Лиза, почти наша ровесница — обаятельная переводчица с французского — тоже подвизалась на литературном поприще. Но если не задумываться над астрально-мистическими аспектами, общаться с этой семьей было очень приятно. И собака с ними ходила замечательная — бернский зенненхунд по кличке Воланд. А как еще вы назвали бы зверя, у которого один глаз от природы черный, а второй небесно-голубой?
И, наконец, Арина Бенуа, парикмахер-стилист, сохранившая свою изысканную фамилию от первого мужа — французского циркового режиссера, уехавшего обратно в родной Марсель. Вторым мужем Арины был простой русский бандит Ломов, за шесть лет совместной жизни подаривший ей дочку и неплохой набор материальных ценностей, а потом, примерно год назад, исчезнувший без следа. Живых денег при этом не осталось, наоборот, одни долги, но не без помощи друзей с Бульвара, Арина сумела отмазаться от всех наездов и теперь достаточно спокойно жила с третьим мужем Дмитрием Чепизубовым, на всякий случай не расписываясь. Дима играл на клавишных в ресторанных ансамблях, торговал элитными спиртными напитками, служил мелким клерком в серьезных банках, ремонтировал иномарки, разводил щенков — и все это как-то по-любительски, лишь в одном он был профессионалом — не боялся ввязываться в новое дело, то есть он был профессиональным аферистом. Так что Арина все острее ощущала, что конец их отношений будет практически «ломовским». Зато собаку они завели такую же, как у Елагиных — швейцарскую овчарку, только девочку по имени Тойота.
В общем, исследуя астральный смысл совпадений, я обнаружил, что Бульвар тяготеет к экзотическим парам: два писателя, два зенненхунда, две Ланки, когда-то было два далматина, не говоря уже о парах обыкновенных, например супружеских. Из этого правила выпадал лишь Сашка да номинально замужняя Рыжикова, ее запойного Сеню никто отродясь на Бульваре не видел.
Перебирая в уме всех этих странных типов, я словно раскладывал пасьянс, и смысл заключался не в отдельных картах, а в их сочетании. Ведь персональный состав менялся, но компания в целом, объединенная собаками и неистребимой привычкой к взаимопомощи, хранила нечто главное. «Духом Бульвара» назвал эту нематериальную субстанцию один из агентов службы ИКС, приставленный два года назад к Тимофею Редькину. Где-нибудь в КГБ за подобный отчет вышибли бы с работы как профнепригодного, но Причастные понимали чуточку больше в тонкой структуре мира, и если однажды именно здесь сплелись в тугой клубок интересы мощнейших международных организаций, значит, не так все просто, господа, и следовало отнестись с предельным вниманием ко всем оставшимся с тех пор членам коллектива, да и к новым персонам — тоже.
Однако со всей неизбежностью приближался Новый год — феерический карнавал, начинающийся с первых намеков на католическое Рождество и заканчивающийся апофеозом нелепости, немыслимым ни в одной стране мира, кроме России, праздником — Старым Новым годом, — а иными словами, почти трехнедельный всенародный запой. И я на этот раз почему-то решил не отставать от своего народа, наверно, очень соскучился без него за четыре оборота вокруг солнца, да и обстановка бульварная располагала.
Компания нравилась мне все больше и больше, Гоша и Олег стали настоящими друзьями, копать ни под кого мне уже совершенно не хотелось, зато пилось на удивление легко и весело. А тут еще Кречет прислал совершенно чумное письмо о том, что ведет почти такой же образ жизни (в смысле необычности для себя): от жены ушел, поселился в гостинице, ходит всюду пешком, балдея от собственного демократизма, и пьет регулярно.
В общем, прочухавшись где-то ближе к февралю, я с некоторым удивлением обнаружил себя все в той же московской квартире и на всякий случай полетел на Тибет к великому гуру Шактивенанде, он же Ковальский Анжей Иванович (это отчество не я придумал, а его детдомовские собратья в Куйбышеве). Анжей быстро понял мое состояние и не то чтобы сильно испугался, но констатировал явную уникальность случая.
— Михаил, — объяснил он мне, — я и раньше знал, что контролирующие центры в организме поддаются регулировке, в частности многократному ослаблению вплоть до полного отключения, но я не думал, что этот процесс может зайти так глубоко без сознательной направленности индивида. Вы же не стремились к этому? Я правильно понял?
— Не стремился, — кивнул я.
— Вот это и чудно. Без всякого злого умысла порушили систему, которую мы с вами четыре года назад так тщательно выстраивали.
— Интересно, зачем? — спросил я в задумчивости.
— Вы должны спрашивать самого себя. Но если угодно, я отвечу. Как правило, мои пациенты решались на такой шаг в двух случаях. Ради нетривиального решения той или иной сверхсложной научной проблемы. Или что бывало чаще — для полноты любовных ощущений.
— Что?! — не поверил я.
— Подчеркиваю, — решил повторить он, — не сексуальных, а именно любовных ощущений. Полный контроль над своим организмом лишает человека возможности совершать безумные, то есть нелогичные поступки, а именно это и называют в быту любовью. Вы в кого-то влюбились, Михаил?
— Нет, — честно ответил я.
И улетал в Москву крайне озадаченный. О конце света мы даже не поговорили.
Или все это как раз и было о конце света?
В Москве меня ждала встреча со старым другом из Питера, предложившим весьма любопытный проект — крупный интернет-магазин. В Европе, а особенно в Америке таких было уже полно, в России подобный бизнес двигался пока ощупью по совершенно не освоенному виртуальному пространству. А я всегда любил новые неординарные задачи, да и засиделся уже без живой работы, без общения с людьми, без будоражащего кровь коммерческого риска. Все-таки занятия мелким бизнесом в прошлой московской жизни не прошли для меня бесследно, да и крупный бизнес в Берлине кое-чему научил. И что интересно, писалось мне лучше, когда возникал дефицит времени. Чисто литературный труд — это прямой путь к хроническому пьянству и сумасшествию.
Правильно говорят, писатель — не профессия. Призвание, проклятие, болезнь, судьба — все что угодно, но не профессия. Я еще с советских времен привык творить по ночам в свободное от работы время.
В общем, я с радостью впрягся в организацию Московского филиала питерской интернет-компании «Эй-зоун». Название ребята придумали себе наглое такое — «Зона А», то есть первая, главная зона интернета и со знаменитым американским ресурсом «Амазон» созвучно. Собственно, они и собирались догнать и перегнать Америку, торгуя по всему миру книгами, кассетами, дисками, а в перспективе и всем остальным. Ребята были, как и я, фантастами в прошлом и мыслить привыкли глобально. В раскрутку проекта уже был вложен миллион долларов. Мне предлагалось погасить расходы и добавить еще два лимона на развитие на первый год, а дальше посмотрим. Я, конечно, схитрил, найдя двух серьезных компаньонов в Германии и Франции, объявил, что моих денег там всего пятьсот тысяч, на самом деле все было наоборот. Моих крутилось ровно два с половиной миллиона. Уж играть, так играть по-крупному. У Белки дух захватывало от этих наполеоновских планов, и она всерьез увлеклась нашим проектом. Писала бизнес-планы (после работы в финансовой империи Кузьмина опыт у нее был солидный), занималась общей стратегией. Короче, уже через неделю я решил посадить ее гендиректором в Московском офисе, а за собой оставил наблюдательно-консультативные функции.
В те дни я совершенно бросил пить. Мы носились вдвоем задрав хвост с совещания на совещание, с брифинга на брифинг, мы лично выбирали компьютеры и контролировали монтаж сетей, лично подыскивали место для большого склада и офиса, лично принимали оборудование и устраивали собеседования ответственным сотрудникам, принимаемым на работу. Все было жутко интересно.
Я с удивлением обнаружил, что Россия реально начинает выползать из кризиса. Люди требовали себе солидных окладов, проявляли немалый профессионализм во многих вопросах и готовы были пахать, не слишком оглядываясь на затрачиваемое время и нервы. Примерно месяц прошел в обстановке полнейшей эйфории. Изучение книжного рынка, налаживание современной логистики, обучение персонала, серьезное знакомство с глобальной сетью и новейшими программными продуктами…. Дел и проблем выше крыши для всех, но удивительным образом по вечерам и в выходные я успевал писать роман и не просто успевал, а (хотите верьте, хотите — нет) работал быстрее прежнего.
А в марте эйфория кончилась.
Ну, во-первых, начала заедать рутина. Наметилась некоторая усталость, к счастью, не у сотрудников наших, но у меня и у Белки — точно, а вдобавок фирма разрослась, уже невозможно стало контролировать лично весь процесс от и до. Даже в штат начали набирать людей без серьезного согласования с нами, кому-то клюнуло чисто по-западному приглашать людей через службу рекрутинга. Ненавижу все эти пирсинги, мониторинги, рекрутинги и дайвинги русского языка, великого и могучего, не хватает им, гадам!
И вот совершенно внезапно для нас обоих на ключевую фактически должность исполнительного директора взяли странного типа — бывшего разведчика из алжирской резидентуры, уволенного за пьянку, недоучку с плохим французским и начатками английского, простака с солдафонскими манерами, скверно воспитанного и тупого от природы. Как он только разведшколу закончил? За взятки, что ли? Вдобавок новый директор книжного интернет-магазина Зеварин Сергей Иванович последнюю книгу, похоже, читал в школе и в книжной торговле разбирался, примерно как я в молекулярной генетике, но искренне считал, что руководителю специальные знания ни к чему. Хамил он всем без разбору, на женщин смотрел откровенно раздевающим взглядом, отпускал сальные шуточки, при этом внешность имел крайне неприятную: рожа красная, глазки мелкие, бесцветные, глубоко посаженные, волосенки редкие, уши большие, сутулый, вечно потеющий как бы от неловкости, и ладонь, подаваемая для приветствия, всегда вялая и влажная. Девушки наши считали его антисексуальным, мужики подозревали в неправильной ориентации, в частности ссылаясь на любовь к голубым рубашкам. А еще был у Зеварина такой дефект речи, что не только на французском, но и на родном не всегда удавалось понять его.
Более омерзительного типа я в жизни своей не встречал. Потому и не поленился описать в таких подробностях. Добавлю, что был он на пять лет моложе меня, но выглядел на все десять старше. И только в одном этот человек оказался по-настоящему талантлив — в интриганстве. На том и держался, переходя из фирмы в фирму, конфликтуя, подсиживая, донося, бесстыдно воруя, предавая всех, к кому успевал втереться в доверие.
Я почуял неладное и связался с Тополем, дабы навести справки и посоветоваться: уволить этого гада сразу, пользуясь моим негласным контрольным пакетом, или создать ему нечеловеческие условия — пусть сам слиняет. Оказалось, делать нельзя ни того ни другого. Да и справки наводить ни к чему.
— Он что, из наших?! — не поверил я сам своей первой догадке.
— Хуже, — сказал Вайсберг. — Он из ихних.
— ЧГУ? — спросил я коротко, так как разговор шел по защищенному каналу.
— Увы.
— Приехали. И зачем же им пасти меня на таком высоком и неприкрытом уровне?
— Спроси что-нибудь полегче, — буркнул Тополь.
И, пожалуйста, никому ни слова.
— Даже Ольге?
— Ольге-то твоей в первую очередь и нельзя говорить.
Мне сразу сделалось кисло. Я не слишком понял, почему Белке не следовало знать правды, но в таких случаях спорить с Леней Вайсбергом было совершенно бесполезно. Ну и что? Опять лететь на Тибет к Анжею и молиться всем его древним богам, чтобы уберегли от беды? Молиться я принципиально не умел, и беда нас, конечно, накрыла. Причем весьма скоро.
Разумеется, я терпел этого Зеварина, мужественно терпел и месяц, и два, и еще бы мог — столько, сколько надо во имя общего благородного дела. Точнее, теперь уже во имя двух благородных дел сразу, но Белка…… Она-то — женщина, у нее эмоции на первом месте, у нее интуиция безошибочная, ну и гонор конечно, вполне адекватный высокому положению. Белочка моя просто из себя выпрыгивала.
До середины апреля примерно я пудрил любимой жене мозги в том смысле, что Зеварин уникальный менеджер-кадровик (а он и впрямь устроил дикую кадровую чехарду); намекал на его связи в высоких кабинетах Лубянки, ниточки из которых тянулись якобы к самому президенту; плел, что нам просто необходима подобная крыша. Но Белка чувствовала ложь. И главное, ей было жутко обидно. Я-то Сергея Иваныча встречал изредка, наезжая с проверками, а она отвратительную рожу своего непосредственного подчиненного имела счастье лицезреть каждый день. И Зеварин прекрасно видел все нараставшее раздражение Ольги и откровенно глумился над нею, чувствуя свою полную безнаказанность. Колоссальное удовольствие доставлял ему сам процесс, а кроме того, заливая глаза очередным стаканом водки, Сергей Иваныч наверняка уже мечтал занять место Ольги. Работа на ЧГУ — это одно, а карьерный рост и неизменное рвачество — отдельная тема. Белка мне так и сказала однажды:
— Этот гад меня элементарно подсиживает, а ты, хозяин хренов, все ждешь чего-то. Чего ты ждешь? Пока я сдохну на этой работе или пока убью его своими руками?
— Перестань. Не устраивай истерику, — ворчал я.
Но однажды дело дошло до края. Зеварин пришел на работу подшофе и начал почти откровенно домогаться моей жены. Во всяком случае, так обстояло дело с ее слов. Свидетелей-то, разумеется, не было. И прослушку включить Белка не догадалась.
В общем, я был поставлен перед дилеммой:
— Либо я, либо он, — заявила Белка.
Имели место эти сексуальные приставания со стороны Сергея Иваныча или не было их, я так и не знаю по сей день. Да и какая разница? Я потом понял: не важно это. Совсем не важно. А тогда я краснел, бледнел, потел и добрых минут десять не мог выдавить из себя решения. Белке хватило бы и этого, но я еще брякнул от большого ума:
— Ультиматумов я не принимал никогда и ни от кого…
Внезапно осекся, ужаснувшись собственному тону, а главное обнаружив, что почти дословно цитирую персонажа из своего нового романа.
— Гордый какой нашелся! — процедила Белка сквозь зубы. — Какие ультиматумы? Тебе их никто и никогда не предъявлял. Ты же размазня, слабак. Я за тебя все решения принимала. Что ж, обойдусь и на этот раз.
И она действительно приняла решение сама.
На следующий же день Белка не вышла на работу, сдала дела двум зеваринским замам, нарочито приглашенным к нам домой, в офисе высокая экс-начальница даже показываться не хотела. Счастливый Зеварин автоматически занял Белкино кресло в качестве врио, а я оказался просто по уши в дерьме. Произнесенная мною пафосная речь о недопустимости малодушной позиции, о невозможности смешивать личные пристрастия со служебными обязанностями, и так далее и тому подобное, Белкой услышана не была. В ответ на мою пространную и насквозь лживую тираду она ответила всего двумя страшными фразами.
— Просто ты меня разлюбил.
И долгий взгляд глаза в глаза.
Я не сумел ответить. А она добила второй фразой:
— Если бы жив был папа, он бы не позволил тебе так поступить.
Крыть было действительно нечем. И мне пришел в голову какой-то абсурд: «Если бы рядом оказалась Верба, она бы тоже не позволила так поступать. Ведь Татьяна никогда не подчиняла личные интересы служебным, даже если это были интересы службы ИКС».
Слава Богу, мне все-таки хватило ума не заговорить вслух еще и о любовнице, пусть и бывшей. Да, теперь уже бывшей. Я промолчал. Но это уже ничего не меняло.
Мне не хотелось думать, что я и вправду разлюбил Белку. Ведь она оставалась для меня самым дорогим на свете человеком. Честное слово! Но и в ее словах была правда. Лет десять назад я не стал бы обманывать жену ни при каких обстоятельствах. О Боже! О чем я? Лет десять назад я был просто другим человеком, а сегодняшние обстоятельства не могли бы присниться мне даже в самом бредовом кошмаре. Значило ли это, что тогда я любил, а теперь уже не люблю? Я не знал ответа. И до сих пор не знаю.
А меж тем замечательный месяц май подкатился к своей середине, и стояла несуразная для этого времени жара. Или наоборот, зарядили дожди и дули холодные ветры. Теперь и не вспомнить. Да и какая разница?
Сказать, что мне было плохо, значит не сказать ничего.
Я пытался узнать, кто меня подставил. Я пытался разобраться, совершил ли я сам подлость или просто глупость.
Я вновь и вновь пытался понять: жива ли моя любовь. Но ведь кто-то заметил мудро: если спрашиваешь, значит, уже не любишь…
Кажется, я терпел эту пытку всего два дня. Потом рассказал Белке правду. Но было поздно. Она так и сказала мне:
— Теперь уже поздно. Зачем ты мне рассказываешь это? Да, я верю тебе. Но что это меняет между нами? Ты меня предал, и ничего уже нельзя исправить.
Какая жуть сквозила в ее последней фразе!
Я попытался напиться. Но даже этого сделать не сумел. Не хотелось. Ничего не хотелось. Подумалось: застрелиться, что ли? Но и стреляться не хотелось! А знаете, почему? Я вдруг решил, что я тоже Посвященный, и, стало быть, застрелившись, вернусь обратно, сюда же, и ничего — ничего! — не изменится. Станет только страшнее…
Через этот безумный катарсис я пришел к единственно правильному выводу — надо работать. И не над последними главами романа, нет. Я ушел в настоящий деловой запой. Дня на три. Я почти не спал, ведя днем переговоры с Европой, а ночью со Штатами. И я продал эту треклятую «Эй-зону» именно американцам за пять лимонов, чтобы она никогда в жизни не сумела догнать солидный и респектабельный «Амазон». На фантастически удачной сделке я заработал два миллиона долларов чистыми, и конечно же сладострастно уволил к чертям собачьим ненавистного Зеварина. Плевать ему вдогонку отрицательными характеристиками по всем каналам я не стал — счел ниже своего достоинства, да и уверен был почему-то: жизнь накажет его сама. Вот только кому от этого станет легче?
Мне становилось лишь тяжелее. Ни грандиозный финансовый успех, ни запоздалая месть — ничто не приносило радости. Ни мне, ни Белке. Правда, мы начали разговаривать понемногу. Холодно, только на бытовые темы: о здоровье Зои Васильевны, об Андрюшкиных делах в школе, о друзьях, о собаке Капе, о Бульваре…. Да, да, именно Бульвар был нашей последней надеждой на спасение.
Я вновь решил ходить туда регулярно и вновь начал пить. Теперь получалось. И даже с удовольствием. Что характерно, к роману я тоже сумел вернуться. И наступил июнь.
Тот летний месяц был настолько странным, что сегодня, по воспоминаниям я бы уже не смог адекватно описать его. Вот почему я привожу здесь (с некоторыми сокращениями) свой собственный дневник. Уже само то, что я вдруг начал вести в компьютере дневник, было явным признаком сумасшествия. Перечитываю все эти строчки и не узнаю себя, точнее узнаю в них того, прежнего, далекого, молодого, простого, наивного парня, не обремененного проблемами вечности и вселенских судеб.
Итак, мой июньский дневник.
1 июня, четверг — Болела голова, работал над романом, Андрюшка доставал дурацкими вопросами. За обедом не получилось выпить пива, и на Бульваре не с кем было и незачем. Пора бы уж и бросить, но не тут-то было: ночью, когда мои все уснули, выжрал мескаля граммов аж триста, и под это дело за компом до половины пятого просидел. Светало.
2 июня, пятница — Проснулся в тяжелом состоянии, а тут звонок из «Эй-зоны». Господи, сколько дней еще они будут меня доставать? Зеварин, конечно, был невеликого ума человек, но их новый управляющий — это просто фантастический кретин. Сергей Иваныч рядом с ним — Спиноза. Конечно напоминание об «Эй-зоне» спровоцировало разговоры с Белкой на больную тему, и работы не получилось уже никакой, а вечером притащились Бурцевы. И мы опять что-то пили. Скорее всего, хорошую водку. Бурцев не пьет плохую. Потом, глубокой ночью, — вдвоем на Бульвар. Там уже не было никого. Водка настроила меня на лирический лад, и я задал Белке (ё-моё, решился!) прямой вопрос об интимной жизни, а она-то, оказывается, «на ремонте». О как! Надо чаще встречаться. Не скажу, чтобы очень сильно расстроился. Я теперь, как Майкл Дуглас: алкоголь меня больше радует, чем женщины (вычитал в каком-то интервью несколько лет назад). И что мне оставалось? В общем, поскольку мескаль, пиво и граппа были выпиты раньше, я наконец сломался и открыл один из коллекционных коньяков. Накатил прилично среди ночи, под это дело почти целую главу написал. А еще около часа сидел в инете, изучал сайт фонда «Би-Би-Эс». Обновляется он редко. Но все равно забавно. Лег примерно в четыре, а завтра в девять утра надо явиться на совет директоров. Хорош же я там буду! Наверно, пить больше не стоит. Понимаю это, но очень хочется добавить, просто чтобы спалось лучше. Может, все-таки глотну капелюху?..
И ведь глотнул.
3 июня, суббота — Утром Белка с Андрюшкой раньше меня ушли записываться в какой-то пижонский лицей. А я на совете сидел ничего так, вполне адекватный. Женька Жуков приперся. Казалось бы, зачем? Проверять меня, что ли? В перерыве подошел и сказал странную вещь:
«В ближайшие дни будь поосторожней на Бульваре».
«В каком смысле?» — обалдел я. «Сам знаешь». И все. И пошел с другими коммерческие вопросы решать. Вот ведь, Владыка Чиньо новоявленный! Кругом одни загадки. Что я должен знать? Я как раз ни черта не знаю! Пить, что ли, меньше надо на Бульваре? Так я в основном дома пью.
Безобразно тормозил на светофоре, с визгом. Едва не помял несчастного перепуганного «жигуленка». Что это со мной?
На Бульвар ходил один, без Белки. И Ланки Рыжиковой там не было. А это я зачем написал?
Ночью пил совсем капельку, а работал еще меньше.
4 июня, воскресенье — Утром долго гулял с Капой по всем дворам и по Бульвару. Наших — никого: время не стандартное. Но солнышко было еще не жаркое, ласковое, и очень жить захотелось. Думал о романе, сочинял целые фразы, чуть ли не вслух проговаривал их. Старался запомнить. Возил Зою Васильевну на Ленинский к какому-то чудодею-гомеопату. По-моему, явный шарлатан, но ей втемяшилось, что именно гомеопатия должна от астмы помочь. А у Белки разболелось ухо, и она рванула к знакомому врачу Ланки Бухтияровой. Прямо какой-то медицинский день, ядрена вошь! К обеду сделалось невыносимо жарко, и без холодного пива было уже никак нельзя. Пили вместе, даже иллюзия полного примирения возникла. Но мне, конечно, пива не хватило, я его вискарем догрузил.
И за компом сидел рассеянно, сонно, сам потом удивился, что помимо писем кусок неплохого текста выдал… На Бульвар вдвоем, и там еще пивка взяли — хорошо! На Бульваре без пива уже никто не гуляет: ведь плюс двадцать шесть за час до полуночи! Я им объясняю, что от такой жары надо пить виски с колой — идеальное сочетание для минимального потоотделения. Но здешний народ придерживается русских традиций и виски воспринимает плохо.
Белка намаялась со своим ухом, и тему ночных развлечений я даже обсуждать не стал, просто смешал перед сном джина с тоником, грейпфрута выжал туда и, высосав эту дивную смесь, безмятежно уснул.
Какой же это по счету пьяный день? Тихий такой, спокойный, никому не мешающий алкоголизм. Но не страшнее ли он для меня самого, чем сильные, но редкие перепои?
5 июня, понедельник — Вставал в пять утра, воду пил и впервые за последние две недели позволил себе голубую аргентинскую таблетку — надоело головную боль коньяком лечить, а контролирующие механизмы у меня и правда до такой степени разладились, что впору снова ехать на Тибет к Анжею проходить основательный курс лечения.
Во сне видел генерала Форманова и почему-то Бориса Немцова, они вместе приглашали меня в свою политическую команду. А я все никак не въезжал, как этим двоим удалось общую идеологию найти. Что характерно, я ни разу в жизни с Немцовым не встречался. А в реальном пространстве и времени был идиотский звонок Тополя. Этот жалобно как-то уговаривал меня уехать на недельку в Европу. Я категорически отказался. Во-первых, на десятое намечена деловая встреча с «Америкэн-банком», во-вторых, одиннадцатого я специально сбагриваю на пару недель Белку с Рюшиком и Зою Васильевну в Швейцарию, а сам мечтаю насладиться одиночеством. Наконец, в-третьих, назойливое оттаскивание меня от Бульвара начинает раздражать. Ведь там как раз близятся два дня рождения. Не могу пропустить.
За обедом пива не пил (по какому-то недоразумению). Неужели сделаю паузу?
Паузу сделал, ура! Кстати, и пью-то подряд только одиннадцать дней. Не так все страшно. Правда, работаю вяло. Все больше перечитываю написанное, сегодня первую часть мусолил, про Маревича, а ночью с письмами колупался и с дневником, а ложусь все равно в четыре — полный бред!
6 июня, вторник — После полудня температура дошла до тридцати четырех в тени. Поэтому день и даже вечер оказались потоплены в пиве и знойном мареве. Зато к вечеру оно свершилось. То ли Белка устала дуться на меня, то ли просто тело ее потребовало наконец нормального секса, а пускаться по жаре в сомнительные амурные приключения на стороне ей было элементарно лень. Короче, когда столбик термометра опустился ниже тридцати, а было это уже ближе к двум, мы вдоволь настоялись, полуобнявшись, под холодным душем, а потом, почти не вытираясь, рухнули в постель…
И ночка получилась ничего себе. Хотя, конечно, я не мог не выпить. Много хорошего «Хеннеси» поверх обеденного пива. Был весьма расслаблен. А Белка и вовсе еле шевелилась, ни о каких ласках с ее стороны речи не шло. Когда так редко общаешься, радуешься всему, тут бы хоть что-нибудь, хоть куда-нибудь… Впрочем, некоторые нетривиальные способы были задействованы, так что мы оба получили массу удовольствия, потом даже сладко пощекотали друг другу нервы рассуждениями о возможном группешнике — я всерьез, а Белка, похоже, в шутку. Предлагала в качестве второго партнера сильного и статного Гошу, я в ответ выдвинул кандидатуру Ланки Рыжиковой, мы выпили за них обоих в связи с надвигающимися днями рождений и решили завтра же на Бульваре озвучить задуманное. Потом я повернул тему и для чего-то решил уточнить, хотя знал и раньше: самой ужасной для Белки была бы моя измена с ее подругами, чем ближе подруга, тем хуже. Я возразил, мол, для меня наоборот: дать жену напрокат другу, надежному, проверенному, — намного спокойнее, по-доброму как-то по-родственному. Я не шутил, я искренне так считаю, потому и готов к групповым экспериментам. Но и Белка, похоже, не шутила. В ее словах звучало исконно женское желание не видеть никогда, не знать, не слышать ничего о сопернице. Ей уже Вербы хватило. Но это же отдельный случай! Я никак не мог не познакомить их. И вообще, по-моему, подобные взгляды — это страусиная политика. Или просто нельзя так много пить коньяка среди ночи? Да нет, можно. Главное, только Зеварина не вспоминать….
7 июня, среда — Отключились накануне уже засветло, так что разбуженный через два часа будильником, я был еще полновесно пьян. «Хэннеси» плескался во мне ароматными волнами, и пришлось применить весьма сильные средства, дабы не дышать на учителей в Андрюшкином лицее, куда теперь надлежало идти мне. Да, именно идти, за руль решил не садиться — уж слишком мне было хорошо. А на обратной дороге с пьяных глаз надумал развлечь сына, и мы вдвоем жгли по всем дворам тополиный пух.
А жарень стоит уже вторую неделю, сухое все, в общем, чуть не спалили какую-то помойку, а заодно и халупу, к которой она притулилась. Я бегал в ближайший ларек, и мы тушили начавшийся пожар двумя двухлитровыми бутылками «Бонаквы». Во смеху-то было! Андрюшка страшно доволен остался. Потом всякие звонки начались. Много звонков. Но писать про них неинтересно. А вечером на Бульваре (в отсутствие Гоши, который гудел у себя в академии) мы устроили легкую репетицию завтрашней большой пьянки. Бухтияровы, молодцы, притащили к моему джину целый мешок льда, а Сашка Пролетаев — два пузыря тоника прямо из морозилки. В общем, было здорово. Дома подбивал Белку на повторение вчерашнего, но она — без всяких обид — просто пожаловалась на усталость. Неужели мы полностью помирились?
8 июня, четверг — На удивление светлая голова и яростное желание работать. Завтрак без всякого спиртного, две страницы текста с огромным удовольствием, а потом… Женька Жуков звонит прямо в дверь. Ну, думаю, началось. «Пошли. Прогуляемся немного». Очень хотелось послать его, предчувствие в душе гадкое было, но я уже понял, что этот Причастный высшей категории под номером «три» или «четыре» (черт его знает, какой у него там сейчас номер!) в мою судьбу всегда вламывается, как смерть с косой, и трусливо суетиться, мельтешить перед ним, а тем более сопротивляться его носорожьему натиску не только глупо, но и опасно. Я быстро собрался и вышел. Отъехали мы недалеко. На его машине. Встали на Чистых прудах, закурили, и Женька начал почти допрос:
— Почему ты не послушался Тополя?
— Я никого не собираюсь слушаться, я приехал жить в свой родной город. Мне разрешили делать все, что я захочу. Я и так уступил вам, я взялся писать заказной, не мною придуманный роман. Но я уже влез в него по уши и закончу работу. А во всем остальном, ребята, идите-ка вы….
— Ответ принят, — процедил Жуков, не глядя на меня. — А почему ты пьешь, как лошадь? Анжей сказал мне, что ты просто взломал внутреннюю систему защиты организма и теперь планомерно гробишь себя.
— Возможно, — нехотя согласился я.
— Вызвать тебе Вербу?
— Не надо. Я должен дописать роман в этом состоянии. Мне совсем чуть-чуть осталось.
— Хорошо, дописывай. Но все-таки, почему ты пьешь? Тебе плохо?
— Посмотри мне в глаза.
Он посмотрел. Нет, не издевается.
— Заботливый ты наш, — сказал я. — А то ты не видишь, как мне плохо.
— Уходит любовь? — спросил он на полном серьезе.
— С каких это пор Причастные стали бросаться высокими словами? Что ты знаешь о любви, психолог? Не больше, чем я. Не больше, чем все остальные. Что такое любовь, даже двое, между собой, почти никогда не умеют договориться. О чем ты, Женька? Ты можешь спеть красивую лирическую песню об умирающем чувстве, а можешь смачно выругаться и сплюнуть под ноги, резюмировав: «Депрессняк». А речь-то будет идти об одном и том же.
— Хорошо, — сдался Жуков, — без лишних слов. О чем идет речь?
— О том, что, если я не буду пить, я уйду от Белки.
— Уходить не надо. Это действительно плохо. И ты уверен, что эти запои, эта беспробудная гульба на Бульваре спасает вашу семью?
— Уверен, Кедр.
— Хорошо, — еще раз сказал он. — А ты хоть знаешь, кто сейчас президент этой страны.
— Хватит называть мою страну «этой»! Президент России сегодня…. - я запнулся и ответил честно: — Мне наплевать, кто у нас президент. Все равно последний год живем…
Женька выдержал долгую паузу и подвел черту:
— Все. Отдыхай. — Потом добавил: — Дай мне позвонить с твоей трубки, у меня аккумулятор разрядился.
«Чушь какая-то», — подумал я. Но трубку дал.
И вот буквально в эти минуты, пока Женька занимал мой номер, подонок и отморозок Сергей Зеварин, наткнувшись на короткие гудки, перезвонил мне домой. Оказывается, по его понятиям, я остался ему каких-то денег должен, то ли двести долларов, то ли сто пятьдесят. Он спрашивал абсолютно серьезно, похоже, даже без всякого задания от своей конторы. Он просто не хотел терять последнего кусочка с моего стола. Но главное, что все это он с удовольствием и в подробностях выложил Белке. Дальнейшее в комментариях не нуждается. «Ты все еще общаешься с этим недоумком, с этой плесенью?!» вопросила моя жена с порога. И я оставил всякие надежды на примирение еще на добрую неделю.
Удивляюсь, как я дотерпел до вечера! Впрочем, знаю: мне безумно хотелось нажраться, но не в одиночку, а вместе со всеми, я должен был прийти в компанию трезвым. Вот в чем дело. Мне хотелось оттянуться по-настоящему. Как в юности.
Что я и исполнил ближе к ночи в лучшем виде. Просто в рекордном варианте.
Чем еще был наполнен этот день, и вспоминать не стану. Потому что ночь выдалась потрясающая.
На Бульваре гулял Гоша, пили почти горячую водку с почти горячим томатным соком (про лед почему-то все дружно забыли), зато и сока и водки было много, а когда все закончилось, Пролетаев побежал в магазин за добавкой. Но и там продавалась водка с температурой окружающего воздуха, то есть плюс тридцать два. Некоторые считают, что в жару много не выпьешь. Полная ерунда! Едва не закипающая «кровавая Мэри» легко опрокинулась в наши желудки, лишь возбудив новые желания. И тогда Гоша позвал всех к себе, благо жена его Нелли и сын Вася были в отъезде. Многие возражали. Гоша уговаривал. В итоге не удалось уговорить лишь двоих: Владимира Ивановича (у него Лиза болела) и мою Белку (у нее, наверно, душа болела). Недопустимо язвительный тон? Но я правда обиделся: ведь Белка возражала сильнее прочих. На то, чтобы я отвел домой собаку (как поступил, например, Олег), не согласилась. Ушла сама и просила вернуться пораньше. Ну, я и вернулся. Так рано я еще никогда не возвращался — в четыре утра.
Но я же говорил: мне вдруг захотелось оторваться по полной программе. Специально употребляю этот молодежный штамп. Хотелось расслабиться и загулять именно по-молодому. Понятно, что Белке это не нравилось. Пока Олег отводил своего далматина Фари, а Ваня — овчарку-переростка Стендаля, мы отправились с Гошей к нему на кафедру за чудесным армянским коньяком домашнего розлива. Привез какой-то слушатель в качестве подарка огромную бутыль, и оставалось в ней еще литра три. Так что мы с Гошей напиток, конечно, продегустировали прямо там, в кабинете. Оценили тонкий букет (после изрядной дозы водки с томатным соком!) и в обнимку с бутылью вернулись к женщинам на Бульвар. Вот тут оно и случилось.
Армянский коньяк оказался волшебным. Я вдруг совершенно другими глазами посмотрел на Ланку Рыжикову. Она улыбнулась, увидев нас, откинула челку со лба и стала как две капли воды похожа на ту самую свою фотографию. Впервые за полгода. Я просто онемел от восторга.
Ну а дальше вся пьяная компания завалилась к Гоше домой. И там было по-настоящему здорово. Коньяк выдули весь, виски, правда, не тронули. А стояло его в баре — хорошего, настоящего, — немерено. Зато еду смели полностью и вылакали до капли всю водку из холодильника. Курить выходили на лестницу босиком, наслаждаясь прохладным каменным полом, ведь температура так и не опустилась ниже тридцати. А уж какая была температура у меня в крови!.. Мы же музыку врубили и танцевали всю ночь, как школьники, грамотно чередуя быстрые танцы и медляки, меняясь партнершами, вновь присаживаясь к столу и наливая, а затем вновь вскакивая и окунаясь в горячую стихию движений.
Гоша, отпустив тормоза, беззастенчиво клеился к Арине, благо Дима отсутствовал; Сашка — более скромно, но тоже недвусмысленно приглашал все чаще Ланку Бухтиярову под ядовитые шуточки законного мужа и своего друга Вани, а я……
Я просто сошел с ума. Глядя на Рыжикову, я читал свое отражение в зеленой бездонности ее глаз и трепетал; в быстрых танцах я воспарял над паркетом и пронзал головою старинные перекрытия дореволюционного дома, а в медленных — чувствовал, как ее пульс сливался с моим пульсом в ритме очередного лирического шлягера; я погружался в музыку всем существом и захлебывался на вдохе, я расплывался и таял в жарком сиропе безумной июньской ночи…. Нет, ребята, от алкоголя так не бывает — скорей уж меня одурманила эта зеленоглазая колдунья. И что это вдруг на нее нашло?
Ланка была в ударе. Она выпила ровно столько, чтобы забыть об условностях и выплеснуть в мир всю свою нерастраченную женственность. Энергия, безупречная точность и магнетическая откровенность ее движений заставляли думать, что как минимум половину сознательной жизни провела она не в швейных мастерских, а на сцене ночного стриптиз-клуба. И поскольку с определенного момента я находился с нею рядом непрерывно, Ланка начала использовать мое тело в качестве шеста. О, как она прижималась ко мне в танце самыми жаркими местами! И улыбалась от уха до уха, и при этом твердила, как обычно (только теперь со страстными придыханиями), что она старая, больная, холодная женщина. Боже, сколько раз я слышал на Бульваре эти ее смешные, наивные, трогательные, слова. Но только теперь мне открылся их потаенный смысл.
О, как я хотел доказать ей обратное!…
Вот лишь один из наших диалогов:
— Ланка, мне так здорово с тобой!
— Перестань, я старая, больная, холодная женщина.
— Нет, теперь я знаю, что ты молодая, здоровая и горячая. На самом деле я знаю это очень давно. Просто не сразу догадался, кто ты. А теперь вспомнил. Твое настоящее имя — Анна. И ты — Посвященная.
— Чего-чего?
— Ты Посвященная. Не прикидывайся, ты все прекрасно поняла. Мы были с тобой на этом Бульваре такой же жаркой ночью девять лет назад. Тебя звали Анной, а меня Давидом. Мы любили друг друга прямо на лавочке под открытым небом. Это было прекрасно. Это было на самом деле. Это было с нами. И сегодня должно повториться.
— Мих, ты с ума сошел.
— Может быть, но это так здорово!
Я целовал ей руки, и шею, и щеки, а губы она всякий раз игриво и очень ловко отворачивала. И я догадывался, что этой ночью у нас еще все-все впереди.
Часам к трем народ стал потихонечку расползаться. Нас осталось совсем мало. И я перед уходом прокрался на кухню, вспомнив о виденной в холодильнике бутылке пива, заначенной Гошей, надо понимать, на утро, коварно извлек ее, открыл и припал к горлышку пересохшими губами….
Но в эту ночь все напитки были очень не простыми.
От одного глотка пива я словно протрезвел. И мне сделалось страшно. Я вспомнил наш недавний разговор с Белкой. Мне стало стыдно перед ней, мне захотелось все забыть, развернуться и идти домой. Но я сделал еще глоток и поборол в себе внезапно нахлынувшее неуместное чувство. И пошел провожать Ланку до дома — с целью вполне конкретной.
И я уже знал, что ничего нельзя изменить. Дома ее ждет муж и дети, поэтому мы сольемся в неземном восторге прямо здесь, под жарким июньским небом на пустынном Бульваре или во дворе, на каких-нибудь детских качелях.
Я уже видел, я кожей ощущал, как это будет…
Не выпуская бутылки из рук, я попрощался с совсем уже пьяным хозяином квартиры, не способным отличить бутылку от руки, а руку — от головы, и мы спустились на улицу втроем: я, Ланка и Олег. Я был уверен, что Олег пойдет к себе домой и оставит нас наедине. Но Олег решил тоже проводить Ланку, спать ему совершенно не хотелось, да и бутылка холодного (о, еще холодного!) пива влекла неодолимо. Мы пили ее втроем у Ланкиного подъезда, передавая друг другу. Хитрюга, она улыбалась все более обворожительно, однако надежда на секс планомерно таяла, и в какой-то момент я понял: ничего не будет. И тогда на смену жалости и досаде в душу вошло спокойствие. Ведь растаяла не надежда, а угроза.
— Прощай, моя голова! — трогательно сказал Олег, допивая последнюю дозу, и я уже любил его в тот момент — его, спасшего меня от чудовищной глупости.
Я же рисковал все испортить, у нас с Ланкой все равно ничего бы не вышло. Посвященные могут любить друг друга только в Особый день. А он еще не настал, не настал…. Что за бред, Господи?! И только уже прощаясь, я вдруг понял, что Ланка мне по-настоящему дорога, что я влюбился в нее, да нет…, что значит «влюбился»? Это как-то несерьезно звучит, а ведь я в эту ночь… Стоп, Разгонов, стоп! Ты идешь домой, ты не Маревич, и она не Анна….
9 июня, пятница — Мне было жутко наутро.
От любви тоже бывает похмелье. Я проснулся именно с этой мыслью в голове. Мне было почти неприятно вспоминать минувшую ночь, и я незамедлительно выпил коньяка. Дабы заглушить странные эмоции. А что еще мне оставалось делать? Белка опять играла в бойкот, даже близко не подходила. А Зоя Васильевна ночью вообще защелкнула дверь на внутренний замок — вот это уж была глупость, я же их всех перебудил звонками!..
В обед продолжил пивом. Долго гулял с Андрюшкой, расстроившимся из-за нашего нового разлада. Утешал, как мог, разговорами. Мы ходили в самый центр, по книжным магазинам и обратно через Чистые пруды. Жара не спадала, и я покупал ему лимонаду и новых книжек, а себе — пива и только пива. Оно уже не действовало совсем. Хотелось ледяной, обжигающе ледяной водки. Лежала у меня такая в морозилке. Но… приходим домой, а Белка говорит: быстро в магазин! У нас внезапный гость — Влад Сапунов, ее одноклассник. Да еще и с девушкой. Вах! Спасибо старику Владу, наши отношения хоть чуть-чуть наладились.
Я, правда, все рвался из морозилки мою красавицу достать, но Сапунов был непреклонен (в завязке, что ли?): кофе, кола, мороженое, ананас…Детский праздник, ядрена вошь! Тогда я тихонько удалился в большую комнату и там чудесного «Хэннеси-Парадиз» наипошлейшим образом из горла накатил. А что было делать? Ведь руки тряслись. Не вру. Особенно после сигареты. Вот и все. Дальнейшее — в сладком тумане. Вожделенной водки я все-таки глотнул. Попозже. Когда домашние у дверей топтались, провожая гостей. Белка миловалась с подпрыгивающей от нетерпения собакой, объясняя ей, что до прогулки осталось совсем чуть-чуть.
На Бульвар мы пришли поздно, но еще всех застали. Народ активно лечился. Олег по доброте душевной пивом меня угостил, и это была последняя капля…. Что-то щелкнуло в голове, и сразу настало утро. Какого дня? Какого века? Я даже Ланку в тот вечер на Бульваре не помню.
Что это было? И вообще: кто я? Вчера подумал было, что Давид Маревич, а сегодня понял: я — Редькин. Тимофей Редькин — жалкий алкоголик, пьющий тайком от жены. Пора проснуться.
11 июня, воскресенье — Проводил Белку с Андрюшкой и тещу в Шереметьево. Рейс прямой до Женевы. Они поехали пожить у друзей на берегу озера. В Берлин собираются заглянуть на обратной дороге. Дома сразу выпил и ощутил небывалый покой в душе.
15-16 июня, четверг — пятница — Никому не звонил. Медленно приходил в себя и настраивался на работу. Пивко попивал, и это не мешало. В магазин сходил и в банк, и не утратил ориентации в пространстве, а к ночи вообще вышел на проектную мощность. В шесть утра с минутами поставил последнюю точку и понял: роман не завершен, но писать его я больше не буду. Не хочу. А солнце уже высоко поднялось. Поглядел в окошко и проник мыслью еще глубже: совсем ничего не хочу — ни есть, ни пить, ни курить…. Такое уже было. Да нет, теперь другое, потому что я спать хочу. Ура! Лег и заснул.
Вечером позвонила Ланка, напомнила, что завтра пьем на Бульваре в честь ее дня рождения. И вдруг подумалось, что это очень важно — ее звонок…Ах, чего я только не напридумывал про грядущий день! Стрезва смешно и страшно вспомнить. Но часто ли я бываю трезвым? Вообще не бываю…
Вчера, ложась спать, слышал, как кто-то возится у меня под кроватью. Знал, что нет никого, но слышал и даже кожей ощущал вибрацию. А потом страшные крики начались, они звучали у меня в голове. Допился, старый, а еще на девочек потянуло! Хрена себе, девочка! Ланка Рыжикова…. Но ведь она хорошая…. Наверно, я сильно пьян… И вообще, это я пишу или кто?
17 июня, суббота — Отметили Ланкин день рождения. На самом деле у нее 13-го, но съехало все на четыре дня. Понятно, лето…. А выпили хорошо. Давешний сексуальный бред выкинут из головы полностью. Я, правда, пытался реанимировать свои романтические фантазии. Не получилось. И наивная попытка прощального поцелуя в губы была профессионально отвергнута Ланкой. Вот и все. Прошла любовь, завяли помидоры. Да неужели?..
26 июня, понедельник — Белка прилетела утром, я встретил ее в аэропорту, и оказалось, что мы соскучились друг без друга. Прекрасный был поцелуй еще в машине, а дома — сразу в душ и еще более прекрасное продолжение. И никакого пива за обедом. И только вечером — бутылка хорошего вина на Бульваре. Не было там никого, все на дачах, но позвонила Ланка Рыжикова, и мы посидели втроем, почему-то на Яузском, напротив ее дома. Впрочем, какая разница?! Ведь все равно без собак: Капа в Швейцарии, и Рыжий в своей Опалихе остался. Мы сжимали в ладонях мягкие пластиковые стаканчики с еще прохладным белым анжуйским из запотевшей бутылки, девчонки щебетали непрерывно, а я сидел на корточках перед ними, почти не слушал, о чем они там говорят, курил за сигаретой сигарету и любовался милыми лицами. Какие же они у меня обе красивые! У меня. Обе у меня. Откуда это вылезло? Ведь неправда же! Но не хотелось задумываться. Уж больно хорош был вечер. Я запомню его как самый счастливый вечер в своей жизни.
Потом взрывалась Пушкинская площадь, тонула подлодка «Курск» и горела башня в Останкине. Инфернальные тучи сгущались. Статистику катастроф по планете в целом мне тоже сообщали. Она была не столь эффектна, что и понятно, в сущности, ведь эпицентром эсхатологического действа по определению должна была стать Москва.
С Белкой у нас все более-менее наладилось. Моя загадочная и мимолетная любовь к Ланке трансформировалась в любовь ко всему Бульвару в целом. Осенью я окончательно пришел к мысли, что именно наш Бульвар и является последним островком доброты, благополучия и радости на окончательно сошедшей с ума планете.
К роману я больше не возвращался, сдав рукопись заказчику, то есть, отправив файлы по электронной почте Стиву Чиньо, от которого получил вежливый ответ с благодарностью и обещанием заняться его публикацией по мере необходимости. Лично меня издательская судьба этой более чем странной книги совсем не волновала — не для того писал. Я выдавил из себя этот «Заговор Посвященных», как выгоняют злых духов из больной души, и теперь был волен забыть ядовитую ересь Истинного Знания о собственном бессмертии.
Правда, не прошло и недели, как Стив позвонил и невозмутимо поведал, что он вполне доволен результатом, если не считать одного маленького недоразумения: роман не окончен. И в таком виде ну никак не может быть опубликован. Меж тем издать его строго необходимо по всем человеческим, божеским, практическим и астральным понятиям. Слов было сказано много, но смысл до меня не доходил.
— Зачем издавать этот роман, Стив?
— Затем, чтобы история человечества двинулась по правильному пути, ответил он без тени иронии.
— А роман без концовки не спасет отца русской демократии? — начал я торговаться а ля Кислярский с Остапом Бендером.
Чиньо, скорее всего, не знаком был с советской классикой, но вмиг догадался, о чем я спрашиваю.
— Нет, Микеле, этот роман вы обязательно должны закончить.
Слово «обязательно» (obbligatorio) всегда звучало в устах Стива жестко, напористо и неотвратимо, и я сразу понял, что дописывать придется. Но тут же и пожаловался:
— Беда в том, Стефанио, что я совершенно не представляю, как его заканчивать.
— Это не страшно, Микеле, — успокоил он. — У вас еще есть время.
И он разорвал связь, так и не объяснив, сколько именно времени у меня осталось. Очевидно, я должен был и сам понимать это: аккурат до Нового года. А как же издание? Впрочем, если он собирается публиковать текст в Интернете, так это дело мгновенное.
После разговора с Чиньо я размышлял о финале своей книги ровно полчаса. Потом понял, что дело это безнадежное по причине несвоевременности, и быстро переключил мозги.
В последние месяцы уходящего тысячелетия (или, если угодно, в последние месяцы истории человечества вообще) мне хотелось писать совсем о другом — о самых простых человеческих чувствах, о самых обыкновенных людях, о самых тривиальных жизненных коллизиях. И я за каких-нибудь две недели сентября сотворил синопсис принципиально бесконечного телесериала в жанре мыльной оперы. Нечто вроде того, что вот уже лет пятнадцать снимали в Берлине и с успехом демонстрировали по всем основным каналам Германского телевидения. Там он назывался «Унтер ден Линден». Мелодраматические истории о жителях одной улицы. Вечная тема. Наш фильм должен был называться конечно же «Бульвар», и, кстати, действие тоже происходило под липами, растущими в числе прочих деревьев на Покровском бульваре.
Я тщательно выписал образы всех наших друзей, добавил десяток новых из головы, набросал несколько сюжетных схем, сформулировал концепцию. И уже к ноябрю мой проект был утвержден на НТВ. Запустили подготовительный период, с тем чтобы под Новый год начать съемки, а в марте планировался первый эфир. Работа меня по-настоящему увлекла, как в творческом, так и в коммерческом плане, ведь финансирование в значительной степени шло из моего кармана. Так что через год-другой я всерьез рассчитывал на прибыль, а если удастся продать сериал за границу — то и на очень серьезную прибыль.
Я совершенно перестал думать о конце света. Мне надоело отслеживать этапы заката цивилизации. Мне надоела большая политика и шпионские страсти. Я даже не хотел звонить Шактивенанде. Зачем? Я и так помнил почти дословно: когда наступит конец света, никто, ни один человек на планете не заметит этого.
Я только почему-то знал наверняка, что я — именно я! — обязательно замечу. Но, признаюсь вам честно: вот уж о чем не мечталось никогда, так это принимать удар на себя. Роль мессии с самого детства не казалась мне привлекательной. Роль творца — да, но не мессии.
А меж тем приближение Нового года давило на психику с неуклонно возрастающей силой.
Ну и черт с ним! Я думал о сериале и только о сериале.
Могучая машина большого кино была запущена на всю катушку, и я догадывался, что съемки начнутся теперь даже без всякого моего участия. Я мог вообще не присутствовать там, хватило бы и дежурных сценаристов, тем более что ребята подобрались профессиональные и понимали своего хэдлайнера, то есть меня, с полуслова.
Где-то примерно в ноябре или в начале декабря я вдруг понял, что просто должен уйти в сторону. Тогда и роман закончу, и мир спасу, а если и не спасу, так хоть избавлю себя от почетной обязанности вкалачивания в гроб последнего гвоздя.
Чем ближе был торжественный момент начала светопреставления, тем опаснее становилось лично для меня заниматься чем бы то ни было активно. Я безошибочно чувствовал это своим теперь уже сверхчеловеческим чутьем. (Клянусь вам, когда пьешь целый год не просыхая, чутье становится именно сверхчеловеческим).
И я нашел выход. Я решил встретить пресловутое время «Ч» полностью в бессознательном состоянии. Еще недели за две до праздников я снова начал пить, планомерно наращивая дозы, с тем чтобы в «точке ноль» на вселенской оси достигнуть того блаженного состояния, в котором само понятие времени растворяется и превращается в полнейшую бессмыслицу. Я так и сделал.
Вот только было одно маленькое «но»….
Числа двадцатого декабря я понял, что дозрел до создания финала. Мысли какие-то забрезжили, из унавоженных алкоголем мозгов, ветвистыми ростками полезли целые фразы, еще плохо связанные друг с другом, но уже вполне симпатичные. Для полного счастья потребовалось не пить три дня, в течение которых я внимательно перечитал вторую часть своей книги.
Что ж, прочтите, пожалуй, и вы ее.
Часть вторая. ЗАГОВОР ПОСВЯЩЕННЫХ
Незаконченный роман Михаила Разгонова
Не время спорить о природе огня для тех, кто действительно находится в горящем пламени, но время спасаться из него.
Будда устами ученика своего Ананды(«Маджджхима никая», I век до н. э.)
Глава первая. НАЧАЛО ОТПУСКА
Симон Грай зажмурился, стиснул зубы и резко опрокинул на себя пластиковый ушат с ледяной водицей. Кто-то рассказал ему, что для здоровья так полезней, чем залезать под тривиальный душ, и он уже месяц проделывал это ежеутренне. Что удивительно — каждый раз было словно впервые: и страх, и удовольствие. Всякий знает, как нелегко заставить себя встать под холодные струи, например с жуткого недосыпа или похмелья: тело вздрагивает от первых же капель, ноги сами собой шагают назад, а отступать-то некуда, и трясущиеся пальцы уже непроизвольно крутят вентиль горячей воды: потеплее, только бы потеплее… «Метод ушата» выручал и в такой ситуации — секундное напряжение, и ты опять как новенький. И настроение праздничное. Как вчера.
А вчера погуляли хорошо. Его уход в отпуск совпал с кануном Дня Империи, и все офицеры отдела от души нагрузились, начав патриотично с «Русской рулетки», а заканчивая басурманскими лонгдринками: «Бифитер» с тоником, «Джонни Уокер» с содовой, «Бакарди» с колой… Так что сегодня голова трещала не только у Симона. Да кто ж теперь этого боится? Некоторые, говорят, специально перебирают, чтобы наутро, глотая таблетки хэда, ловить вторую серию кайфа — медленно смаковать уходящую боль. Симон такой слабостью не страдал, но понять людей мог. Теперь он уже задумывался о здоровье, а по молодости лет, когда чудодейственных таблеток еще не изобрели, сам любил иной раз надраться до поросячьего визга именно для того, чтобы утром было плохо и оставалась возможность «поиграть в алкоголика» — хлопнуть подряд пару рюмок доброго коньяка, расслабиться и вдумчиво прочувствовать, как отступают перед волшебным напитком озноб, тошнота, тяжесть в голове. Потом, конечно, все возвращалось, пусть в разбавленном, но ведь и в омерзительно растянутом по времени виде — коньяк не был лекарством, если, конечно, ты не уходил в запой. Но это уже о другом.
А вот хэд, хэдейкин, побеждал боль сразу и навсегда, причем любую головную боль: отравление, переутомление, стресс или травма — неважно.
Но до чего ж неудобное слово — хэдейкин! Так и хочется поставить ударение на втором слоге, чтоб получилась смешная еврейская фамилия Хэдейкинд, а следует — на третьем. Говорят, в начале вообще хотели по-немецки лекарство назвать — копфшмерцин. Это было бы еще похлеще. А вообще-то памятник надо ставить изобретателю этой штуки. Впрочем, ему, кажется, и поставили, на родине, в Питере. Точно, вспомнил, на проспекте Обуховской обороны.
Борис Шумахер. Он же не только хэд изобрел — там вообще целая революция была в фармацевтике. Ох, много что-то революций пришлось на те годы. И опять именно северная столица сделалась «колыбелью» — забавно!
«Давно я не был в Питере, — подумал Симон. — Слетать, что ли, на пару дней?»
И тут зазвонил телефон. Не успев толком растереться, Грай совершенно голый прошлепал в комнату, роняя капли с мокрых волос, и, не без труда разобравшись, откуда звон, нашарил трубку в сугробах смятого белья на полу.
«Шустрая вчера попалась девчушка!» — мелькнуло в голове.
— Слушаю, — сказал он, привычным движением мизинца включая запись.
Но записывать оказалось нечего. Абонент подышал и дал отбой. Праздничное настроение сразу испортилось. Начальнику отдела убийств криминальной жандармерии города Кёнигсберга штабс-капитану Граю так просто в трубку дышать не станут. Вчерашняя девчонка звонить не могла: он ей и телефона-то не оставлял. Да и вообще: хотелось ей пикантного приключения с солидным жандармским офицером — она его получила, и скорей, скорей домой к маме, чтобы та ни о чем не подумала. Такие фифочки не звонят на следующий день.
Разумеется, это могла быть Мария. Но почему? Зачем?
С Марией он развелся четыре года назад, когда служил в Речи Посполитой и был поручиком (или, как все время повторяла Мария, засиделся в поручиках). А познакомились они в Метрополии, то есть тогда еще так не говорили — Боже, как давно это было! — познакомились они в Москве, в Полицейской Академии. После была Лапландия, и Персия, и Китай спецподразделения Службы общего контроля МВД. Конечно, тяжело приходилось, но платили неплохо, и вообще — романтика, путешествия, приключения, молодость… Мария повсюду ездила с ним, даже когда родилась Клара. Но годы брали свое. Они все меньше и меньше интересовались делами друг друга. Муж все больше пил в свободное время, жена все больше читала и слушала музыку. Они начали порознь отдыхать. Мария пристрастилась к Африке, заразив этим увлечением и Клару, а Симон, родом из деревушки под Владимиром, как попал, знакомясь с родителями невесты, в ее родной Раушен (кажется, тогда еще Светлогорск), так и влюбился в Балтику сразу и на всю жизнь.
После Китая ему светило назначение в Кенигсберг. От экзотики и разноязыкого восточного говора и его, и Марию уже мутило. Но получился все-таки Вроцлав, и Симон пытался убедить жену: это практически то же самое, ну что такое для них теперь пятьсот километров. Меж тем нового звания ему все никак не давали. Это, наверное, и стало последней каплей. Кларе как раз исполнилось семнадцать — совершеннолетняя дочь формально уже не требовала содержания, — и, когда Симон в очередную субботу напился, Мария заявила наутро:
— Ну вот что, господин поручик, мне надоело. Давай так: либо я, либо бутылка.
Симон долго смотрел на нее, чуть покачиваясь. Было ему плохо, потому что уже тогда следовал он методике полковника Бжегуня не употреблять хэдейкин после вчерашнего, дабы закалять организм. Симон смотрел и думал о том, что когда-то любил эту женщину, может быть, даже совсем недавно, а дочку любит до сих пор, на самом деле любит. А вот она его, в смысле, жена… Впрочем, это ведь уже неважно. Ультиматумов он, Симон Грай, не принимал ни от кого и никогда: ни от родителей, ни от полевых командиров Курдистана, ни от самого наместника в Китае.
— В таком случае, — торжественно проговорил инспектор криминальной жандармерии города Вроцлава, — я выбираю бутылку. Она, по крайней мере, не будет мне указывать, как надо жить.
Цинично раскрыв холодильник, он достал початый пузырек польской водки «Балтик» и сделал глотка три прямо из горлышка.
— Ошибаешься, алкоголик, — сказала жена. — Бутылка уже указывает тебе, как жить. И похлеще меня.
Алкоголиком Грай не стал. Собственно, и тенденции такой не имел: на работе не пил никогда, а работал много. Но вот когда ушла жена, решил запить. Наплевав на работу. Не получилось. Оказалось, это совсем неинтересно. В его-то годы. Пьянствовать вдруг расхотелось вовсе, разонравилось. Назло жене, что ли, раньше-то квасил? Глупость какая! И Симон целых два месяца ни капли спиртного в рот не брал. Подумывал даже, уж не позвонить ли Марии — сказать, что передумал. Но гордость не позволила. Или просто любви уже не было? Конечно, не было. А когда любви нет, при чем тут гордость?
Месяцем позже он получил капитана. А через полгода полковник Войцех Бжегунь принял дела в Кенигсберге от уходящего на пенсию генерала Агапова и взял Симона с собой начальником отдела убийств. Должность была подполковничья, и штабс-капитана дали ему скоро. Вот уж ирония судьбы!
Мария не звонила и не писала. Лишь через год он узнал, что живет она почему-то в Алжире с неким иудеем и якобы Клара тоже ходит в синагогу.
Постепенно Симон привыкал к холостяцкой жизни. Начали появляться в доме девицы, иногда собирались по-молодежному шумные компании, и только летом обычно накатывала тоска, когда по выходным дням он наезжал в домик родителей Марии. Супруги Грай похоронили их еще пять лет назад после нелепой автокатастрофы. Так вот, приезжая в чудесный старинный домик на Взморье, доставшийся ему при разделе имущества, Симон с пронзительной грустью вспоминал бесшабашную молодость, флирт на бульваре, пеструю, опасную по ночам столицу Метрополии в эпоху терроризма, первые свои стычки с бандитами, первые ранения и первые награды, и тихий сказочный городок на берегу Балтийского моря, и тихие карие глаза девушки Марии, красивые, как два темных янтарика, просвеченных солнцем…
Зачем она звонила ему теперь? Опять из-за Клары?
Мокрые следы на полу высыхали быстро: по комнате гулял ветерок, а за окном уже становилось жарко. Симон заметил, что так и не нажал сброс, и трубка, давно перестав гудеть, наигрывала теперь бодрую мелодию из арсенала утренней побудки.
Год назад Мария развелась со своим иудеем и обреталась ныне в Танзании, где нашла работу переводчика-референта в Главном Африканском Консульстве на Занзибаре. Там же стала работать и Клара. И там же девочка их познакомилась с абиссинцем и заявила, что идет за него замуж. Вот когда Мария примчалась в Кенигсберг.
— Уговори ее! Сделай что-нибудь!
— Чем тебе не нравится этот парень? У него мало денег? Или что-то не в порядке со здоровьем?
— Да денег у него куры не клюют и со здоровьем… он же марафонец, но, понимаешь, он хочет, чтобы наша девочка стала гражданкой Британской Империи.
— Подожди, он же абиссинец. Или он протестант?
— Конечно, протестант. Он же занзибарский абиссинец, — пояснила Мария. — Господи, какие глупости тебя интересуют!
— Не такие уж и глупости. А что Клара?
— Клара говорит, что не считает себя россиянкой. Во всяком случае, Мугамо она любит сильнее, чем Родину.
— Мугамо, — Симон попробовал на вкус незнакомое буквосочетание, любопытное имечко.
Потом заметил философски:
— Что ж, это ее право.
— Такое у тебя мнение? Ты искренне так считаешь?! Ты, офицер Российской Империи?!
— Да. Я искренне так считаю.
У него тогда жутко заболела голова, и он проглотил сразу три таблетки хэда.
В полицейской практике Грая однажды встретился наркоман, который глотал хэдейкин пачками, слепо уверовав буквально в рекламу абсолютной безвредности препарата. И что любопытно, физически организм его действительно не пострадал, но парень закончил жизнь в психушке. Героин с хэдейкином — страшная смесь, объяснил тогда Симону знакомый врач. И Грай стал побаиваться чудо-лекарства. С детства он терпеть не мог таблеток а повзрослев, перестал признавать их вовсе. Исключение было сделано для хэдейкина, но теперь он чувствовал, что зря. Конечно, стать наркоманом для него совершенно невозможно. Втыкать в собственное бесценное, Богом данное тело иголку с какой-то дрянью — это представлялось немыслимым, но спиртное… А ведь где наркотики, там и алкоголь. Кто знает, не опасна ли для мозгов незатейливая смесь простого этанола с абсолютно безвредным хэдейкином?
Однако перед тем разговором он ничего не пил, долго не пил, и потому позволил себе три таблетки. Голова прошла, а раздражение — нет. И когда Мария уже уехала, он вдруг понял причину головной боли и острого дискомфорта: он же так обрадовался встрече с женой, а она этим дурацким разговором все испортила.
На свадьбе дочери Симон присутствовал. И еще пару раз виделись они с Марией. Но… не складывалось. Как не сложилось, так уже и не складывалось. Или все-таки еще может сложиться? Зачем она звонила теперь?
Собственно, это могла быть вовсе не она. Просто дыхание было уж очень женским. Но могли позвонить, например, они. Симон так и подумал вначале. Они. Его «друзья» — убийцы, которых всякий жандарм так нежно любит по долгу службы, а они отвечают взаимностью. Разве в бандитских кланах нет женщин? И что им стоит накануне отпуска позвонить и испортить настроение. Знают ведь, гады: угрозами Грая не напугаешь, а вот так — позвонить, подышать и бросить трубку — этого он действительно не любит. Да ну их всех к черту!
Симон натянул теннисные шорты, всунул ноги в пляжные пластиковые тапочки и решил спуститься к почтовому ящику. Газету сегодня, конечно, не принесут, но в ворохе рекламных листков иногда попадаются письма.
Клара, например, в последнее время писала ему регулярно, она очень полюбила этот архаичный способ общения. Сбрасывать мэсиджи по Интернету хорошо приятелям и деловым партнерам, с которыми видишься часто, а тоскующему без нее отцу из далекой Прибалтики надо написать допотопным шариком по бумаге, и запечатать в конверт, и обязательно наклеить настоящую марку, и в большом брезентовом мешке, в гулком трюме почтового лайнера этот конверт полетит над пустынями и морями, как маленький кусочек ее любви, маленький, но материальный, ведь письма сохраняют даже запах. Друзья Симона из разных концов Империи тоже не чурались эпистолярного жанра, особенно Томский из Тайбэя и Пальченко, надолго застрявший в Исламабаде.
Однако до почтового ящика на этот раз дойти оказалось не суждено. В тишине подъезда раздавались очень странные звуки, словно хлопала тихонько самодельная трещотка — кусочек плотной бумаги, приделанный к лопасти вентилятора, а вентилятор крутится все медленнее, медленнее… Да нет же, никакая это не трещотка! Просто капает вода, падает откуда-то сверху… ага, из лифта, заливает стены и пол шахты, а на первом этаже две стены решетчатые, поэтому вода попадает весьма обильно на мраморные плиты самой нижней площадки… Только это не вода. Кровь это.
«Вот и съездил в отпуск» — такой была первая мысль.
А второй не было совсем — не до мыслей стало. Симон быстро и бесшумно нырнул обратно в квартиру, впрыгнул в удобные мягкие ботинки вместо тапочек и с готовым к стрельбе пистолетом снова выскочил на лестничную клетку.
Кап-кап-кап. Кровь продолжала капать. Он вызвал лифт и поднял оружие навстречу неизвестности. Стрелять скорее всего будет не в кого, но об этом можно порассуждать позже. Инструкция предписывает в таких случаях полную боевую готовность.
…А труп выглядел ужасно. Может, и к лучшему было, что Симон Грай не успел позавтракать, хотя, с другой стороны, как раз натощак тошноту ощущаешь сильнее.
В лифте сидел абсолютно голый молодой мужчина враскоряку, брюшная полость его была вскрыта, голова лежала отдельно и так же отдельно лежали гениталии, печень, почки и сердце. Не расчленение, не мацерация, не потрошение даже, а, как бы это поточнее, незаконченная разделка туши кто-то начал и не успел завершить — спугнули. Этажом выше Симон обнаружил брызги крови, длинные по локоть резиновые перчатки и большой самурайский нож. Кровяных следов от подметок не было — убийца попался очень аккуратный. Грай спустился на свой этаж, решив не гонять больше лифт туда-сюда, и еще раз внимательно осмотрел кабину. В самом углу справа лежал квадратик плотной зеленой бумаги. Абсолютно чистый сверху, но перепачканный кровью снизу. С очень высокой степенью вероятности можно было утверждать, что уронил его (или бросил?) убийца. Симон быстро поднял крохотную бумажку, пробежал глазами семь цифр, запоминая их, автоматически отметил: если это телефон, то номер раушенский, и… почему-то не положил листок обратно.
Никогда после, вспоминая этот эпизод, он не мог объяснить, почему поступил именно так.
А в квартире его вновь раздался звонок. Трубка лежала совсем недалеко от двери.
— Ну, здравствуй, господин Грай, — пробасил Бжегунь, — очень хорошо, что ты еще не уехал. Для тебя срочное сообщение.
— Чего ж хорошего? У меня тут такое! Слушай и записывай.
— Нет, Симон, слушать будешь ты. Записывать необязательно. Указом Его Величества…
— Да ты не понимаешь, Войцех, — перебил Грай, — у меня труп в лифте, в моем подъезде, высылай бригаду…
— Знаю, — перебил теперь Бжегунь совершенно равнодушным голосом. Ребята уже выехали. Остынь. Я не за этим тебе звоню. На самом деле срочное сообщение. Отпуск твой отменяется или передвигается. Указом Его Величества тебя переводят в ОСПО. Сегодня же надлежит прибыть…
Бах! Вот уж действительно огорошил! Это что же означает? Убийства его теперь больше не касаются? Перевод в ОСПО. За что такая честь? Мечтал ли он об этом? Хотел ли работать там? Дурацкий вопрос! Там все хотят работать просто не все достойны. ОСПО — Особая Полиция: разведка, контрразведка, идеологический сыск, охрана Императорского Дома, правительственная связь… Что там еще? И куда направят его? Куда бы ни направили, зарплата будет выше. Он поменяет свой пятидверный «Росич-класс» на самый новый «Росич-шик» с ворсистыми колесами, может быть, переедет в одну из столиц, какая же дурочка эта Мария!..
ОСПО. Эти буквы всегда ассоциировались у него с названием древней, давно побежденной и теперь уже почти забытой болезни. Поэтому аббревиатура раздражала, тем более в сочетании со странным рябым лицом генерала Каргина, начальника Всероссийской ОСПО — неужели он действительно перенес оспу? А в народе осповцев звали просто осами. Это было точнее. Ударным спецподразделениям ОСПО выдавали форму черную с желтым. Такие же кители надевало начальство на торжественных приемах: желтые отвороты, желтые петлицы, желтые лампасы. Осы. Красивые, стремительные и злые, если нужно. В единственном числе говорили «ос», а не «оса». Оса — это женщина. А ос звучало совсем как ас. По-английски же организация именовалась Special Police, и тоже получалась забавная игра слов: SP, эс-пи, слышалось aspy, то есть аспидный, змеиный или в другом значении — осиновый, значит, опять почти осиный. Да и оса по-английски близкое слово: wasp — уосп, как это похоже на ОСПО!..
Вся эта осино-аспидная, фонетически-семантическая бредятина тяжелыми волнами колыхалась в голове у Симона, и, рассеянно, полуосмысленно путешествуя по квартире, он понял вдруг, что прослушал какие-то важные слова начальника.
— В общем, чтобы через пятнадцать минут был при полном параде, завершил Бжегунь. — Я тоже сейчас приеду.
— Погоди, Войцех, но ведь моя дочь — гражданка Британии. Как же это меня — и в ОСПО? — успел он спросить то, что вдруг показалось важным.
— Дурак ты, братец, — рубанул полковник, и связь на другом конце прервалась.
Симон достал из ящика письменного стола маленький самогерметизирующийся полиэтиленовый пакет и аккуратно опустил в него зеленый квадратик с телефоном, который, оказывается, до сих пор удерживал с краев двумя пальцами. Потом провел ногтем по тихо зашипевшей гермополосе и спрятал находку между страницами прошлогоднего ежедневника. Все. Осталось только дать показания своим же вчерашним подчиненным. Ладно, это ты переживешь, старик. Но что же так голова-то болит? Он открыл бар, плеснул в низкий толстый стакан граммов сто любимого виски «Ballantine's Gold Seal» и быстро выпил по-русски, ничем не разбавляя.
Они все действительно приехали очень быстро, только Симону вдруг стало совершенно неинтересно, кто и зачем убил этого несчастного в лифте. Хотелось выпить еще, хотелось поскорее заняться делами ОСПО, хотелось, чтобы сейчас, именно сейчас вернулась Мария, и лучше бы вместе с Кларой и Мугамо, еще почему-то хотелось, чтобы Бжегунь не приезжал подольше: если придет Мария, он тут будет совсем ни к чему — короче, выпить хотелось ужасно, как в молодости, но он понимал, что нельзя, отпуск отменили, и очень, очень много дел впереди. А ребята работали шустро: и фотограф, и эксперты, и оперы — видно, вдоволь наглотались хэда, и не скажешь, что кто-нибудь с похмелья. Разве что молодой криминалист Коля Зингер…
Улучив минутку, Коля подошел к Симону и зашептал:
— Послушай, начальник, не нальешь чего-нибудь граммов сто пятьдесят? Башка трещит, сил нету!
— Закаляешься по системе полковника? — улыбнулся Грай.
— Ну да.
— Так ведь преодолевать надо.
— А я бы и преодолел, честное слово. Но кто ж мог подумать, что прямо в праздник вызовут на убийство!
Симон рассмеялся.
— Пошли!
И, заведя младшего товарища в свой кабинет, угостил благородным виски. Ну и себе налил. Капельку. Совсем капельку.
Глава вторая. В КРАСНОМ ДОМЕ
Начальником губернского Управления ОСПО был генерал-майор Хачикян Арарат Суренович. Он сразу же достал роскошную хрустальную бутылку бренди «Васпуракан» и лихо расплескал ароматный напиток по хрустальным же старинным фужерам. Симон подумал, что это обязательная традиция при вступлении в должность, отказаться не посмел и, рискуя слегка потерять ориентацию в пространстве, начал крохотными глотками потягивать волшебную терпкую жидкость. Однако голова удивительным образом прояснялась.
— Хорошо? — улыбнулся Арарат Суренович, читая приятное изумление в глазах новобранца.
— Здорово, — кивнул Симон.
— То-то же! За великую Россию! — провозгласил генерал, и хрустальные фужеры тоненько и мелодично прозвенели в огромном строгом кабинете шефа Управления Особой Полиции по Кенигсберской губернии.
Наверно, все кабинеты в этом доме были огромные и строгие. В нем спокон веку располагались какие-нибудь важные государственные учреждения. Какие именно, Симон, конечно, не знал, но отчетливо помнил, как еще двадцать лет назад над угрюмым и тяжеловесным, похожим на древний замок красно-кирпичным зданием на углу Альте Пилауер Ландштрассе и Книпродештрассе (а тогда еще Дмитрия Донского и Театральной) развевался триколор. Развевался он и теперь — над ГубОСПО, называемым в народе просто Красным Домом. Мария поминала, как венчал эту крышу алый стяг Страны Советов. А родители Марии застали даже нацистский штандарт в те странные времена, когда соседняя улица называлась вовсе не Ханзаринг и не проспект Мира, а попросту Адольф Гитлер, штрассе и выводила она на одну из главных площадей города — Гитлерплатц, она же Ханзаплатц, она же площадь Трех Маршалов, она же площадь Победы.
Все это вспомнилось Симону сейчас, в кабинете Хачикяна, и в общем неспроста, потому что генерал тоже начал свою торжественную речь с истории, только более локальной — органов госбезопасности.
Историю эту Симон в общем знал, но новое краткое изложение выслушал с интересом. Во-первых, начиналось оно от царя-косаря, точнее от царя Ивана Четвертого Грозного, а во-вторых, все акценты были удивительным образом смещены относительно привычных. Малюта Скуратов и граф Бенкендорф оказались национальными героями, а народные заступники типа Разина и Пугачева, всевозможные заговорщики, включая декабристов, и даже Пушкин — предстали не более чем вредоносными асоциальными элементами, просто хулиганами какими-то, посягнувшими на российскую государственность. Еще интереснее было с веком двадцатым: решительно развенчанный маньяк и душегуб Дзержинский в этих стенах вновь сделался кристально чистым борцом за правду, но особенно неожиданно было, что давно канувший в небытие и ничтожный, по мнению Грая, Юрий Андропов изображался величественной фигурой эпохального масштаба. И даже один из недавних деятелей — начальник Всероссийской Императорской Тайной Полиции (предыдущее название ОСПО) Кузьма Голованов почитался здесь как едва ли не главный архитектор возрождения новой России.
Трудно сказать, верил ли Хачикян всему, что говорил, но похоже было, что верил, иначе не дослужился бы до генерала.
— С историей пока все, — завершил он, — а основные задачи Органов на сегодняшний день таковы: защита государственных интересов Российской Империи, обеспечение внутриполитической стабильности и решительное противодействие важнейшим дестабилизирующим факторам — организованной преступности и коррупции, терроризму и политическому экстремизму, экологическому и технологическому произволу, идеологическим диверсиям и разведдеятельности британских спецслужб.
Симон с умным видом кивал, упорно борясь с подступающей зевотой, и вдруг в ужасе осознал, что не сумеет повторить, казалось бы, четкую и понятную формулировку генерала. Все слова были на удивление скользкие и незапоминающиеся. Неужели молодчики Малюты Скуратова тоже заучивали подобную белиберду? Вряд ли. Когда же это началось?
— Ладно, — сказал Хачикян веско. — Через месяцок-другой мы будем формировать группу на курсы повышения квалификации, там и позубрите теорию, а пока объясняю: вас, штабс-капитан Грай, перевели на должность старшего оперуполномоченного отдела внутренней контрразведки Управления Особой Полиции по Кенигсбергской губерниии. Звание у вас тут — поручик (Симон про себя грустно рассмеялся), непосредственный начальник, он же начальник отдела — подполковник Котов, выше — я, а еще выше — Метрополия. Подразделение ваше структурно входит во Второе главное управление КГБ. Вот все, что пока необходимо вам знать. Вопросы?
— Почему КГБ?
— Потому что Особая Полиция, эс-пи, осы-шмосы — это все для прессы и для народа, а мы здесь, внутри, к переменам названий не привыкли. Сколько уж было перемен, а КГБ оно и есть КГБ. И друг друга мы называем чекистами. Да и, кстати, обращение, принятое между собой, — «товарищ». Прошу обратить внимание, товарищ Грай, никакого отношения к коммунизму и коммунистам это не имеет. Политически все мы — формально или неформально — члены имперской патриотической партии. Но обязаловки нет. Парткомов и партийных ячеек, если вы знаете, что это такое, теперь в КГБ не существует.
— Знаю, — сказал Симон, — в МВД пытались ввести.
— Разумеется, — кивнул генерал, — как же я забыл об этом. Еще вопросы?
— Понижение в звании…
— Это не понижение. Поручик в Органах — это никак не меньше подполковника в любом другом месте. А потом, вы же после отпуска выходите в свой родной отдел в жандармерии. Нагрузки там будут существенно сокращены, но как ширма это место за вами останется на какое-то время. Пока только товарищ Бжегунь будет в курсе. Он давно наш внештатный сотрудник. А вы приняты в штат.
— Почему именно я?
— Такие вопросы, Симон, мы привыкли относить к области лирики, поэтому будем считать этот разговор законченным. А сейчас я представлю вам нашего товарища из Москвы Микиса Антиповича Золотых. С ним поговорите — может, что и пояснее станет.
Хачикян нажал какую-то кнопку на столе, и в кабинет вошел сухощавый человек в строгом костюме, но без галстука, с длинным носом и большими залысинами. Передвигался он порывисто и бесшумно, как охотничий пес. Симону сразу подал руку и отрекомендовался очень просто — Микис, словно был обыкновенным агентом, а не представителем Метрополии. Меж тем генерал Хачикян поднялся навстречу ему откровенно подобострастно. Глубоко посаженные глаза товарища из Москвы смотрели уверенно, спокойно и (может быть, Симону почудилось) чуть насмешливо. Рукопожатие оказалось неожиданно вялым, что прозвучало в диссонанс со взглядом и походкой. Мелькнуло смутное воспоминание. Был в жизни Симона такой человек. Где? Когда?
Микис раскрыл папочку крокодиловой кожи и извлек документ на помпезном гербовом бланке, начав читать который, Симон мгновенно забыл обо всех своих туманных догадках.
«Сим удостоверяется, — гласила эта верительная грамота, — что поручик Особой Полиции Грай Симон Аркадьевич (служебное имя — Смирнов Павел Сергеевич) поступает на условиях временного подчинения в полное и безраздельное распоряжение начальника Первого отдела Собственной Его Императорского Величества канцелярии генерал-лейтенанта Золотых Микиса Антиповича».
Ниже стояла гигантская багровая печать с двуглавым орлом и размашистая подпись: «Государь-император Всероссийский Николай Третий».
«Это уже не „Росич-шик“, это уже на личный вертолет тянет», мелькнула дурацкая мысль, но давний инстинкт вышколенного вояки сработал независимо от всех мыслей: даже не будучи в форме, Симон Грай вытянулся тем не менее по стойке «смирно», выкатил глаза и оглушительно, залихватски щелкнул каблуками:
— Служу царю и Отечеству!
— Вольно, поручик, ознакомьтесь вкратце с основными материалами нашего с вами дела.
Он пододвинул Симону толстую папку с шелковыми тесемочками, а сам сел, раскрыл неспешно золотой портсигар и закурил тонкую черную сигарету.
«Черт, как к нему обратиться? Господин генерал-лейтенант, товарищ генерал? Или просто по имени-отчеству?»
— Микис Антипович…
— Просто Микис, мы же с вами ровесники.
— Микис… («Какой ты мне, к черту, Микис!») Я все это должен сейчас прочесть?
— Просмотреть. У вас есть двадцать минут, Симон. Потом мы прогуляемся по городу и поговорим. А завтра вернетесь к подробному изучению материалов. Лады?
Дым черной сигареты обладал странным, дурманящим запахом, будившим неопределенные, далекие воспоминания: другие страны, Москва, лес под Владимиром, юность, мечты, детство, и все это пронизано щемящей грустью… Ладно. В сторону. Что здесь, в папке?
Ага. Беспорядки в Пиллау. Понятно. Это он помнит хорошо. Дело о двойниках. Темная история. Тухлая. Так. Личное дело Ланселота. Странно. Зачем? Ограбления на Рингштрассе. Ну просто каша какая-то. Дело о маньяках. Совсем свеженькое. Даже подложен утренний факс Бжегуня. Так-так. А это что? «Официальная справка о Всемирном Братстве Посвященных». Приплыли. Уже и наши ханурики помешали кому-то в ближайшем окружении Государя. Держись, Симон. Сегодня главное — не сойти с ума.
Братство Посвященных. Впервые он услыхал о них во Вроцлаве. Там были свои местные чудаки. Называли их сектой, и против Посвященных выступали наиболее ревностные католики. Дело дошло до молодежной потасовки, полиция вынуждена была вмешаться, и Бжегунь, уже ожидавший перевода в Кенигсберг, прослышав, что именно Восточная Пруссия славится самой массовой общиной Посвященных, проявил к необычным сектантам повышенный интерес. Впрочем, сразу после переезда интерес Бжегуня быстро увял: от религии и философии был он далек, а ничего криминогенного Посвященные из себя не представляли. Разве что место для своих сборищ выбрали они странное — знаменитый Обком на Центральной площади.
Говорят, когда-то возвышался на берегу Прегеля замок Фридриха Вильгельма Первого — красивый, величественный, прочный — на века строили. Но, как выяснилось, недостаточно прочный. На век двадцатый ни один строитель рассчитать не сумел. Страшная весна сорок пятого превратила весь город в руины, но это бы еще полбеды — замок как раз практически устоял. Однако уже лет через пять недобитое артиллерией и авиацией легендарное сооружение ничтоже сумняшеся пустили на кирпичную крошку для широко развернувшегося в городе строительства. Целые кирпичи из древних стен как-то не выковыривались, и процесс разгрызания архитектурного памятника затянулся непомерно. Но в 1968 году все, что поднималось выше уровня земли, было решительно взорвано — назло германскому реваншизму и всему мировому империализму. И наконец, еще через десяток лет на месте замка принялись возводить Дворец Советов… Или нет, Дворец Советов в Моск
ве строили, а тут, кажется, Дворец Молодежи или Дворец Съездов, в общем, строил его Обком, и на дворец сооружение мало походило — так, нечто среднее между тюрьмой и научным центром. Махина выросла побольше, чем у Фридриха Вильгельма — общее широкое основание и две башни высотой метров под сто с висячим переходом на средних этажах.
Но тут грянула перестройка, и всем стало ни до чего. Партийное финансирование прекратилось, а другого никто не открыл. В бюджете города хватало денег лишь на условную охрану незавершенного строительства и поддержание забора вокруг него в приличном виде. Потом, в период дикого капитализма, уважение к заборам сделалось анахронизмом, а государственных, в смысле ничьих, денег не стало вовсе, поэтому стены циклопического сооружения начали кое-где потрескиваться, а кое-где порастать мхом. Стекла в значительной части окон оказались побиты, полы и лестницы загажены, кучи строительного мусора смерзлись в недвижные монолиты, а в верхних этажах поселились птицы. Серый, страшный, недостроенный дворец стал достопримечательностью города, вызывавшей грустные понимающие усмешки у русских и полнейшее недоумение у немцев, все чаще посещавших родину предков, вновь открытую для них демократами России. И вроде бы деньги уже не были проблемой, просто не сложилось единого мнения: то ли достраивать, то ли демонтировать, то ли восстанавливать древний замок, то ли возводить нечто ультрасовременное. Решить не успели. Пришествие новой Российской Империи обкомовский дворец встретил с пустыми глазницами окон и пробоинами в стенах, словно и не шесть десятков лет назад, а только что закончилась Вторая мировая. И тут в очередное смутное время появился некто Петер Шпатц из Германии с огромными деньжищами. «Покупаю», — сказал он. И ему продали. Думали, он все отстроит и сделает красиво, как в Мюнхене, а он купил, да так все и оставил.
Шпатц был Посвященным.
Вскоре он умер, а наследником своим сделал Владыку Всемирного Братства Посвященных господина Уруса Силоварова, тут же вернувшегося из Америки на историческую родину и поселившегося непосредственно в Обкоме. Так теперь называли эту ублюдочную громадину в самом центре древнего Кенигсберга. Новые местные власти пробовали подкатить к Урусу с различными предложениями относительно архитектурных проектов. Но Силоваров был глух. Ему требовался Обком, и именно в таком виде. Юридически частная собственность на землю и прочую недвижимость считалась неприкосновенной, а невменяемость владельца доказать не удалось. Вообще-то никто в городе не сомневался, что старик Урус — шизофреник, как, впрочем, и прихожане его — чокнутые, но вместе с тем нельзя было не понимать, что с его деньгами такие зыбкие понятия, как вменяемость или умственная полноценность, теряли всякий смысл в судебных разбирательствах любого ранга.
Итак, еще больше десяти лет в верхних этажах Обкома живут птицы, чуть ниже — Наследник Птицы, как, в частности, звали Силоварова (шпатц по-немецки «воробей», а немецкий был родным языком для многих в Кенигсберге), еще ниже — духи сотрудников Обкома (то есть там никто не живет, но этих этажей суеверно боятся все), а в самом низу ютятся всевозможные бродяги, нищие, юродивые, калеки, по странному, никому не ведомому принципу пропускаемые внутрь охраной. Охрану Обкома осуществляла по изначально установленной традиции собственная служба безопасности Посвященных, и была она организована столь серьезно, что не только зеваки не могли пройти на священную территорию, но и ни один агент, российский ли, британский ли, так и не сумел проникнуть в святая святых Всемирного Братства.
Еще известно, что в Обкоме никогда не было совершено ни одного уголовного преступления. Вот почему жандармерия и лично Войцех Бжегунь не проявляли к Посвященным никакого интереса. Особая Полиция — дело другое. У этих интерес был, жгучий интерес, но тоже лишь поначалу. Как это: на территории Российской Империи государство в государстве?! Кто он, этот самозваный Владыка, не признающий никаких законов, ни людских, ни Божьих?
Вообще-то Урус Силоваров был известным правозащитником брежневской поры, пострадавшим за свои убеждения и в перестройку эмигрировавшим в Штаты. Авторитет его был весьма высок не только в России, но и в мире вообще, однако в последние пятнадцать лет даже старые друзья-диссиденты, коих осталось, разумеется, немного — все-таки старику Урусу было уже под девяносто, — считали ветерана борьбы за права человека окончательно выжившим из ума. Почему же все деньги Шпатца достались ему? Не было разве среди Посвященных более молодого и более нормального человека? Конечно, были. Но… у богатых свои причуды.
Одним словом, в ОСПО более или менее разобрались, что к чему (так им показалось, что разобрались), и до поры успокоились. Окончательно тихо стало после большой публикации в «Российской газете», корреспондент которой году так в двенадцатом беспрепятственно проник в зловещий Обком, свободно походил по всем этажам и лично поговорил с Владыкой Урусом. Статья называлась почти игриво: «Каждый сходит с ума по-своему». Пресса не усмотрела в Посвященных ничего опасного. А и впрямь, что в них было такого?
Что-то такое было.
По молодости лет Симона, наверное, увлекла бы сама идея их Братства, в основе которого лежало знание, а не вера. Что-то подобное он слышал в свое время о буддизме, когда жил в Китае. Но буддизмом не увлекся, слишком уж все далекое, чужое. Посвященные были ближе, но только на первый взгляд. Интуитивно он чувствовал, что на самом деле они еще дальше, словно выросшие без тебя дети, другое, абсолютно незнакомое поколение. Помнится, он как-то заговорил с Кларой о Владыке Урусе и сравнил его с Буддой.
— Папка, да ты же ничего не понимаешь, — удивилась его взрослая дочь. — Буддизм — это все-таки религия, хоть и непохожая на остальные. А у Посвященных не просто нет Бога. Посвященные имеют не большее отношение к церкви, чем к той партии, в Обкоме которой они собираются. Ты только вдумайся, папка: не верить в загробную жизнь, а знать, что она существует. Это сильно.
Вдуматься в это у Симона как-то не получалось. И зацепило его совсем другое:
— А что ты знаешь, дочка, о той партии?
— Да и пес с ней, — ответила Клара беззлобно. — А что ты, папка, знаешь, о Посвященных? На вот, прочти. Вот отсюда хотя бы…
Симон прочел:
— «Не умирает человек, а просто переходит в мир иной». Что ж, это не ново.
— Ты дальше читай, дальше.
— Ладно. «А что есть иной мир? Так называем мы, не ведая истины, следующий уровень постижения Вселенной. Мир един, и уровней в нем девять. Таковы же и цвета радуги. Умирая на Первом, низшем уровне — уровне неба, попадает человек на Второй, красный, — уровень физического бессмертия. Умирая на Втором, перемещается на Третий, оранжевый, - уровень независимости от пространства. Далее — Четвертый, желтый, — уровень независимости от времени. Потом — Пятый, зеленый, — уровень независимости от энергии. Следующий — Шестой, голубой, — уровень независимости от энтропии, полное владение информацией. После — Седьмой, синий, — уровень Демиургов, свободно творящих миры. А еще выше — Восьмой, фиолетовый, уровень тех, кто свободен от рук Демиургов, уровень абсолютной свободы. Но есть Девятый уровень. Он выше абсолютной свободы. Что может быть выше абсолютной свободы? Об этом знают те, кто вернулся. Но с Девятого уровня не возвращаются. Или возвращаются и молчат, ибо в молчании высшая мудрость. Но спрашивает Владыка у вас: какой же цвет выше фиолетовой ленты у радуги?
И сам отвечает: цвет неба. Цвет неба — это восьмой цвет радуги. Дети рисуют радугу цветными карандашами, а небо вокруг нее, угрюмое грозовое небо, — простым, поэтому восьмой цвет радуги — это простой цвет. Он и выше фиолетового, и ниже красного. Так не один ли это уровень, спрашивает Владыка, высший и низший, Первый и Девятый — уровень простого цвета неба?»
Необычная философия, признаться, увлекла Симона, да и весьма поэтичный стиль изложения не позволял прерваться, но откровенная ахинея под конец, словоблудие о простом карандаше добило его.
— Что это? — спросил Симон. — Что это за бредятина?
— Изложение космогонической концепции Посвященных. Интересно?
Симон заглянул на обложку.
— Так это же фантастический роман. «Заговор посвященных». Художественное произведение. Понимаешь?
— Ну и что? Может быть, автор его действительно Посвященный. Только в такой форме он и мог рассказать людям истину. Кто бы ему позволил сделать это иначе?
— Какая чушь! — возмутился Симон. — Давно прошли те времена, когда не позволяли говорить правду.
— А это и было давно, па. Роман-то не новый. Там действие начинается в восемьдесят третьем году прошлого века. Простой советский экономист Давид Маревич обнаруживает вдруг, что он экстрасенс…
— Погоди, а автор-то кто?
— Тут не написано.
— Как не написано? Стоп, стоп. — Новая мысль перебила предыдущую. — Ты что же, хочешь сказать, что сначала был роман, а уж потом братство?
— Не знаю, может быть.
— Ну и ну! — засмеялся Симон. — И уже много лет эти несчастные больные люди — с немалыми деньгами, между прочим, — разыгрывают сценки из фантастического романа. Потрясающе! Играют как дети, и ничего им больше не нужно…
На этой веселой ноте и закончился тогда разговор. Что-то отвлекло Симона. На следующий день Клара уехала.
А его по работе ни с какой стороны не интересовали эти Посвященные. И он про них опять забыл.
Вспомнил теперь. Когда получил особую папку из рук чиновника такого ранга, что дух захватывало. Шеф Первого отдела Императорской канцелярии. Кто важнее: он или Каргин — рябой начальник большого КГБ? В субординации ихней (то есть, что он — нашей, теперь уже нашей!) Симон еще не до конца разобрался, но контора была всюду одна, это же очевидно. И контора эта, то есть Органы интересовалась вплотную Посвященными, хануриками, да еще в контексте страшной уголовщины последнего года, его подотчетной уголовщины. Вот именно. Как раз блатные и стали называть Посвященных хануриками. Года три назад блатные вдруг проявили интерес к Обкому. В жандармерии объяснение дали примитивное: скопление бродяг и юродивых всегда волнует преступный мир. Но, может, все не так просто? А пару месяцев назад, когда в связи с очередным странным убийством подпоручик Зильберман раскручивал по новой дело о двойниках, неожиданно позвонил Ланселот — сильный криминальный авторитет еще с девяностых годов — и сказал:
— Шеф, ты меня знаешь, я своих отмазывать зря не буду. Но двойники это ханурики. И наши их никогда бы не тронули. У меня все.
А потом появился так называемый маньяк. Маньяк и Посвященные связывались воедино легко. Все они там маньяки. Но бродяга Лэн… Ох как не понравилось Симону личное дело Ланселота в этой особой папке. Неужели в ОСПО известно об их конспиративном и сугубо конфиденциальном общении?
Он посмотрел на часы. Истекала восемнадцатая минута.
— Скажите, Микис, кто собирал документы для этой папки?
— А вы молодец, Симон. Документы для этой папки собирал Роликов. Сотрудник КГБ. Он не успел объяснить нам принцип подбора. Его убили. Так что объяснять все это предстоит вам, поручик. А теперь пойдемте погуляем.
Глава третья. ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ
— Поручик, а не пора ли нам пообедать?
Микис одним глазом косился на свой «Ролекс» — в ярких солнечных лучах циферблат часов играл бриллиантами, каждый из которых тянул на добрую тысячу, не меньше, — а другим глазом щурился на собеседника. Было в этом что-то очень неестественное.
— Если учесть, что я сегодня не завтракал…
— Тем более. Пойдемте в кнайпе. Тут на Глюк-штрассе есть чудесный погребок.
Приезжий никогда не сказал бы «кнайпе». Да и погребок на улице Глюка не входил в число самых знаменитых заведений города. Правда, пару лет назад поговаривали, что там встречаются агенты британской разведки. Но при чем здесь это? Симон удержался от вопроса, и некоторое время они шли молча.
— Скажите, Микис, а вы всегда вот так запросто ходите по улицам?
— Да. А что? — живо откликнулся Золотых. — Я же не кинозвезда. Признаюсь вам, терпеть не могу личную охрану.
— Вы хотите сказать, слишком заметную охрану? — спросил Симон и внимательно посмотрел на тяжелый, похоже, бронированный «мерседес», стоявший до сих пор возле парадного подъезда ОСПО, а теперь тихо тронувшийся вслед за ними.
— Браво, штабс-капитан! — похвалил Микис.
— Спасибо. В жандармерии тоже кое-чему учат.
Напряженность между ними все усиливалась, и было такое ощущение, что Золотых это мешает еще больше, чем Граю. Очевидно, он безумно устал от чинопочитания и подобострастия. Но что поделать, уж больно высоко ты залетел, мужик. Учись у царя-батюшки, он-то, наверно, не комплексует. Ну да, ему, родимому, вверх смотреть не надо, только вниз. А ты, Золотых, как ни щурься на народ, другим глазом все равно вынужден на «Ролекс» коситься: сколько там минут до аудиенции у Государя? Пять? И, значит, все, не до вас, мои меньшие братья. Вот такой он неестественный, твой демократизм, товарищ генерал!
Однако сидя в кнайпе со странным поэтичным названием «Цурюкгецогенхайт», то есть «Уединенность», и поедая заливного осетра под легкое пиво, а потом запеченные куриные бедрышки под пиво покрепче, оба они оттаяли. Микис закурил очередную свою аспидно-черную сигарету угрожающего вида и произнес:
— Признайтесь, вы узнали меня?
— Признаюсь: не узнал. Но точно помню: где-то раньше видел. И не по телевизору.
— А меня и не показывают по телевизору. Мы с вами учились вместе. — И Микис добавил после паузы: — Давно это было.
Но Симон уже вспомнил: Москва, Покровский бульвар, Полицейская Академия. Шальные вечеринки и их бессменный тамада — балагур, бабник и пьяница Мишка Тихонов с параллельного потока.
— А почему вы тогда были Тихонов?
— Потому что уже тогда работал на КГБ.
— А почему теперь Микис?
— Так у меня же мать гречанка. Из Абхазии. Это мое настоящее имя. Ну ладно, Симон, наливай, выпьем на брудершафт. Конечно, без всех этих глупостей с переплетением рук и поцелуями. Видишь, как легко переходить обратно на «ты»…
Кого еще он встретит сегодня? Что еще случится? Не иначе, приедет Мария и представится фрейлиной Британского Королевского двора…
Да, конечно, генерал Золотых предпочел иметь дело со старым знакомым, но и послужной список Симона Грая сыграл, надо думать, не последнюю роль. А специально наведенные справки подтвердили уже сложившийся в представлении высокого сановника образ мужественного, очень неглупого, высокопрофессионального, да, небескорыстного, да, любящего выпить, да, неравнодушного к женщинам, но искренне патриотичного, исполнительного, верного Царю и Отечеству российского офицера. Из таких и формировали спокон веку Органы, а сказки о кристально честных фанатиках с чистыми руками, холодными мозгами и раскаленным, как «пламенный мотор», сердцем — все это чушь, равно как и страшилки про бесчувственных монстров, садистов и кровопийц. Сам Золотых по окончании Академии отбарабанил десять лет в разведке. (Вот откуда привычка изучать заранее город, в который едешь, и как бы легендированное общение с любым незнакомцем.) От младшего офицера группы обеспечения в Эквадоре дослужился до резидента в Лондоне. А дальше Метрополия и стремительный, впрочем, уже вполне естественный взлет карьеры, потому что глава резидентуры во вражеском логове — это ведь уровень почти министра.
— Поверь, Симон, уж если я приехал сюда лично, значит, дело дрянь.
Вот этого он мог бы и не говорить. От папочки, набитой столь разнородными материалами, за версту веяло то ли чертовщиной, то ли цареубийством и государственным переворотом.
— Как погиб этот Роликов? Расскажи.
На улице было тепло, почти жарко, после уютного погребка хотелось опять куда-нибудь в прохладу, и они сами не заметили, как вышли к Замковому пруду.
Полковник Роликов, служебное имя — Верд, был одним из лучших следователей Второго управления. Работал в Кенигсберге конспиративно под именем Кнута Найгеля почти месяц. Жил на побережье, в Кранце, — лето все-таки. В город наезжал как бы невзначай, контакты устанавливал исключительно осторожно, информацию получал только по спецканалам и напарников, даже для подстраховки, не имел. Убили его минувшей ночью там же, в Кранце, а вместе с ним и хозяйку дома. Бедняга некстати оказалась рядом и тоже получила пулю в затылок. Расследование, порученное Верду, курировал лично генерал Золотых. Вот почему он прилетел в Кенигсберг уже через час после того, как Роликов не вышел на очередной сеанс связи.
— Наши сотрудники сделали все необходимое, — пояснил Микис. — Теперь это дело будет вести твой заместитель по отделу убийств Дягилев. К сожалению, в интересах следствия ему не предоставят нашей информации. Пусть отрабатывает чисто уголовную версию.
— А разумно ли это? — удивился Симон.
— Разумно, — жестко ответил Микис. — И никакой самодеятельности! Исключительно ты и Бжегунь будете в курсе. И то Бжегунь лишь предупрежден о нашем контроле за расследованием и о необходимости ежедневных отчетов. Полная информация в том объеме, каким владел Верд, будет только у тебя.
— Спасибо, — медленно проговорил Симон. — А мне предоставят охрану?
Они уже обогнули пруд и, перейдя его теперь по мостику, двинулись обратно, к Северному вокзалу и дальше, в сторону Западной окраины. Микис долго молчал, и Симон подумал, что задал риторический вопрос или попросту неудачно пошутил. Он же солдат, первый раз, что ли, на смерть посылают? Но Микис, вдруг повернувшись, печально сказал:
— Нет, Симон, тебе не понадобится охрана. Видишь ли, мы тут столкнулись с такими силами, от которых охрана не спасает…
Последняя фраза далась генералу с трудом, и Симон, еще произнося полунебрежно «Ой ли!», перехватил его взгляд и буквально поперхнулся: было в этом взгляде нечто совершенно неуместное — не страх, нет, а какая-то почти детская растерянность и обида.
— Так у КГБ есть своя версия происходящего?
— Есть. Мы считаем, что все это — заговор Посвященных.
Симон вздрогнул. Где он слышал уже однажды такое сочетание слов? Ах да, фантастический роман, который цитировала ему Клара. Господи, как же все перемешалось! Какой еще заговор?!
— Какой еще заговор? — непочтительно вопросил Грай, но это получилось автоматически, машинально — продолжение мыслей вслух.
— Обыкновенный заговор. — Микис грустно улыбнулся. — Люди чудныiе, ситуация дикая, а заговор совершенно обыкновенный. Ты должен это понять. Вот скажи: среди документов из папки Верда было что-то новое для тебя?
— По сути? — задумался Симон. — По сути практически ничего. Эти материалы так или иначе проходили через мои руки. Вот только сваливание всей пестрой разнобобицы в одну кучу, пожалуй, ново.
— Это понятно. Ну а справку о Посвященных ты успел прочесть?
— Ты не просил читать. Я просмотрел.
— О Посвященных — это самое главное. Прочтешь внимательно. А сейчас… — Он снова посмотрел на часы.
У меня не слишком много времени. Поэтому в первую очередь я буду рассказывать то, что от других ты вряд ли сможешь услышать.
Теперь они сидели на трибунах пустующего в этот час стадиона «Балтика» и снова потягивали пиво.
— А ты действительно не любишь свою охрану, — заметил Симон Грай. Весь день мотал их, бедняжек, по городу. В экстремальных условиях ребята ишачили. Пускай хоть теперь отдохнут.
— А-а, оставь, Симон! Все это такая ерунда…
— И ты на самом деле не боишься вражеских агентов, покушений? Ведь обстановка, сам сказал, дрянь.
— Дрянь. Но я действительно не боюсь никаких обычных опасностей. Видишь ли, я так давно думаю о Посвященных, что иногда мне кажется, будто я сам Посвященный, потому и не боюсь смерти.
— А такое может казаться? — спросил Симон.
— В том-то и дело, что нет. Посвященный всегда знает, что он Посвященный. Обязательно знает.
Вдалеке раздался громкий и очень неприятный звук: долгое тоскливое «у-у-у-у» нарастало крещендо, потом стихало медленно и вновь взмывало высоко к небесам. Очень похоже на сирену полиции или «скорой помощи», но все-таки не сирена.
Микис встрепенулся, едва не выхватывая оружие. Даже телохранитель вынужден был обнаружить себя, показываясь в проходе под трибуной.
— Моя машина! — И повторил с некоторым сомнением в голосе: — Моя машина?..
Симон улыбнулся, уже догадавшись, что это.
— Это со стороны Тиргартенштрассе.
— Правильно, я там и оставил автомобиль.
— Это не автомобиль, мой генерал, это гиббон.
— Что?!
— Ты немецкий знаешь?
— Немножко.
— Хватит и немножко. Это же Зоологическая улица. Город он изучал! Великий шпион. Там же зоопарк, а в зоопарке паукообразный гиббон. Он часто так кричит. Кушать хочет, наверно…
Взгляд Золотых сделался вдруг стеклянным, и Симона мгновенно бросило в жар. Что это он разболтался, как с приятелем на дежурстве? Дружба дружбой, но ведь нельзя забывать, кто перед тобой.
Генерал нервно хохотнул и отчеканил ледяным тоном:
— У нас мало времени, поручик. Слушайте.
Да, именно так: слушайТЕ.
— В КГБ очень давно интересовались Посвященными.
К девяностому году ими занимался уже целый отдел в Пятом главном управлении. А потом случился девяносто первый год, и Пятого управления не стало. С легкой руки известных товарищей. Что в таких случаях происходит с архивами? По-хорошему, в цивилизованных странах, например, их четко, по описи, передают правопреемникам. Но где уж там по-хорошему, когда подвешивают на тросе бронзового «железного Феликса», а на красный флаг нашивают сверху полоски не совсем привычных цветов. Тут уж спасайся кто может, и архивы, конечно, уничтожались. О, как стремительно канули в вечность колоссальные материалы по карательной психиатрии, как растворились в небытии тонны доносов, приговоров, протоколов, списки сексотов, палачей, труды теоретиков идеологического фронта! Конечно, уничтожили не все. Единодушия не было. Каждый норовил порубить в капусту и сжечь все про себя, а про другого норовил сохранить, спрятать, предать огласке. Впрочем, до последнего дело практически не дошло, а уж кто что и где сохранил — вопрос особый. Мне об этом по определению, то есть по положению, известно если не все, то почти все, но пусть эти зловонные бумажки, пленки и дискетки, сочащиеся ядом, догнивают все в тех же сейфах, может, хозяева хранилищ задохнутся наконец от гадких испарений — туда им и дорога, да и вообще не о них речь. А речь о том, что все архивы отдела, занимавшегося Посвященными, исчезли полностью и без малейших следов уничтожения. Словно и не было их. Кто-то воспользовался моментом, и воспользовался просто виртуозно. Это первое.
Второе. Посвященные действительно точно знают, что после смерти будут жить. И даже если рассматривать такую особенность как разновидность психического отклонения, все равно это очень важно. Ведь подобное отклонение не мешает индивиду оставаться социально полноценным, а сама по себе искренняя убежденность (не вера, а именно убежденность!) в собственном бессмертии, вне всяких сомнений, формирует принципиально новый тип человека. И уже в этом мы всегда видели угрозу нашей государственности, нашей вере, нашему миру.
Третье. Что, если Посвященные действительно каким-то образом научились видеть тот свет? Вспомни работы Калиновского, Моуди, Кюблер-Росс. Ах да, ты же ничего этого не знаешь. Тебе еще предстоит прочесть. В общем, речь там идет об однотипности видений тех, кто пережил клиническую смерть. «Ну и что? — спросят нас. — Пусть лицезреют тот свет при жизни. В чем опасность?» Так ведь это же грех. Не можно это: по собственному желанию туда и обратно. Если они умеют такое, значит, рано или поздно прогневают Бога и разрушат наш мир. А они, похоже, это умеют.
Четвертое. И последнее. Мне удалось найти одного — только одного! сотрудника того отдела. Теперь уже и он умер. Штатный офицер госбезопасности. Он был почти невменяем, когда мы разговаривали. Он цитировал канонические тексты Посвященных, тексты, как он уверял, нигде не записанные, и мне записывать не велел. Правда, только на бумаге — на пленку, сказал, можно. Я обещал и сдержал обещание. Кое-что из той записи я помню наизусть. Ну вот, например:
Дальше очень длинно и нудно об этих девяти уровнях, о концепции «восьмого цвета радуги», но вот еще одна цитата, слушай:
Симон слушал, но был уже не здесь. Стадион вдруг представился ему жерлом проснувшегося вулкана, пожухлая трава футбольного поля заколыхалась, вскипела и стала подниматься, как раскаленная лава, выше, выше, растворяя одну за другой бетонные ступеньки, сжигая прилепленные к ним легкие пластиковые кресла, а в небе расцветали ядовито-яркие, одна на другую наползающие радуги…
Симон закрыл глаза и помотал головой, стряхивая наваждение.
— …один из возможных путей человечества, — откуда-то издалека проговорил Микис. — Вот, собственно, и все, мой друг. Время наше истекает. — Теперь он был совсем рядом и приветливо смотрел на Симона. — Ты что-то хотел сказать?
Симон многое хотел сказать. Например, о фантастическом романе «Заговор Посвященных». Ведь не бывает таких совпадений. Таких страшных совпадений. О клочке бумаги с телефоном, найденным в лифте, в луже крови. Ведь именно для того и скрыл он находку от родной жандармерии — предвидел, предчувствовал, что станет осом и именно чекистам доверит главную тайну. И еще хотел сказать о Ланселоте, что не враг он и не ханурик, — ну хотя бы для того, чтобы не замели его лучшего агента под горячую руку… Но Симон вдруг понял, что ничего этого говорить не надо. Может быть, даже нельзя. Во всяком случае, сейчас. И он так и ответил придворному генералу:
— Не сейчас.
— Правильно, — одобрил Микис, — не торопись. Я дал тебе вводную. Пока достаточно. Материала много, очень много. Его надо освоить, осмыслить. Конечно, ты должен все делать быстро, но не спеша. Фи, какие банальности я объясняю опытному жандарму! И последнее. Зайди в Обком. У тебя же есть туда доступ. Побеседуй с ними. С Владыкой побеседуй. Лучше прямо сегодня. Ферштейн? Или ты немецкого не знаешь? — подколол напоследок.
Симон улыбнулся. Они уже стояли у ворот стадиона на улице. Микис собирался идти к своей машине в сторону зоопарка, Симон — к своей, припаркованной напротив ОСПО, и начальник отдавал последние распоряжения:
— Связь со мной через Хачикяна. И только на крайний, исключительный случай — вот этот прямой телефон. — Он протянул визитку. — Уже через два часа я должен быть при дворе… Бог мой! Чуть не забыл. («Лукавит, подумал Симон, — такие люди, как Золотых, ничего не забывают».)
В папке Верда не хватало еще одного документа. Он не успел получить его, а только запросил из Санкт-Петербурга. У нас никто не понял, зачем. Документ называется «Историческая справка об изобретении препарата хэдейкин».
— Принято, — сказал Симон. — До свидания.
Пожал протянутую руку и почти тут же закрыл глаза, потому что ощутил острую головную боль.
«Этого не может быть, — убеждал он себя. — Боль не может отвечать на мои мысли. Так не бывает».
Но боль отвечала. Он раскрыл глаза и зачем-то посмотрел на солнце. Солнце было черным. Он еще раз закрыл их и снова открыл, а потом посмотрел просто вдаль. Не мираж и не дьявол, а Микис Антипович Золотых в штатском и без свиты уходил по улице в сторону зоопарка порывистой мягкой походкой.
«Перебор, — думал Симон Грай. — Явный перебор».
Мог ли он знать в тот момент, что это еще далеко не все.
А из обезьянника, протянувшегося аккурат вдоль Тиргартенштрассе, снова закричал паукообразный гиббон. Закричал протяжно, тоскливо, жалобно и очень громко.
Глава четвертая. «ВСЮДУ СИЛЬНО ПАХЛО ВАСИЛЬКОМ»
Он развернулся на Кантштрассе и оставил машину прямо возле двуязычной медной таблички с длинной цитатой из великого мыслителя. Вышел, хлопнул дверцей, тупо посмотрел на цепочки выпуклых букв, сложившихся в длинную фразу: «Захочет ли какой-либо здравомыслящий человек, проживший достаточно долгое время и размышлявший о значении человеческого существования, снова заняться этой скучной жизненной игрой не то что на прежних условиях, но и вообще на каких бы то ни было?» Подпись стояла — Иммануил Кант, и даже название статьи указано — «О неудачах всех философских попыток теодицеи».
Что?!! Какой, к черту, теодицеи?
Симон помотал головой, стряхивая наваждение. Конечно, цитата на табличке была прежняя: «Две вещи наполняют душу все новым и растущим восхищением и благоговением по мере того, как задумываешься над ними все глубже и дольше: звездное небо надо мною и моральный закон во мне».
Да, не слишком складно переведено, но не менее глубоко, только уж очень хорошо знакомо, над смыслом не задумываешься.
А этот-то текст о повторной жизни откуда вылез? Грай отродясь не брал в руки книг с трудами Канта, а уж наизусть учить… Меж тем, мысль оказалась прелюбопытная! Действительно, какого лешего жить по второму разу? Правда, ему, Симону, никто этого пока и не предлагал. А вот ханурики, похоже, считают иначе. По их понятиям, жизнь после смерти — дело обыкновенное.
Кстати, о хануриках. Что-то вдруг расхотелось сворачивать к их обветшалой обители. В этот тихий теплый вечер ощущалась необходимость пройтись, поразмышлять о последних загадках, настроиться соответствующим образом.
И он зашагал вдоль по улице, прямо и на мост. Да, зайти в Обком сегодня необходимо, но ведь у тамошних шизиков жизнь бьет ключом круглосуточно — можно и ночью заглянуть.
Симон спустился по лесенке на Остров, побродил меж зеленых от патины статуй и начинающих желтеть деревьев, набрел на роскошную бронзовую кошку с блестящей спиной, отполированной тысячами людей, традиционно считавших эту скульптуру лавочкой, постоял, вспоминая, как они фотографировались здесь с Марией в год свадьбы. Потом прошелся к Могиле. Так ее здесь и называли просто Могила. Симон действительно никогда не читал философа Канта (да и какой нормальный человек станет читать эту мудреную заумь?), толком даже не знал, чем знаменит старик Иммануил, кроме своей немецкой педантичности, благодаря которой жители Кенигсберга в восемнадцатом веке сверяли по нему часы. Ничего не знал Симон о Канте, но к могиле его подходил всякий раз с непонятным трепетом, стоял перед решеточкой пантеона, не решаясь ступить внутрь, и невольно начинал сам незатейливо философствовать.
Восемьдесят лет прожил на свете знаменитый немец, и мир вокруг него преображался, конечно, потихонечку, но в целом был все такой же нормальная добропорядочная Восточная Пруссия, даже в те недолгие четыре года, когда земля эта принадлежала русской короне. Что там могло всерьез измениться? А потом прошло еще восемьдесят лет, и мир начал трескаться, сыпаться: революции, войны, заговоры, перевороты случались все чаще, историческое пространство уплотнилось и налилось кровью, которая по-настоящему выплеснулась уже в следующем восьмидесятилетии. Началось такое!.. Во времена Канта даже сумасшедший не сумел бы ничего подобного нафантазировать.
Симон и сам не заметил, как вошел в кирху, бывшую когда-то костелом, присел на скамейку с краю и стал слушать орган. Людей под высоченными сводами сидело совсем немного, и оттого возникало ощущение одиночества и вселенской грусти, а может, это музыка была такая. Во всяком случае, мысли его продолжали течь плавно и печально.
Следующие восемьдесят лет попали на первую половину двадцатого века. Веселенькое время. Да, карту Европы кроили не впервые, но придумать «польский коридор»!
И города переименовывали не впервые, но назвать древний Кенигсберг именем ничтожества — всесоюзного старосты с козлиной бородкой! Да и крепости тоже разрушали не впервые. В боях. Но чтобы не оставить камня на камне от овеянных славой замков и храмов в мирное время!.. (Почему-то именно эта мысль особенно раздражала Симона.) А потом прошло еще восемьдесят лет… Нет, восемьдесят еще не прошло, подумал он, всего только пятьдесят три, но, черт возьми, как же немыслимо, непредставимо переменилось все еще раз! Или еще два раза? Где он, тот мир, который начал разваливаться в восемьдесят пятом? И где уже совсем другой мир, который, недоразвалившись, вдруг стремительно склеился в нечто совсем третье к две тысячи шестому? Как это все случилось, черт возьми?!
Черта он поминал уже не в храме Божьем. Симон опять стоял на мосту, любовался падающим в реку Прегель солнцем и полыхающей в его закатных лучах величественной красной свечкой Кафедрального собора с золотым рождественским бантиком часов у основания шпиля. Симон был атеист, в церквах ценил прежде всего архитектурные достоинства, и снаружи они нравились ему, как правило, больше. Сейчас, уставший за день от смены впечатлений и расслабленный, он залюбовался сдержанной и строгой красотой любимого города. Залюбовался так, что не заметил подошедшего человека, для жандарма (пардон, для оса, для оса тем более!) дело абсолютно недопустимое. А человек не просто подошел — человек налетел на него, тоже, наверное, не заметил. Какое трогательное совпадение! Особенно трогательно было то, что это оказалась девушка. Неземной красоты. Наипошлейшее определение, но другого Симон придумать не смог.
У нее были очень, ну о-очень светлые пышные волосы и темные, ну почти черные огромные глаза на смуглом — не загорелом, а именно по-южному смуглом — лице. Сочетание, практически не встречающееся в природе, да и перекрасить брюнетку вот так невозможно. Впрочем, что он понимает в современной косметологии? Ничего. И тем не менее он был уверен: при всей неестественности это исключительно натуральный цвет волос. Господи! Да какая, в конце концов, разница? Почему он вообще думает об этом?
— Простите, — в растерянности проговорил Симон Грай, делая шаг назад как бы из вежливости, но на самом деле перегораживая незнакомке проход. (Случайно? Невольно? Подсознательно?) Он все еще продолжал ощущать на своей руке горячий укол ее твердого соска и волшебный жар на миг прильнувшего и тут же отпрянувшего тела. Словно ему сделали какую-то прививку, а потом мягкой теплой ладошкой нежно успокоили потревоженное место.
— Простите…
— Какого черта?! Я спешу. И зачем вы оказались у меня на дороге? Проклятие!.. — Девушка говорила, точнее ругалась, по-немецки, и когда она обозвала его «лысой потной задницей взбесившегося бегемота» (разумеется, на немецком все это было одним словом), Симон наконец не выдержал и предложил:
— Sorry, let's speak English*.
Теперь он смотрел на ее удивительные, возбуждающие губы. Кажется, принято говорить «чувственные», но он еще не знал, что они там у нее чувствуют, а вот его возбуждали — это точно. Потом стал медленно опускать взгляд: тонкая изящная шея с трогательной ямочкой внизу и — потрясающая высокая грудь, сладострастно облепленная тончайшей пленкой биошелка. Вот почему он так остро ощутил это столкновение — на незнакомке было платье из новомодного материала, только модель почему-то прошлогодняя — слишком короткая для нынешнего сезона и откровенно двухцветная, типа «инь-ян». Он сразу вспомнил Марию. В последний раз она приезжала как раз в таком.
И ее немецкий он вспомнил, с такими вычурными оборотами, что иногда Симон не успевал улавливать смысл. И очень не хотелось теперь говорить по-немецки. А государственного языка второй половины мира не могла не знать даже эта странная красавица, даже с такими невероятными волосами. Вот почему он предложил:
— Давайте будем говорить по-английски.
— Зачем? — удивилась вдруг она на чистом русском. — Зачем мне с вами вообще говорить. Я хотела прыгнуть туда, — девушка показала рукой на серые волны Прегеля, — а вы мне помешали.
Слова прозвучали абсолютно серьезно, и Симон испугался. Не того, что она сейчас прыгнет, а того, что она не в себе. Такая красивая и… вдруг. Зачем все так нелепо в этот день? Симон уже решил про себя не расставаться с загадочной незнакомкой. Почему? Он не взялся бы объяснить. Просто чувствовал: он уже повязан, «прививка» начала действовать. Не покидать ее, не отпускать, не терять, придумать любой повод, любую зацепку…
— Разве это плохо? — спросил он.
— Что?
— Что я помешал вам.
— Не знаю, теперь уже не знаю…
Разговор не клеился, не клеился разговор, сейчас она уйдет, повернется и уйдет, Господи, о чем еще спросить ее?
— Как вас зовут? — выпалил Симон, словно мальчик-гимназист на первом совместном с девочками рождественском утреннике.
Незнакомка улыбнулась странно, одними губами, глаза оставались холодными, далекими, она прикрыла их, и это было фантастически эротично то ли улыбка, то ли приглашение войти, — улыбнулась и тихо сказала:
— Изольда.
И снова открыла глаза. В глазах был лед. Твердый, обжигающе холодный. Все. Он проиграл.
«Изо льда?» — вспомнилась чья-то изящная шутка по поводу этого редкого имени, но было бы уж слишком глупо шутить с человеком, минуту назад собиравшимся наложить на себя руки, и Симон потерянно замолчал. Финиш. Больше он был ни на что неспособен. Разве что самому кинуться с моста в реку. Да уж лучше так, чем расстаться с этой девушкой.
И тут Изольда вдруг снова закрыла глаза и зашептала жарко, как в бреду:
— Не бросай меня, не оставляй меня одну, я не могу сегодня быть одна, не могу, поехали, скорее поехали отсюда…
Это был текст из какой-то другой пьесы, и Симон снова испугался. Так все-таки бред или чтение мыслей?
— Вы даже не знаете, кто я, — осторожно проговорил он. — Почему же обращаетесь именно ко мне?
— Это неважно, неважно, — вполне разумно ответила Изольда, — я просто не могу сегодня быть одна, правда не могу… — И добавила уже совсем жалобно: — Не бросай меня, пожалуйста…
Глаза ее по-прежнему были закрыты, и она, как слепая, почти судорожно нашарила его руку и ухватилась за локоть и запястье. Ладони были горячими и влажными.
— Пошли, — скомандовал он решительно.
Привычная спокойная уверенность в себе постепенно возвращалась, и Симон по-отечески обнял вдруг начавшие вздрагивать тонкие плечи Изольды.
— Поедем ко мне, я только должен еще зайти в Обком.
Реакция была более чем неожиданной. Изольда вырвалась, отпрянула и широко раскрыла глаза. В них больше не было никакого льда, в них полыхало нечто совсем нездешнее.
— Ты что? — спросил он, уже уставший пугаться.
— Не ходи туда.
— Почему?
— Не ходи туда сегодня. Не надо, я уже была там, я тебе все расскажу потом. А сейчас не ходи. Нельзя.
— Да почему же?!
Пламя в ее глазах чуть попритухло, и она сказала явно не то, что думала:
— Я не смогу идти туда еще раз, а ты обещал не бросать меня.
Ничего такого он не обещал ей, вообще ничего не обещал, но… В который раз за сегодня он принимал решение, противоречащее всем правилам, всем законам, всем доводам разума. Но уж играть в эту игру, так до конца.
— Хорошо, — сказал он, — едем ко мне домой.
Возле машины вертелся мелкий неопрятный мужичок из породы уличных попрошаек. Симон таких терпеть не мог и, хотя регулярная борьба с ними была не его профилем, старался при малейшей возможности закатывать бродяг под арест и приставлять к ним какого-нибудь рьяного молодого сержанта для наиболее эффективного промывания мозгов. Сейчас ему было явно не до этого и, услышав омерзительно жалобное: «Господин, подайте несчастному!», Симон чуть не отпихнул бродяжку ногой. Но когда они с Изольдой сели в машину, неумытая рожа придвинулась почти вплотную и шепнула:
— Вас ищет Лэн.
Симон поглядел укоризненно: мол, чего сразу не сказал. Бродяжка улыбнулся: конспирация. Молодец, похвалил Симон, заканчивая этот разговор одними глазами.
А мужичонка уже гундосил снова:
— Подайте, господин, подайте несчастному…
Симон пошарил в кармане и протянул ему два пятиалтынных серебром.
— Не надирайся только, употреби во благо, — посоветовал он на прощание и дал по газам.
— Куда мы едем? — встрепенулась вдруг Изольда.
— Так ведь ко мне домой, — недоуменно оглянулся на нее Симон.
— Нет, я спрашиваю, где это.
— Адлервег, у самой кольцевой.
Ответ вполне устроил ее, но когда у поворота на Фритценервег он помигал, а потом, спохватившись, взял влево и двинул дальше по Замиттер-аллее, Изольда снова испуганно спросила:
— Почему мы здесь не повернули?
— Потому что на Хоффман-штрассе опять чего-то роют и надо пилить в объезд по Друмман и Швальбенвег. Ты хорошо знаешь город?
— Я вообще его не знаю. Я здесь первый раз.
Это был ответ, достойный ее белокурой шевелюры и нелепой попытки суицида.
— Да ты откуда, Изольда? Может быть, ты пришла прямо из древней легенды, и суровые скалы Корнуолла милее твоему сердцу, чем песчаные обрывы Янтарного берега? («Во завернул! — сам себя не узнал Симон. — Не иначе влюбился. Седина в бороду — бес в ребро».)
А Изольда вдруг оттаяла, улыбнулась как старому знакомому и ответила:
— Типа того. Я из Москвы.
Странно. Ведь ей было не больше двадцати. Молодежь так не говорила сегодня. Сказала бы «из Метрополии» или в крайнем случае (есть чудаки, которые не любят этого слова) — «из Большой Столицы». Точно так же никто не скажет «Санкт-Петербург» — скажут «Питер» или «Малая Столица». Чудно.
— Все это случилось так нежданно, — произнесла вдруг Изольда.
— Что именно? — поинтересовался Симон.
Но она не ответила, а продолжала говорить свое, и Симон вдруг понял, что девушка читает стихи.
«До чего же чудное стихотворение!» — думал Симон, ощущая себя уже где-то совсем не здесь, а в далеком странном мире сумрачных лесов, согбенных старух и скрипучих калиток, в мире, где на дорожку пили не рюмку водки, а настойку девясила…
«Во Франции венки из васильков кладут на могилы погибших солдат», вспомнилось вдруг Симону, он только плохо представлял себе, какой у василька запах.
— Кто это сочинил? — поинтересовался Грай, с трудом возвращаясь к реальности.
— Не знаю, — рассеянно отозвалась Изольда. — Наверно, я…
А возле его дома было совсем пусто, и в подъезде им никто не встретился. Почему-то это порадовало, хотя мнение соседей о его личной жизни уже давно не волновало Симона. Однако Изольда… Это был особый случай. Не просто девушка, а некое явление, и оно сильно, очень сильно выламывалось за рамки всего, что полагается называть личной жизнью.
Перед подъездом девушка еще раз подтвердила свою неординарность, неожиданно войдя в глубокий ступор, словно ее привезли совсем не туда, куда обещали.
— Ты здесь живешь? — спросила она, явно не в силах тронуться с места.
— Да, — ответил он просто.
Что еще он мог ей ответить? Снова шутить?
— Не может быть.
— Чего не может быть?
— Не может быть. Адлервег. Adler Weg… That's means 'Eagle Road'… Иглроуд… Не может быть! Путь орла…
— Плохой перевод, — заметил Симон. — Какой, к черту, путь орла просто орлиная дорога, дорога орлов, если угодно.
Изольда посмотрела на него непонимающе, словно только что проснулась. Она говорила сама с собой об одних лишь ей понятных предметах, и его замечание было тут совершенно неуместно.
Зато они сумели все-таки преодолеть дверь в подъезд.
— Какой этаж? — спросила Изольда.
— Четвертый.
— Пошли пешком. Терпеть не могу лифтов.
Ну вот, еще и клаустрофобия в придачу. Что там у нас до этого было? Депрессия, страх одиночества, навязчивые идеи, мания преследования… Славный букет. Впрочем, клаустрофобия как раз кстати. Кровь, конечно, уже вытерли, но все равно ехать в той самой кабине, где сегодня утром случилось столь жуткое злодеяние, было бы неприятно даже закаленному штабс-капитану Граю. Ну и денек!
Войдя в квартиру, Изольда, не наклоняясь, нога об ногу, сняла туфли и, не дожидаясь приглашения, прошла в комнату. Туфли у нее тоже были необычные, Симон еще на мосту обратил внимание: изящный легкий верх из белых кожаных ремешков с золотой ниткой и массивные слоноподобные подошвы из сорботана. Мода на такой дизайн прошла года полтора назад, и сегодня сорботановые подметки пользовались популярностью лишь у спортсменов да у хулиганов, уличных воришек — чтобы от жандармов убегать удобнее было.
Изольда сидела с ногами на диване как затравленный дикий зверек и в продолжение этой аналогии смешно вертела в руках диск универсального пульта — ни дать ни взять мартышка и очки! Наконец ей удалось пробудить к жизни телевизор, правда, по выражению легкого изумления на лице белокурой подруги Симон догадался, что она ожидала какого-то другого эффекта. Может быть, музыку хотела включить или компьютер.
Шла программа местных новостей. Об убийстве на Адлервег, к счастью, ни слова, наверное, уже сказали раньше. Не хотелось сейчас об убийстве. Хотелось только выпить, обязательно выпить, отогреть эту девочку, привести ее в чувство, умыть, раздеть и ни о чем не спрашивать.
В конце концов, она пришла к нему телевизор смотреть, что ли?
Однако стандартный, примитивный подход явно не годился для нестандартной Изольды. Вспомнился не к месту поручик Берген из Вроцлава, специалист по сексуальным преступлениям, служебные обязанности которого странным образом повлияли на личные пристрастия: с некоторых пор его стали возбуждать только невменяемые женщины, в крайнем случае, пьяные или обкурившиеся. Боже, каких только историй не рассказывал на дежурствах этот весельчак Берген! Нет-нет, здесь был совершенно другой случай. Симон должен был напоить ее — не в смысле упоить, а скорее в смысле отпоить — именно для того, чтобы смыть, устранить этот дикий налет патологий, избавиться от него хотя бы до утра, а потом он во всем разберется. Хватит уже задумываться, хватит работать! Он не хотел работать ни на полицию, ни на ОСПО, ни даже на самого себя — он просто хотел наконец отдохнуть. Ведь праздник же сегодня и первый день несостоявшегося отпуска. Ничего себе праздничек! Как странно вспомнить, что еще нынче утром он собирался уехать к морю…
Он вдруг увидел заинтересованность на лице Изольды и прислушался, о чем же говорят в новостях.
— Признание самой допустимости дискуссий об особом статусе Индии в составе Британской Империи, — комментировал обозреватель последнее сообщение, — было бы слишком серьезной уступкой сепаратистским настроениям, новая вспышка которых отмечается в Юго-Восточном Азиатском регионе. Наш даккийский корреспондент взял по этому поводу интервью у российского наместника в Восточном Пакистане господина…
— Изольда, — позвал Симон, — ты проявляешь повышенный интерес к индо-пакистанским проблемам? Знаешь, конкретно там я не был, но вообще Восток знаю хорошо, и Персию, и Китай, многое могу рассказать.
— Пер-си-ю, — раздумчиво повторила Изольда. — Персию, говоришь? Да нет, ну его в баню, этот Восток. Просто иногда я очень люблю послушать информационные программы.
Вот так она и сказала: информационные программы.
«Все, — подумал Симон. — Больше не могу. Хватит с меня этой бредятины. „Никогда не надо слушать, что говорят цветы, надо только смотреть на них и дышать их ароматом“. (Этой цитатой из „Маленького принца“ Экзюпери Симон, бывало, обольщал девушек еще в годы своей учебы в столице.) Все. Начинаем дышать ароматом».
— Понятно, — громко произнес он. — Никогда не надо слушать… — И вдруг закончил неожиданно для самого себя: — …информационные программы. Что будешь пить? Вермут? Ликер? Мускат?
— Зачем? — спросила Изольда.
Ну что ж, нормальный ход. Спасибо еще, что она не спросила «кого?»
— Затем, чтобы напиться, — простодушно пояснил Симон.
— Давай, — неожиданно согласилась с такой формулировкой Изольда. — А водки у тебя нет?
Он задумался на секундочку.
— Нет, водки нет. Есть виски.
— Давай виски.
Но пить она явно не умела. Пока хозяин ходил за льдом и содовой, Изольда ухитрилась налить в фирменный широкий стакан пальца на три и прямо на глазах у восхищенной публики — Симон только рот успел открыть опрокинула это все… Куда? Ну, скажем так: половину в себя, половину — на себя. И тут же закашлялась. Сорок три градуса и дымно-дубовая горечь деранули, конечно, глотку, а по белой половине платья расползалось теперь желтовато-бурое пятно.
— Твое здоровье, — пожелал Симон. — По спине похлопать? Или уже все в порядке? Вообще-то «Баллантайн» обычно пьют немножко по-другому.
Изольда молчала и смотрела на него глазами бешеной кильки. Потом вдруг расплылась в блаженной улыбке.
— Мыться пойдешь? — спросил он.
— Не-а, потом. Налей как там у вас полагается.
Серебряной ложечкой Симон положил в стакан пяток ледяных кубиков, нацедил на треть виски и добавил почти доверху содовой.
— Держи.
И стал сооружать такую же порцию для себя.
Изольда сделала глоток, чуть запрокинув голову, опустила веки, а губы, влажные, зовущие губы приоткрыла, жарко дыша. В тот же момент не только брюки, но и рубашка показались Симону тесными, и он жадно отхлебнул добрую половину своей порции. Нельзя, нельзя бросаться на эту девушку сразу, она так красиво ведет свою партию, не мешай ей, говорил себе Симон.
Изольда сделала второй глоток, побольше. Облизнула губы быстрым соблазнительным язычком, сказала:
— Вкусно.
— Обычно женщинам не нравится, — хрипло проговорил Симон.
— А я не обычная женщина. Мне очень нравится, — прошептала она и, выпив все до дна, высыпала на себя ледяные кубики. Потом откинулась на диване, снова закрыла глаза и с тихим стоном стала медленно-медленно раздвигать колени.
Симон не помнил, допил ли он виски — это было уже неважно. Он поднялся, шагнул к ней и наткнулся на тонкие нежные пальчики, расстегивающие ему ширинку.
— Можно, я разденусь? Мне жарко, — шептала она, вставая, и промокшее черно-белое платье страстно взлетело над божественной девичьей фигурой, и у Симона захватило дух, и последней циничной мыслью было предположение, что у этой чудачки под платьем не должно быть больше ничего, раз уж она такая нимфоманка, но трусики были — потрясающие черные кружевные трусики, которые она мучительно долгим движением снимала уже сидя на краешке стола…
А потом он даже не успел до конца раздеться, когда Изольда обхватила его ногами и притянула к себе, и закричала, едва он вошел в нее, и было так прекрасно, как, наверное, никогда еще не было, потому что все вдруг перепуталось, он почувствовал себя двадцатилетним мальчишкой, а вот Изольда была умудренной опытом женщиной, которая учила его, вела его, и это было так прекрасно, как бывает только в первый раз, он и не представлял себе, что первый раз, оказывается, может повториться. Он зарычал, сжимая в объятиях горячее тело и опрокидываясь на диван, и задетая бутылка упала на бок и сказала: «Буль-буль», выливая остатки благороднейшего виски на их переплетенные ноги…
За неимением других крепких напитков, способных адекватно заменить безжалостно растраченное виски, любовникам пришлось перейти на горький мартини и сочинять из него всякие немыслимые коктейли. В общем, ночь получилась бурной. В ней было все: и экзотические ласки, и невиданные позы; и специальная программа ко Дню Российской Империи в ночном эротическом канале западноевропейского телевидения, передачи которого Симон мог принимать благодаря спецразрешению на спутниковую антенну; и возня под душем; и ужин, переходящий в завтрак в четвертом часу (утра? ночи?); и слезы были, и хохот, и только одного не было — не было серьезных разговоров. Так они сразу решили между собой. Возникла лишь единственная недолгая, совсем недолгая пауза во всем этом праздничном карнавале.
Пауза образовалась случайно и вместе с тем неизбежно. Пока Симон отсутствовал в душе (по первому разу один), он вспомнил о необходимости позвонить Лэну, а скучающая Изольда, попутешествовав по квартире, даже сквозь алкогольный туман по одним лишь фотографиям на стенах разгадала профессию хозяина.
— Сим-Сим, — торжественно сказала она выходящему из душа и самодовольно поигрывающему мускулами красавцу мужчине в самом расцвете лет, — так ты же фараон, Сим-Сим, то бишь по-нашему мусор.
— Ага, — самовлюбленно отвечал Сим-Сим, — и я не просто мусор.
Кто его тянул за язык? Какая вожжа под хвост попала? День такой, что ли, когда все нужно делать наоборот — от сокрытия вещдоков до прямого невыполнения указаний начальства? Что же это за день? Да ведь и кончился он уже, новый настает. Может быть, пора встряхнуться? Нет, дело было уже в другом.
В жизнь штабс-капитана Симона Грая вошла любовь. Да такая, о какой раньше он и мечтать не мог, о какой только в книжках читал, в старых-старых книжках и давно — в детстве, в юности. Нет теперь таких книжек, и его такого уже нет, а любовь — вот она — ворвалась в жизнь и все перемешала, все спутала. Он словно выпил приворотное зелье, как герои старинных легенд, и не было теперь пути назад, потому что вместе с любовью испил он и смерть свою, и значит, была это не просто любовь, а любовь великая и неодолимая, любовь до гробовой доски, и вся эта романтическая чушь в свете волшебного имени — Изольда — становилась осязаемой, как реальность будней, и входила в эту реальность и диктовала свои условия, и от Изольды он уже ничего не мог скрывать.
— Я не просто мусор, — повторил Симон. — Я сотрудник ОСПО. Я хочу, чтобы ты знала это, — добавил он зачем-то.
— Ты работаешь там?! — воскликнула Изольда. — Ты, Сим-Сим, работаешь в КГБ?! Вот это фенька, ёшкин папуас! Вот это фенька! — Изольда начала истерически смеяться.
— Погоди, — обалдел он от такой реакции, — почему ты говоришь «КГБ», ты что, из наших?
— Я?! Из ваших?!! — Изольда согнулась пополам и буквально зашлась от хохота.
— Наверно, ты права, — проговорил он, не зная, что еще сказать. Лучше хохотать надо всем этим. Сегодня лучше хохотать. Но прошу заметить, ты первая нарушила наш уговор и задала мне серьезный вопрос.
— Извини, — выдавила она сквозь смех.
— Ты извини, Изольдочка. Мне сейчас нужно срочно выйти позвонить.
Он уже одевался. А она перестала смеяться, сделалась вдруг серьезной, почти мрачной и пробурчала:
— Только на меня не надо стучать в свою контору. Ладно? А то всю малину обкакаешь. Ночь еще не кончилась. Не надо стучать, Симсимчик, ладно? Мне так надоело умирать!
Последнюю фразу он плохо расслышал. То есть он ее не понял, и ему было легче решить, что он плохо расслышал, потому что уже сбегал по лестнице, а Изольда говорила вдогонку, в раскрытую дверь. И он крикнул в ответ с откровенно пьяной беспечностью:
— Дурочка! В контору я бы из дома стучал, со своего аппарата. Подожди, я очень скоро.
Ближайший телефон-автомат, по счастью, работал. Он опустил пятикопеечный городской жетон и быстро набрал номер. На дисплее высветились голубоватые цифры — номер Ланселота, бродяги Лэна. Раздалось пять гудков. Лэн сейчас смотрит на свой дисплей, сверяется в компьютере с каталогом, этот автомат «чистый», не подключен к прослушке, он должен знать. Ага, вот и еще пять гудков. Затем одиннадцать, двенадцать, на тринадцатом Лэн включается.
— Соловей?
— Пташечка.
— Здорово, шеф.
— Здорово. Говори быстрее.
— Не гони волну, шеф. Мокруха на твоей хазе совершенно левая. Братва здесь абсолютно ни при чем. Ищи залетных, шеф, да таких залетных, что даже ханурики не петрят. А если Обком закроют, Империи хана. Пока все, шеф. Искать меня без толку. Сам найду. Чао.
Чего-то подобного он и ожидал. Все нормально. Начинается серьезная работа. Работа на ОСПО. Вот только что это за фраза такая проскочила: «Если Обком закроют, Империи хана»? Что он хотел сказать? Черт, переспросить бы надо. Ладно, к дьяволу, не сейчас. Да и у кого переспрашивать, у Ланселота? Он же двух слов в простоте не скажет, все равно потом расшифровывать придется, чем больше наговорит, тем труднее понять. Не сейчас, не сейчас все это…
Почему-то захотелось войти в лифт. Нетерпение? Все-таки быстрее, чем пешком. Или обычное желание сделать как всегда, назло суеверным глупостям. Кабина подошла. Двери открылись. Конечно, там было чисто — никаких следов крови. Только в углу валялся маленький зеленоватый квадратик плотной бумаги. Вот те на! Противный холодок пробежал по спине Симона, словно кто-то сзади пробуравил его взглядом. Ощущение было настолько сильным, что он чуть было не оглянулся. Нельзя оглядываться, ведь он даже не захватил пистолет. Двери закрылись. Осторожно, как бомбу, двумя пальцами Симон поднял крошечную зеленую карточку (она была абсолютно пуста с обеих сторон) и поднялся на последний, седьмой этаж. Задержал двери кнопкой «стоп» и прислушался. Гробовая тишина. Потом с предельной осторожностью спустился до своей двери и еще раз прислушался. Никого. Дальнейшие манипуляции были бессмысленны. Хватит наконец! Скорее домой, она же ждет меня.
Загадочный зеленый квадратик он успел убрать незаметно для Изольды. А проходя в кабинет, отметил краем глаза: девушка сидит на диване в любимой, очевидно, позе — поджав ноги — и сосредоточенно изучает вчерашнюю газету. Наконец раздался обиженный голос:
— Сим, что ты там делаешь?
— Ни-че-го. Абсолютно ничего. Праздник продолжается, дамы и господа, с Днем Российской Империи вас! Ликуйте! Ба, да ведь пора включать телевизор! Продолжаем веселиться!..
И праздник продолжался. По высшему разряду. Всю ночь. Они забылись сном лишь часа на три, на четыре. Потом наступило утро.
Утро — это первый телефонный звонок, от которого нельзя отмахнуться. В десять ноль две запиликал такой сигнал в квартире Грая. И к аппарату попросили Изольду.
Глава пятая. ОРЕШКИ ДЛЯ РАЗДУМЬЯ
— Да-да, — говорила Изольда тихо, пытаясь его не разбудить.
Но он проснулся еще от звонка и теперь напряженно вслушивался.
— Да-да, — говорила Изольда.
Она унесла трубку в холл и думала, что оттуда ее будет совсем не слышно. Смешная девушка.
— Да-да, — повторила она в очередной раз.
Господи, скажет она хоть что-нибудь по существу? Сказала:
— Да-да, я сейчас выезжаю.
Очевидно, разговор был окончен. И тут до Симона дошло. Он вскочил и, ничего не одевая, вылетел в холл.
— Кому ты разрешила звонить по этому номеру? Где ты узнала его? Когда успела? Ты соображаешь вообще, что ты делаешь?
— Сим, отстань, — вяло отмахнулась она, — я никому ничего не разрешала. Чего ты набросился? Это абсолютно надежный человек. Я сейчас уезжаю.
Ф-фу-у-у! Спросонья он чуть было не забыл, с кем имеет дело. Она же типичная крейзи. И у него из-за этой девушки все теперь будет не как у людей. Пора привыкнуть.
— Куда ты уезжаешь?
— В Раушен. Я очень спешу. На вот, позвонишь мне, если захочешь.
Он машинально взял визитку и положил на журнальный столик.
— И это все, что можешь ты сказать в печальной дымке позднего рассвета? Обман смешон, когда глаза — в глаза. Любовь моя, ты понимаешь это?
Господи! Чьи это стихи?! Откуда? Может быть, он все еще спит?
— Сим, я правда спешу.
Изольда одевалась быстро, как солдат. Нет, неправильно, женщины одеваются не как солдаты. Она одевалась с резвостью профессиональной проститутки. Фи, гусар, за что же вы так эту юную леди?
Изольда чмокнула его в щеку и выскочила из квартиры. Фантастика!
«А что, если эта визитка — полнейшая липа? — подумал он. — Вот будет номер!»
Но все оказалось еще хуже. Почему он сразу не кинулся вдогонку? Почему?
Ведь это была не визитка. Это был маленький квадратик плотной зеленой бумаги. Тот самый? Нет, ну это уж вряд ли. Просто с тем же самым телефоном. Только написанным другой рукой.
Он уже минут пять сидел и смотрел на три одинаковых зеленых квадратика: два в герметичных прозрачных упаковках и один — без. Очень важно было убедиться, что профессиональная память и наблюдательность не подвели его. Действительно не подвели: цифры совпадали, а почерк — нет. Впрочем… Вглядевшись еще внимательней, он уже не мог утверждать, что писали две разные руки. Общеизвестно: у одного и того же человека почерк может меняться в зависимости от настроения и обстоятельств. Графологию в Академии читали факультативно, да и когда это было, а на практике Грай всегда имел под рукой специалиста. Сегодня же требовалось найти ответ самому.
Трудно. И все-таки: обе надписи делала Изольда, только первую она тщательно вырисовывала, а вторую нацарапала на бегу. И это тем больше казалось правдой, чем меньше хотелось в такую правду верить. А ведь он еще ночью решил отдать оба квадратика лучшему их криминалисту Берте Кольвиц под видом сугубо интимного заказа старого ревнивца. Берта такие вещи понимала, тихий шепот Симона в ее очаровательное ушко: «Лично для меня, золотце!» действовал всегда безотказно. Но мог ли он предположить, что квадратиков станет три? И этот, последний, в дактилоскопировании явно не нуждается. Нет, к Берте он теперь не пойдет. Частный заказ или не частный, но пальчики попадут в компьютер, а компьютер ничего не знает о любви до гроба, безумстве и мистике, сработает программа сличения, и вдруг окажется, что в картотеке отдела убийств уже есть отпечатки Изольды… Откуда? Неважно откуда. Точнее, думать об этом не хотелось. Очень не хотелось. Статья триста двенадцатая, часть вторая. Сокрытие фактов и обстоятельств дела, имеющих для следствия… Господи! Что все это значит?
Жутко заболела голова. Да нет же! Она болела с самого начала. Просто Грай только теперь заметил. Еще бы не болеть голове после такого дня и такой ночи. И такой дозы. Второй день подряд.
Крепких напитков в доме не осталось. Бежать в магазин — идиотизм. Похмеляться вермутом — пошлость. Господи, о чем он думает! Хэдейкин, душ, крепкий кофе, и работать. Хэдейкин?.. Да, хэдейкин. К черту Бжегуня с его методой! Работать надо, работать, а не закалять организм. Организм закалять он будет на отдыхе. Впрочем, подумал-то он совсем не о Бжегуне. Дело в другом: хэдейкин плюс героин, хэдейкин плюс алкоголь, хэдейкин плюс… черное солнце. Что там такое наговорил вчера представитель Собственной Его Величества канцелярии? Да ничего. Это он, Симон, собственной его величества персоной навыдумывал чего-то. Чего навыдумывал? Признавайся. Пожалуйста: хэдейкин — тайная агрессия инопланетного разума — о!
О какая чушь, Боже праведный!
Симон поднялся, взял таблетку и запил водой.
Потом позвонил Котову.
— Гос… товарищ подполковник, с вами говорит поручик Грай, какие будут распоряжения?
— Вы дома? — спросил Котов.
— Да. И хотел бы в интересах нашего общего дела оставаться на телефоне в течение всего дня.
— Оставайтесь, товарищ поручик, именно об этом я и хотел вас попросить.
Следующий обязательный звонок — Дягилеву.
— Виктор, я еще никуда не уехал. Держи меня в курсе, пожалуйста. Звони по домашнему, как только узнаешь что-нибудь новое.
— Принято, господин штабс-капитан. На данный момент есть только выводы экспертов. Порезали нашего жмурика около девяти утра, оглушили чуть-чуть раньше. Заметьте, аноним позвонил в жандармерию в девять пятнадцать, то есть он мог быть простым случайным свидетелем. Дальше. На теле обнаружены два светлых женских волоса, но в резиновых перчатках следы исключительно мужского пота. Личность погибшего не установлена, по результатам внешнего сличения выяснили, что в городе он официально не проживал, то есть не регистрировался. Запросили Метрополию. Свидетелями занимается Гацаурия, пока безрезультатно. Ждем. Вроде все. По второму вчерашнему убийству дать информацию?
— Это которое в Кранце?
— Да, где сразу двое.
— Не сейчас. Лучше скинь через часок по сети. Спасибо, Виктор.
Ну вот, а теперь — кофе.
Он сидел над листом бумаги и рисовал кружочки, соединенные линиями разной толщины, иногда пунктирными. В кружочках пестрели надписи, над линиями — тоже. Так он привык работать. В Академии конкретно этому не учили, но системный подход как таковой поощряли. Что-то вырисовывалось, но не слишком ли много кружочков на этот раз?
Большие в центре композиции символизировали главные силы, задействованные в происходящем: жандармерия, ОСПО, императорский двор, Братство Посвященных, уголовный мир, Британская корона и ее спецслужбы все это были в той или иной мере лица юридические. Кружочками поменьше обозначались физические лица: он сам, Изольда, Мария, Клара, Бжегунь, Лэн, Золотых… Этих было много. А еще дальше на периферии уже не совсем кружочками, а этакими неопределенной формы амебами расплывались дела и события, зацепляя и опутывая своими ложноножками людей и целые сообщества. Здесь поминались убийства, беспорядки, загадочные двойники, английские шпионы, хэдейкин и стыдливо помещенное в уголке бледное облачко с названием «иная реальность», впрочем, термин жутко не понравился автору, был решительно перечеркнут и по законам конспирации получил эффектное таинственное имя «Черное солнце». Расчертив необходимые линии со стрелочками и без — они мгновенно все перепутались, как провода в безжалостно развороченном приборе, — Симон дополнил этот ребус коротеньким списком, вынесенным на правый край под выразительный заголовок «В порядке бреда». В такой список он привык заносить все, что случайно и непроизвольно всплывало в памяти, а значит, в принципе могло подтолкнуть к разгадке: зеленые квадратики — «баллантайн» — Кафедральный собор — бронзовая кошка золотой портсигар — «ролекс» — «васпуракан» — платье «инь-ян» — туфли на сорботане — Кант — Раушен — гиббон. Крутой замес. Особенно гиббон в конце ему понравился.
Симон откинулся в кресле и попытался вычленить главное. Главным казалось все. Может, только гиббон был главнее всех. Доработался, приятель. А ведь и правда. Ежегодный отпуск придуман не случайно. Время подошло организм настроился на отдых, работать сделалось невозможно. Ну извини, товарищ штабс-капитан, то есть товарищ-то он поручик, а штабс-капитан господин, ну извини, товарищ-господин, под настроение девочек трахают, а работают по приказу…
В такие минуты он всегда завидовал курящим. Не случайно все эти холмсы и мегрэ грызли свои трубки, не случайно сыщики советской поры высаживали папиросу за папиросой — когда отчаянно путаются мысли или, как говорят блатные, «вольты в разбеге», надо хоть руки и губы чем-то занять. Но в нынешней России курение стало крайне непопулярным, а к тому же была у Симона индивидуальная особенность: сколько ни пробовал в юности, так и не научился получать удовольствие от вдыхания дыма.
В Китае рискнул даже опиум покурить, но это оказалось еще омерзительнее.
И когда-то давно придумал сам себе безобидную замену табака — орехи или семечки. Развлечение, скажем прямо, детское, но все-таки лучше, чем конфеты, от которых очень быстро разваливаются зубы. А полезные в сравнении со сладостями жевательные резинки без сахара, к сожалению, никак не занимают руки. В общем, еще в Москве в начале века случился период какой-то повальной моды на подсоленные орехи в пакетиках: арахис, кешью, фисташки, пекан, миндаль… Вот тогда он и пристрастился думать «под орешки». Естественно, по закону подлости, на сей раз ничего похожего в доме не оказалось: то ли слопали все минувшей ночью по пьяни, то ли просто давно не ходил в магазин.
Пришлось одеться и добежать до угла. Мало того, что соленые орешки превратились в навязчивую идею, так он еще знал по опыту: когда тяжело становится думать, нет ничего лучше, как выйти и прогуляться куда-нибудь.
И совсем не пустой получилась прогулка.
Возвращаясь и не дойдя до подъезда трех шагов, Симон буквально остолбенел. Мимо него ветер гнал по тротуару десятки, если не сотни маленьких зеленоватых квадратиков. Он проследил взглядом источник этих возмутителей спокойствия и увидел торчащий из синего мусорного контейнера для макулатуры полиэтиленовый пакет, распотрошенный, очевидно, мальчишками. Симон вспомнил: в подвале дома располагалась маленькая типография, работники ее периодически выбрасывали подобного рода мусор.
Значит, второй ночной листочек, он или кто-то еще просто притащили в лифт на ногах. Ну а последний?
И, конечно, первый. Это надо спрашивать у Изольды. А он ничего у нее не спросил. И теперь уже не спросит. Вот где тупик. Он даже не знает, она гражданка России или Британии, мелкая аферистка или особа, приближенная к Императору…
Вдруг подумалось, что больше он никогда ее не увидит. Вчера из города, из «чистого» автомата, он звонил по найденному в лифте телефону. Там никто не ответил. Что, если этот номер будет молчать и сегодня, и завтра, и впредь?..
Прекрати, сказал он себе. Квадратики дают тебе отправную точку. Сиди и думай. Не о любви и смерти, а об убийстве и убийцах. Это твоя работа.
Он вдруг заметил, что съел уже целый пакетик фисташек и маленькая пепельница, никогда не использовавшаяся по назначению, переполнилась скорлупками.
Встал, включил компьютер, быстро вошел в «Губернский адресный стол» (почему он не сделал этого вчера?), набрал на клавиатуре хорошо запомнившийся номер. Никакой мистики. Телефон такой существовал, и адрес был указан: Раушен, Октябрьская, 23. Частный жилой дом. Куплен три года назад гражданином Британской империи Арнольдом Свенссоном. В летний период дом сдается в аренду. Что ж, будем узнавать, что за птица этот Свенссон. Строго говоря, прежде чем грызть орешки и рисовать схемки, он должен был направить на Октябрьскую, двадцать три, группу наружного наблюдения, а девушку Изольду объявить в общегубернский розыск. По долгу службы — так и только так. Но с понятием «долг» что-то произошло еще вчера утром. Что-то очень странное. Понятие это, словно того несчастного в лифте, обезглавили и распотрошили: печень отдельно, почки отдельно, гениталии отдельно… Да, вот гениталии у граевского чувства долга оказались совсем отдельно. Отдельнее всего. Только не смешно ни капельки.
Он вдруг вспомнил, как до безумия странно вел себя Золотых. Впрочем, с людьми, столь близкими к вершине российского политического Олимпа, Симону никогда раньше общаться не приходилось — откуда ему знать, как ведут себя эти господа. Но странность заключалась не в личных особенностях старины Микиса, а в самой ситуации. Он наконец понял, что именно мешало ему работать — отсутствие четко поставленной задачи, отсутствие сроков, отсутствие плана мероприятий. Ну не бывает так! ОСПО. Серьезнейшая, могущественная организация с древними традициями и железной структурой — и вдруг ни приказов, ни отчетности, одна лирика, мистика, интеллигентский треп и параноидные загибы… Что, если его просто подставили? Проверяют или используют как наживку? Что, если все его слова и телодвижения давно уже пишутся на диски? Ну что ж, в таком случае проверку он не выдержал, дал себя съесть и заранее готов во всем чистосердечно признаться. Вяжите меня, братцы, и я не буду драться… Откуда это? Только что срифмовал? Да нет, песенка какая-то…
Симон встал, подошел к раскрытому окну, долго всматривался в машины и прохожих — ничего подозрительного не заметил. Проверил специальным прибором частоту телефонного сигнала, потыкался разными способами в недавно поставленные сетевые блокировки и собственные специальные секретки на жестком диске компьютера. «Клопов» по всей квартире искать передумал и обессиленно упал обратно в кресло.
Что ж, попробуем зайти с другого конца. Оставим в покое «иную реальность» и «золотого» императорского чекиста. Кажется, пока я все еще начальник отдела убийств. Предположим, мне просто поручено расследовать убийства в контексте событий последних восьми месяцев. Начали.
Пиллау, декабрь шестнадцатого. Двадцать третье число. Торжественное возвращение из Джибути эсминца «Крылатый» и приуроченный к этому событию марш солдатских матерей. Женщины воспользовались тогда предрождественской суетой, головотяпством военно-морской комендатуры и демонстративным невмешательством жандармерии. На абсолютно закрытой территории военного порта абсолютно закрытого города Пиллау каким-то образом оказались тысячи матерей, жен и сестер не только моряков Балтийского флота, но и многих солдат-десантников, воевавших в разное время в Сибири, Юго-Восточной Азии и Северо-Западной Африке. Император, никак не ожидавший таких масштабов антивоенной акции, вынужден был подключить спецподразделения ОСПО, и доблестные осы, возможно, повели себя чуточку слишком жестко. В результате столкновения были не только пострадавшие, но и две жертвы: одна из раздавленных толпой женщин скончалась в больнице и выстрелом в голову убили мичмана Гусева. Черно-желтые не получали приказа стрелять на поражение, выстрелы производились только в воздух, так что особая полиция официально осталась вне подозрений. Однако народная молва и общественное мнение (не одно ли это и то же?) относились к вопросу несколько иначе.
На следующий день уже в Кенигсберге прошел многотысячный митинг протеста, на котором самые разные политические деятели требовали независимого гласного расследования обстоятельств убийства Гусева. Генерал-губернатор господин Зоннерман клятвенно заверил собравшихся, что не оставит поисков истины, чего бы это ни стоило отцам города, но еще через день, пока жандармерия, ОСПО и военно-морская комендатура выясняли, кому будет предоставлено приоритетное право в расследовании, труп мичмана был похищен из морга флотского госпиталя и пропал навсегда. После чего военные окончательно растеряли всякое доверие народа и Государя, осы неожиданно устранились, а точнее, как понял Симон, просто повели в своей излюбленной манере негласное расследование, и в итоге почти стопроцентно нераскрываемое дело свалилось всей тяжестью на его, Грая, отдел. Ответственным он назначил Дягилева и только время от времени вяло интересовался, как оно там. И двигалось «оно там» замечательно. Как любил говорить Дягилев, все яснее был виден туман.
Но самое-то любопытное, что до двадцать третьего декабря мичман Гусев считался формально погибшим. В Малой Сомалийской войне зыбкая грань между погибшими и пропавшими без вести порою оказывалась размытой вовсе. В начале декабря тело подорвавшегося на мине Гусева видели многие, факт смерти считался установленным, и мать получила похоронку. Однако в свете последующих событий не могло не показаться странным полное отсутствие фотои видеоматериалов, а также поразительно небрежная регистрация факта смерти: в разных документах оказались разные даты, свидетели же случившегося, то есть однополчане Гусева, тоже не сумели вспомнить точный день его гибели. В общем, когда мичман Гусев появился в Пиллау, никто из военных моряков не удивился, что он жив, однако само появление было все-таки неожиданностью не только для родных мичмана, но и для команды эсминца. Сам Гусев, по словам друзей, уверял, что приплыл вместе с ними, только прятался в трюме — боялся обвинений в дезертирстве.
Можно себе представить радость матери. Однако домой мичмана не отпускают. Комендатура арестовывает его и направляет обратно на борт в распоряжение контр-адмирала Величко вплоть до особых указаний. Гусев убегает из-под конвоя, а уже через двадцать минут в кают-компании «Крылатого» находят его труп. Некто, стреляя в голову и практически в упор, выпустил все до единой пули из револьвера британского производства «Смит и Вессон». Заваруха в порту была, конечно, знатная, но все равно странно, что убийцу никто не видел — все-таки шесть (или сколько там?) выстрелов подряд. Ответ один: напал на мичмана никакой не британский лазутчик, а кто-то из своих. Собственно, так и считала общественность: журналисты, политики, комитет солдатских матерей. Мичман Гусев стал нарушителем всех мыслимых уставов. Зачем? Ведь не просто так скрывался он от начальства, предпочтя числиться в списках убитых. Он что-то знал об этой ужасной бойне в Джибути, он мог поведать миру зловещие тайны Малой Сомалийской войны. Закрытость и общепризнанная непогрешимость российской военной элиты была слишком хорошо известна жандармам, особенно здесь, на одном из западных форпостов Империи, и Симон догадывался: расхожая версия предельно близка к правде. Зачем копаться во внутриармейских, внутрифлотских разборках — только наживешь себе врагов в штабе Флота, а значит, и в администрации градоначальника, и в ГубОСПО. Дягилев согласился, и при молчаливом одобрении Бжегуня дело стали спускать на тормозах, а проще говоря, положили на полку и забыли.
Февраль семнадцатого. Нойхаузен. Жандармерия вынуждена обратить внимание на заявление фрау Розы Вайсмильх, доведенной до отчаяния неким гражданином, называющим себя ее мужем. Муж Розы Фридрих умер двадцать лет назад в Берлине при весьма печальных обстоятельствах: застав жену дома с любовником, в ярости схватился за топор. Нападая, подвернул ногу и потерял равновесие, а Роза, защищаясь, толкнула его, в результате чего Фридрих ударился виском об угол камина и скончался в ту же секунду. Суд полностью оправдал фрау Вайсмильх, и с тех пор она еще дважды выходила замуж и трижды меняла место жительства. Человек, появившийся в январе в поселке Нойхаузен, был похож как две капли воды на Фридриха, причем на Фридриха двадцать лет назад. Он терроризировал немолодую и уже не совсем здоровую женщину, подкарауливал ее где-нибудь ежедневно и грозил страшными карами небесными. Дело кончилось тем, что Розу направили в медицинский центр по восстановлению психического равновесия, а лже-Фридриха выследили и задержали. В жандармерии он признался, что является незаконным сыном Фридриха от другой женщины, предъявил достаточно убедительные доказательства и объяснил, что вся эта мистификация — не более чем месть за отца. Суд признал деяния Иоахима (так его звали по документам) уголовно наказуемыми и как иностранца, по существующей договоренности между империями, приговорил к высылке из страны и передаче британским властям. И никогда бы это дурацкое дело не попало на стол к Симону, если бы Иоахим-Фридрих не был убит в берлинской тюрьме неизвестными лицами при загадочных обстоятельствах и, более того, тело жертвы исчезло из морга (как это знакомо!) и до сих пор (данные на июль месяц) не было найдено британскими коллегами Грая.
Апрель текущего года. Кенигсберг. Один из видных авторитетов преступного мира Прибалтики по кличке Кактус, зарезанный братвой в январе по решению воровской сходки, вновь появляется на авансцене. Все, то есть и блатные, и жандармы, понимают, конечно, что Кактус при жизни подготовил себе двойника. Это добавляет ему влияния в известных кругах, но одновременно вызывает и панический ужас в воровской среде. Подготовка двойников — обычное дело в практике спецслужб, но не в уголовном мире. Там не хотят понимать такого, и уже в июне Кактус-второй будет жестоко казнен, подвешенный на крючьях для свиных туш в холодильнике Первого Образцового мясокомбината имени Екатерины Великой. И это тело тоже загадочно исчезнет.
Чуть позже, снова апрель. В Георгенсвальде поселяется поклонник и даже, как он утверждает, ученик Брахерта — тихий, никому не известный скульптор Эжен Лано. Он подает документы на оформление российского гражданства. Автоматически идет проверка через иностранный отдел ГубОСПО, и там совершенно случайно натыкаются на абсолютного его двойника по имени Пьер Люно, тоже скульптора, убитого двадцать пять лет назад двумя бандитами, выходцами из России. Запрашивают архивы Интерпола, и выясняется, что один из них до девяностого года был жителем Светлогорска (он же Раушен, три километра до Георгенсвальде, то есть по-старому — Отрадного). Ни того ни другого убийцы уже нет в живых. Офицер контрразведки принимает единственно правильное в таком случае решение — выехать к месту жительства Лано, однако несколько часов уходит на согласование с начальством и формирование группы. Команда осов застает дом пустым.
В комнатах стоит едкий химический запах. Опытный руководитель группы распахивает дверь в ванную и все понимает. Туда еще опасно заходить без противогаза. Остатки мутной буровато-зеленой жижы не полностью утекли в проеденную насквозь затычку стока, а рядом оставлены два больших пластиковых жбана и зачем-то такое же пластиковое ведро. Ясно без химического анализа: в «царской водке» растворили человека. Экспертиза этот факт подтверждает, но какого именно человека, установить теперь невозможно даже теоретически. Логика подсказывает: Эжена Лано. Во всяком случае, с тех пор Лано нигде не объявлялся.
А искать убийцу предлагается, как всегда, Граю. Что ж, не привыкать, в послужном списке бывалого сыщика появится еще один «висяк».
Ну не находились убийцы двойников. Вообще-то много всяких убийц не удавалось найти. При чем здесь, собственно, двойники? И кто такие вообще двойники? По какому еще признаку объединить этих трех совсем не похожих друг на друга людей?
Кажется, Гацаурия первым заметил, что не трех, а четырех. Ведь мичман Гусев тоже типичный случай двойника. Действительно похож. Но следствию от этого легче не делалось.
Позднее про двойников стали забывать потихонечку, тем более когда появился маньяк, который раскатывал людей в лепешку асфальтовым катком. Поймали его только после пятого убийства, и особенно жутко было то, что двумя последними жертвами стали дети. Потом чуть не возникла легенда о новом маньяке. На Рингштрассе обнаружили труп мужчины, принявшего странную смерть: горло перегрызено, а лицо разодрано в клочья. Расследование, проведенное лично Граем, позволило установить удивительный факт: гражданин в состоянии сильного алкогольного опьянения был задран собственным сиамским котом, которого пытался удушить. Однако убийца, то есть кот, и в этом случае бесследно скрылся.
Над Симоном уже начали подшучивать не только в отделе, но и во всей жандармерии. Кажется, промелькнула ядовитая заметка в местной прессе. Еще бы: ведь летом кривая убийств в городе и губернии так резко пошла вверх, что в пору было гнать взашей всю криминальную жандармерию в полном составе. Симон своего увольнения ждал со дня на день, а дождался отправки в отпуск и перевода в ОСПО.
Какие же выводы напрашивались теперь? Вполне очевидные. Хотя и далекие от привычных для жандармерии. Первое. Двойники — это не совсем люди. Убийства (исчезновения) двойников — это не совсем убийства. Маньяк — это не совсем маньяк или совсем не маньяк. Ну а кто у нас в городе «не совсем»? Конечно, ханурики, они же Посвященные. Не нужно быть Микисом Золотых, чтобы сразу почувствовать: разгадка где-то там, в Обкоме.
Ни черта себе «очевидные выводы»! Симон вдруг словно проснулся. Что это, кто это, какая логика подсказала ему такое странное решение? Некто внутри него, минуя промежуточные звенья, пришел к единственно безошибочному ответу. Сомневаться в правильности не представлялось возможным, но вот понять…
Ладно, что там еще остается? Ограбления на Рингштрассе. Симон занялся ими совсем недавно, когда серия дерзких нападений на автомашины, нападений явно одного почерка, увенчалась вдруг убийством морского офицера. Связь с предыдущими делами «на раз» не просматривалась, но если внимательно перебрать всех потерпевших, среди них могут оказаться и Посвященные, и «двойники», и маньяки — в общем, это дело техники. А вот хэдейкин… При чем тут хэд? Посмотреть, что ли, эту историческую справку.
«Хэдейкин (от английского headache — головная боль), по систематической номенклатуре — диметиламид… (ладно, это мы опустим, все равно ни уха ни рыла). Синтезирован доктором химических наук академиком Борисом Александровичем Шумахером в исследовательском центре Российско-американского фармакологического общества в 1997 году. Впервые продемонстрирован и запатентован в 1998-м, а в 1999-м одобрен международными экспертными организациями и запущен в массовое производство. Относится к классу анальгетиков симптоматического действия и не обладает выраженными побочными эффектами в показанных дозах. Превышение дозы приводит к отторжению препарата организмом человека, протекающему различными путями, ни в одном из случаев не опасному для здоровья. Действие хэдейкина основано на активизации собственной защитной системы организма, что принципиально отличает его от любых других обезболивающих и анестезирующих средств…»
Зачем он это читает? Это же известно каждому школьнику… Ага, а вот и собственно историческая справка.
«По данным на декабрь двухтысячного года, хэдейкин производился в восьмидесяти трех государствах практически всеми ведущими фармацевтическими фирмами. При стационарном и амбулаторном лечении, а также для употребления в быту практически вытеснил все прочие лекарства аналогичного действия.
Официально зарегистрированы сто пятьдесят семь случаев отравления хэдейкином (все сто пятьдесят семь — передозировки в сочетании с другими препаратами, по преимуществу снотворного, противовоспалительного и галлюциногенного действия) и сорок пять случаев (так называемый случай Гесса) привыкания к хэдейкину по типу химической зависимости от наркотических препаратов. На фоне многомиллиардной положительной статистики случаи представляют чисто научный интерес как феномены психофизиологического свойства. Попытки использовать хэдейкин в качестве профилактического средства, вплоть до включения в ежедневный рацион питания, успехом не увенчались. Специальные исследования подтвердили бессмысленность подобного применения.
Отдельного внимания заслуживает сенсационная концепция русского социолога В.И. Клюева, согласно которой именно хэдейкин стал причиной интеграционных процессов в мире, особенно активно начавшихся после 2001 года. На Пятом Всемирном форуме психологов и врачей (2004 г., меньше чем за два года до окончательного подписания всех международных соглашений по макроинтеграции) в принятом совместном заявлении отмечалось: „Изобретение лекарственных препаратов нового поколения российским академиком Борисом Шумахером (биорезервин, гипердефектоза, хэдейкин и других), избавивших человечество от целого ряда ранее непреодолимых недугов, вне всяких сомнений, ускорило общемировой социальный и технический прогресс, способствовало прекращению конфликтов и улучшению взаимопонимания между народами. Меж тем переоценка роли медицины и фармацевтики в глобальных геополитических процессах является глубокой ошибкой…“»
Господи, какая скучища! Почему же все эти справки пишутся таким туповатым суконным языком? Он вспомнил, как лет десять назад что только не пытались повесить на хэдейкин. Целый огромный статистический центр, отталкиваясь от клюевской концепции, пытался доказать, что повсеместное применение хэдейкина (именно хэдейкин не давал им покоя — как говорится, с больной головы да на здоровую) изменило на планете все: процент психических отклонений и врожденных уродств, количество талантливых художников и ученых, вероятность транспортных аварий при прочих равных условиях, число самоубийств на душу населения, распространение наркомании и венерических болезней… Любопытно, что, кроме нескольких виртуозно исполненных, а затем столь же виртуозно разоблаченных подтасовок, никакой хоть мало-мальски убедительной зависимости вышеперечисленных явлений от возникновения, а также частоты и широты употребления хэдейкина обнаружить не удалось. Симон по долгу службы лично анализировал статистику по убийствам, изнасилованиям, некоторым другим видам преступлений и убедился, что кривая подъема и спада криминальной активности не давала никаких скачков ни в 98-м, ни в 99-м, ни в 2000-м. Чуть позже случилось общеизвестное обвальное сокращение числа терактов на национальной почве. Но тут уж шумахеровская химия точно ни при чем, ежику понятно. Наблюдался естественный результат макроинтеграции: помилуйте, откуда национальный экстремизм, если исчезли границы и равенство всех народов из декларативного сделалось фактическим?..
Господи, о чем это я? Ближе к теме, философ! Сформулируем так: хэдейкин и Посвященные. Эту проблему кто-нибудь анализировал? Боюсь, что нет. Но на всякий случай сделаем, конечно, запрос. Допустим, так: изменилось ли число зарегистрированных Посвященных после изобретения хэда? Хороший вопрос. Вот только кто ж их регистрировал-то до 2006 года? Кое-кто «регистрировал», как выяснилось. Золотых давеча намекнул об этом, да только там история получилась уж больно чернушная, целый отдел под откос пустили в лучших сталинских традициях, ведь тогдашний КГБ был еще плоть от плоти именно сталинской машины государственного террора. Значит… Значит, пора наконец заглянуть в «Официальную справку о Всемирном Братстве Посвященных». Кажется, ее тебе велено прочесть особо внимательно. Или ты уже решил, что знаешь о хануриках все? Слово-то какое — ханурики! Правильно говорят учителя делаются инфантильными, врачи-психиатры медленно, но верно сходят с ума, а мы, жандармы, полицейские, уже не только говорим, но и думать начинаем на «фене». Ну ладно, где эта справка?.. Ах вот почему он до сих пор до нее не добрался. Справка-то сама на дискете, а то, что он просматривал, сидя у Хачикяна, было просто кратким содержанием справки. Забавно. А что, если он сейчас возьмет и распечатает текст? Ну, допустим, глаза у него болят — так долго в экран пялиться. Попробовать?
Но Симон не стал пробовать. Помешало что-то. Внутренний тормоз сработал. Как бывает, забудешь важную вещь, вернешься домой и на всякий случай… нет, в приметы мы не верим, люди все образованные, но на всякий случай — на всякий — в зеркало ненароком и глянешь.
Распечатать, конечно, можно было, но на всякий случай — не стоило.
Из «Официальной справки о Всемирном Братстве Посвященных».
…Сам термин «посвященный» применительно к концепции сознательного бессмертия впервые возникает в начале двадцатого века в России в очередной период нестабильности и повышенного интереса к эзотерике и оккультизму. Некий пророк, якобы пришедший с Востока и называющий себя труднопроизносимым по-русски именем Хартавинагма (согласно другим записям Бхартавиншагха, Хаббартавинукх и так далее, всего девять вариантов, но ни один из них не соответствует правилам написания хотя бы на каком-то из существующих языков), излагал всем желающим Канонические Древние Тексты Посвященных, переведенные с санскрита (арамейского, пали, валлийского, древнекитайского, еще несколько версий). Тексты эти запрещалось записывать на бумаге, и действительно, записей тех лет не существует. Легенда о Посвященных передавалась исключительно устно, а суть ее сводилась к следующему (если обобщить сходные мотивы в различных вариантах пересказа):
1) Во все века существовали люди, которым от рождения или с определенного возраста открывалось, что они бессмертны.
2) Знание это, полученное свыше, не имело никакого отношения ни к одной из религий.
3) Бессмертие означало переход с нашего уровня бытия на уровень более высокий, и в принципе существовала возможность обратного перехода, чему Посвященные находили подтверждение у всех народов в легендах самых разных эпох — от воскрешения древних богов (шумерской Инанны, египетского Осириса или греческого Адониса) до вознесения на небо и возвращения на землю более близких нам по времени и реально существовавших личностей, таких, как Иисус или Магомет.
4) Количество Посвященных на Земле должно неуклонно возрастать пропорционально умножению знаний всего человечества.
5) Важным промежуточным этапом изменения Мира, согласно каноническим текстам, принято считать момент, когда Посвященным на Земле сделается каждый четвертый из живущих.
6) Отбор Посвященных производится согласно Закону Случайных Чисел, и руководят этим процессом Розовые Скалы — некая высшая сущность, находящаяся на верхнем уровне бытия (в современной трактовке Розовые Скалы представляются, по существу, гигантским компьютером или нечеловеческим супермозгом, то есть вместилищем информации, функционирующим вне зависимости от воли конкретных людей).
7) Цель присутствия Посвященных на Земле неизвестна, вмешательство их в земные дела в рамках их же собственной морали недопустимо (имеется в виду вмешательство вернувшихся «с того света»). Меж тем предсказано, что, когда знания людей сравнятся (из канонического текста не совсем ясно, станут равны или просто будут сравнимы) со «знаниями» Розовых Скал, все люди сделаются Посвященными, Розовые Скалы придут на Землю, и это будет Конец Мира.
8) Посвященным не положено объединяться между собой ни в какие союзы, но опять же предсказано, что они будут это делать и тем ускорят наступление Конца Мира.
Далее следовала фраза: «А вот несколько страниц Канонических Текстов, иллюстрирующих вышесказанное»: После двоеточия обозначены были два абзаца, а за ними, словно дырочки, прошитые автоматной очередью, бежали бесконечные точки.
«Вирус, что ли?», — подумал Симон и, слегка растерявшись, пролистнул это место. Компьютер автоматически показал, что информация не спрятана, а стерта.
Зато следующий раздел справки Симон читал не отрываясь и узнал из него, что пришествие Хартавинагмы датируется примерно 1907–1914 годами. А после Октябрьского переворота о Посвященных в России ничего не слышно достаточно долго. В двадцатые годы уже в Америке возникает секта с аналогичным названием. Священным сводом законов для сектантов являются переведенные на английский язык те же Канонические Тексты. Но и в США они не печатаются на бумаге. Западная наука проявляет интерес к новой теологической концепции, но, в конечном счете, находит ее весьма эклектичным сочетанием христианства, буддизма, индуизма и еще чего-то. Достоверность утверждений Посвященных не выше, чем достоверность любой другой религиозной или псевдорелигиозной догмы.
Настоящий же интерес к Посвященным проявляет впервые не кто иной, как свежесозданное Пятое управление КГБ СССР в конце шестидесятых годов. Именно тогда вместе с другой вражьей пропагандой в страну проникает несколько экземпляров книги, отпечатанной за рубежом (очевидно в Америке) на русском языке. Книга называется «Заговор Посвященных», имеет подзаголовок «фантастический роман», абсолютно не содержит никаких выходных и выпускных сведений, более того, даже автор ее не указан, а по сути это откровенная религиозная пропаганда. За книгой начинается настоящая охота. КГБ, разумеется, хочет получить в свои руки все экземпляры вместе с распространителями. Но тут-то и выясняется, что распространителей нет, а есть «уничтожители». Загадочные люди, называющие себя Посвященными, ради уничтожения книги готовы идти на смерть, на пытки — на все. Сказать, что возникает ситуация нештатная, значит, не сказать ничего, ведь разыгрывается форменная пьеса абсурда. И КГБ от неожиданности проигрывает Посвященным: все люди, так или иначе подозревавшиеся в соучастии по этому делу, убиты или покончили с собой, а все экземпляры книги уничтожены, во всяком случае, утрачены. И — нотабене! — информация о ее содержании осталась лишь в протоколах допросов (в крайне невнятной форме), а сотрудники
Управления, успевшие подержать книгу в руках, решительно ничего не могут вспомнить — массовая амнезия.
Спустя примерно десять лет история полностью повторяется. И тогда в Управлении идеологической контрразведки, теперь уже Управлении «З», создается специальный отдел, занимающийся только Посвященными. До самого девяносто первого года работает этот отдел, выслеживая, арестовывая и убивая Посвященных, собирая статистику, выуживая информацию всеми доступными на тот момент способами, включая изощренные пытки и новейшие психотропные препараты, фиксируя в мельчайших деталях процесс умерщвления Посвященного, пытаясь понять скрытую природу происходящего. Вся деятельность этого отдела на сегодняшний день сделалась легендой. Факт его создания абсолютно достоверен и документально подтвержден, факт ликвидации не имеет отражения на бумаге, так как архивов не сохранилось никаких. Данными о том, кто, как и когда уничтожал эти архивы, спецслужбы не располагают, причем ни российские, ни британские…
Так, подумал Симон, ну, это мы уже знаем. Листанул чуть дальше. Ага, а вот и нечто новенькое.
Численность и состав Посвященных. В древние времена — единичные случаи. В начале двадцатого века — порядка сотен человек по всему миру. Большая часть сосредоточивалась в России. Позднее в Америке. По оценкам британских ученых, перед Второй мировой войной Посвященных уже насчитывались тысячи. Шестидесятые — семидесятые годы (по дошедшим до нас результатам исследований КГБ) — десятки тысяч, более тысячи ста сорока случаев зафиксированы в СССР, по данным на 1979 год. К 1990 году количество Посвященных уже оценивается спецотделом КГБ по-другому — в процентах от общей численности населения страны и колеблется цифра в пределах от 0,17 до 0,29, то есть это уже почти миллион человек. Зарубежные показатели, даже с поправкой на возможную ошибку, ниже, но все равно тенденция — налицо.
Количество Посвященных катастрофически растет, а принцип отбора по-прежнему не ясен. Формулировка «Закон Случайных Чисел» решительно претит «философам плаща и кинжала», а любые попытки исследовать социальную структуру Посвященных по профессиональному, возрастному, половому, национальному, религиозному и прочим признакам не приводят к убедительным результатам. Впрочем, один результат имеется: абсолютно очевидно, что среди Посвященных нет сотрудников спецслужб и нет людей, стоящих у власти. Но это тоже не нарушает Закона Cлучайных Чисел — просто, сделавшись Посвященным, человек перестает быть сотрудником КГБ, ЦРУ или «Моссад» и тем паче отказывается занимать сколько-нибудь ответственные посты.
Однако данные исследований весьма отрывочны по уже упоминавшимся причинам. Смутные времена не вносят ничего нового в представления о Посвященных, а вот на рубеже тысячелетий, в преддверии великих событий, и в жизни Посвященных многое меняется.
Немец из Мюнхена Петер Шпатц создает Всемирное Братство, перебирается в Россию, получает юридический статус, осваивает уникальное помещение в тогдашнем еще Калининграде, умирая, передает все это по наследству Урусу Силоварову, а официально учтенные миллионы Посвященных тихо живут по всему миру, встречаясь в своих общинах, поклоняясь своим Розовым Скалам, передавая из уст в уста Канонические Тексты вновь приходящим братьям. Другие — их гораздо больше — ни в какое Братство не входят и живут согласно своим законам, как все обычные люди.
Все это очень мало походило на заговор. Кроме названия фантастического романа и ошалелых глаз Микиса Золотых, ничего тревожного Симон не видел. А то, что режут друг друга, так пусть режут — они же бессмертные! Черт, о каком же заговоре написано в злополучной книге? И как она попала к Кларе? Откуда?!
Он тут же набрал ее номер в Танзании, но не застал никого, даже Мугамо. Пришлось оставить сообщение на автоответчике и вернуться к своим уже изрядно утомившим раздумьям.
Ну что, аналитик, пора делать выводы? Давай, давай, штабс-капитан, пока не опух от глобальности проблем.
Пожалуйста. Вывод первый — срочно двигать в Обком. Не поговорив с Владыкой или хотя бы с кем-то из них, дальше не то что действовать, даже думать невозможно.
Вывод второй — ехать в Метрополию и там, на Лубянке, трясти всех, до кого дадут дотянуться, если, конечно, вообще уполномочат и допустят. А уж простой уголовкой, то бишь ревнивцами, котами и маньяками пусть занимается Дягилев.
Вывод третий… И вдруг — словно тихий взрыв под черепом: а кто будет заниматься Изольдой? Как он мог забыть про нее?!
Именно в этот момент зазвонил телефон.
— Господин штабс-капитан, унтер-офицер Джалябов. Срочное сообщение. Убита неизвестная девушка. Сброшена с седьмого этажа Обкома.
— Откуда?! — оторопело переспросил Симон.
— Вы не ослышались, штабс-капитан, убийство произошло в Обкоме. У меня все. Полковник Бжегунь просит вас срочно приехать.
— Да-да, конечно. Погоди, Карим. Она блондинка?
От жуткой догадки Симон похолодел.
— Минуту, шеф.
И пока Джалябов уточнял приметы жертвы, Симон считал секунды, словно концентрируя энергию перед ударом, от которого уже невозможно закрыться.
— Нет, у нее темные волосы.
Вдох — выдох.
— Хорошо. Я сейчас буду.
«А что, если…»
И тут раздался следующий звонок. Это был брат Петр из Владимира.
— Что-нибудь случилось?
— Почему сразу случилось? — с сильным ударением на все безударные «о» и «е» заговорил Петр. — Просто. Давно не звонил, стариков два года не видел…
— Ой, Петя, не сейчас, не сейчас, Петя!..
Что они все, с цепи сорвались, что ли?
И вдруг пришло осознание главного кошмара: «Вот и поработал ты, братец, в ОСПО! Уволят ведь к чертовой матери. Какой вчера был приказ? Идти в Обком. А ты что делал? Пьянствовал с никому не известной и теперь без вести пропавшей бабой».
Вот так нарочито грубо он и подумал: раз жива, значит, просто баба. И зло на нее взяло.
Он уже наговорил текст на автоответчик, и надел пиджак с полным комплектом спецснаряжения, и даже открыл дверь на лестничную клетку, когда телефон засигналил вновь.
— Симон? — спросил голос Золотых.
— Я, ваше высокоблагородие! — рявкнул Грай от неожиданности.
— А ты молодец. Хвалю. В нашем деле интуиция выше логики. Убийство в Обкоме — то, что нам нужно. Сунулись бы туда накануне — спугнули…
Глава шестая. ОБКОМ ЗАКРЫТ. ВСЕ УШЛИ НА ФРОНТ
За огороженную территорию машины не заезжали, даже самые привилегированные — не полагалось. А понаехало их изрядно: «шиков» стояло штук пять, несколько «мерседесов» и даже один «росич-император» — длиннющий бронированный лимузин, конечно, с ворсистыми шинами.
Изобретение это, еще слишком дорогое для массового производства, было не столько практичным, сколько престижным. Ну а действительно, для чего нужны эти словно мхом поросшие, не знающие сноса покрышки из полуживого, постоянно растущего, как зубы грызуна, материала — гроуруберита? Меж тем «росич-император» выпускался только с мохнатыми шинами.
В городе было два таких автомобиля — у генерал-губернатора Зоннермана и у командующего флотом Горелова. Гадать не пришлось: важные персоны только что подъехали, и из огромного «членовоза», как называли такие машины в старину, появился заместитель градоначальника господин Тучкин, питавший, по слухам, давнюю неприязнь к обитателям зловещего Обкома.
«Как же они всегда мешают работать!» — устало подумал Симон и глянул вверх, на раздвоенную серую громадину.
Удивительно низкое небо было в этот день, огромная фиолетово-свинцовая, местами почти черная туча, казалось, легла на недоделанную крышу Обкома и обессиленно свесилась вниз лохматыми клочьями.
«Ливанет с минуты на минуту. — Симон посмотрел на часы, вспомнил время звонка из жандармерии и решил, что ребята все-таки успеют до дождя сделать все самое необходимое. — Какая миролюбивая сегодня охрана! Пускают черт знает кого. Спасибо еще митинга здесь не устроили».
Он показал свое удостоверение меланхоличному верзиле с резиновой дубинкой и в ту же секунду заметил торчащий из окна третьего этажа ствол тяжелого станкового пулемета и, кажется, даже ракетную установку «шмель». По какому-то допотопному соглашению с городскими властями Посвященным разрешали держать в арсенале такие средства обороны, но выставлять их напоказ было до сих пор категорически не принято. А сегодня… Неужели охрана миролюбива лишь потому, что готовится к бою? Мило.
Возле убитой толпилось чересчур много народу: военные, журналисты, медики, осы во главе с Котовым. (Подполковник одними глазами едва заметно поприветствовал своего нового сотрудника). Симон с удовлетворением отметил, что первую скрипку играют здесь все-таки его оперативники и эксперты.
А труп и в этом случае оказался весьма неприятным для глаз. Во-первых, жертва вся была перетянута толстыми веревками, словно убийца старался подчеркнуть: это не суицид и не случайное падение из окошка. Во-вторых, кости черепа треснули при ударе о край бетонной плиты, и шершавую поверхность обильно забрызгало веществом мозга. В-третьих, тело женщины, красивое молодое тело, очень условно одетое в незастегнутый белый халатик, оказалось еще и сильно изорвано осколками битого стекла, вряд ли случайно подвернувшимися именно в этом месте.
Но это была не Изольда. Точно не Изольда.
В небе сверкнуло, громыхнуло, и начался дождь. Котов кивнул Бжегуню, Бжегунь тихо сказал:
— Убирайте.
Санитары переложили труп на носилки, накрыли простыней и, решительно подхватив, едва ли не бегом понесли к машине. Наверное, они были правы: уже через несколько секунд хлынуло с такой силой, что все, кто не успел спрятаться в машины или зайти под козырек входа, тут же промокли насквозь. Впрочем, под дырявым навесом тоже лило, просто не так сильно.
— Пойдемте внутрь, — предложил Бжегунь.
Откликнулись многие, но охранники вдруг заартачились и, ссылаясь на запреты Владыки, пропустили лишь четверых: Бжегуня, Грая, Котова и Тучкина. Последний, не умолкая ни на минуту, ворчал и пыхтел себе под нос.
— Какой этаж? — спросил Симон.
— Седьмой, — ответил Бжегунь.
— А здесь лифт работает? — поинтересовался Тучкин.
Они уже поднимались по старым, местами перекошенным лестничным маршам с щербатыми ступеньками, и никто не понял: это такая неудачная грустная шутка или вице-мэр действительно не соображает, куда попал?
Свет затекал на лестницу в основном через проемы дверей — мутный, слабый, далекий, иногда вокруг делалось чуть яснее благодаря дырам в стенах, через которые сейчас обильно хлестала вода, так что идти приходилось с предельной осторожностью. Все молчали.
Что и говорить, интерьер был грустный. Симону даже вспомнилось из какого-то старого фильма: «Обком закрыт. Все ушли на фронт». Или там был райком? Какая разница — все равно печально.
На седьмом этаже их встретил сначала Гацаурия, допущенный сюда еще двадцать минут назад и теперь окончательно растерянный, затем двое дюжих молодчиков в форме охранников Всемирного Братства, ведущие под руки человека в черной монашеской рясе, и наконец — сам Владыка Урус.
Уважаемым господам было предложено осмотреть фактическое место преступления в присутствии предполагаемого убийцы, то есть этого черного человека. Осматривать было, прямо скажем, особо нечего. Обычная обкомовская комната: лужи на полу, потеки на стенах и потолке, провалы окон, полное отсутствие мебели. Следы борьбы не обнаружены. А присутствие убийцы оказалось чисто номинальным, на вопросы он отвечал с энтузиазмом глухонемого.
Подробности доложил поручик Гацаурия. Вот точная запись его разговора с убийцей, прослушанная Симоном несколько позже.
Гацаурия. Господин подозреваемый, свидетели показали, что тело женщины, которое лежит сейчас внизу, выпало именно из этой комнаты приблизительно в 14.15–14.20. Вы находились здесь в это время?
Убийца (равнодушно). Да, это именно я сбросил тело вниз.
Гацаурия. Попрошу уточнить: тело живого человека или труп?
Убийца (еще равнодушнее). Живого человека.
Гацаурия. Вы осознаете меру своей ответственности?
Убийца (резко, но спокойно). Пожалуйста, следующий вопрос.
Гацаурия. Вы хотели убить эту женщину?
Убийца (с пафосом). Разумеется. Я обязан был убить ее.
Гацаурия. Почему?
Убийца (с еще большим пафосом). Она нарушила высший закон.
Гацаурия (начиная раздражаться). Что это значит?
Убийца (устало). Вы не поймете. Пожалуйста, следующий вопрос.
Гацаурия (с явным раздражением). Как ее звали?
Убийца. Теперь уже не имеет значения.
Гацаурия (отчаиваясь и, очевидно, начиная подозревать невменяемость допрашиваемого). Кто может подтвердить, что вы действительно были здесь и сделали это, то есть совершили убийство?
Убийца (удивленно). А моих слов вам недостаточно?
Гацаурия (повышая голос). Вопросы здесь задаю я!
Убийца. Владыка Урус может подтвердить.
Гацаурия (успокаиваясь). Ваше имя, фамилия, подданство…
Убийца (словно читая стихи). Не в этом мире давали мне имя — не в этом мире и произносить его.
Гацаурия (с холодным бешенством). Пожалуйста, следующий ответ.
Убийца. Ценю ваше остроумие, но я действительно не могу заполнять протокол. Вы, очевидно, намерены задержать меня — не имею возражений. Возражения появятся у вас самих, но позже. Пока вам необходимо убедиться, что убийство совершил действительно я. И свою главную задачу я вижу именно в том, чтобы вывести из-под подозрения других людей. На все прочие вопросы, не имеющие отношения к главному, отвечать не намерен.
Гацаурия (упрямо). И все-таки вам придется на них ответить.
Убийца (ласково). Сочувствую вам, господин жандарм, но вы заблуждаетесь. Я здесь достаточно всего наговорил, а вы записали. Дайте послушать вашему начальству. А я уж теперь помолчу. Я безумно устал.
И теперь он действительно молчал.
— Уведите, — распорядился Котов и по телефону дал команду своим людям.
Бжегунь ничего не добавил, только сказал Гацаурии:
— Спасибо, ты свободен.
И Симон понял, что сидеть задержанный будет в следственном изоляторе ОСПО. Оно разумно, конечно. Хотя и бессмысленно. Симон уже чувствовал это.
Владыка Урус кивнул своим добрым молодцам, мол, исполняйте, а затем пригласил оставшихся подняться к нему наверх.
Ступени теперь подсвечивались фонарем идущего впереди старика, так что подниматься стало несколько легче, но все-таки восемнадцатый этаж (если они не сбились со счету) — и карабкаться осточертело всем, даже Симону. Котов принялся нервно насвистывать, терпеливый Бжегунь упорно пытался скрыть одышку, а Тучкин булькал непрерывно, захлебываясь от ядовитых замечаний. Однако никто из спутников не обращал на него внимания.
Наконец они попали в просторный и светлый кабинет Владыки. Во всяком случае, здесь напротив широких оконных проломов (да, не проемов, а именно проломов) высился гигантский засыпной сейф, в углу, припав на сломанную ногу, догнивал письменный стол, а в центре полукругом располагались в меру ободранные и как будто даже сухие кресла. В них и было предложено сесть. Никто не возражал. Только неугомонный Тучкин вопросил:
— А может быть, нам все-таки лучше пригласить господина Силоварова на разговор к себе?
— Не лучше, — коротко и жестко ответил Котов.
Почему именно Котов? Но Тучкин как-то сразу неожиданно сник.
Симон смотрел в окно на дождь, и ему пришла в голову почти смешная мысль: удивительно жалким выглядел этот мелкий, суетливый, игрушечный какой-то Тучкин рядом с тяжелыми, грозовыми, очень настоящими тучами. А седобородый, похожий на Берендея старик Урус, озиравший своих гостей печально и торжественно, наоборот, казался прямым продолжением таинственных и могучих сил природы. Подобрав свой лилово-серый плащ длиной до полу, Владыка придвинул табуретку и сел. Табуретка была примечательная — похоже, времен коммунистического строительства и уцелевшая лишь благодаря заляпанности и пропитанности насквозь олифой, нитролаком и водоэмульсионной краской.
— Выслушайте меня, люди, — начал Владыка. — В нашем священном Братстве беда и раскол. С тех пор, как мы здесь, наш Дом не знал, что такое убийство. Данной мне властью я запретил убивать. Но, видно, власти моей приходит конец, коль появились люди, совсем иначе понимающие Высший Закон Посвященных. И несчастная Бранжьена, та, которой нет теперь с нами, и несчастный Ноэль, тот, что убил ее, — оба они Посвященные, но оба и растоптали Высший Закон. Сами же считают иначе, сами они считают себя Посвященными Иной Конфессии. Но нет иных конфессий — есть только те, кто соблюдает Высший Закон, и те, кто нарушает его.
Он помолчал, оценивая произведенное впечатление. Впечатление было никакое. Бжегунь силился понять, о чем речь, Тучкин раздражался, а Котов, спокойный как танк (все равно не ему расшифровывать эту абракадабру), только проверял пальцем в кармане, работает ли передатчик, идет ли запись. А Симон медленно, но верно впадал в странное состояние умиротворенности и даже тихого восторга — восторга первооткрывателя. Он тоже не понимал, но чувствовал наверняка: Владыка Урус говорит правду, и разобраться в происходящем можно только с помощью этой правды.
— Я знаю, — продолжал старик, — вы ждете простых ответов. А простых ответов не будет. Время простых ответов ушло навсегда. Я не смогу объяснить вам, кто такие Бранжьена и Ноэль и откуда они пришли. У Посвященных не принято спрашивать об этом. Но вы захотите знать и во имя этого знания употребите всю вашу мудрость и всю вашу силу. Но мудрости вашей, поверьте, окажется недостаточно, а сила ваша велика, но это оружие обоюдоостро, и, умоляю вас, применяйте его осторожно! Посвященные — не граждане России и не граждане Британии. Посвященные — граждане Вселенной. Эту незамысловатую истину понимал даже наш последний президент. Поймите и вы. Попробуйте снова, как двадцать лет назад, оставить нас в покое. Это наш общий с вами последний шанс.
Сегодня у вас в руках Ноэль. Учтите, он может быть опасен. Но я способен только предупредить. Не в моей власти уберечь вас от опасности. Я чувствую: власти моей вообще приходит конец. Ибо не нами сказано: «Умножай знание в себе, а не в мире». Это — третья заповедь Высшего Закона. Единожды преступив ее, остановиться трудно, и мир вокруг начинает рушиться. Но все-таки. Все-таки они еще могут остановиться. Я вижу надежду…
— Можете вы, черт возьми, допросить этого деда по всей форме? зашептал Тучкин на ухо Бжегуню. — Ну, изменить ему, как это, меру пресечения?
— Нечего менять, ваше благородие, — ответствовал Войцех также шепотом. — Он же ни в чем не обвиняется. Ну вышлете вы ему повестку…
Котов свирепо покосился на обоих, и они замолчали. Владыка тоже молчал. Потом произнес, явно в завершение аудиенции:
— Может быть, мы навсегда уйдем отсюда. Возможно даже, это случится очень скоро.
— Спасибо. — Котов поднялся первым. — Вы оставляете за нами право прийти к вам с новыми вопросами?
— Безусловно. Только не делайте скоропалительных выводов. Да поможет вам высшая мудрость.
Владыка проводил их к выходу и в пронзительно тоскливом огромном фойе с разбитыми зеркалами и ржавыми крючьями гардероба неожиданно тронул Симона за рукав:
— Господин Грай, если не возражаете, я поговорил бы с вами с глазу на глаз.
Оба его начальника, застигнутые врасплох словами Уруса, приняли предложение хоть и молча, но с таким откровенным энтузиазмом, что только полный кретин типа Тучкина этого мог не заметить.
Глава седьмая. ОТСТАВИТЬ ЧУДЕСА!
Огромный конференц-зал Северного крыла, напоминавший развалины римского Колизея, они прошли насквозь по сцене, вернее, по ее ржавому каркасу, застеленному неровными асбоцементными плитами. Владыка Урус остановился на секунду и поприветствовал паству поднятыми вверх руками. Прихожане, угрюмые, плохо одетые люди, во множестве сидевшие на бетонных ступенях зала, молча ответили тем же. В дальних рядах, воткнутые между кресел, горели факелы, хотя света, проникавшего сквозь узкие окошки под потолком, было вполне достаточно. «Траур у них сегодня, что ли?» — подумал Симон, но задать вопрос счел нетактичным. В этих стенах любые, даже самые невинные, вопросы звучали порой абсолютно неприлично.
Он вспомнил, как увидел именно этот зал, когда впервые попал в Обком года три назад в компании с очень серьезной и всем недовольной дамой из губернского санэпиднадзора. Прихожан тогда было еще больше, а выглядели они еще ужаснее: оборванные, грязные, совершенно на вид больные. И засела в памяти одна деталь, удивившая сразу: не было запаха. Точнее, был, но совсем не тот — запах пыли, тяжелых портьер и засохшей краски, романтический запах музейных запасников и театрального закулисья.
Простую догадку подтвердила и строгая дама-надзиратель, не нашедшая на этажах Обкома ни явных нарушений общих санитарных норм, ни конкретных возбудителей страшных болезней, о которых так много судачили в городе. Все собравшиеся здесь «бомжи» и «голодранцы» были, по существу, актерами, а их грязно-кровавые, липкие на вид и полусгнившие лохмотья оказались сплошной бутафорией.
Владыка Урус читал тогда проповедь. Симон послушал немного, послушал, учуял знакомые елейные нотки, привычный набор фраз, не по-русски построенных из вполне русских слов, оригинального смысла не уловил и заскучал. Мать с детства заставляла его ходить в православный храм, а ему не нравилось, и чем старше он становился, тем все сильнее не любил церковь. Здесь тоже была хоть и новая, странная, чумовая какая-то, но все-таки церковь. Так ему показалось тогда. А вот теперь показалось иначе.
Попетляв совсем темными коридорами, где без фонарика смогла бы бродить только кошка или человек, выучивший наизусть все повороты, они внезапно оказались перед большим зеленовато фосфоресцирующим прямоугольником. Дверь? Точно, дверь. Силуэт старика на этом зеленом фоне поднял руку, провел ею справа в темноте, тихо щелкая клавишами (пульта? кодового замка?), и дверь открылась, то есть стала падать вперед, то есть нет, она стала вытягиваться, превращаясь в длинную светящуюся дорожку… В общем, описать это было очень трудно, но они действительно пошли по зеленой тлеющей полосе, и шли долго, кажется, все время вниз, а потом была другая дверь, уже вполне обычная. Когда она захлопнулась за спиною, на мгновение сделалось совсем темно, а после сразу вспыхнул нормальный яркий свет.
Это был аккуратный, чистый, хорошо обставленный и очень современный офис. Да, не кабинет, а именно офис — в классическом британско-американском стиле: черно-бело-серая гамма во всем, яркие вкрапления мелких канцелярских предметов, зеленые и красные глазки светодиодов, мерцание экранов.
Откуда-то вдруг вспрыгнул на стол крупный рыжий кот с широкой мордой и очень пушистым хвостом. «М-м-а-а-о», — солидно сообщил он утробным голосом и свернулся в калачик на черном пластиковом кресле.
— Так, значит, это все — маскарад? — такими были первые слова, которые смог произнести Симон Грай.
— Да, — сразу согласился Урус, но тут же добавил: — Мне только интересно знать, что конкретно вы имеете в виду?
— Н-ну… — начал было Симон и прикусил язык.
Действительно, что считать настоящим: полуразвалившийся Обком или этот шикарный офис в подземелье?
— Не мучайтесь, — сказал старик. — На самом деле действительно все маскарад. И Братство Посвященных, и эта моя шпионская конура, и…
Владыка Урус бросил на кресло свой монашеский плащ, и под ним оказался в вытертых джинсах и ковбойке. Оставалось отклеить бороду и снять маску, имитирующую морщины. Но этого не произошло. Похоже, борода была все-таки настоящая, да и руки его — старческие руки с дряблой кожей в пигментных пятнах выдавали действительно преклонный возраст.
— Садитесь, — предложил Владыка, — кофе хотите?
— Лучше чаю, — довольно нагло ответил Симон, впрочем, уже догадываясь, что здесь и сейчас это не проблема.
И действительно, очень скоро какой-то автомат сотворил чашку чая для гостя и кофе для хозяина.
— Вот что, друг мой, признавайтесь сразу, записывающая аппаратура у вас с собой?
— Разумеется, — подтвердил Симон.
— Так вы ее отключите, друг мой. Это — мое непременное условие. Если потом у вас возникнут трудности с начальством, я предоставлю им запись нашей беседы и сумею доказать подлинность микродиска, но смею надеяться, до этого не дойдет. Договорились?
Симон вытащил диктофон из кармана и положил на стол, освободив дисковод.
— Это необязательно. Я вам верю.
— Почему? — быстро спросил Симон.
— Если отвечу честно, вы не поймете и не поверите. Давайте пока обойдем этот вопрос. И начнем с другой стороны. Вы подчиняетесь Котову, лично проинструктированы генералом Золотых и собираетесь продолжать расследование, начатое Вердом. Все это так и не так. Вам только кажется, что вы работаете на КГБ. Но покуда у вас нет возможности выйти за пределы такой иллюзии, продолжайте пребывать в ней. Я бы мог сказать, на кого вы работаете в действительности уже со вчерашнего дня, но вы опять же не поверите, а значит, это неправда.
— Странная логика, — заметил Симон.
— А в мире вообще много странного, — усмехнулся Урус, — гораздо больше, чем вы думаете. Вас, например, не удивляет моя осведомленность?
— Да, честно говоря, уже не очень. За эти два дня, что я работаю на вас…
— Я этого не говорил, заметьте.
— Неважно. За те два дня, что я работаю на вас, — упрямо повторил Симон, — удивляться мне стало как-то даже неприлично. Тем более такой безделице: чтобы влезть в секретные отчеты ОСПО, достаточно иметь там своего человека или парочку гениальных хакеров, читающих на просвет все, что попало в компьютерную сеть. Кстати, причины и обстоятельства убийств вам тоже известны?
— Погодите с убийствами, сейчас мы до них доберемся. Я только сначала хочу объяснить вам кое-что о Посвященных.
— Что ж, ваша осведомленность в этом вопросе сомнений у меня не вызывает, — съязвил зачем-то Симон. — Но я хотел спросить о другом. Если угодно, о самом важном для меня.
— Валяйте, спрашивайте, — небрежно махнул рукой Урус, и созданный им до этого образ Властителя Дум, Владыки, духовного пастыря окончательно развалился.
— Кто такая Изольда? — выпалил Симон.
— Изольда? — Урус был явно озадачен.
— Понятно. Простите… А я-то думал, она из ваших.
Симон растерянно потупился. Значит, никакой он не бог, просто тривиальный резидент инопланетной, скажем, разведки, и наблюдает эта доблестная служба, разумеется, только за КГБ, а лично Симон Грай нужен им, как от мертвого осла уши.
— Нет. — Старик помолчал. — Я действительно не знаю, кто такая Изольда. А про Посвященных все-таки расскажу вам.
— Погодите, — снова перебил Симон, — если я правильно понял ваши слова там, наверху, Посвященные не должны делиться своим тайным знанием с окружающим миром, то есть с обычными людьми, такими как я, например. Или вы уже записали меня в Посвященные?
Старик грустно улыбнулся.
— Давайте с этого и начнем. Вы будете наконец слушать?
Грай не удостоил его ответом на этот риторический вопрос, и Урус продолжил:
— В Посвященные нельзя записать. Это вам не КГБ. И даже не элитный клуб. Собственно, в целом свете никто — подчеркиваю, НИКТО — не знает наверняка, как и почему становятся Посвященными. А ими становится все больше и больше людей… В древние времена Посвященными рождались, редко, очень редко, но именно рождались. Позднее, лет через триста, удается отследить первые случаи, когда Посвященными становились. И наконец, только в двадцатом веке возникает некое таинство, обряд, процедура Посвящения. Но это все — внешнее. А суть не выразишь точнее, чем сказано во второй заповеди Высшего Закона. Впрочем, послушай их все.
Заповедь первая: Если тебе открылся путь, идти по нему можно и вперед, и назад. Но ты иди по нему только вперед, ибо это правильно.
Заповедь вторая: Помни, Посвящение дается свыше, но это не награда и не кара, ибо не заслужили мы ни того ни другого.
Заповедь третья: Умножай знание в себе, а не в мире, и не пытайся творить добро, ибо злом оно обернется.
Заповедь четвертая: Живи той жизнью, какой живут все живые, ибо прежде всего ты — человек.
Заповедь пятая: Не убивай, ибо кровавому пути не будет конца.
Заповедь шестая: Не зови смерть, ибо власть над нею иллюзорна.
Заповедь седьмая: Не люби смерть сильнее жизни, ибо сладость смерти мимолетна, а жажда жизни неутолима и вечна.
Заповедь восьмая: Не верь в богов людских, ибо един бог твой и нет его.
И девятая заповедь: Помни, величайший из грехов — возвращение назад, ибо все прочие грехи от него и родятся.
— Значит, девятая заповедь, по существу, повторяет первую? Я правильно понял? — спросил Симон.
— Да. Ее еще называют Главной Заповедью.
— Значит, и здесь восьмой цвет радуги?
— Вот видите, друг мой, как много уже вы знаете.
Если и была ирония в последних словах старика, то еле-еле, едва-едва уловимая — не ирония даже, а так, ироньишка.
— И что же, — поинтересовался Симон, — все это никогда не было записано на бумаге?
— С разрешения Братства — никогда. Все наши особые знания передавались только изустно. Запрет писать Канонические Тексты человеческой рукою иногда называли десятой заповедью. Это неправильно. Запрет не является частью Высшего Закона, а только лишь прямым продолжением, следствием третьей заповеди. Он порожден был необходимостью жить в глубоком подполье. И лишь двадцатый век перевернул все.
Наши философы перестали обсуждать вопрос, считать ли истинно каноническим текст, написанный львиным хвостом или прибоем на песке. Появилось слишком много способов записи. А вместе с ними — способов исследования. И люди вознамерились чисто эмпирически познать мир целиком. И страшный вирус гностицизма проник на второй уровень Вселенной. А Посвященных вдруг сделалось много, очень много. И грешников среди них стало больше.
И тогда появились грешники поневоле, нарушители Главной Заповеди, которые не могли иначе, которые должны были ее нарушить. И узнали они, что больше девяти грешников не может на себе носить Земля. И это оказалось частью Высшего Закона.
И тогда начались убийства, и самоубийства, и поиски смерти, и были нарушены все девять заповедей, от первой до последней, и стройный, вечный, неколебимый мир Посвященных стал другим. И я сказал: значит, так и было предначертано. И сколько ни нарушай Главную Заповедь, текст ее остается неизменным. А дух — тем более. Нет пути назад, и коли сделался мир другим, значит, не бывать уже ему прежним.
Но был другой кроме меня. Он говорил иначе: Высший Закон абсолютен, нарушивший его да не простится, и сколько ни есть грешников, кара настигнет всех. И потому велел он послать в мир своих карателей. И каратели пришли и разили. И поныне разят, чтобы спасти мир.
Я, Владыка Урус, облечен властью Белыми Птицами Высот. Он, Владыка Шагор, послан Черными Рыбами Глубин. Нам никогда не понять и никогда не победить друг друга, но если приходит он, я ухожу. А потом он уходит, и вновь прихожу я. Это как день и ночь. Но только каждый восход и каждый закат Вселенная рвется на части, а люди живут в ней и не слышат взрывов.
В какой-то момент Симон утратил способность отслеживать логическую нить повествования, вновь безнадежно увяз в раздражающей патетике псевдорелигиозного стиля, потом, преодолев внутреннюю неприязнь, начал слушать Владыку, как слушают музыку — душой, а не разумом, и, наконец вспомнив, что в Высшем Законе Посвященных ничего о душе не говорится, что принято среди них не верить, а понимать, вновь раздражился, расстроился и взмолился:
— Владыка Урус! Слишком много непонятного. Опять слишком много.
— А так и будет. Так и будет всегда, — странно ответил старик. — И вдруг добавил: — Тебе надлежит сегодня же поехать в Раушен.
— Зачем? — вздрогнул Симон.
— Не спрашивай. Просто я знаю: ты нужен там.
И Симон больше не спрашивал, безоговорочно приняв ответ. Приказы не обсуждаются. И тут же мелькнула новая мысль: «В какой момент он начал говорить мне „ты“? Очевидно, такой переход предполагает взаимность? Попробуем».
— А помнишь, Владыка, ты обещал мне рассказать про убийства?
— Обещал, — согласился Урус. — Рассказываю. Существует семь видов убийств, после которых Посвященный не может вернуться назад. Это не совсем так, если быть пунктуально точным, но многие верят в магию семи способов. Верят настолько, что действительно не могут вернуться. Итак, древние считали, что грешника должны погубить: семь пуль в правый глаз, семь ведер едкой кислицы, семь крючьев между ребрами, семь рваных ран от кошачьей лапы, разделение тела на семь частей, семь вервей, летящих вниз, и семь ударов ножом под лопатку.
Вся эта информация показалась Симону ужасно несерьезной, почти смешной, так и хотелось добавить что-нибудь вроде: «А еще семь соплей в правое ухо и семь пинков под левую ягодицу». Но он сдержался, а зацепился лишь за одну деталь в первом способе:
— А разве древние знали, что такое пуля?
Старик широко улыбнулся. Было видно, что вопрос очень понравился ему.
— Конечно, знали. Ты забываешь, друг мой, мы говорим о Посвященных. Мы говорим о тех Посвященных, которые были творцами Высшего Закона. Само понятие «время» — для них этакая милая и очень гибкая абстракция!
Симон закрыл глаза и потер их кулаками, словно хотел проснуться, но это было просто от усталости.
— Думаю, достаточно на сегодня, — совершенно в тон Владыке Урусу произнес чей-то новый голос.
В трех шагах перед Симоном стоял весь в черном, как британский констебль, только без знаков различия, молодой человек приятной наружности, необычайно похожий на Великого Князя Федора Константиновича — не хватало разве бороды, эполет да благородного блеска в синих глазах. Урус болезненно скривился и теперь молча глядел на вошедшего, а Симон, впадая в панику, пытался сообразить лихорадочно, как же, как же он вошел так: и быстро и незаметно.
— Действительно, хватит, — продолжал говорить похожий на Великого Князя, — вы уже и так превратили прокрустово ложе Высшего Закона в какое-то подобие безразмерного презерватива. Но уверяю вас, Владыка, презервативы тоже лопаются, если слишком долго надувать их. «Главная Заповедь, Главная Заповедь!» Вы демагоги цвета неба. Нет главных заповедей, есть Высший Закон — и точка. Это вредоносные толкователи придумали, будто перебежчики хуже трепачей. На самом деле с перебежчиками можно и нужно работать, а с трепачами всегда был разговор короткий — к стенке! Вот так-то, Владыка Урус. Окопались тут, сыплете с прогнивших трибун витиеватыми словесами, а на самом-то деле элементарно прохлопали утечку информации, и теперь, когда все покатилось к едрене-фене, вместо того чтобы нормально провести зачистку…
— Помолчи, — вдруг тихо оборвал его Урус. — Ратуешь за полное неразглашение, а сам?
— Из того, что я тут наговорил, этот жандарм не понял и десятой доли, ты же ему устроил ликбез — уже добрый час разжевываешь все, начиная с азов. Сравнил жопу с пальцем!
— Да, разжевываю, — еще тише проговорил Урус, — поскольку считаю, что он — это возможный Номер Три.
— Вот как? — удивленно-растерянно и как-то очень гаденько улыбнулся человек в черном. — Есть основания?
— Есть.
— Ладно, — сказал совсем уже попритухший «великий князь» в черном. Все равно на сегодня хватит. Стало быть, ты намерен пока его отсюда выпустить?
— О, высшая мудрость, как ты меня утомил, Шагор!
Странно прозвучало это имя, произнесенное до того, как показалось Симону, в каком-то исторически-каноническом аспекте. Жандарм Грай уже решительно ничего не понимал, но очень напрягался, чтобы поточнее запомнить и потом на досуге хорошенько обдумать все.
— Ладно, не хнычь, — ворчал Шагор. — У всех свои слабости. Ты приводишь в Дом много лишних людей, а я привык задавать много лишних вопросов. Достать ключ от второй двери?
— Нет, — язвительно улыбнулся Урус, — попробуй открыть ее глазами.
— Дурацкие у тебя шутки, — обиделся почему-то Шагор, — я просто думал, ты проведешь его прежней дорогой.
— Что?! Ты сам-то разве всерьез говоришь?
— А что такого? Номер Три — так Номер Три. Заодно бы и проверил.
— Сволочь, — прошипел, не сдержавшись Урус. — Доставай ключ.
И пока черный Шагор, напрочь утративший в глазах Симона все свое великокняжеское благообразие, возился с кодами на сейфовой дверце в стене, Старик Урус, усталый, осунувшийся, словно постаревший вдруг на несколько лет за этот час, неожиданно повернулся к Симону и сказал:
— Вот что, друг мой, я, кажется, понял, кто такая эта твоя Изольда. Она действительно из наших. Ее настоящее имя Анна, но это пока все, что я могу сообщить. Поезжай-ка в Раушен. И… удачи тебе!
А после, очевидно, с помощью вышеупомянутого ключа в дальнем конце офиса с довольно громким шипением разверзлась стена. (Симон поклялся бы чем угодно, что не слышал этого звука, когда появился Шагор.) В образовавшемся провале было очень темно, и оттуда пахнуло сыростью. Дополнительных инструкций не последовало, поэтому Симон забрал свой диктофон и шагнул во мрак. С тем же шепением массивные плиты за его спиной сомкнулись, и, потрогав пальцами шершавый бетон, он так и не сумел обнаружить стык. Когда глаза пообвыкли немного, стал заметен слабый свет впереди слева. Метров через пятьдесят туннель поворачивал на девяносто градусов, а дальше, уже совсем близко, виднелся грязноватый бурьян и даже кусочек неба, исчирканный дождиком. И пока Симон покрывал расстояние в каких-нибудь двадцать тридцать шагов, старательно уворачиваясь от обязательных в таком уютном месте кучек дерьма разной степени давности, он успел подготовиться морально и практически к десятку самых безумных вариантов дальнейшего развертывания сюжета. Допустим, его там ждут: свои, бандиты, КГБ, британская разведка, разумные баклажаны с Тау Кита… Допустим, он окажется: в другом конце города, в другой стране, на другой планете… Допустим, прошло очень много времени: сутки, месяц, тысяча лет… Допустим.
Он вышел на берег Прегеля примерно в полукилометре от Обкома. Далековато? Да нет, нормально. Никто не встречал его, кроме двух бездомных собак. С неба сыпался мелкий противный дождик, а электронное табло на Торговом центре высвечивало время и дату, в точности совпадающие с показаниями часов на его руке.
— Отставить чудеса и сказки! — сказал себе Симон тихо.
Потом подумал: «На сборы и звонки достаточно будет минут сорок. На дорогу — полчаса. Вперед, поручик! Или все-таки штабс-капитан?»
Глава восьмая. БЭТЭЭР У РАЗВИЛКИ
Раушен… Р-ра-а-аушн — это шипит морская пена, это волна перекатывает мелкие камешки, это ветер шумит в листве над высоким берегом, и с лохматых обнажившихся корней вниз по крутому склону шурша осыпается песок, падает целыми пластами… А «rauschen» и означает по-немецки — шуметь, журчать, шелестеть. Какое точное слово! Когда-то в юности он прочел у Хемингуэя, что из всех слов «смерть» на разных языках самое мертвое — это немецкое «tod». Во всех известных Симону языках не было более шелестящего слова, чем «раушен». Какой точный язык! А «rausch», кстати, означает опьянение, хмель, а еще — упоение, страстную увлеченность чем-то. И такое было у него в Раушене. Было. И может быть, снова ждет. Нет, не пьянка, выпил он за минувшие два дня по меньшей мере двухнедельную норму, так что лучше теперь воздержаться. А предчувствовал, что ждет его как раз упоение, упоение тайной и страстью.
Положительно Симон не узнавал самого себя. Когда он последний раз читал стихи? В школе? Ну, может быть, чуть позже — когда за Марией ухаживал. А когда он вообще-то последний раз читал? И вдруг такая поэзия из него поперла. Вот именно. Хорошо сказано: поэзия поперла. С чего бы это? А может быть, он — уже не он. Вернее — не совсем он. Как Посвященные — не совсем люди, а убийства их — не совсем убийства.
Помнится, в Академии все они увлекались фантастикой. Как раз начиналась новая эпоха стабильности, когда человечество подводило жирную черту под всеми страшными катаклизмами минувшего века, и опять ясна была перспектива, и не нужно стало бояться завтрашнего дня, потому что в принципе он будет таким же, как сегодняшний, только лучше, и покатятся вперед годы и десятилетия. Не будет переворотов, мировых войн и иссушающей заботы о хлебе насущном — будет только забота о своей стране и обо всем человечестве. Жить в таком мире удобно, тепло и уютно — здорово, но писать и читать о нем — скучно. Вот почему опять резко поднялся рейтинг фантастических сочинений: космических опер, эзотерических триллеров, мудреных раздумий киберпанков и романтических фантазий современных сказочников. Симон изрядно наглотался тогда литературы об иной реальности. Наверно, и «черное солнце» вылезло из какого-нибудь бестселлера той поры.
И вот сейчас ему в голову вошла не слишком оригинальная (для фантаста) мысль, что в его собственный мозг подселилось чужое сознание (инопланетянин, путешественник во времени, просто какой-нибудь местный колдун) и этот другой индивид, может быть, пока еще достаточно робко, начинает показывать характер. Симон попробовал проанализировать события последних двух суток в рамках такой бредовой гипотезы, а потом примерил свои выкладки к серии теперь уже не слишком загадочных убийств. Убийств Посвященных. Получалась в целом полнейшая чепуха, но раздвоение сознания у Анны-Изольды просматривалось довольно четко. Более того, если допустить, что в одном человеке может сидеть два, не был ли Посвященным и сам Золотых? Черт, как нескладно, что нельзя одновременно рулить и набрасывать свои догадки на листе бумаги! Да, выезжая, он думал о том, чтобы взять шофера тире охранника, по рангу ему вполне полагалось, но в специфику сложившейся ситуации посторонний человек никак не вписывался.
А Симон ехал в Раушен по шести, как минимум, разным причинам.
Во-первых, хотелось отдохнуть, подышать свежим воздухом и окунуться в море. Действительно хотелось. Вместе с тем для какой-то группы людей он как штабс-капитан Грай изображал отъезд в очередной отпуск. Легенда номер один.
Для другой группы людей он (опять же как штабс-капитан Грай) ехал расследовать серию не совсем обычных преступлений, ниточки от которых так или иначе тянулись в Раушен, Кранц, Георгенсвальде, словом, на Взморье. Легенда номер два.
Для третьей группы лиц уже как поручик Смирнов он мчался сейчас к морю, с тем чтобы во спасение великой России и всего человечества раскрыть зловещий заговор Посвященных. Легенда номер три. Да, это тоже была легенда, потому что и чекиста Смирнова уже успели перевербовать.
И теперь в качестве «шпиона Владыки Уруса» он спешил в Раушен навстречу неизвестно кому и неизвестно чему. Но там на месте ему обещали объяснить. Он ехал, выполняя приказ (или все-таки просьбу?) старика, поскольку тот казался чем-то неуловимо симпатичнее и грубияна Шагора, и даже Микиса Золотых. Симон готов был работать на Посвященных. Легенда номер четыре? К сожалению, к счастью ли, но — да. И это — легенда.
Потому что на самом деле он ехал в Раушен к Изольде.
Он дважды звонил ей из машины, но телефон на Октябрьской, двадцать три, по-прежнему молчал. Симон ехал к ней, и это было важнее всех дел, важнее всего на свете. Но было бы странно не помнить, как тесно — уж слишком тесно! — связана Изольда со всеми вышеназванными делами-легендами.
Так не была ли и это еще одна легенда, легенда номер пять, только теперь уже не для кого-нибудь, а для себя самого? И тогда настоящая правда — вернемся к началу — желание плюнуть на все и отдохнуть. Во, как хорошо он усвоил логику Посвященных! Только жаль, что в своих легендах девять уровней не наковырял, всего семь получилось. Дохленькая такая радуга в пять цветов, не считая неба. Китайский вариант. У них же в октаве пять нот, вместо наших семи, а господин Скрябин в свое время утверждал, что семь нот и семь цветов спектра находятся в буквальном соответствии друг другу. Бог мой, откуда я все это знаю? Ах да, это же не я — это некто, сидящий во мне!
Симон улыбнулся. Стало вдруг удивительно легко и весело на душе. Свинцовые тучи растянуло поднявшимся ветром далеко-далеко, по разные стороны окоема, выглянуло солнышко, асфальт дымился, быстро высыхая. Белые полосы разметки, белые кольца предупреждающей краски на деревьях вдоль шоссе, белые аисты на столбах, поля, словно шахматная доска в желто-зеленую клетку, мокрые красные черепичные крыши хуторов, мокрые красные спелые яблоки в листве — все выглядело удивительно красивым и свежим каким-то. Будто весь мир только что проснулся, умылся и отправился…
Симон не успел придумать, куда отправился весь мир, потому что у поворота на Раушен стоял бэтээр. Никогда у этой развилки никаких постов не было, даже полицейских. Подъехав ближе, Грай понял, что закрыт проезд на Пиллау — в Раушен путь свободен, но он специально проскочил поворот и остановился перед преградившим ему дорогу морским пехотинцем, державшим автомат на груди. Его напарник, прислонившись к броне, мирно грыз яблоко.
— Документы, пожалуйста, — козырнул матросик.
Симон, на секунду замешкавшись (в разных карманах лежали разные удостоверения), решил, что все-таки вернее будет представиться офицером ОСПО.
— Проезжайте, — великодушно позволил автоматчик, удовлетворившись сходством лиц человека за рулем, не выпускавшего пластиковую магнитную карточку из рук, и Павла Сергеевича Смирнова на фотографии.
Но Симон проезжать не стал, а, напротив, заглушил мотор и вылез из машины.
— Старший наряда кто? — поинтересовался он.
Кликнули старшего. Тот вылез из бэтээра слегка помятый (спал там, что ли?), тут же вытянулся по стойке «смирно» и преувеличенно бодро представился:
— Фельдфебель Выдра, вашскородие! Служу царю и Отечеству!
— Славная у вас фамилия, фельдфебель, — заметил Симон. — Доложите обстановку.
— На вверенном мне участке происшествий не зафиксировано. Задержанных нет. Три легковых автомобиля со стороны Кенигсберга направлены мною обратно в город согласно приказу командующего об особом режиме патрулирования.
— С чем связан особый режим патрулирования?
— Не могу знать, господин поручик!
— Вольно, господин фельдфебель…
Ох как не понравился ему этот бэтээр на развилке! Стало быть, чрезвычайного положения еще не объявили, военного — тем более, но морскую пехоту уже привели в полную боевую. Значит, о чем-то таком очень неприятном доложила генералу Горелову военная разведка. О чем же? И когда успели? Ведь час назад даже Золотых ничего не знал об этом. Или просто не счел нужным говорить?
Симон заметил, что теперь он совершенно машинально начал слабее давить на газ: до приезда хотелось еще слишком многое обдумать, а новая информация обрушивалась на него с яростью горного селя, опрокидывая и смывая все только что построенное с таким трудом.
Когда, отчитавшись коротко о беседе в Обкоме перед Бжегунем и Котовым, он скачал на диск портативного компьютера необходимый для работы объем сведений и еще раз терпеливо послушал длинные гудки после набора номера Изольды, когда автоответчик, домашняя сигнализация, оружие, записывающая и прочая спецтехника были уже тщательно проверены, а папка с важнейшими документами и бумажник со всеми наличными деньгами уложены в переносной сейф, словом, когда оставалось только закрыть дверь и дойти до гаража, он все-таки решился и позвонил Микису. Уж если такой случай не считать исключительным, как тогда вообще работать?
— А, это вы, Павел, — Золотых, очевидно, был не один, о чем давал понять, называя Симона служебным именем. — Слушаю вас очень внимательно.
— Микис, тебе известны семь способов убийства Посвященных? Это из Канонических Текстов.
— Да, конечно, — откликнулся Золотых. — Только я читал о них давно и в плохом переводе.
«Читал?! Неужели действительно читал? Или все-таки слышал?»
— Я скину тебе точный текст по сети вместе с другой важной информацией, а пока послушай вот что. Быть может, я не прав, Микис, но эту догадку мне не хотелось сообщать через Котова. Я проверил на предмет некоторых деталей три случая так называемых убийств двойников, добавил два последних и дурацкую историю с котом-живодером. Обрати внимание, Вайсмильх не в счет, Верд, естественно, тоже, ведь он же не двойник. И — ты представляешь? — все сходится, Микис. Они все Посвященные, они вернулись оттуда, и их всех отправили назад. А те, кто отправляет Посвященных на тот свет, как бы это сказать… еще «посвященнее», вот почему мы и не можем их поймать. Это показалось мне самым важным. Еще раз извини, если я не прав. Остаюсь на связи и выезжаю в Раушен.
— Почему именно туда?
— Там мой дом, Микис, там я провожу отпуск, и там живет наш окончательный ответ на все вопросы. Так мне кажется почему-то. Интуиция в нашем деле важнее логики. Цитирую по памяти.
— Хорошо, — только и сказал Золотых.
Неприятный осадок остался у Симона от того разговора. Так бывает, когда разоткровенничаешься со старым другом, ожидая от него сочувствия и ответного выворачивания души наизнанку, а услышишь только: «Ну ты даешь, старик, ну уморил!» Или что-нибудь вроде. Упорно не покидало Симона это странное ощущение, что растрепал он лишнее и совсем не тому.
И вот теперь, за десять километров до побережья, Золотых вышел на связь сам:
— А тебя трудно переоценить, Симон! — начал он, как обычно, с места в карьер. — Не представляю, где ты берешь информацию, ведь не Владыка же тебе такое сообщать будет, но едешь ты, брат, очень вовремя и очень туда. Я уже распорядился, чтобы Котов выслал вслед группу поддержки. Видишь ли, я тут основательно копнул эти древние тексты. Так вот, семь способов не так легко использовать. У них там сказано, что они сработают только в правильной последовательности, исполненные на ограниченной территории в строго определенное время и если линия, проведенная через точки совершения убийств, образует магическую фигуру. В общем, загогулина эта уже почти нарисована. Не хватает одной точки, ты помнишь — семь ножей кому-то под лопатку не терпится загнать нашим посвященнейшим, а сделать это им надлежит нынче ночью и, представь себе, именно в городе Раушен.
— Может, ты мне еще и адрес назовешь, где наших убийц подкарауливать надо?
Симон шутил, но это был юмор висельника. Ведь адрес он знал лучше, чем кто-нибудь. Больше того, готов был назвать имя новой жертвы.
Но он боялся назвать это имя даже самому себе.
— Адреса не скажу, — совершенно серьезно ответил Золотых. — Древние тексты — это все-таки не топографическая карта. Потому и высылаю группу поддержки.
— Спасибо, но только мое обязательное условие: вся группа подчиняется мне, и только мне, безо всяких согласований с Котовым и даже с Хачикяном.
— Конечно, Симон, я это уже учел, они будут подчиняться тебе, и только тебе, даже если противоречащий приказ отдаст Каргин, Золотых или сам Государь Император. Такова инструкция.
— Красиво, — признал Симон. — Честно говоря, примерно об этом я и хотел просить, только наглости не хватило. Но правда, Микис, без предоставленных мне чрезвычайных полномочий невозможно поймать этих убийц.
— А вот ловить-то их как раз и необязательно, — задумчиво проговорил Микис и, поскольку Симон не нашелся что ответить на это идиотское замечание, генерал прокомментировал сам после паузы: — Любезный нашему сердцу таинственный Ноэль, то бишь господин убийца из Обкома, будучи заключен в самую неприступную камеру нашего гэбэшного СИЗО, уже через сорок минут исчез из нее в неизвестном направлении и неизвестно каким образом. Так что ты, брат, ловить никого не торопись, а лучше побольше да повнимательнее наблюдай, слушай, по душам с ними поговори, у тебя, брат, я вижу, это получается… Вопросы есть?
— Какие уж тут вопросы, шеф!
К станции Раушен подходила электричка, и шлагбаум, отчаянно вереща, опустился перед самым носом граевского «росича».
«Нервишки, однако! — подумал Симон. — Еще бы чуть-чуть — и помял крышу или капот. А ведь, казалось бы, куда спешить — до ночи-то еще далеко».
Глава девятая. ХРОНОС, ПОЖИРАЮЩИЙ СВОИХ ДЕТЕЙ
Домик Симона Грая, так странно доставшийся ему в наследство от живой жены, стоял на улице Карла Маркса, в двух шагах от озера Тихого, то есть почти на углу Калининградского проспекта. Ах, Калининградский проспект, как привычно и мягко шелестел ты под колесами «росича» своей древней, кайзеровской еще брусчаткой! Начиная от станции Раушен и до самого автовокзала Симон наслаждался любимым звуком — вот еще и здесь оправдывал город свое название. Зато внутри старейшего курорта Восточной Пруссии все названия были исключительно советскими — от улиц с эпатирующими именами Маркса и Ленина до наискучнейших табличек типа Железнодорожная или Балтийская. В бурный период очередных и, хотелось верить, последних российских революций случилось так, что мэром Светлогорска оказался коммунист. Собственно, и не мэром, а начальником Светлогорска, ведь курорт еще с сорок шестого года считался вотчиной военных моряков, потом в период так называемой ельцинской демократии значительную часть пансионатов прибрали к рукам всевозможные фирмы и частные лица — «новые русские», оказавшиеся на поверку «новыми польскими» и «новыми немецкими». Ретивый адмирал Брыков ничего не имел против присутствия в родном его Светлогорске братских народов и рыночных отношений, но память о советской Родине, за которую по молодости лет он чуть было не отдал жизнь, старый вояка решил увековечить в топонимике. Коммунисты еще оказывали известное влияние на органы власти, и потому в процессе обвальных переименований по населенным пунктам Кенигсбергской губернии, в Светлогорске восстановили только историческое название города, а все московские, октябрьские и маяковского приобрели с годами особый шарм этакого заповедника социализма.
Грай специально не сразу поехал к своему дому. Хотелось убедиться, все ли в порядке в благословенном городке, хотелось взглянуть на любимые улицы, романтичные спуски к морю, увитые диким виноградом стены коттеджей, старые деревья, красивые фонари. А еще показалось важным проверить, есть ли вообще такой адрес — Октябрьская, двадцать три.
Он миновал станцию Светлогорск, где пестрая толпа вылезающей из пневмолифта пляжной публики растекалась шумно и весело по перронам и не затихающим допоздна торговым рядам, притормозил у Клуба военного санатория на Ленина, где его неприятно удивили вооруженные матросы возле дверей, ностальгически втянул носом запах дыма, долетевший из любимого ресторанчика «Хромая лошадь», и наконец повернул направо. Дом на Октябрьской существовал — угрюмый, некрашеный, потемневший от времени деревянный особняк с островерхой крышей, весь окруженный столетними корявыми соснами. Ему бы очень подошел для завершения картины глухой, высокий, в сибирском духе забор и устрашающая надпись «Осторожно, злая собака». Еще лучше «Осторожно, злой кот». Но не было ни надписи, ни забора. И вокруг никого не было, а свет в окнах не горел. Впрочем, со светом — это он махнул. Здесь, среди леса, конечно, сумрачно, но вообще ведь солнце только-только начало падать в море.
Он представил, как сейчас отдыхающие собираются по традиции на лестничном спуске к морю — с детьми, с видеокамерами, с хорошим настроением — и стоят там, завороженные таким простым и таким волшебным зрелищем — зрелищем заката над большой водой.
Скатившись еще раз вниз к озеру и вновь оказавшись на брусчатке проспекта, он вдруг со всей очевидностью понял, что именно здесь уже видел в заднее зеркальце роскошный спортивный «опель» вызывающе алого цвета и с ворсистыми шинами. Такая хамская слежка возмутила бывалого жандарма, он резко свернул, припарковался у аптеки и вышел, не доехав до дома каких-нибудь двести метров. Но пижонский «опель» повел себя странно: прибавил газу и чуть ли не с воем умчался вверх по проспекту. Хвост или все-таки случайность? Литовский номер машины засел в голове, как соринка в глазу. Сидели там двое мужчин. Полный круг за ним сделали, а ведь ехал Симон медленно… Впрочем, по Ленина через эти толпы слоняющихся гуляк быстро и не поедешь…
На всякий случай связался с Котовым, сообщил о замеченном «опеле». Котов в ответ доложил — именно так: начальник доложил подчиненному — о полной готовности своей группы, то есть группы, приданной Граю. Все двенадцать человек были специалистами экстра-класса и работать собирались по принципу максимальной незаметности. Начальник отряда капитан Хомич мог вызываться по спецсвязи одной кнопкой в любой момент для консультаций и помощи. Симон был представлен ему как человек без имени и звания. Позывной — Док. И никаких сведений об общей цели операции, соответственно никакой инициативы со стороны Хомича, абсолютное и беспрекословное подчинение при любых обстоятельствах. В случае же экстренной необходимости задействовать весь личный состав Симону-Доку полагалось подать условный сигнал выстрелами из пистолета: два подряд и еще один после паузы.
Симон выслушал это все с тоскою, обещал перезвонить чуть позже и отключился. Почему-то он не садился обратно в машину, а все ходил и ходил по набережной. Время убивал? Ну а действительно, что было делать? Звонить Изольде? Рановато. Идти на пляж? Поздновато. Разумнее всего было посидеть в каком-нибудь ресторане, перекусить, понаблюдать за людьми. И все-таки машину лучше загнать в гараж, да и в дом зайти было бы не лишним — вдруг там у него уже сидит какой-нибудь черный человек. Или черный кот. Нет, кот — это слишком тривиально. Черный паукообразный гиббон. Во!
Симон еще раз перешел проспект и остановился перед «Хроносом, пожирающим своих детей». Хорошая скульптура.
На самом деле никакой это был не Хронос. Раушен вообще славился обилием парковых и прочих скульптур, а здесь, у озера, на скромном постаменте возвышалась статуя девочки с маленьким ребенком на руках. Кто его знает, что хотел сказать автор, но двадцать лет назад, когда они вдвоем с Марией, непростительно молодые, гуляли по этим улицам и пытались издалека угадать, кому же это поставлен очередной раушенский памятник, у них на все находились свои веселые, шуточные ответы. «Смотри, — говорила Мария, указывая на симпатичную фигуру рыбака на углу жилого дома, — это, наверно, герой труда Алексей Стаханов». «А это Зоя с нудистского пляжа», — хохмил Симон перед скульптурой Брахерта «Купальщица», а «Симфонию любви» Фролова парящих в небе юношу с девушкой — сурово заклеймил: «Таких не берут в космонавты!» «Ой, а это кто?» — спрашивала Мария. «Сейчас скажу, — уверенно начинал Симон. — Ба! Ну конечно, Хронос, пожирающий своих детей». «Да ну тебя! — смеялась Мария. — Это же девочка». «Вижу, что девочка, — соглашался Симон. — Просто новое прочтение. Почему бог времени Сатурн, он же Хронос, обязательно должен быть мрачным бородатым стариком. Классический подход оставим Летнему саду, а у нас — девочка, шта-а-а гораздо современнее. Знаешь, как говорят художники: я так вижу!»
Название «Хронос» прочно приклеилось к этой скульптуре, шутка понравилась тогда всем их друзьям и знакомым.
Ладно, оборвал себя Симон, хватит воспоминаний. Пора за работу.
Но воспоминания упрямо шли за ним по пятам.
Дом оказался печально пустым, глухо закрытым, нетронутым. Ни тебе банальной засады, ни изобретательных посланников дьявола, ни страхового агента, поджидающего у крыльца. Даже в почтовом ящике было пусто.
Скрип старой деревянной лестницы, прохладный сумрак комнат, пыль на столе и креслах, засохшие цветы в вазочке, мутноватые стекла окон. Грустно.
На журнальном столике лежала маленькая книжица с пожелтевшими страницами — «Роман о Тристане и Изольде». Сюда, в загородный дом, они свезли много старых забытых книг, и в отпуске он любил полистать их, наудачу доставая с полки. Точно, в прошлом году он читал именно эту книжку. Не целиком — так, с пятого на десятое. Было почему-то любопытно. И еще было очень печально думать, что из них с Марией Тристана и Изольды не вышло.
Ну, вот он и вернулся мыслями к Изольде. Взял в руки брошюрку, раскрыл наугад, выхватил глазом слово «убийцы» и прочел коротенький абзац: «Убийцы! — вскричала Изольда. — Отдайте мне Бранжьену, дорогую мою служанку! Не знали вы разве, что она была единственным моим другом? Отдайте мне ее, убийцы!»
Бах! Вот откуда известно ему не слишком-то распространенное имя Бранжьена. В старинной легенде рабы пожалели служанку, да и хозяйка потом помиловала ее. В жизни Бранжьену жалеть не стали. Жутким способом выкинул ее из окошка зловещий монах Ноэль, проникающий через стены. Чей он раб? Неужели его любимой Изольды? Какой бред! Но ведь сегодня все именно так: чем бредовее, тем ближе к истине. Что, если эти провинциальные артисты, эти безумцы, посвященные черт знает во что, действительно разыгрывают сцены из классических мифов и легенд? С них станется.
Симон схватил трубку и набрал номер.
— Да, я слушаю, — ответил на том конце чуть испуганный женский голос.
Ее голос.
— Изольда?
— Да, это я.
— Где ты была, Изольда, я звоню тебе с самого утра!
— А-а, Сим-Сим, — она узнала его. — Зачем ты пугаешь меня? Даже «здрасте» не сказал. Я была на пляже.
— Почему на пляже? («Господи, какой глупый вопрос!»)
— После обеда была классная погода: солнышко, ветер стих, и море такое ласковое. Ты только что приехал?
— Да. («Господи, откуда она знает, что я приехал?») Только что… Погоди, а утром, утром ты где была?
— Фу, какой ты нудный, Симсимчик! Я сейчас обижусь, жандарм противный. Вот мы встретимся и тогда поговорим, хорошо?
— Да-да, я сейчас приеду, то есть я сейчас приду, здесь два шага… («Что ж ты так суетишься, дуралей? Стыдно за тебя, честное слово!»)
— Нет, сейчас нельзя, — сказала она ласково, но твердо. — Сейчас ко мне притащится подружка, мы должны с ней пообщаться кон-фи-ден-ци-аль-но. Приходи знаешь когда… приходи в половине двенадцатого. Ладно?
И прошептала страстно:
— Все это случилось в полнолуние. Всюду сильно пахло васильком. Я буду ждать. Октябрьская, двадцать три, вход со стороны сада.
— Я знаю, — сказал он. («Вот уж совсем глупо».)
Застрелиться и не встать! Кажется, так говорили у них в школе.
Он сел, вытер пот со лба. Первым желанием было тут же бежать к ней. Почему он не сделал этого? Поборол в себе мальчишество? Скорее наоборот. Долг службы обязывал бежать туда, но Симон беспрекословно слушал ее, и только ее. Как все остальные теперь слушали его.
Сказано «в половине двенадцатого», значит, в половине двенадцатого. И все-таки. Любовь любовью…
Он вызвал Хомича.
— Капитан, я буду в ближайший час в «Хромой лошади». Возьмите под наблюдение, кроме моего дома, Октябрьскую, двадцать три. Всех выходящих оттуда — не отпускать ни на секунду и оперативно докладывать мне об их передвижениях, а также о любых подозрительных персонажах вблизи дома.
— Принято, товарищ поручик. У меня есть кое-что по убийствам в Кранце. Вас интересует?
— Да, безусловно.
Давай, капитан, давай, уж лучше слушать об убийствах в Кранце, чем так бесславно умирать от слепой и страшной любви! «От любви глупеют». Это мягко сказано — от нее просто сходят с ума.
Симон выслушал все, а потом неожиданно для самого себя спросил:
— Капитан, а вы знаете, как пахнет васильком?
— Васильком? — невозмутимо переспросил Хомич. — Может быть, черемухой? Хлорацетофенон пахнет черемухой. Зарин — клубникой, фосген — гнилым сеном… А васильком — не знаю, Док.
— Спасибо, капитан, до связи.
А в Кранце славно поработал Дягилев. В пору было представлять его к награде, как минимум выдвинуть на досрочное присвоение очередного звания. Бравые контрразведчики из Второго управления опозорились, чего не мог не признать потомственный чекист Хомич, чей дедушка служил еще в органах безопасности у Тито. Зациклившись на серии загадочных убийств и абсолютно неуловимых преступниках, они искали свидетельства всевозможной чертовщины, а Дягилев, пошедший самым примитивным, простым, как репа, путем, в течение суток сумел не только вычислить-разыскать, но и повязать убийцу, который тут же сознался. Профессиональный киллер, а лучше сказать, мокрушник Тимур Тынхэу, по кличке Шкипер, не видел смысла запираться. Работал он за деньги, деньги получал от клана, и похоже было, что клан Тимура просто подставил. Пожизненное заключение явно не пугало матерого уголовника и, возможно, представлялось ему единственным спасением от верной гибели. Какие мотивы были у клана, Дягилев пока мог только догадываться и уже разрабатывал парочку-другую версий.
А для ОСПО и в этой части ситуация казалась весьма прозрачной. Товарищ Верд столь широко раскинул сеть своих оперативно-розыскных мероприятий, что было бы просто странно не наступить попутно на любимую мозоль кому-нибудь из ведущих местных авторитетов. Ну а допетрить, какое именно ведомство представляет заезжий возмутитель спокойствия, — задачка для воров, разумеется, непростая. Вряд ли у них хватило бы фантазии на то, что господин Кнут Найгель — это товарищ Верд, он же полковник Роликов, а расследование ведет по личному указанию Его Величества.
Вся эта информация была, безусловно, ценной, но какой-то совершенно неуместной сейчас. Симон возмутился на собственный дилетантский подход. Разве не он любил поучать подчиненных: «Лишней информации не бывает. Прими, запиши и осмысли. Не понял сам — передай соратнику».
Он принял, записал, осмыслил. Ни черта не понял.
А передавать дальше было некому.
Голова разболелась пуще прежнего. Хэдейкин? Виски? Идиот!! Он же не ел ничего с самого утра, кроме дурацких орешков для раздумья.
Табельный «ТТ-М» Симон всегда держал за поясом, однако на этот раз одной пушки показалось недостаточно, и он доукомплектовался стреляющей зажигалкой с ласковым названием «Светлячок», спецножом и даже миниатюрным, но могучим пистолетом-пулеметом системы Каплуна, легко крепившимся в рукаве на предплечье. И, обвешанный всем этим железом, отправился пешком в «Хромую лошадь», с каждым шагом ощущая, что головная боль, разоблаченная как самый обыкновенный голод, потихонечку отпускает его, понимая, что проиграла, и превращается в натуральный звериный аппетит.
На улице темнело по-августовски стремительно. Загорались, пока еще экономичным слабым светом, холодные голубовато-зеленые фонари, желтели квадраты окон, и уже неистово метались яркие разноцветные гирлянды лампочек над входом казино.
В тускло освещенном ресторанчике, как всегда, романтично полыхал большой очаг и загадочно покачивались большие, косо подвешенные деревянные рамы с натянутыми на них толстыми канатами. Эти рамы, кое-где увитые плющом, болтались между столиками «Хромой лошади» уже много-много лет, и сам хозяин Збигнев Згуриди не умел ответить, к чему бы это. Симон как-то спросил, уж не об эти ли рамы поломала несчастная лошадь свою переднюю ногу, на что Збышек, уже давно не столько грузин, сколько поляк, ответил с нарочито культивируемым кавказским акцентом:
— Слушай, дорогой, откуда мне знать! Первый хозяин знал — но где ж найти его? Отец взял эту лавочку сам не знал у кого. Да ты же помнишь, капитан (он всегда забывал приставку «штабс» — не желая обидеть, а просто не любил такое сложное слово и все тут), ты же помнишь — Великая криминальная революция четвертого года! Кто спрашивал хозяев? Каждый брал что мог, что успел. Верно, дорогой?
Верно. Так и было. Многое переменилось тогда, многое перевернулось. А вот «Хромая лошадь» осталась. Вместе с дурацкими косыми рамами и жаркими языками раскочегаренного то ли мангала, то ли камина.
Збышек кивнул ему издалека, мол, садись, сейчас подойду, и Симон обводил взглядом полуоткрытую веранду, выбирая, куда притулиться, когда вдруг из дальнего угла на него сверкнули знакомые улыбчивые глаза. Перед высоким стаканом темного пива, положив на стол длинные, с огромными кулачищами руки одиноко сидел Ланселот.
Ни единая черточка не дрогнула на лице Грая — профессионализм, отточенный годами. Но бродяга Лэн неожиданно вскинул свою лапищу и даже крикнул:
— Идите сюда, шеф!
«Нормальный ход, — успел подумать Симон, пересекая ресторанный зал, в котором сразу стало как-то слишком много пустых плетеных кресел. — Вот и еще один спятивший. Вызывайте карету „скорой помощи“».
Глава десятая. ПРЫЖОК С ОБРЫВА
— Значит, говоришь, бояться стало нечего?
Симон уже опрокинул для полного счастья рюмку отличной, в меру охлажденной русской водки, во второй раз нарушая свое твердое правило.
Но если величайший в мире перестраховщик Ланселот нарушает все мыслимые законы конспирации, какое уж там «не пить на работе»! Смешно, право слово!
Так размышлял Симон, задав почти риторический вопрос и снова жадно вгрызаясь в сочный бифштекс, обильно присыпанный хрустящим, чуть поджаренным луком.
Лэн долго и вдумчиво потягивал свое пиво, потом, наконец сказал:
— Не совсем так, шеф. Просто теперь нам с вами уже не надо бояться тех, кого мы боялись раньше.
— Ой ли! — не поверил Симон. — Ну, про себя-то я все знаю. («Врешь, скотина, ты и про себя ни черта теперь не знаешь!») А вот ты, Лэн. Я же никогда не обещал тебе защиты на все случаи жизни. Мы все-таки по разные стороны баррикад.
— Знаю, шеф. Но только со вчера все стало по-другому. Вы теперь настолько важная шишка, что достаточно пять минут поболтать с вами вот так за столиком в ресторане — и все. Человеку обеспечена личная безопасность на долгие годы. В данном случае этот человек — я.
— Что-то у тебя фантазия разыгралась, Лэн. Не к добру это.
— Да нет, шеф, я сейчас объясню, и вы все поймете. Особенно когда расскажу, кто я на самом деле. Фантазировать-то я не привык.
Симон как бы невзначай еще раз окинул взглядом зал, а потом открыто и озабоченно посмотрел на часы.
— Успеете, — сказал Ланселот.
— А ты знаешь, куда я спешу? Любопытно.
— Знать — не знаю, но догадываюсь. Потому и говорю: успеете еще послушать мой рассказ. Он вам поможет. Правда.
— Ну, валяй, рассказывай, — согласился Симон, внезапно повеселев. Водки не выпьешь?
— Нет, я пиво пью.
— А я, с твоего позволения, еще рюмочку.
— Хорошо. Но только одну. Больше я не позволю.
Сказано это было абсолютно серьезно, так что Симон в полной ошарашенности поставил рюмку на стол и хлебнул томатного сока.
— Это сильно, Лэн.
— Ага, — небрежно кивнул он. — Так вот. Слыхали, шеф, про такую организацию — Российская военная разведка? Я там служил, когда она еще называлась ГРУ. Главное разведуправление Генштаба Вооруженных Сил СССР. А потом оно стало ГРУ России, и вообще какое-то РУРУ и чуть ли не кенгуру. Только меня уже там не было. Я, молодой дурак, уволился, перестав понимать, на кого и против кого мы работаем, создал свою охранную фирму, использовал, так сказать, служебное положение в личных целях, ну и заработал, конечно, денег. В стране-то бардак был. Вот я и заработал много денег. Слишком много. Кто-то сказал, что денег не бывает слишком много. Ерунда! Это у них там, в Британии, не бывает, а у нас, в России, очень даже бывает. В общем, такого количества денег хорошему человеку не пожелаешь. Наехали на меня. Понимаете, шеф, да? Ну, хотели убить. Да вдруг решили, что нерентабельно это.
И правильно решили. Я уже очень много знал к тому моменту. А еще больше умел. Я был нужен. И вот с тех пор работаю на них. Точнее, работал. Потому что вчера все переменилось.
Симон терпеливо выслушал эту весьма эмоциональную биографическую справку и поинтересовался:
— Ну а что, собственно, нового ты мне поведал, Лэн? Думаешь, я никогда не заглядывал в твое досье?
— Вестимо, заглядывали, шеф. А новое здесь то, чего в досье нет, причем даже в большом, на Лубянке, нет. ГРУ — это, видите ли, не такая организация, откуда можно запросто уволиться. Не спорю, кое-кому удалось: бежавшим на Запад давным-давно, подавшим в отставку в девяносто первом девяносто третьем, а также в две тыщи четвертом — шестом. Кое-кому удалось, только меня среди них не было. Я на родную контору, как выяснилось, все эти годы и ишачил с разной степенью интенсивности.
— Ты хочешь сказать… — Симон уже понял, но боялся поверить, — ты хочешь сказать, что, отсиживая сроки, переходя из клана в клан, убивая конкурентов, укрепляя свою бандитскую власть и, наконец, сотрудничая со мной, ты параллельно…
— Да, шеф, именно это я вам и объясняю.
— Пардон, а отчего же сегодня такая откровенность? Может быть, пора позвать журналистов?
— Может, и пора. Во всяком случае, я не возражаю… Кстати, хорошая мысль! Черт, а я и не подумал! Ведь, пожалуй, именно пресса нас и спасет…
— Постой, Лэн, что ты несешь такое?!
— Да все очень просто, шеф. Мне вчера передали спецпочтой, что я уволен из конторы по собственному желанию без выходного пособия и под занавес мягко так намекнули: «…в связи с полным и окончательным расформированием всех структурных подразделений РВР согласно Указу Его Императорского Величества за номером таким-то». Точка. Ладно, выпей теперь свою рюмку водки, и я с тобой выпью.
Но Симон пить не стал. Ему вдруг показалось, что кто-то разбил у него под черепом пузырек со штемпельной краской, и холодная липкая черная жидкость, растворяя кости и мягкие ткани, заструилась вниз по позвоночному столбу. Такого страха он не испытывал еще никогда в жизни. Заговор Посвященных. Вот он — заговор Посвященных. Он уже слышал, отчетливо слышал голос Микиса Золотых, который звонит ему и спокойно сообщает о полном и окончательном расформировании органов КГБ, а дальше… Дальше уже не важно что.
— Кому такое под силу?
Оказывается, бродяга Лэн продолжал говорить. Он все-таки тяпнул рюмку водки, а потом сразу закурил чудовищно несовременную, времен исторического материализма папиросу, и над столом поплыл сизоватый дым с тяжелым, прямо-таки удушливым запахом.
— Кому такое под силу? — повторил Ланселот. — Нашим мелкотравчатым лидерам оппозиции? Полноте! Может, британской разведке? Смешно, господа! Тогда кому — мафии? Но после четвертого — шестого годов мафии не стало одни только кланы, и у каждого — свой мелкий интерес. Значит, КГБ? Нет, думаю, такое и госбезопасности не по зубам. Есть только одна реальная и по-настоящему непреодолимая сила. Да, да, да. В последние годы я много занимался хануриками и знаю про них такое, чего не знает и сам Каргин с царем-батюшкой на пару. — Ланселот помолчал, глубоко затянулся, выпустил дым и медленно дососал свое пиво. — Раньше я боялся хануриков. Но потом понял: они обычных людей не убивают. Вообще не трогают. Вот почему и сейчас я не боюсь про них говорить. Сейчас — тем более не боюсь. Рядом с вами, шеф, никому не должно быть страшно. Ведь именно вас пригласил Владыка, чтобы говорить с глазу на глаз. Вы, наверно, не понимаете, шеф: такого никогда — НИКОГДА — не было. Владыка не разговаривает с глазу на глаз с обычными людьми. Так что вы хоть и не Посвященный, а человек очень и очень особенный.
Ланселот снова замолчал, и Симон спросил его:
— Почему же они убили Верда, если они никогда не убивают обычных людей?
— А Верда не они убили. Верда убил я.
Вот когда Симон по-настоящему напрягся. Убийца признается жандарму в двух случаях: или он снова собирается убить, или сам прощается с жизнью. Третьего не дано. Впрочем, в этом сошедшем с ума мире, где покойники возвращаются с того света, а могучие спецслужбы пасуют перед псевдорелигиозным братством, — в таком мире дано не только третье, но, наверное, еще и четвертое.
— Понятно, — сказал Симон. — А как же Шкипер?
— Шкипер — исполнитель, и, хотя он принадлежит не к моему клану, приказ отдавал именно я, — объяснил Лэн. — Мы эту операцию очень тщательно продумали. Правда, сегодня я сомневаюсь, что она была необходима, но два дня назад… Понимаете, шеф, Верд готовился накатить на Посвященных примитивной грубой силой, а этого нельзя делать, это было бы еще хуже. Хуже… — Он будто бы засомневался в собственных словах. — Да нет, нет, все-таки… еще хуже…
И тут Симон выпалил неожиданно для самого себя:
— Ну а при чем здесь хэдейкин?
— В каком смысле? — не понял Лэн.
— Ну, почему Верд интересовался историей появления хэдейкина?
— А-а-а, — протянул Ланселот, загадочно улыбаясь. — Я этого не знал. Стало быть, он и сюда добрался… Хэдейкин, шеф, это совершенно отдельная песня. Боюсь, уже не успею рассказать. Вы смотрите на часы, шеф?
— Смотрю. У меня еще есть время.
— Это хорошо, но мне очень не нравятся вон те ребята на красном «опеле».
— Мне тоже, — сказал Симон. Он уже минут пять наблюдал за подъехавшей к ресторану машиной. Той самой. И потому добавил: — Похоже, ты прав. Разговаривать становится некогда. Но только, пожалуйста, ответь мне еще на один вопрос.
— Я весь внимание, шеф.
— Ты знаешь, кто такая Изольда?
— Долго же вы крепились, шеф… Конечно, знаю, но не до конца. Не все я про нее знаю. И этот клубочек предстоит нам распутывать вместе. Внимание, шеф!
Все. Время «Ч». Двое из красного «опеля» решительной походкой направились в сторону их столика.
Существовало три варианта действий: стрелять первым, ждать или скрываться.
Почему, почему он выбрал именно последний вариант? Потому что до свидания с Изольдой оставалось чуть больше часа, и эти могли ему помешать? Или просто потому, что решение принимал за него тот, что сидел внутри и говорил стихами? Да и не одно ли это и то же?
Симон перемахнул через парапет ресторанной веранды, кувырком ушел в спасительную тень густого кустарника, быстро пересек полосу света, опрокидывая на узкую бетонную дорожку штабель пустых пластиковых ящиков, и ринулся через лес наискосок в сторону моря. Только уже у края обрыва, откуда огни казино и ночных магазинов казались тусклыми угольками догорающего костра, он позволил себе на секунду остановиться и посмотреть назад. Именно в этот момент Симон услышал выстрелы и крики. А потом раздался другой звук, гораздо ближе: кто-то бежал в его сторону, по-носорожьи топоча и ломая сучья. Ланселот? Ждать ответа на этот вопрос не хотелось. Симон взял чуть левее и рванулся от берега обратно в чащу. Его движение заметили, и кто-то выстрелил вверх из осветительной струйной ракетницы. Пламенеющее облачко газа повисло между ними, высветив картинку всего на несколько секунд, но Симону хватило этого времени, хватило вполне.
Нападавших было трое. Двое с автоматами — юркие, стремительные, по-кошачьи гибкие и пятнистые как леопарды, а один огромный, квадратный, гориллоподобный, с тускло сверкнувшим клинком в волосатой, почти до земли, ручище.
Он понял: все трое пришли за ним. Он понял: все трое — Посвященные. Он понял: они пришли убивать.
И было не важно, как он это понял. Не важно, как смог опередить их. Не важно, когда успел подумать, что убить Посвященного, — это не убийство.
Они все трое замерли, превратившись в идеальные мишени. Или это ему показалось? Ну конечно показалось — обычный эффект внезапного яркого освещения. Все они движутся. Ну вот же: вторая, левая обезьянья лапа, сжимая ракетницу, медленно опускается, «леопарды» поднимают стволы, мышцы их рук под тончайшей тканью пятнистых комбинезонов судорожно перекатываются, длинные хищные пальцы деревенеют на спусковых крючках…
Симон пригнулся, поднял руки на уровень лица — нелепая поза предсмертного отчаяния, жалкая попытка прикрыть ладонями голову от пуль, прошивающих насквозь толстое дерево… Бдительность усыпил? Отлично! А теперь правую руку чуть вниз и резко сжать кулак… Разрывая ткань рукава, маленький смертоносный «каплун» выплюнул длинную очередь горячего металла, и тающее облачко света еще посверкивало во влажном воздухе, когда последний из трех, опрокидываясь на землю, выпустил пол-обоймы в небо, так как его мертвые пальцы уже не могли разжаться.
Вдоль обрыва до улицы Верещагина он снова бежал как заяц. И под первым же фонарем очень не понравился сам себе: белый пиджак был вызывающе разодран и перепачкан — бросится в глаза любому. Справа — центральная улица Ленина, слева — парадный спуск к морю. Не годится, все не годится — можно только прямо. Открытое пространство он пересек бегом и петляя как полный идиот (по понятиям мирного времени). Заметят, запомнят. Ну и черт с ними! Главное — успеть скрыться и лесом, лесом пробраться на Октябрьскую и не притащить за собой хвоста, он сумеет, он должен суметь.
Черт, как же темно в этом лесу. А вот и огонек впереди. Кто-то зажег свет в окне или какой-нибудь одинокий велосипедист выехал на ночную прогулку. Симон, ты бредишь, какой еще велосипедист, это же факел, человек несет факел, он совсем близко, он идет к тебе, оглянись, там второй такой же, быстро, левее, еще левее, еще быстрее, смотри, их трое, их опять трое, они идут, как загонщики, а вот и обрыв, ты видишь — внизу море, ночью оно всегда светлее неба… Почему всегда?.. Ты будешь стрелять, идиот?! Они уже здесь.
«ТТ-М» давно лежит в ладони. Три выстрела. По одному в сторону каждого факела. Но только один факел падает, два других продолжают надвигаться. Не видно же ни черта! Ни черта не видно, хватит стрелять…
Двадцать лет назад. Да, примерно вот здесь, чуть в стороне от променада и парадного спуска. Солнце, чайки, тихие волны. Они лежали на пляже вдвоем с Марией, и он увидел, как это делают мальчишки: пролетают свечкой метров десять, а то и больше, и потом, тормозя пятками в песке, съезжают вниз, пока не утопают по колено на совсем уже пологом откосе. Некоторые, не удержав равновесия, катились кубарем, и было страшно подумать, какие ушибы и переломы поджидают неудачливого прыгуна.
— А вот ты так не сможешь, — зачем-то сказала Мария.
Он улыбнулся и полез наверх.
— Моня, вернись, ты нужен мне живым! — кричала молодая жена, но кричала дурашливо, он уже понял: ей хочется, очень хочется увидеть своего Моню в полете.
Вообще-то подобные развлечения были категорически запрещены в Светлогорске, и не только из-за опасности для здоровья — уникальные по красоте склоны охраняла служба экологического контроля. Симон поднялся и прыгнул. В разные годы он занимался разными видами спорта, и одним из его увлечений были прыжки в воду. В общем, телом своим владел вполне, все получилось не хуже, чем у местных мальчишек. И страшно понравилось. Он даже повторял потом этот трюк несколько раз, пока однажды не нарвался на штраф. Но и от этого им с Марией только сделалось веселее. Конечно, ведь тогда он еще чувствовал себя мальчишкой.
Ах, как здорово было парить над песчаной осыпью, особенно когда налетевший с моря ветер подхватывал тебя и удерживал в воздухе на неуловимо короткое, но по-настоящему прекрасное мгновение!
В воздухе и сейчас было неплохо, только очень темно, а потом левая ступня впечаталась во что-то слишком твердое, и в тот же миг всю ногу, от пятки до бедра, пронзила дикая боль. Симон завалился на бок, успел сгруппироваться и покатился вниз, как пустой бочонок, набирая обороты и подпрыгивая на неровностях склона. По счастью, ни разу не попались большие камни, и, когда его развернуло и вынесло почти на полосу прибоя, кроме ноги, все остальное было в порядке. Симон вскочил и, прихрамывая, ринулся вправо по берегу. Вряд ли он мог быть виден тем наверху, но, например, в инфракрасный прицел разыскать его горячее тело на фоне остывшего к ночи пляжа не составляло труда. И он все шел и шел, прижимаясь как можно ближе к обрыву, приволакивая ногу, утопая в рыхлом песке и шатаясь из стороны в сторону: то ли от усталости, то ли просто по привычке — не дать, не дать им как следует прицелиться. Стрелять почему-то не стали. А собирались ли? Что, если там, наверху, вообще никого не было и он, обезумев, палил в порождения собственной воспаленной фантазии? Что ж, и такое возможно. Но главное-то сейчас не это. Главное — дойти, доковылять, доползти до Изольды, потому что Изольда ждет.
Метров через триста, разглядев подобие тропинки на склоне, он начал карабкаться обратно наверх.
Черт, как же болит эта проклятая нога! Но, кажется, все-таки не перелом. Почему он не вызвал поддержку? Впрочем, дурацкий вопрос. Понятно почему. В группе Хомича тоже могут быть они. Даже обязательно есть. Сегодня он сражается в одиночку. А вот на связь выйти придется.
— Первый, первый, слышишь меня?
— Док, это вы? — Голос у Хомича испуганный и виноватый. — С вами все в порядке, Док?
— Я знаю, капитан, вы меня потеряли. Не стоит переживать — это нормально. И сейчас не надо меня пеленговать, подстраховывать и выходить навстречу. Со мной действительно все в порядке. Теми, кого я убил, займутся без вас.
— А теми, кого убили они, могу заняться я?
— Они кого-то убили? — слегка удивился Симон.
— Они убили троих, Док.
Симон вдруг понял, что ему совершенно не хочется спрашивать, кто эти трое, и он спросил о другом:
— На Октябрьской что?
— Полная тишина, Док.
— Уберите оттуда всех. Ты понял, капитан?
— Конечно, Док, с Октябрьской убрать всех из группы наружного наблюдения.
— Ты не все понял. Я иду туда сам. Я должен быть там совсем один. Если увижу хоть кого-то — стреляю без предупреждения. Не выполняющий моего приказа приравнивается к моему врагу. Теперь понял, капитан?
— Так точно, Док!
— У меня все.
— Минуту, Док. Тот человек, с которым вы сидели в ресторане, убит. Двое других скорее всего случайно оказались рядом — парень и девушка лет восемнадцати.
— Я так и думал, — сказал он зачем-то.
Не Хомичу сказал — самому себе. И ведь правда думал. Можно сказать, знал, что убьют человека, а ноги уносил. Подальше, подальше от страшного места. Не пожалел ни жизни Ланселота, ни той информации, которую он хранил. Разве бродяга Лэн успел рассказать самое главное? Если бы еще знать, что именно самое главное… Господи, как же болит эта нога! Зачем он прыгал? Зачем они заставили его прыгать?
Впереди между сосен замаячил свет. Еще не ночь, еще совсем не ночь, и горят фонари, витрины, вывески, окна. Но это все останется там, далеко-далеко, и только старый дом с островерхой крышей словно выйдет ему навстречу и будет долго пялиться в темноту огромным невидящим желтым глазом.
Ну вот и все, товарищ Смирнов, вот и все, господин Грай, вот и все, дорогой Симон. Посмотри, сколько там времени. Как?! Еще нет одиннадцати? Значит, надо ждать. Надо. Надо ли?.. Ну уж нет!
Удивительнее всего было то, что ему не хотелось идти внутрь. Явиться в гости к любимой получасом раньше — что может быть глупее. Застать девушку в душе, на кухне, перед зеркалом? Грубо вторгнуться в интимный мирок последних, самых важных приготовлений, разрушить хрупкое и сладкое чувство нетерпеливого ожидания… Нет, невозможно, немыслимо! А вот посмотреть на это со стороны, полюбоваться, как в кино… да нет, не как в кино, а как в жизни: вспомнить детство, забраться на дерево и заглянуть в окно спальни, где раздевается женщина, а ты еще никогда не видел настоящую обнаженную женщину: журналы, фильмы — все не то, ведь эта живая, здесь, совсем рядом, она раздевается перед тобой — о, какое это было острое и необычное чувство!..
А вон с той корявой сосны действительно удобно наблюдать за большим светящимся раскрытым настежь окном во втором этаже, можно даже сесть на толстую и почти параллельную земле ветку. Размечтался! Старый хромой козел. В твоем возрасте дважды играть в мальчишку не получается. После лихого прыжка с обрыва уже не залезешь на дерево. «Залезу, — процедил он упрямо сквозь зубы. — За-ле-зу».
И только подойдя почти вплотную, Симон увидел высокую деревянную лестницу, приставленную к сосне.
Неужели ее поставили здесь головорезы из группы Хомича? Вот уж воистину высокопрофессиональные методы наблюдения!
Симон схватился обеими руками за вертикальные стойки и с крестьянской основательностью подергал лестницу, проверяя ее устойчивость. Потом поставил на первую ступеньку здоровую правую ногу и начал подниматься.
И тогда из окна послышались женские стоны. Поручиться на все сто процентов, что в доме занимаются именно этим, он бы не смог. Строго говоря, от боли стонут точно так же, но естественный ассоциативный ряд был очевиден: Изольда — ночь — мальчишеское подглядывание — секс сладострастные стоны.
Ступенька, еще ступенька, на левую ногу не опираться, тогда не будет больно, а будет только сладкое предчувствие, еще ступенька — и вот она ночная красавица, стонущая от страсти: голова запрокинута, каштановые волосы разлетелись по плечам, глаза и рот приоткрыты, груди напряжены и колышутся в такт плавным движениям. Вспомнился вдруг старый-старый фильм «Основной инстинкт» и несравненная Шарон Стоун. Наверно, поза… Да нет, не только поза. О, как она прекрасна! О, как его возбуждает эта картина! О! О! О!
Вот так он и думал, так и воспринимал все происходящее — сплошные буквы «о», как рот, приоткрытый в крике, сплошные восклицательные знаки, как фаллические символы. Мощная волна сексуального восторга подхватила и понесла Симона, и было уже не важно, что каких-нибудь полчаса назад его хотели убить и он убивал в ответ, не важно, кто и почему угробил Лэна, не важно все, что Лэн успел и не успел рассказать, не важно, на кого он, Симон, теперь работает и работает ли вообще, не важно, что пришел он сюда к Изольде, и сейчас в окне хотел увидеть ее, а увидел совсем другую девушку другую, но ведь тоже неземной красоты, наверное, это и есть подружка Изольды, ведь она говорила, и было не важно, кто она, эта подружка, с кем она сейчас и где Изольда…
А потом он сделал еще один шаг вверх, и сразу стало видно, с кем подружка и где Изольда.
Его белокурая принцесса кусала подушку. Кисти рук ее с побелевшими костяшками пальцев судорожно вцепились в деревянную решетку кровати, а спина волнообразно изгибалась. И, медленно пройдя взглядом до того места, где смыкались в неистовом порыве разгоряченные прелести обеих красоток, он увидел, что для наивысшего наслаждения девушки используют двухконечный зловеще черный фаллоимитатор, очевидно, из сорботана — вот для чего еще, помимо подметок, научились использовать растленные британцы уникальное изобретение российских химиков. Господи, Симон, разве об этом ты должен думать сейчас?! Смотри, как они прекрасны! О, как приятно, должно быть, обеим красоткам на этой огромной постели под звездами ночи балтийской!.. Что это? Гекзаметр? Откуда он знает такое слово? В школе проходили? Откуда? Гекзаметр стал последней каплей, инерцией уже потухшего всплеска, и в следующий миг словно что-то щелкнуло, переключаясь, в мозгу у Симона.
Короткий приступ ревности сменился недоумением и обидой. Ревновать женщину к женщине? Какая-то пошлая мелодрама в духе начала века, когда на последнем самозахлебнувшемся гребне сексуальной революции в России знаменитые артисты и театральные режиссеры прямо-таки гордились своей принадлежностью к «славному» племени педерастов, а детишки в начальных классах школы увлеченно обсуждали достоинства и недостатки различных позиций из «Кама Сутры». Неужели это происходит с ним и сейчас? За полчаса до назначенной встречи его Изольда в постели с лесбиянкой! Нет, это не измена — это хуже. Обман. Предательство. Подстава. Или — беда. Провокация. Диверсия. Неожиданный подлый выпад врага.
И пока голова работала с хладнокровием и быстротою машины, тело действовало само по себе: хороший жесткий упор правой ногой в перекладину, плечом прислониться к стволу сосны, локти прекрасно фиксируются на чуть изогнутой мощной ветви, оружие полностью готово к бою и ни малейшей, ни малейшей дрожи в руках. Ну, прямо учебные стрельбы. В условиях, приближенных к боевым. Трудно, очень трудно стрелять в живого человека. Этому учат, к этому готовят специально. Например, для начала стреляют в голографическую картинку. Ты смотришь фильм с любимым актером или актрисой, ты увлекаешься, ты уже почти ощущаешь себя там, внутри придуманной реальности, чувствительные датчики исподволь замеряют твое состояние, и вот в самый неподходящий момент раздается команда «пли!», и надо стрелять, и не абы как, а продуманно, точно — в голову, в грудь, и жертва будет умирать у тебя на глазах, потому что это не просто кино — это ГСМ — голографическое ситуационное моделирование — это кино, в которое ты реально вторгаешься. Он стрелял тогда в Шарон Стоун, потому что очень любил ее.
Какая долгая, какая странно навязчивая ассоциация! Да он вообще любил фильмы Пауля Верхувена. Были у них такие задания в Академии: проанализировать действия полиции в таком-то эпизоде «Робокопа» или «Основного инстинкта». Симону это всегда отлично удавалось.
Отлично удалось и теперь. Он вдруг понял, что девушка, которая сверху, стонет ненатурально — она играет, талантливо, очень талантливо, но играет. А уже в следующую секунду в ее правой руке мелькнул длинный острый нож нет, не для колки льда — настоящее боевое оружие. Где-то он уже видел такой сегодня… Ах да. У этой гориллы в лесу. Нож в руках Посвященного. Нож над спиной Посвященного. Семь ударов ножом под лопатку.
Не будет этого.
С той стороны дома, по Октябрьской, мягко прошелестели шины. Шелест был ровно затухающий и как будто мокрый — характерный звук больших ворсистых покрышек из гроуруберита при заглушенном или почти заглушенном моторе…
Он сделал подряд два выстрела. Оба точные — в грудь.
А потом зачем-то еще один. В голову. Ах, ну конечно. Так всегда было принято у чекистов. Контрольный выстрел.
Глава одиннадцатая. ВРЕМЯ ОТКРОВЕНИЙ
Группе Хомича хватило минуты, чтобы покрыть расстояние в пару сотен метров, вышибить все двери, занять комнату Изольды и взять под прицел хозяйку и странного гостя на дереве. Правда, Симон насчитал только шесть человек, седьмой держал его на мушке снизу, из сада, а где были еще пятеро — одному Богу известно, может, их уже нигде не было — отработали свое ребята.
А вот шестеро в ярко освещенной комнате второго этажа стояли теперь как статуи в раушенских скверах. И среди них — Изольда, уже успевшая накинуть халат на свое забрызганное кровью тело…
Почему он бросил свой пистолет после третьего выстрела? Почему не слез с дерева сразу? Почему теперь этот идиот в центре комнаты, стоящий в позе курсанта на учебных стрельбах, целится ему прямо в лоб? И почему совсем не страшно и вообще на все наплевать?
Симон обернулся на шорох в кустах и увидал восьмого из группы Хомича. Да, он определенно был из группы: униформа, оружие, небрежно брошенная команда «отставить» тому седьмому, внизу, которого Симон до сих пор видел боковым зрением, а теперь, глядя в упор, трудно было не отметить, как он беспрекословно подчинился и опустил ствол.
— Меня зовут Давид, — тихо проговорил этот новый человек и поднял глаза.
Да, конечно, он тоже из группы Хомича, вот только с глазами у него как-то не все в порядке — они наполнены глубоким красным свечением, как у сиамского кота в темноте или как на цветных фото, сделанных со вспышкой в те времена, когда с этим еще не умели бороться.
И вдруг Симон узнал подошедшего. Он видел его меньше двух суток назад, утром. Точнее, он видел эту голову, лежавшую тогда отдельно в лифте.
А глаза человека, назвавшегося Давидом, всё разгорались…
Симон разлепил закоченевшие на перекладинах стремянки пальцы и, падая во мрак, понял, что теперь он будет жить вечно. Или он понял это раньше?
Очень хотелось, чтобы в тот момент кто-нибудь выстрелил в него. А если нет, его вполне бы устроило упасть на землю вниз головой и сломать шею. Уж очень хотелось узнать, как это: умереть, чтобы снова родиться. Не позволили. Мерзавцы! Так нечестно. Ведь он для них убил эту Шарон с каштановыми локонами, а на него одной пули пожалели. Или чего они там жалеют на своих запредельных уровнях?
Мерзавцы!.. Ночью. Сдал на «пять». Пляши.
О чем это он? Кто и кому посвящает эти пять строк? Посвящает… Это что, и есть Посвящение?
Их только трое в комнате. Изольда шагает навстречу Давиду, шагает в его объятия, халат распахивается, халат падает за спину, и так они стоят молча и недвижно, и Симон стоит рядом, и в ушах стоит звон, и мир стоит на пороге взрыва, и что-то надо делать, а Симон почему-то приподнимается на цыпочках, ему очень важно посмотреть сверху на этих двоих… Среди Посвященных одно время было модно просверливать себе дырочку в темени делалась натуральная трепанация черепа с целью вновь открыть заросший в детстве родничок для прямого и полноценного контакта мозга с космосом… Как будто эти дырочки можно разглядеть, они же кожей затянуты… Но он разглядел: не было дырочек. Вот и славно. Он любит их обоих. Любовь великое чувство. А страсть? Страсть он убил, стреляя в Шарон. Неужели?
— Ее действительно звали Шарон?
— Ее действительно зовут Шарон, — отвечает Изольда.
— А тебя действительно зовут Давидом?
— Да. Это так важно? — спрашивает Давид.
— Нет, — шепчет Симон. — Важнее, любишь ли ты ее, а она — тебя.
— Успокойся, Сим-Сим! Тебя я тоже люблю! — Изольда обвивает его шею руками, прижимается всем телом.
Она совершенно обнажена, и все тело ее в чужой крови, но это почему-то совсем не шокирует, и теперь уже Давид стоит рядом и тянется, тянется вверх, привстав на цыпочки.
Смена караула — торжественно, помпезно.
Смена лидера — сурово, по-спортивному.
Смена партнера — пошлятина, бытовуха…
А на самом деле? Очень странное ощущение: они все трое любят друг друга.
— Что делают с телами Посвященных после того, как души покидают их? поинтересовался Симон.
— Ничего особенного. Хоронят, как обычных людей. Шарон похороним мы. У нее не было родственников в этом историческом периоде. У нее здесь никого не было. Даже ваша жандармерия не станет ее искать. Пошли.
Они вдвоем отнесли на первый этаж завернутое в простыню тело и вышли через заднюю дверь в прохладную темноту сада. Под сосной, рядом с прислоненной лестницей, стояли две лопаты. Симон мучительно вспоминал, были они здесь, когда он только еще лез наверх, или… нет, не вспомнить.
— А где все остальные? — встрепенулся он, когда уже начали копать.
— Ты приказал им отправляться в город в распоряжение Котова и Хачикяна.
Он ожидал чего-то подобного. После трех выстрелов в окно из памяти выпали целые куски событий. Мир вообще рассыпался на осколки, Симон пытался собрать их, но всё катастрофически не сходилось из-за отдельных утраченных фрагментов. Что было раньше, что позже — спрашивать бессмысленно. Как приклеишь, так и будет…
— А вот теперь я хочу выпить! — неожиданно заявил Давид и попросил Изольду: — Анна, налей нам водки.
Водка была плохая, и это было хорошо. Хотелось почему-то именно такой — жесткой, гнусной, дерущей горло, с противным привкусом. И в голове мгновенно прояснело, как будто не водки выпил, а хэдейкина с похмелья.
Симон зажмурился, а когда открыл глаза, оказался в залитом солнечными лучами фешенебельном номере отеля. Подошел к окну, выглянул на улицу. Ага, Метрополия, «Балчуг», а вон и древний Московский Кремль: сладкие красно-коричневые, как коврижка, стены, орлы на башнях леденцовыми петушками, сахарно-конфетная россыпь соборов, Иван Великий — кофейник без носика с золотой крышечкой, и плывет из-за реки с детства памятный чарующий запах — кондитерский дурман «Красного Октября». Это любимое народом название не поменяли не только в девяносто первом, но и в две тысячи шестом.
Симон вдруг вспомнил: их привезли из аэропорта на лучшем автомобиле из гаражей Его Величества — на уникальном двенадцатиметровом сверхскоростном «росиче-императоре особом». Что было до аэропорта, Симон забыл напрочь, да только теперь это уже не беспокоило его.
И тут зазвонил телефон. Кто говорит? Нет, не слон.
Это был Дягилев.
— Докладывайте, капитан, — солидно, на публику произнес Грай.
Мол, видите, пока мы тут ерундой занимаемся, мои люди работают и исправно передают начальству информацию. И не осы какие-нибудь, а родная криминальная жандармерия.
— Господин штабс-капитан, вчера ночью, в самом центре, прямо на Ханзаплатц мы задержали тех троих на красном спортивном «опеле». Гражданин Лотошин Леонид Сергеевич, он же известный авторитет по кличке Ланселот, получил огнестрельное ранение еще в Раушене и находился в тяжелом состоянии. Сами стрелявшие оказали ему первую помощь, вкололи что-то и собирались лететь в Метрополию, но я распорядился отправить пострадавшего в городскую больницу, тем более что он житель Кенигсберга. А сегодня утром пациент из больницы пропал……
Память постепенно восстанавливалась. Он вспомнил минувший день.
Клара. Она приехала вместе с Мугамо в Кенигсберг, не застала Симона дома, а кого-то, то ли Бжегуня, то ли Гацаурию угораздило сказать девушке, что батя ее на опасном задании. В общем, молодые всю ночь не спали в своем номере «люкс» в отеле, Мугамо пытался утешать жену общепринятым способом, но всполошенная тревогой за папочку Клара явно была не способна к ответным чувствам, что легко читалось по хмурому наутро лицу абиссинца.
Симон в тот час был еще не слишком пьян и с дочерью поговорил вполне содержательно: об учебе, о матери, о религиозных заморочках всех его африканских родственников, а главное — о «Заговоре Посвященных». Он надеялся хотя бы узнать, откуда взялся тот экземпляр, но Кларочка (вот умница!) захватила книгу с собой.
— Ты что, папахен, я ж тебе и привезла. Я уже знаю про всю эту вашу пургу и про то, что ты теперь Посвященный.
— Откуда? — удивился Симон.
— От верблюда! Мугамо тоже из ваших. Он-то и притащил мне эту книжку. Сказал тогда: «Прочти и сожги. Это грех — хранить такие книги». А я прочла и сохранила. Помнишь, зачитывала тебе цитаты? А теперь и Мугамо доволен, что книжка цела…
В самолете он стал читать «Заговор Посвященных». И за час с небольшим, потягивая сухое «мартини», проглотил полкниги. Как это возможно? Впрочем, он же теперь не просто человек. Да и чего не сделаешь после стакана?
Там было очень подробно обо всей жизни Давида. От детства до гибели. А сам Давид сидел рядом и, заглядывая через плечо, бегал глазами по тем же строчкам.
— Кто это написал? — спросил Симон.
— Не знаю, — сказал Давид. — Даже гений не способен ответить на неправильно поставленный вопрос.
— Что ты имеешь в виду? — не понял Симон.
— Это не книга, а какой-то хитрый прибор. Скажи, о ком ты сейчас читаешь?
— О тебе, — простодушно сказал Симон.
— Вот! — обрадовался Давид. — А я — о тебе.
— Иди ты!
— Знаю, что не веришь, а ты послушай.
И Давид прочел вслух целую страницу о том, как штабс-капитан Симон Грай беседовал на стадионе «Балтика» с начальником Первого отдела Его Императорского Величества канцелярии Микисом Золотых. И были в этом «отрывке из романа» не только факты, но и мысли Грая.
— Наливай, — сказал Симон. — Лучше бы водки, конечно, но мартини тоже хорошо.
Потом они еще полистали книгу, умиляясь, как дети, различному прочтению одних и тех же строк, и вдруг наткнулись на страницу, которую оба видели одинаково.
«Интересно», — подумал Симон.
«Забавно», — подумал Давид.
А в следующую секунду оба одновременно поняли: теперь они читают о том, чего ни тот ни другой раньше не знали и знать не могли.
Прелюбопытнейшие попались страницы!
ОТКРОВЕНИЕ МИКИСА ЗОЛОТЫХ
Микис попросил остановить на Цветном, вышел из служебного «Росича-императора» (в рабочее время он разъезжал только на нем) и, наплевав на все условности, несолидно, совершенно по-мальчишески присел на уже чуть запылившийся капот прямо в своем белоснежном придворном костюме. Телохранитель стоял рядом, а дежурный постовой жандарм, прогуливавшийся вдоль фасада Политпроса, остановился, встал навытяжку и козырнул, оглушительно щелкнув каблуками. Вряд ли этот подпоручик знал в лицо Золотых, но уже одна его машина обязывала так реагировать.
Микис неторопливо раскрыл любимый золотой портсигар, крышка которого сверкнула на солнце бриллиантами, и закурил длинную черную сигарету. Вспомнился ему такой же день, только семь лет назад. Да и время было примерно это — конец августа. А погода — ну в точности такая же: тихо, безветренно и теплое вечереющее солнце.
Перед отправкой Золотых в Лондон, на опасную и почетную работу в цитадели врага, были устроены торжественные проводы. И не где-нибудь, а в ресторане Политпроса — Дома политического просвещения. По неписаной традиции доступ в это здание имели только старшие офицеры. Микису звание штабс-капитана присвоили всего три месяца назад, приказ об этом застал его в делийской резидентуре, но штатные сотрудники ОСПО — отдельная статья, и Золотых был давним посетителем Политпроса.
До Трубной его подбросил подполковник Никитин из контрразведки. В дороге поболтали.
— Вот так, не прошло и века, — рассуждал Никитин, — как Дом политпросвещения снова превратился в бордель.
— Что значит снова? — не понял Микис.
— А ты не знаешь? Давно-давно, еще до Октябрьского переворота в семнадцатом, на этом месте было много маленьких домишек, а в них — по преимуществу кабаки и дома терпимости. Говорят, это давняя традиция Цветного бульвара. Ну а потом началась новая жизнь, всю малину порушили, стали коммунизм строить, заодно вот эту белую уродину отгрохали… И кто бы мог подумать, что придет еще более новая жизнь? А новое, сам понимаешь, это всегда хорошо забытое старое…
— Философ ты, Саня! — сказал ему Микис.
— А то! Работа такая, — улыбнулся Никитин. — Ладно. Вылезай. Я дальше поехал.
— Смотри, — решил еще раз предложить Микис. — Может, зайдешь? Хоть ненадолго.
— Нет, Мишка, в другой раз. Сегодня, правда, не могу. Ну, — он протянул руку, — счастливо отдохнуть!
Микис хлопнул дверцей. Старенькая, видавшая виды «Волга» дернула с места как шальная и, едва не задев тяжелый грузовик, сразу нырнула в левый ряд. Никитин всегда так водил. Микис стоял, тупо провожая глазами его машину, и тут до него дошло: «счастливо отдохнуть» они говорили друг другу перед самой серьезной и опасной работой. Что же он имел в виду? Шутит так? Или…
Генерал Давыдов тоже сегодня пошутил. Сказал:
— Много не пей.
И небрежно так добавил:
— Да и за Коноваловым приглядывай. Не в смысле пьянства. Есть мнение… — Генерал замялся и многозначительно повертел пальцами. — А ты с ним дружишь, говорят.
— Так точно, ваше превосходительство, дружу.
— Ты, брат, не принимай близко к сердцу, ты отдыхай сегодня, все-таки праздник, новое назначение, однако попутно… Понял задание?
— Так точно, ваше превосходительство!
Неужели это и есть та серьезная работа, о которой уже известно во Втором управлении?
Думать не хотелось. Абсолютно не хотелось. За последние два месяца в Индии он устал безумно. И здесь, дома, так хотелось расслабиться! Если хотя бы на эти три дня не выкинуть из головы все, если как следует не оттянуться… Ему казалось, еще чуть-чуть, и он в ответ на любое грубое слово будет выхватывать пистолет. Нервы не на пределе — они уже за пределом. Так что Давыдова он мысленно сразу послал — не умел Микис и не хотел стучать на друзей (тогда еще не умел), и теперь так же, с полоборота, послал Никитина. («Старший товарищ нашелся! Два дня назад приехал с черноморского курорта — загорелый и бодрый, как турист. Будешь теперь неделями пахать без передышки. Ну так и с Богом, роднуля! А у меня сейчас пусть и короткий, но отпуск».)
Все вахтеры в Политпросе хорошо знали Микиса, но нынешняя грымза случай особый. На любого внеурочного посетителя она смотрит строго и даже с укоризною, откладывает свое вязанье, вытягивает шею и становится похожа на охотничью собаку, почуявшую запах лесного зверя. Трудно даже представить себе, что может случиться, если ей не показать пропуск. Микис никогда не пробовал. Предпочитал доставить ближнему удовольствие. Пусть любуется.
Странное заведение Политпрос. Огромный, не однажды перестроенный комплекс корпусов, залов, комнат. Да, иногда здесь говорили и о политике. А просвещением занимались — так это точно! Есть лекторий, литературный салон, художественные студии, киноклуб, театр… Впрочем, театр — это уже бордель. Да и художники от рисования обнаженной натуры очень быстро переходили к рисованию на ней, то есть на обнаженных телах съедобными красками.
А про киношников и говорить нечего — известно, что они смотрели чаще всего и что снимали на любительское видео. Ну, и значительную часть здания занимала собственно Школа секса — с учебными классами, со специализированной библиотекой и видеотекой, с наглядными пособиями, тренажерами и комнатами для практических занятий. Люди, проходящие мимо по улице, вахтеры, сидящие на входе и даже рядовые сотрудники внешней охраны здания не поверили бы глазам своим, увидав все это. Но Школа для избранных существовала на полном серьезе, работала, процветала. И весь этот Дом политпросвещения допущенные сюда офицеры так и звали между собой — Школа секса.
Как могло такое получиться? А очень просто. Давно ли школой секса была вся Россия? В сущности, совсем недавно, но многие успели об этом позабыть. Может, потому, что сексуальная революция была не только недавней, но и очень недолгой?
Ведь пришедшему на царствие монарху хватило трех лет, чтобы покончить раз и навсегда с разгулом такого чуждого для России легкомысленного и показного разврата. Секс-пресса, секс-шоу, секс-магазины, — словом, любой секс-бизнес… были решительно выдворены за границу. Дьяволу — дьяволово. Всего один раз в истории, в конце восьмидесятых годов прошлого века, может, по глупости, а не исключено, и по злому умыслу последнего «императора» Советской России, чужеродная западная псевдокультура проникла на российскую почву, проникла, потому что ей позволили. Но… не прижилась. Да и не могла прижиться. Сознание народное внутренне противилось как современному западному, так и древнему восточному эротизму. Половая распущенность, вседозволенность, нарочитое пренебрежение к проблемам секса у нудистов, бисексуалов, неотантристов или, наоборот, — фрейдистское зацикливание на сексе у гомосексуалистов, эксгибиционистов, вуайеристов и прочих неправильных «истов» — все это противоречило коренным устоям российской жизни и рано или поздно должно было быть выдернуто с корнем. Главным шагом на этом пути оказалась, безусловно, основательная реформа телевидения, ставшего не просто формально пуританским, а искренне чистым, светлым, духовным. А вновь созданная литературная цензура, не вторгающаяся теперь в область политических свобод, сильно подрезала крылышки тайным эротоманам-писателям и откровенным эротоманам-читателям, «клубничку» выпололи с огородов искусства как самый злостный сорняк. Ну а легализация публичных домов, грамотная медицинская пропаганда, раздельное обучение в школах и ненавязчивое религиозное воспитание с правом свободного выбора конфессии довершили дело. Уровень морально-этического и нравственного здоровья россиян году к восьмому примерно сделался высок как никогда прежде.
Так обычно писали в газетах.
Однако что-то во всем этом продолжало тревожить Микиса. Какая-то неудовлетворенность оставалась. «Половая неудовлетворенность», — шутил он про себя. Но шутки шутками, а ведь не так решили проблему. Решили, действительно решили. Но не так. Потому и процветала вновь двойная мораль: для народа — одно, для избранных — совсем другое.
В Школе секса Микису нравилось. Во-первых, здесь все было просто. Старая добрая теория «стакана воды»: захотел пить — налил в стакан и выпил, захотел женщину — взял ее и поимел. Во-вторых, в Школе все делалось красиво. Да, да эстетика секса культивировалась всерьез. Именно здесь он узнал, как прекрасны могут быть на картине или в медленном танце распахнутые настежь женские гениталии. Раньше они совсем не казались ему таковыми, раньше, когда юный Мика таскал у отца порнокассеты. (А ведь тогда порнографию продавали на каждом углу!) Грязные сцены возбуждали и даже заставляли потом разряжаться в туалете, но они были грязными — от начала и до конца, и оставляли в душе гнусный, как бы неприятно пахнущий осадок. Здесь, в Школе, учили по-другому: интимное в любых формах было не греховным, не грязным, как в подворотне или на порнокассете, а возвышенным и почти святым, как в древних восточных храмах.
И все же чего-то не хватало Микису для полного счастья. По юности думалось: любви. Потом стало ясно, что любовь тут ни при чем. Любовь — это верность, душевное тепло, семья, дети, милосердие, Бог. Любовь — это про другое, совсем про другое. А ему именно в сексе чего-то не хватало. И однажды… как озарение: да он же извращенец! Полез в библиотеку, долго искал подходящий случаю термин. Точного попадания не произошло, но вуайеризм (подглядывание за другими) и эксгибиционизм (демонстрация собственных гениталий) — это было близко. Еще какие-то мудреные словечки попадались, а на практике Микис тяготел к групповым «упражнениям», которые даже здесь многими осуждались, и найти для себя партнеров оказывалось нелегко. «Шведская семья» худо-бедно иногда собиралась (и то спьяну, а Микис любил все это именно на трезвую голову). Настоящий же «группен» так и оставался мечтой. А Микис уже понял, сформулировал суть своего «извращения» (именно в кавычках, ведь он не считал это извращением): сильнее всего прочего его заводило чужое возбуждение (как мужское, так и женское) возбуждение зримое, слышимое, осязаемое, и чем больше участников процесса, тем мощнее волна восторга, нечеловеческого восторга…
Иногда ему снился огромный стадион, вроде Уэмбли, на траве футбольного поля не спортсмены, а сотни и тысячи переплетенных совокупляющихся пар, он, Микис, в самом центре, и трибуны, забитые публикой, шумят, гудят, поют, распаляются, и вот он уже видит: зрители тоже тянутся друг к другу, раздевают друг друга, сливаются в объятиях, массовая сексуальная экзальтация фантастической силы обрушивалась с трибун на поле, словно цунами… И Микис просыпался, как в юности, с мокрыми трусами.
А в печально знаменитый день его проводов в Британию Золотых не только не удалось поучаствовать в группешнике, ему вообще ничего не удалось. В ресторане сразу утащил за отдельный столик Лешка Коновалов, уже изрядно набравшийся непонятно когда и зачем. Сразу вспомнился генерал Давыдов и по-крымски бодрый загадочный Никитин, настроение испортилось. Но Лешка сказал такое, что испортившееся настроение отъехало на второй план. Лешка сказал:
— Сегодня я должен признаться тебе, Миша. Именно тебе и потому сегодня. Я — Посвященный.
— Во что посвященный? — не понял Микис.
Действительно не понял — думалось-то совсем о
другом.
— Не во что, а Посвященный. С большой буквы. Ну что ты, не знаешь, что ли? Братство такое, всемирное, ну, вроде религиозной секты. Вот туда меня и приняли.
— Побойся Бога, Леша, — зашептал Микис в ужасе. — Какое Братство? Какая секта?! Как тебя могли принять? Ты же офицер российской госбезопасности! Ты с дуба рухнул, Леша?!
— Наверно, Миш, наверно, я рухнул с дуба, но больше я не офицер госбезопасности. — Коновалов говорил спокойно, размеренно, без эмоций, словно он все то же самое много раз пересказывал другим, бесконечно устал от этого и вот теперь вынужден в сотый раз повторяться. — Я мучился две недели, но наконец решил: я ухожу из КГБ, потому что от Посвящения уйти нельзя.
Микис слышал, конечно, о Братстве, про господ Шпатца и Силоварова даже читал что-то в газетах, но относился к самой идее скептически, то есть никак не относился: мало ли всяких на свете религиозных закидонов, особенно в последнее время. И вдруг — бац! — пока он в Индии британские политические секреты разнюхивал, лучший его друг сделался Посвященным. Это настолько ни с чем не вязалось, что Микису захотелось понять. И он стал внимательно слушать Алексея — вне зависимости от высказанных и невысказанных пожеланий Давыдова. И чем внимательнее он слушал несчастного Лешку, тем страшнее делалось ему, ведь Лешка-то верил во все, что говорил, верил, да еще и трясся от страха, так как по их законам тоже не полагалось разглашать секретные сведения, то бишь тайное знание Братства, а он, Коновалов, разглашал, потому что уже не в силах был больше ходить с этим. Выгнать из Посвященных не могли — это как национальность или физическое уродство дается пожизненно, так что для Лешки теперь путь был один — на небо, а там, надо полагать, существует для ихних грешников какое-нибудь специальное чистилище. Страха перед адскими муками Микис у друга не почувствовал, было скорее какое-то разочарование, какая-то глухая тоска по оставляемой Земле и друзьям. Он так и говорил:
— Оставляю вас, оставляю, а жалко! Не поверишь, как жалко. Потому что не вовремя, рано. Но иначе — никак…
Потом вдруг успокоился, стал в подробностях про потусторонний мир рассказывать, про мир, в который собрался отходить. На вопрос, откуда все это знает, объяснил серьезно:
— От Владыки. А Владыка в свою очередь узнал из Космоса.
Микис не комментировал, просто слушал. Слушать было интересно. О невероятных возможностях людей, ставших бессмертными, об их путешествиях, о бесконечно умножаемых знаниях, об отсутствии материальных проблем.
И особенно подробно — о сексе. Может, это на него обстановка повлияла (на сцене-то уже девочки начали раздеваться), а может… Лешка рассказывал о божественном сексе, о вседозволенности, о красоте любых форм общения, об их священном смысле, о неиссякаемой энергии, о влечении всех ко всем и… о взрыве сексуального восторга при массовых соитиях. Лешка пересказывал Микису его, Микиса, мечты. Но он же никому, никому, никогда!.. Случайное совпадение? Или?.. Или реально существует этот Второй уровень бытия, о котором талдычит Лешка, а Микис — тоже в своем роде Посвященный, то есть никакой Владыка его не посвящал, но зато в снах душа Микиса умеет сама пробираться на Второй уровень. Может такое быть? Или он тоже, против обыкновения, выпил сегодня лишнего?
А кончилось все не просто печально — кончилось трагично.
Лешкины глаза вдруг округлились до жути ненатурально, словно у комического актера, изображающего страх, и смотрел он за спину друга и чуть вправо. Золотых оглянулся. У входа в ресторанный зал стоял только что вошедший генерал Давыдов. Микис повернул голову обратно к Лешке практически одновременно с выстрелом, ну, может быть, на какую-то долю секунды раньше, поэтому, когда потом его спрашивали, почему не помешал, Микис отвечал почти честно: «Не успел». Почти честно. Почти. Потому что на самом деле он бы и не стал мешать. Рука не повернулась бы остановить человека, верящего (да нет, не верящего, а знающего — в том-то и дело!), что по ту сторону смерти его ждет другой, куда как более прекрасный мир.
А стрелял Алексей хладнокровно и профессионально — в висок, и пистолет с предохранителя снят был заранее…
Вылет в Лондон задержали на два дня: ЧП общекомитетского масштаба. Микису пришлось исписать десятки листов бумаги заявлениями, объяснениями и показаниями и десятки раз во всевозможных кабинетах пересказать услышанное от самоубийцы. Ужас был в том, что он не все рассказывал. Он быстро сообразил, что разговор не писали на диск. Столик оказался «неозвученный». Случайно ли?
И все, что Лешка говорил о сексе, Микис сразу постарался забыть. Иногда Золотых чуть-чуть путался, волнуясь, но это ему прощали — все-таки лучший друг на глазах помутился рассудком и самоубился. Да, именно к такому выводу они все и пришли в итоге. Вынуждены были прийти. Что тут поделаешь? И на солнце бывают пятна, и в ОСПО попадаются душевнобольные.
Но Микис этого вывода внутренне не разделял. Хотя для себя и другого пока не сделал. Просто чувствовал: все гораздо сложнее. И еще чувствовал: не он один относится серьезно к случившемуся. Кто-то еще не верил в безумие Лешки. Кто? И вообще, откуда такая странная уверенность? А что, если этот человек, которого он чувствует на расстоянии, вообще не имеет отношения к КГБ? Боже, какая дикая мысль! Откуда ж он тогда знает об обстоятельствах смерти? КГБ никогда не выносит сор из избы. «Откуда, откуда!» — передразнил он сам себя. Очевидно ведь было: тот человек тоже Посвященный.
Так начинался интерес Микиса Золотых к Посвященным.
Потом был Лондон, и в Британской библиотеке удалось кое-что нарыть. Некоторые источники указывали, что центральный европейский архив по этой теме находится в Гааге. Микиса зацепило уже всерьез, и он сумел, не дожидаясь отпуска, оформить себе командировку в Голландию. Когда Золотых было что-то по-настоящему нужно, он проявлял чудеса изобретательности. Резидент, конечно, оказался в курсе его хобби (в общих чертах), но поскольку работе оно никак не мешало, возражений не имел. Резиденту представлялось немножко странным, что нельзя всю информацию о Посвященных скачать из Гааги в Лондон по сети, но сам-то Микис, едва начав изучать самую необычную в мире секту, быстро привык ко многим странностям и почти перестал удивляться чему бы то ни было.
А когда прибыл в Гаагу, понял, что никакие файлы, скачанные или доставленные спецпочтой, конечно, не заменили бы ему этой поездки.
Каталог огромной библиотеки и даже хранилище старинных фолиантов всех времен и народов ничем особенным Микиса не порадовали. Собственно, лондонские историки знали о Посвященных ничуть не меньше. Но Золотых упорно продолжал искать, откуда же вылезли эти странные ссылки на Гаагу. И нашел.
То, что он представлял себе центральным архивом, оказалось частной квартирой одинокого старика, которому было на вид лет сто десять. Представился старик просто — Сэм. Но очень скоро перешел на русский и так изобретательно матерился, что сомнений не осталось: на этом языке он говорит с детства, а Сэм — безусловно, одно из служебных имен.
А выглядел старик ужасно: тело его, частично прикрытое старым засаленным халатом, было грузным, неуклюжим, но не то чтобы толстым, а рыхлым и складчатым, как у дряхлеющего больного шарпея — есть такая китайская порода собак со свободно висящей, нечувствительной к боли шкурой. Ассоциации с вислыми собачьми складками вызывала и дряблая кожа лица, покрытая красными и темно-бордовыми, почти черными пятнами. Мутные желто-серые глаза смотрели на посетителя бессмысленно и вместе с тем агрессивно. Перегаром от старика Сэма не пахло — очевидно, современная фармацевтика выручала, — но случай был, со всей очевидностью, тот самый. Что и подтвердилось с началом разговора. Сэм сразу достал бутылку, и как ни уговаривал его Микис воздержаться хотя бы на время беседы, старик гнул свое. Собственно, через какую-нибудь минуту выбора уже и не осталось: руки у алкоголика заходили ходуном, губы задрожали, струйка слюны неуправляемо побежала из уголка искривившегося рта. Потом он всосал полстакана коньяку, минут через пятнадцать еще столько же, и в течение получаса или чуть дольше был способен говорить и даже соображать. Затем адекватность его реакций снова резко упала, а еще через полчаса Сэм спал мертвецким сном.
Но за короткие промежутки времени, отпущенного несчастному его угасающим здоровьем, Микис многое успел выяснить. Конечно, не за один раз. Понадобилось еще несколько свиданий.
Старик оказался ответственным сотрудником спецотдела КГБ, в течение десяти лет занимавшегося Посвященными. Только Посвященными. В ходе известных событий архив отдела был действительно уничтожен полностью. Равно как и личный состав отдела. Занималось этим особо секретное подразделение ГРУ. Ликвидация проводилась по самой зверской схеме, когда на всякий случай пускают в расход жен, детей, вообще всех близких родственников и друзей. Убийц такого класса потом, как правило, устраняют самих, если, конечно, они не успевают сделать ноги. Кому-то наверняка удалось: ведь ребята из особой команды ГРУ — это крепкие орешки, на каждого из них нелегко было найти достойного палача. Ну а Сэм уцелел только благодаря тому, что заранее подозревал о готовящейся акции. Никто в отделе не верил, что Посвященные способны на такое, у них ведь там «не убий, не преступи» и вся эта прочая религиозная муть. Но Сэм догадывался, Сэм по опыту знал, что крыса, прижатая к стенке, не просто кусается, а в отчаянном стремлении спасти свою жизнь становится сильнее и страшнее человека. Нельзя было так долго жать эту крысу. Дожали, идиоты! Но он-то давно разглядел, какая из крыс главная, приглядывался к ней, прислушивался и сумел не упустить момента. Вовремя отступил на ранее подготовленные позиции.
В самом начале сентября девяносто первого эмигрировал в Голландию, куда за год до этого ездил от КГБ по обмену опытом. Но маленькая конторка в Гааге, вполне цивилизованными методами и даже почти гласно изучавшая Посвященных, тоже испарилась. Люди, правда, остались, но на контакт шли вяло. Все обещания свои выполнили: квартира, гражданство, новый паспорт на имя Сэмуэля О'Донневана, счет в банке — в точности, как договаривались, но и только. Никакой помощи в делах.
Сэм вначале просидел два месяца, не вылезая из своей берлоги, и по памяти восстанавливал все архивные документы отдела, включая записи Канонических Текстов. Конечно, он не рискнул взять с собой из Москвы ничего — даже дискет и пленок. Тем, что происходило в СССР, нарочито не интересовался. Позвонил кому-то из друзей, только уже завершив свой титанический труд. И узнал. Нет, не про отдел (про него тогда некому было рассказывать), другое узнал: они накрыли его семью. Целиком. А он-то, дурак, думал, что это Вера так долго на выезд оформляется. Тут наш Сэм, конечно, запил. На месячишко. А потом, очнувшись, первым делом уничтожил все, что успел записать. Самое интересное, что он еще дважды повторял эту операцию: восстанавливал и снова сжигал.
Лет через пять, подлечившись и приведя себя почти в нормальный вид, Сэм отправился по редакциям газет и влиятельным организациям. Документов он восстановил к этому времени намного больше. И все уже было в компьютере, и на дискетах, и на бумаге. Он доехал даже до Америки. В Россию, правда, вернуться не рискнул. Было несколько публикаций. В «желтой» прессе, конечно, в журнальчиках типа «Путь к себе» и «Esoteric Review». А соратников по борьбе с Посвященными он так и не нашел.
Ну а когда возникло Всемирное Братство и в Кенигсберге воцарился Шпатц, Сэм окончательно понял, что проиграл. Посвященные успешно реализовывали давно продуманный заговор, никто этого не понимал и понимать не хотел. Дальнейшие вопли по поводу угрозы человечеству с такой неожиданной стороны не сулили лично Сэму ничего, кроме психушки в любой стране мира, по выбору. Посвященные его откровенно не боялись: ведь не гонялся же за Сэмом по миру этот «главный крыс», или боевой шарк, как он себя называл. Благородные мстители из Черной Конфессии занимались теперь чем-то другим, Сэму стало даже неинтересно, чем именно.
Денег, мягко говоря, хватало, поэтому коньяки он пил только французские и только «Х.О.», то есть самой солидной выдержки, и это несколько удлиняло и скрашивало его жизнь. И каждый раз, открывая новую бутылку «Давидофф» или «Мартей», он почему-то вспоминал другую, выплывавшую неизменно из давнего кошмара, купленную много лет назад в ларьке у метро «Щербаковская». Это был «Бисквит», точно, простенький «Бисквит», «V.S.», даже не «V.S.O.P.», но он был вкуснее, намного вкуснее, потому что пил его тогда не Сэм О'Донневан, а простой советский парень Геля Наст…
Вот такую ахинею и приходилось после расшифровывать Микису. Канонические Тексты Вергилий Наст вспоминал в отрывках. Правда, несколько дискет с очень коротенькими файлами чудом сохранились в одном из его сейфов, плотно забитых коробками с коньяком и даже из-под коньяка. В основном это были протоколы допросов без начала и конца…
Умер Вергилий примерно через год после первой встречи с Золотых. Умер при нем, при Микисе. Залез утром в горячую ванну с ароматической солью, как он любил иногда, чтобы прочухаться, полежал немного, крикнул что-то неразборчивое через закрытую дверь, а пока Микис шел, пока с замком сражался, старик уже сполз под воду и пускал пузыри. Приехавший врач засвидетельствовал смерть от сердечного приступа. Полиция и британская разведка интереса к случившемуся не проявили.
А хоронили Сэмуэля О'Донневана городские власти. Никто на эти похороны не пришел. Никто. Микису тоже не захотелось.
Все это генерал Золотых вспомнил теперь, сидя на капоте своего суперлимузина и выкурив подряд три сигареты.
Пронеслось в голове мрачным вихрем. Всколыхнуло тревожные предчувствия. А ведь хотел просто заглянуть — молодость вспомнить. Может, даже деваху какую за попку ущипнуть. Нет, уже не то настроение. Да и солнце садится. Пора на экстренное совещание. Товарищи на Лубянке ждут.
— А я думал, зайдете, — позволил себе водитель смелое предположение.
— Сам думал, — миролюбиво откликнулся Золотых. — Да, видно, немолод уже.
МОНОЛОГ ДАВИДА МАРЕВИЧА
Давид вдруг оторвался от книги и сказал Симону:
— Слушай! Мир создали Демиурги. Или один Демиург, что, в принципе, несущественно. Кто создал самого Демиурга, считается вопросом (как бы это помягче?) неграмотным и неэтичным. Ведь для всякого очевидно, что Демиурга никто не создавал — он просто рожден был женщиной в том самом мире, который потом и создал. Подчеркиваю: потом. Это — во-первых. Во-вторых, ты лично знаком с Демиургом, его зовут Шагором. Вообще-то у него много имен, очень много. Наиболее известные такие: Ариман, Иблис, Мара, Самаэль, Вельзевул, Яньло, Люцифер, Шайтан…
— Короче, мир сотворен дьяволом, — перебил Симон, почувствовав, что Давид увлекся и будет теперь до завтрашнего утра извлекать из своей памяти имена князя тьмы, спасибо еще не по алфавиту шпарил. — Оригинально.
— Да ничего тут нет оригинального. Люди догадывались о таком варианте мироздания еще задолго до теоретика сатанизма Антона Лавея. Но никто из них как не понимал, так и не понимает сути. Сатанисты тоже дураки. Не было и нет никакого Мирового Зла. Просто Великий Скульптор, он же Демиург, создал мир, далекий от совершенства, чтобы людям тоже осталось с чем повозиться. Ну, люди и напридумывали себе богов, сами становились богами, пытались сделать лучше этот несовершенный мир. Только единицы понимали, что нет никаких богов, и дьявола — тоже, что все — суета сует и ловля ветра, потому что боги — это люди, стремящиеся вперед, а дьявол — это опять же люди, стремящиеся сохранить все как есть. И кто из них добрый, а кто злой — тоже вопрос из разряда безграмотных и неэтичных.
Стремление изменить мир в конечном счете ведет к его гибели. Это один из законов, которым наделил свое творение Демиург. И сообщил его тем немногим, кто способен был понимать. Но люди истолковали все по-своему, то есть с точностью до наоборот: мир погибнет, если не будет меняться. И стали проповедовать эту ересь. Демиургу, конечно, не понравилось: совсем не для того сообщал он вечные истины, чтобы другие чесали о них языком где попало, да еще поставив все с ног на голову. Ну и пошла борьба: кто кого.
Для ясности проведу аналогию: религиозные фанатики и боги — это бунтовщики, революционеры, а так называемые слуги дьявола — обыкновенная служба безопасности, вселенский КГБ. Ни тех ни других упразднить нельзя, потому что, в сущности, именно так и задумал Демиург, но задумал, бедняга, сам о том не догадываясь. Ведь он сотворил не просто мир, он сотворил саморегулирующуюся систему. И система, конечно, переросла себя, потом переросла Демиурга и напрочь вышла из-под контроля. Последнее случилось не так давно.
Некоторые не понимают, что такое контроль, представляют его себе в виде толстых стен, колючей проволоки, всевидящего ока и отстрела непокорных. А на самом деле контроль — понятие чисто информационное. У кого больше знаний, тот и контролирует ситуацию. Демиург пользовался и пользуется некой внеземной субстанцией, включающей в себя, говоря по-нашему, базы данных, процессоры и сети. Субстанцию эту называют иногда поэтичным словосочетанием «Розовые Скалы», а иногда буднично, по-деловому, без всяких заглавных букв — хранилищем полной информации обо всем.
Так вот, во второй половине минувшего столетия объем накопленной на Земле информации, скорость ее обработки и разветвленность сетей стали сопоставимы с аналогичными параметрами Розовых Скал. Тут-то все и началось, тут-то все и посыпалось, на смену плавному движению пришла последовательность скачков: накопление критической массы — взрыв, опять накопление критической массы… Все чаще и чаще наступает у нас время «Ч». Промедление в выступлении смерти подобно!.. И вот уже снова бабахает какая-нибудь «Аврора», Ельцин запрыгивает на башню танка, Шумахер произносит нобелевскую речь… Чувствуешь, как уплотняется время! Семнадцатый — девяносто первый — седьмой — снова семнадцатый. Да-да, снова семнадцатый. Потому что Демиург тоже почувствовал, как уплотняется время. И переименовал свою Службу Безопасности Вселенной в Черную Конфессию, а себя скромненько назвал просто Владыкой, Владыкой Шагором. И решил сыграть с Посвященными на их поле и по их правилам.
Да, на этих днях в Кенигсберге и Раушене он дал последний бой Белым Птицам Высот. И проиграл. Случайно?
О, это вечный вопрос! «В жизни Посвященных не бывает случайностей». Не нами сказано. А в жизни Демиургов? А в судьбе Вселенной? Слабоi ответить на такой вопросик?
— Да пошел ты, — миролюбиво буркнул Симон.
И они снова вернулись к чтению.
ИСПОВЕДЬ БОРИСА ШУМАХЕРА
С чего все началось?
С реплики соседа по двору Сережки, когда солнечным майским утром собирались гонять в «казаки-разбойники»? Все уже посчитались, и тут, чуть запоздав, прибежал я. Ребята вдруг затихли, а Сережка процедил сквозь зубы с улыбочкой нехорошего предвкушения:
— А с тобой, жиденок, мы играть не будем!
Драки тогда не получилось, нас растащили, и, сидя на лестнице между этажами, перед пыльным маленьким окошком, я долго плакал в полном одиночестве. Даже домой идти не хотелось.
А может, это началось позже, когда старшая сестра Галя, окончив в Москве институт и в тот же год разведясь с мужем, вернулась в Ленинград устраиваться на работу. Специальность у нее была такая, что место искать приходилось преимущественно на «ящиках», где сидели кадровиками бывшие смершевцы, переусердствовавшие в свое время, или вышедшие в тираж контрразведчики. И эти озлобленные ветераны невидимого фронта говорили моей сестре: «А что это за фамилия такая? Немецкая? Ах, у вас отчество Соломоновна! А мама ваша, простите, кто? Наполовину грузинка? Ах, как интересно! Нет, нет, вы ничего такого не подумайте. У нас в стране все нации равны. Вы же знаете. Просто в институте сейчас сокращение штатов…»
А может, все началось еще позже, когда газеты пестрели новостями с Ближнего Востока, а замечательный наш вечно пьяный сосед дядя Андрон, снимая трубку телефона, дурашливо картавил с одесскими интонациями: «Соломона Абгамовича? А вы не знаете? Он уехал в Изгаиль». И громко хохотал на весь коридор….
Примерно тогда же в нашем доме стал часто появляться старинный друг отца Маркосич. Звали-то его на самом деле Марк Иосифович, но детям такое отчество давалось с трудом, и кличка Маркосич в итоге приклеилась. Он всегда играл и со мной, и с Галкой, мы любили его как родного дедушку. (Ни дедушки наши, ни бабушки из-за блокады до внуков не дожили.) Теперь мне было уже пятнадцать, и я стал внимательно прислушиваться к разговорам взрослых. Маркосич оказался убежденным сионистом. Отец поддерживал его лишь частично, и споры их делались порою ожесточенными. Мать примирительно говорила:
— Посадят вас обоих. Ребенка бы пожалели.
А ребенок мотал на ус. И в глубине души отдавал предпочтение Маркосичу.
Впрочем, сионизмом переболел я быстро. Серьезное увлечение этими идеями закончилось, наверно, еще за чтением Фейхтвангера, а уже все тома «Истории евреев» изучались с известным скепсисом. Правда, скепсис не помешал изучению иврита, который я продолжал упорно осваивать наряду с английским. Тогда же началось быстрое беспорядочное чтение, полный хаос в мыслях, резкий уклон в историю религии, фантастику, мистику и, наконец, химия, выбранная как дело всей жизни. Химфак ЛГУ.
Почему химия? Да, наверно, просто показалась тогда самой мистической из наук. А так и получается. Михайло Ломоносов сказал: «Широко простирает химия руки свои в дела человеческие». И хотя с точки зрения формальной логики фраза эта представлялась мне совершенно пустой, почти нелепой, я вдруг усмотрел в ней смысл сугубо эзотерический. В словах великого русского мужика слышалось предсказание грядущих революций и катастроф, грядущих побед человека над собой и, возможно, грядущего спасения.
Я думал именно о спасении.
С самого детства я размышлял о выходе человечества из тупика. Собственно, нормальные люди только в детстве да в юности и размышляют об этом. С годами обычно понимают, что спасать человечество поздно, невозможно, а главное, и не нужно. Пустое это занятие — хоть по христианской, хоть по коммунистической схеме. Обе схемы были тщательно разработаны и применены на практике. Ничего, кроме ужасов смертных, людям они не принесли.
Есть, конечно, и совершенно иные варианты. Буддизм, например, который в своем изначальном виде вообще никакая не религия, в отличие от того же коммунизма (типичной псевдорелигиозной концепции). По Гаутаме, спасение утопающих — дело рук самих утопающих, то есть не надо спасать человечество, спаси самого себя, и будет полный порядок. Идея красивая, даже очень. Но тоже, к сожалению, утопическая. Не могут все стать Буддами. Уж не знаю почему, но не получается.
На этом-то разочаровывающем фоне сионизм показался привлекательным и романтичным. Согласитесь, приятно ощутить себя вдруг не просто человеком венцом творения, а еще и представителем избранного народа, то есть венцом венца. Юному химику, увлеченному этнографией, построение «коммунизма» для одного, отдельно взятого народа на его исторической родине казалось идеей вполне здравой. Во всяком случае, это был хоть какой-то выход. Из привычного мира — в новый. Если кому нравится здесь, сидите на здоровье среди этнических распрей, непрерывно переходящих в смертоубийство. А мне давно мечталось найти выход из нашей «тюрьмы народов», она же «союз нерушимый»; из хваленой Америки, где так давно борются с расизмом, что, кажется, уже должны были понять: безнадега это; даже из старой добропорядочной Европы, где, например, несколько веков не могут поделить остров с красивым названием Ирландия и по этому поводу режут друг друга бесперечь…. Куда ж деваться бедному еврею? Ну, разумеется, только на землю предков. Да, я рвался в Израиль, я мечтал о нем, но быстро, очень быстро понял, как это все наивно.
Во-первых, любой отдельно взятый коммунизм, будь он еврейский, корейский или даже эскимосский, придется тут же упрятать за Великую китайскую стену или, что более современно, за железный занавес, который на практике выглядит известно как: три ряда колючей проволоки под током, вышки с пулеметами, прожектора и бешеные собаки. Уже приятно. А во-вторых, дурной пример заразителен: арабы, эфиопы и пуштуны тоже понастроят своих маленьких застенных, занавешенных коммунизмиков и вряд ли сумеют сидеть там тихо, никого не трогать и примус починять. Несколько сотен «избранных народов» снова начнут выяснять, кто из них самый избранный, а если все равны, то кто все-таки «равнее». Причем в эпоху реактивной авиации, космической связи и оружия массового поражения никакие стены, разумеется, не помогут.
В общем, я понял: изоляция — это либо совсем не путь, либо путь для очень далекого будущего, если мы до него доживем. Ну, к примеру, сумеем разлететься по разным планетам или придумаем пресловутые генераторы силовых полей, энергетических колпаков, не пропускающих никого и ничего. Это было не по моей части, и потому становилось скучно думать над различными физико-космическими вариантами.
Однако корень зла представлялся уже найденным. Я не сомневался теперь, что главное несовершенство земной цивилизации заключено в проблемах национальной розни. Миф о Вавилонской башне, проблема происхождения рас и этнических типов не давали мне покоя. Во всем этом виделся злой умысел или преступная небрежность Создателя.
Чем дальше мы движемся по пути материального прогресса, широкого распространения информации и развития интеллектуальных возможностей, тем все яснее становится: единственной причиной войн и массовых убийств остаются национальные фобии. Ведь если вдуматься, любая религиозная, кастовая, клановая, профессиональная и даже придуманная Марксом классовая нетерпимость — это лишь другая сторона, следствие или уродливое продолжение нетерпимости этнической.
Да, да, именно так, ведь все остальные фобии преодолеваются и устраняются по мере воспитания, образования, интеллектуального развития и роста материального благосостояния. Национальные же, этнические фобии устойчивы, живучи, непоборимы. Помнится, правозащитник Михаил Казачков утверждал, что на определенном уровне интеллекта и образования национальность не играет уже никакой роли. Возможно, не стану спорить, но это опять же разговор о другом. Такой уровень никогда не будет доступен всем. Опять мы говорим о буддах и нирване, о смешной надежде каждому стать Львом Толстым. А для среднего, даже очень хорошо воспитанного и умного человека, национальные фобии остаются чем-то вроде психологической несовместимости, даже чем-то вроде аллергии. Биологический уровень, уровень бессилия разума перед плотью.
Кому из нас не знакомо совершенно немотивированное раздражение, которое вызывал еще в школе какой-нибудь противный мальчишка? Он, бывает, ничего и не сделал, ничего не сказал, только улыбнулся своей гаденькой улыбочкой, посмотрел не так, а ты уже готов ему врезать по носу, чтобы брызнула кровь, или сладострастно вцепиться в волосы.
А кому не знакомо извечное интеллигентское: «Нет, я, конечно, не расист (варианты: антисемит, националист, шовинист), но я категорически против, чтобы моя дочь выходила замуж за негра (варианты: еврея, узбека, чеченца, любого нерусского, любого нееврея)». За это даже осуждать нельзя. Или можно? Или даже нужно?
Вопрос оставался без ответа. Вопрос был поставлен неправильно. Все, что связано с биологией, изменяют не путем осуждения и воспитания, а путем лечения.
Зачем так мрачно? Ну а как еще? Мне тоже в детстве и ранней юности страшно нравился другой вариант решения проблемы — космополитический, предложенный еще Иосифом Флавием. Но до Флавия я позже добрался, а тогда любимым писателем был Иван Антонович Ефремов. «Туманность Андромеды», «Сердце Змеи». Никаких тебе наций, рас, языков, все здоровые, красивые, смуглые, ясноглазые и любят друг друга, потому что общая кровь течет во всех жилах. Потому что много веков назад с какого-то перепугу (Иван Антоныч не удосужился объяснить, с какого именно) они начали все совокупляться без различия рода и племени. Немножечко грустно было вспоминать о напрочь утраченных национальных культурах, но, черт возьми, там же никто никого не порабощал, никто никого не резал! Ради этого стоило пожертвовать и боiльшим. В мире Ефремова хотелось жить, но в реальность его я не верил с самого начала. По наивности это приближалось к неплотоядным крокодилам и сладким озерам французских утопистов. Помечтать-то можно и о молочных реках с кисельными берегами в лучших традициях русских лентяев, но рассматривать их как серьезный вариант решения продовольственной проблемы!..
Более реальным представлялось деление наций и рас на высшие и низшие, признание первых вторыми, четкое распределение обязанностей, новый свод международных законов, международная, хорошо организованная система подавления непокорных… Такая модель по крайней мере соответствовала каким-то законам природы, вписывалась в общую картину жизни на Земле. Вот только меня от этой картины тошнило. Да и сколько раз уже пробовали! Создавали всевозможные империи, а они с утомительным однообразием подгнивали и распадались.
Итак, повторим: ассимиляция по-ефремовски не проходит, изоляция по-еврейски — тем более, порабощение по-чингисхановски-гитлеровски — тоже никуда не годится, наконец, поголовное выращивание гениев, не ведающих фобий, отпадает как самое несерьезное предложение.
А проблема-то есть, она все острее. Из-за психологической несовместимости редко взрывают бомбы, тем более начинают войны, из-за этнической — все чаще и чаще. И в основе всего — какая-то гадость, лежащая на генетическом уровне. Или еще глубже.
Ну скажите, кому из нас не знакомо чисто животное отвращение к запаху чужого тела? Это — биология. Это лечить надо. Или все-таки не надо? Старый вопрос. По существу, это основной вопрос евгеники — науки об улучшении человеческой природы, о целенаправленном выведении нового вида людей. Сколько раз называли евгенику буржуазной и даже фашистской лженаукой, пытались подменить ее «социалистическим» вариантом генетики, а в футурологических прогнозах — генной инженерией. Но я таки ухитрился раскопать какие-то переводные книжки по любимой теме и все сильнее и сильнее убеждался: евгеника нужна. Если мы сами не начнем менять себя, кто-то другой нас изменит. Этот кто-то уже принялся за дело. Вид гомо сапиенс эволюционирует постепенно, но все быстрее. И не в лучшую сторону. Если этот процесс вовремя не направить, человечество очень скоро самоуничтожится. Вот такая простенькая мысль меня и посетила однажды.
А потом к ней добавилось могучее впечатление от классического романа Станислава Лема «Возвращение со звезд». И хотя автор явно осуждал тех своих героев, которые посмели вмешаться в Божий промысел, лишив человечество агрессивности чисто химическим способом, именно Лем помог мне сделать окончательный вывод.
Да, так называемая лемовская бетризация, помимо агрессивного начала, уничтожила в человеке много хорошего: упорство, целеустремленность и тому подобное. Этого следовало ожидать, лекарств без побочных эффектов не бывает, такую элементарную истину Лем как медик понимал конечно. Но побочное действие можно и должно минимизировать. Это — во-первых. А во-вторых, господа Бенне, Тримальди и Захаров из старого фантастического романа действительно уж слишком резко рубанули по живому — духовная кастрация получилась. И даже не очень духовная: секс, лишенный боли, лишился и страсти.
Я собирался работать куда как ювелирнее. Но тоже химией, и только химией, потому что… Напоминаю: «Широко простирает химия руки свои в дела человеческие».
Вспомните классику. Тристан и Изольда. Отчего эти двое безумцев так полюбили друг друга? Забыли? Они же зелья приворотного выпили. Вот так-то. И никакой романтики — сплошная химия.
Могу свидетельствовать как специалист: жидкость такая существует.
И еще раз повторяю: нам всем глупо шарахаться от химического воздействия и считать его насилием над природой. Даже потребление пищи это чисто химический процесс, химическое воздействие на организм, а значит, и на сознание. Не говоря уже об алкоголе, медикаментах и наркотиках. Где провести грань? Что можно, а чего нельзя? Красиво говорят врачи: не навреди. А что такое вред, они знают? Ни черта они не знают. А я вот взял на себя смелость разобраться.
Химфака, разумеется, не хватило. Окончил еще медицинский, занялся фармацевтикой, а этнографию и этнологию изучал самостоятельно, в советских вузах ее, мягко говоря, немножко не так преподавали. Армия мне не грозила: здоровьишком не вышел. Близорукость, плоскостопие и хроническая астма с хроническим энтероколитом в придачу. Изобретатель лекарств, называется! Сапожник без сапог. Вот уж действительно «шумахер без шумах»….
В общем, занимался я наукой, наукой и только наукой. Жил скромно. Но ведь платили же что-то, а цены были, сами понимаете, божеские. Женился как-то между делом, без особой любви, для порядка. Детей иметь не собирался до поры. Как минимум, вначале решил защитить докторскую. И защитил. В тридцать три года. А тут еще перестройка случилась. Публикации, поездки за рубеж, симпозиумы… Литературы появилось — прорва, цензура-то исчезла в одночасье, ну, а из-за границы тем более стало можно привозить что хочешь. Это дало новый толчок моим исследованиям. Не буду останавливаться на подробностях, но к тридцати пяти я стал членкором, а в тридцать восемь академиком.
Однако важнее, наверное, другое. Еще, должно быть, в университете я стал хоть и тайным, но полностью сформировавшимся диссидентом. При моем-то объеме знаний не сделаться антикоммунистом мог разве что стопроцентный шизофреник с раздвоенным сознанием. Но было мне совсем не до правозащитной деятельности. И уезжать из страны не хотелось. Проще всего объяснить это сегодня предвидением, предчувствием. Но я-то знаю: была обыкновенная лень. Ведь это ж сколько инстанций обежать надо! Да еще и не без риска для свободы и жизни. А так, с коллективом мне повезло, работал себе и работал в собственноручно выстроенной «башне из слоновой кости», имя которой — наука. Работал, радовался результатам и пытался поменьше обращать внимания на окружающую жизнь.
При Горбачеве это стало почти невозможным. Но и уезжать расхотелось. Ведь намечался новый грандиозный эксперимент. Я хотел быть активным участником, а не наблюдателем со стороны.
В восемьдесят шестом (ну наконец-то!) познакомился с КГБ. Мимо их внимания не прошел мой интерес к новейшим психотропным препаратам и сильнейшим биологическим ядам — токсинам. Эта область, с позволения сказать, фармацевтики всегда считалась прерогативой спецслужб. Собственно, поначалу они надеялись, что я буду на них работать. Потом поняли, что впрямую этот номер не пройдет, и начали меня пасти. В загранпоездках предлагали выполнять отдельные деликатные поручения, лабораторию нашу взяли под опеку, ну а когда возник Советско-американский фармацевтический центр, понятное дело, там было полно агентуры с обеих сторон.
Еще интереснее другое. В Америке лихие профессионалы из Моссада пытались меня вербовать, как это у них называется, «под чужим флагом» — под видом ЦРУ. Как бывший сионист я очень быстро их раскусил и вежливо отказался, но вот идея с ЦРУ вдруг увлекла меня и во вторую свою поездку в Штаты я сам пошел на контакт — «под флагом» деликатных поручений КГБ. Конечно, не тогда я стал их агентом — так быстро дела не делаются, но это был пробный шар, и, как выяснилось, очень важный для дальнейшего.
Примерно через год после попытки стать цэрушником я стал Посвященным. По тривиальной схеме: семеро, собравшись вместе в Особый день, узнали мое имя. И обалдели. Тридцать пять, почти тридцать шесть лет. Типичный случай запоздавшего, позднеобращенного, да еще членкор АН СССР, химик-медик-фармацевт шизанутый. По-моему, они элементарно опасались меня. Явились не полным составом, только две девушки и парень, причем все трое евреи. Я начал хохотать: за кого же они меня считали? А может, просто время было такое? Действительно, нередко оказывалось: евреи только друг другу и могли довериться.
Мне вполне хватило тех троих, чтобы понять все. Они стали для меня достаточными окошечками в космос. И собственное Знание вошло в мозг быстро и легко.
А потом началось самое интересное.
С некоторым удивлением я выяснил для себя, что позднеобращенные не задерживаются, как правило, в этом мире, то есть на Первом уровне бытия. «Как правило — хорошее горбачевское словечко, — отметил я про себя и подумал злорадно: — Шиш вам, ребята». Я собирался жить долго, очень долго и именно здесь, на Земле.
Мы просидели с ними за разговором целую ночь. Они курили, и сначала я просил выходить на лестницу, потом — выдыхать дым в окошко, потом перестал обращать внимание и наконец не заметил, как закурил сам, — это при моей-то астме! В общем, под утро никакой астмы уже не было.
Так начинались чудеса.
Но я-то уже понял, что никаких чудес тут нет. В философском смысле чудес вообще на свете не бывает. Все объяснимо. А я просто слишком давно готовился к приему новой информации, я сам был открыт — закрытой оставалась дверь туда. Эти трое — я даже не спросил имен — принесли мне ключик. И Знания, принадлежащие Второму уровню бытия, потекли в распахнутый проем свободным потоком. Они исправно заполняли все те пустоты, которые накопились в моем образовании за долгие годы.
Обычный Посвященный получает сугубо компактное Знание, необходимое ему для понимания сути происходящего. И все. Далее — по вкусу. Хочешь — учись у Владыки, хочешь — сам разбирайся, хочешь — вообще ничего не делай.
Владыка получает разом весь объем знаний, предписанных Демиургом.
Избранный Владыка вообще становится Избранным лишь на следующем уровне бытия. Там он получает доступ к Тайному Знанию, к запретной части Канонических Текстов, и, постигнув высшие истины, решает сам, двигаться ли ему дальше.
Я оказался ни тем, ни другим и ни третьим. Как потом объяснил мне Шагор, я — Избранный не-Владыка. Первый и последний в истории. Я решительно не собирался никого ни во что посвящать, ни с маленькой буквы, ни с большой. Я строго по Третьей заповеди («Умножай знание в себе, а не в других») вознамерился учить только себя. Вот тогда-то и обнаружились мои уникальные возможности. Я мог «качать» со Второго, а как позднее оказалось — и с более высоких уровней любую информацию о Вселенной, и не Демиург, а я сам выбирал, что именно запросить для осмысления или практического использования.
Первые, самые необходимые порции знаний я перекачал подсознательно. Уже в ночь Посвящения я научил свой собственный организм руководить протекающими в нем процессами. Я победил не только астму, но и все прочие свои болячки. Отсюда и родилась идея лекарственных препаратов принципиально иного типа. Но только теперь я уже не торопился. Торопиться было нельзя надлежало все хорошенько продумать.
В стране-то назревала революция. Мир снова балансировал на краю гибели — на краю срыва в эпоху непредсказуемых бурь и грандиозных перемен. Этот процесс не хотелось спугнуть, в него надо было органично влиться. А тут еще и между Посвященными началось черт знает что, ну прямо дурдом во время грозы: один плачет, другой поет, третий на стенку лезет. Владыка Урус сбежал в Америку. Не ожидал от него. И другие не ожидали. Было тревожно: не от страха же, в самом деле, он убегал. Такие люди не ведают страха. И Комитет почуял неладное, они лихорадочно спешили использовать последний шанс, выпадавший им, и по-крупному наезжали на Белую Конфессию, Черная же Конфессия, о которой в КГБ, кажется, и не догадывались, пыталась этот процесс контролировать.
Наконец, доходили слухи о появлении абсолютно неординарных экземпляров Посвященных. Честно скажу, значимость всего, что происходило с Давидом и Анной, я в ту пору недооценил. Да и кто бы мог оценить?
Пятое управление, их хваленый спецотдел и лично товарищ Наст прохлопали мою «посвященность». Очевидно, потому, что я у них в конторе совершенно по другому ведомству проходил — конкретно во Втором главке вели разработку Шумахера как агента ЦРУ. И, признаюсь, вели грамотно. Если б не путч, если б не Давид, если б не Глотков со всем своим ГРУ и шарками в придачу, дело могло бы закончиться трагически. Для меня. Но при этом вся земная цивилизация повернула бы в другую сторону. Я не преувеличиваю.
Понимаете, рецептура всех моих препаратов, включая хэдейкин, была готова уже к девяносто третьему году, но я еще четыре, даже почти пять лет посвятил оценке возможных последствий того, что задумал. Нет, я не спрашивал об этом Шагора, хотя уже знал, что могу пообщаться с ним на Земле. Я чувствовал: это было бы нарушением правил игры, установленных кем-то. Может быть, им, Демиургом, может быть, мною самим, а может, и кем-то третьим.
И уж тем более казалось недопустимым советоваться с людьми. Это было не на уровне логики — скорее интуиция подсказывала: я не должен раньше времени преступать Третью заповедь. Я хотел нарушить ее лишь однажды.
Прежде чем окончательно поставить точку в технологии синтеза хэдейкина, я прокрутил в голове и в компьютере десятки различных вариантов воздействия и распространения нового препарата. Вспомнилась давняя, чуть ли не в школьные годы посетившая меня завиральная идея: хеморегулирование этнических признаков на стадии внутриутробного развития. То есть, говоря по-простому, дать возможность родителям выбирать национальность своего ребенка по вкусу. Идея, прямо скажем, годилась разве что для фантастического романа. Ведь этнические признаки — это все-таки не пол (хромосомой больше — хромосомой меньше), тут факторов, как минимум, на порядок больше, и кто б еще знал, как это делать. Сегодня я, лично я знаю, да только не нужно это никому.
И кстати, компьютер на непристойный вопрос, каких же национальностей после этакой революции станет на Земле больше, а каких меньше, подумал подумал да и ответил: никаких. В процентном отношении все останется как было, об ассимиляции и говорить не придется, а вот этническая рознь обострится, что неизбежно приведет к страшным побоищам, голоду, мору и семи казням египетским.
Просчитал я и второй завиральный вариант — полное этническое выравнивание всех вновь рождающихся, создание расы космополитов, граждан Вселенной. Неизбежный, как минимум, тридцатилетний конфликт между поколениями привел бы к еще более катастрофическим последствиям.
И вот в конечном итоге я остановился на веществе, всего лишь подавляющем этническую нетерпимость. А в качестве ширмы главного воздействия выбрал обезболивающий эффект. Наверно, повлиял мой российский менталитет. Всякий, кто в студенческие годы баловался портвешком, хорошо помнит, как мерзко по утрам раскалывается голова. Любые самые современные и дорогостоящие средства не спасали от этой боли или это уже были химикаты пострашнее всякого алкоголя. То есть стандартный вариант: от бутылки — на иглу. А так хотелось утречком глотнуть чего-нибудь абсолютно безвредного и чтобы все — как рукой. Вот я и осуществил попутно юношескую мечту. Одним выстрелом — двух зайцев.
А поскольку сама идея использования внутренней энергии организма была хороша, я и придумал до кучи еще несколько лекарств. Наиболее популярными оказались биорезервин, резко снижавший утомляемость, и гипердефектоза, заметно продлевающая молодость. Но они уже не имели никакого отношения к национальным и социальным проблемам. Я открыл принцип, я открыл новый класс медикаментов, и другие после меня напридумывали достаточно в том же роде. Лекарства вошли в обиход, сделались привычными. Так что памятник себе и статьи во всех энциклопедиях мира я, думается, честно заработал.
А последствия… Ну что ж, последствия оказались не совсем такими, как я ожидал. Больше всего поразила скорость изменений в геополитике. Никаким расчетным данным она не соответствовала, причем на порядок.
Почему никто, кроме Клюева, не догадался о моем замысле? Если внимательно читать ту скандально знаменитую статью, Клюев тоже не догадался, просто сделал правильные выводы из неправильных предпосылок. Правильных никто не сформулировал. Я не дал ни малейшего повода для этого. Я слишком хорошо понимал, как среагируют люди.
А мог ли я позволить, чтобы человечество, как в романе Лема, разом осознало, что с ним сделали, чем его накормили. Да это же опять Содом и Гоморра.
Вместе с национальной нетерпимостью должна была исчезнуть и национальная гордость, а вот с этим дражайшим чувством мало кто пожелал бы расстаться. Уж вы мне поверьте. Выбирая между головной болью и утратой национальной гордости, большинство идиотов, населяющих этот мир (по себе помню, сам таким был!), выбрало бы головную боль, пусть хоть ежедневную. И я молчал. Вот это, если хотите, и можно называть Заговором Посвященных.
На самом деле не было никакого заговора.
Ну посудите сами. Макроинтеграция: Америка уходит обратно под юрисдикцию Англии, Китай и мусульманский мир сливаются с Россией, африканские страны спокойно разбегаются на две империи — что это? Как это?! А полная ликвидация всех видов оружия массового поражения, единая компьютерная сеть, два мировых языка, две великие культуры, объединившие вокруг себя все прочие, две супердержавы нового типа — не тюрьмы, а университеты народов!.. И тут же — неожиданно острое противостояние двух половинок Ойкумены.
Я ожидал более беспорядочного, даже более кровавого, но в итоге и более утопично-прекрасного варианта.
Ну, как, как оно все могло произойти за каких-то шесть — восемь лет? Только из-за того, что евреи полюбили арабов, белые — негров? Не верю. Режьте меня — не верю!
Можно и с другой стороны взглянуть. Макроинтеграция шестого года ничем не чудеснее всего предыдущего. Ну как объяснить, что какой-то лысый придурок сто лет назад заразил полмира бредовыми идеями, да так заразил, что люди еще лет семьдесят, даже больше, во всю эту ахинею верили и десятками миллионов друг друга уничтожали во имя светлого будущего? А в девяносто первом? Да ни один хваленый американец, вместе со всеми компьютерными мозгами, не сумел предсказать, что советская империя в течение полугода развалится как карточный домик… С хэдейкином и то понятнее: люди перестали болеть головой и резко поумнели. Разве это не логично?
Наверно, я что-то доброе все-таки сделал для людей. Наверно, это хорошо, что меньше стало терактов, государственных границ, глупого гонора, малоинтересных в культурном отношении языков, затрудняющих понимание, существенно меньше сделалось притеснений, унижений, издевательств, а геноцида не стало вовсе. Наверно, все это хорошо. Но я ведь потом занялся политикой, я же в парламентах сидел и выдвигал законопроекты, их даже принимали, и не раз, предложенные мною законы… Боже мой, которого нет, они же после «нобелевки» по химии дали мне еще одну — премию мира, и там, в Стокгольме, я пытался им что-то сказать, объяснить что-то, но они же ни черта, ни черта не поняли!..
И я не понимаю, почему теперь русские ненавидят британцев, то есть русские монголы ненавидят британских французов, а британские японцы ненавидят русских поляков, я не понимаю, чего они вообще хотят, почему опять воюют. Их ненависть, их нетерпимость просто перетекла в иные формы, но она сохранилась, она снова зреет, крепнет, и, поскольку я не понимаю, на чем это все основано, я и сегодня представить себе не могу, чем оно может кончиться. Тогда тоже не мог, за что меня, наверно, и пристрелил этот псих, ни разу в жизни не глотнувший хэдейкина…
Зачем я вернулся? Я ведь не понимаю и не люблю людей. Может, и вправду им нужно было отрезать что-нибудь более существенное от их уродливого генотипа? Или совсем не стоило их трогать?..
ПЕРВОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К ЭПИЛОГУ
Они снова собрались втроем, в том же составе: Алексей Михайлович за столом, дядя Воша в кресле и Грейв на стуле возле стенки — спина прямая, как у солдата в строю, уголки рта скорбно опущены, а в глазах жуткая пустота полной готовности ко всему.
— Товарищи, — начал он, — сегодня мы с вами вместе закончили читать сие произведение искусства. Признаюсь, не ожидал, что придется узнать о событиях 2017 года. Бог с ним, с этим не наступившим годом. Роман Разгонова куда любопытнее в той части, где автор повествует о событиях, якобы уже свершившихся, в период с 1991-го и по 2000-й год. Прошу высказываться.
— Игнат, — начал Форманов, — ты меня извини, конечно, за легкомысленный тон, но если это сценарий нашей с вами жизни, то пусть Разгонов вместе со всей своею службой ИКС засунет его в задницу. Листочков в рукописи много, на всех хватит.
— Присоединяюсь, — кивнул Кулаков. — Существование этих бессмертных идиотов, возвращающихся с того света, я еще худо-бедно готов допустить, тем более раз ты, Игнат, со своей командой занимался ими всерьез, но роман о будущем — это же стопроцентная фантастика. А то, что девяностые годы описаны в нем с ошибкой, говорит лишь об одном: Разгонов не сегодня начал писать свою книгу, во всяком случае придумал ее еще тогда, лет десять назад, и теперь просто не хотел ломать замысла с поправкой на реально изменившийся мир.
— О! — вскинул руку Грейв. — Ловлю на слове. Реально изменившийся мир — это ты очень точно сказал. А знаете, когда мир реально изменился? В девяносто первом году.
После такого откровения впору было разразиться бурными и продолжительными. Да, отношение к тогдашнему путчу и его подавлению у разных людей было разным, но вряд ли хоть кто-нибудь стал бы спорить, что именно московский август перекроил в тот год всю мировую историю и геополитику.
Форманов что-то такое пробурчал неопределенно.
— Эх, товарищи, опять вы ничего не понимаете! — вздохнул Грейв. — Я-то говорю не об августе, а об июне девяносто первого, когда доблестные сотрудники Вергилия Наста расстреляли в подъезде на Садовом кольце Давида Маревича и Анну Неверову. Это было далеко не первое экспериментальное убийство Посвященных. Но на этот раз эксперимент оказался недостаточно тщательно просчитан. В одном месте в Особый день оказались два самых уникальных на планете человека, да еще и связанных между собой исключительно мощным взаимным влечением. Простодушные головорезы надеялись одного из них уничтожить, а другого захватить живым и тем самым взять под контроль лавинообразный процесс распространения Посвященных в мире. Как можно было не учесть самоубийства Маревича — ума не приложу! КГБ проиграл вчистую последнюю схватку Посвященным.
Стал ли именно в тот момент каждый четвертый на планете Посвященным, мы так и не знаем. Все исследования на эту тему полностью уничтожены. Глотков и его команда славно поработали тем летом и осенью. Я сам чудом уберегся от равнодушной мясорубки перемалывавшей бумаги, пленки, людей и диски — без разбору. Спасло, наверное, то, что я не был штатным сотрудником отдела и ни за один документ, проходивший по их ведомству, не расписывался.
А уже в девяносто третьем, когда опасность миновала, я рискнул, восстановив по памяти некоторые известные методики, оценить количество Посвященных хотя бы в Центральном округе Москвы. Результат получился неожиданный. Количество Посвященных снизилось на два порядка, то есть почти в сотню раз, а их активность и вовсе была теперь близка к нулю. Предсказания, сделанные Владыками, не просто не оправдались, они вообще не выдерживали никакой критики. Долгое время я не мог понять, в чем тут дело. И даже на известном этапе выкинул все из головы. А вот сегодня благодаря Разгонову возникает полная ясность. Неужели не догадываетесь?
По лицу Форманова видно было, что он и не пытается догадаться, элементарно ждет ответа от Грейва. С Кулаковым дело обстояло еще хуже: он вообще не вникал, он только прикидывал, не пора вызывать старику скорую психиатрическую помощь. И со следующими его словами пришел к однозначному выводу: пора.
— В тот июньский день, — принялся объяснять Грейв медленно и с выражением, словно рассказывал внучке сказочку перед сном, — сразу после выстрела Маревича себе в голову история разветвилась на две параллельные реальности. В одной живем мы с вами. В другой — оказался Давид вместе с Анной, благополучно прожил до 2017 года, описал это все и вернулся назад с тем, чтобы передать информацию Разгонову. Там, в искаженной реальности Давида, Посвященных сделалось очень много, и самый великий среди них Борис Шумахер изменил карту мира известным вам способом. В нашей реальности Борис Шумахер погиб в автокатастрофе в девяносто втором году — этот непреложный факт подтверждается данными из архивов МВД, КГБ и всех прочих официальных организаций. Ну и так далее.
Кулаков прикрыл глаза и попытался на секундочку поверить всерьез в ту ахинею, которую излагал им спятивший маразматик. Искренне попытался, но… воспитание, образование и многолетняя выучка не позволили. Вместо этого он вспомнил почерпнутые из досье Разгонова сведения о Московском и Всесоюзном семинарах молодых фантастов, существовавших еще в восьмидесятые годы. На одном из них будущий представитель Высшего руководства службы ИКС познакомился с Михаилом Вербицким, на другом — с Алексеем Кречетом. А издательский бизнес, которым Разгонов занялся благодаря участию в этих семинарах, выводил его через общих знакомых на Редькина, Меукова и Стива Чиньо. Вот что казалось намного интереснее параллельных миров, но сейчас было некогда об этом думать.
Очевидно, Форманов совершал подобную же отчаянную попытку проследить ход мыслей обезумевшего Грейва.
— Игнат, — сказал он, — я готов поверить хоть в пятнадцать, хоть в двадцать пять параллельных реальностей. Но какая нам разница, прости Господи, живут они в голове Разгонова или существуют объективно? В чем конструктивность подобной версии? Почему мы должны тратить на это свое время?
— Объясняю, — Грейв еще раз утомленно вздохнул. — Наши соратники в девяносто первом, немного переусердствовав, исказили существующую картину мира. История потекла по двум руслам одновременно. Дальнейшее разбегание параллельных потоков в пространстве и времени приведет к колоссальным энергетическим потерям и неминуемой гибели Вселенной. Посвященные — это наш единственный мостик между двумя реальностями. Но в настоящий момент, бегая туда-сюда, они лишь еще сильнее расшатывают и без того зыбкое равновесие. Теперь внимание: писатель Разгонов сочиняет сценарий непосредственно для Посвященных, и сценарий он пишет категорически неправильный. У нас нет возможности подкорректировать текст, значит, следует заставить Разгонова прекратить его литературную деятельность.
— Браво! — сказал Форманов. — Такой изысканный эвфемизм слова «убить», ей богу, достоин поэзии скальдов.
Кулаков был плохо знаком с поэзией скальдов, но сарказм начальника в отношении неприкрытого киллерства поддержал полностью.
— Товарищи не понимают, — крякнул Грейв с досадой. — Все, хватит объяснений! Вызывайте команду Большакова! Срочно!
— Большаков никогда не работал киллером, — обиделся дядя Воша.
— Послушай, Достоевский, — Грейв чуть не плакал от обиды. — О чем ты думаешь? Не надо мне капать на мозги слезинками девочек! Речь идет не об абстрактном счастье человечества, мы говорим о совершенно конкретной угрозе самой структуре Вселенной….
— Баста! — не выдержал Форманов и стукнул кулаком по столу. — Делайте что хотите. Я уже ни черта не понимаю. Геннадич, вызывай Большакова. Это приказ. Крошка — парень молодой, ему легче будет разобраться, а мы уже старики, наша песенка спета. Наверно, уже отстали от жизни. Я же чувствую: проблема есть. Но нам с вами втроем ее не решить. Вызывай Большакова.
Было что-то чудовищно неправильное в этом приказе Форманова, однако и не подчиниться Кулаков не мог. Он замер в напряженной позе и долго-долго молчал, откровенно затягивая с ответом. И вдруг вспомнил, что ему так мешало, вспомнил, что связывало Большакова и Разгонова.
Полгода назад им удалось расшифровать фрагмент разговора между Лозовой и Горбовским о том, что после Гамбурга появляется шанс завербовать в службу ИКС Большакова со всей командой и оптимальный вариант — сделать это руками Малина. А ведь Малиным тогда как раз и называли Разгонова. Все сошлось, все склеилось, вот оно! Большакова нельзя посылать против Разгонова, это полный абсурд, ведь они непременно и сразу найдут общий язык….
Но ничего такого Кулаков сказать не успел, потому что в кабинете раздался неприлично громкий телефонный звонок. Прямая космическая связь. Форманов снял трубку. Селекторный режим включился сам собою. И малознакомый присутствующим голос резко потребовал:
— Позовите господина Джаннини!
Никто, ни одна живая душа не могла знать, что Игнат Никулин находится сейчас в этом кабинете, да еще так нагло величать его старой итальянской фамилией.
Это было настолько невероятно, что Форманов враз подчинился и передал трубку своему то ли подчиненному, то ли начальнику, то ли просто безумному собрату по разуму:
— Это тебя, Игнат, — глупо прокомментировал генерал-полковник, ведь фразу незнакомца слышали все трое.
— Да, — сказал Грейв.
— С вами говорит Владыка Чиньо. Я слышал весь предыдущий разговор. Господин Джаннини, я искренне восхищен вашей прозорливостью. Вы все абсолютно правильно поняли. Кроме одного. Вы пришли к неверному выводу. Поверьте, сегодня мы все делаем общее дело. Если действительно хотите вернуть мир к естественному равновесию, не трогайте Разгонова. Ради Бога, которого нет, умоляю: оставьте его в покое. У меня все.
И неожиданно добавил:
— До встречи в точке сингулярности. Шучу. Мы, Владыки, знаете, любим иногда пошутить.
— Вот так, — проговорил Форманов, и в наступившей за этим тишине слышались только отвратительно громкие коротенькие гудки из селектора.
Начальник ЧГУ инстинктивно потянулся за сигаретой. Потом отдернул руку и покосился на Грейва.
— Да ладно вам, курите, — махнул рукой Никулин. — Мне уже все по барабану.
— У тебя же астма, — заботливо сказал дядя Воша.
— Да какая теперь, к черту, астма! Впору самому закурить….
И они закурили все трое, а короткие гудки делались все тише, тише и, наконец, смолкли, хотя никто из них даже не притрагивался к телефону.
ВТОРОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К ЭПИЛОГУ
Двадцать первого декабря я засел за работу над романом, внимательно перечитывая текст и делая на листе, лежащем рядом с клавиатурой, пометки для будущего эпилога. А двадцать второго заболел наш кот Степан. Собственно, кот был уже старый. Весной ему стукнуло бы двенадцать, и определенными хворями маялся он давно как всякое городское животное, отравленное скверной экологией и сомнительно сбалансированным сухим кормом. Например, периодически у Степана начинал слезиться и опухать правый глаз. Помогала от этого только дексона — дефицитный препарат, который приходилось искать по всем аптекам. А закупать его про запас не было возможности быстро заканчивался срок годности.
На этот раз капли не помогли, хотя Степа на удивление покорно подставлял под пипетку свой страшенный заплывший глаз с красным набухшим веком. Еще через день у него разнесло всю мордочку и начала вылезать шерсть, а двадцать четвертого утром образовалась жуткая кроваво-гнойная язва. Очевидно, оно зудело, и зверек лапой расчесал ранку, но все равно такое стремительное течение процесса по-настоящему напугало нас. Мы с Белкой подхватились и рванули к знакомому врачу в ветеринарную академию.
Был очень морозный день, Степана пришлось укутать в одеяло и ходить с ним как с маленьким ребенком. Молодой профессор Елена Петровна с милой и на удивление подходящей фамилией Лапочкина, пока рассматривала язву, пыталась, мобилизуя весь свой опыт, не подать виду, но я все равно отметил, как помрачнело ее лицо и большие красивые глаза потухли.
— Сходите на рентген, — резюмировала она наконец.
И мы поперлись через всю огромную территорию академии к дальнему корпусу под тоскливое завывание вьюги, пряча от колючей снежной крупы нашего запеленатого младенца.
Рентгенолога пришлось подождать. У него на столе под могучей установкой, напоминавшей телевизионную камеру, целая бригада хирургов и хозяин в придачу сражались, пыхтя и матерясь, с американским бульдогом, попавшим под машину. Несчастному псу с раздробленными костями было нестерпимо больно, он дергался, рычал, пытался укусить и скулил, абсолютно не желая принимать те позы, к которым его принуждали. В общем, обстановка была гнетущей. Степан напротив проявил полное безразличие ко всему, и снимок его головы сделали быстро.
Усатый крепкий рентгенолог с закатанными до локтя рукавами зеленого халата, из-под которого торчали волосатые ручищи, выложил нам с прямотою военно-полевого хирурга:
— Сколько лет зверю? Одиннадцать? Усыпляйте. У него остеосаркома. Это и у молодых-то практически не лечится. Вот, видите? Разрыхление костных тканей черепа.
Белка закрыла лицо руками и едва не разрыдалась в голос. Да я и сам чуть не плакал. С котом Степаном мы прожили целую жизнь. А для нашего Рюшика эта фраза звучала буквально, ведь он был лишь на год старше любимого кота. И ужаснее всего было думать о том, как приедем домой и сообщим трагический вердикт сыну.
Елена Петровна долго вертела в руках снимок, шевелила губами, прятала глаза, бормотала что-то себе под нос и все не спешила с выводами. Наконец я не выдержал и спросил:
— Это остеосаркома?
— Откуда вы знаете? — вздрогнула доктор Лапочкина.
— Рентгенолог сказал.
— Он прав. Тут не может быть двух мнений.
— И что же теперь? — с усилием выдавил я.
Заплаканная Белка даже и говорить не могла.
— Я выпишу вам самый сильный антибиотик и антиаллергент к нему. Попробуйте поколоть. Он либо поможет в течение недели, либо…. она замялась, — либо не поможет.
Белка почему-то сразу уверовала в чудесное исцеление. Даже плакать перестала. По дороге мы заехали в аптеку, а дома, едва раздевшись и помыв руки, принялись за уколы. Андрюшке, конечно, ничего плохого говорить не стали. Но я-то уже понял: все это мышиная возня.
Какие тут могут быть уколы, какие антибиотики?! Если в течение двух дней ни с того ни с сего у животного разрыхляются кости черепа. Я понял — и это было как озарение — в тот самый час, когда я внутренне отказался принимать на себя финальный удар мироздания, эту благородную миссию взял на себя мой кот Степан. Скажете, бред? Ничего подобного! Это — истинная правда. И мне стало так стыдно, что я конечно же немедленно выпил. Белка не комментировала. Ей было не до меня.
А вечером в канун Европейского рождества на Бульваре, разумеется, полагалось. И водочки мы там по морозцу накатили неслабо. То есть так неслабо, что я элементарно не помню, как уходил домой.
Я вообще ничего дальше не помню.
Хотя Белка потом рассказывала, что я исправно просыпался по утрам, завтракал (с коньяком или бренди), садился к компьютеру, работал (с ромом или текилой), обедал (с виски или граппой), ужинал (с джином или аквавитом) и ходил на Бульвар (с водкой, исключительно с водкой). И до наступления Нового года я таки сотворил эпилог и отправил его Стиву, а Белка из любопытства распечатала этот текст и с удивлением обнаружила, что написано все весьма складно и даже без грамматических ошибок.
ЭПИЛОГ
Я долго шел по неровной грунтовой дороге. Было совсем темно, и ступать приходилось осторожно, намаявшиеся ноги подчинялись плохо. А когда остановился, сразу увидел: мрак давно перестал быть абсолютным, наверно, я просто все это время шел с закрытыми глазами, элементарно устав от отсутствия света. Впереди маячил узкий клин неба, густой, зеленовато-серый, а по бокам темной стеной возвышался лес. За деревьями смутно угадывались безобидные крупные звери, вроде благородных оленей, они вздыхали и вздрагивали во сне. В придорожном кустарнике надрывно и тоскливо прокричала выпь. Легкий порыв ветра принес запах цветущей сирени. А в отдалении, чуть справа, дрожала маленькая желтая точка. Светлячок? Да нет, скорее окно или факел. И я пошел на этот огонек, забыв про усталость, все быстрее, быстрее, иногда спотыкаясь и дважды чуть не упав.
Под высоким тусклым фонарем на пороге жалкой лачуги сидел человек в черном плаще с капюшоном и строгал палочку.
— Здравствуй, Додик, — сказал он. — Видишь, с помощью, например, вот такой острой деревяшки очень легко убить человека.
— Вижу. Здравствуйте, Петр Михалыч.
Композитор Достоевский никогда не называл меня Давидом. Либо Додиком, либо Давидом Юрьевичем — в зависимости от настроения, а настроение людей Глотков всегда чувствовал исключительно тонко.
— Вот, — сообщил Глотков, — не получилось.
И вяло махнул рукой за спину.
Только тут я заметил, что на крыльце лежит еще один человек. Большая, черная, неподвижная груда. Нехорошо лежит. Мертво.
— Не получилось, — повторил Глотков. — Убивать отлично умею, а вот спасти человека не удалось. А он меня спас. В девяносто третьем, в Абхазии. А в девяносто пятом в Боснии я был уже без него. И погиб.
Он помолчал.
— Это все песни, Додик, что мы, Посвященные, можем обратно в земную жизнь вернуться. На Землю — да, а в земную жизнь — никак не получается. Понимаешь разницу, Додик?
— Понимаю, — кивнул я, — вы только за всех не говорите, Петр Михалыч. Ладно? Люди все очень разные.
— А, бросьте, Додик! В чем-то главном люди одинаковы. Просто одни умеют и убивать, и спасать, а другие — только убивать.
— А таких, которые умеют только спасать, а убивать не умеют вовсе, таких вы не встречали? — вкрадчиво поинтересовался я.
— Таких не бывает, — грустно вздохнул Глотков. — Или это уже не люди.
— А-а, — протянул я неопределенно, мне совсем не хотелось ввязываться в спор.
Помолчав, я присел на ступеньку рядом и спросил:
— А кто это?
— Мой старый друг. Ланселот.
— Вот как! — только и сказал я.
Еще помолчали. Созрел новый вопрос:
— Почему его так странно звали? Он увлекался артуровским циклом?
— Нет, увлекался он совсем другими вещами. Просто сокращение красивое получилось: Леонид Сергеевич Лотошин — Леон. Се. Лот. Он не был Посвященным, — добавил зачем-то Глотков.
— Знаю, — отозвался я.
А Глотков не услышал, он разговаривал сам с собой:
— Я тащил его сюда, нарушив все, что можно было нарушить. Сначала я его вылечил с помощью нашей магии, потом уговорил уходить. На Земле ему так и так была бы крышка — он же для всей планеты преступник. Нет, я не убил его, просто крепко обнял и стал сам уходить… Или я все-таки убил его?
— О, высшая мудрость! — не выдержал я и невольно перешел на «ты». — Ты это серьезно говоришь, Ноэль?
— Батюшки! — Глотков всплеснул руками. — Куда уж серьезней! Вот же он лежит. Я ведь думал, как прорвемся через все эти чертовы уровни, так он и станет тоже Посвященным. Думал, понимаешь, спасу, а получилось… Значит, это все-таки я его и убил.
Композитор Достоевский суетливо наклонился к лежащему ничком телу, прижал ухо к спине и констатировал:
— Не дышит.
Потом поднялся, откидывая капюшон, и в свете фонаря, вдруг загоревшегося ярче, я увидал его совсем седую голову, сморщенное старческое лицо, выцветшие белесые глаза и невольно пробормотал:
— Это сколько ж лет прошло?
— Много, Додик.
И Глотков повторил еще раз, как бы закрывая тему:
— А все равно не дышит.
Я нашарил в кармане мятую сигарету, потом долго чиркал зажигалкой, наконец закурил.
— А вот скажите, Петр Михалыч, что стало с ГСМ после моего ухода? Я ведь пока на Земле был, так и не удосужился узнать.
Глотков вдруг улыбнулся, вспоминая что-то свое, достал из-под плаща фляжку, глотнул, даже не предлагая мне (а я бы все равно отказался, будь там хоть простая вода), и начал говорить:
— В день, когда путч случился, дорогой наш Гастон собрал народ в «гээсэме» и, надо отдать ему должное, без лишней патетики объявил: «Ребята, я всех отпускаю. В эти дни каждый ведет себя так, как ему подсказывает совесть. Работать, естественно, не запрещается и на баррикады идти вольно любому, но и дома отсиживаться — тоже не зазорно». Ну а потом, когда почти все разошлись, руководство закрылось в кабинете Юры Шварцмана, где стоял главный сейф с наличкой, и быстро, очень быстро была поделена на пятерых сумма примерно в миллион. Называли они это спасением казенных денег на всякий случай. Участвовали Наст, Девэр, Шварцман, Попов и Гроссберг. Машу Биндер почему-то не позвали. А я всю дорогу стоял у дверей — для таких деньжищ обязательно требуется охрана. Но простой парень Вася Горошкин был явно не тот человек, которому полагалось все это видеть. Мне же доверяли абсолютно. Потому что всегда умел молчать. Молчал я и на этот раз — я же им не финансовый инспектор.
Путч, что общеизвестно, закончился на третий день, а вот деньги в кассу фирмы не вернулись уже никогда. Комментарии, как говорится, излишни. Хотя я не уверен, что кого-то нужно осуждать за это. Разве только Наста, который все время говорил о выживании и других благородных целях. Кстати, Додик, ты, может, не поверишь, но мне не хотелось лично устранять его и тем более его семью. Семьей занялись другие. А к нему в итоге все-таки послали меня. Задействовать амстердамскую резидентуру ГРУ показалось слишком накладным. Но когда я увидел Гелю в Гааге, я отказался от ликвидации. Он был не просто не опасен, он уже даже страха не испытывал — таких нельзя убивать, не можно…
А контора наша, сам понимаешь, быстренько перестроилась после исчезновения Гели. Много народу ушло, еще больше пришло, название поменялось. Из стариков остались только Гастон и Юра. Вообще из тех, кого ты знаешь, в новой структуре задержались лишь Фейгин, Жгутикова да вечная парочка Горошкин-д и Грумкин-д, два еврея, как они шутили. Сам я уволился в конце девяносто первого, когда обратно в разведку призвали, и остальное, как говорится, знаю из газет. Девэр развернулся всерьез. Стал настоящим «новым русским» с «мерседесами», зарубежными офисами и личной охраной. Из Америки вернулся его сын со скромным, но никогда не лишним капитальчиком, а примерно году в двухтысячном уже весьма не юный бизнесмен нашел себе молодую жену в Германии, та родила ему еще одного сынишку, так что фирма теперь называется «Гастон и сыновья», и это, в общем-то, уже не фирма, а целая финансовая империя. Девэру нынче под восемьдесят, он здоров, бодр, и дела его идут как нельзя лучше.
Ох, Додик, Додик, я иногда так завидую этим людям. Просто людям. Я безумно устал быть шарком. Наверно, кинувшись сюда, я мечтал поменяться местами с Ланселотом. Но так не бывает. Не получилось.
Глотков допил из фляжки последние капли неясной жидкости, опять прижался ухом к спине Ланселота и
спросил:
— А как ты думаешь, Додик, может он когда-нибудь проснуться? Ты ведь все знаешь.
— Кто все знает, долго не живет, — произнес я какую-то явную нелепость, а потом переспросил рассеянно: — Ты о ком, о Ланселоте? Конечно, может проснуться, раз он уже здесь. Какие глупости ты спрашиваешь, Ноэль! У нас впереди — вечность. Ладно. Я пойду. Сигарету хочешь? Ах ну да, ты же не куришь. Пойду потихонечку.
И я пошел дальше.
Когда лес кончился, сразу стало очень светло, и я увидел стоящего посреди дороги Геннадия Пахомовича Мурашенко. Пахомыч был явно с бодуна, смотрел на меня сонно, задумчиво и очень мрачно. Он вяло пожал мою протянутую руку и хотел что-то спросить. Но я опередил матерого разведчика:
— А где же ваша боксериха Роботесса? Дома, что ли, сидит? Такая погода замечательная.
— При чем здесь Роботесса? — рассердился Пахомыч. — Ты хоть понимаешь, где ты, дедушка Тимофей?
— Ни черта я не понимаю, — честно признался я.
— Тогда что ты здесь делаешь?
— Юльку ищу, — ответил я простодушно. — Вы не знаете, где она?
— Не знаю, — буркнул Пахомыч.
И я разозлился. Я еще того давнего обмана не мог простить ему, и вот опять этот зловещий грушник встает у меня на пути.
— А если не знаете, так спросите лучше у моего тесчима, то бишь у вашего шефа.
Пахомыч переменился в лице, а я — ну что за вожжа мне под хвост попала? — я чуть не заорал на него. — Что же вы стоите? Идите и спрашивайте!
И тогда он скривился, как от боли, и покорно рявкнул в сторону кустов:
— Грейв, выходи! Он нас вычислил.
Тесчим мой выполз из кювета, карикатурно стряхивая с себя остатки естественной маскировки — мох, листья, веточки какие-то. Подошел, тепло, по-родственному обнял.
— Здравствуй, Тимка. Рад, что ты здесь. Иди вон туда, все время прямо. Юля Соловьева как раз там, она тебя ждет…
И я почему-то поверил ему и пошел дальше.
Из-за густого зеленоватого тумана поднималось огромное розовое солнце. Но туман быстро рассеялся, и оказалось, что это вовсе не солнце. На фоне светлого, ярко-салатового глубокого неба сияла, светилась, рдела подсвеченная то ли изнутри, то ли снаружи глыба, закрывавшая четверть неба. Была она совсем не розовая, а откровенно оранжевая, померанцево-огненная и торчала из земли, как яйцо жар-птицы из гнезда, как баскетбольный мяч, застрявший в корзине, или действительно как солнце, которое на закате промахнулось, упало не за горизонт, а прямо на землю и зарылось, оказавшись размером гораздо меньше планеты, вопреки всем россказням астрономов.
Розовые Скалы. Кто придумал такое странное название? Плохой перевод, что ли, получился, пока слова проходили через тысячи языков и лет? Или просто раньше все здесь выглядело по-другому? Да нет, о чем это я! Здесь всегда и все выглядело так, и только так. Или нет? Какая разница! Главное я здесь.
— Ну, здравствуй, небесная канцелярия! Вот я и добрался до тебя. Я, Великий Несогласный. Так и зови меня теперь. Я же все равно имени своего не знаю. Точнее, за последние годы у меня их было слишком много. Итак: будем разговаривать, небесная канцелярия?
Я вдруг почувствовал себя маленьким-маленьким Давидом, не Маревичем, а тем, библейским, — перед вечным, неубиваемым Голиафом, оранжевое тело которого уходило глубоко в землю и только гигантская голова… — да нет, не голова… один только недремлющий глаз — лучистый, теплый, живой — пялился в яркое зеленое небо.
Но Голиаф молчал. Потому что никакой это был не Голиаф. Не с кем тут было драться. Даже разговаривать не с кем. Здесь можно было только слиться с Розовыми Скалами, стать частью их и такой ценой установить свои, новые правила игры. Наверно, я был способен на это. Только уже не знал, хочу ли.
«Космос — это огромный, запутанный лабиринт, но всё движение в нем подчинено строгому закону. Колесо космического порядка вращается само по себе, без создателя. У космического порядка не было начала и не будет конца, он существует вечно в силу самой природы взаимодействия причины и следствия», — так говорили древние.
Изменить правила игры? Подчинить космос иному закону? Но какому? Просто переставить местами причины и следствия? Или крутануть вселенское колесо в обратную сторону? А может, легонечко, совсем чуть-чуть наклонить ось этого колеса — и мир станет другим? А больше ничего и не надо….
Миллионы лет разные демиурги, следуя абсолютно непонятному Закону Случайных Чисел, из необъятной глыбы вселенского мрамора, отсекая все лишнее, ваяли прекрасную фигуру. Хорошо ли, плохо ли, но что-то у них получилось. У них получились мы. Так стоило ли теперь, в наивной попытке осчастливить всех живущих, небрежно похоронить великое творение в первозданном хаосе?
А ты ведь именно это задумал там, на Земле, много лет и жизней назад. Или ты мечтал совсем о другом?
Интересно, это я сам себя спрашиваю или?..
Я подошел вплотную к почти отвесной оранжевой стене и вначале робко потрогал кончиками пальцев ее теплую, пружинящую и чуть шероховатую поверхность. Касание было приятным, и я уже смелее прижал обе ладони к исполинскому телу.
«Наверно, — подумалось вдруг, — это лишь одна Скала, а есть еще другие, и вместе они будут похожи на горный массив, действительно розовый в утреннем тумане».
Я попытался вспомнить, такими ли видел Розовые Скалы в детстве, когда они в первый раз спасли мне жизнь. Но вспомнить не получилось.
Потому что это был не я. Какая нелепость!..
Я все стоял и поглаживал нагретую солнцем упругую поверхность нежно, ласково, как тело любимой женщины. И больше ничего не происходило. Ничего.
А потом мне в спину точно между лопаток вонзился чей-то острый, как кинжал, взгляд. И я не мог не обернуться.
По дороге, недавно совсем пологой, а теперь круто поднимавшейся в гору, прямо ко мне шли трое. Солнце отчаянно лупило в глаза, и я плохо видел их лица, но идущего в центре узнал сразу.
Это был Будда. Не тот, которому поклоняются в храмах исказившие его истинное учение, не тот, которого изображают в книгах по мифологии почему-то немыслимо узкоглазым противным коротышкой с огромным животом и вечно переплетенными ногами. Это был просто человек, рожденный в городе Капилавасту в пятьсот шестьдесят седьмом году до нашей эры матерью — Майей и отцом — Шуддходаной. Это был Сиддхартха Гаутама — наследный принц царства Шакьев, отказавшийся от всего ради Истины.
Разве мог я не узнать этого человека?
Гаутама подошел ближе, и я наконец разглядел его спутников: справа шла Алка Климова, а слева Веня Прохоров.
О, высшая мудрость! Почему же именно они? Неужели и эти бестолочи сумели пройти все восемь ступеней? А ведь кто-то клялся, что Закон Случайных Чисел не распространяется на уровни выше Второго.
— Я вижу недоумение на лице твоем, Бодхисатва, — проговорил Гаутама. Ты хочешь спросить меня о
чем-то?
— Да, Татхагата.
Но я уже застеснялся своих мыслей и спросил о другом, сбиваясь и нервничая:
— Скажи, Просветленный, тот мир, который я покинул на Земле… мне стоит в него возвращаться? Или правильнее будет остаться здесь?
И сказал Гаутама:
— В мире нет ничего такого, к чему стоило бы стремиться, ибо все, что существует, когда это приобретаешь, оказывается недостаточным.
— А могу я не верить тебе, Сиддхартха? Ибо сейчас мне не хочется верить тебе.
И сказал Гаутама:
— Мое учение основано не на вере. Оно означает: приходи и посмотри.
Гаутама всегда говорил чуточку больше того, о чем его спрашивали.
— Я пришел, Шакья Муни. Я посмотрел. Но я хотел взять с собой тех людей, которых любил и люблю. Я хотел, чтобы ты тоже освободил их.
И сказал Гаутама:
— Я не освобождаю людей. Я только учу их тому, как надо освобождаться. И люди признают истинность моей проповеди не потому, что она исходит от меня, а потому, что, разбуженный моим словом, в их умах загорается собственный свет.
— Так скажи, Достигший Своей Цели, почему же любимые мною люди остаются на Земле навсегда?
И сказал Гаутама:
— Не существует во Вселенной ни одного живого существа, которое не обладало бы моей мудростью, мудростью Татхагаты. И только по причине суетных мыслей и привязанностей большинство существ не сознают этого.
И теперь по обе стороны от Будды стояли Марина Ройфман и Валька Бурцев.
Валька подмигнул мне, как только он один умел подмигивать, а Мара скорчила умильную рожицу.
— То есть бессмертны абсолютно все люди, не только Посвященные? спросил я, надеясь, что правильно угадал его намек.
— Конечно, Бодхисатва.
— Почему ты зовешь меня Бодхисатвой?
— Потому что ты прошел девять уровней. Но Татхагатой становятся на следующем.
— А разве есть Десятый уровень, Учитель?
И сказал Гаутама:
— Две с половиной тысячи лет я учу вас правильно задавать вопросы. А вы по-прежнему интересуетесь глупостями и не видите истин.
Я снова застыдился и стал глядеть себе под ноги, а когда вновь поднял глаза, спутниками Будды были Юлька Соловьева и Майкл Вербицкий. Юлька томно закатила глаза и очень эротично показала мне язык. «Не обманул, стало быть, тесчим», — мелькнуло в голове. А Майкл, бросив свое обычное «приветик», веско добавил:
— Не встретиться здесь с тобою, Тим, было бы методологически неверно. Согласись, Миха.
Я согласился и тут же прикрыл глаза, гадая, кто будет следующим. Я уже понял, что сейчас увижу Вербу и Тополя, Симона Грая и Аню Неверову, Машу Чистякову и старика Базотти, Белку и Рюшика, Кречета и Булкина, а возможно, даже Лайзу Острикову и Валерия Лобачева из «Подземной империи»… Здесь могли ожить все кто угодно: Пушкин, Магомет, Мойдодыр, Мерлин Монро, чудовище Франкенштейна, Микки Маус, — они могли ожить, взяться за руки и вместе пуститься в пляс. Здесь было покруче, чем в точке сингулярности, потому что Будда не просто находился в самом центре всех феноменов — он этими точками жонглировал, и они роились вокруг него как пчелы, и гудели, и медвяный запах цветущего луга пьянил и будоражил память, и совсем не хотелось открывать глаза, и я слушал голос пророка сквозь этот летний звон в оранжевой дымке и тягучем приторном дурмане.
И сказал Гаутама:
— Глупо предполагать, что кто-то другой может сделать тебя счастливым или несчастным.
«Разве глупо?» — усомнился я в справедливости древнего буддийского тезиса. — А, по-моему, мы только для того и живем, чтобы делать друг друга счастливыми. Или несчастными.
Я вспомнил всех женщин, даривших мне счастье обладания, торжество победы и — счастье жертвенности, сладкую боль самоотдачи. А потом всех мужчин, которым мог доверять, на которых рассчитывал, как на себя. И еще других — которым завидовал, на которых равнялся, к которым ревновал. Дьявольский коктейль ощущений. Калейдоскоп лиц. Карусель мирового хаоса. Еще немножко, и укачает до тошноты. Захотелось остановиться.
И я открыл глаза.
Слева от Будды стояла Ланка Рыжикова. Справа стоял Эльф.
— Все, — услышал я голос Паши Гольдштейна, моего друга-челнока по Арабским Эмиратам, — этому больше не наливать.
И был вынужден согласиться.
Окружающий мир быстро растворялся в оранжевом тумане, но я еще успел увидать, как эти последние трое повернулись и стали уходить по дороге вверх, прямо на Розовую Скалу, все выше и выше, туда, где ее верхняя кромка упиралась в густое зеленое небо.
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЭПИЛОГУ
— Мишка, проснись, ну проснись же ты наконец, пьяная скотина!
Белка трясла меня за плечо, а рядом сидел кот Степан, и мордочка его выглядела уже совсем неплохо. Куда только подевалась страшнейшая гнойная язва?
— Проснись, Мишка, Степан будет жить. Лекарство подействовало. Видишь? Теперь он точно жить будет.
Я принял полувертикальное положение и спросил:
— Какое сегодня число?
— Пятое января, — ответила Белка.
— Ура! — выдохнул я. — Конец света не состоялся.