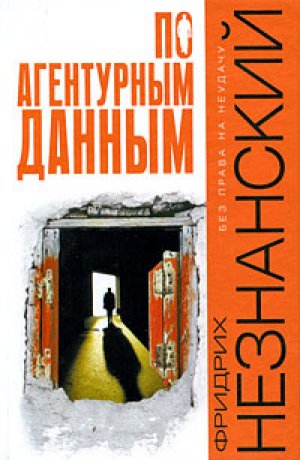
ДЕСЯТОЕ ЯНВАРЯ 2005, Пенсильвания
e-mail: alisa #mailto: [email protected]
Привет, Алиса! Мой юный собрат по перу! Точнее, сестра. Не важно. Очень рад тому, что ты разыскала меня. Расстояние, все-таки, ужасная вещь! Оно превращается во время. Не знаю, правильно ли это с точки зрения фундаментальной физики, тебе, как дочери известного ученого, лучше знать, но я уверен в одном: жили бы мы все хотя бы в Европе, встречались бы куда чаще. И не потеряли бы друг друга из виду. Макс и Марина, как люди патриархальные, умели писать письма. А мы? Много ли напишешь по «мылу»?
И потом, я помню тебя любознательной шестилетней девчонкой, а ты вон теперь какая красавица (судя по прикрепленной фотографии), даже страшно писать.
Тебе уж целых двадцать четыре, правильно? Я подсчитал. Ничего, крепись, старушка!
Замуж уже поздно, но для работы возраст самый подходящий! Тем более, для дипломированной журналюги, выпускницы МГУ! Вперед, дерзай!
Что до меня, то работаю в журнале «Форбс», изучаю чужое благосостояние, не обзаведясь толком своим собственным. Женой и другой крупной домашней живностью тоже пока не обзавелся. Но я ведь еще очень молод – всего сорок два. Пока позволяю любить себя двум кошкам: дымчатой персиянке Кэти и беспородной Луизе-Марии-Августе, тигровой масти.
Спасибо за новогодние поздравления! Очень мило! Тебя тоже с Новым, 2005 годом! Буду рад весточке от тебя.
Алекс Холинер
P.S. Ты спрашиваешь о Максе. Я похоронил его год назад.
ВТОРОЕ ФЕВРАЛЯ 2005, Москва
e-mail: #mailto: [email protected]
Здравствуйте, Алекс! Долго не отвечала, так как не уверена, что Вам вообще интересно наше общение. Пятнадцать лет – действительно очень большой промежуток времени, я об этом не подумала. Но я так явственно помню лето восемьдесят девятого, когда мы с бабушкой гостили у вас в Пенсильвании, что мне казалось, для Вас это такое же свежее воспоминание.
Мне было шесть лет, это верно, но я помню все до мельчайших подробностей. Помню, как ночевала в Вашей башне, и утром мы будили город. Вы заставляли погаснуть ночные фонари, зажечься темные окна спящих домов, Вы колдовали над городом, и он подчинялся колдовству. Вы, конечно, этого не помните, но для меня это было (и остается!) самым настоящим чудом.
Я помню каждое мгновение. И особенно Макса – он разрешал мне называть его по имени, я так и называю его про себя все эти годы. Помните, на третий день нашего приезда он повез нас в лес, собирать дикий виноград. Он учил меня слушать привычные звуки и находить в них новые оттенки, иные, непривычные звучания. Он учил меня видеть то, что никогда не откроется беглому, равнодушному взгляду. А помните виноградный куст, куда я погрузила руки, и они как будто обагрились кровью?! И то, как я слизывала с ладоней виноградный сок… Разве это забудешь? И я на всю жизнь (надеюсь) сохраню в себе то, что так щедро он подарил мне тогда – умение видеть и любить мир.
Я помню Вашего замечательного пса Лео. Конечно, его уже нет в живых. Но самое печальное, что нет в живых ни моей бабушки Марины, ни Макса.
Вы не пишите о том, как умер Макс, а бабушка умерла от инфаркта. Можно сказать на скаку, так как всю жизнь так и не расставалась с лошадьми. И у меня любовь к ним от нее, это несомненно. Можно сказать, у нее была легкая смерть. И можно сказать также, что умереть в восемьдесят три года – достаточно естественно. Но не для нас, тех, кто ее любил.
Я переживала это так остро, что едва не бросила учебу. Мы были с ней очень близки. И делились всем, что было на душе. Я знаю, что до конца дней главной ее болью было то, что она утратила записки деда, Егора Петровича Хижняка. Что доверила их не тому человеку. Но кто же знает, что близкий друг может оказаться не тем человеком? Это всегда неожиданный удар.
Я была бы счастлива, если бы смогла воскресить память о моем деде, это было бы памятью и о Марине.
Еще раз простите, что явилась Вам тенью из прошлого, которое для Вас, наверное, не так уж много значит. Вы, как я знаю, успешный журналист и, видимо, поглощены своей профессией.
Можете не отвечать мне.
Алиса
P. S. Я стала журналистом благодаря Вам. Я была тогда ужасно влюблена в Вас, несмотря на свой юный возраст. Что ж, спасибо, что помогли выбрать профессию.
ТРЕТЬЕ ФЕВРАЛЯ 2005, Пенсильвания
e-mail: Alisa#mailto: [email protected]
Дорогая Алиса! Ты потрясла меня своим письмом. Прости, ради бога, за развязный и пошлый тон моего предыдущего послания. Откуда мне было знать, с кем я разговариваю?
Коллеги утверждают, – и это отчасти правда, – что российская молодежь зомбирована и ранжирована. Что всех вас можно разложить но полкам, где живут футбольные фанаты с их «фирмами» и «зорьками» или разукрашенные в черно-розовые тона «эмо», рыдающие на концертах своих поп-идолов; скинхеды в заклепанных металлом бо-тинках-«гадах», или их антиподы – панки – отчаянные пацифисты-анархисты. Наиболее мне, кстати сказать, симпатичные. Кто там еще? Скейтеры, поклонники музыки R'n'B, стритэйджи… Я уж не говорю о матерящихся ксюшах, пустоглазых оксанах и вальяжных молодых людях, просвещающих тинейджеров и домохозяек относительно сладкой жизни в модных клубах, набитых наркотой и алкоголем. Также не упоминаю молодых гламурных режиссеров вроде Родиона Сташевича, пошедшего по стопам известного нам персонажа, и прочий, пошлый до омерзения российский гламур.
И откуда мне было знать, что сквозь весь этот мусор пробиваются такие чистые родники?
Хотя… Обязан был знать! Ведь знаю я, чья ты внучка, чья ты дочь.
Прости меня, и начнем знакомство заново. Спасибо тебе за память о Максе. Это самый главный, самый, если можно так выразиться по-русски, единственный человек в моей жизни. Он погиб нелепо, под колесами автомобиля, которым управлял пьяный водитель.
Это было в Филадельфии год назад. И хотя он тоже был уже далеко не молод – семьдесят девять, но – бодр, физически активен и продолжал преподавать и писать музыку. Так что и о нем можно сказать, что он погиб на полном скаку.
В одночасье я потерял отца, деда, друга, Учителя. Последние пятнадцать лет мы уже не жили вместе. После окончания университета я переехал в Нью-йорк. Помните, в одном из хороших советских фильмов есть такая фраза: «Нельзя всю жизнь прожить у озера». Вот и мне пришлось покинуть наш дом на берегу озера, который так тебе запомнился. Так вот, несмотря на то, что жили мы порознь, не было дня, чтобы мы не созванивались, не писали друг другу хоть пары строк. А уж отпуска всегда проводили вместе.
В общем, спустя полгода тяжелейшей депрессии, я понял, что должен написать книгу.
Вернее, закончить то, что было начато Максом. Вернее, он хотел писать мемуары. А я решил написать роман, книгу о них, о воинском их братстве, о прошлом и будущем каждого из них. Не хватало записок твоего деда. Я вышел из положения, как смог. Важно то, что и эта страшная правда тоже была частью их истории, истории их жизни. Во всяком случае, все, что написано – основано на подлинных фактах. Но, повторяю, это все же роман, а не мемуары.
Эта книга помогла мне пережить кончину Макса, и уже за это я говорю ей (и себе, разумеется) спасибо. Я написал ее, что называется, «в стол». Теперь отсылаю тебе. Прочти, мне очень важна твоя оценка. Ты ведь тоже часть этой истории, вернее, ее продолжение.
И вот еще что. Помнишь Люси? Это подруга Макса – совершенно замечательная женщина, с которой он на закате жизни обрел наконец счастье! Так написали бы романисты. А мы, жесткие и циничные журналюги, скажем проще – им было хорошо вместе. Так вот, Люси собирается летом в Петербург, откуда она к нам приехала. И я буду ее сопровождать. От Москвы до Питера несколько ближе, чем от Пенсильвании, и я надеюсь, что ты сможешь выбраться в город на Неве. Очень хочу тебя увидеть.
Твой Алексей
Приложение: файл «За годом год_роман»
ИЮНЬ 1945, Малая Вишера
На станции Малая Вишера, где скопилось несколько воинских эшелонов, царило оживление. Каждый день нового, еще непривычного времени был напоен пьянящим весельем, безудержной радостью победителей. Тихий и ясный вечер второй половины июня освещал багряными лучами людей, сновавших по перронам.
Несмотря на неимоверную усталость, Олег жадно впитывал краски озаренного заходящим солнцем неба, всматривался в происходящее вокруг, стараясь сохранить в памяти каждую деталь, каждое впечатление, каждое лицо. Кого здесь только не было! Бывалые солдаты с орденами, медалями, нашивками за ранения на выгоревших, линялых гимнастерках, пехотные офицеры в полевых, с зелеными звездочками фуражках, летчики в пилотках с голубым кантом, танкисты в замасленных комбинезонах, морячки в форменках и тельняшках.
Люди теснились между составами, таскали ведра, бачки с варевом, обедали, лузгали семечки, мылись, обсуждали что-то, сбиваясь в кучи, пересыпая речь шутками. То и дело слышались взрывы смеха, радостные возгласы и счастливые вскрики женщин, встретивших своих мужей.
– Коля, Коля! – кричала одна их них, пробиваясь сквозь тесную толпу пахнущих потом и махоркой мужчин. – Коленька, родной, я здесь!
Олег знаком попросил товарищей остановиться. Хиж-няк досадливо вздохнул, но все же приостановился, полез за папиросой. Ну а Чижа просить было не нужно. Он сам замер, чуть приоткрыв рот, словно зритель в кино про любовь.
Молодая женщина с русыми волосами, выбивавшимися из-под косынки, кинулась к мужчине в солдатской гимнастерке, украшенной медалью «За отвагу» и орденом «Красная Звезда». Он невольно отвернулся, пряча пустой рукав, заправленный в солдатский ремень. Она разрыдалась, обхватив его за шею.
– Ну тихо, Маруся! Ну, чего ты голосишь-то? Вот он я. С двумя наградами и одной рукой. Примешь однорукого? – Он натянуто улыбался, гладил ее густые волосы. Взгляд серых глаз был напряжен.
– Миленький, родненький, – счастливо бормотала женщина, словно не слыша его слов и не видя его увечья, – я тебя каждый день встречаю! Второй месяц хожу… Пять верст сюда, пять обратно. Да я для тебя. Я тебя. – Она покрывала поцелуями его лицо, и оно размякло, сморщилось. И теперь уже из его глаз полились слезы.
Возле пары остановился молодой, невысокого росточка офицер с характерным для средней полосы России «картошистым» носом, который уютно устроился на круглом, веснушчатом лице.
– Ну что, Ерохин, встретили тебя? Да какая жинка-то у тебя красавица! – весело проговорил он.
– Так точно, встретили, товарищ капитан, – подтвердил Ерохин, отстранил жену и быстро отер лицо рукавом.
– А муж у вас, гражданочка, геройский мужик! – как бы не замечая покрасневших глаз солдата, воскликнул капитан. – Самый что ни на есть геройский! Вы им гордиться должны!
– Да я что ж?! – ахнула женщина. – Гос-с-поди! Да я ж нынче самая счастливая баба! Да мне ж все село завидует. Гос-с-поди, живой вернулся! Да что вы, неужто я не горжусь?!
– Ладно, ладно, это я так. – рассмеялся капитан.
– Марусь, ты бы пригласила… – шепнул жене Ерохин.
– А может, вы к нам загляните, товарищ капитан? – осмелела Маруся. – Меня подвода ждет. Михась на рынок ездил и меня прихватил, – скороговоркой объяснила она мужу и снова принялась уговаривать капитана: – мигом домчимся. Я баню затоплю, стол накрою. Бутылочка припасена.
– Правда, ротный! Пойдем! У вас три часа в запасе до отправки. Столько успеть можно!
Капитан колебался. Ему явно понравилась жена солдата, и выпить он был не прочь, что уж говорить о настоящей деревенской бане. С другой стороны, хоть и объявили, что состав отойдет через три часа, но в любой момент ситуация могла измениться. И он отстал бы от эшелона, что уж совсем из рук вон, несмотря на наступившее мирное время и победную эйфорию. Но жена у Еро-хина хороша, если у нее и подруги такие же. Он колебался, и борьба чувств отчетливо отражалась на бесхитростном лице.
«Какой эпизод бы получился, – думал, глядя на них, Олег. – Даже целый сюжет! Она, красивая, здоровая, а муж – калека, но гордый, очень самолюбивый. И этот ротный, с такой фактурой, что хоть сейчас прямо в кадр. Как сложится их жизнь? Что будет дальше? Однорукий герой станет председателем колхоза, к примеру. Поднимет село, нарожает детей. Это было бы слишком просто, однозначно, что ли… Или нет, не так. Он сопьется, обиженный на судьбу: на войне он был героем, а что теперь, без руки? Он будет ревновать ее к каждому столбу, будет устраивать безобразные сцены, подозревая невесть в чем, не веря в ее любовь, а она будет любить, прощать, прощать, прощать… Фронтового друга приедет навестить бывший ротный, к тому времени уже полковник. И он влюбится в жену друга. Как в такую красавицу не влюбиться? И что мне тогда с ними делать?.» – вздохнул про себя Олег.
Хижняк слегка толкнул его локтем:
– Иваныч, может, хватит грезить? Эйзенштейн ты наш! Смотри, и Чижа мне портишь. Тоже застыл, как зачарованный.
– Нет, у него своя тема, – рассмеялся Олег, и они двинулись к своему составу.
Откуда-то впереди них раздался зычный бас:
– Игнатьев! Ты что ли? Валерка! Иди сюда!
Было слышно, как капитан радостно и торопливо проговорил:
– Нет, спасибо, Ерохин, в другой раз! Вон, друг зовет. Училище вместе кончали. Ну, бывай Ерохин! И вам, гражданочка, всего наилучшего!
И он почти побежал, довольно бесцеремонно растолкав троих мужчин в полувоенной одежде, с вещмешками и какими-то брезентовыми свертками.
– Эй, поосторожнее, пехота! – негромко, но с явной угрозой в голосе осадил его один из троицы, мускулистый, среднего роста, лет тридцати, с правильными, но слишком резкими чертами смуглого лица, на котором выделялись светло-серые глаза.
Лицо это можно было бы назвать красивым, если бы не полное отсутствие каких-либо эмоций. И эта абсолютная бесстрастность вызывала ощущение беспокойства или даже страха. Впрочем, капитан был не из пугливых.
– Что? – взвился он.
– Ладно, капитан, иди своей дорогой. Не нарывайся, понял? – вступил в разговор другой – довольно высокий, с интеллигентным лицом и трехдневной щетиной на впалых щеках.
– Что-о?! Кто такие? Почему не бриты? – взревел капитан. Он был еще очень молод и обидчив. И тайно страдал оттого, что не довелось стать ни летчиком, ни, скажем, моряком. И то, что пехотные войска вынесли на себе основную тяжесть боев и понесли основные потери, и то, что сам он был отличным командиром и дошел со своей ротой до Берлина, не всегда утешало капитана. В данный момент совершенно не утешало.
– Как разговариваете? Документы! – еще больше взвился он, оглядывая невнятную форму, в которую были облачены трое нахалов, и, главное, нечто, замотанное в брезентуху, нечто, в чем наметанный глаз тут же угадал автоматическое оружие. – Я вас в комендатуру.
– Покажи ему, Чиж, – устало скомандовал сухопарый третьему, самому молодому, почти мальчишке с широким разворотом плеч спортивной фигуры, с пшенично белыми волосами, которые топорщились на макушке непослушным хохолком.
Рука белобрысого с ловкостью фокусника извлекла красные «корочки» и через мгновение снова опустилась в карман кожанки. Мгновения, за которое удостоверение промелькнуло перед лицом капитана, оказалось достаточно. Он сжал губы и молча шагнул в сторону. Троица бодро зашагала к перрону, на котором стоял пассажирский поезд Москва – Ленинград.
На перроне раздавались взрывы хохота и звуки гармошки. Там, в многолюдном, очень шумном кругу, разгоряченные, распаленные выкриками зрителей, состязались в азартной пляске двое: майор-танкист с обожженным лицом, орденской планкой на груди и нашивкой за ранение; и старлей в застиранной гимнастерке, на которой сверкали в лучах закатного солнца начищенные мелом медали.
Майор был довольно грузен, да и возрастом лет на десять старше соперника, но двигался легко, уверенно, с особой пластикой, которая встречается у полных людей, бывает всегда неожиданной и оттого очень милой. Он вел свою партию серьезно, с установкой на победу. Старлей, молодой парень с симпатичным веснушчатым лицом, явно радовался тому, что вот он, живой-здоровый, с руками и ногами, пляшет под разухабистые переборы гармошки. Он улыбался сопернику, окружавшим их мужчинам, женщинам, которые редкими яркими пятнами нарядных платьев оживляли темно-серую массу зрителей.
Попав в толпу, троица несколько минут наблюдала за состязанием, негромко комментируя ход поединка. Олег с упоением следил за действом, откладывая в памяти и эту сцену, которой тоже наверняка найдется место в его будущем фильме.
– Танкист его сделает! – убежденно заявил он.
– Это смотря сколько у них времени в запасе, – возразил Чиж, который явно симпатизировал старлею. – Лейтенант стайер, а майор – спринтер.
– Ладно, хватит, у них, может, и много времени, а у нас цейтнот, – решительно сказал Хижняк. – Пошли, а то здесь и останемся. – Он решительно двинулся к составу. И тут же, словно в подтверждение его слов, послышалось протяжное:
– По ва-го-о-на-а-ам!
Заняв отдельное купе, мужчины скинули вещмешки и брезентовые скатки, расположились на полках. Теперь, когда они остались одни в полумраке купе, стало видно, как измучены и измотаны все трое. Серые тени на висках, запавшие в красных прожилках глаза. Хижняк извлек из мешка буханку белого хлеба и банку тушенки.
– Олег, спирт у тебя? – деловито спросил он.
– Ага, – откликнулся тот, вынул флягу и взглянул на Чижа, застывшего у окна купе.
– Чиж, дверь заблокируй! – скомандовал Хижняк. – Эй, Чиж, о чем мечтаешь? Заблокируй дверь и доставай паек!
Светлоголовый Чиж зачарованно смотрел на перрон, где прощались двое: очень красивая темноволосая девушка-сержант и молодцеватый лейтенант в летной форме. Он что-то говорил ей, обнимая за плечи, она, опустив голову, судорожно всхлипывала.
«Вот ведь достались соратники, – с любовной усмешкой думал Хижняк. – Один все фильмы сочиняет, другой просто грезит наяву. Мечтатель, понимаешь.»
– Нет повести печальнее не свете, – чуть насмешливо прокомментировал он вслух и как бы свирепо рявкнул: – Гвардии лейтенант Орлов! Прекратить подсматривать! Не в театре!
Орлов вздрогнул и тут же рассмеялся, демонстрируя ряд белоснежных зубов. Каким-то неуловимо быстрым движением он заблокировал дверь купе так, что ни проводник вагона, никто иной не смог бы нарушить покой троицы, затем полез в вещмешок, достал завернутое в целлофан трофейное сало.
– Вот, Егор Петрович, все что осталось, – он протянул сверток…
– Отличная закусь, – одобрил тот, кромсая размякшее, розовое, в мясных прожилках сало. Умеет немчура сало делать!
Олег тем временем разлил спирт по стопкам и мечтательно проговорил: – Все, мужики, сейчас по пятьдесят и спать до Москвы!
Через полчаса в купе воцарилась тишина. Олег Сташе-вич прислушивался к тихому дыханию товарищей и думал о Чиже. Юноша спал на соседней полке с таким безмятежно-ласковым выражением лица, что у Олега защемило сердце. Он думал о чистой, светлой душе этого почти мальчишки, которому так много уже досталось в жизни. О его готовности любить всех людей, которую он не утратил, несмотря ни на что. О его готовности влюбиться в одну-единственную женщину, которая ощущалась в каждом взгляде на всех женщин, в каждом движении в их присутствии. Впрочем, что ж – двадцать – самая пора. Лишь бы девушка была стоящая. Потому что такой, как Чиж, если полюбит, то навсегда, это точно. Если бы война кончилась, и самое бы время, мысленно повторил он. Но то-то и оно, что для них троих война еще не закончилась.
Они проснулись оттого, что в дверь купе барабанили. Хижняк вскинулся первым, глянул в окно. Поезд стоял. В тусклом свете единственного фонаря на полуразрушенном здании вокзала высвечивалась надпись «Бологое». В дверь продолжали колотить.
– Кто? – хрипло спросил Хижняк. Он уже поднялся и стоял возле двери. Рука в кармане брюк сжимала ствол револьвера.
– Майор НКВД Герасимов! – раздалось из коридора. – Капитан Хижняк, старший лейтенант Сташевич, лейтенант Орлов, открывайте!
Они тряслись в кузове полуторки, вглядываясь в серые сумерки – самое темное время белой ночи. Дно было завалено ворохом какого-то тряпья, что позволяло расположиться с относительными удобствами.
– Ну давай, майор, обрисовывай картину. Пока крупными мазками. Телеграфным стилем, так сказать, – пробурчал Хижняк, поеживаясь. Сырой ночной воздух пробирал до костей.
– Немцы-пленные, шесть человек. Бежали из лагеря. Прорвались в порт. Видно, думали судно захватить и уйти в Финляндию.
Герасимов действительно «обрисовывал обстановку» короткими рублеными телеграфными фразами, внутренне заводясь от повелительного тона капитана и оттого, что он, старший по званию, этому тону подчиняется. Впрочем, все они чистильщики[1] таковы – с гонором, высокомерные, общение этак сверху вниз…
Хижняк взглянул на светящийся циферблат своих командирских часов. Половина второго ночи.
– Через полчаса, если ничего не случится, будем на месте, – перехватив его взгляд, чуть угодливо проговорил Герасимов.
– В порт едем? – коротко осведомился Хижняк.
– Так точно. Там на месте полковник Кислицын даст вводную.
– Понятно. Только что под Приморском банду зачистили. И снова-здорово. Без нас воевать что ли некому?
– Выходит что так. Выходит, вы у нас незаменимые, – слащаво улыбнулся Герасимов и с неожиданным злорадством добавил: – Вот и соответствуйте.
Молчавший до сих пор Сташевич вскинул на энкавэ-дешника темные глаза с набрякшими веками, довольно долго разглядывал круглое, без малейшего признака растительности, какое-то бабье лицо. Густая бровь презрительно поднялась, он медленно произнес:
– А мы и соответствуем. Да, лейтенант? – Сташевич перевел мигом потеплевший взгляд на Орлова. Тот спал, прислонившись к борту грузовика.
– Не буди его, Иваныч, – тихо сказал Хижняк, закуривая.
Они замолчали. Едва различимо просвечивал сквозь пальцы Егора огонь папиросы, чуть освещая словно вырезанное из камня лицо с резкими носогубными складками, прямым носом, волевым подбородком. Веки были опущены. Казалось, он спал, если бы не редкие, глубокие затяжки. Загасив и спрятав окурок, Хижняк и впрямь заснул. Двое других – Сташевич и Орлов – тоже, что называется, дрыхли без задних ног. Герасимов разглядывал их с нарастающим раздражением. Его, человека, который панически боялся смерти, просто-таки бесило хладнокровие людей, которым вот-вот предстояло ввязаться в очень опасный бой и, может быть, погибнуть.
Полуторка резко тормознула, троица одновременно встрепенулась, оглядываясь.
– Подъезжаем, – не глядя на них, сообщил Герасимов.
Действительно, грузовик въезжал в ворота порта, миновал длинную череду бараков и остановился возле облупленного одноэтажного здания администрации. Около одноэтажки уже стояло несколько грузовиков, пара «доджей» и санитарный «студебеккер». Вдоль дощатого забора, огораживающего территорию порта, выстроились солдаты оцепления. На земле, возле санитарной машины, на носилках лежал раненый. Доктор, пожилая женщина, склонившись над ним, отдавала команды двум санитарам:
– Повезете в академию, на третью хирургию, я договорилась, – слышался ее хриплый голос. – Нож не вынимать! Везти быстро, но аккуратно. Тихо, сынок, терпи! – Она снова наклонилась над раненым. – Эк они тебя, мерзавцы, уделали! Счастлив твой бог, что жив!
Хижняк, Сташевич и Орлов, проходя мимо, взглянули на носилки. Молодой мужчина с мертвенно-бледным лицом тяжело и хрипло дышал. На губах его пузырилась пена, а из груди торчала обмотанная изолентой рукоятка.
– Попали в легкое. Пневмоторакс. Полсантиметра левее – и он покойник, – прокомментировал Сташевич, когда троица вошла в скудно освещенный вестибюль.
В кабинете начальника порта разместился штаб операции. Вокруг длинного стола, на котором была разложена карта, сгрудились несколько мужчин. Навстречу из-за стола поднялся невысокий седой офицер с шишковатым черепом.
– Полковник Кислицын, – представился он. – По приказу вашего руководства вы временно поступаете в мое распоряжение. Представьтесь, товарищи.
– Старший оперуполномоченный контрразведки Смерш, капитан Хижняк.
– Старший лейтенант Сташевич.
– Лейтенант Орлов.
Кислицын пожал руку каждому из членов группы, глубоко посаженные глаза внимательно смотрели в лицо каждому из смершевцев, особенно задержавшись на юношеском лице лейтенанта. Орлов спокойно выдержал этот взгляд.
– Что ж, давайте к делу, – Кислицын жестом пригласил к карте.
Стоявшие возле стола офицеры расступились, освобождая место.
– Здесь, в районе пакгаузов мы блокировали группу немцев. Это военнопленные, которых этапировали в лагерь. Они совершили дерзкий побег на станции Волховст-рой, где состав стоял на заправке. Это узловая станция, где пересекаются несколько крупных железнодорожных веток, где очень оживленное движение и где полным-полно вооруженной охраны, военнослужащих разного рода, есть служебные собаки. Они сумели уничтожить конвой, завладеть автоматами и ножами, сумели избежать проверки документов и покинуть здание вокзала, несмотря на комендантский патруль. И собаки не смогли взять их след.
– Кайенская смесь? – коротко спросил Хижняк.
– Именно, – кивнул полковник. – Смесь крепкого табака и черного перца, – пояснил он своим подчиненным. – Используется, в частности, чтобы отбить нюх розыскных собак. Продолжаю. Затем на попутке они добрались до города, проникли сюда, в порт, заколов охрану одним ударом ножа. Со спины прямо в сердце. Трое мертвы, один, который успел обернуться, тяжело ранен.
– Парши?[2] – так же коротко спросил Хижняк.
– Именно, – снова кивнул полковник. – Интереса в смысле информации уже не представляют. Плен для них – тягчайший позор. Живыми не дадутся. Ваша задача – уничтожить группу.
– Сколько их?
– Шестеро. Шестеро опытных, прекрасно обученных вояк, которые уже достаточно оправились от ранений.
– Ранения конечностей? – уточнил Хижняк.
– Именно, – еще раз повторил Кислицын, с явной симпатией поглядывая на Хижняка. – При пленении диверсантам стараются нанести ранения по конечностям, то есть обездвижить, – объяснил он окружению.
– Чтобы, значит, убежать не смогли, гады, а показания, чтобы, значит, можно было из них выбить? – радостно встрял в разговор маленький, юркий лейтенантик-артиллерист.
– Именно, – Кислицын удовлетворенно произнес свое любимое слово.
«Что это у него здесь, курс молодого бойца? – Хижняк раздраженно оглядывал офицеров. Трое – из НКВД, двое – артиллеристы. – Те еще помощники», – мысленно вздохнул он и коротко спросил:
– Какие действия предпринимались?
– Была попытка взять их. Они мне роту солдат положили. Ведь ухитрились склад с горючим вычислить, гады! Там и засели. Если что, весь порт полетит к чертям собачьим!
– Сколько времени они в засаде?
– Заняли склад где-то между девятнадцатью тридцатью и двадцатью. То есть, около шести часов, – взглянул на часы Кислицын. – За это время подтянули солдат НКВД, они в оцеплении. Весь порт по периметру взят в кольцо. В город им не выйти.
– Когда была перестрелка?
– В девятнадцать тридцать.
– С тех пор их не трогали?
– Не трогали.
– Что ж, в целом обстановка ясна. Теперь обсудим детали.
Когда троица вышла на улицу, всю территорию порта окутал густой утренний туман. В молочно-белой мгле едва угадывались три мужские фигуры и стволы автоматов.
– Смертники, – глядя им вслед, тихо проговорил один из солдат оцепления.
– Чего это ты? – недовольно спросил другой, значительно старше.
– Так положат их фрицы, к гадалке не ходи. Роту положили, а этих – трое. Да один совсем вроде пацан.
– Ты на медведя ходил когда?
– Не, а че?
– А ниче! Есть такие, кто ходил! – веско отмерил пожилой.
Хижняк, усмехнувшись, прошептал:
– Слыхали, какое о нас мнение у народа? Будем соответствовать. Полагаю, долго сидеть в засаде не придется. Ну, вперед!
Трое мужчин бесшумно продвигались среди портовых построек к зданию оружейного склада.
Тяжелая металлическая дверь старинного, дореволюционной постройки здания едва заметно приоткрылась и через несколько мгновений бесшумно затворилась.
– Туман нам на руку, – произнес Фридрих. – Дальше тянуть нет смысла. И время подходящее. Снаружи никого, а ближе к утру наверняка подтянут подкрепление. – Он отошел от стены, оглядел товарищей и не допускающим возражения тоном произнес: – Будем прорываться к причалам. Кому повезет, тот сможет уйти. Подъем!
Пятеро мужчин поднялись с пола, проверяя оружие. Один автомат, два «вальтера», две финки – вот и весь арсенал. Распределив его, Фридрих подошел к лежавшему раненому.
– Вставай, Ганс, нам пора, – проговорил он, с неудовольствием глядя на набухшую от крови мешковину.
С невероятным усилием Ганс пытался подняться, опираясь на плечо Фридриха, и когда это ему почти удалось, Фридрих сделал резкое движение, в воздухе блеснуло лезвие, и тело Ганса обмякло в его руках.
– Так будет лучше для всех, – коротко сказал Фридрих, вынимая нож из груди убитого.
В ответ никто не произнес ни слова.
Мы заняли позиции в пределах визуального контакта. В условиях столь плотного тумана это было расстояние в несколько шагов. Порт хорош по крайней мере тем, что здесь масса возможностей укрыться. Множество построек, техники, штабеля грузов, куча всякого хлама. Этим же он и плох, так как дает возможность укрыться и противнику. Прошло ровно тринадцать минут с того момента, когда фрицы рискнули высунуть нос из своего убежища, и вот дверь склада открылась, пятеро паршей осторожно вышли наружу и бесшумно двинулись в сторону причалов. Один вооружен автоматом, у двух других, кажется, вальтеры. Но почему их пятеро, а не шестеро? Из здания больше никто не выходил. Ладно, с количеством разберемся потом. Я знаками распределил клиентов, Олег и Чиж кивнули, мы двинулись следом, скрываясь в портовых лабиринтах.
Когда фрицы вышли на небольшое открытое пространство, мы поднялись во весь рост и пошли на них, поливая сплошным огнем. Реакция у гадов, надо сказать, отличная! Завалить удалось двоих. Трое мгновенно, горохом рассыпались за ближайшие укрытия. Что ж, трое на троих – это просто смешно, это детская забава какая-то.
Чиж кинулся туда, где за ящиками тары укрылся один из паршей. Густая автоматная очередь его не остановила. Чиж прекрасно умеет петлять. А стреляли слева. Открыв огонь из своего ствола, я дал возможность Чижу достичь укрытия и ринулся на огневой рубеж противника, говоря шершавым языком плаката. Фриц нырнул в щель между пакгаузами, су-чара. Нырнул и затаился. Ладно, мы тебя достанем…
Откуда-то слева тишину нарушил резкий звук. Как будто щебень под ногами. Но не щебень, врешь. Швырнул что-то, чтобы отвлечь. И я осторожно повернул вправо, за дрезину, стоящую на рельсах. Автоматная очередь подтвердила мою правоту. Отпрянув, я успел увидеть, как немец перескочил к следующему укрытию. Здоровый, гад. Осторожно двигаясь параллельным курсом, скрываясь за дрезиной, я дождался момента, когда парш выскочил на открытое место и полоснул огнем.
Рука с автоматом упала плетью, но он тут же выхватил вальтер, целясь левой рукой. Медлить было нельзя. Бросившись вперед, я круговым ударом ноги выбил пистолет из его руки, затем ножницами[3] повалил на землю. Раненый, он был еще очень силен и отчаянно пытался стряхнуть меня и дотянуться до оружия. Врешь, гад. Я выхватил свой «ТТ». Через мгновение все было кончено.
Оставив труп и посмотрев на часы (отчетность!), я побежал на звук стрельбы.
Стрелял Чиж. Он преследовал немца, которому удалось-таки добраться до причалов. Немец петлял и пригибался, и делал все это не хуже нас самих. Но на причале никто не ждал красавца в яхте под парусами. Парш сделал еще шаг и сиганул в воду. Было видно, как Чиж, на ходу выхватив и зажав в зубах нож, бросился следом. Будем надеяться, что разберется.
Где Олег? Я остановился, прислушиваясь. Над портом опять повисла тишина, которую нарушал лишь пронзительный крик чаек. Но вот в этот крик вплелся другой – так кричит пустельга. И я двинулся на звук.
В тесном пространстве внутреннего дворика, образованного высокими металлическими стеллажами, заставленными какими-то ящиками, Олег бился на ножах. Его противник, миниатюрный подвижный юркий немец прекрасно владел этим видом оружия. Автомат Олега был отброшен, на рукаве – большое красное пятно. Я попытался взять фрица на мушку, но Олег постоянно закрывал его своим телом. Пришлось огибать всю эту хренатень, чтобы выйти противнику в тыл. Но когда я подоспел, Олег уже отирал лезвие финки. Враг, как пишут в газетах, был обезврежен, а лицо нашего интеллектуала выражало такую свирепую ненависть, что я расхохотался.
– Ну и видок у тебя! Жаль, зритель тебя таким не увидит!
– Да иди ты! – огрызнулся он, зажимая окровавленный рукав. – Помоги лучше.
Я осмотрел рану. Вроде, ничего страшного, нож прошел по касательной.
– Это как же он тебя зацепил?
– Сзади налетел. На шею прыгнул, – нехотя буркнул Сташевич. – Вон оттуда, – он указал глазами на верхний ряд ящиков.
– Ясно. А ты не успел среагировать? – ехидничал я, накладывая жгут.
– Не успел бы, лежал бы с перерезанным горлом, – буркнул Олежка. – А где Чиж?
– Бороздит морские просторы. Пойдем, ему, может, тоже помощь нужна.
Мы подошли как раз в тот момент, когда Чиж, сжимая зубами нож, выбирался на причал. Вода ручьями стекала с одежды.
– Порядок, – выдохнул он.
– А где труп?
– Да вон, внизу. Я его у поручней закрепил.
– Как водичка?
– Нормуль. Выше нуля. Градусов на пятнадцать. Я посмотрел на циферблат.
– Время окончания операции – четыре часа пятьдесят шесть минут. По-моему, мы молодцы.
– А то! – стуча зубами, отозвался Чиж.
Мы вернулись в штаб. Кислицын крепко жал руки и любил нас как родных. Оказалось, что шестого немца убили свои же. Вот падаль! Пока я писал рапорт, пока Олегу оказывали медицинскую помощь, а Чижа отогревали чаем с водкой, пока Кислицын связывался с нашим начальством, прошло еще два часа. Нам было предписано двигаться прежним курсом, то есть в Первопрестольную, дабы доложиться по всей форме, а потом… Потом каждому был обещан пятидневный отпуск! Вот оно, счастье!
Кислицын позаботился, чтобы мы попали на первый же поезд, и, едва мы оказались в купе, Чиж соорудил закусь, я извлек из вещмешка бутылку водки, подаренную Кисли-циным, и процитировал классика, коим несомненно станет когда-нибудь Олежка Сташевич:
– Сейчас по сто пятьдесят и спать до Москвы. Возражения есть?
Возражений не было.
НОВЫЙ, 1938 год, Австрийские Альпы
Огни фонарей вдоль железной дороги, проложенной у подножия тирольских холмов, освещали небольшой австрийский городок, засыпанный снегом, словно убранный в сказочные белые одежды.
Нарядные витрины магазинов, веселые люди, их улыбки, яркие наряды, венки хвои над окнами аккуратных двух-, трехэтажных домов – все напоминало о только что прошедшем Рождестве и о том, что завтра наступит новый, 1938 год.
Курт Домбровски поднимался по склону холма, с удовольствием прислушиваясь к хрусту снега под лыжными ботинками, радуясь возможности побыть одному, без снующих под ногами детей, их вздорных мамаш и надменных папаш. Он глубоко вдыхал крепкий, морозный воздух, легкий, как взбитые сливки. Утром выпал снег, потом изрядно подморозило, и сейчас склоны были девственно чисты. Словно крупное сильное животное отряхнулось от бесконечного множества надоедливых насекомых и улеглось на отдых. Курт остановился, чтобы насладиться одиночеством и тишиной. И тут за спиной послышалось чье-то прерывистое дыхание. Курт обернулся.
Его пыталась нагнать темноволосая девушка в бело-голубом лыжном костюме. «Это она!» – удивляясь удаче, думал Курт, отвечая на ее улыбку вежливым наклоном головы.
– Добрый вечер! – тут же заговорила девушка, и он отметил, что говорит она с весьма резким акцентом и что у нее глубокий, очень красивого тембра голос.
– Добрый вечер, фрейлейн, – учтиво, но весьма сдержанно ответил он.
– Извините, что побеспокоила, – она вспыхнула, решив, что пришлась некстати, – но я видела вас утром в нашей гостинице… Я заблудилась! Каталась, каталась, перебиралась со склона на склон и… вот. Не подскажете, как мне вернуться назад?
– Разумеется.
Используя лыжную палку в качестве карандаша, он начертил на снегу путь к гостинице.
– Спасибо! – снова улыбнулась девушка. Матово-белые зубы чуть блеснули ровным жемчужным
рядом.
– Вы приехали сегодня утром? – спросил Курт.
– Да! Представьте, сегодня утром в Вене шел дождь! А здесь такая рождественская сказка! Настоящая зима!
Он рассмотрел ее как следует. Стройная, с великолепной осанкой, тонкими чертами лица, большими светло-карими глазами и коротко подстриженными вьющимися каштановыми волосами.
– Вы надолго? – скупо улыбнулся он в ответ.
– Нет, неделя, не больше. Каникулы, – объяснила она и тряхнула каштановой гривкой. – А вы инструктор? Учите кататься на лыжах?
– Да, – кивнул Курт.
– Я видела вас днем на западном склоне. Вы очень красиво спускались. И дети вьются вокруг вас как мотыльки.
– Да. И мне редко удается побыть одному.
Она ужасно смутилась, покраснела до корней волос и быстро проговорила:
– Спасибо за помощь. Извините, что помешала.
– Что вы! Ничуть. Хотите, спустимся вместе? – галантно предложил он.
– Нет, нет, благодарю. Тем более, что с непривычки устала. Еще раз спасибо и извините.
Он смотрел ей вслед. Она плохо стояла на лыжах. Следовало бы проводить. Но. еще не время.
Вера остановилась возле отеля, стараясь отогнать неприятное впечатление от встречи на горе. «Мужлан, деревенщина! – подумала она об инструкторе и тряхнула головой. – Забудь!» – приказала она себе и переступила порог.
Обеденный зал маленького отеля встретил ее яркими лампами, венками из сосновых ветвей и остролиста, дразнящим запахом выпечки. Она осмотрелась. В ярком свете ламп зал выглядел иначе, нежели в утреннем полумраке. Она рассмотрела забранные в дубовые панели стены, увешанные литографиями, кожаные кресла, массивную мебель красного дерева. Поражала удивительная, ослепительная, почти осязаемая чистота.
Хозяйка отеля, фрау Фигельман, шла навстречу с огромной хрустальной чашей для пунша. Ее широкое, раскрасневшееся лицо, мгновением раньше такое сосредоточенное, раскрылось в улыбке, как только она увидела
Веру.
– Добрый вечер, фрейлейн! Как покатались? – она установила чашу на ближайшем столе, с удовольствием разглядывая девушку.
– Спасибо, отлично!
– Хочу спросить, если позволите, – немного замялась фрау Фигельман. – Вы русская? У вас русское имя.
– Да. По происхождению. Мои родители покинули Россию во время революции. А это имеет какое-то значение? – Вера с вызовом взглянула на хозяйку.
– Нет, что вы, что вы! – женщина замахала короткими полными ручками. – Я вам так сочувствую, деточка! Потерять Родину. Надеюсь, вы не очень устали? Сегодня у нас маленькая вечеринка. С танцами и множеством кавалеров. Вам нужно успеть отдохнуть!
– Когда начало вечера?
– Через пару часов.
– Что ж, я вполне успею и отдохнуть, и привести себя в порядок.
– Вот и отлично! А то парней у нас много, а девушек недобор. А в танцах нужны пары!
– С удовольствием составлю пару, если меня научат вашим танцам.
– О! Это не проблема. Молодые люди знают все танцы. Они вас научат! Но предупреждаю, – с лукавой улыбкой добавила фрау Фигельман, – остерегайтесь моего сына, Генриха. Уж как он любит девушек, просто ужас! – она хохотнула, подхватила чашу и скрылась за кухонной дверью.
Вера невольно рассмеялась ей вслед, с удовольствием вдохнула аромат пряностей и растопленного масла, идущий с кухни. Радостное предвкушение праздника снова вернулось к ней. Она быстро, перепрыгивая через ступеньки, поднялась на второй этаж, напевая что-то под нос.
Поначалу праздник не ладился. Люди постарше жались по углам, молодежь собиралась в группы. Крупные румяные девушки, нарядившись по-праздничному в широкие клетчатые юбки, легкие блузки, которые открывали широкие плечи и сильные, загорелые руки, чувствовали себя не в своей тарелке, шушукались, прыская в кулак. Аккордеонист попытался расшевелить публику, сыграв пару мелодий, но желающих танцевать пока не нашлось, и он махнул рукой, тем более, что огромная чаша с пуншем заняла законное место на столе, стаканы наполнялись, и каждый отдавал должное крепкому, пряному, пахучему напитку.
Большинство гостей составляли родственники Фи-гельманов. Простые, загорелые, пышущие здоровьем люди, которые зарабатывали на жизнь торговлей, скотоводством, виноделием. Они ощущали себя честными тружениками, которые вполне заслужили пару праздничных дней.
Приезжие, занимавшие гостиницу, выпив из уважения к хозяевам по кружке пунша, отправились встречать Новый год в более веселые места, в крупные отели, где предлагалась настоящая праздничная программа. Вера, в отличие от других постояльцев, приехавших на отдых парами, была одна, и потому решила никуда не уходить, а через часок-другой отправиться в номер и хорошенько выспаться.
Постепенно вечеринка набирала обороты, чаши с пуншем сменяли одна другую, начались танцы под патефон. Танго сменялось вальсом, потом каким-либо тирольским танцем. Веру приглашали на каждый, она не сидела ни минуты. Чаще других ее партнером оказывался ширококостный здоровяк, как выяснилось, сын хозяйки, Генрих.
С очередной американской пластинки зазвучал фокстрот, который никто из присутствующих, как выяснилось, танцевать не умел. Вера, радуясь тому, что брала в Вене уроки модных танцев, и вот теперь это пришлось как нельзя кстати, взялась учить хозяина гостиницы. Под общий хохот, на своем слишком книжном немецком, она пыталась объяснить старику Фигельману, какие движения нужно делать. Когда они вполне сносно выполнили несколько фигур, старик отер пот и воскликнул: – Жизнь прожита не зря!
Все смеялись, хлопали Вере, ее заставили выпить полный бокал пунша, и она, неожиданно для себя, осушила его под одобрительные возгласы присутствующих.
Аккордеонист, уже изрядно зарядившийся крепким напитком, напомнил о себе звуками аккордеона. Взяв несколько аккордов, он запел. Гости тут же сгрудились возле него и подхватили песню. В отблесках полыхавшего в большом камине огня их голоса и звуки аккордеона поднимались к высокому потолку. Вера стояла рядом с Генрихом, который обнимал ее за талию. И ей было приятно его осторожное объятие. Она думала о том, какие милые люди окружают ее в этот вечер, как они дружелюбны, как встречают приезжих, которых знать-то не знают, но вот безоговорочно принимают в свой круг, делятся своим теплом. И она начала потихоньку подпевать, покачивая в такт песне кружкой, которую Генрих не уставал наполнять.
Roslein, Roslein, Roslein rot, Roslein auf der Heide,[4] – пели они.
Вера старательно пела, незаметно озираясь: она чувствовала на себе чей-то взгляд. Чуть в стороне от всех стоял тот самый лыжный инструктор, который чуть не испортил ей вечер, а теперь не спускал с нее глаз. Вера демонстративно пыталась выдержать этот взгляд, отметив, что мужчина очень хорош собой. Лет тридцати с небольшим, с короткой стрижкой темно-русых волос, со светлыми, в крапинках глазами и великолепным загаром, который еще более оттеняла белоснежная рубашка. Он держал в руке кружку с пуншем и был единственным в зале, кто не участвовал в хоровом пении. Плотно сомкнул красиво очерченный рот, он смотрел на Веру, и она вдруг смутилась и сердито отвернулась.
Новый год стремительно приближался, и так же стремительно нарастало всеобщее веселье. Молодежь снова закружилась в танце, по углам были видны целующиеся парочки, то и дело сыпались шутки, значения которых Вера не понимала, из-за незнания здешнего диалекта, но чувствовала их соленый вкус: женщины прыскали в кулак, а мужчины громко хохотали. Сын хозяев не отходил от нее, приглашал на каждый танец, а в перерывах все пополнял ее кружку. Его рука постоянно лежала на ее талии, и Вера даже как будто привыкла к теплу его широкой ладони.
Когда до Нового года оставалось не более четверти часа, старик Фигельман залез вдруг на стул и потребовал тишины.
– Как ветеран Западного фронта, воевавший там с тысяча девятьсот четырнадцатого по тысяча девятьсот восемнадцатый, – торжественно говорил он, – прошу, чтобы вы все исполнили вместе со мной дорогую мне песню.
Он махнул рукой, аккордеонист раздвинул меха, и в зале зазвучали начальные аккорды
«Deutschland, Deutschland uber Alles».[5]
Вера не слышала ранее, чтобы эту песню исполняли в Австрии, но она знала ее благодаря няне-немке и потому охотно подпевала, как и следует настоящей передовых взглядов молодой женщине, пусть и немного пьяной. Или даже излишне пьяной.
Генрих, тронутый тем, что она знает слова песни, наклонился и поцеловал ее в шею. Вера невольно вскинула глаза на лыжного инструктора. Он наблюдал за ними и, поймав ее взгляд, отвернулся.
«Назло буду принимать ухаживания Генриха. Он такой милый и трогательный», – подумала Вера, продолжая петь.
Когда песня закончилась, старик Фигельман, все еще стоявший на стуле, предложил тост за русских женщин, за дружбу между немецким и русским народами. Все чокались с Верой, она смущенно благодарила, решив, что сейчас не время объяснять присутствующим свои сложные отношения с исторической родиной.
Музыка тут же сменилась другой – резкой, примитивной мелодией, которую Вера никак не могла узнать. Вроде бы она слышала отдельные куплеты раз или два, но сейчас, поскольку мужские голоса уже заплетались, ей никак не удавалось понять, что же они поют. Единственное, что она ощущала, это то, что страстность песни передается Генриху. Его мышцы бугрились, а рука все крепче прижимала ее к себе.
Вера еще внимательнее прислушалась. Она попыталась выделить из общего рева голос Генриха, и когда ей это удалось, она начала различать слова и узнала песню. А когда узнала, лицо ее начало каменеть.
– Die Fahne hoch die Reihen fest geschlossen, – пел Генрих, надрывая голосовые связки. – S. A. marschiert in ruhigfesten Schritt. Kameraden die Rotfront und Reaktion erschossen.[6]
Слушая эти слова, Вера чувствовала, что тошнота подступает к горлу, ноги подкашиваются. Она закрыла глаза, стараясь справиться с приступом дурноты и вырваться из объятий Генриха. Но это было невозможно – его рука удавкой обвилась вокруг ее талии. В отчаянии Вера открыла глаза и увидела встревоженный взгляд инструктора, который, казалось, готов прийти ей на помощь. Но устраивать здесь, в полном зале, свару Вера не решалась. Тем более, что гости имели теперь весьма свирепый вид. Мужчины вытянулись в струнку, стояли, расправив плечи, с глазами, горящими готовностью сейчас же ринуться в бой. Женщины не отставали от них, гордые и страшные. Голоса звучали все громче, все резче, и к последнему куплету песни Хорста Весселя[7] Вера всерьез начала опасаться за свои барабанные перепонки.
Последняя строка песни едва не обрушила потолок.
От бессилия Вера заплакала, молча коря себя за мягкотелость, за то, что не может вырваться из омерзительных теперь объятий. Она молча плакала, пока над городом не поплыл колокольный звон.
Старик Фигельман, багровый, с каплями пота, катящимися по лысине, поднял кружку:
– За фюрера! – громогласно провозгласил он.
– За фюрера! За фюрера! – кружки взлетели вверх, все жадно выпили.
– С Новым годом! – воскликнул кто-то из женщин. – С Новым годом! Господь, благослови этот год!
И все вокруг вновь превратились в милых, мирных, добрых людей, которые смеялись, целовались, поздравляли друг друга. Такие уютные, такие домашние.
Генрих развернул ее к себе, намереваясь поцеловать в губы, но она, разрыдавшись, вырвалась и бросилась прочь, услышав за спиной его полный издевки возглас:
– О, эти русские! Русские свиньи! Они думают, что умеют пить!
Это было уже слишком. Слишком… Она опрометью кинулась в свою комнату.
Курт наблюдал эту сцену из своего угла. На протяжении всего вечера он следил за девушкой и отмечал все стадии перемены ее настроения, от бесшабашной, отчаянной веселости до отчаянного стыда. Романтическая русская душа, открытая, наивная, глупая. Он отпил пару глотков, закрывая кружкой лицо, наблюдая за Генрихом. По тому, каким взглядом тот проводил девушку, было ясно, что последует позже. Распалился, скотина. Наверняка залезет к ней ночью. Он допил пунш и отправился к себе.
Слезы высохли, осталось бессилие вместе с сознанием того, что вела она себя крайне глупо. Вера попыталась игнорировать и первое и второе. Она тщательно почистила зубы, приняла душ, расчесала на ночь волосы, промыла холодной водой заплаканные глаза, разделась, натянула ночную рубашку, распахнула окно и забралась в просторную, слишком широкую для одного человека кровать. В распахнутое окно ворвался лунный свет и ветер с заснеженных вершин. Вдохнув чистый морозный воздух, она поежилась, согреваясь на холодных простынях. Свежевыстиранное белье пахло точь-в-точь как в доме у бабушки, тюлевые занавески шуршали, касаясь подоконника. Снизу едва слышались печальные звуки аккордеона. Она повернулась, устраиваясь поудобнее, матрас тихонько скрипнул под ее телом. В конце концов Вера уснула.
Курт лежал с книгой в постели, стоявшей у стены, за которой в соседней комнате лежала девушка. Было слышно, как поскрипывал матрас под ее телом, как она несколько раз вздохнула, глубоко и печально. И затихла. Их разделяла такая тонкая преграда, что ему казалось, он не только слышит каждый шорох, но и видит ее – в длинной белой ночной рубашке с кружевами; заплаканную, несчастную, одинокую. Он перевернул страницу, углубившись в чтение.
Ей часто снились подобные сны. Большое, мощное тело, лежащее рядом, чуткие пальцы, поглаживающие кожу. Вот они осторожно снимают с нее рубашку, и она не сопротивляется, отдавшись нежной силе мужских рук.
И тут Вера проснулась, явственно ощутив на щеке чужое дыхание, наполненное алкогольными парами.
– Тихо, – произнес мужчина по-немецки, – я не причиню тебе зла.
Он пил коньяк, поняла Вера. Он него пахнет дешевым коньяком. Она замерла на мгновение, стараясь всмотреться в лицо мужчины, в его темные в ночи глаза, сверкающие искрами отраженного лунного света. Его опытная рука по-хозяйски блуждала по ее телу, скользнула по груди, по животу, затем опустилась ниже. Рывком она отпрянула к краю кровати, но мужчина не уступал ей в скорости и явно превосходил в силе – мгновением позже она была распластана посередине ристалища. Его потная ладонь предусмотрительно закрыла ее рот. Он хохотнул:
– Маленькая зверушка, маленькая шустрая кошка. Она узнала голос.
– Это же я, твой кавалер, – продолжил Генрих. – Решил заглянуть в гости. Бояться тебе нечего, милашка! Я не сделаю тебе больно.
Его рука оторвалась от ее рта и переместилась на грудь. Вера рванулась.
– Я закричу!
– Да ладно… – хохотнул он, ничуть не испугавшись. – Во-первых, все напились, так что никто тебя не услышит. Во-вторых, я скажу, что ты сама пригласила меня, а потом вдруг начала кочевряжиться. И поверят мне, а не тебе. Я здесь свой, а ты – иностранка. К тому же русская. У нас не любят русских.
– Пожалуйста, уходи! – взмолилась Вера. – Пожалуйста, я никому ничего не скажу.
Она все еще надеялась на мирное решение вопроса и даже на какие-то мгновения примирилась с тем, что его пальцы стискивают ее грудь. Конечно, она вела себя в минувший вечер не самым разумным образом, возможно, невольно она его спровоцировала. Если сейчас попытаться объясниться, он уйдет, он ведь не зверь, не садист, не насильник.
– Послушай, Генрих, ты очень симпатичный, но я. не по этой части.
– Как-как? – Он оглушительно расхохотался, впился губами в ее шею. – В жизни не слышал ничего подобного!
Наверное, она неудачно выразилась. Вера предприняла новую попытку, потихоньку передвигаясь в краю кровати:
– Ты такой симпатичный парень. Наверняка, девушки тебя любят. Зачем я тебе? Есть много других, они будут только рады.
– Но я хочу тебя! Ты красивая. Наши девушки не такие. Ты мне очень нравишься.
И снова он впился в ее шею.
– Но ты-то мне не нравишься! Я тебя не хочу!
Это полное безумие, думала она. Обнаружив среди ночи в своей постели постороннего мужчину, она волновалась из-за того, что ее может подвести недостаточное знание немецкого. Что она может позабыть нужные слова, правильное построение фраз. И ею овладеют только потому, что она не смогла ясно выразиться.
– Я не хочу тебя! – вскричала Вера.
– Приятно, знаешь ли, когда девушка притворяется, будто никаких желаний у нее нет. Это так возбуждает! – хихикал Генрих, а его ладонь беспрепятственно продолжала обследовать каждый изгиб, каждую складочку ее тела.
Вера попыталась пригрозить:
– Я все расскажу твоей матери! Клянусь! Он снова рассыпался пьяным смехом:
– Матери расскажешь? А почему она, по-твоему, поселила тебя именно в этой комнате, с окном над сараем, по которому так легко взобраться и попасть внутрь?
Вера похолодела. Это невозможно! Фрау Фигельман, такая приветливая, улыбчивая, радушная. Но, вспомнив лицо хозяйки, когда она вместе с другими пела фашистский гимн, вспомнив ее дикий, безумный взгляд, в миг утратившее приветливость жесткое лицо, она поняла, что в этом доме все возможно.
Девушка изо всех сил попыталась высвободиться. Но добилась лишь того, что он поднял и стиснул в здоровенном кулачище, как в тисках, обе ее руки. Руки были больно вывернуты, фиксированы над головой, она была почти распята, беспомощная и беззащитная. Вторая его рука по-хозяйски шарила между ног. Она замотала головой, попытавшись сдвинуть колени, но не тут-то было. Он был очень умел и очень силен. Ее слабое сопротивление явно доставляло ему удовольствие, он прямо-таки упивался своей властью.
– Пусти, умоляю тебя, отпусти меня, – взмолилась девушка. – Я обращусь в полицию!
Генрих расхохотался.
– Какая же ты дура! Попробуй только! Ты сама заманила меня к себе. Все видели, как мы танцевали весь вечер. Как я обнимал и целовал тебя, а ты не сопротивлялась. Ты будешь посмешищем для всего города, для каждого приезжего. Газеты будут писать о тебе. Хочешь прославиться?
Он приблизил к ее губам свой слюнявый, пахнущий дешевым коньяком рот, она укусила его, ощутив соленый вкус крови.
– Ах ты сучка!
Сильный удар пришелся по скуле, голова ее мотнулась в сторону, но никакой боли Вера не чувствовала. Зато она очень хорошо чувствовала, как он навалился на нее, голый, потный, такой тяжелый, что, казалось, он расплющит ее. Еще мгновение, и он оседлает ее. От ужаса и унижения она почти лишилась чувств.
В этот момент что-то произошло. Скрип двери, какой-то неясный шум, звук удара, тело ее освободилось от тяжести, и она окончательно потеряла сознание.
Когда она очнулась, в комнате никого не было. Вера с трудом поднялась с разорванных простыней. Забравшись в ванную, она долго, не менее часа, терла свое тело мочалкой. Ей хотелось содрать кожу, по которой блуждали его руки… Наконец она вышла, оделась и села в кресло, ожидая рассвета. Ее бил озноб, зубы стучали, все тело болело. Вынув из чемодана бутылочку вишневого ликера, она осушила ее и уставилась в окно.
Горы выплывали из ночи, на их побелевшие вершины упал первый, зеленоватый свет зари. Затем на смену зеленому пришел розовый, он осветил склоны, снег заблестел под первыми лучами солнца.
Осторожно, стараясь не скрипеть половицами, она прошла через дом, в углах которого еще царила ночь, а в воздухе висели запахи вчерашнего празднества и, открыв дубовую дверь, вышла на улицу, вступила в еще сонный, белоснежный новый год.
Сначала она бесцельно бродила по пустым улицам, но после того как дверь одного из домов распахнулась и вышедшая женщина поздоровалась с ней, а затем испуганно отпрянула, Вера направилась к горам. Она шла ровным шагом, глядя себе под ноги, поднимаясь все выше и выше, пока тропинка не привела ее к скамейке, притулившейся возле лыжного домика. Вера буквально рухнула на нее. Оказалось, она не в силах сделать более ни шага. Ею овладело такое желание уснуть здесь и не проснуться, что она даже взмолилась, чтобы небеса приняли ее бедную душу. Сомкнув веки, прислонясь спиной к стене хижины, она сидела одна – среди безмолвной снежной тишины.
– Доброе утро, фрейлейн Вера! – раздался за ее спиной мужской голос.
Она резко обернулась. Сзади стоял лыжный инструктор, тот самый, что вчера вечером не спускал с нее глаз. Повинуясь безотчетному импульсу, она вскочила, намереваясь уйти.
Мужчина шагнул следом.
– Что-то случилось? – участливо спросил он.
– Нет-нет, – торопливо ответила она, отворачиваясь
– Вы уверены?
Он заглянул ей в лицо с таким участием и тревогой, что слезы сами брызнули из глаз.
– Сядьте, прошу вас, – он мягко усадил ее. – Я не представился. Меня зовут Курт Домбровски.
Курт достал из кармана лыжных брюк пачку сигарет и протянул девушке. Она вытянула дрожащими пальцами сигарету, он дал ей огня и сел рядом. Несколько мгновений они молча курили.
– Как здесь красиво! – сказала Вера, вытирая слезы, не в силах рассказать, что с ней случилось.
– Это враг, – пожал плечами Курт.
– Что? – не поняла девушка.
– Горы – враг. Мой враг. Моя тюрьма.
– Что вы такое говорите? – от неожиданности Вера поперхнулась дымом и закашлялась.
– Разве вы не понимаете, что здесь мужчине не место? – жарко воскликнул Курт. – Провести всю жизнь в этих горах – идиотизм, иначе не скажешь. Мир рушится, а я трачу время на то, чтобы толстые девочки не зарывались носом в снег.
– Ну. Тогда почему бы вам не помочь миру, который рушится? – саркастически заметила Вера.
– Я пытался. Полгода провел в Вене. Хотел найти нужную, полезную работу. И знаете, что я в конце концов нашел? Меня взяли в ресторан. Убирать грязную посуду за туристами. И я вернулся. Здесь, по крайней мере, мне платят приличные деньги. В этом вся Австрия. За ерунду тебе платят, а настоящего дела нет, – с горечью закончил он.
Вера молчала, не зная, чем его утешить. Подумав, что странным образом отвлеклась от собственной беды.
– Извините меня, – словно прочел ее мысли Курт.
– За что?
– За жалобы. Мне стыдно за себя, – смущенно проговорил он. – Не знаю, что на меня нашло. Обычно я не разговорчив. Но мы здесь одни, раннее утро, и горы и солнце. Почему-то мне показалось, что вы можете меня понять. А местные. Волы. Есть, спать, зарабатывать деньги. Вчера вечером я хотел поговорить с вами. Мне показалось, я вас чем-то обидел…
Он наклонил голову, вычерчивая прутиком на снегу какие-то замысловатые фигуры.
«Какой он трогательный и милый», – подумала вдруг Вера.
– Жаль, что не поговорили, – вырвалось у нее.
Все могло сложиться иначе. Не было бы Генриха и этой ужасной ночи.
И он, словно вновь прочитав ее мысли, проговорил:
– Генрих был у вас этой ночью.
– Откуда вы знаете? – глаза ее наполнились слезами.
– А вы ничего не помните? Ну да, вы были без чувств.
– Так это вы.
– Да, моя комната расположена по соседству с вашей. Я услышал шум, ваши крики, вошел и вышвырнул мерзавца. Вы не первая девушка, которая попадает здесь в подобную ситуацию.
Она молчала, глаза ее наполнились слезами. Он осторожно погладил ее руку.
– Ну-ну, будет! Он не успел причинить вам вреда. Кроме психологического, разумеется. Но ведь это забудется! Вы так молоды! Сколько вам лет?
– Восемнадцать, – едва вымолвила Вера.
– Восемнадцать! – задумчиво повторил он, словно эта цифра имела какое-то значение.
– И вы русская?
– Я не знаю Россию. Родители эмигрировали во время революции. Мама была беременна мною. Я родилась во Франции, – она как будто оправдывалась, хотя, разумеется, знала много из рассказов родителей и их друзей, которыми всегда был полон их дом.
– А что сейчас с вашими родителями. Почему вы здесь одна?
– Они умерли в прошлом году от какой-то инфекции. Диагноз так и не поставили. Оставили мне небольшое наследство. Вот я его и проживаю. Не самым удачным образом, – горько добавила она. Его расспросы помогали ей успокоиться. Она достала из кармана платок.
– Позвольте мне.
Он бережно промокнул ее глаза, тихонько дотронулся до щеки.
– У вас синяк на скуле. Ничего, это быстро пройдет. Давайте-ка я сделаю вам холодный компресс.
Соорудив из плотного снега лепешку, он протянул ее Вере.
– Нужно подержать минут пятнадцать. Отек спадет. Вера послушно приложила снег к щеке.
– А что вы делаете в Австрии?
– Учусь. Я училась музыке. Хотела стать пианисткой. Мне посоветовали Вену.
– И как? Вам нравится?
– Все школы одинаковы. Того, что нужно, никогда не найдешь.
Он улыбнулся.
– Вы умница. Жаль, что впечатление от Австрии так испорчено.
– Да. Еще вчера, когда они пели эту песню.
– Хорста Весселя?
– Ну да. Я никак не ожидала, что в этой глуши есть нацисты.
– Разумеется, есть. Они есть везде, – удовлетворенно проговорил Курт.
Вера вскинула на него испуганные глаза.
– Что вы так смотрите?
– Вы как будто рады этому. Вы сочувствуете нацистам, которые поют гимны штурмовиков, врываются ночью к женщинам, насилуют их, поднимают на них руку?.
– Бросьте! – жестко перебил Курт. – Генрих ворвался к вам не потому, что он нацист, а потому, что скотина. Грязная свинья! То, что он еще и нацист, – совпадение. Более того, ему никогда не быть хорошим нацистом.
– Вы тоже из них? – угадала наконец Вера, и глаза ее испуганно расширились.
– Разумеется. И нечего удивляться. Просто вы начитались бульварных газетенок. Представьте, мы не едим детей! Более того, мы с вами ближе друг к другу, чем вам кажется. Потому что мы боремся с коммунистами, которые, в частности, лишили вас Родины.
– Разве? Мне казалось, что Сталин и Гитлер друзья-соратники.
– Бросьте! Пройдет несколько лет, и Гитлер освободит Россию от коммунистов. Попомните мои слова.
– Мне это, собственно, безразлично, – пробормотала сбитая с толку Вера. – Россия не моя Родина.
– Но это Родина ваших родителей. Отчизна, которой их лишили. И кто знает, как они переживали эту утрату. Может, они боролись со сталинским режимом. Вместе с другими русскими эмигрантами-подпольщиками. И поплатились за это жизнями.
– Что?! Откуда вы?… С чего вы взяли? – вскричала Вера.
– Я только предположил, – торопливо произнес Курт, стискивая ее ладони, удерживая девушку на месте.
Он горячо продолжил:
– Простите меня, я наговорил лишнего. Мне просто показалось, что мы с вами родственные души, что мы можем понять друг друга. Еще раз извините меня. Вы пережили ужасную ночь, но уверяю вас, все это забудется. А мерзавец понесет наказание, я об этом позабочусь. Не говорите сейчас ничего! Что касается вашего отдыха, я сегодня же перевезу вас в другое местечко. Еще лучше этого. В десяти милях отсюда есть уютный маленький отель, где нет никаких нацистов. Вы придете в себя, все забудется. А я буду приезжать каждый день и учить вас кататься на лыжах.
– Мне нечем платить за уроки, – буркнула Вера.
– Вы будете давать мне уроки русского языка. И мы будем в расчете. Идет? – весело предложил он.
Вера молчала. О дальнейшем пребывании в проклятой гостинице фрау Фигельман не могло быть и речи. Возвращаться же в Вену в таком плачевном виде тоже не хотелось. К тому же Курт оказался ее спасителем. И вообще он ей понравился – тонкий, открытый, честный человек, полный участия и сострадания.
– Что ж. пожалуй, – пробормотала она.
ИЮНЬ 1945, Подмосковье
Хижняк спрыгнул с подножки трамвая, который, погромыхивая вагонами, отправился в депо. Казалось, война каким-то чудесным образом миновала эту окраину Москвы, где, по сути, уже начиналась Московская область. Деревянные домики с открытыми ставнями с цветами герани на подоконниках, выкрашенный голубой краской магазинчик. Стоявшие у его дверей женщины весело переговаривались, обсуждая, видимо, последние новости. Ослепительно-солнечный день одаривал мир щедрым теплом, и все живое радовалось ему. Березовая рощица, сквозь которую убегала и скрывалась за поворотом проселочная дорога, сверкала ярко-зеленой листвой. Здесь же, прямо под ногами, с веселым гомоном стайка воробьев купалась в пыли, и, боже мой, в воздухе порхали бабочки! Прислушавшись, можно было уловить далекое конское ржание. Волнуясь, словно перед свиданием с возлюбленной, Хижняк быстрым шагом направился сквозь рощу туда, где простиралась обширная территория конного завода.
В административном здании было сумрачно и прохладно. После ослепительно яркого света показалось, что он попал в полную темноту. Хижняк зажмурился, снова открыл глаза.
– Вы к кому? – услышал он женский голос.
В пустом гардеробе, отгороженном деревянной панелью, скучала женщина в синем халате.
– Я к Голубу. Он здесь?
– Так где ж ему еще быть? Здеся, в тренерской, – нараспев ответила гардеробщица. – А вы кто? По какому делу? Эй, куда вы, мужчина?
Но Хижняк уже скрылся в глубине здания. Лампочки не горели, единственное окно в торце длиннющего коридора казалось светом в конце тоннеля, но свет ему был не нужен. Он помнил каждый выступ в стене, каждую дверь. Уверенно распахнув третью справа, он шагнул в просторную, уставленную стеллажами комнату. За столом корпел над бумагами еще довольно крепкий старик под семьдесят. Видимо, занятие не доставляло ему никакого удовольствия. Он то потирал гладковыбритую голову, то поправлял очки с сильными линзами на крупном широком носу.
– Ну, кто? Кого черт принес? Вы мне, паразиты, отчет дадите закончить? – не отрываясь от бумаг, проворчал он.
Хижняк молча, с улыбкой, наблюдал за учителем, которого не видел. сколько? Семь или даже восемь лет. Да каких лихих лет. Да, сдал дед, но еще ничего!
Хозяин кабинета поднял сердитый, поверх очков взгляд на вошедшего, несколько мгновений разглядывал его, затем, будто не веря своим глазам, тихо спросил:
– Егор?
– Егор! А то кто же? Ты что, Михалыч, ученика не узнаешь? Неужто так изменился?
– Батюшки-святы! Егорка вернулся! Они крепко обнялись.
– Заматерел ты, Егорка! – Степан Михайлович отстранившись, любовно разглядывал Хижняка. – Прямо волчара!
– Да ладно. Скажешь тоже. Чаю-то дашь, старый?
– Гос-с-споди! Неужто я героя войны только чаем потчевать буду?
Старик засуетился, достал из шкафчика бутылку, миску квашеной капусты, граненые стопки. Поставил на плитку чайник.
Егор тем временем достал из вещмешка гостинцы – белый хлеб, банки тушенки, крупно поколотый сахар, мешочек с чаем и другой, с табаком.
– Как вы здесь? – расставляя провизию на столе, спросил он.
– Да что мы… Живем помаленьку. У нас тут свой фронт. Я своей грудью, понимаешь, коней охранял. А то у нас как: вынь да полож. То грузы таскать затребуют, то в конный полк. И хватают, не глядя. А то, что это орловский рысак, или арабчонок, то, что им цены нет, – это никого не волнует. Но я племенных сохранил! Конечно, был и падеж, не без этого. Но костяк остался. Да что это я. Соловья баснями не кормят. Ну, давай по малой! – Он разлил самогон. – За победу!
– За победу, Михалыч!
Они чокнулись и одним махом опрокинули по стопке.
– Ты закусывай, – хрипло выдохнул Степан Михайлович, отламывая краюшку. – Экий хлеб-то у тебя вкусный! Сто лет такого не едал. Паек, что ли?
– Угу, – кивнул Егор, уминая капусту.
– Хороший паек! Это где ж такой выдают?
– Да есть места. – уклончиво ответил Хижняк. – А у тебя капуста справная! Сто лет такой не едал! Таисия Петровна квасила?
– Квасила она, а самой-то уж нет. Два месяца, Егор, как схоронил я Таисию, – отозвался старик. – Вот ведь все пилила меня, все огрызалась, а как не стало ее, такая тоска взяла.
– Что ж, помянем, – вздохнул Хижняк. – Она у тебя бой-женщина была.
– Что да, то – да! Дочка в нее пошла.
– А где Иринка ваша?
– В Казани. Она уж отвоевала, медсестрой с эвакогоспиталем войну прошла, там себе и мужа нашла. Он сам-то из Казани родом. Сперва решили туда поехать. Пишет, что все хорошо у них. Семья его приняла ее, свекровь дочкой зовет, не нарадуется. Скоро ко мне прикатят, покажет мужу родные места.
– Что ж, это здорово! Хорошо возвращаться к близким людям, к родным стенам, – очень серьезно произнес он и обвел глазами комнату.
На одной из них, в красивой золоченой рамке висел его собственный портрет, на котором он, Егор Хижняк, моложе годами и сухощавее, стройнее, – стоял в форме наездника рядом с красавицей кобылкой. На лошади – попона победителя, он – с кубком в руках.
Голуб проследил за его взглядом.
– Ага, любуешься? Кони-то снятся?
– А то… Часто снятся. Вот, сегодня приснилось, что на приз еду. Финиширую. Вожжи как под напряжением в сто вольт.
– Это хорошо, Егор, что ты вернулся! И, слава богу, здоровый, не покалеченный. Самое время тебе к мирному делу приступать. Мастеров нет, всех война проклятая пожрала. – Степан Михайлович печально вздохнул и осторожно спросил:
– Так ты насовсем?
– Нет, дед, не отпустят меня сейчас.
– Вона как! Я думал, война кончилась.
– Это как для кого.
– А для тебя? Тебя-то когда отпустят?
– Думаю, через год нас расформируют.
– Год, говоришь. – Старик задумчиво пожевал губами. – Что ж, год я еще продержусь. А там давай, возвращайся! Передам конюшню тебе. Ты мастер, должен ценить божий промысел!
– Что-то ты, старый, часто стал к небесам обращаться.
– Поживи с мое, – вздохнул Голуб. – Ладно, пойдем-ка в конюшню.
– А что Марго?… – решился наконец спросить Егор.
– Жива твоя Марго! Постарела, уж не та, что на фотке, – он кивнул на фотографию, – но еще ничего. Пойдем, покажу. Иди за мной!
– Она раньше здесь стояла!
– То раньше, а то теперь. Что ж она на постаменте. Не бронзовая, чать, можно и подвинуть. Вот теперь ее место.
Егор вошел в слабо освещенный денник. В глубине его, перебирая ногами, стояла караковая лошадь. Егор один общим взглядом сразу оглядел любимицу. Она была среднего роста и по статям не безукоризненная, слишком узкая костью. Но в подпруге лошадь была по-прежнему широка, что особенно удивляло при ее поджаром животе. Резко выступающие мышцы натягивали тонкую, атласную кожу. А в целом в ней очень чувствовалось то, что зовется у мастеров одним словом: кровь. Или порода.
Как только Егор вошел, лошадь глубоко втянула в себя воздух и тихо заржала, переступая с ноги на ногу.
– Узнала! Узнала меня, девочка! – взволнованно проговорил Егор.
Он подошел, погладил ее крепкую шею, поправил перекинувшуюся на другую сторону прядь гривы. Лошадь потянулась к нему мордой, выпятив черную нижнюю губу.
Егор протянул кусок хлеба, посыпанного солью.
– Узнала, узнала меня, умница. Марго, красавица моя! За спиной деликатно кашлянул Голуб.
– Ну, Михалыч, спасибо тебе за Марго! В каком состоянии отличном! Чем ты кормил-то ее?
– Да почти что грудью, – довольно усмехнулся старик. – Мы тут все над ними тряслись, как над детьми малыми. И докторица наша, и другие бабы, – кивнул Голуб вглубь конюшни.
Егор через решетку денника увидел молодую женщину, выводившую на улицу рысака.
– Это кто? – шепотом спросил он.
– Дак докторша наша. Ветеринар. Марина Сергеевна. Что, вижу, глянулась? Кобылка она сама по себе ладная, по всем статьям правильная.
– А что, Михалыч, дашь на Марго пройтись?
– Ну… как не дать… Сейчас Томку кликну, она оседлает.
– Ага, пусть оседлает, – согласился Егор, выходя из конюшни.
Марина Сергеевна собирала рысака. Ей помогала молодая, румяная деваха, в светлом летнем платье и больших, явно не по размеру кирзачах, натянутых на голые ноги. Щурясь от солнца, Егор незаметно разглядывал док-торицу. Выше среднего роста, не худая, но и не полная. Стройные ноги обтягивали узкие брюки, заправленные в изящные яловые полусапожки. Ладно скроенная кофточка обрисовывала высокую грудь и была стянута на узкой талии солдатским ремнем. Грива каштановых, с медным отливом волос сверкала на солнце, спускаясь на плечи. Лицо женщины было опущено, она сосредоточенно перебирала ремни упряжи. Егор видел лишь чистый лоб, прямой нос и тень от ресниц на чуть впалых щеках.
– Томка, ты пойди, запряги Марго. А то она застоялась там.
– Как застоялась? Мы ж вчера.
– Разговорчики! – рявкнул Голуб. – Ишь, распустились! Сказано запряги.
– Да я мигом, Степан Михайлович, – протараторила девушка, увидев, как смотрит на доктора симпатичный мужчина, что стоит рядом с начальством. «Видный, – подумала Томка, проходя мимо Егора. – Э, да ему под тридцать! Старик!»
Она скрылась в конюшне.
– Марина Сергеевна, как там Орлик? – спросил Голуб.
– Лучше, Степан Михайлович, – откликнулась женщина, поднимая на них глаза. Глаза оказались раскосые, зеленые, как у полесской колдуньи. У Егора дух перехватило.
– Это хорошо, что лучше. Вот, Марина Сергеевна, познакомьтесь. Герой войны.
– А я узнала Егора Петровича, – спокойно перебила женщина, коротко взглянув на Егора.
– Как это? – удивился Голуб.
– Так у вас в кабинете висит портрет героя.
– Верно, – Голуб хмыкнул, затем хлопнул себя по ляжкам – А чего я тут с вами лясы точу? У меня там отчет в кабинете. К завтрему не сделаю, голову снимут. а я тут, понимаешь. Егор, накатаешься, загляни.
– Конечно! – откликнулся Егор, не глядя на старика. Он не спускал глаз с женщины.
Она продолжала заниматься своим делом, не поднимая глаз.
– Хорош рысак, – Егор одобрительно похлопал по крупу лошади, и неожиданно его рука накрыла ее ладонь. Прохладная, крепкая ладонь с длинными пальцами затрепетала пойманной птахой. Егор отдернул руку, испугавшись, что женщина уйдет.
Но она спокойно взглянула на него, лишь в глубине зеленых глаз вспыхнуло что-то и исчезло под снова опущенными ресницами.
– Можно, я помогу вам? – хрипло спросил Егор. Тонкая бровь взлетела вверх, но доктор ничего не ответила.
«Молчание – знак согласия», – решил Егор.
Конь, видимо, почувствовав движение неких токов между людьми, разволновался, кося глазом с налитым кровью белком.
– Тихо, милый, тихо, – Егор прошелся сильной рукой по крупу коня, расчесал пальцами гриву, погладил длинную морду – и во всех его движениях было столько нежности и мужской силы, что тонкие ноздри женщины чуть заметно затрепетали. Она снова подняла глаза и теперь они, разделенные живой преградой, изучали друг друга, как будто примеривались, как будто готовились к жаркому, страстному бою…
Никогда, никто не производил на него такого впечатления, как эта рыжеволосая красавица, такая гордая и неприступная. Несколько мгновений они так и стояли неподвижно.
– Марина Сергеевна, я Марго оседлала! Чего дальше-то? – раздался грубоватый голос Томки.
По тому, как вспыхнула Марина, как взметнулась ее рука к волосам, он понял, что тоже произвел впечатление.
Сердце Егора заколотилось так сильно и радостно, что ему казалось, женщина слышит его удары.
– Выводи, Тамара! – откликнулась Марина.
Она уже справилась с собой, голос звучал спокойно и ровно.
– А что, Марина Сергеевна, не прокатиться ли нам вместе? Составите компанию? – весело спросил Егор.
– Как же отказать герою войны? – так же весело откликнулась Марина.
Они вскочили в седла, Егор взял хлыст из рук Тамары, чувствуя, как волнуется, «ходит» под ним Марго, и тронул вожжи. Лошадь, повинуясь каждому его жесту, пошла вперед. Он оглянулся. Марина с гордой осанкой настоящей наездницы крепко сидела в седле. Они шли голова к голове, миновали двор конюшни, оказались на беговой дорожке и пришпорили коней.
Тамара смотрела им вслед из-под ладошки.
– Эй, Томка, чего рот открыла? Муха залетит!
Девушка вздрогнула, оглянулась на коренастого, плечистого мужчину лет тридцати. Он постукивал хлыстом по голенищу сапога, фуражка была сдвинута на затылок, низкий лоб блестел каплями пота.
– Ну вас, Иван Семенович! Вы чего здесь?
– Марину Сергеевну ищу. Что-то Мальчик капризничает, – он указал хлыстом на арену, где топтался вороной конь. – Взялся его вышагивать, так умаялся.
– Вон она, Марина Сергеевна, – указала Тамара.
– А кто это с ней? – ревниво спросил мужчина, глядя, как пара всадников мчится по дорожке.
– Герой войны! – горделиво ответила девушка, будто Хижняк приходился ей родственником.
– Герой, штаны с дырой, – пробормотал наездник. – Откуда взялся?
– От верблюда! Он в кабинете у Михалыча висит! Чемпион!
– И чего он здесь делает, чемпион этот?
– К Михалычу в гости приехал.
– К Михалычу? А чего Марина с ним?
– Да вам-то что? – рассердилась девушка.
– То! Рабочий день! Где ветеринар?! У меня лошадь больная! – закричал вдруг мужчина.
– Вы чего орете-то? Не запрягли! – взъярилась Тамара. – Сами-то чем заняты? Лясы точите. Лошадь у него капризничает. Любить их надо, товарищ Ребров, вот и не будут капризничать! Сами не работаете и мне работать мешаете!
Она скрылась в конюшне, хлопнув дверью. Ребров не среагировал на демарш. Он смотрел на беговую дорожку, на то, как скакуны почти вплотную несутся голопом, на то, как разметались на ветру волосы Марины, как улыбается она спутнику.
– Вона как. Мне, значит, от ворот поворот, а с первым встречным на прогулочку выехала. Ладно, Мариночка, – злобно пробормотал он и, круто развернувшись, направился к манежу.
Через час Егор снова сидел в кабинете Голуба. Его обычно бесстрастное лицо излучало такую радость, что старик то и дело покашливал, отводя в сторону выцветшие глаза и пряча довольную улыбку.
– Окно открою, а то жарко, – он распахнул створки окна, и легкий ветерок всколыхнул занавески, птичий щебет ворвался в комнату.
– Ну, еще чайку?
– Можно, – рассеянно кивнул Егор.
Мысленно он был еще там, на дорожке ипподрома, где упоительный восторг наездника, несущегося во весь опор на безукоризненно послушной Марго, смешивался с ошеломляющим чувством влюбленности, которая свалилась на него как снег на голову.
– И по стопке?
– Ну. Разве что по одной. У меня вечером дело здесь.
– А. Ну, тогда по махонькой. Дело есть дело, – понимающе хмыкнул старик.
Пока Голуб заваривал свежий чай, Егор наполнил стопки.
– Это, я чего сказать-то хотел. ты надолго в отпуск-то?
– Четыре дня. То есть, уже три с половиной.
– Так, может, поживешь здесь у нас? Комната в общежитии за тобой сохранена. Это, конечно, не московская твоя квартира.
– Я согласен! – тут же воскликнул Егор.
– Ну и ладно. Что ж, за победу?
– За победу! – кивнул Хижняк. – Дорогой ценой досталась. Но мы за ценой не стояли.
– Это верно!
Они выпили, закусили хлебом.
– Какой чай-то у тебя знатный! – Голуб разливал по щербатым стаканам горячий янтарный напиток.
– Ну, снабжают.
– Это кого ж так снабжают? Егор, ты где служишь-то?
– В войсках НКВД, – все так же рассеянно ответил Хижняк
Голуб аж поперхнулся чаем. Затем чуть отодвинул стакан.
– А что? – Хижняк очнулся наконец от грез.
– Ну. Ничего, – осторожно ответил Голуб, отводя глаза.
– Брось, дед! Я ж вижу: забоялся, забрезговал.
– Не, ты чего? – замахал руками Голуб, но тут же мрачно добавил: – Я-то думал, ты на фронте.
– А я, по-твоему, в тылу на бабьей перине лежал? – вскипел Егор. – Я и в разведчиках побывал и в контрразведчиках! Понимаешь, что это такое? Это фронт и еще дальше – за линию фронта. Знаешь, сколько раз приходилось «тропить зеленку»?
– Чего? – испуганно спросил Степан Михайлович.
– Того. Линию фронта переходить под огнем артиллерийским, в темноте полной, по минам. И неизвестно, сделаешь следующий шаг или разнесет тебя в клочья к чертовой матери! Ничего вы здесь не знаете. И не должны знать! А я не имею права рассказывать! Но кто-то должен конюшни от всякой нечисти вычищать. Вот я и есть чистильщик.
Лицо его помрачнело, жесткие складки залегли от носа к побелевшим губам. Егор полез за папиросой.
– Курить можно?
– Валяй, окно открыто, чего не покурить. Ладно, чего ты завелся-то?
Егор жадно затянулся и примирительно произнес:
– Да ничего. Прости, дед.
– Ты лучше скажи, как с Мариной-то? – перевел разговор Голуб.
– С Мариной?. В кино идем вечером, – улыбнулся Егор, и вся жесткость его черт истаяла в обезоруживающей улыбке.
– Это хорошо. Ты того. Она женщина серьезная и очень гордая. С нею шутить нельзя. А я ей здесь за место отца. Понял?
– Так что, сватов к тебе присылать? – рассмеялся Егор.
– Ну, коль к этому идет, то ко мне, – заулыбался беззубым ртом Голуб.
С улицы послышался хруст и звук тяжелых, удаляющихся шагов. Егор пулей вскочил, метнулся к окну.
– Да у тебя здесь свои шпионы, дед! – сердито произнес он. – Кто это? Иди сюда, глянь, а то уйдет он!
– Коренастый такой? В кепке? – не вставая с места, спросил Голуб.
– Да. Кто такой?
– Да навязали мне урода, прости господи. А чего я? Наездники нужны, не откажешься.
– И часто он так под окнами ошивается?
– Кто ж его знает. Скользкий мужик. К Марине все клеился, но она его на дух не выносит.
– Ладно, Михалыч, пойду я. Засиделся.
Егор поднялся, лицо его снова помрачнело.
– Иди, парень. Проститься-то, надеюсь, зайдешь? – Голуб явно расстроился, что конец встречи оказался так испорчен.
– Куда я денусь, – коротко бросил Егор и исчез.
Теплый день плавно перешел в столь же теплый, тихий вечер. Толпа принаряженных женщин и девушек – основное население этой рабочей окраины – высыпала из здания клуба. Все они работали здесь же, на конном заводе, все были знакомы и шли парами или группками, обсуждая фильм, главную героиню, ее шикарное платье, то, как легко отстукивала она чечетку на ступенях широкой мраморной лестницы; ее красавца партнера. При этом все взгляды были прикованы к удалявшейся в сторону аллеи паре: ветеринара Марину Сергеевну сопровождал интересный молодой мужчина. Это само по себе уже было редкостью, а то, что спутник докторицы не кто иной, как знаменитый наездник Хижняк (имя мужчины стало известно от Тамары), возводило Марину в ранг почти кинодивы.
Все немножко завидовали Марине, но больше радовались за нее, – ее здесь любили. Лишь один человек не разделял всеобщего умиления: за углом клуба курил папиросу за папиросой Иван Ребров. Дождавшись конца фильма и убедившись, что неприступная Марина действительно ходила в кино с этим хлыщом, увидев, как его рука легла на плечо женщины, Ребров зло швырнул окурок и скрылся в темноте.
Пара тем временем брела по едва освещенной аллее сквера. Здесь Марина стряхнула руку со своего плеча, будто испугавшись того, что они остались наедине, и надменно спросила:
– Не лишком ли резко берете, товарищ Хижняк?
– Простите, Марина. – Егор смутился, но тут же жарко заговорил: – Знаете, я очень хотел бы ухаживать за вами красиво, как в кино. Дарить цветы, читать стихи, засыпать подарками. Да вот беда: увольнительная у меня всего четыре дня. Один уже прошел.
– Вы еще на службе?
– Да.
– А я думала, вы к нам навсегда, – разочарованно проговорила женщина.
Она опустила голову, каштановые пряди скрыли лицо.
– Пока нет. Здешним воздухом приехал подышать. Но я вернусь! Скоро. Теперь очень скоро! – с жаром проговорил он.
Она молчала. Егор остановился, развернул женщину за плечи и, глядя в зеленые, влажно блестевшие глаза, взволнованно продолжил:
– В моей жизни все переменилось. Сегодня, когда я встретил вас. Я не знал, не думал, что так бывает. Несколько минут, – и все, как в омут с головой. За глаза ваши, за гордый ваш нрав я все отдам, Марина! Я вернусь к вам, именно к вам! Верьте мне!
– Я верю, – прошептала женщина.
Их губы нашли друг друга и слились в долгом поцелуе.
Марина летала по лаборатории как на крыльях. Бестолковая Томка не успела взвесить нужные ингредиенты и только путалась под ногами. Но Марина не сердилась. Она вообще ни на кого сейчас не могла сердиться. Она любила всех без исключения людей и стеснялась своего счастья, будто получила незаслуженную награду, выиграла в лотерею небывало ценный приз.
Она распарила овес, взвесила порошки из разных склянок, смешала и начала перетирать в ступке, перебирая в памяти каждое мгновение последних двух суток, которые в ее сознании растянулись, как минимум, в неделю – так насыщены они были не событиями, нет, но чувствами, их стремительным развитием, умопомрачительным водоворотом.
Первая встреча, когда она увидела его в глубине денника, исподтишка наблюдала, как гладит он любимицу Марго, как перебирает пряди конской гривы, словно ласкает возлюбленную. И уже тогда сердце ее сладко заныло. И так остро захотелось, чтобы эта рука ласкала ее волосы, ее кожу.
То, как собирали они вместе коня, как соприкасались порой их пальцы, как накрыл он ее руку своей ладонью. И ей хотелось, чтобы это мгновение длилось вечно, но он тут же и убрал ладонь, испуганно и виновато взглянул на нее, совсем как мальчишка на строгую учительницу. Она тихо рассмеялась, перетирая лекарство с овсом.
– Марина Сергеевна, вы чего? – встрепенулась тут же с улыбкой Томка, явно скучавшая без обычной их женской болтовни.
– Так. Ничего. Ну вот, все готово. Иди, Томка, к Ганнибалу. Скорми лекарство. Справишься?
– Конечно! Марина Сергеевна, а вы чего сегодня красивая такая? Платье такое необыкновенное. Это креп-жоржет, да? Я его на вас раньше не видела. Новое? Ой, может, у вас день рождения сегодня? – вытаращилась Томка.
Она пыталась вызвать начальницу на откровенный женский разговор. Чтобы вечером, сидя на скамейке возле дома и лузгая семечки, было, что рассказать подружкам, соседкам и всем, кто остановится рядом. Но Марина сама жила в том же доме, прекрасно знала нравы женской общины, и с ней этот Томкин номер не прошел.
– Тамара, иди в конюшню, время лекарство давать, – спокойно сказала она и так взглянула на девушку, что та мгновенно подхватила ведро и направилась к двери.
– А день рождения у меня в декабре, – уже помягче добавила ей вслед начальница.
Вот балаболка, покачала Марина головой, садясь к журналам, которые уже два дня не заполняла. Она вносила записи, а мыслями снова погрузилась в свое тайное счастье.
Вчера они весь день провели вместе. Вышагивали коней, потом отправились с табуном к реке, кони спустились в воду, а они, сидя верхом – он на Марго, она на Мальчике, плыли над водной синевой, болтая босыми ногами в прохладной воде, и радовались и смеялись как дети… И именно вчера он сделал ей предложение, а она ответила согласием. Об этом еще никто не знает, даже Степан Михайлович. Как объяснить даже ему, мудрому деду, что она, вполне здравомыслящая женщина, к тому же хлебнувшая уже всякого, доверила свою судьбу почти незнакомцу. Ведь она ничего не знает о нем! Хотя. знает! Из рассказов того же деда, который не было дня, чтобы не вспоминал своего лучшего и любимейшего ученика. И потом, эта его деликатность, то, что он не «гонит лошадей» в их отношениях, не пытается залезть в ее постель, как попытались бы на его месте многие другие. Это ведь тоже характеризует. А вот он действительно ничего о ней не знает. И она обязана ему рассказать. Вчера не решилась, а сегодня – непременно! А вдруг он от нее откажется, похолодела Марина.
В дверь лаборатории громко постучали, и, не дожидаясь ответа, в комнату ввалился Иван Ребров.
– Здравствуй, Марина!
– Добрый день. А что это вы, Иван Семенович, в сапогах в лабораторию? – спросила та намеренно официальным тоном.
– Да ладно тебе. Я вот что сказать пришел.
– Если опять о чувствах, лучше не надо, Иван, – тихо, но твердо произнесла женщина.
– Да не о том. Ты сказала нет – значит нет. Я мужик, справлюсь. Только вот предостеречь тебя хочу.
– Это от чего же? – надменно поинтересовалась Марина и выпрямила спину, вскинула на него строгие глаза, которые, казалось, предостерегали: «Не тронь!»
Но Ребров выдержал ее взгляд и проронил:
– Эх, Марина… Я тебе не пара, понятно… А энкавэ-дэшник – пара?
– Что? Какой энкавэдэшник? Ты о чем?
– Хахаль твой в НКВД служит, не знала?
– Врешь, – выдохнула Марина.
Кровь отхлынула от ее лица, глаза впились в его лицо. Нет, он не врал.
– А что же, он сам-то тебе не сказал? Так ты спроси… И он вышел, аккуратно притворив дверь.
Егор возвращался с конной утренней прогулки. Марго шла под ним ровным, упругим шагом именно так, как ему сейчас хотелось. Он вдыхал аромат цветов и трав, перемешанный с пряным запахом конюшен. Особый, ни с чем не сравнимый запах, от которого кружится голова. Впрочем, последние два дня голова его шла кругом не только от аромата любимых мест. Зеленоглазая женщина в полном смысле слова заполнила все его существо, завладела всеми помыслами, то, что называют в народе – вскружила голову. Он готов был отдать ей все свои чувства, все, что накопилось в его душе за долгие годы грязной, жестокой, невыносимо тяжелой мужской работы.
Егор отвел Марго на конюшню, сдал с рук на руки Томке, которая выразительно улыбнулась на букет полевых цветов в его руках.
– А Марина Сергеевна в лаборатории, – тут же доложила она, не дожидаясь вопроса.
– Понятно, – улыбнулся в ответ Егор, и направился к одноэтажному зданию, стоявшему на задворках обширной территории завода.
– Привет Айболиту! – Хижняк распахнул дверь и замер, любуясь своей избранницей. Марина, в белом лабораторном халате, сидела за столом над журналами. Поверх белоснежного хлопка лежал широкий воротник бледно-зеленого платья. Этот цвет удивительно шел ей.
– Господи, какая же ты красивая, – даже как-то сокрушенно произнес он, положив перед нею букет.
Марина подняла на него тяжелый взгляд покрасневших глаз.
– Что случилось? Мариша, что? – он сел рядом, взял ее за руку, но она ее отдернула.
– Ты сотрудник НКВД?
– Да… Тебе Михалыч сказал? Зря он это, я бы и сам мог.
– Что же не сказал?
– Ну. Не до того было. Извини. Позвольте представиться, мадам: старший оперуполномоченный контрразведки майор Хижняк.
Он старался шутить, но уже понял, что произошло что-то непоправимое.
– Уходи, – проронила она.
– Почему? В чем дело? Я не вражеский шпион, я контрразведчик!
– А моего отца, как вражеского шпиона, такие вот контрразведчики отправили в лагерь, и он там погиб! Честный, чистый человек, преданный Родине погиб из-за таких, как ты! – Горло перехватил спазм, и она продолжала почти шепотом: – Мать каждый день ждет ареста, кричит по ночам во сне! Мы обе этого ждем!
– Марина. Марина, мне очень жаль, что все так произошло с твоими близкими, – подыскивая нужные слова, медленно заговорил Егор, – но я в этом не виноват! У меня совсем другие задачи были. Мы шпионов ловили, – ласково, как маленькой, старался он втолковать ей смысл своих слов.
– Вот-вот, шпионов! И отца в шпионаже обвинили. Его, селекционера, который выводил новые сорта зерновых, человека самой мирной профессии – его обвинили в том, что он сотрудничает с иностранными разведками! И он признался в этом, понимаешь?! Это какими же методами у вас заставляют честных людей себя оговаривать? Может, расскажешь?
– Марина… Мариночка… – беспомощно твердил Егор.
– Все кончено! Все между нами кончено. Я полюбила Егора Хижняка, прекрасного наездника, любимца Степана Михайловича. А с человеком, который служит в «органах», ничего общего у меня быть не может! Я даже домой тебя пригласить не могу, не могу с мамой познакомить! – выкрикнула она.
– Постой, не руби с плеча! Не каждый день такие встречи происходят. То, что между нами возникло. Это же дар судьбы, как ты не поймешь?! Как же ты так.
– Так!!! Ошиблась, бывает. Кто ж знал, что ты людей мучил? На лбу не написано.
– А это ты брось! – рассвирепел Егор. – Крови на мне много, – это правда! Так на всех, кто воевал, она есть! Вас всех, тебя в том числе, защищали, между прочим!
– Спасибо за защиту! От таких защитников в каждой второй семье горе!
– Э-эх! Что ты понимаешь, соплячка. Что ты понимаешь в мужской жизни? Кто дал тебе право судить меня? Я ни разу своей честью не поступился! И нет на мне невинной жизни ни одной! И никто не может заставить меня сделать что-либо против совести. И никто, кроме боевых товарищей, не имеет права судить меня! Ладно, прощай! – Егор хлопнул дверью.
В окно было видно, как шел он, размахивая руками, быстрыми шагами сокращая расстояние до березовой рощи. Марина смотрела ему вслед и беззвучно рыдала.
Хижняк ходил по комнате, собирая вещмешок. В этой комнате, где он часто оставался до войны на ночь, а то и на день-другой – если задерживался допоздна на заводе или перед скачками, когда нужно было находиться возле лошадей неотлучно, – в этой комнате, как оказалось, сохранилось много милых мелочей. Несколько книжек, открытки, любительские фотографии, хлыст, защитные очки, секундомер, даже наездничья куртка. Он взял в руки секундомер, щелкая кнопкой по привычке наездника. Стрелка то стремительно неслась по кругу, то останавливалась как вкопанная. Вот так и его счастье – стремительно неслось, завертев его в сладком водовороте, и остановилось, как не было.
Он побросал кое-что из мелочей в мешок, последним взглядом окинул комнату и вышел.
Хватит, расслабился здесь среди цветочков. Пора и честь знать.
Получалось, что возвращается он на полсуток раньше, но это ничего. Раньше – не позже.
Он вышел на темную уже улицу, быстро пошел к остановке. Если трамвая не будет, поймаю попутку, думал он, закуривая. Недалеко от остановки Хижняк остановился, привлеченный какими-то сдавленными звуками. Звуки, – кажется, это был придушенный женский крик, – раздавались из ближайшей подворотни.
Не мешкая, он отшвырнул окурок и бесшумно скользнул в арку.
У стены, ведущей в глубину двора, три мужские фигуры возились возле «распятой» вдоль нее женщины в светлом платье. Двое удерживали ее раскинутые в стороны руки. Третий, очевидно главный, тесно прижавшись к жертве, задирал подол платья. Другая его рука сжимала горло девушки. Жертва отчаянно сопротивлялась, но силы были явно неравны.
Все трое были так увлечены происходящим, что не заметили, как подкрался Егор, и завопили лишь тогда, когда он сильным ударом сзади, чуть правее макушки приплюснутого затылка, свалил главаря с ног.
– Бегите, – приказал Егор женщине, глядя не на нее, а на двоих жилистых парней с совершенно бандитскими рожами. У обоих в руках уже блестели лезвия ножей.
Женщина бросилась вон, и он слышал ее крик:
– Милиция! Помогите! Убивают!
Мгновенно разметав в прыжке обоих противников, выбив ножи, приложив «героев» мордой к стене, бросив обмякшие тела на асфальт, Егор выбежал следом за женщиной, только теперь сообразив, что кричит Марина.
Это действительно была она. Женщина металась по пустой улице и отчаянно звала на помощь. Он тихо позвал ее по имени.
– О господи! Живой! – Она бросилась ему на шею.
– Живой. Чего со мной будет, – он улыбался, гладя ее волосы.
– Пойдем, пойдем отсюда! Эти мерзавцы. Они же убить могут.
Она увлекла его по дорожке в сторону, абсолютно противоположную той, куда направлялся Егор.
Всю ночь они провели на берегу реки, куда водили на водопой табун, где плескались в прохладной, быстрой воде. Внезапная встреча после разрыва, то, что он спас ее от негодяев, которые едва не надругались над нею, – все это показалось обоим чудесным знаком судьбы, которая ну никак не хотела разъединять две эти жизни.
– Какой ты герой! Правда, герой! Один против троих, даже не зная, кого защищаешь.
– Ну если бы знал, убил бы гадов, – смеялся Егор. – Это им крупно повезло, что я тебя в темноте не опознал. Как же тебя занесло туда так поздно? – спрашивал он, гладя ее волосы.
– Я от подруги возвращалась. Вышла из подъезда, а они как раз в подворотню зашли.
– А что же ты у подруги делала? Плакала?
– Нет. То есть, да. Но это не важно.
– Конечно, не важно, любимая моя, девочка моя родная, солнышко мое рыжеволосое. Я не дам тебе больше плакать, – шептал Егор, крепко прижав Марину к себе. – Никому не дам тебя в обиду, никому тебя не отдам, буду беречь тебя, заботиться о тебе. Ты только подожди немножко! Я все решу. Я сам хочу вернуться к нормальной мирной жизни. Подожди еще капельку, и ты сможешь познакомить меня с мамой.
Он говорил, его руки блуждали по ее телу. Гладили шелковистую кожу, ласкали полную грудь расцветшей женщины, стосковавшейся по своему мужчине. Она не сопротивлялась, со сладким стоном отдавалась она его ласкам, которые становились все смелее и смелее.
Страсть захватила их, оба больше не сдерживали себя, оба не могли оторваться друг от друга, насытиться друг другом. Лишь на исходе ночи они раскинулись на траве, едва соприкасаясь обнаженными телами, глядя в небо, которое озарялось предрассветными красками.
Потом, спустя годы, в невыносимо тяжелые минуты, Егор вспоминал эту ночь, это утро – и это воспоминание помогало ему выжить.
14 ИЮНЯ 1940, дорога в Париж
Кортеж из бронеавтомобиля и легковушек сопровождения – трех легких, открытых разведывательных автомашин продвигался по обсаженной деревьями дороге в сторону Парижа. Положив автомат на колени, стройный мужчина лет тридцати пяти, в форме капитана, ел вишни, собранные в саду под Мо. Впереди, за зелеными холмами, их ждала столица Франции. Французы, которые наверняка рассматривали их из-под закрытых ставен своих каменных домов, видели в нем – тут у мужчины не было никаких сомнений – поработителя, изверга, вешателя. Между тем он еще не слышал ни одного выстрела, а война уже закончилась.
Просто удивительно, до чего слаженно прошла вся кампания, думал он. Долгое зимнее ожидание, внезапный (для людей несведущих) бросок через всю Европу – и враг сметен могучим ураганом. Командование все продумало до мелочей, вплоть до таблеток соли и тюбиков сальварсана – незаменимого средства от «французской» болезни.
И все сработало как часы. Припасы, карты, воду войска получали там, где и намечалось. Сила вражеской армии и потенциал ее сопротивления оказывались точно такими, как и было предсказано. Дорожное покрытие в точности соответствовало пометкам на картах.
И в том, что ход операции был подготовлен столь тщательно, он ощущал и свою, особую, мало кому известную роль. Только немцы, с гордостью говорил он себе, вспоминая лавину людей и военной техники, могли столь идеально провести такую сложную операцию. И только перед немцами складывают оружие целые армии, мысленно добавил он.
Три передних автомобиля, четко соблюдая установленную приказом дистанцию, мчались по мирной, залитой солнцем сельской местности, совершенно пустынной, если не считать редких коров, кур да уток. Казалось, все жители этих мест решили устроить себе выходной и отправились в соседний городок на ярмарку.
Передняя, открытая автомашина кортежа завернула за угол, и до бронеавтомобиля неожиданно донесся звук выстрелов и визг тормозов. В первую секунду офицер не поверил своим ушам – настолько не вязались эти звуки с окружающей их пасторалью. Но уже в следующее мгновение две автоматные очереди снова разрезали мирную полуденную тишину.
– Остановиться! – рявкнул офицер. – Всем рассыпаться, скрыться за машинами!
Он уже выскочил из машины и присел за капотом, держа пальцы на спусковом крючке автомата. Засада! Это была засада. Он оглянулся на бронемашину. Военный фотокорреспондент, Ганс Тауб, которого навязали ему в штабе, выбирался из нее, неуклюже размахивая автоматом. От этого деятеля будет больше вреда, чем пользы. И офицер жестами загнал фотографа назад и приказал залечь под сиденьем автомашины. Что тот немедленно и проделал.
Капитан прислушивался, но никаких звуков слышно не было. Метнувшись к деревьям, мужчина прокрался вперед, ожидая выстрелов из-за каждого куста. Но он благополучно достиг поворота и увидел, что первый автомобиль стоит перед самодельной, наспех сооруженной баррикадой из нескольких срубленных деревьев и поваленных на них нескольких телег. Место было выбрано весьма удачно: преграда перегораживала дорогу там, где обочины сбегали вниз крутыми, покрытыми короткой травой склонами. Обойти или, тем более, объехать ее возможности не представлялось. Кроме того, по бокам росли два могучих дерева, смыкаясь над баррикадой густыми кронами, скрывая сооружение от разведывательных самолетов. Обнаружить баррикаду можно было, лишь наткнувшись на нее. Все это он отметил мгновенно, и переключился на своих солдат.
Они, облепив автомобиль, прятались за его бортами. В машине, с залитой кровью головой, сидел, откинувшись назад, только один человек – водитель. Он был без каски, за что и поплатился, мысленно чертыхнулся офицер.
Он тщательно осматривал кусты, деревья, что окружали их. Если это опытные диверсанты, они должны были растянуться цепочкой в кустах по обеим сторонам дороги, обойти их с флангов. И в этом случае уже давно уничтожили бы перекрестным огнем всю их группу. Следовательно, это были какие-то недоумки, несмотря на хитроумно устроенную ловушку. Оценивая ситуацию, он присел, беря на прицел баррикаду, и прошелся длинной очередью вдоль всего этого нелепого сооружения. Поначалу никаких видимых изменений не произошло. Кроме того, что солдаты увидели своего командира и приободрились. И тут на правом фланге баррикады он увидел два дула, которые высунулись в щель между ветвями поваленных деревьев.
– Огонь на правый фланг, – громко приказал он.
Сплошная очередь нескольких автоматов слилась в один зловещий смертоносный грохот.
Ответа с той стороны не было. Офицер оглянулся назад. Солдаты из трех оставшихся за поворотом машин подтянулись к ним, сгруппировались по обочинам дороги, глядя на командира, ожидая приказа.
Он поднялся во весь рост, жестом приказав подчиненным следовать за ним, и, держа автомат у пояса, открыл сплошной огонь по позиции противника. Семеро рослых, крепких арийских парней буквально в щепки разнесли всю сваленную на дороге дребедень, удовлетворенно отметил офицер, любуясь отточенными до автоматизма действиями солдат. За преградой были обнаружены трупы трех французов, все трое – почти мальчишки, лет по шест-надцать-семнадцать.
Все неприятности на войне от непрофессионалов, думал офицер, пока солдаты оттаскивали трупы и разбирали завалы. Рядом суетился корреспондент, непрерывно щелкая фотоаппаратом.
Потом они выкопали могилу, похоронили погибшего водителя, он прочел короткую молитву и произнес обязательные в таких случаях слова. Они пометили захоронение на карте, и расселись по машинам. Место погибшего занял сержант Кристиан Богель, смышленый, расторопный, храбрый парень, которого офицер явно выделял среди других. Водители включили первую передачу и осторожно миновали расчищенный участок дороги, затем набрали скорость и выскочили из-под сени деревьев.
Теперь они ехали меж широких, зеленеющих полей и могли не опасаться ни засады, ни снайперов. Впереди, у подножия пологого холма, лежал небольшой городок. Россыпь аккуратных трехэтажных домов и шпили двух средневековых церквей. По мере того как они приближались, дома не казались уже столь аккуратными и милыми. Облупленная краска и штукатурка, пыльные окна, резкий неприятный запах. «Боже мой! Сколько раз я слышал, что французы – великая нация. А это всего лишь грязнули», – брезгливо думал он.
Поворот дороги вывел кортеж на центральную площадь. На ступеньках церкви стояли женщины. Пожилые мужчины заняли столики открытого кафе, откуда доносился упоительный запах молотого кофе.
Да они здесь живут как ни в чем не бывало, поразился офицер. Будто нет никакой войны. Будто это не завоеватели шагнули на их землю. Потрясающе!
– Господин капитан! Давайте сделаем остановку. Я хотел бы произвести несколько снимков: солдаты рейха с мирными жителями, – возбужденно проговорил Тауб. Толстый, неуклюжий, он уже оправился от пережитого в засаде ужаса и зачарованно смотрел на молодых девушек, стоявших на ступенях церкви. – К тому же у меня отличный французский, я могу быть переводчиком.
Офицер усмехнулся, дал знак водителю. Тот клаксоном дал команду остановиться остальным машинам. К ним подбежал сержант Богель из первой машины сопровождения.
– Господин капитан, разрешите побеседовать с населением? – так же возбужденно проговорил он.
– Валяйте, – улыбнулся тот, открыв ручкой окно автомобиля. – Тауб переведет.
– Да я и сам немного говорю по-французски, – похвастался Богель.
Богель и Тауб подошли к ступеням церкви. Одна из девушек, темноволосая, пышнотелая, в белой блузке с глубоким вырезом, держала букет цветов и улыбалась. Две ее подруги выжидательно смотрели на мужчин.
– Bonjour, Mesdemoiselles, – снимая каску, склонил голову Богель.
– Как хорошо он говорит, – удивленно обернулась девушка к товаркам.
– А я еще лучше, – тут же по-французски вступил в разговор Тауб. – Скажите, красавицы, через ваш город проходили наши войска?
– Нет, здесь давно никого нет. Все нас бросили… так что вы – первые. Вы ведь не сделаете нам ничего дурного? – кокетливо улыбнулась она.
– Никогда! Война кончена! Разве может арийский солдат обидеть столь прекрасные создания?
Девушки переглянулись, заулыбались.
– Вы позволите мне сделать пару снимков? Мирное население приветствует воинов-освободителей!
– Конечно! – Улыбки девушек становились все откровеннее.
– Сержант, встаньте рядом с темноволосой красавицей. Вот так!
Девушка, призывно улыбаясь красавчику сержанту, протянула ему букет.
– Прекрасно! – вскричал Тауб, наводя фотоаппарат. – Это будут оглушительные снимки!
Офицер смотрел из окна машины на эту сцену с презрительным удивлением. Вот тебе и вольнолюбивые французы. Темноволосая, с букетом, все поводит плечами и в глубоком вырезе колышется полная грудь. Да и подруги не отстают, пожирают Богеля похотливыми глазами. Эти три девицы готовы отдаться чуть ли не на ступенях церкви. Боже мой, какая гадость.
Он хотел уже дать команду ехать, когда увидел, что от кафе к церкви спешит, опираясь на палку, высокий худой старик. И офицер с интересом стал ожидать развития событий. Съемка была закончена, Тауб зачехлил фотоаппарат, девица, отчаянно стреляя глазами, протянула цветы сержанту со словами: «Это вам!» Тот принял букет, широко улыбаясь, не сводя помутневшего от желаний взора с ее прелестей, колыхавшихся в глубоком декольте.
И тут удар палки выбил цветы из рук Богеля. Тот обернулся, увидев старика, схватился за пистолет. Старик стоял прямо, горящим ненавистью взглядом прошивая девиц. На направленный на него ствол оружия он не обращал никакого внимания. Сержант перевел вопросительный взгляд на сидящего в машине офицера, но тот сделал запрещающий жест. Богель убрал оружие.
– Проститутки! Шлюхи! – кричал старик. – Отчего бы вам не задрать юбки и не подставить толстые зады прямо здесь и сейчас? Ваши браться гибнут от рук бошей, а вы готовы отдаться первому же из них. Грязные, подлые шлюхи!
Девушки замолчали. Старик круто развернулся и направился назад к кафе. Богель все же не мог не отреагировать. Он поднял камень, швырнул вслед, но попал в витрину кафе. Стекла с грохотом посыпались вниз. Старик даже не обернулся.
– По машинам, – скомандовал офицер.
Настроение его явно улучшилось.
Когда они подъехали к огромной, побуревшей от времени, украшенной скульптурами арке ворот Сен-Дени, оказалось, что просторная площадь забита бронеавтомобилями и солдатами в серой форме. Солдаты лежали и сидели на асфальте, завтракали возле развернутых здесь же на площади полевых кухонь. Войска расположились так вольготно, будто находились на площади баварского городка, готовясь к параду по случаю какого-нибудь праздника.
Автомобили медленно продвигались к подножию монумента. Когда они добрались наконец до цели, капитан дал команду остановиться. Именно здесь была назначена встреча. Офицер закурил, глядя, как его солдаты выпрыгивали из машин, сливались с густой солдатской массой. Фотограф щелкал фотоаппаратом; то тут, то там яркие вспышки озаряли мужские лица. Одетый в военную форму, с черной кобурой на ремне, Тауб все равно казался банковским служащим, клерком, проводящим в Париже отпуск. Майор отметил, что фотографирует Тауб не всех подряд, выбирая высоких, ладно скроенных голубоглазых блондинов, преимущественно сержантов и ефрейторов.
Фотографии должны были символизировать красоту и мощь немецкой армии, объяснял он. Возле бронеавтомобиля остановился солдат, вежливо обратился к офицеру.
– Господин капитан, не угостите сигаретой солдата в честь взятия Парижа?
Капитан кинул короткий, внимательный взгляд на мужчину и ответил:
– Я не угощаю солдат. Разве что в честь взятия Парижа.
Их разговор никто не слышал: подчиненные капитана слились с плотной, ликующей людской массой. Капитан достал портсигар, протянул просителю. Движения пальцев – и на дно портсигара опустился скрученный в тугую трубочку бумажный листок.
– Благодарю, господин капитан!
Солдат отошел, затягиваясь. Капитан так же неуловимо быстро развернул клочок бумаги, пробежал глазами текст, защелкнул портсигар и развернул карту Парижа.
Отщелкав пленку до конца, Тауб вернулся к машине.
– Я должен доставить пленки к площади у оперного театра, – сообщил он. – Там собирают всех фотокорреспондентов. Фотопленки самолетом отправят в Берлин.
– Я поеду с вами, – обронил офицер. – Нас расквартируют в том же районе, так что заодно подыщем подходящее жилье. Подождем чуть-чуть: Богель встретил земляка. Я дал ему десять минут.
– Хорошо, время есть! – Фотограф облокотился на борт машины и мечтательно заговорил: – А ведь я был здесь прошлым летом. Тогда на мне были шоколадного цвета пиджак и серые фланелевые брюки. Меня принимали за англичанина, и все были со мной очень милы. Вот там, за углом, есть очаровательный ресторанчик, я приезжал туда на такси с черноволосой красоткой. Помню, она была в темно-синем платье, таком, знаете ли, скромном, закрытом, как у монашенки. Глядя на нее, не верилось, что какой-нибудь час тому назад она расточала мне такие разнузданные, изощренные ласки, какие только можно вообразить. и я знал, что из ресторана мы вернемся в мой номер, и она снова будет ублажать меня. О, француженки. – промычал он, прикрыв глаза.
– Очнитесь, Тауб, вы на войне, – сухо заметил капитан, но тут же добавил уже мягче: – Я устрою вам встречу с прошлым. Де жа вю.
К автомобилю спешил улыбающийся, радостно-взволнованный сержант Богель. Он занял место водителя.
– Как прошла встреча? – поинтересовался офицер.
– Хорошо. Спасибо, господин капитан, что позволили мне отлучиться. Узнал, что мать и отец живы-здоровы. Сестра подвернула ногу, но сейчас уже поправляется. В целом, дома все хорошо.
– Вот и хорошо, – машинально ответил офицер, думая о чем-то своем. – Тауб, садитесь в машину. Ну, вперед, Богель, к площади Опера!
Пока они, сверяясь с картой, продвигались по улицам, Тауб взял на себя роль развеселого гида, показывая то театр-кабаре, в котором он видел танцующую нагишом чернокожую американку-танцовщицу, то лучший, по его мнению, публичный дом Парижа. Капитан устал от его назойливой болтовни и уже хотел приказать фотографу заткнуться, но они уже достигли цели.
Площадь перед знаменитым оперным театром, ступени театра, пространство между колоннами, – все было заполнено немецкими солдатами. Тауб скрылся в одном из зданий, выходящих фасадом на площадь; лейтенант и сержант Богель любовались величественным, увенчанным куполом, зданием.
– Вы бывали раньше в Париже, Богель? – осведомился офицер.
– Нет, господин капитан! – отрапортовал сержант и добавил: – Ни я, никто из моей семьи. Мой дядя в 1914 году дошел до Марны, но в Париж не попал.
– Марна. Сегодня мы переправились через нее за пять минут, – задумчиво изрек капитан и с тихой гордостью добавил: – Великий день! Пройдут годы, а мы будем оглядываться назад и говорить: «Мы были там на заре новой эры!»
– Так точно, господин капитан! – гаркнул Богель.
Капитан поморщился: он не любил громогласного выражения патриотических чувств. Любовь к Родине – это интимно, почти как любовь к женщине.
Когда Тауб вернулся, офицер приказал Богелю проследовать на одну из улочек, выходящих на площадь узкой, темной расщелиной.
– В такой день… день сражения на подступах к Парижу, – с легкой иронией, вспоминая перестрелку у баррикады, начал капитан, – в день взятия Парижа. Я думаю, мы заслужили отдых, можем расслабиться на часок. Бо-гель! Остановите возле третьего от угла дома, напротив ресторана.
Ресторан был открыт, его высокие окна смотрели на немцев ярким свечением множества ламп. Машина замерла, офицер вышел, каблуки его с силой впечатались в мостовую, гулкое эхо прокатилось по узкой улочке. Он резко дернул веревку звонка, и, чуть погодя, дверь открылась. Капитан исчез внутри здания, оставив Тауба и Богеля в машине.
– Где это мы? – спросил Богель.
– По-моему, это публичный дом, – хохотнул Тауб. – Ай да капитан! А я-то думал, он типичный сухарь, военная косточка. Оказывается, ничто человеческое. Сейчас нас угостят французскими проститутками. Надеюсь, отменного качества. Ты пробовал француженок, Богель? Нет? Может, ты вообще девственник? О, ты покраснел, – расхохотался Тауб. – Ладно, не смущайся. Но каков наш капитан?! Настоящий командир не успокоится, пока его солдаты не получат все необходимое, – радостно трещал Тауб в предвкушении удовольствий.
Дверь заведения снова открылась, капитан махнул рукой. Фотограф и сержант быстро проследовали внутрь.
Просторный вестибюль и широкая лестница, уводящая на второй этаж, были освещены мавританскими фонарями. Они поднялись в бар – крошечную комнату с занавешенными гобеленами окнами. За стойкой бара возвышалась крупная женщина с ярко накрашенными глазами.
– Тауб, спросите шампанского и девочек, – приказал лейтенант.
Тауб радостно застрекотал по-французски, Богель смущенно оглядывался. Капитан, сняв перчатки, рассеянно постукивал ими по стойке бара.
Комнату заполнили женщины, полетели вверх пробки шампанского, немецкая речь перемежалась французской. Капитан следил, чтобы подчиненные пили; постукивая ногтем по циферблату часов, напоминал, что время ограничено. Под общий хохот красного как рак Богеля увлекла за собой крупная, грудастая блондинка. Тауб выбрал худенькую темноволосую девушку, похожую на мальчика. Капитан все как бы приглядывался и не мог сделать выбор. Когда сержант и фотограф исчезли, он бросил на стойку пачку купюр и сказал хозяйке на очень приличном французском:
– Мне придется уйти. Мои люди должны быть на площади Опера через час.
Женщина кивнула.
Капитан покинул заведение, перешел дорогу, зашел в ресторан. На ярко освещенной эстраде пела женщина. Она была белокура, хороша собой, и голос у нее был приятного тембра. Но внимание офицера было приковано не к певичке, а к темноволосой девушке-аккомпаниатору. Ближайший к эстраде столик был свободен, он занял его, бросил перчатки на стол и попросил коньяка. Тонкие пальцы девушки мягко скользили по клавишам, а из глаз лились слезы…
Он наблюдал за ней, пока она не обернулась, почувствовав чей-то пристальный взгляд. Увидев офицера, она побледнела, руки задрожали, и девушка едва смогла справиться со своей партией. Тут же выскочил конферансье, затараторил что-то веселое. Певичка покинула сцену. Девушка поднялась и, не глядя на публику, ушла за кулисы.
Когда она вошла в свою грим-уборную, капитан сидел в ее кресле, заложив ногу на ногу.
– Здравствуй! – произнес он по-русски, встал, подошел к дрожавшей девушке и влепил ей пощечину. Удар был таким сильным, что она едва не упала.
– Что такое? Ты дрожишь? Почему ты так напряжена? – с плохо разыгранным удивлением спросил он.
– Нет, ничего, – глухо отозвалась девушка.
– Так уж и ничего? – усмехнулся он. – У меня другие сведения. Собирайся. Здесь твоя миссия закончена. Ночью за тобой заедут.
– Куда теперь? – коротко спросила женщина.
– Узнаешь, – коротко ответил офицер. – Вечером я зайду.
Он попытался обнять ее жестом человека, имеющего все права на эту женщину. Но она резко отстранилась.
– Значит, все, что мне сообщили – правда! – холодно усмехнулся он.
– Меня ждут на сцене, – глухо ответила она, припудривая лицо.
ИЮНЬ 1945, Москва
– Ну привет, братишка! Как я рад тебя видеть! – Олег Сташевич разглядывал худое до крайности, постаревшее лицо двоюродного брата.
Брат Николай, доктор наук, приехал из Ленинграда, где заведовал лабораторией в очень известном медицинском научно-исследовательском институте. Он был пятнадцатью годами старше Олега, но всегда казался ребенком вследствие необычайной даже для ученого рассеянности, забывчивости и общей неприспособленности к жизни. Сегодня утром Олег встретил его на Ленинградском вокзале – брат приехал в командировку. Вместе с шумной толпой пассажиров они пробирались к выходу на площадь, и Олег удивлялся про себя обилию безруких, а чаще безногих калек на самопальных платформах-каталках. Инвалиды просили на опохмел, и делали это довольно бесцеремонно. Николай, типичный интеллигент в очках, немедленно стал объектом нападения. Наметанный глаз инвалидов сразу увидел в нем существо безответное и безотказное. Николай краснел, совал деньги в дрожащие руки, и подвергался еще более активной атаке других страждущих.
Олегу это в конце концов надоело. Он наклонился, что-то шепнул ближайшему калеке, и через мгновение пространство вокруг них опустело.
– Что ты ему сказал? – удивился Николай.
– Не важно. Важен результат.
– Все-таки у нас в Ленинграде этого нет. На вокзалах не попрошайничают, – не преминул заметить Николай.
– А ты часто на вокзалах бываешь? – усмехнулся Олег.
– Честно говоря, нет, – смутился брат. – Но вчера вечером, когда уезжал, ни одного не видел.
– Вечерами они уже пьяные лежат, – заметил Олег. – Жаль мужиков, пропадают, – вздохнул он.
Сташевич отвез брата к себе, в коммунальную квартиру на Кропоткинской. Они выпили чаю в большой, метров тридцати, комнате Олега. Брат посмотрел на фотографию молодой женщины, стоявшую на письменном столе.
– О Наташе ничего? – осторожно спросил он.
– Ничего нового. Как ушла медсестрой в сорок первом, так и все. Два письма получил в сорок первом же, и больше ничего.
– Найдется! – стараясь, чтобы голос его звучал уверенно, произнес Николай. – Знаешь, каких только чудес не бывает.
– Знаю, чудеса бывают, – кивнул Олег, обрывая разговор.
Ему ни с кем не хотелось обсуждать больную тему… Пропавшая невеста… Убитая? Искалеченная? Просто забывшая его за четыре военных года? Он ничего не знал о ней. Родители Наташи были эвакуированы – ее отец занимал видное положение в Министерстве тяжелого машиностроения. А сама она, только что закончившая десятилетку, вместе со всем классом рванула на фронт. Адрес родителей затерялся, других родственников он не знал. И он, до той поры, пока не сможет отыскать ее или узнать о ней что-либо, запретил себе и говорить на эту тему.
Николай отправился по делам, а ближе к вечеру они встретились в центре, и Олег повел его в пивную «Есенинская», расположенную под Лубянским пассажем. Оказалось, что заведение благополучно пережило военные годы и открылось вновь. Зал был полон. Преобладали военные в обмундировании самых разных родов войск. Воздух был насыщен пивными парами и густым папиросным дымом, который плавал под низкими, сводчатыми потолками. В дальнем углу нашелся свободный столик на двоих, братья заняли его, и перед ними тотчас возникли две тарелочки с обязательной закуской: подсоленные сухарики, моченый горошек, ломтик жирной ветчины.
Олег заказывал пиво и увидел краем глаза, как жадно схватил брат ржаной сухарик, с каким наслаждением принялся сосать его, прикрыв глаза.
– Извини, – опомнился Николай. – Знаешь, блокада.
– Ну да, понимаю, – кивнул Олег, отводя глаза.
– Ничего ты не понимаешь! Кто это не пережил, тот не поймет! Я осень сорок первого никогда не забуду… Я с Га-шенином работал. Крупнейший патологоанатом. Со второго сентября по двадцатое ноября было пять снижений норм выдачи хлеба. И началось. В прозекторскую свозили трупы. Мы их регистрировали, выдавали свидетельства о смерти. Сначала привозили десятками в день. Потом сотнями. Доходило до тысячи. Вскрываем – сплошь дистрофики. Жира нет нигде – ну это понятно. Но органы, органы! Голод съедал их! Печень, потерявшая две трети своего веса. Сердце, потерявшее более трети своей массы! Селезенка уменьшается в несколько раз! Элементарная дистрофия. Ты понимаешь, что это? Человек уже получает почти нормальный рацион. А организм не усваивает – ни одна из систем не в состоянии функционировать, переваривать и усваивать пищу. Организм сам себя съел! Это ужасно. Это необратимо.
– Ты-то как? – спросил потрясенный Олег.
– Я-то ничего. Наш институт работал все это время. А мы, сотрудники, находились на казарменном положении. Это помогло выжить. Силы экономило – не надо ходить на работу, да и меньше опасности попасть под артобстрел. Вечера проводили вместе, это тоже помогало. Все друг друга морально поддерживали. И даже вакцину новую сделали!
– Какую же?
– Против сыпняка!
Николай с упоением начал рассказывать, как ученые вскармливали на себе (он так и сказал!) насекомых, заражали мышей, готовили вакцину, которая спасла тысячи и тысячи жизней.
«И об этом нужно будет сделать фильм! О Ленинградской блокаде. Жесткий, правдивый, откровенный!» – думал Олег, глядя на возбужденное, с горящими глазами лицо старшего брата.
Пивные кружки в шапках пены стояли на столе, а Николай все рассказывал и рассказывал. Наконец он остановился.
– Извини, я тебя заговорил. Ты-то как?
– Да все путем, – отозвался Сташевич.
– Демобилизовался? Как киностудия? Был там? – Николай засыпал его вопросами.
– Киностудия функционирует. И очень даже активно… Я туда днем заходил. Снимают, понимаешь… У меня аж руки зачесались.
– Так в чем дело? Ты ведь у нас один из талантливейших! Господи, какое счастье, что война кончилась! Теперь работать и работать! – с энтузиазмом воскликнул Николай.
– Ну, для кого кончилась, а для кого – еще нет, – тихо заметил Олег, прихлебывая пиво. – Я ведь в увольнительной, братишка. Завтра утром возвращаюсь в часть.
– В какую часть? Капитуляция же…
– В целом, да. Но в отдельных аспектах – нет, – замысловато ответил Олег и перевел разговор на питерскую родню.
В то время как Сташевич пил пиво в подземных лабиринтах Лубянской площади (о чем узнал я, конечно, позже), так вот, когда Олежка пьянствовал со своим ученым родственником, я направлялся к известному зданию на той же площади. Одет я был по форме, звездочки блестели на погонах. Что касается боевых наград, я решил не бряцать орденами и медалями, а ограничиться орденской планкой.
Предъявив документы, я поднялся по лестнице на третий этаж, где располагалось Главное управление контрразведки Смерш. Длинный коридор заворачивал под прямым углом вправо, там, в боковом крыле здания, располагался наш третий отдел.
А вот и массивная дубовая дверь с замысловатой надписью: «Начальник БДАП». Какой-то умник зашифровал в этой идиотской аббревиатуре название нашего подразделения – «отдел по борьбе с диверсантами и агентурной сетью противника». Одернув китель, я вошел в приемную, где молодой лейтенант с идеальным пробором на блестящих черных волосах сообщил через местную связь о прибытии капитана Хижняка. Томиться в приемной не пришлось – через минуту я предстал пред светлы очи своего прямого начальника – полковника Игнатьева.
Игнатьеву – полтинник с хвостиком. Профессиональный военный, ученик Блюхера, о чем, ясное дело, полагалось забыть. Но Игнатьев не забывал, а в тесном, доверенном кругу всегда воздавал должное военному таланту учителя. Короче, полковник мужик порядочный, в чем я убеждался неоднократно. А уж как у него котелок варит. на несколько других хватит.
– Товарищ полковник! Капитан Хижняк по вашему распоряжению прибыл, – по форме отчеканил я, зная, что сейчас Игнатьев махнет рукой – кончай, дескать, трепыхаться, расслабься, парень!
И точно: Игнатьев поморщился и сделал приглашающий жест к обширному письменному столу.
– Садись, капитан! Рад тебя видеть! Чай будешь? – прогудел он басом и, не дожидаясь ответа, затребовал два стакана чая.
Пока лейтенант организовывал чай, Игнатьев встал из-за стола, чуть потянулся своим могучим торсом и принялся вышагивать по мягкому ковру. Прямо-таки по примеру «отца народов», хмыкнул я про себя. Но это так, без злобы. Игнатьева мы, чистильщики, любили.