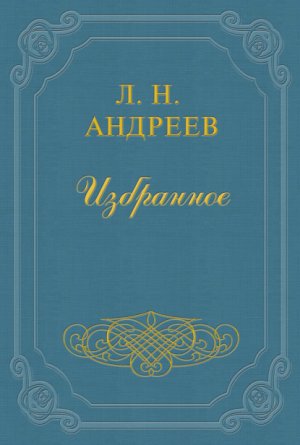
Действующие лица
Старый студент.
Курсистки:
Дина Штерн
Лиля
Онучина
Онуфрий
Стамескин
Тенор
Студенты:
Блохин
Костик
Кочетов
Петровский
Козлов
Гриневич
Панкратьев
Капитон-слуга.
Студенты и курсистки.
Первое действие
Еще при закрытом занавесе хор молодых мужских и женских голосов поет громко, уверенно и сильно:
Занавес открывается. На сцене квартира Дины Штерн – богато обставленная гостиная; в открытую дверь видна столовая с сервированным столом. Много картин, цветы. У рояля, под аккомпанемент Дины Штерн, собравшись кружком, поют студенты и курсистки, все земляки-стародубовцы. Дирижирует Тенор. Только двое сидят в стороне: Стамескин и Онучина.
Песня кончается:
Тенор. Баста! Скверно! Больше дирижировать не стану. Блохин врет. Ты, Костя, мычишь, как пьяный факельщик. Нужно дать молодость, утверждение радости, высокий восторг… gaudeamus igitur, juvenes dum sumus!.. Вы слышите: точно золотые гвозди вколачиваются в стену, а вы что делаете? Поете, как нищие на паперти. (Передразнивает.) Hu-u-mus!..
Петровский. Да врешь, Тенор. Ей-Богу, хорошо! Gaudeamus…
Тенор. (презрительно). Молчи, салопница!
Лиля. Ах, нет! Так хорошо, это такая прекрасная песня. Я только не все слова понимаю. Онуфрий Николаевич, что значит гумус?
Онуфрий. Земля. Мать сыра земля.
Костик-председатель. Это значит: сколько вы ни вертитесь, а всех возьмет земля…
Тенор. Поэтому и нужно радоваться, а не скулить, как слепым щенкам в помойной яме!
Козлов. Верно!
Костик. Да ты не сердись, Тенор, пели, как Бог дал, не хуже других. А ты вот отчего сам не поешь: голоса для товарищей жалеешь? Ты не жалей.
Дина. Вы слишком требовательны, Александр Александрович. Пели, как мне кажется, очень хорошо, но было бы, конечно, еще лучше, если бы вы помогли нам. Спойте!
Козлов. Пой, Тенор!
Тенор. Ха-ха-ха! Нет, я еще не умею петь.
Блохин. Не жалей голоса, Тенор, от упражнения голос крепнет.
Онуфрий. Молчи, Сережа. А то они вспомнят, что ты тоже пел… нехорошо тебе будет, Сережа.
Костик. Господа, Блохин выдумал новый фокус: становится под моим голосом, так что вам его не слышно, а мне мешает. Зудит, как комар.
Блохин (сердито). Пошли к черту! (Смех.)
Козлов. А по моему мнению, раз Тенор не хочет петь, так его из хора выдворить. Найдем другого дирижера, эка! Забрал себе в теноровую башку, что голосом он покорит весь мир, и трясется от страха.
Тенор. И покорю!
Козлов. Словно баба над лукошком с яйцами – ах, как бы не разбить! Не пьет, не курит и не ест, как люди добрые, а… питается! Встретил я его вчера на Никитской, спрашиваю – молчит и мотает головой. Да ты что, Тенор? Молчит. Думаю, с ума сошел наш Тенор, а он вдруг шепотом: простуды боюсь, сыро. Экая верзила гнусная!
Дина. Но ведь это правда, Козлов, голос – очень хрупкая вещь: его необходимо беречь.
Козлов. Беречь? Тогда ну его к черту! – не желаю быть сторожем собственного голоса. Экое сокровище, подумаешь! Вот у меня голос, как…
Тенор. Ха-ха-ха! Как у козла! И потому твоя фамилия Козлов.
Козлов. Правильно, именно как у козла. А я вот, слава Тебе Господи, всю жизнь пел и буду петь назло всем моим врагам.
Онуфрий. И на радость друзьям. Великодушный ты, Козлик, человек! (Указывая на рогатый, странной формы стул.) Дина, можно сесть на этом келькшозе? У него очень загадочный и даже враждебный вид – может быть, он не любит, чтобы на нем сидели?
Дина. (смущаясь). Конечно, можно… какие пустяки!
Онуфрий. А он не рассердится?
Костик. (мрачно). Очень уж у вас богато, Дина Абрамовна, – на положении вы курсистки и даже землячки, а живете как баронесса.
Дина (краснея). Зовите просто Дина.
Костик. Совсем не по-студенчески! У меня ноги в сапогах, и я все время боюсь, как бы паралич ног не сделался. Родительская квартира?
Дина. Да. Вы не обращайте внимания. (Смущается и смеется ясно и открыто.) Мне и самой неловко… Но это такие пустяки!
Онуфрий. А не выгонят нас родители? Народ это мнительный, вроде теноров. Помнишь, Сережа, как твои родители сперва меня поперли, а потом и тебя поперли?
Дина. Нет, ну что вы! Отца и в городе нет: у него большие дела, и он почти все время в разъезде.
Онуфрий. Это другое дело. Сережа, успокойся.
Дина. Да нет, это все равно, в городе он или уехал. Если бы он и был, так не обратил бы внимания – ему не до того. А мама и сама сюда просилась, но я ее не пустила.
Онуфрий. Отчего же? Тихая старушка?
Дина. Она очень хорошая… и смешная. Пения она, правда, боится, то есть не пения, а дворника. Но это ничего!
Кочетов. А он у вас строгий?
Дина. Кто? Папа?
Кочетов. Нет, дворник, – это важнее.
Лиля (быстро). А у нас в доме такой строгий дворник, такой строгий дворник, что мы вчера с Верочкой два часа звонили – он отворять не хотел.
Петровский. Не слышал, – дворники здоровы спать.
Лиля. Нет, слышал, – мы два часа звонили!
Петровский. Нет, не слышал.
Лиля. Нет, слышал.
Костик. (мрачно). Нет, не слышал.
Блохин. Наверно, не слыхал.
Онуфрий. Конечно, не слышал. Ты как думаешь, Козлов? – скажи откровенно.
Козлов. Куда ему слышать, конечно, не слыхал.
Лиля (сердито). Слышал, слышал, слышал. Вы смеетесь, а это такое свинство с его стороны, – мы с Верочкой продрогли, зуб на зуб попасть не могли. Он нас целый месяц преследует; хочет, чтобы мы ему двугривенный дали, – как же, так вот и дадим! Свинство!
Онуфрий. Гриневич, дай-ка папиросу. Что ты затих совсем? – присядь, потолкуем. Ну как, вышло дело с уроком или нет? Мне его хорошо рекомендовали… Фу, ну и табак же у тебя дрянной!
Гриневич. Дешевый. Спасибо, Онуша, с уроком я устроился…
Тихо разговаривают. Некоторые из студентов осматривают картины. Тенор, как свой в доме человек, показывает, зажигает свет. Слышны восклицания: Левитан! Да что ты! Самодовольный смех Тенора. Дина присаживается к Стамескину.
Дина. Отчего вы не пели, Стамескин? (К Онучиной.) Вы также. Вам не скучно?
Стамескин. Я никогда не скучаю. А если мне становится скучно, я ухожу.
Онучина. Я также. Как у вас пышно, Дина. Вам не мешает эта роскошь? Я бы и одного дня не могла здесь выжить.
Дина. На это можно не смотреть, Онучина. Когда я училась в стародубской гимназии, я жила у бабушки в маленькой комнате, там было очень просто. У меня в комнате и теперь хорошо, и я постоянно бранюсь из-за этого с папой. Он прежде жил очень бедно и теперь хочет, чтобы кругом все было дорогое.
Тенор. Дина, земляки хотят есть.
Лиля. Врет, врет. Это он сам хочет есть! Мы картины смотрим, такая прелесть.
Онуфрий. Земляки хотят пить.
Дина. Простите, я сейчас… Там все готово. Пойдемте в столовую, господа. Кочетов, Петровский… Отчего вы такой неразговорчивый, Гриневич? Я не слышу вашего голоса.
Блохин (Онуфрию тихо). Постой! погляди-ка на стол.
Онуфрий. А что?
Блохин. Водки нет. Все какие-то келькшозы.
Онуфрий. Зрелище мрачное. Ну что же: будем пить келькшозы. Запомни ты мое слово, Сережа: раз оно имеет форму бутылки, его всегда можно пить.
Блохин. А если прованское масло?
Дина. (смущаясь). Прошу в столовую, товарищи. Только я должна вас предупредить: водки у меня не бывает. Вина сколько угодно, а водки я боюсь, это такая ужасная вещь!
Костик. Ну и ладно… Вино так вино.
Кочетов. Да и того бы не надо, одно баловство.
Онуфрий. Ты слышишь? Эх, прошли наши времена, Сережа. Вина! Да и того не надо! До какой низости доводит трезвый ум, а?
Блохин. А Стамескин радуется.
Онуфрий (огорчаясь все больше). Мне наплевать, что у тебя римский нос, у меня у самого греческий… Вина! Что я, лошадь, что ли, чтобы пить вино? От вина подагра бывает.
Тенор. Прошу, господа. Отчего ты мрачен, Костя, улыбнись.
Петровский. Озари мир улыбкой.
Костик. Я не мрачен, у меня вид такой фатальный.
Козлов. Отчего ты мрачен, Костя?
Петровский. Кто тебя, Костя, обидел?
Толкаясь и смеясь, проходят в столовую. Лиля отстает.
Лиля (Дине). Диночка, пожалуйста, не угощайте вином Гриневича, ему очень вредно пить, он становится такой беспокойный. Я уже просила Онуфрия Николаевича и сама буду сидеть рядом, но все-таки.
Дина. Хорошо, Лилечка, я буду смотреть. Иди себе.
Лиля уходит в столовую. Остаются Стамескин, Онучина и Дина, которая уговаривает их пойти закусить.
Дина. Ну, пожалуйста, ну пойдемте. Выпейте хоть стакан чаю.
Стамескин. Нет, не хочу.
Онучина. Я тоже. Идите к гостям, вы такая любезная хозяйка. Они без вас стесняются.
Дина. Ну скушали бы чего-нибудь. Пожалуйста!
Онучина. Нет, нет, идите.
Дина нерешительно уходит.
Онучина. Вы не слыхали, Егор Иванович, говорят, что Дина выходит замуж за этого Тенора. Что это, естественный подбор или просто глупость?
Стамескин. Я не собираю слухов.
Онучина. Я также. Мне не нравится любезность Дины, в ней есть что-то неприятное, кокетливое – Дину портит ее красота. А этот господин… Тенор – возмутительно! Вы знаете, у него сейчас нет урока, и он просит у землячества ссуду – неужели ему дадут?
Стамескин. Нет, не дадут. Мы провалим все ссуды.
Онучина. Неужели все?
Стамескин. Все.
Онучина. Но ведь есть очень бедные земляки, Егор Иванович! Та же Лиля – я знаю, она питается только хлебом да чаем. У нее пальто нет!
Стамескин. Ну и пускай питается хлебом и чаем, это достаточно хорошо. Вы же знаете, что деньги нам нужны на другое.
Онучина. Но, Егор Иванович, не все могут жить так, как вы. Такая жизнь требует страшной выдержки, почти геройства…
Стамескин. Вы опять о героях, Онучина?
Онучина. Разве я так сказала? Я ошиблась, ну не герой, но это все равно. Вы не курите, не пьете чаю, вы почти совсем ничего не едите. Ведь это же невозможно, Егор Иванович, вы должны пожалеть себя, ну, просто как рабочую силу! Паншин рассказывал мне, что вы едите хлеб с рыбьим жиром – что же это такое!
Стамескин (краснея). Это очень питательно и вкусно: напоминает семгу.
Онучина. Ах, Егор Иванович, но вы подумайте!..
Стамескин (сухо). Не довольно ли гастрономии, Онучина! И вы… того, пойдите и выпейте стакан чаю. Вы с утра, кажется, ничего не ели.
Онучина (искренно). Да мне ничего и не хочется!
Стамескин. Пойдите.
Быстро подходит Дина.
Дина. Господа, ну пожалуйста! Мне так неловко: мы там едим, а вы…
Стамескин. Пойдите, Онучина!
Онучина. Я выпью только чаю! Я сейчас!
Дина. Пожалуйста.
Онучина уходит.
Дина. А вы? Какой вы упрямый человек… Я вас немного боюсь. Можно присесть около вас? Вы такой строгий.
Стамескин. Пожалуйста.
Дина. Я так много хотела сказать вам, попросить у вас совета. Как вам нравится наше землячество? Я только еще раз была на собрании, но была так увлечена… и все боялась сделать какую-нибудь неловкость. Они вас уважают, Стамескин, и даже боятся, вы знаете это?
Стамескин. Меня мало интересует их отношение.
Дина. Говорят, что вы и ваша партия хотите разрушить землячество. Неужели это правда? А скажите, Стамескин, как… но только совершенно искренно: как вы относитесь к Александру Александровичу? Ну вот этот, Тенор?
Стамескин. Он мне не нравится.
Дина. (волнуясь). Ах, нет, он удивительный человек! Вы слыхали, что он отказался петь? – и он всегда так. Он ведет жизнь аскета, у него железный характер… Вы смеетесь?
Стамескин (смеется слегка в нос). В огне железо быстро деформируется, Дина: при шестистах градусах железные балки уже сгибаются, и все падает. Он карьерист.
Дина. Ну что вы! Вы его совсем не знаете!
Стамескин. Увидите.
Дина. Это неправда. Вы знаете, Стамескин, он из воспитательного дома, у него нет ни родных, ни друзей, и он сам добыл для себя все. Если бы вы знали его жизнь! Это не жизнь, а целая история лишений, подвижничества, страданий… Правда, он иногда кажется странным… Идут – потом…
Онучина (подходя). Там невозможно сидеть! Этот ваш Онуфрий Николаевич говорит невозможные пошлости, и вместо того, чтобы попросить его замолчать – они смеются.
Студенты один за другим выходят из столовой.
Тенор. (кричит). Дина, спасибо! Насытились.
Лиля. Ах, Диночка, Тенор один всю ветчину съел.
Дина. (бледно улыбаясь). Ну и на здоровье.
Лиля. Я никогда не видала, чтобы так ели, он глотает мясо, как людоед.
Костик. Но почему же людоед?
Козлов. Он не для себя ест, а для голоса. Тенору нужно питание.
Петровский. Ей-Богу, братцы! Я раз полез к Тенору под подушку, а у него там колбаса припрятана. Ей-Богу! А мне, подлец, хоть бы кусочек дал.
Тенор. Как он врет! А зачем тебе жизнь, Петруша? Лучше умри от голода, и я спою над тобой ве-ли-ко-леп-ную вечную память. (Тихо напевает и смеется.)
Онуфрий (тащит бутылку). Уединимся у этого келькшоза. У тебя холодный ум, Сережа, и ты это заметь, так принято в обществе: уходя из-за стола, каждый гость тащит с собою бутылку. При английском дворе все так поступают.
Блохин. А я… я не взял.
Онуфрий. Ты меня огорчаешь. Возьми и тащи сюда, да папирос у Козлика захвати, – мои кто-то выкурил.
Костик. А ты хорошо устроился, Онуша.
Онуфрий. Уменье найтись во всяком положении, Костя. Лиля, Лилюша, покровительница всех несчастных, заступница за угнетенных – присядьте ко мне, я открою вам тайну моей жизни.
Лиля. Ну, открывайте, только врите поменьше.
Онуфрий. Две феи караулили мое рожденье: фея порядка и фея строгой трезвости. Но так как я рождался очень долго, то обе не дождались и ушли, а пришла третья фея и принесла бутылку коньяку – это была пьющая фея, понимаете? Ну, вот пришла она…
Продолжает тихо рассказывать, Лиля смеется. Дина и Тенор разговаривают в стороне.
Дина. Ты не должен обращать на это внимания – слышишь? Пусть смеются, пусть шутят… Не смотри на меня так… Пусть шутят, они потом раскаются – и им будет стыдно.
Тенор. Я знаю. Они славные ребята, Дина!
Дина. Они еще не знают, о чем ты мечтаешь. Они еще не знают, что голос тебе нужен не для богатства, не для славы, а для того, чтобы им же дать радость. Как они мало знают тебя!
Тенор. И пусть. Ты даже побледнела, Дина, – не стоит. Какая ты самолюбивая, ты, пожалуй, еще самолюбивее, чем я. Ха-ха-ха!
Дина. Не смейся, я не люблю. И не смей ничего им говорить, слышишь? Ни слова – иначе я рассорюсь с тобою. Не смотри на меня так, мне неловко… Пусть думают, что ты пустой человек… карьерист! Ты и мне не смей петь, пока не научишься – я не хочу слушать любителя.
Тенор. Ого! Сильно сказано.
Дина. Почему ты сегодня без калош? Тебе неловко, что они смеются – как это глупо! Береги себя, ты… мой любимый. Ну иди, иди… и не смотри, как Цезарь: ты еще не победил.
Тенор медленно отходит.
Дина. (зовет). Лиля! Пойди сюда! (Что-то говорит ей.)
Гриневич (хочет взять у Онуфрия стакан с вином). Дай-ка!
Онуфрий (не дает). Нет, дядя, шалишь. Тебе вредно.
Гриневич. Глупости! (Хочет взять у Блохина, но тот не дает также) Ну и свиньи же вы, братцы. Вы думаете, что если захочу напиться, так без вас не сумею. Посмотрим! (Идет в столовую.)
Блохин. Там ничего нет, я последнюю взял.
Онуфрий. Когда же он успел, – Лилька с него глаз не сводила. Какой вредный характер! За твое здоровье, Сережа.
Блохин. За твое, Онуша.
Дина. (обнимая Лилю). Господа, я хотела сказать несколько слов…
Лиля. Петровский, молчите там!
Дина. Ничего, Лиля. Товарищи, сейчас придет один господин, то есть не господин, а студент, я не знаю, как назвать.
Петровский. Начало полно захватывающего интереса – кто же он, Дина, господин или студент?
Лиля. Петровский, свинство.
Дина. Нет, очень серьезно. Стамескин, Онучина, будьте добры, послушайте меня, дело касается нашего землячества. В субботу у нас собрание, и я и вот Александр Александрович, мы хотели предложить нового члена.
Костик. Стародубовец?
Тенор. Нет, какой-то дальний.
Костик. Тогда нельзя, и толковать нечего. Мы не можем не соблюдать устава.
Гриневич (проходя мимо Онуфрия, тихо). Свиньи!
Дина. Нет, послушайте меня. Это очень милый, даже очаровательный человек, но только, кажется, очень несчастный. Дело в том, что ему сорок восемь лет, он уже седой, даже белый, и нынешнею осенью он поступил в университет. Так странно и трогательно видеть его в мундире.
Козлов. Позвольте – это его я встретил, значит, на Никитской. И еще подумал, что это за форма такая, совсем студенческая. Так это он?
Лиля. И я его видела в театре. Такой удивительный, нам с Верочкой он очень понравился.
Стамескин. Кажется, юрист. Я его раза два встречал в университете.
Онуфрий. Бывает на лекциях, не то что ты, Сережа.
Дина. Ну да, этот самый. Давно когда-то, еще студентом, он был сослан в Сибирь, там женился, но жена и ребенок отчего-то у него умерли, и вот… ну, да он сам расскажет, он так трогательно об этом говорит. Очень милый! И я хотела, чтобы вы до собрания сами познакомились с ним, во всяком случае это интересно…
Лиля. Еще бы не интересно! Ведь это совсем как Фауст: был стариком, вдруг сделался молодой, студент, на лекции ходит.
Петровский. Ну, не совсем молодой… Неужели ему сорок семь лет?
Дина. Сорок семь или сорок восемь, наверное не знаю. Он очень сохранился, лицо моложавое, почти без морщин и такое… чистое; и хорошая фигура. (Улыбаясь.) Он умеет и одеться.
Тенор. И нарочно покороче стрижет волосы – a я бы на его месте такую белую гриву запустил. Ха-ха!
Лиля. Ну, пустяки, только бы не лысый. Ужасно боюсь лысых…
Козлов. Да о чем вы, господа? Лысый не лысый, тут речь о деле идет, а они… Как твое мнение, Костик – выскажись, как наш председатель, ты и устав блюдешь.
Костик. Нельзя принять. Какая бы там у него душа и шевелюра не была, а раз он не стародубовец – в землячество принять нельзя. Пусть идет в свое.
Дина. У него своего землячества нет: та гимназия, где он когда-то учился, не то совсем закрыта, не то перенесена в другой город.
Онуфрий. Вот Мафусаил!
Стамескин. Я стою за прием. (К Онучиной.) Вы также?
Онучина. Я также. Конечно, принять!
Козлов. (вызывающе). Это на каком же основании, Стамескин? Вообще я замечаю, что вы и ваши товарищи совсем не намерены считаться с уставом. Вы проваливаете ссуды, требуете, чтобы деньги шли на посторонние землячеству цели…
Онучина. Мы не считаем их посторонними.
Петровский. Господа, господа, здесь не собрание! Успеете в субботу наругаться, ей-Богу!
Козлов. (сердито). Молчи, тетя! Я нахожу, что Стамескин своими отступлениями…
Костик. Погоди, Козлов. Стамескин, не хотите ли вы изложить вашу точку зрения? Погоди же, Козлов.
Лиля. Я тоже стою за принятие Старого Студента.
Костик. Да успеете вы, Лиля! Стамескин, за вами слово.
Стамескин встает, закладывает руки за спину и говорит медленно, слегка в нос.
Стамескин. Я нахожу, что вы, господа, ставите себя в очень тесные рамки, в которых скоро задохнетесь от неимения настоящего, живого дела. В то время, когда люди стремятся к слиянию в естественные большие группы, вы устанавливаете какие-то внешние незначительные и даже смешные признаки…
Козлов. (нетерпеливо). Что же, по вашему мнению: и студенческий мундир – только внешний признак?
Стамескин. Если только вы в нем не родились… Но и тогда он будет только цветом вашей кожи и, стало быть, остается признаком внешним…
Гриневич. Нет, позвольте! Я хочу сказать! О выборах мы потом поговорим, – вы вот что скажите мне…
Костик. Господа! Так нельзя же!
Онуфрий. Оставь, Костя, теперь его все равно не остановишь. Говори, Гриневич, отводи душу.
Гриневич. Господин Стамескин, скажите, пожалуйста: почему это вы, когда все мы пели, изволили молчать?
Смех.
Блохин. Верно!
Гриневич. Нет, вы не смейтесь, это гораздо серьезнее, чем вы думаете. Мне обидно, потому я и говорю! Я человек робкий, но я не могу молчать, когда господин Стамескин из прин-н-ципа не желает петь. Ведь он не только не пел, а он нас осуждал – верно, господин Стамескин, или нет?
Стамескин (после некоторого молчания). Верно.
Онуфрий. Вот он римский-то нос, Сережа! Строгий профиль.
Шум, смех, восклицания:
– Какая ерунда.
– Тогда не только пение, тогда все искусство нужно послать к черту.
– А птицы могут петь?
– Какие птицы?
– Петухи, например. – Господа, нужно серьезно… Стамескин, объяснитесь. – Тише. Тише.
Стамескин. Извольте… Я не вижу цели в том, что вы называете вашим пением. Этими ритмичными звуками, то протяжными, то быстрыми, действующими как наркоз, вы только опьяняете себя; и то плачете вы, как пьяные люди, то смеетесь, но ни доверия, ни уважения к себе не внушаете. И для того, кто стремится к настоящей борьбе и знает, куда он идет, для того всякая песня вредна…
Гриневич. В бой идут с музыкой!
Стамескин. Их ведут с музыкой.
Дина. А марсельеза? Не забудьте, Стамескин, что иногда поет целый народ, целые толпы народные сливаются в одной песне.
Стамескин. Но побеждают те, кто молчит. Ах, господа, вы видели или вам рассказывали, как целый народ с пением песен шел на своего врага, – и вам было жутко, но больше весело; а когда-нибудь вы увидите, как целый народ молча двинется на приступ, и вам станет уже по-настоящему страшно. Ах, господа: молчание храброго – вот истинный ужас для его врага.
Онуфрий (восторгаясь). Вот нос, Сережа!
Кочетов. А как узнать, кто молчит: храбрый или трус? Трусы-то тоже не разговорчивы.
Стамескин. По действиям.
Козлов. Вы уничтожаете поэзию борьбы, Стамескин, вы красоту отнимаете у нее.
Стамескин (смеется слегка в нос). Нет. Я даю ей новые, простые и строгие одежды. Вместо лохмотьев из музыки и дрянных стихов я облекаю ее в грозные доспехи грозного молчания. Ах, господа: молчание – вот песнь восставшего.
Дина. Браво!
Многие присоединяются к ее возгласу.
Веселые голоса.
– Что, брат Гринюша, поджал хвост?
– Врет не врет, а послушать интересно. Молодец, Стамескин.
– Попробуй, убеди такого, – его и Шаляпин не проберет.
– Безумству храбрых поем мы песню. Вот так песня!
– Нет. Хорошо. Молодец, Стамескин!
Блохин. Ну, а дома… петь можно?
Онуфрий. Тебе, Сережа, и дома не советую. Пой, брат, молчанием – у тебя это здорово выходит. Тогда ты – страшен.
Смех. Смеется добродушно и Стамескин.
Стамескин (как бы припомнив). Я забыл сказать: вот есть еще влюбленные – так те всегда могут петь.
Смех.
Костик. А про земляка-то и забыли. Надо же кончить, господа.
Дина. Тише!..
Входит Старый Студент.
Ст. студент (здороваясь). Простите, Дина, несколько запоздал. Не мог отказать себе в удовольствии дослушать до конца «Травиату».
Дина. Здравствуйте, Петр Кузьмич. Ну вот, позвольте познакомить – это мои товарищи-стародубовцы. Тут не все: нас в землячестве много, тридцать пять человек. Стамескин… Константин Иванович, наш председатель… Ну, да потом сами разберетесь, а то все равно сразу всех не упомните. Это Онучина. Чаю хотите? Сейчас будет горячий чай.
Ст. студент. Сердечно благодарю, с удовольствием выпью стакан. Как у вас весело! Я уже из прихожей услышал ваш молодой и веселый смех.
Онуфрий. Да, ничего себе. За твое здоровье, Сережа.
Несколько секунд неловкого молчания.
Ст. студент. Я не помешал вам, господа?
Козлов. Нет, нисколько. Подвинься-ка, Костик, я тут присяду. Ты чем мажешь сапоги: смальцем или дегтем, отчего они у тебя так воняют?
Костик. Касторовым, брат, маслом.
Лиля. Скажите, пожалуйста: это не вы были третьего дня на «Фаусте»?
Ст. студент. Да, я. Я вас тоже видел: вы были с какой-то черноволосой девушкой, с подругой, вероятно?
Лиля. Да, с Верочкой! (Оживляясь.) А скажите, как вы достали билет? Мы с Верочкой целую ночь дежурили – да и то, едва-едва, на самом кончике захватили. Ужасно трудно доставать, когда поет Шаляпин.
Ст. студент. Я также дежурил целую ночь.
Лиля. И… не простудились?
Ст. студент (улыбаясь). Почему же я должен был простудиться?
Лиля (смущаясь). Нет, я так… погода была очень плохая…
Дина. Вы так любите театр, Петр Кузьмич?
Ст. студент. Да, очень люблю. (Ко всем.) Я провел двадцать лет в такой глуши, где ничего не знают о театре, и даже заезжие труппы при мне ни разу не бывали. Но по газетам я следил за репертуаром и всегда знал, что ставится в Большом театре… Я очень любил оперу…
Дина. И как же вам показалось?
Ст. студент (улыбаясь, тихо). Не знаю. В первый раз я очень волновался и плохо видел. Но было очень хорошо.
Лиля. Ах, Боже мой, неужели целых двадцать лет – а мне и всего только девятнадцать.
Козлов. Четырнадцать.
Петровский. Одиннадцать.
Блохин. Д-десять.
Смеются, но тотчас же становится неловко. Старый Студент, все также тихо улыбаясь, обводит всех добрыми, немножко влюбленными глазами.
Лиля. Что – самим неловко стало? Вот видите, они всегда так, они и над вами завтра станут смеяться. Вам сколько лет, сорок восемь?
Ст. студент. Нет, сорок семь.
Лиля. Ну, вот видите. А они завтра начнут врать, что вам восемьдесят… сто.
Петровский. Сто двадцать.
Блохин. Т-тысячу четыреста.
Опять слегка неловкое молчание.
Дина. Александр Александрович, узнайте, пожалуйста, как там насчет чаю. Сейчас будет горячий чай, Петр Кузьмич.
Ст. студент. Нет, мне только сорок семь лет, но и это, конечно, очень много. Правда, поседел я очень рано, в нашем роду все очень рано седели, но это все равно: мне сорок семь лет. И на вашем месте, господа, я также, пожалуй, не удержался бы от смеха: ведь, действительно, немного смешно, когда такой… седой человек носит форму студента, платье юности, расцвета жизни и сил. Иногда я себе напоминаю старуху в белом подвенечном платье, с цветами флер-доранжа в седых волосах.
Дина. Вы преувеличиваете, Петр Кузьмич, мне кажется, что вы даже немного рисуетесь. У вас совсем молодое лицо.
Ст. студент (весело). Да я и не чувствую себя старым – нисколько! Я говорю только о внешности, о том, что ежедневно докладывает мне мое маленькое, но жестокое зеркальце.
Костик. Это ничего, скоро привыкнете. Вот нашему Онуфрию – вот этому – на днях пятьдесят стукнет, а видите, цветет, как крапива под забором.
Онуфрий. Жалкая клевета, зловонная, как его сапоги. Истина в том, что нынешнею осенью я поступил на филологический, и мне ровно девятнадцать лет. Через три-четыре года, сколько выдержит мой характер, я поступлю на естественный, и мне будет ровно девятнадцать. Если же принять в расчет, что кроме упомянутых факультетов существуют еще…
Козлов. Этакое кругосветное плавание по факультетам.
Петровский. Обратите внимание, товарищ: перед вами образованнейшая личность.
Костик. Энциклопедия.
Блохин. Скорее – прейскурант.
Онуфрий. Ты-то что, Блоха, становишься на задние ноги? Если сам десять лет не можешь вылезти из теснин одного факультета, так преклонись перед тем, кто неустанно совершенствуется. Свою жизнь, товарищ, я начал гнусно: я был юристом.
Стамескин. Вы надолго были сосланы, Петр Кузьмич?
Ст. студент. Я был сослан только на десять лет и давно мог бы вернуться, но там я женился, поступил на службу и… Но боюсь, что это не для всех интересно. У вас царит такое ясное веселье, а моя история печальна и в конце концов слишком обыкновенна. Не стоит рассказывать.
Дина. Нет, пожалуйста, расскажите. Господа, вы хотите послушать? Стамескин, Онучина?
Оиучииа. Да, с удовольствием.
Козлов. Рассказывайте, рассказывайте, все слушают.
Ст. студент. Хорошо-с, извольте, я расскажу… конечно, стараясь по возможности быть кратким. Вы знаете, как нас, стариков, увлекают воспоминания о пережитом…
Дина. Без рисовки, Петр Кузьмич!
Ст. студент (наклоняя голову). Слушаю-с… Да, в ссылке я женился, и у меня был ребенок, девочка Надя… Теперь обе умерли, и жена и моя девочка, и с гордостью я могу сказать, что судьба послала мне редкое счастье, – встретить на своем жизненном тернистом пути двух прекраснейших людей, две светлые, очаровательные и невинные души…
Гриневич. «Это было давно, это было давно-давно – в королевстве приморской земли…»
Ст. студент. Нет, дорогой товарищ, это было недавно и это было среди холода, грязи и темной скуки сибирского городка. И меня всегда поражало, как одна из загадок жизни: откуда эта одинокая человеческая душа, затерянная во мраке, – я говорю о жене моей, Наташе, – откуда могла она добыть так много яркого света, самоотверженной и чистой любви? Я сам был в университете, я знавал много хороших, ученых и честных людей, я очень много читал, – и под воздействием всех этих благотворных факторов сложилась моя жизнь. Но откуда она – удивительная, но прекрасная загадка? Родилась Наташа на постоялом дворе, слышала только брань извозчиков да пьяных купцов, была почти неграмотная – до самой своей смерти она писала с большими грамматическими ошибками и, конечно, ничего не читала… Но, поверьте мне, я не встречал человека, который так благоговейно относился бы к книге, так высоко и свято чтил бы человеческую мысль.
Дина. У вас было много знакомых?
Ст. студент. Нет, откуда же? Двое-трое ссыльных, для которых Наташа была матерью и сестрою, и только. Но у нас были книги – все деньги мы тратили на книги и журналы, и у меня была очень хорошая библиотека, товарищи, – да, были книги, эти лучшие, неизменно-верные друзья человека. Когда кругом все изнывало от скуки, и ливмя лил дождь, и пурга стучала в оконца, мы с Наташей читали, плакали и смеялись, отдаваясь творческой мечте великого друга… и у нас было светло, как в храме. И вот… пришла смерть. (Задумывается.)
Онуфрий (Блохину тихо). Хороший старик, его надо принять. Примем, Сережа?
Кочетов. А где же ваши книги?
Ст. студент. Мои книги? Я их продал, чтобы достать денег на поездку сюда, в Москву. Продал друзей… не кажется ли вам, что это похоже несколько на измену? (Улыбаясь.) Конечно, нет – в душе моей они все сохранны.
Костик. Конечно, не все продали, любимых-то небось привезли?
Ст. студент. Нет, все. Мне трудно бы было выбирать, и это уже совсем бы походило на измену. Да и не хотел я, идя в новую жизнь, сохранять какую бы то ни было материальную связь с прошедшим. Несколько карточек Наташи и моей девочки, да разве еще вот эта седая голова – это все, что осталось у меня от прожитого.
Козлов. Значит – начинать жизнь с начала?
Ст. студент (серьезно). Да. С начала.
Костик. А не боязно? Дело-то вы серьезное затеяли.
Ст. студент. Да, я знаю… Нет, не страшно.
Костик. Ну – в добрый час тогда. Дорога-то дальняя!
Лиля (растроганно). Дай вам Бог! Дай вам Бог!
Онуфрий (мрачно покачивает головою, тихо). А на новорожденного все-таки не особенно похож. Э-эх, лучше бы уж лысый был!
Дина. А скажите… если вам не трудно об этом говорить… от чего умерла ваша жена?
Ст. студент. Девочка принесла с улицы дифтерит. Обе они умерли почти в один час. Да, умерли… ну, а я продал книги и приехал сюда. По счастью, мне выдали жалованье за то время, как я был болен, и теперь я человек совсем обеспеченный. (Смеется.)
Лиля. А вы долго были больны?
Ст. студент. Около года. Я был в больнице для душевнобольных.
Молчание.
Ст. студент (обращаясь к Лиле). На «Фаусте», где мы были с вами вместе, я вспоминал Наташу. Я ей рассказывал все оперы, какие видел, даже представлял немного, и «Фауста» она знала хорошо… Кажется, это вы, товарищ, привели стихи Эдгара Поэ?
Гриневич. Я.
Ст. студент. А помните вы конец?.. «И в мерцаньи ночей, я все с ней, я все с ней, с незабвенной – с невестой – с любовью моей»… Да.
Лиля. Вот что, вы приходите к нам, мы с Верочкой живем. И я к вам ходить буду, можно?
Ст. студент. Сердечно буду рад.
Лиля. Я буду называть вас Старым Студентом – хорошо? (Утирает слезы.)
Петровский. Размокропогодилась наша Лилюша.
Онуфрий. А тебя не трогают, ты и молчи. Видишь, народ безмолвствует.
Ст. студент (поднимая голову). Да… И вот, товарищи, я пришел к вам, примите меня. Правда, я немного стар, и среди ваших черных голов моя может казаться странною и наводить на печальные мысли… но я искренно предан науке, горячо люблю молодость и смех и во всем буду хорошим товарищем. Примите меня.
Молчание.
Костик. (мрачно). Что же, можно. У нас в уставе есть примечание к параграфу пятнадцатому, так по этому примечанию, в исключительных, конечно, случаях…
Козлов. Вспомнил!
Общий смех.
Ст. студент (улыбаясь). Чему они?
Дина. (смущенно). Да так. Наш Константин Иванович ужасный формалист, и если в правилах чего-нибудь нет, так он тут же сочиняет примечание.
Тенор. Законник! Во время дальнейшего разговора Стамескин и Онучина прощаются с Диной и уходят.
Костик. Ну ладно, законник. Надо же оформить, с меня же потом спросите. Ну, а кто рекомендует?
Лиля. Я.
Петровский (тонким голосом). Мы с Верочкой.
Костик. Да нельзя же так, Лиля, вы сами сейчас только увидели товарища. Тогда и все мы можем рекомендовать.