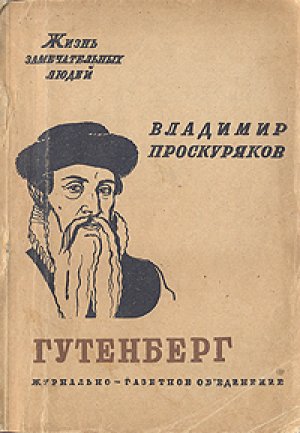
Речь первая
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
СВЕДЕНИЯ о жизни людей, обычно, неполны и противоречивы, биография великого человека всегда превращалась в легенду.
Даже сейчас, когда тысячи фотографий сохраняют новым поколениям внешний облик человека, от рождения его и до смерти, когда печать как прожектор освещает все его действия, когда даже голос остается на граммофонной пластинке или пленке звукового кино, – все же биографы спорят о датах жизни человека, его привычках и делах. Чем дальше в прошлое, тем слабее и изменчивее контуры биографического рисунка, тем более сомнений: в достоверности свидетельств и документов.
Бесспорна только общая картина закономерно развивающегося общества, и достоверна лишь биография личности, как кадр в этой грандиозной картине, кадр, который плотно врос в породившее его целое и органически слился с ним.
Так бессильная призрачность биографической легенды замещается возрождаемой жизнью сына века.
И пусть длятся несогласия о числах рождения и смерти, цвете волос, обоснованности поступков – мы через преграду времени подаем руку человеку, который жил и боролся в непреложной правде социального прошлого.
Часть первая
ГОРОЖАНИН МАЙНЦА ИОГАН ГУТЕНБЕРГ
1. ПРИКЛЮЧЕНИЕ НИКОЛАУСА ВЕРШТАТА, ГОРОДСКОГО ПИСЦА МАЙНЦА
ПОЛЯ истории знают эпохи бурных цветений. Столетиями бесплодные земли медленно и трудно накапливают силы. Дремлющая почва впитывает все новые и новые продукты распада и гниения. Дни разложения, дни гибели общественного строя, вселяющие ужас в умы современника, незаметно подготовляют близкое плодородие.
XV век был веком могучего всхода нови. Развитие производительных сил получает сильный толчок от технических усовершенствований в горном деле, текстильной промышленности, мореплавании и военном искусстве, от изобретения книгопечатания и успеха ряда наук. Начинается разрушение феодализма под напором подъема промышленности, развития денежного хозяйства и быстрого расширения внутреннего и международного обмена.
Общественные отношения спутываются в пестрый клубок обостренных противоречий. Усиливается классовая борьба, растет торговая конкуренция между отдельными странами.
«Война всех против всех».
В XV веке ткутся начала тех нитей, которые через триста лет сплетут узел промышленного переворота, начинающий замечательную и кровавую историю капитализма.
Мы еще в начале столетия мировых открытий – сегодня 14 марта 1434 года.
На краткий миг линза старого документа бросает на экран изображение двух людей: городского писца Майнца – Николауса Верштата – и майнцкого изгнанника – Иогана Гутенберга.
Появление первого из них кратковременно и дальше путь Николауса Верштата теряется. Гутенберг выходит на освещенную авансцену – потемок прошлого, чтобы остаться на ней навсегда.
Этот первый известный нам эпизод из жизни изобретателя книгопечатания крепко вправлен в рамки общественных связей и столкновений средневекового города.
Города в качестве хозяйственной и политической силы средневековья возникают во втором периоде западно-европейского феодализма (XI–XVI вв.).
Деревня определяет сущность и облик феодального строя, – помещик и зависимый крестьянин центральные его фигуры. История феодализма начинается замкнутым натуральным хозяйством, жестокой эксплоатацией мелких крестьянских хозяйств крупным землевладельцем-сеньором. Средства этой експлоатации не только экономическое принуждение, но и открытое насилие, основанное на личной зависимости непосредственного производителя.
Нужны были длительные сроки, чтобы эта постройка дала первые трещины. Развитие товарных отношений постепенно ломает натуральные формы феодального хозяйства, крестьяне переходят на денежный оброк и обезземеление выбрасывает начальные кадры сельскохозяйственного и ремесленного пролетариата. Тогда город отделяется от деревни и начинает свой путь развития, полный внутренней борьбы и внешних потрясений, но все же на решающих этапах, зависящий, в конечном счете, от феодальной деревни.
Первые политические бои горожан – защита своей независимости от феодалов. Завоевание городских свобод, права пользоваться «миром», означавшее устранение произвола феодалов было знаменательным началом. Древнейшее городское право Страсбурга (XII век) говорит: «По образу других городов основан и Страсбург с такой льготой, чтобы всякий человек, как чужой, так и местный уроженец, всегда и ото всех пользовался бы в нем миром». Дальше горожане добиваются у светских и духовных князей права самоуправления и выбора магистрата.
Плодами первых городских свобод воспользовались богатые семьи – патрицианские роды.[1] Они одни заседали в магистрате и занимали все должности городского управления.
Фронт горожан, объединенный в борьбе против сеньоров за городские свободы, разрывается внутренними противоречиями. Крепнущее сословие ремесленников протестует против монополии патрициев и стремится к ее ограничению или, больше того, к непосредственному захвату власти.
Наконец, возникает новая оппозиция – городской плебс, состоявший из разорившихся граждан, и массы горожан, не обладавших правами гражданства: ремесленных подмастерьев, поденщиков и многочисленных зачатков люмпен-пролетариата. Выступления городского плебса – отдалённые предвестники будущих бурь рабочих восстаний. Одним из ярких случаев такого открытого бунта плебса было восстание чомпи[2] во Флоренции в 1378 году.
Иоган Гутенберг происходил из города Майнца. Первый этап борьбы за городские свободы был пережит его предками, об этом, вероятно, сохранились предания в его семье.
На краткий срок оставим Майнц и пусть перед нами пройдут картины схватки горожан с владыками в другом городе, изображенные одним из талантливых писателей средневековья.
Конечно, это частный случай, но он бросает свет на то, как завоевывались городские свободы, как складывалась та жизнь, в которой предстоит Гутенбергу начать свой трудный путь.
Время XII век, место город Лан во Франции. Действующие лица король Людовик, епископ Годри, духовенство, сеньоры, горожане.
Слово предоставляется Гвиберту Ножанскому – богослову и историку. – оставившему автобиографию – великолепный документ эпохи.
«Над этим городом (Ланом) издавна тяготело такое злополучие, что никто в нем не боялся, ни бога, ни властей, а каждый, сообразуясь лишь со своими силами и со своими желаниями, производил в городе убийства и грабежи…
Сеньоры и их слуги открыто совершали грабежи и разбои; ночью прохожий не пользовался безопасностью: быть задержанным, схваченным и убитым – вот единственно, что его ожидало.
Духовенство, архидиаконы и сеньоры, видя такое положение дел и изыскивая всевозможные способы, чтобы вытянуть деньги из простонародья, вступили с ним в переговоры через посредников, предлагая представить им право, если они заплатят достаточную сумму, образовать коммуну».
Что означало образование коммуны?
«Все жители, обязанные платить поголовно определенный чинш[3] должны были выплачивать однажды в год своему сеньору обычные крепостные повинности и платить законно установленный штраф в случаях, когда они совершали какой-либо противный законам проступок. На этих условиях они совершенно избавлялись от всех повинностей и взносов, которые, обычно, налагались на сервов.[4] Пользуясь случаем откупиться от множества притеснений, простолюдины дали кучи денег этим сребролюбцам, руки которых подобны были бездонной яме, которую нужно было наполнить».
Когда заключался этот договор, епископ Годри был в отъезде. Возвратившись, он разгневался на перемены, но получив от горожан деньги, пошел на уступки.
«Он принял присягу в том, что будет соблюдать права коммуны». Король, склоненный щедрыми дарами простого народа, согласился утвердить этот договор и закрепить его присягой.
«Боже мой, кто бы мог рассказать о той борьбе, которая разгорелась, когда, после того как были приняты подарки от народа и дано было столько клятв, эти же самые люди стали пытаться разрушить то, что они клялись поддерживать и пытались вернуть в прежнее состояние рабов, однажды освобожденных и избавленных от всех тягостей ярма».
Епископ и сеньоры замыслили уничтожить коммуну и подарками склонили к этому короля.
«Нарушение договоров, создавших Ланскую коммуну, наполнило сердца горожан гневом и изумлением; все лица, занимавшие должности, прекратили исполнение своих обязанностей; сапожники и башмачники закрыли свои лавочки; трактирщики и харчевники невыставляли никаких товаров и никто не надеялся, чтобы в будущем что-нибудь оставили им господа, жадные к добыче».
«Уже не гнев, а ярость дикого зверя охватила людей нисшего класса; они составили заговор, скрепленный взаимной клятвой».
Горожане готовились пролить кровь за коммуну. Епископ относился презрительно к бунтующим рабам, он говорил: «Вы думаете, что эти люди могут что-нибудь сделать со всеми своими мятежами? Если Жак, мой негр, потащит за нос самого страшного из них, он не посмеет на него заворчать. Ведь вчера я заставил их отказаться от того, что они называли своей коммуной, на все время моей жизни».
На следующий день после того, как Годри произнес эти слова вспыхнуло восстание. Это было на пятый день пасхи.
«После полудня епископ рассуждал с архидиаконом Готье о деньгах, которые нужно было собрать с горожан: вдруг по городу распространилась тревога и множество людей кричало: „коммуна, коммуна!“. Многочисленные толпы горожан, вооруженные шпагами, обоюдоострыми топорами, луками, секирами, дубинами и копьями наполнили храм пресвятой девы и устремились во дворец епископа».
Некоторые сеньоры, обещавшие поддержку епископу, пытались притти к нему на помощь, но были убиты толпой, этот пример удержал остальных.
«Епископ с помощью нескольких вооруженных людей защищался как мог, осыпая каменьями и бросая дротики в нападающих… Не будучи в силах, в конце концов отразить смелые атаки народа, он оделся в платье одного из своих слуг, бежал в подвал под церковью, заперся там и спрятался в винной бочке, отверстие которой заткнул один верный слуга. Годри думал, что он хорошо укрылся. Горожане сновали туда и сюда, ища, где бы он мог быть и громко звали его называя не епископом, а мошенником».
Слуга выдал епископа. Когда открыли отверстие бочки, все начали спрашивать, кто находится там внутри. Один из преследователей ударил епископа палкой, и тот, похолодев от ужаса, ответил: «Здесь несчастный пленник».
«Годри был вытащен за волосы из бочки, осыпан множеством ударов и повлечен среди бела дня в узкий монастырский переулочек к дому капеллана[5] Годфруа. Несчастный молил в самых жалких выражениях о милосердии, обещал принести клятву, что никогда не будет их епископом, предлагал им большие суммы денег и обязался покинуть отечество, но все с ожесточением отвечали ему только оскорблениями; один из них, Бернар де Брюйер, подняв свою обоюдоострую секиру, свирепо раскроил ему череп… Наконец, труп Годри, ограбленный до-нога, был брошен в угол перед домом его капеллана».
«Тело епископа оставалось с наступлением пятого дня, недели до третьего часа следующего дня распростертым в пыли и совершенно обнаженным».
Господа и духовенство бежали из города – горожане мстили. Порядок в городе был водворен королем.
Рауль, архиепископ Реймский прибыл в Лан, чтобы восстановить церковь. После богослужения он произнес речь «Слуги – сказал он – со всяким страхом повинуйтесь господам, говорит апостол»…
Через 16 лет после описанных событий преемник Годри вынужден был пойти на восстановление коммуны с прежними ее правами. Король Людовик VI Толстый даровал Лану свободы.
Грамота короля начинается так:
«Во имя святой и нераздельной троицы. Аминь.
Божьей милостью Людовик король французов, объявляем всем нашим верным, – как будущим, так и настоящим – следующее мирное постановление, которое по совету и с согласия наших вельмож и ланских граждан мы учредили в Лане, простирающемся от Ардена до Высоколесья, так что в пределы его входят селение Люльи, а также виноградники и гора:
1. Никто не имеет права без разрешения судьи задержать ни свободных людей, ни крепостных…»
Так было в Лане.
Возвращаясь к Майнцу отметим основные даты завоевания им городских свобод.
Впервые привилегии горожанам Майнца были даны в 1135 г. архиепископом Адальбертом I. Документ этот начертан на тяжелых бронзовых дверях Майнцкого собора.
Магистрат[6] Майнца существует с 1244 г., когда архиепископ Зигфрид III даровал маинцам письмо о городских свободах.
Если ко времени юности Иогана Гутенберга смолкли набаты, созывавшие граждан на воину с архиепископами и князьями, то борьба между патрициями и бюргерской оппозицией была в самом разгаре.
Грамота Зигфрида III о свободах Майнца даровала городу право выбора Совета. Однако правом выбирать и быть выбранным пользовалась только небольшая группа патрициев. Они устанавливали налоги и сборы и занимали все должности городского управления. В числе патрицианских родов уже в этот период встречается фамилия Гутенберга. Так продолжалось до 1328 года.
К этому времени выросло сильное новое сословие цеховых ремесленников (в городе тогда насчитывалось 58 цехов). Естественно должен был возникнуть конфликт.
К обострению внутренних противоречий между патрициями и простыми горожанами и открытому возмущению последних привели военные события. Во время борьбы двух претендентов на архиепископский престол Майнца – Болдуина Трирского, избранного соборным капитулом,[7] и Генриха Фирнебурга, которого назначил папа Иоан XXII и поддерживали горожане, был разрушен ряд монастырей и соборных зданий. Победитель Болдуин потребовал от города восстановления разрушенного имущества церкви. На это требовались большие деньги. Цехи не желали платить повышенных налогов, не принимая участия в управлении.
Гордые патриции попытались вооруженной рукой смирить ремесленников.
В числе родовитых граждан, вступивших в борьбу с ремесленниками мы снова встречаем предка Гутенберга Иогана Генсфлейша. В его доме собирались заговорщики. Цеховые победили и завоевали себе половину мест в магистрате. Первый этап борьбы был пройден.
Но простые горожане не могли остановиться на этом. В следующее столетие неоднократно вспыхивает недовольство, требующих дальнейшего расширения своих прав сословия ремесленников. Цеховая революция 1428–1429 гг. была завершением этих волнений. Снова экономические причины обусловили революционное движение. К этому времени Майнц переживал тяжелые финансовые затруднения, вызванные участием в неудачной войне городов, внутренними неурядицами и плохим управлением.
Во главе цеховой революции встало два человека: Эбергард Виндек и Николаус Верштат, – городской писец от общины.
Угроза лишения всех имущественных привилегий привела к бегству патрициев из города. Магистрат был захвачен цехами и реформирован. Из 35 мест в нем только семь получили патриции.
Торжество ремесленников было недолгим. Уже в 1430 г. им пришлось пойти на уступки, вызванные дальнейшим ухудшением финансового положения города. Богатые патрицианские семьи были желательными плательщиками. Ряд бежавших знатных семей вернулся после заключенного сторонами мирного соглашения.
В жилах Иогана Гутенберга смешалась кровь семей городской знати. Отцом его был Фриэле Генсфлейш. Мать – Эльза принадлежала к фамилии Гутенбергов, под которой известен изобретатель. Брак его родителей состоялся в 1386 году.
У Иогана был старший брат Фриэле и сестра Эльза, вышедшая замуж в 1414 году.
О детских и юношеских годах Иогана достоверно ничего неизвестно. Не установлен точно и год его рождения, – таковым условно считают 1400 год.
Юношеские годы Иогана протекали в обстановке постоянных городских волнений и гонения на патрицианские семьи. Во время одной из цеховых революций первого тридцатилетия, возможно, что именно в 1428–1429 гг., Генсфлейши вынуждены были покинуть родной город. Молодость, полная волнений и тревог, рано приучила Иогана к опасностям и борьбе и закалила его характер.
Надо думать, что в раннем возрасте Гутенберг учился в одной из церковных школ Майнца, где и приобрел навыки чтения и письма.
Генсфлейши не были богаты. Очевидно, общее обеднение города и падение влияния знатных родов, сказалось и на их достатке.
Вопрос о заработке средств к существованию, о выборе определенной профессии должен был тревожить молодого патриция еще в отцовском доме в Майнце, и со всей остротою встал перед ним после бегства из родного города. Надо было заняться ремеслом.
Но Иоган Гутенберг, в 1430 г. после примирения враждующих сторон, не возвратился в Майнц. Он одинок, семья распалась, отец уже умер, мать живет отдельно, брат Фриэле обосновался в Эльтвиле. Ближайшие годы Иоган Гутенберг проведет в Страсбурге и здесь начнет свои первые опыты в «тайном» искусстве, которому в недалеком будущем суждено завоевать цивилизованный мир.
Толкаемый вперед жаждой денег и славы, свободный от цеховых предрассудков, и выброшенный из рядов своего отживающего и застывшего сословия, Иоган Гутенберг представлял прекрасный материал для того, чтобы сделаться рыцарем переворота в, доселе Делавшем только неуверенные первые шаги, печатном производстве. Чтобы жить в чужом городе и приступить к осуществлению каких-то в этот момент еще смутных планов, которые должны были вернуть ему в дальнейшем былой достаток, Гутенбергу нужны были деньги, а средств у изгнанника не было. Правда, за родным городом Майнцем числился долг, на получение которого рассчитывал Гутенберг, начиная жизнь в Страсбурге, но обращения к магистрату Майнца ни к чему не привели. Рассчитывать не на кого, надвигается нужда, надо положиться на собственную энергию и изобретательность.
Здесь в Страсбурге, в этот тяжелый для Гутенберга момент, пути его и Николауса Верштата скрестились.
Хроника уже познакомила нас с Верштатом. Городской писец носил скромный титул, но в средневековом городе был влиятельным лицом. Писец обычно стоял на довольно высокой ступени интеллектуального развития и наличие писцов с университетским образованием не было редкостью. Верштат играл крупную роль в только что происшедшей городской революции. Это он выступил с обвинением против «патрицианского» правления, заявив, что «наши предки и предшественники ввергли город в тяжелые долги». То, что он был одним из общепризнанных вожаков переворота подтверждается острой ненавистью, звучащей в одном стихотворении, которое сохранилось от того времени и принадлежало перу его политического противника.
В этом стихотворении Николаусу Верштату посвящены следующие строки:
В этом стихотворении неизвестный автор расточает по адресу вожака победившей партии обычный запас злобных намеков и личных обвинений. Уже тогда зарождаются «добрые» обычаи желтой прессы.
В 1434 г. Николаус Верштат прибыл в Страсбург, где ему пришлось пережить неприятное приключение.
Подробности этого приключения нам неизвестны.
Достоверно одно, что Иоган Гутенберг лишил свободы майнцкого писца и вынудил у него клятву, что еще до наступления Троицы Верштат обеспечит выплату изгнаннику задержанных магистратом денег.
Понадобились сношения властей двух крупных городов и специальное ходатайство бургомистра и магистрата Страсбурга, чтобы освободить Верштата из заключения.
Дадим слово документу. Следующее письмо Гутенберга, адресованное магистрату Страсбурга было найдено в архивах этого города.
«Я, Иоган Генсфлейш младший, по прозвищу Гутенберг, этим письмом всем объявляю: почтенные и мудрые бургомистр и Совет города Майнца обязались уплатить мне известные процент и ренту согласно полученным мною от них письмам, к которым печать приложена была и в которых между прочим сказано следующее: на тот случай если они мне не выплатят процентов, я могу на них напасть, задержать их за долги и наложить запрет на их имущество и не защитит их против этого ни свобода, ни выкуп под залог, кем бы он ни был дан. Так как в настоящее время у меня имеется в долгу изрядная сумма процентов от вышеназванного города Майнца и мне по ним до сих пор ничего не было выплачено, я в силу очевидной нужды арестовал Николауса, городского писца Майнца, и он торжественно обещал и поклялся мне уплатить 310 полноценных рейнских гульденов, переслав их, притом еще до наступления Троицы, двоюродному брату моему Орт Гельгусс, проживающему во дворе Лампартен в Оппенгейме. Настоящим письмом я удостоверяю, что благоразумные и мудрые бургомистр и Совет Страсбурга договорились со мной в том, что я ради них и ради их чести освобождаю от ареста и заключения этого господина Николауса городского писца Майнца и я добровольно освободил его от всех данных им мне торжественных обещаний, а также от уплаты 310 гульденов и настоящим письмом полностью его от них освобождаю, без нанесения себе ущерба в отношении прав, процентов и долгов в соответствии с содержанием моих вышеназванных писем.
Для подтверждения этого я, вышеупомянутый Иоган Генсфлейш, приложил печать в конце этого письма, написанного в первое воскресенье после дня св. Григория папы в год, считая от рождения Христа, 1434-й».
По поводу достоверности этого письма в литературе о Гутенберге ведутся споры.
Критики документа исходят из того, что право самопомощи существовало только в XIII и XIV веках, но никак не во времена Гутенберга. Между тем, самопомощь практиковалась в XV и даже в XVI веке.
Вот случай, относящийся к там же годам.
В городском архиве Франкфурта сохранились материалы, свидетельствующие о следующем: несколько майнцких купцов осенью 1430 г. отправились во Франкфурт на ярмарку, их сопровождала охрана. Ярмарка окончилась благополучно, но после нее купцы предприняли паломничество в Хирценхайн. По дороге 8 сентября они подверглись вооруженному нападению, организованному двумя франкфуртскими горожанами, кредиторами Майнца. Купцы были захвачены и заточены в замок. По настоятельным просьбам Майнца за пойманных ответчиков заступился магистрат[8] Франкфурта. Пострадавшие получили свободу только в октябре.
В одной из песен того времени, с грустью говорится, что после банкротства Майнца горожане его нигде не могут чувствовать себя в безопасности.
Истинная подоплека неверия в подлинность письма Гутенберга вскрывается следующими словами:
«Верить страсбургскому документу 1434 г. – значит ставить Гутенберга на одну доску с рыцарями-разбойниками».
Эти слова исходят от биографов, желающих смазать ожесточенную классовую борьбу тех дней, в которую неизбежно должен был быть втянут Гутенберг, и придать изобретателю «высокие» черты христианской кротости и гуманности. Ряд буржуазных биографов рисуют Гутенберга почти мессией с безграничным терпением, преодолевающим препоны на своем тернистом пути.
Средневековье было мрачным и жестким временем, когда инициатива личности была крепко стянута путами многообразной личной зависимости и ограждена со всех сторон сословными перегородками. Трудно было пробиться деклассированному изгнаннику, такому как Гутенберг. Но зато ему нечего было терять и он смело бросается завоевать будущее, не думая о том, что кто-то черев 500 лет сравнит его с рыцарем-разбойником.
Самостоятельную жизнь Гутенберг начинает бурным взрывом своей недюжинной энергии, непосредственно бьющим по Верштату, рикошетом задевающим магистраты двух городов, и вносящим сумятицу в окружающее существование.
Это выступление Гутенберга связано еще с его правами, как члена патрицианского сословия, но связь его с этой средой уже рвется, – чтобы заработать на жизнь молодому Иогану пора приниматься за ремесло.
Его вышеприведенное письмо страсбургскому магистрату является особенно ценным для характеристики личности великого изобретателя. Благодаря ему, он сразу встает перед нами во весь рост – это человек с горячей кровью, боец, способный преодолеть стоящие перед ним препятствия.
Он настолько смел и предприимчив, чтобы организовать захват своего противника, и в то же время настолько умен и расчетлив, чтобы во-время оказать уважение и почет страсбургским заправилам. Расчет Гутенберга был верен. Уже в мае 1434 г. между Майнцем и Гутенбергом заключено условие о пожизненной ренте, которая была ему предоставлена его братом Фриэле, а в 1436 г. по счетным книгам мы видим, что Гутенбергу фактически уплачены недоимки по процентам.
Итак Гутенбергу нужны были деньги. Поимка Николауса Верштата была вызвана не оскорбленным самолюбием задорного патрицианского сына, а непосредственной нуждой в деньгах.
Отсутствие денег было проклятием, которое всю жизнь тяготело над Гутенбергом. Из-за денег он бросается в рискованное предприятие с Верштатом, невозможность вернуть занятые средства дважды ставит его перед судом, и, наконец, та же бедность передает в руки купца Фуста, созданное им дело и делает его под старость придворным пенсионером графа Адольфа фон-Нассау.
В средние века изобретатель не был привилегированной фигурой. Многие отважные люди поплатились жизнью за неосторожную смелость, с которой они думали изменить привычные формы производства и помочь себе подобным стать ступенью выше в борьбе с природой. Имена средневековых изобретателей стерты со страниц истории и дело рук многих из них было разрушено для того, чтобы возникнуть вновь в позднейшем веке и, либо принести славу другим, либо остаться изобретением безвестного мастера.
Кто может назвать имя человека, который в X–XI веке создал первую сукновальную машину? Мы знаем только, что сукновалка применялась в Гренобле еще в середине XI столетия. Но всюду, где бы она не появилась, ее преследовало запрещение: в Париже, во фламандских городах и даже еще в конце XV века в Лондоне.
По свидетельству итальянского аббата Ланчелотти «Антон Мюллер из Данцига почти 50 лет тому назад, (т. е. около 1525 г.) видел в Данциге очень искусную машину, которая разом изготовляла 4–6 тканей, но так как городской совет опасался, что это изобретение может превратить массу рабочих в нищих, то он запретил применение машины, и ее изобретателя приказал тайно задушить или утопить».[9]
В тех случаях, когда изобретение не угрожало сокращением числа рабочих и гибелью существующей отрасли – цеховые мирились с ним.
Цеховая корпорация делала своей тайной всякое такое улучшение техники производства, угрожая конфискацией имущества и смертной казнью своему члену, который посмел бы ее выдать другому городу.
В Болоньи в конце XIII века был изобретен станок для наматывания шелка. Распространение его вне города признавалось изменой. Железной рукой цеховые Болоньи охраняли свои производственные секреты. Два мастера шелкового цеха, осмелившиеся в 1538 г. выселиться из города, были схвачены и повешены. Третьему изменнику посчастливилось – он благополучно перевёз станок в Модену. В родном городе, заочно присудили беглеца к смертной казни и публично сожгли его изображение.
Я буду говорить об изобретателях и их деле.
Изобретательство, как роды – великолепный творческий акт, установленный природой.
Страх родовых схваток не может прекратить появление новых поколений. Изобретателя можно уничтожить, – но изобретательство пресечь нельзя. Гибель творца изобретения в худшем случае только отсрочка. Мысль уже родилась, тысячи и десятки тысяч в привычных буднях труда накопили многообразный опыт, который ждет своего завершения.
И кто уверен в том, что сегодня, когда здесь претворяется в жизнь замечательное новшество, где-то в другом городе, может быть в другой стране иные люди не идут к той же цели и не достигают ее?
Но что же: хотят развенчать героев и умалить заслуга их? Нет, – в исторической перспективе работа изобретателя вырисовывается как краткое завершение, как последняя фраза написанной книги. С горной высоты люди кажутся точками и жизнь – миг в торжественном течении тысячелетий. А живой человек сегодня, теперь совершает гигантский труд, преодолевает тягчайшие препятствия, нередко посвящает целую мучительную жизнь делу изобретения.
Разноязычное племя изобретателей и исследователей малых и великих – могучее бродило в человеческом сусле. Это оно порождает играющее вино гениального движения вперед разума, науки и техники. Им созданы бесчисленные машины неизмеримо увеличившие силы человечества, им установлены химические законы, подчиняющие человеку внутренние силы материи, им открыт до конца и покоряется земной шар и, кто знает, быть может Завтра будет завоевана вселенная.
Человеческое болото, – мещане, завязшие в тине предрассудков и привычных форм существования, – всегда люто ненавидело этих искателей новых дорог.
Ненавистны они всем и всяким отживающим классам, ибо вместе с ними в двери жизни стучится буйная новь. Незаметно для самих себя, часто вопреки собственным желаниям изобретатели прежних веков вели разрушительную работу в устоях того классового строя, с которым связано их существование.
Приходят другие вожди, возглавляющие революционные бои масс и вместе с массами решают социальные проблемы, но имена изобретателей также всегда живут в умах передовых классов, им дано право на вечность, как вечен труд человека, покоряющий природу.
Изобретатель – мученик средневековья, изобретатель – наемник капитализма, ваше великолепное будущее – в свободном изобретателе-творце коммунистического общества.
Безнадежно бился изобретатель в противоречиях феодальной и капиталистической действительности и только социализм создает необходимые условия для развития жизни и труда изобретателя в полной гармонии с новым обществом.
Средневековый ремесленник подобен двуликому Янусу.[10]
Одно лицо его принадлежало мастеру-художнику. Средневековье, особенно конец его, были эпохой высокого художественного совершенства изделий. Не ученые архитекторы (они появились лишь в конце XVI столетия), а ремесленники построили грандиозные соборы и великолепные городские ратуши[11] средних веков – здания, которые и сегодня являются образцами непревзойденного мастерства. Никогда больше производства и художественное творчество не были так тесно соединены в лице производителя.
Наемный труд капитализма убил эстетическую радость физического труда. Капитализм сделал рабочего придатком к машине, обезличил его произведение и изъял из обихода понятие о доблести мастера-творца.
Другое лицо ремесла – принадлежало темной силе, которая боролась с техническими новшествами и наукой и долго сдерживала прогресс человеческого общества. Машина входит в историю уже по сгнившему трупу цехового строя и начинает головокружительный бег через кровь и пот наемных рабов к невиданному и невообразимому господству над природой освобожденного человечества. Только это общество освобожденного труда, выкорчевавшее последние корни капитализма, сумеет найти высший синтез производственного плодородия, удовлетворяющего всем общественным потребностям, с любованием производителя своим трудом, с новым типом рабочего творца И художника.
Но, рассказывая жизнь Гутенберга, мы еще находимся в начале пятнадцатого века. Ремесленники держатся крепко с полным сознанием высокой миссии благодетелей ближних и Гутенбергу нужна нечеловеческая энергия, чтобы преодолеть тупость феодального хозяйственного строя и добиться воплощения своей гениальной идеи.
Изобретатель начал борьбу – поимка Николауса Верштата – ее первый этап.
II. СЛОВО – РУКОПИСЬ – ПЕЧАТЬ
ИЗОБРЕТЕНИЕ книгопечатания означало переворот, но всякий переворот имеет свою предисторию. Дело Гутенберга было замечательным итогом процесса, растянувшегося на тысячелетия. Развитие человеческого общества подошло к тому пункту, когда идея книгопечатания сгустилась как атмосферная влага, – еще несколько мгновений и хлынет дождь.
Возникновение речи – достижение самой первой ступени жизни человечества, оно, собственно, относится к переходу от обезьяны к человеку.
«Сначала труд, а затем и рядом с ним – членораздельная речь явились главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны мог постепенно обратиться в человеческий мозг».[12]
Развитие языка вплетено в процесс становления и роста первобытного человеческого общества как его необходимое следствие и действующая сила.
Но для того, чтобы развилась письменность, человечеству надо было пройти гигантский путь. В первобытном племени простота отношений членов племени между собой и с окружающим миром позволяла мириться с устным общением и изустной передачей прошлого опыта. Только распад общины, выделение господствующего класса и образование государства создали необходимые предпосылки для самоутверждения письма. Новые более сложные формы хозяйствования на основе разделения труда породили письменность – орудие правящего класса, необходимое вооружение купца и ростовщика.
Три основные системы письма возникли в государствах Египта, Вавилона и Китая.
Несовершенство техники древних государств отразилось и на созданных тогда праотцах книги.
Египтяне четыре тысячи лет назад вырезывали исторические повествования и легенды на камне своих пирамид. Письменные знаки сохранились на кирпичах развалин Вавилона. Писали на глиняных дощечках, и эти записи составляли общественные книгохранилища и библиотеки древней знати. Много подобных библиотек было в Мессопотамии, огромное количество глиняных дощечек-книг собрано в Ниневии.
Позднее у египтян, греков и римлян разного рода известия, повествования и официальные документы вырезывались на каменных и боонзовых пластинках.
Обычай писать на покрытых воском деревянных дощечках возник в древности и перешел в средние века. Мы знаем, что этим способом пользовался Карл Великий и в Статуте парижских ремесленных корпораций XIII века мы встречаем раздел «О тех, которые делают навощенные дощечки для письма».
Очевидно, что камень, глина, металл и дерево были неудобным материалом для писания. Огромным шагом вперед явилось употребление папируса, введенное египтянами. Наиболее древний папирусный свиток относится к XXV веку до нашей эры.
Папирус – особый вид тростника, – растет в болотах Египта, Палестины и Сицилии. Возделывался он в Египте, как культурное растение. Из средней части его стебля вырезывались тонкие плоские полосы; их укладывали между двумя гладкими досками, смазывали клеем, сильно прессовали и высушивали на солнце. Таким образом получались годные для письма листы, легко свертывающиеся в свитки. Часто несколько листов папируса соединялось вместе. Заглавие такой книги обозначалось на ярлыке, прикреплявшемся К концу стержня, на который навертывался свиток. Для наиболее ценных рукописей делали футляр из кожи – это был предшественник современного переплета.
Греки и римляне переняли от египтян письмо на папирусе.
Ограниченность географического распространения папируса и трудность его получения вызвали появление нового материала для письма – пергамента. Впервые он был введен в Пергаме во втором веке нашей эры царем Эвнемом II. Легенда говорит, что Эвнем стремился создать В Пергаме большую библиотеку. Птоломеи, цари Египта, не желавшие возникновения соперницы их знаменитой Александрийской библиотеки, запретили вывоз папируса. Пергамский царь вышел из затруднения, организовав специальную выделку кож.
Пергамент уступал папирусу в дешевизне, но зато был много прочнее и мог исписываться с обеих сторон. Он имел форму небольших по размеру листов. Эти листы собирались в пачки и сшивались с одной стороны. В таком соединении они напоминали современную книгу. Дороговизна пергамента повлекла за собой многочисленные случаи вытравливания старых текстов для нового употребления. Необразованные средневековые монахи-переписчики смывали или соскабливали драгоценные древние рукописи, чтобы снова и снова переписывать священное писание. В современных библиотеках можно видеть восстановленные с помощью различных химических средств, такие, ранее варварски уничтоженные произведения – их именуют «палимпсестами».
Но все это не годилось для массового изготовления книг, – книгопечатание требовало предварительного создания нового дешового материала.
Распространение бумаги в Европе обогнало книгопечатание почти на столетие. К этому времени производство бумаги прошло уже длительный путь и было испробовано в ряде стран земного шара.
Изобретение бумаги относят к 153 году нашей эры, имя изобретателя – Тсай-Лун, место возникновения этой новой отрасли производства – Небесная империя – Китай. Сырьем для изготовления бумаги, как говорит предание, послужили тряпье, пенька, волокна бамбука и шелковичного дерева. Процесс производства, введенный Тсай-Луном, был очень элементарен: изобретатель разваривал эти волокна в горячей воде, потом измельчал их и из жидкой массы формовал бумажные листы. Уже тогда бумага получила в Китае разнообразное и широкое применение.
Изготовление книг китайцы начали задолго до изобретения – бумаги. Еще за две с лишним тысячи лет до нашей эры, они вырезывали письмена на бамбуке. В эпоху династии Тшинг-Ши-Хуанг (за 200–300 лет до нашей эры) было введено писание краской по материи с помощью кисточки. Китайские источники рассказывают, что кисточку изобрел генерал Мунг-Тиэн.
Рожденное в Китае бумажное производство медленно продвигается на Запад постепенно внедряясь в материальную культуру других народов: около IV века китайцы заносят изготовление бумаги в Туркестан, отсюда оно переходит в Персию, Сирию и, наконец, к арабам в Аравию и Египет. На Европейском континенте бумажное производство основали арабы в завоеванной ими Испании, это уже XI век.
В средневековые сумерки европейской культуры именно арабы первыми переняли факел науки погибшего греко-римского мира и донесли его до эпохи Возрождения. Велики заслуги арабских ученых в сохранении древних знаний и дальнейшем развитии: философии, математики и естественных наук. Огромное влияние арабов на дальнейшую культуру, и промышленные занятия европейских народов бесспорно. Результатом этого влияния явилось и то, что бумажная промышленность в XII–XV столетиях быстро акклиматизируется в европейских странах – сначала в Италии, Франции (XII век), а потом и в Германии.
Первая германская бумажная мельница была основана около 1320 г. на родине Гутенберга в городе Майнце.
Начало эпохи феодализма не создавало никаких предпосылок для революционных изменений в книжном производстве. Упадок обмена, омертвение хозяйственной жизни Европы сочетались с упадком умственным. «Средневековье развилось из совершенно примитивного состояния. Оно стерло с лица земли древнюю цивилизацию, древнюю философию, политику и юриспруденцию и начало во всем с самого начала. Единственное, что средневековье взяло от погибшего древнего мира, было христианство и несколько полуразрушенных, утерявших свою прежнюю цивилизацию, городов».
Оазисами знания делаются монастыри, монополию на интеллектуальное образование получает духовенство, по самому характеру своему противное широкому распространению просвещения и общественному прогрессу знаний.
Даже самые высокие светские правители были безграмотны. Карл Великий научился грамоте лишь под конец своей жизни. О характере обучения в ту эпоху дает представление хроника С.-Галленского монаха, который описание забот Карла о безошибочном чтении богослужебных книг сопровождает словами:
«И таким путем он добился того, что во дворце все отлично читали, хотя и без понимания».
Немногим лучше обстояло дело с образованием низшего духовенства.
Абеляр[13] в начале XII века писал:
«Те, кто теперь обучается в монастырях, до того коснеют в глупости, что, довольствуясь звуками слов, не хотят иметь и помышления об их понимании и наставляют не сердце свое, а один язык… И что может быть смешнее этого занятия – читать, не понимая».
Богословие господствует во всех областях умственной деятельности и это понятно, ибо церковь «являлась наивысшим обобщением и санкцией существующего феодального строя».[14]
Но раз это так, раз система феодализма освещается церковным авторитетом, то неизбежна борьба церкви со всякими отклонениями от церковной догмы. Такие отклонения считались ересью. Стремясь не только искоренить ересь, но и пресечь всякую возможность ее появления, церковь запрещает распространение книг священного писания среди мирян и считает тяжелым преступлением переводы этих книг с непонятной латыни на народные языки. Тем самым наносится тяжелый удар делу просвещения.
В постановлении собора в Безье (1246 г.) сказано:
«Что касается божественных книг, то мирянам не иметь их даже по-латыни; что же касается божественных книг на народном наречии, то не допускать их вовсе ни у клириков, ни у мирян».
В эдикте[15] Карла IV конца XIV века говорится: «мирянам обоего пола по каноническим установлениям не подобает читать чего бы то ни было из Писания, хотя бы на народном языке, дабы через плохое понимание они не впали в ересь и заблуждение».
Понятно, что в таких условиях книгопечатанию ставились почти непреодолимые препятствия. Нужны были решительные социальные и экономические сдвиги для разрушения этих преград.
Только конец средневековья, в связи с хозяйственным подъемом и расцветом городов и оживлением умственной жизни, поставил вопрос о книгопечатании, как насущную проблему эпохи и предопределил его неизбежное появление.
Усложнившаяся государственная жизнь требовала твердой писанной регламентации. Обучение молодых поколений делалось Необходимостью. Рукопись не поспевала за обслуживанием многообразных общественных потребностей и фиксацией накапливавшегося опыта в области науки и искусства. Передовые слои средневековой интеллигенции возвращаются назад к духовным сокровищам забытого древнего мира, чтобы почерпнуть из них ориентировку в настоящем.
Италия, как экономически передовая страна, первая встает на путь «возрождения» – воскрешая памятники литературы и искусства древности. Процесс этот начинается в XIII веке, но только XV век делает крупные открытия в области древней литературы, только тогда возникают систематические библиотеки и обнаруживается ревностное стремление к переводам и переписыванию книг. Одним из первых основателей крупной библиотеки явился папа Николай V. Еще будучи монахом он был обременен долгами из-за крупных затрат на покупку и переписывание манускриптов.[16] После его смерти осталось до 5000–9000 томов, положивших начало библиотеке Ватикана. Во Флоренции богатая библиотека была создана Николо Никколи, одним из ученых друзей Козимо Медичи.[17] Грек кардинал Виссарион собрал до 6000 манускриптов христианских и языческих авторов, часть их до сих пор сохранилась в Венеции в библиотеке Св. Марка.
К концу средних веков растет сеть школ. Наряду с церковными низшими школами возникают и светские. В XII и XIII веке школы Парижа и Болоньи приобретают мировую известность и преобразовываются в университеты. К 1400 г. в Европе было 44 университета, а к эпохе реформации число их достигло 65. Университеты становились очагами научного движения и вокруг них нарастала борьба со средневековым мировоззрением за освобождение духа от пут теократии[18] и религии. Образование, хотя бы и в примитивных формах, девается все более и более необходимым условием для людей, желающих принять участие в управлении, торговле и других общественных занятиях.
Новая ступень общественного развития требовала размножения книг такими темпами, которых не могли обеспечить средневековые переписчики. О том, как велико было значение изобретения Гутенберга для ближайших крупных социальных событий говорит отзыв Лютера,[19] назвавшего книгопечатание «вторым искуплением рода человеческого».
Книжное производство, существовавшее еще у греков и римлян, было теперь беременно технической революцией.
О наличии книгопроизводства и книготорговли в древнем мире свидетельствуют и литературные памятники того времени и археологические данные. Пример – при раскопках Помпеи найдена книжная лавка, при которой находилось помещение писцов.
В средние века перепиской книг занимались преимущественно монахи. Ряд сохранившихся образцов свидетельствует о высоких художественных достижениях переписчиков как в области каллиграфии, так и в иллюстрациях. Но переписывание книг, требовавшее приложения огромного труда, было делом медленным и очень дорогим.
Закономерно появляется идея тиснения книги.
Идея эта, вероятно, была заимствована у Востока, так как еще в VI веке нашей эры тиснение книг с деревянных досок было известно в Китае, а в эпоху династии Танг (601–906 гг.) получило широкое распространение.
Китайские источники свидетельствуют также о том, что в начале второго тысячелетия было изобретено печатание подвижными литерами (из особым образом обожженной земляной массы и из бронзы). Но, вследствие особенностей китайской письменности, китайский алфавит насчитывает до 50 ООО знаков, которые соответствуют целым словам и понятиям; это изобретение не имело такого значения для книгопечатания в Китае, какое изобретение Гутенберга приобрело для европейских народов. Нет никаких оснований полагать, чтобы Гутенберг был знаком с опытами китайцев, а, очевидно, пришел к разрешению проблемы подвижных литер самостоятельными путями.
Впервые тиснение в Европе стало применяться к производству игральных карт – XIII век. Дальше ксилография – резьба на дереве выпуклого рисунка или текста и оттиск его на листе – переходит в область книжного дела. Начало XV века ознаменовывается появлением отпечатанных таким образом картин и небольших сочинений. Тиснение досками особенно развилось в Нидерландах.
Остается сделать еще один шаг – надо доску разрезать на передвижные литеры и перейти к набору. Освоение этой мысли не могло представлять особого труда, хотя бы потому, что давно обучение грамоте велось с помощью изготовления отдельных букв и складывания из них слов.
Еще в IV веке блаженный Иероним писал в «О воспитании отроковицы»: «Нужно сделать ей буквы либо буковые, либо из слоновой кости и назвать их ей. Пусть играет ими и, играючи, обучается и пусть она запоминает не только порядок букв и не только по памяти напевает их названия, но пусть ей неоднократно путают и самый порядок, перемешивая средние буквы с последними, начальные – со средними, дабы она знала их не только по звуку, но и по виду».
Легенда об изобретении книгопечатания Лаврентием Иоганом Костером в голландском городе Гаарлеме рисует нам это изобретение как продолжение такой игры с вырезанными буквами.
Рассказ о Костере написан в 1568 г. голландским историком Адрианом Юнием, бывшим в то время сектором латинской школы в Гаарлеме. Он появился в печати в 1588 г. в выпущенной Юнием на гуманистической латыни истории Голландии «Батавия». Вот, что пишет Юний:
«Я утверждаю, что честь открытия книгопечатания принадлежит нашему городу Гаарлему и что мы должны с полным правом потребовать восстановления этой чести…»
«128 лет назад в Гаарлеме жил Лаврентий-Иоган Кихенхютер или Костер. Семья, носившая с честью имя Костер, обладала тогда выгодным и почетным местом. Названный Лаврентий-Иоган есть тот самый человек, которому теперь по справедливым притязаниям возвращается слава, бесчестно отнятая у него другими.
Однажды он, гуляя в лесу, лежащем около города, вырезал из буковой коры литеры. Потом он отпечатал их на бумаге и составил для забавы несколько строк, чтобы дать их для образца детям своего зятя».
Дальше Юний повествует о том, что Костером была изобретена специальная краска для печатания, во много превосходившая употребляемые чернила. Буковые литеры Костер заменил свинцовыми и, наконец, ввел олово для усиления их твердости.
Все шло успешно до тех пор, пока работа ограничивалась семьей Костера.
Интерес к искусству возрастал, производство расширялось и представилась необходимость в дополнение к членам семьи взять рабочих. Это положило начало беде. Среди рабочих был некто Иоган, который изменил своему господину и принес ему несчастье…
«Этот Иоган, который обязался клятвой помогать печатанию, сначала усвоил искусство соединения букв, отливки форм и все остальное необходимое. И, когда это все стало ему хорошо известно, использовал он благоприятный случай, именно христову ночь, в которую все без различия обычно идут в церковь. В эту ночь он овладел всем запасом букв; забрал все инструменты я аппараты своего господина и спешно бежал со всем украденным из дому. Сначала он направился в Амстердам, оттуда в Кельн и, наконец, явился в Майнц, как бы под охрану алтаря, где он был вне досягаемости и в безопасности. Здесь он основал типографию и собрал богатую жатву своей покражи».
Повествование о Костере основано Юнием на свидетельстве некоторых горожан и их воспоминаниях. Мы не станем останавливаться на разборе всех доказательств, приводимых защитниками гаарлемской версии изобретения и их противниками.
Слава творца одного из гениальнейших искусств должна принадлежать человеку, посвятившему свою жизнь тому, чтобы довести до конца свое дело, чтобы создать впервые типографию и книгу, т. е. слава эта по праву принадлежит Гутенбергу.
Может быть до него были люди, предвосхищавшие книгопечатание и даже проделавшие часть его мучительного изобретательского пути – это не меняет дела. Изобретательство – это идея, труд и воплощение идеи трудом. Гутенберг в своей жизни осуществил все части этой изобретательской триады.
Ученики Гутенберга распространили по Европе печатание подвижными литерами. От всех чрезвычайно многочисленных типографий, возникших еще в XV веке в разных городах и странах, протягиваются незримые нити к единому центру – майнцкой печатне мастера Иогана, – он и только он – истинный родоначальник нового замечательного искусства.
Костеру, – пусть даже все о нем написанное было бы истиной (что на сегодня никем не доказано) – не на что претендовать, если кража шрифта и инструментов могла заставить его сложить оружие и не довести до конца свое изобретение.
III. ГОДЫ В СТРАСБУРГЕ
TОЛЬКО здоровая, богатая жизненными соками сорванная ветвь может приняться на неподготовленной почве и утвердиться на ней цепкими корнями. Годы в Страсбурге – это годы испытания и закалки Гутенберга и в то же время несомненно период созревания его идеи.
Гутенберг поселился при монастыре святого Арбогаста на окраине города. Название этого монастыря упоминается еще во втором городском праве Страсбурга (1214 г.). «Вот монастыри, которые в городском походе ставят коней для колесницы со знаменем (следует перечень семи монастырей). Настоятель же св. Арбогаста будет снаряжать одного парадного коня, на котором будет ехать шультхейс, сопровождая колесницу. Знамя делается евреями».
Очевидно, что и в те времена монастырь этот имел большие достатки и пользовался почетом.
Вглядываясь в будущее, Гутенберг видел бесплодность надежд на возвращение себе привилегированного положения и доходных мест своих предков. Небольшие средства, которыми он располагал, должны были скоро утечь из его карманов и впереди маячила бедность, может быть нищета.
Идея равенства была редкой и запретной гостьей средневековья. Не даром в одном из популярных дидактических романов того времени, широко читавшемся и в эпоху Возрождения, «Романе философа Сидраха» написано:
Вопрос. Все ли люди равны?
Ответ. Они равны только перед смертью.
Средневековый город давал блестящую иллюстрацию прочному имущественному неравенству. Богатство сосредоточивалось в руках немногих избранных, а на другом конце общественной лестницы толпились неимущие, часто составлявшие до двух третей городского населения. Встречая на улицах многочисленных нищих, изобретатель должен был с тревогой вглядываться в них, боясь в недалеком безрадостном будущем стать их собратом.
Деньга, полученные с родного города после захвата Верштата, несколько отсрочили тужду, но нужен был заработок во что бы то ни стало.
Выбор занятия предрешило прошлое его семьи. Род Генсфлейшей в родном Майнце вместе с одиннадцатью другими патрицианскими фамилиями пользовался правом наблюдать за полновесностью монеты, за верностью мер и весов. На них же лежало заведывание закупкой золота и серебра для чеканки монеты. Эти занятия должны были связывать Генсфлейшей-Гутенбергов с золотых дел мастерами, резчиками по металлу и ювелирами.
Нет ничего невероятного в том, что еще в юности Иоган обучался мастерству шлифовки камней или чеканки, ибо, как говорит в своих воспоминаниях богатый кельнский горожанин Герман фон Вейнсберг: «Многие выучиваются ремеслу „про запас“, чтобы им кормиться, так брат учился скорняжному делу; но если представляется лучшее пропитание, то они „откладывают свое ремесло к сторонке и принимаются за то, к чему их привела судьба“».
Лучшего пропитания не было, и Гутенберг (берется за шлифовку камней и изготовление зеркал.
Будь он зажиточным цеховым мастером Страсбурга, он может быть и остановился бы на этом. Талант Иогана обеспечил бы семье Генсфлейшей-Гутенбергов почетное место в цехе на долгие годы. В праздник святого покровителя цеха Иоган нес бы цеховое знамя, а вечером – главенствовал бы на пиру мастеров.
Но все это было недостижимо для деклассированного пришельца. В эту эпоху цех был замкнутой организацией и в нем не могло быть места инициативе пришлого одиночки.
Будь Гутенберг менее практичен и может быть более образован ему бы угрожала опасность попасть в тенета алхимии – хитрой и опасной науки, сулившей лучезарное будущее своим адептам. Соприкасаясь с золотых дел мастерами и шлифовщиками камней, он не мог не слышать о чудном философском камне, с помощью которого алхимики мнили превращать любой металл в благородное золото и стяжать неслыханные богатства.
О том, сколь велика была слава алхимии в средние века свидетельствует пример короля английского Генриха VI, при котором был отдан указ духовенству возносить молитвы богу, чтобы была им послана помощь алхимикам в нахождении философского камня. Большой интерес к этой науке проявлял и Карл VII французский, тот самый, король, который впоследствии послал в Майнц к Гутенбергу людей, чтобы перенять у него славное искусство книгопечатания.
Поддайся человек обоянию алхимии, и были бы бесплодно загублены дни и ночи мучительных трудов на неудачные опыты, изучение пустых мистических формул и поиски выхода с помощью магии, последнего прибежища науки темных людей. Надо было обладать могучим разумом Рожера Бэкона, чтобы еще в XIII столетии видеть в теоретической алхимии науку о неорганических и органических соединениях: «являющихся по своему составу результатом комбинации тех же элементов и жидкостей, частный случай соединения неорганических веществ» и, таким образом, провидеть линий развития современной химии.
ИОГАН ГУТЕНБЕРГ
Гутенберг прочно держался за ремесло, но искал такое новое ремесло, которое избавило бы его от конкуренции и запретительных мер существующих цехов и сулило обогащение и прочное имущественное положение.
Процесс Гутенберга-Дритцена в 1439 г. показывает, что этот человек уже несколько лет помимо изготовления зеркал занимался каким-то «тайным делом» и тайна этой работы хорошо охранялась его друзьями.
Работа, которую скрывал Гутенберг, была поисками нового искусства – книгопечатания. Деятельность его направлялась по двум линиям: заработок сегодняшнего дня – это шлифовка камней, производство зеркал и, работа впрок – новая отрасль, сулящая почет, славу и деньги. Неоправдавшаяся надежда. Слава пришла к нему лишь после смерти – удел большинства изобретателей того времени. Почет и деньги остались за несправедливой судьбой.
Гутенберг жил со своим слугой Лоренцем Бейльдеком, который был его доверенным лицом.
Проекты, родившиеся в голове Гутенберга, требовали помощников для своего свершения. Первым человеком, который пришел к Гутенбергу, стал его помощником и поверил в него до конца, был Андрей Дритцен.
Молодость – стальная пружина, могуче развертывает она свою блестящую спираль и звоном отвечает на удары. Дритцен был молод. Гутенберг взялся обучить его шлифовке камней. Андрей становится деятельным участником всех предприятий своего учителя, отдает ему почти целиком отцовское наследство, стремится осознать все известное Гутенбергу и остается верным ему до своей вскоре последовавшей преждевременной смерти.
Работа Гутенберга идет успешно, производство налаживается, задача в том, чтобы найти время и место для выгодного сбыта его изделий. Благоприятный случай появляется. В городе Аахене, старом священном городе Германии, месте коронования немецких королей, в 1439 г. должно было состояться народное торжество. Каждые семь лет многочисленные богомольцы королевства и даже других стран стекаются в Аахен на поклонение многочисленным святыням хранящимся в его церквах. Документы XV века свидетельствуют, что за один только день такого празднества через вороты города прошло сто сорок две тысячи богомольцев. Четырнадцать дней длится торжество и непрерывно текут и сменяются разноплеменные толпы.
Установленный семилетний срок истекал через год, и Гутенберг, заключает договор с бургомистром соседнего города Лихтенау Гансом Рифом. Они образуют товарищество для выделки предметов, которые надеются с выгодой сбыть в Аахене.
Узнав о товариществе, Андрей Дритцен обратился к Гутенбергу с неотступными просьбами включить и его в это новое дело.
Немного позднее, знатный страсбургский горожанин Антоний Гейльман попросил о том же изобретателя от имени своего брата Андрея.
Товарищество возросло до четырех человек, причем оба Андрея вошли в него как ученики Гутенберга. Они оплачивали свое обучение, но вместе с тем приобрели право на долю в прибылях с предприятия. Благоприятно начавшееся дело неожиданно стало перед серьезными затруднениями – празднество в Аахене было отложено на год.
Дритцен и Гельман пожелали продолжать учобу и ставят вопрос о том, что бы Гутенберг ничего от них не утаивал и открыл им все свои искания и достижения.
Молодые ученики мастера уже знали, что главным в замыслах и трудах Гутенберга были не зеркала, не то, чем предполагали компаньоны заработать деньги в Аахене, а нечто гораздо более новое и обещающее. Мастер не мог скрыть от них своих опытов и, может быть, и не хотел скрывать.
В эти годы Гутенберг настойчиво производил изыскания в области печатного искусства. Это несомненно – страсбургский золотых дел мастер Ханс Дюнне в 1436 г. изготовил для Гутенберга на крупную сумму в сто гульденов «предметы, относящиеся к тиснению».
Но не печатные произведения думал он пустить в продажу. Мастер Иоган тогда еще не вышел за рамки существовавших производств и о книгопечатании, как о ремесле, изготовляющем изделия на рынок, не было и речи. Страсбургский период – это еще хождение ощупью, начальное раскрытие идеи.
Книгопечатание, освоенное в основных его деталях, не появилось перед Гутенбергом внезапно, как Минерва из головы Юпитера, когда он во второй половине своей жизни вернулся в Майнц. Процесс создания нового искусства складывался медленно и постепенно, слишком сложен и труден для того времени был неизбежный путь исканий такого блестящего новшества.
Книгопечатание родилось в Майнце, но зачато оно было в Страсбурге.
Однако перспективы нового искусства уже вырисовывались перед изобретателем и пленяли воображение. Только чем-то потрясающе новым и открывавшим широкие перспективы мог Гутенберг захватить и привязать к своему делу восторженного Дритцена.
Свидетельница Барбель из Цаберна передает на суде свой знаменательный разговор с Андреем.
Была ночь, а Дритцен еще не собирался ко сну. На уговоры Барбель он отвечал, что предстоит работа. Любопытная женщина ловко выпытывает у него сколько гульденов из отцовского состояния вложил Андрей в это темное для нее дело с пришельцем Гутенбергом. Услышав о крупной сумме, ушедшей из рук молодого человека, она в ужасе восклицает: «Святой страдалец, что же ты будешь делать, если вы все это потеряете»?
Ответ Дритцена подчеркивает веру в свое дело и в учителя: «Мы не можем потерять, не пройдет и года, как мы получим назад вложенные деньги и будем счастливы, если только господь не захочет послать нам страдание». Он говорит это уверенным тоном. Неприглядное сегодняшнее существование этого человека окрашено в привлекательные цвета надеждой на светлое будущее.
Аффектированная вера Дритцена только измененное отражение спокойной уверенности Гутенберга, прошедшего уже какой-то путь опыта и проверки своей идеи.
Вера Дритцена почерпнута там – в монастыре св. Арбогаста, где постоянно проводили время, ели и пили Дритцен и Гейльман.
Ночь. Комната в доме Гутенберга. Слышен шум реки, которая протекает у самых стен. В комнате двое: мастер Иоган и Андрей Дритцен. Они много работали сегодня и теперь отдыхают за кружкой вина. Мастер пьет больше обычного – он расстроен. Оба молчат.
«Сколько раз, зная свой бешеный характер, свою необузданность, он говорил себе – это было в последний раз. Человек, мужая, приобретает уверенность и непоколебимое спокойствие, и вот опять неудача. Всему виной женщина, но не монах же он, чорт возьми! В жилах этого большого тела, силу и ловкость которого так радостно ощущать, бежит настоящая кровь, – кровь завоевателя.
И потом, он не позволит, чтобы посторонние люди совались в его дела, он проучит их всех, как проучил этого башмачника. Но суды ему надоели», – так думал Гутенберг и чувствовал обиду, огорчение и злость.
«Началось так: Анна обвинила его перед духовным судьей в том что он нарушил свое обещание жениться на ней. Может быть, он и права, но никто не может повелевать Гутенбергу, никто ему не указ.
Шоттен Лавель – этот башмачник – посмел явиться свидетелем на суд. Этого нельзя стерпеть. Он здорово обругал этого лжеца и негодяя. Снова жалоба, теперь уже в городской суд. Присудят к штрафу, а денег так мало, деньги нужны на дело».
Андрей молчит и опустил глаза. Этот мальчишка, конечно, все знает и чего доброго еще смеется над ним.
Вслух: Что ты молчишь, Андрей?
– Мастер, я думаю о твоем изобретении.
Гутенберг оживляется, можно в беседе забыть огорчения и обиды.
– Давай поговорим, помечтаем о будущем. Пусть неприглядность сегодняшнего нашего существования, ничтожество и бедности наши озарятся лучами величественного восхода нового светила, которое сейчас еще скрыто тенью. Мы, подготовляющие появление книгопечатания, пока единственные знаем, что оно действительно будет, но и мы не можем еще уяснить себе и малой доли его последствий.
Безвестный современник наш изобрел порох. Приходит конец неприступному замку, мощи и доблести рыцаря в железных доспехах, власти руки, вооруженной мечом и секирой.
Порох будет страшной силой разрушения и смерти, но разум подчинит эту силу извечной борьбе людей с природой, и порох послужит смирению ее непокорности.
Но намного больше силы разрушения и созидания скрыто в моем изобретении.
Рыцари, князья, епископы, короли, императоры и папы преклонятся перед величием его и властью. С невиданной быстротой печатный станок завоюет землю, я вижу учеников моих, разносящих дело мое по всем городам и странам. Книги будут переходить из рук в руки, нужные и понятные всем, как золотые монеты. Печатники получат почет и достаток. Мое имя будет повторяться в устах поколений. Слава, она, как молодое вино, бросилась мне в голову.
Спокойствие!
Он помолчал и продолжал, как бы в раздумьи:
– Я напечатаю библию, как замыслил. Церковь первая использует мое дело. Но светские владыки, купцы и ростовщики – они жадно протянут руки к книгопечатанию, как за отточенным оружием в битвах своих за господство и барыши. Печатное слово, подобно гигантской змее будет обвивать и душить, чаровать и жалить. Бедные горожане и земледельцы, когда вы научитесь читать, какую ложь поднесут вам ваши владыки.
Но не будем страшиться. Обоюдоостро оружие книгопечатания, она таит в себе две великие силы: разум и единение. Князья и архиепископы всегда держались разобщенностью народа и его темнотой. Пора перестраивать жизнь справедливо. Книгу будут читать все, она будет двигать жизнь к лучшему будущему и разжигать ярость против скудности настоящего. Будет веселое время! Верь мне, Андрей, и мы его зачинатели!
Гутенберг встал и, обращаясь к окну, сквозь цветную слюду которого пробивались первые искры рассвета, продолжал:
– Я приветствую прежде всего моих неизвестных друзей, которым предстоит продолжать мое дело. Знаю одно: мое новое искусство, как жизнь – его нельзя вытоптать и заглушить. Оно всюду, оно всегда – пока будет дышать человечество. Я вижу – проходят века, вот лежит книга, я склоняюсь над ней и читаю оттиснутый в ней какой-то неисчислимый год.
Дритцен заболел. В сочельник 1439 г. он был при смерти; какие мысли блуждали в его обессиленном мозгу, не слова ли этой непроизнесенной речи его учителя?!
Дритцен умирал медленно и трудно. У постели умирающего были родственники. Андрей пожелал исповедываться.
Последнее покаяние его принял Петер Эккарт, священник церкви св. Мартина.
Одно из епископских предписаний XIII века так определяло содержание вопросов на исповеди для различных сословий:
«У крестьян спрашивать о воровстве, главным образам об утайке десятины и первых плодов, податей, четвертных взносов, земельных повинностей, а также о нарушении меж и захвате чужой земли, а также о налогах и поджогах.
У батраков, волов о до в, работников, пастухов и иных подобных людей пусть спрашивает священник, верно ли блюли они имущество господ своих, верно ли справляли они работы и службы на них возложенные.
У купцов и горожан… спрашивать, не творили ли лжи, обмана, ростовщичества (лихвенных ссуд), неправного обмена, не обмеривали ли, не обвешивали ли…».
Законченная система полицейского сыска на потребу сильным мира сего. Возникает вопрос: а как же тайна исповеди, провозглашенная церковью? Ведь за нарушение этой тайны духовника ожидали строгие кары.
История жизни Гутенберга дает ответ на этот вопрос. Вскоре после смерти Андрея в возникшем процессе между его братьями и Гутенбергом показания священника о содержании исповеди Дритцена фигурируют полностью, обнажая истинную сущность этой «тайны».
Пастырь душ – Эккарт был практическим человеком и вместо напутствия умирающему он прямо спросил: не имеет ли Дритцен долгов и не должен ли кто ему?
Дритцен взволновался и поведал священнику о своем участии в товариществе Гутенберга, вложенных в товарищество деньгах, очевидно Андрей считал это грехом против своих братьев.
Петер Эккарт был мелким провокатором, ему далеко до позднейших его собратьев, предававших революционеров после того как им удавалось выведать на исповеди признание мятущейся души участников заговоров и восстаний, веривших в действительную святость тайны «беседы с богом».
Гутенберг не был у смертного одра своего ученика, его волновало другое, он боялся разглашения своей тайны, ибо часть приспособлений его нового искусства находилась в доме Дритцена.
Ряд свидетелей показывает, что Гутенберг через своего слугу Лоренца Бейльдека и Андрея Гейльмана добивался того, чтобы из пресса, находившегося в доме Дритцена, были вынуты какие-то формы и разобраны так, чтобы никто не мог догадаться для чего они служат.
Есть основания думать, что печатный пресс, заменивший старый способ оттиска печати проглаживанием листа, был уже к этому времени изобретен Гутенбергом. А формы, о которых так заботился Гутенберг, надо полагать, что они имели прямое отношение к отливке подвижных металлических литер.
Смерть Дритцена чуть было не повлекла за собой новые осложнения в усовершенствовании искусства книгопечатания. Братья его подали в суд на Гутенберга жалобу, требуя, что бы он либо вернул им деньги, вложенные в товарищество их покойным братом Андреем, либо принял их участниками в дело. Гутенберг очевидно вовсе не хотел принимать братьев Дритцена в товарищество, денежный же иск грозил разорением.
На жалобу Дритценов Гутенберг представил суду пространное объяснение; допрошено по этому дело было 39 свидетелей.[20]
Мейстером Куно Нопе и советниками, разбиравшими тяжбу, вынесено решение, присуждавшее Гутенберга к уплате всего 15 гульденов, процесс по существу выигран изобретателем.
Но благоприятное окончание процесса не решало основного вопроса, – стоявшего перед Гутенбергом. Страсбургские дела показали ему, что с теми незначительными средствами, которыми он располагал и мог здесь получить от своих компаньонов и учеников, ему на завершить начатое им дело. Гутенбергу нужен был состоятельный человек, который согласился бы вложить в затеваемое им предприятие значительно более крупные суммы.
В поисках такого человека мы встретим Иогана Генфлейша, именуемого Гутенбергом снова в его родном городе Майнце.
На фамильном гербе Генсфлейшей на красном щите изображен идущий человек. В поднятой правой руке он держит перед собой плоскую широкую чашу, левой – опирается на палку, плащ его развивает ветер.
Предки оставили изобретателю в наследство бедность и скитания, чашу он сам наполнил крепчайшим вином и подносит ее человечеству.
IV. ПЕРВАЯ ВСТАВНАЯ НОВЕЛЛА
(В которой описаны сутки в средневековом городе и рассказывается о печальном конце одного изобретателя)
ОСЕННИМ утром в город въезжал обоз. Миновав городские ворота, передняя повозка увязла в жидком месиве грязи. Лошади бились под ударами кнута, люди кричали, перемежая приказания и советы тяжкой руганью.
Странствующий монах в обтрепанной одежде, который вслед за обозом вошел в город, остановился, послушал и, взглянув на высокий шпиль собора, поднятый вдалеке над нестройными грядами низких домов, неспешно двинулся дальше.
Повозка, доверху нагруженная товарами, накренилась, грозя опрокинуться. Люди, суетившиеся около лошадей, посылали проклятия невинным горожанам, магистрату и всем, кто, как им казалось, делал таким тяжелым купеческий промысел средневековья.
Группа купцов верхами сопровождала обоз. Один из них не стал дожидаться конца происшествия и, хлестнув коня, рысью двинулся по улице. За рыночной площадью он свернул в переулок и постучал у дверей деревянного двухэтажного дома с пристройками, балконами и башенками.
Наверху в окне мелькнуло женское лицо. Путешественник втянул носом воздух – пахло снедью, труба над домом дымилась.
Купец был тяжелым сутулым мужчиной, на бородатом лице его поперек лба розовел шрам, у седла висел меч с простой рукоятью.
Хозяин дома встретил незнакомца неприветливо. Маленький рыжий человечек с лисьими повадками переступал с ноги на ногу перед своим мрачным гостем и упорно смотрел в сторону. Трудные обстоятельства последних дней выбили его из привычной колеи, и он никак не мог вернуть себе врожденную развязность. В городе было неспокойно, ремесленники враждовали с патрициями, к которым принадлежал и хозяин. Можно было ожидать открытого столкновения.
Купец по занятиям, член магистрата он опасался нового увеличения налогов или даже изгнания из города.
Кроме того, в этот день он собирался праздновать свадьбу дочери и все это было не вовремя. Новоприбывший передал хозяину письмо и объяснил в кратких словах, что купеческий старшина соседнего города шлет ему привет и просил проезжего купца устно добавить то, что упущено в этом кратком послании.
Хозяин, видимо, все еще не знал, как ему отнестись и к письму, и к стоявшему перед ним незнакомцу, а тот не уходил, стоял перед ним огромным медведем, казалось, в комнате стало темно и не хватает воздуха.
Наконец, тугие мозга хозяина взвесили все и освоили положение. Проявляя совершенно неожиданную живость, он позвал слугу и велел ему бежать найти мастера Иогана, старшину цеха оружейников, и сказать ему… речь свою он окончил уже за дверью.
– Мастер Иоган большой человек в нашем городе, очень большой, – пояснял он вернувшись. Мы с ним враги, – он хихикнул, как будто залаяла лиса. – Но я рад ему услужить, очень рад.
Медведь понимающе глядел на него и издавал тихое ворчанье.
Потом они сидели рядом за столом и вели беседу вполголоса, дочь хозяина несколько раз подходила к двери и прислушивалась, но ничего не могла разобрать.
Слуга вернулся и сообщил, что старшину оружейников он не застал дома, ему там сказали, что мастер ушел в собор. В этот день было воскресенье.
У дверей собора ожидала толпа убогих и нищих. Горожане подымались и спускались по каменным ступеням – служба приближалась к концу. Подошел одноглазый человек в простом платье слуги и, отпихнув ногой калеку, который сидел на нижней ступени, схватил за руку стоявшую с ним женщину. Молодая женщина, с тяжелым остановившимся взглядам, одетая в жалкое рубище вскрикнула от неожиданности и последовала за одноглазым. Безногий послал им вслед непристойную ругань.
– Я от мастера Иогана, – тихо сказал циклоп, – ты должна показать под присягой, что человек, которого ты не знаешь, обесчестил тебя и живет с тобой. Тебе за это заплатят.
– Зачем? – Не твое дело.
– Я хочу знать?
– Видишь ли, в уставе сказано, что за такие дела мастера выгонят из цеха…
Женщина опустила глаза и промолчала.
Собор был головокружительно высок. Сквозь цветные стекла расположенных наверху длинных узких окон падал колеблющийся свет.
Навстречу ему поднимались звуки органа. Позолота стен и алтаря искрилась и темнела. Над головами молящихся простиралась гнетущая масса камня и полутьмы, определяя человеческое бессилие перед божественной властью, которая в сущности была маской власти земной. Сквозь открытые двери виднелось мягкое сиянье осеннего дня.
Из храма вышла группа людей, одежда которых обличала зажиточных ремесленников. Они направлялись к ратуше и, не, дойдя до нее, остановились у статуи Роланда.
Говорил высокий худой мужчина, похожий на роландов меч, воткнутый в землю. Круглая шляпа с полями бросала тень на верхнюю часть лица, большой нос, – как клюв хищной птицы, загибался книзу, и, казалось, хотел вонзиться в выдвинутый вперед раздвоенный подбородок.
– Мой ученик вчера вечером подслушивал у дверей монетчика. Там собрались его родичи и несколько знатных граждан, я знаю всех, кто ходит к монетчику. Хвастуны грозили проучить наглых ремесленников, и монетчик, даже примерял доспехи и надевал шлем на свою пустую голову. Он говорил, что у него достаточно мечей, секир и решительных людей, чтобы разогнать мужичье, которое испугается, и палки. Каково это слышать вам – мастерам, великим своим искусством стяжавшим славу во всем королевстве, да что я говорю – во всем свете. Не довольно ли этим пустозвонам сидеть в магистрате и набивать свои и без того распухшие кошели?!
Речь говорившего была принята сочувственно. Ободренный мастер продолжал:
– Я говорил вчера с капелланом нашего святейшего епископа. Он поведал мне, что епископ также недоволен магистратом. Надо действовать, граждане!
– Раскроить головы патрицианским выродкам! – бросил один из собеседников.
– Ткачи ненадежны, мастер Иоган, – произнес другой: они жалуются на малые достатки и завидуют остальным.
– Среди подмастерьев идут дурные разговоры.
Иоган. – Неужели мы, цеховые мастера, еще недостаточно сильны, чтобы постоять за себя?
– Знатные веселятся, – снова перебили его.
– Пусть веселятся! Поможем им переселиться к самому дьяволу в преисподнюю. Я отвечаю за оружейников, они встанут под знамя своего святого патрона!
Снова молчание.
– Да, чего и ждать, если даже среди моих мастеров есть изменники! – продолжал глухой голос оружейника.
Тишина длительной паузы подчеркнула волнение.
– Некоторые из вас знают Андрея, что живет у железных ворот. Темный человек, якшающийся с иногородними и бродягами. Он хвалился перед людьми, что знает новый секрет производства и лучше подохнет, как последняя собака, чем откроет его собратьям по цеху.
Круг враждебных взглядов замкнулся и один из участников разговора задал вопрос:
– Что же думает старшина оружейников?
К ратуше приближался обоз иногородних купцов. Впереди на рыжем коне ехал сутулый тяжелый мужчина с розовым шрамом поперек лба.
Мастер Андрей был еще молод. Он стоял во дворе своего дома, что у железных ворот; ветер играл его черными волосами и шевелил складки плаща. На ладони левой руки его лежал кинжал, который он рассматривал.
Перекинув кинжал в правую руку, Андрей размахнулся и бросил его в стену. Сталь сверкнула в воздухе, лезвие вонзилось в дерево и задрожало как струна.
– Это ей или ему, – прошептал он.
– Мастер, – обратился к Андрею подошедший юноша. – Я проходил сегодня мимо дома купца Штокера и говорил со слугами. Свадебный обед готовят.
Андрей вырвал кинжал из стены и оказал:
– Ты глуп, подмастерье. Клинок этого кинжала лучше чем у сарацинского, которым хвастался прошлый раз заезжий рыцарь, да и рукоять красивее. Этот кинжал сделал я, мастер Андрей. А ты вот навсегда останешься подмастерьем, какого бы искусства в своем деле ты не достиг, потому что ты беден, как последняя крыса нашего собора и не сможешь заплатить всех поборов, которых потребуют с тебя цех и власти. Мастера ловко околпачивают вашего брата, но и я, кажется, тоже попаду в их лапы.
– Дочь Штокера… – снова начал подмастерье. Андрей перебил его.
– Так уж повелось: у крестьянина есть рыцарь, у меня – цеховой старшина, у тебя – мастера, даже императора и того прижимают князья и папа, иначе он не стал бы просить помощи у горожан. Не знаю только, кто притесняет святейшего папу и бога, но кто-нибудь и у них есть. Меняя тему:
– Завтра должен притти человек, ты его не вводи в дом, а только спроси, где мне с ним встретиться и молчи об этом.
Мастер Иоган не пошел к купцу Штокеру – между их домами лежала пропасть, вырытая сословной борьбой, но они встретились в этот день.
Мастер смотрел на своего собеседника сверху стеклянными глазами хищной птицы, – вот сейчас ударит клювом сидящего перед ним зверька. Штокер издавал тихий лисий лай, говорил пустяки и никак не переходил к главному.
Наконец:
– Я получил сегодня письмо от моего друга из соседнего города. Он пишет, что один из мастеров цеха оружейников переселяется к ним, искусный мастер, знающий новые тайны вашего ремесла.
Птица заметалась, как будто хотела взлететь, потом нахохлилась. Лис остался доволен произведенным впечатлением и продолжал:
– Этот человек мне тоже мешает. Потом я надеюсь, что мастер мастеров не забудет моей дружеской услуги, я скоро думаю послать моего сына на ярмарку, а на оружие теперь большой опрос.
На свадебный пир к купцу Штокеру было приглашено много гостей. Из дома доносились голоса, в окнах горел яркий свет. В темноте перед домом прогуливался высокий человек. Со стороны рыночной площади послышались шаги. Прохожие шли медленно и разговаривали вполголоса. Высокий скрылся за углом дома и прирос к стене, он расслышал:
– Мастер вчера сильно проигрался в доме на старой улице. Знаешь, трое молодцов заполучили там зал для игры в кости. Жулить нельзя, они позволяют играть только их костями.
– То-то он так зол нынче… Люди прошли, но остановились невдалеке.
Шумно распахнулась дверь, и из дома в сумрак и грязь вывалились двое. Один из них громко икал и пытался запеть. Это был монетчик. Другой хранил молчание. Вышли они, чтобы освежиться и отдать дань природе.
– Я тоже не на яблоне вырос, – говорил монетчик. Не этим дуракам провести меня. Я соберу людей и сам еще могу хорошо орудовать мечом, даром, что я не рыцарь. Хорошо это пел рыцарь:
Мы научим мужичье…
Он снова попробовал запеть, но ничего не вышло. Человек у стены зашевелился.
Люди, которые ожидали в конце переулка, быстро подходили, над говорившими пролетел и ударил в косяк двери тяжелый камень.
Без звука они юркнули в дом. Стукнул засов. По переулку раздался топот убегающих.
На минуту в доме затихло, потом шум усилился и зазвенело оружие.
Тогда высокий человек отделился от стены и быстро скрылся.
Андрей, это он прятался за углом и был свидетелем нападения на монетчика, спешил к городским воротам.
Стража пропустила его, т. к. его знали, и он сказал, что несет заказанное оружие владельцу соседнего замка, который стоял на горе невдалеке от городских стен.
Шел он без цели, не замечая дороги. Становилось холодно. Андрей замедлил шаги, поднял глаза и вздрогнул. На фоне звездного неба перед ним вырисовывались два массивных столба. Под перекладиной неподвижно в полном безветрии висел полуиссохший труп, устрашая окрестных разбойников.
У подножья виселицы что-то зашевелилось.
– Сова, подумал Андрей.
С земли поднялась человеческая фигура.
Все трое, двое живых и мертвец, были одинаково тихи.
Молчание нарушил человек, поднявшийся с земли:
– Я думал хоть здесь никого до утра не встречу.
– Везде можно найти товарища, – последовал ответ Андрея.
– Ты кто, – забеспокоился незнакомец. – Бродяга.
– Это хорошо. Понимаешь, нельзя жить – господа отняли все: землю, луга, воду. Я земледелец, работал на господина, платил (Налоги и штрафы, собирал на владельца замка солому, ягоды, загонял дичь. Недавно наши слышали хорошего священника, он говорил: нет всего этого в священном писании, господа идут против бога. У меня сына затравили собаками, это тоже по писанию? Я убежал. Завтра войду в город, буду дышать свободным воздухом.
– Ты получишь полную свободу подохнуть с голоду. Стало опять тихо, так тихо, что хотелось крикнуть. I На этот раз заговорил Андрей.
– В Троицу за рекой горели леса. Солнце было, как красный матовый щит. В сердца вселялось глухое беспокойство, я ходил потерянный и чего-то ждал, люди говорили, что кровавое солнце предвещает чуму.
Незнакомец. – В Троицу мимо нашей деревни проходили прокаженные – человек десять. Один из них хотел войти в селение. Мы прогнали его камнями.
Андрей. – Я полюбил девушку и томлюсь, как тогда, во время пожара. Закрою глаза и вижу ее, протягиваю руку и чувствую ее. Сердце мое стало так огромно, что разрывает грудь. Сегодня эту девушку выдают замуж…
Незнакомец. У нас поп повадился ходить к жене моего кума. Ловкую штуку мы с ним сыграли. Я тебе расскажу.
К полуночи посетители кабачка стали расходиться. Хозяин зевал, часто подходил к двери и выглядывал на улицу. В комнату прошмыгнула большая собака и спряталась под столом. Собаку били, с визгом она перебегала с места на место. Наконец, хозяин принес головню и ткнул ею собаке в морду, с воем она бросилась в дверь.
Больше всех пили мастер Иоган и проезжий купец со шрамом на лбу. Купцу предстояло утром двинуться в дальнейший путь, товар везли на ярмарку.
Старшина оружейников был пьян.
– А вдруг он убежал, ведь он мог бежать? – спрашивал он. – Мог, – ворчал купец, поднимая кружку.
Пьянея, купец становился словоохотливым.
– Я уважаю ремесленников, но им далеко до купцов. Не обижайся, мастер. У вас зады приросли к скамьям, и ноги – к земле родного города. Что вы знаете и видели? Ничего.
Я исколесил много стран. Теперь возвращаюсь из Венеции. Вам и в сказках не придумать такого города. Мы, немецкие купцы, пользуемся там великим почетом. Наш купеческий двор получше рыцарских дворцов. Видел бы ты, как купцы со всего света собираются в колоннаде на площади ев. Марка, где городские весы. В день успения св. девы я видел обручение венецианского дожа с морем. Вот это торжество! До сих пор мурашки бегут по спине. Папа Александр мирился в Венеции с императором нашим Фридрихом и тогда папа, возвеселившись, даровал дожу перстень, благословив сочетание владыки Венеции с морем. С тех пор венецианцы забрали власть над морем.
В день обручения великое множество разноплеменного народа собирается на праздник. Все море от св. Марка до Лидо кишит разукрашенными лодками, как тухлое мясо червями. На «Буцентавр» – корабль, на котором двести гребцов, всходит дож, окруженный сенатом, советом, послами. Видел бы ты этот корабль, он двухэтажный, покрыт золотом, статуи по его бортам. Толпы шумят и ревут как буря. Дож бросает в воду перстень и говорит: «Море, мы обручаемся с тобой в знак нашего истинного и вечного господства».
Венецианцы на своих кораблях объездили весь свет. Рассказывал мне один венецианский купец, что пришлось ему быть в Эфиопии, где все люди черны, как сажа, а близко от этих мест живут люди с песьими головами.
Мастер обижен, но не хочет ссоры.
– Пью за ремесленников и купцов, – говорит мастер Иоганн, – ибо, как сказано в писании; мы есть соль земли. Император, когда был в нужде, занимал деньги у городов. Чьи он занимал деньги? Наши. Священный отец и его епископы, на чьи даяния воздвигают храмы и ведут, – я говорю не в осуждение, – неплохую жизнь? На наши. Верно я говорю?
– Верно, – подтвердил купец.
Дверь приотворилась, и из-за нее выглянуло безобразное лицо одноглазого.
– Пора, оказал мастер Иоган, – хозяин, зажги фонарь. Одноглазый взял фонарь и пошел освещать путь своему господину.
Купец сидел покачиваясь, лавка под ним трещала.
– Вернулся? – опросил мастер.
– Да.
– Сказал людям?
– Сказал.
– Дурак купец, надоел мне хвастовством и баснями. Он уезжает рано. Сейчас пьян и не хватится, что меч его пропал. Надо хорошо спрятать, чтобы не нашли.
Андрей вернулся в город к полуночи. Снова его потянуло к дому купца Штокера. На полдороге услышал, что его догоняют. Он остановился, шаги позади смолкли.
В серых отрепьях туч шевелилась луна. По слабо освещенной земле ползли расплывчатые тени.
Андрей ускорил шаг, вслед за ним по грязи зачастил тяжелый бег людей. Бросился в сторону, выхватил кинжал, поскользнулся, упал. В сырой пустоте воздуха прозвучало несколько ударов, потом стон и предсмертное хрипенье.
Странствующий монах, который в поисках ночлега пробирался через соседний выгон, замер, дрожащими губами зашептал молитву и быстро повернул обратно.
Часть вторая
ИЗОБРЕТЕНИЕ КНИГОПЕЧАТАНИЯ
V. ЗОЛОТОЙ ГОРОД МАЙНЦ
ГИГАНТСКАЯ плоскость, уходящая в неизвестное своими краями; в центре плоскости остров суши, со всех сторон омываемый бурными и таинственными волнами океана – так представляет себе средневековый человек землю.
Теория шарообразности земли, гениально обоснованная еще Пифагором[21] и Аристотелем[22] – забыта. На наковальне средневековых сумерек культуры, тяжкий молот церковных предрассудков сплющил земной шар в плоский круг «вроде колеса».
Океан делит сушу на три части: Азию, Европу и Африку. Одна Азия составляет половину света, Европа и Африка – другую. Америку откроет Христофор Колумб[23] через 24 года после смерти Гутенберга и примет ее за Индию.
В эпоху великих открытий представление о земном шаре возрождается снова. Флорентийский астроном Тосканелли в 1474 г. писал своему другу, придворному португальского короля Альфонса V: «Я уже говорил тебе однажды о морском пути в страну пряностей, более коротком, чем та дорога, по которой вы ездите через Гвинею. Хотя я хорошо знаю, что существование такой дороги может быть доказано на основании сферической формы земли, тем не менее, чтобы сделать вопрос яснее и облегчить предприятие, я решился изобразить дорогу на мореходной карте. Поэтому отправляю его величеству карту, сделанную мною собственноручно, на которой изображены ваши берега и острова, откуда вы должны проехать, чтобы достичь места, где наиболее изобилуют всякого рода пряности и драгоценные камни. Не удивляйтесь, что я называю Западом страны, где растут пряности, тогда как их обыкновенно называют Востоком; это потому, что люди, плывущие постоянно к Западу, достигнут этих стран морским подземным путем, тогда как, если вы отправитесь по этой (верхней) стороне земного шара, то эти страны будут на востоке».
Эти слова Тосканелли чрез преграду двух тысячелетий перекликаются с утверждением Аристотеля. «Люди, соединяющие область в соседстве Геркулесовых столбов с областью близь Индии и утверждающие, таким образом, что море есть едино, не говорят ничего невероятного».
Колумб был в переписке с Тосканелли и, очевидно, имел его карту.
Вещественным доказательством географических представлений в дни Колумба является сохранившееся до сих пор «земное яблоко», изготовленное в 1492 г. нюренбергоким географом Мартином Бехаймом. Но шар земной еще неподвижный центр вселенной и нужна искупительная жертва Галилея,[24] чтобы нарушить покой земли и заставить людей уверовать в ее нескончаемый бег вокруг дневного светила.
Пространство, подлинно известное передовому средневековому европейцу – мизерно. Чем дальше от центра Европы, тем все более и более фантастическими и нелепыми делаются сведения о странах, их населении, флоре и фауне.
Пусть за нас говорят надписи на карте мира, составленной в Люнебурге (Сев. Германия) в конце XIII века.
В Азии городы, люди и животные поистине необычайны:
«Грифы – народ, от неистовства которых саксы, как говорят, пришли в Германию; между другими людьми они, как скорпионы между животными.
Антропофаги – скорые люди, ибо имеют ноги, подобные лошадиным; живут мясом и кровью людей.
Ушаны – с ушами такой величины, что покрывают ими все свое тело.
Самарканд—город лежит в Хозарии, т. е. в Скифской земле—(больше Вавилона, имеет в окружности сто миль, владеют им сообща царь поганый и царь христианский.
В Индии змеи такие огромные, что проглатывают оленей и переплывают даже океан.
В Ганге водится червь, который, подобно раку, имеет две клешни – ими он схватывает слона и ныряет с ним в воду».
Чудесами населена и Африка:
«Мавританские эфиопы – четыре глаза имеют, и это ради меткой стрельбы.
Живет в Африке — василиск, беда, единственная в мире. Змей – от полутора фута длины».
Апофеоз достоверности – надпись: «Рай – на крайнем Востоке. Есть там дерево познания добра и зла. Дерево сие действовало видимо и телесно, как и всякое другое дерево».
Знаменательная надпись, вскрывающая сокровенную суть. Религия – это она отбросила пытливую человеческую мысль назад на тысячелетия, она населила мир чудовищами, она запрещала учение о движении земли под страхом пытки и костра. Поддерживая свое владычество каленым железом, выжигала она все, что было больше чем оказано в книгах священного писания, что могло вселить малейшее сомнение в незыблемость церковного авторитета. Но все изменяется. Мир географических небылиц, созданных религией, начнут разрушать купцы, подгоняемые в поисках новых рынков жаждой наживы и грабежа – первые безбожники и маловеры.
Это разрушение началось, и одним из первых людей, поведавших европейскому миру правдивые истории о Китае, Японии и Индии, был Марко Поло. Рассказы его собраны и записаны в книге, именуемой «О разнообразии мира».
В предисловии к этой книге сказано:
«С тех пор, как господь бог собственными руками сотворил праотца Адама, и доныне не было такого христианина или язычника, или татарина, или индийца, или иного какого человека, из других народов, кто разузнавал бы и знал о частях мира и о великих диковинах так же точно, как Марко разузнавал и знает. И сказал он себе поэтому: нехорошо, если все те великие диковины, что он сам видел, или о которых слышал правду, не будут записаны для того, чтобы и другие люди, не видевшие и не слышавшие этого, могли научиться по такой книге. Скажу вам еще, двадцать шесть лет собирал он сведения в разных частях света и в 1298 г. от р. х., сидя в темнице, в Генуе, заставил он заключенного вместе с ним Рустикана Пизанского, записать все это».
Марко был сыном венецианца Поло, который с торговыми целями вместе с своим братом проник на Восток и пробыл 26 лет на службе у монголов. Молодой Марко провел вое путешествие с отцом и жил с ним у азиатских владык.
Но семья Поло – редчайшее исключение и действительное знакомство европейцев с далекими странами земного шара наступает только в эпоху великих географических открытий.
Твердой ногой стоит средневековье на западно-европейском материке и это его собственное, неотъемлемое, известное ему земное пространство имеет два полюса.
Один полюс расположен у Средиземного моря, где пышным цветком расцвел Рим, где на смену ему развилась богатая Византия, где два величайших торговых города: Венеция и Генуя ведут оживленный обмен с Востоком, легендарным, богатым Востоком – заветной мечтой рыцарей и крестьян, разбойников и монахов.
Другой полюс на севере – утверждается он много позднее. Здесь вырастают немецкая Ганза и фламандские города. Они торгуют с Лондоном, с городами Швеции, Норвегии и Дании, они проникают далее на северо-восток в Великий Новгород – преддверие бесконечной дикой русской равнины.
Около двух этих полюсов развивается хозяйственная и культурная жизнь. Здесь возникают мощные богатые города, отсюда отправляются в далекий путь многочисленные флотилии, сюда притекают люди различных племен и занятий.
Торгово-хозяйственные полюсы взаимно притягиваются, как полюсы магнита. Не важно, что между ними недели и месяцы трудного и опасного пути. Торговцы и монахи первые утвердят постоянные дороги между богатыми побережьями юга и севера – средневековая карта прорезается двумя линиями связей.
Караваны отважно пересекут материк, и многоводный Рейн сделается главной торговой магистралью.
Корабли двинутся вдоль побережья через Гибралтар и итальянские купцы сойдут с них на берегах Фламандии. – Но все же средней Германии, где родной город Гутенберга Майнц, впредь суждено быть лишь промежуточным пунктом между цветущими областями; а не так давно Майнц сам был центром, главным городом королевства, золотым величайшим городом. Развитие международных сношений, вовлечение стран и народов в круговорот торговли означало падение могущества Майнца.
Расцвет этого города начинается в IX–X веке и достигает своего апогея в XII. Немецкая торговля развивается к концу владычестве Каролингов, но пространственно она еще крайне ограничена. Товары текут вдоль важнейших речных артерий. Но и по рекам стоят заслоны, отделяющие Германию от богатых соседних торговых областей: путь в Византию прегражден венграми, путь на северо-восток oтрезан отсталыми славянами. На пути в Италию – трудно проходимые Альпы.
Рейн – средоточие германской торговли, около него возникает и множится хлопотливая и богатая жизнь.
Майнц расположен в узле важнейших речных артерий, около него в рейнское течение вливаются воды Майна, истоки которого сходятся с Дунаем, а по берегам растут молодые торговые города.
Крепнут связи с итальянским побережьем, и снова это льет воду на мельницу экономических успехов Майнца, крупнейшего города южной Германии. Особенно усиливается торговое благополучие немецкого юга в эпоху крестовых походов, когда здесь проходят армии крестоносцев и пилигримов и возрастает приток товаров с Востока.
Городу, основанному еще римлянами, выпадает завидная доля.
Арабский путешественник X века пишет о нем:
«Майнц – очень большой город, часть его заселена, а другая – засеяна. Лежит в стране франков на реке, называемой Рейн, и богат он пшеницей, ячменем, рожью, виноградниками и фруктами… Далее следует отметить, что есть там пряности, которые встречаются лишь на самом дальнем Востоке, хотя сам Майнц лежит на самом дальнем Западе. Есть, например, перец, инбирь, гвоздика, лаванда, кость, гилланга. Они привозятся из Индии где растут во множестве».
Пусть не смущает читателей известие о том, что часть города была засеяна – это обычно для средневековья, ибо город того времени мало похож на современный. Даже в XV веке в самом городе Майнце было еще много виноградников и посевов.
МАЙНЦ
Старинная гравюра
В годы подъема в Майнце возводятся великолепные постройки собора, ратуши, многих церквей, развиваются ремеслы и торговля, город богатеет.
Еще в начале XIV века Майнц был настолько богат, что мог ссудить императору Карлу IV – 71000 гульденов.
Расцвет города сочетался с усилением могущества майнцского архиепископа. Он один из первых князей королевства. В числе семи курфюрстов[25] архиепископ выбирает Немецкого короля и римского императора.
Если он друг императора, то нередко занимает первенствующее место при дворе и участвует в важнейших предприятиях империи. Таким был Христиан, один из величайших воинов и дипломатов Фридриха I Барбароссы. Он совершил вместе с императором поход на Рим.
После похода на Ломбардию Фридрих устроил в Майнце сказочно великолепный праздник. В мае 1184 г. здесь на берег Рейна съехались сорок тысяч рыцарей. Три дня длились церковные торжества, турниры и народные развлечения.
Долго странствующие труверы[26] Генрих Вембеке и Гюго Прованский рассказывали о неслыханном блеске этого торжества.
Если архиепископ майнцкий был врагом императора, то он был враг опасный и беспощадный.
После смерти императора Рудольфа курфюрсты вместо его сына избирают графа Адольфа Нассауского. Руководящую роль в этом избрании играет архиепископ майнцкий Гергарт. Подоплека избрания графа – новый император обязался сделать ряд уступок князьям и в частности уплатить долги майнцкого архиепископа.
Правление императора было недолгим. Адольф пришелся не по вкусу властолюбивому архиепископу. Гергарт организует заговор против императора и призывает на престол сына Рудольфа – Альбрехта Австрийского.
Через четыре года после избрания – 23 июня 1298 г. – в Майнце созывается незаконное совещание курфюрстов и «мудрых людей», принимающее решение о низложении императора, и майнцкий архиепископ издает об этом манифест.
В этом манифесте сказано:
«Вышеназванного господина Адольфа, который оказал себя столь недостойным королевской власти и который за свои злодейства и прочие дела отвергнут богом, мы лишаем царства – да не царствует более! – и открыто заявлям, что лишил его господь и тем самым согласно единодушно выраженному решению курфюрстов постановляем освободить от нерушимой присяги всех тех, кто связан с ним оной, накрепко запрещая кому-либо впредь повиноваться и служить ему как королю».
2 июля Альбрехт пал в битве с новым претендентом на королевский престол.
В майнцком соборе на надгробном памятнике Петра фон Аспельта изображена огромная фигура этого архиепископа в великолепном облачении. Перед ним три короля: Генрих VII, Людовиг Баварский и Иоган Богемский, коронованные Петрам. Они едва доходят до пояса архиепископа, властно простирающего над ними руку.
Камень, вопиющий о прошлой славе!
Майнцкий собор, построенный в 1181 г. – каменная книга этого ушедшего величия города, прекрасный образец романского стиля и прогресса средневековой архитектуры.
Дни расцвета ушли безвозвратно – в XIV–XV веке население в Майнце достигает всего 5 тыс. человек, а Страсбург, Нюренберг и Аугсбург насчитывают уже до 20 тысяч.
Торговое значение города подорвано перемещением внутренней германской торговли на Север, с возникновением Ганзы, и сокращением восточной торговли из-за борьбы с наступающими турками.
Успехи промышленности минуют Майнц и выдвигают на первый план хозяйственной и политической жизни другие города и области Геомании.
Город обременен долгами, постоянные внутренние смуты подтачивают его силы.
Но как уходящее море оставляет богатства вековых отложений, так и прошлый хозяйственный и культурный расцвет страны или города не исчезает бесследно.
Прошедшее Майнца воскреснет в Гутенберге и через него покроет город нувядаемой славой.
И все-таки, в этот город вновь потянуло Иогана Генсфлейша-Гутенберга, здесь он пытается завершить начатое им замечательное предприятие. Возвратился он в Майнц, вероятно, в конце 1444 или в начале 1445 года.
Ребенком он слышал рассказы о прошлом величии родного города и лучших днях своих предков.
Он помнил облик города долгие годы, перед глазами родной Майнц стоял таким, каким он видел его в юности.
Вокруг город, подобно широкому поясу, обнесен массивной городской стеной, (толщина ее 5½ футов), с многочисленными сторожевыми башнями и фортами, выходящими к Рейну.
Над городом господствовал собор – гордость горожан и духовный центр средневекового бюргерского общежития. Политическим центром была ратуша готического стиля, расцвет которого совпадал с эпохой завоевания городских свобод. Суровое трехэтажное здание с четырьмя башенками по углам; расположенное в одной из наиболее высоких точек города, оно было как бы символом патрицианской власти. Вокруг вились нити многочисленных улиц: узких, кривых и грязных, как и во всех средневековых городах.
Со времени цеховой революции 1332 г. официальному светскому центру – ратуше – противостоял другой, не менее сильный политически. Он принадлежит цехам. Совет общины и цехи собирались в двух домах – Момпазилиер (это название происходило от фамилии их владельцев – Монпелье).
Два центра, две группы, борющиеся за власть. Все это памятно Иогану с детских лет.
Собор не одинок в этом море построек – много монастырей и церквей в городе Майнце. При них школы. По документам того времени школы были при церкви св. Виктора, св. Кристофа и других, в одной из них обучался сам Иоган. При монастыре кармелитов[27] – латинская школа, где преподавались философия и теология,[28] она положила начало возникновению университета, который основан в Майнце только в 1477 году.
Пусть при жизни изобретателя в городе нет университета, в других городах получают образование его обитатели. Насчитывают до семи граждан, современников Гутенберга, проходивших курс в знаменитом Болонском университете. Одним из них был доктор Конрад Гумери, с которым жизнь свела Гутенберга в его последние годы.
Не только в воспоминаниях молодости, но и вообще по представлениям того времени, город был велик, огромен. И внешность его богата и великолепна, – соперничала она с блеском других немецких городов.
Германия этой эпохи – страна зажиточных бюргеров, – внешний блеск их быта поражал иностранцев. Недаром кардинал Эней Сильвий Пикколомини (позднее папа Пий II), посетивший Германию в 1458 г., писал:
«Мы откровенно говорим, что никогда Германия не была богаче и никогда она не поражала так своим блеском, как в настоящее время. Трудно найти в Европе что-нибудь великолепнее и прекраснее Кельна с его удивительными церквами, городскими ратушами, башнями и дворцами, с его гордыми бюргерами, величественной рекой и плодоносными полями».
Не меньше похвалы растачал он также Майнцу, Вормсу, Шпейеру, Базелю и Берну. «Некоторые из домов страсбургских граждан так величественны и богаты, что ни один король не счел бы унизительным для себя жить в них. Нет сомнения, что шотландские короли были бы рады иметь такие же удобные жилища, какими пользуются нюренбергские бюргеры средней руки. Ни один город в мире не превзойдет богатством Аугсбурга; в Вене имеется несколько дворцов и церквей, которым могла бы позавидовать сама Италия».
И вот теперь, когда после ряда лет скитаний и борьбы, умудренный опытом виденного и пережитого. Гутенберг возвращается в Майнц, конечно, город кажется ему иным – не таким, как в детстве, – «гигантским и великолепным».
Резче, выступают перед глазами контрасты между великолепием и нищетой между отдельными величественными зданиями и рядом с ними расположенными лачугами. Заметнее жалкий вид грязных улиц, о неприглядности которых не мог умолчать и любезный кардинал Эней Сильвий.
Иоган научился понимать, что за кажущимся благополучием и богатством скрывается тяжкое экономическое положение города и обостренные общественные противоречия.
Внешне все знакомо ему в этом городе: здания, улицы, мощное течение Рейна, шумные толпы на рынке и извечный звон церковных колоколов, но в этой знакомой оболочке за долгие годы его отсутствия выросла новая жизнь новых людей.
VI. ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ
ЦЕХОВАЯ революция 1428—29 г. только на краткий срок дала ремесленникам перевес в городском управлении.
Вскоре патриции оправляются от нанесенного им поражения и к 1437 г., занимают половину мест в магистрате, фактически они снова правят городом.
Жалкое правление, которое оканчивается полным банкротством. Оно доказало неспособность верхушки городской знати политически и экономически руководить Майнцем в изменившихся условиях и поправить расшатанное городское хозяйство. Новая революция наносит смертельный удар майнцкой патрицианской олигархии.[29]
Начало этой революции было положено конституционным актом: осенью 1444 г. магистрат по требованию цехов выделил комиссию четырех (двое от патрициев и двое от цеховых) для проверки финансового положения города. Ремесленники и торговцы – эти рассчетливые и скупые хозяева, – требовали отчета в расходовании средств, которые город отрывал от их накоплений, они добивались твердых гарантий в том, что, наконец, их промыслы получат твердую почву.
Несмотря на все старания магистрата, нельзя было скрыть полного провала его хозяйственной политики: выплата ренты возросла с 3½ до 5 %, городской долг увеличился почти вдвое, кредит Майнца упал. Бесхозяйственность управления была вопиющей.
В ноябре последовал роспуск магистрата, и новый его состав был сформирован исключительно из представителей цехов. В декабре законодательный акт возвестил о том, что впредь членами Совета могут быть ремесленники.
Против свергнутого патрицианского магистрата в начале 1445 г. начался судебный процесс. Карающему мечу правосудия надлежало довершить торжество ремесленников над их исконными врагами.
Двадцать лет назад цеховая революция заставила Гутенберга покинуть Майнц, теперь, после того как сословие, к которому он принадлежал, терпит окончательное поражение в борьбе с цехами, он возвращается обратно. Какое странное противоречие! Не другой ли Гутенберг появился в Майнце?
Разрешают это противоречие годы скитаний и жизни Иогана в Страсбурге.
Иоган Гансфлейш-Гутенберг оставил Майнц молодым бездельником, гордым отпрыском знатного рода, претендентом на привилегированное общественное положение. Пестрый юнкерский костюм его быстро пообносился, претензии на власть, привелегии и богатство лопнули, как мыльный пузырь.
В Страсбурге родился другой Гутенберг.
Прошедшие годы борьбы и труда не только превратили юношу в зрелого мужа, развернули грудь, отяжелили стан, перерезали морщинами лоб и вооружили опытом его незаурядный ум, – нет, изменения были гораздо более глубокими.
В Майнц вернулся Гутенберг – изобретатель книгопечатания. Человек, который лучшую творческую часть своей жизни отдал труду, первый работник до сих пор неведомого искусства – его создатель. Пусть преимущества его принадлежности к патрицианскому сословию сегодня призрачны, и невесомы, пусть он беден, взамен этого Гутенберг владеет секретом нового искусства и опытом в неизвестном ремесле – неотъемлемо принадлежащим ему товаром, который он сумел реализовать по хорошей цене.
Победа цехов не могла пугать Иогана, наоборот, она позволяла ему надеяться на экономический подъем родного города, где он рассчитывал теперь найти благоприятные условия для основанного им книжного производства.
Так разрешается вопрос о двух Гутенбергах, о тайне перевоплощения и эта «тайна» не скрывала ни магии, ни колдовства, в которые свято верило средневековье.
Счастье Гутенберга, что эта вера в колдовство не встала поперек его изобретательского пути.
Книгопечатание лишало заработка в первую очередь монахов-переписчиков, рассеянных по бесчисленным монастырям. Им ничего не стоило, обороняясь от нового искусства, объявить его творением дьявола, а изобретателя – прислужником сатаны, как это ни покажется невероятным человеку двадцатого века.
Германское законодательство средних веков не раз официально упоминает о чародействе. В «Саксонском зеркале» чародейство было поставлено рядом с ересью и отравлением, как преступление, за которое полагается костер. Церковь сама поддерживала веру в колдовство. Руанский собор в 1445 г. говорил о колдунах, а собор в Лизье 1448 г. приказывал священникам в праздничные и воскресные дни объявлять отлученными от церкви всех ростовщиков, колдунов и гадателей.
Хроника Фульдского монастыря рассказывает следующий эпизод из области борьбы с темной силой, который имеет непосредственное отношение к Майнцу:
«Есть некая деревня недалеко от города Бингена… где нечистый явно обнаружил свои козни. Сперва он проявил свою вражду к местным людям, бросая камни и сотрясая стены домов точно молотом; затем враг прямо говорит, выдавая кое-кому других за воров; и сея вражду между обитателями деревни; наконец, он возбудил всех против одного человека, из-за грехов которого якобы приходилось всем терпеть… И вот тот человек, чтобы умилостивить своих односельчан, хотевших убить его, очистился раскаленным железом от всех преступлений, какие ему приписывались. Тогда посланы были из города Майнца пресвитеры и дьяконы с мощами и крестами, чтобы изгнать нечистого из этих мест. И когда те в одном из домов, где он свирепствовал более всего, справляли службу и кропили святою водою, древний враг, бросая камни, окровянил не мало жителей той деревни, собравшихся сюда, тем не менее он угомонился на изрядное время».
Вера в колдовство на многие столетия пережила XV век.
Что такая опасность была для Гутенберга вполне реальной, доказывает сожжение в Кельне первых экземпляров печатной библии, как дела рук сатаны. Сведения эти не документальны, но они характерны для Кельна, германского центра ортодоксального[30] католичества и места активной деятельности инквизиции.[31] Кельнский университет в 1487 г. определил, что всякий, кто будет оспаривать действительность искусства ведьм должен преследоваться, как мешающий деятельности инквизиции. Не даром в начале XVI века именно кельнское духовенство стояло во главе преследования Иогана Рейхлина,[32] и этот город являлся одним из центров борьбы с гуманизмом и штабом «темных лютей», гениально осмеянных Ульрихом Гуттеном.[33]
В марта 1444 г. Гутенберг еще находился в Страсбурге. Мы видим, что ничто не могло удержать его от появления в Майнце, но остается неясным, почему он оставил Страсбург.
Выселение его, очевидно, связано с арманьякской войной.
Арманьяки были наемными французскими дружинами, названными так по имени своего предводителя графа д'Арманьяк. Народ дал им беззлобно-шутливое прозвище «арме гакен» (бедное дурачье), которое мало соответствовало мрачным подвигам этих разбойничьих банд.
Роковое появление арманьяков в Эльзасе, повлекшее за собой разоренье богатого края, было вызвано неосмотрительной просьбой императора Фридриха III к королю французскому Карлу VII о помощи для борьбы с непокорной Швейцарией.
Фридрих III занимал императорский престол с 1440 по 1486 г. Все царствование его было цепью неудач и дальнейшего падения и без того дискредитированной императорской власти. Это был император-землевладелец, главной заботой его было округление владений Габсбургского дома, представителем которого он являлся.
Не империя а интересы своего княжества направляли его политику, и в этой области, надо отдать ему справедливость, он сумел добиться ряда успехов.
Сжатую и яркую характеристику этого императора дал один кардинал в письме к своему другу: «Фридрих – человек нерешительный, скрытный, не имеющий понятия о чем-либо общем и сводящий все на свою личную выгоду».
В начале своего царствования император потребовал от Швейцарии, с которой у Габсбургов была многолетняя вражда, возвращения всего отнятого у его дома, взамен чего Фридрих соглашался подтвердить ее льготы. Швейцарцы отказали императору, зная призрачность его реальной власти.
Тогда-то Фридрих и обратился за помощью к французскому королю. Карл был рад отделаться от арманьяков, и их войско, насчитывающее от 20 до 40 тыс. человек, пришло под начальством дофина, чтобы в союзе с Габсбургом разгромить Швейцарию.
Фридрих, очевидно, и сам не ожидал появления столь многочисленных арманьякских орд в своих землях.
Швейцарцы оказали геройское сопротивление союзникам, и после сражения на реке Бирс у часовни святого Иакова, арманьяки отступили и вторглись в Эльзас, предпочитая грабеж мирного немецкого населения тяжелой борьбе с воинственным швейцарским ополчением.
Доведенные до отчаяния эльзасцы заставили арманьякские банды уйти из своей страны только в 1445 году.
Разграбление Эльзаса французскими наемниками не могло не отразиться на экономическом положении Страсбурга. Больше того, есть сведения, что в 1444 г. шайки арманьяков напали на Страсбург и разграбили монастырь св. Арбогаста и примыкающие к нему дома. Возможно, что пострадал дом, в котором жил Гутенберг. В эти именно дни Гуттенберг направляется в Майнц, сопутствуемый неизменным слугой Бейльдеком. Надо думать, что Гутенберг перевозит с собой орудия и приспособления своего искусства, ибо вскоре появляются первые в истории человечества печатные произведения.
Из под печатного станка Гутенберга около 1445 г. вышел фрагмент[34] страшного суда, а через два года астрономический календарь на 1448 г. Оба эти произведения впервые отпечатаны металлическими подвижными литерами.
Астрономический календарь найден в 1901 г. Готфридом Цедлером в Висбаденской библиотеке. Напечатан он наиболее старым известным шрифтом. Так как этот календарь относится к 1448 г. т. е. все основания полагать, что отпечатан он не позднее конца 1447 года.
Техника печати календаря, относительно, настолько несовершенна, что он не мог быть первым опытом Гутенберга. Сравнение его с некоторыми другими мелкими печатными произведениями позволяет отнести их к предшественникам этого календаря.
Майнцкий фрагмент страшного суда, хранящийся в Гутенберговском музее в Майнце, напечатан сходными с календарем, но все же несколько более несовершенными литерами. Появление этого фрагмента приурочивают к более раннему периоду и относят к 1445 году.
Если Гутенберг, возвратившись в Майнц, мог вызвать удивление сограждан своим новым обликом, то его новое искусство должно было удивить все человечество, – столь потрясающе велика разница между тем, чем была печать до того, как Гутенберг посвятил ей свой талант и труд, – и книгопечатанием, изобретенным доселе безвестными майнцким горожанином.
Наиболее совершенными образцами европейского печатного ремесла до Гутенберга были народные картины, нередко с несколькими строками текста, который пояснял их содержание. Техника изготовления этих картин такова: писцы-рисовальщики делали на деревянной доске, обычно грушевой, рисунок и подписи. Все части доски, свободные от рисунка, углублялись вырезыванием и рисунок делался выпуклым.
Доску покрывали краскою, налагали на нее лист бумаги и притирали последний деревяшкой или костяшкой. Таким образом получался оттиск.
С такими техническими средствами и так организованным процессом печатания нечего было и думать о воспроизведении книг с обширным текстом, ибо труд вырезывания и печатания был бы страшно длителен и дорог. Кроме того, деревянный шрифт быстро снашивался при многократном тиснении. После изготовления немногих экземпляров необходимо было начинать вновь тяжкий труд вырезывания текста на досках.
Изобретение Гутенберга произвело коренной переворот потому, что оно разрешало проблему изготовления книг любого объема, во много раз ускоряло процесс их печатания; оно обеспечивало приемлемые цены на книги и рентабельность работы.
Это изобретение совершенно изменило технику печати и перестроило структуру печатного процесса.
Гутенберг рассек ремесленное единство простейшей печати на отдельные специализированные виды работы: изготовление шрифта, набор и печать. На его долю может быть выпала честь предвосхитить мануфактурные формы организации производства, которые с XVII века должны были победить ремесло, чтобы потом породить капиталистическое производство и пасть под его могучим натиском.
Основу изобретения составляет создание того, что теперь называют шрифтом, т. е. металлических брусочков (литер) с выпуклостью на одном конце, дающей отпечаток буквы.
Литера настолько проста, что мы воспринимаем ее как нечто само собой разумеющееся, и странной кажется длительная, кропотливая работа, которую должен был проделать Гутенберг, чтобы создать литеру. А между тем без преувеличения можно сказать, что Гутенберг на деле доказал свою гениальность, разрешив вопрос об изготовлении шрифта, и именно этим создал новое искусство.
Начал он, видимо, с простого разделения деревянной доски на подвижные деревянные литеры. Однако этот материал, вследствие своей ломкости, изменения формы от саги и неудобства закрепления в (печатной форме, быстро доказал свою непригодность для разрешения задач, стоявших перед изобретателем.
Возникновение идеи металлического шрифта еще не предрешало достижения необходимых результатов. Вероятнее всего Гутенберг начал с вырезывания букв непосредственно на металлических пластинках и только позднее освоил мысль об огромном преимуществе отливки совершенно однотипных букв в раз созданной форме.
Но была еще одна деталь, над которой пришлось немало потрудиться изобретателю – это создание пунсона.
Можно, конечно, в металле вырезать вглубь форму буквы или слова и потом, вливая в приготовленные таким образом формы легкоплавкий металл, получить литеры с выпуклым очком буквы.
Однако возможно значительно упростить задачу, если сделать одну модель выпуклой буквы на твердом металле – пунсон. Пунсоном оттискивают в более мягком металле ряд обратных углубленных изображений нужной буквы, получают матрицы и после этого организуют быструю отливку любого количества литер.
Следующий этап – нахождение сплава, который обеспечивает одновременно легкость изготовления (литья) и достаточную прочность шрифта, выдерживающего многократное печатание.
Только изобретение пунсона, необходимого сплава и организация словолитни знаменовали решительный и бесповоротный успех.
Весь этот путь исканий был крайне долог и труден, и неудивительно, что Гутенберг мог употребить на прохождение его почти весь пятнадцатилетний период страсбургской жизни.
Гутенбергу, очевидно, принадлежит введение первой наборной кассы и крупные новшество в печатании – создание печатного станка.
Печатный станок Гутенберга крайне несложен – это простой деревянный винтовой пресс.
ОБЩИЙ ВИД ТИПОГРАФИИ XVI ВЕКА
Забудем на несколько минут современность, ряды линотипов и монотипов, бешеный бег ротационных машин, современную механизацию новейших могучих типографий. Мы вернулись назад к первым годам печатного искусства.
Разборные формы, заключающие углубленное очко отливаемой буквы, уже изготовлены.
В котелке, вмазанном в небольшую печь, расплавляется металл. По книге расходов монастырской печати во Флоренции с 1447 по 1483 г. мы знаем состав сплава: металл (вероятно сурьма), медь и олово.
У кассы со шрифтом, поставленной наклонно, работает наборщик, держа верстатку в левой руке. Верстатка деревянная, вмещает немного строк и приспособлена только для одного формата. В первое время наборщики часто набирали не непосредственно по рукописи, а под диктовку. Верстка набора (приведение первоначально набранных полос к одинаковым по длине страницам книги) уже в XVI веке производилась специальным рабочим – метранпажем.
Краска для печати изготовлена заблаговременно, состав ее: вареное льняное масло, щелок, смола, кошениль и сажа. Варка масла из боязни пожара производилась обычно за городом и часто являлась родом празднества типографов.
Наконец набор сверстан, закреплен и помещен на доску (талер) печатного станка. Затем на набор батырщик наводит краску. В каждой руке у него маца (деревянный кружок, с одной стороны которого мягкая кожаная подушка, с другой – ручка), которой он намазывает краской выпуклые части набора. Листы бумаги налагаются на декель (узкая рамка, обтянутая материей) и прижимаются к нему другой, сквозной рамой – рашкетом. Весь этот прибор вместе с бумагой налагается на набор. Талер подводят под пресс. Остается повернуть ручку станка и крепко прижать к набору бумагу верхней доской (пиан) пресса.
Средневековое ремесло нашло в типографском деле нового сравнительно очень сложного собрата, по типу своему приближающегося мануфактуре и вскоре потребовавшего сугубого разделения труда. На старинных гравюрах наборщики изображены в парадных одеяниях, нередко со шпагою, печатники отличаются от них более простыми и удобными костюмами. Недалеко то время, когда даже литье букв потребует трех профессий: литейщика, отбивальщика и полировщика.
Возвратимся вновь к Гутенбергу, начавшему свою печатную деятельность в Майнце.
Первые печатные произведения, очевидно, быстро истощили его и без того небольшие средства. Уже в 1448 г. он сильно нуждался, так, в октябре этого года для него был сделан заем его родственником Я размере 150 гульденов у майнцких горожан Рейнгарта Бромзера и Иогана Роденштейна.
Удача первых опытов – реальное вещественное подтверждение огромной плодотворности его изобретательской идеи, – листы бумаги, покрытые невиданными четкими буквами, казалось, кричали на весь мир о Неотъемлемости прав Гутенберга на новое искусство и его плоды. Все сомнения, до этих дней омрачавшие радость отдельных успехов, отпали после того, как первое творение в завершенном виде вышло из-под печатного станка.
Но мелкие издания, и даже астрономический календарь, не удовлетворяли изобретателя. Возникло непреодолимое стремление потрясти мир новым, большим, по тем временам, грандиозным трудом – создать первую печатную библию. Какие огромные возможности распространения! Какие блестящие перспективы откроются перед Иоганом, когда всесильное духовенство почувствует заинтересованность в его изобретении и сокровищницы церкви откроются для покупки напечатанных им книг священного писания. Но для разрешения этой задачи нужна настоящая типография, необходимы значительные вложения в оборудование, шрифт, бумагу, длительные расходы на оплату труда мастеров.
Все эти деньги он, Гутенберг, сумеет быстро вернуть и, даже с хорошими процентами.
Деньги сейчас для него только точка опоры, ибо им уже изобретен могучий рычаг, которым ой в недалеком блестящем будущем перевернет весь мир.
Обидно подумать, что где-то, у богатых его сограждан лежат без употребления богатства, а будь они в руках изобретателя, он сумел бы добиться с ними грандиозных результатов. Неужели он настолько бездарен, что не сможет разъяснить свою гениальную простую идею и заставить обратить эти мертвые деньги на дорогое ему дело? Сегодня речь идет не о каких-то опытах, о чем-то неопределенном и далеком, – в его руках неоспоримые доказательства, способные убедить самые тупые головы. Вопрос решен – он найдет себе богатого компаньона и осчастливит его. Гутенберг не просит об одолжении, не ищет помощи, – он сам щедро наградит человека, который даст ему ссуду на беспроигрышное предприятие. Он не думает об условиях, на которых будут получены деньги. Успех его дела и прибыль, и право его на типографское искусство – неоспоримы.
В поисках денег на создание типографии Гутенберг встречает майнцкого бюргера – Иогана Фуста. Фуст был богат. Об этом бесспорно свидетельствуют по тем временам очень крупные суммы, вложенные им в дело Гутенберга. Этот бюргер состоял членом церковного суда св. Квинтина, – почетное место для человека с обеспеченными доходами. Брат его Якоб Фуст был видным городским деятелем и в 1462 г. занимал пост бургомистра Майнца. Семья Иогана Фуста состояла из его жены Маргариты, двух сыновей Иогана, носившего духовный сан, и Конрада, который принимал участие в типографском деле отца и, наконец, дочери Христины, впоследствии жены компаньона Фуста – Петра Шефера.
22 августа 1450 г. между Гутенбергом и Фустом был заключен договор о субсидировании последним дела изобретателя. Этот договор, роковой для Гутенберга, обеспечил появление первой печатной библии и положил начало широкому распространению книгопечатания.
Иоган Гутенберг. Уважаемый господин Фуст, я рассказал вам о своем новом искусстве, о его великом будущем. Вам остается решить – хотите ли вы поддержать дело, угодное богу.
Иоган Фуст. Воздадим божье богу, а кесарево – кесарю. Я силен в богословии, юнкер Гутенберг, мой сын, если свершатся желания мои, будет викарием, а может быть и выше. Вам нужны деньги, уважаемый Гутенберг?
Гутенберг. Слава ожидает вас, Фуст. В недалеком будущем мы на всех книгах будем печатать имя Иогана Фуста.
Фуст. Хотя мы, немцы, по природе своей простоваты, но мы понимаем наши выгоды. Что может дагь ваше дело, Гутенберг?
Гутенберг. Мне необходимо на первое время немного – 800—1000 гульденов. Ваши деньги вернутся быстро, быстрее, чем вы можете предполагать.
Фуст. Тысячу гульденов! Уважаемый Гутенберг, у меня нет таких денег. Я не могу отдать вам все свои сбережения. Знаете, пословица говорит – несчастна та мышь, у которой только одна норка.
Гутенберг. Полноте, Фуст, верные люди сказали мне, что денег у Фуста куда больше. Мое дело принесет большие доходы.
Фуст. Доходы – это будущее и неопределенное будущее. Сколько процентов вы обещаете мне на сумму, которую я вложу?
Гутенберг. Я не знал, что буду иметь дело с ростовщиком.
Фуст. Не надо волноваться, уважаемый юнкер. Продолжим наш разговор. Я не страдаю корыстолюбием.
Гутенберг. Мы напечатаем библию. Господь…
Фуст. Оставим Господа. Торговое дело приносит большие барыши. Я знаю людей, которые получили свой капитал обратно возросшим в пять и более раз.
Гутенберг. Торговля связана с риском, можно приобрести богатство, а можно и все потерять.
Фуст. Недавно мне предлагали…
Гутенберг. Перестаньте, Фуст. В торговле сейчас застой. Я знал, что вы заговорите об этом. Даже итальянские купцы жалуются на плохие дела. В Германии, нашем отечестве, положение еще хуже. Ремеслом вы не станете заниматься, уважаемый Фуст.
Фуст. Хорошо, мои условия: я даю 500 гульденов на устройство предприятия Из 6 % и ежегодно по 300 гульденов на его ведение.
Гутенберг. Согласен.
Фуст. А прибыль?
Гутенберг. Фуст получает половину прибыли. Фуст. Маловато.
Гутенберг. Но изобретение мое…
Фуст. А я даю капитал. Много вы добились до сих пор с вашим изобретением, юнкер. Потом – риск. Ведь нас может постигнуть неудача.
Гутенберг. Неудачи не может быть. Вы держали в руках изданные мною книги.
Фуст (подумав). Согласен. Гутенберг. Потом я хочу иметь уверенность… Фуст. В чем, дорогой Гутенберг?
Гутенберг. В том, что в случае успеха, созданное мною деле – мое детище не будет брошено, скажу прямо – не будет отнято у меня. Должны быть гарантии, условия…
Фуст. Никаких условий.
Гутенберг. Как? Это ваше последнее слово? Фуст. Последнее. Я знаю дела майнцких бюргеров, Гутенберг. Вам не к кому сегодня обратиться, кроме Фуста.
VII. ФУСТ ШЕФЕР
ВCE печатные произведения, выпущенные Гутенбергом, сохраняют в тайне имя издателя, не отмечено в них место и время выхода книги.
Впервые в последнем творении изобретателя «Католиконе» (латинский словарь с грамматикой Иогана Бальбуса) сказано:
«Эта превосходная книга „Католикон“, – в год вочеловечения господа 1460, в славном городе Майнце, принадлежащем достославному немецкому народу, который по милости бога столь возвышенным духовным светом и свободным милостивым даром другим народам земли предпочтен и возвеличен – напечатана и окончена без помощи тростника, стиля или пера, но посредством чудесного согласования и соразмерности патронов и форм».
Трудно установить, что заставляло Гутенберга – неизменно отказываться от упоминания своего имени в напечатанных им книгах. Возможны разные объяснения: боязнь многочисленных кредиторов, страх перед церковью, которая неизвестно как примет появление нового искусства, скромность Гутенберга. Наконец, может быть, просто эта мысль не приходила в голову изобретателю.
Иоган Генсфлейш-Гутенберг неосторожно оставил незаполненной первую страницу истории изобретения книгопечатания, об этом, в ущерб Гутенбергу позаботились другие. Книги его ближайших преемников возвестили миру об их успехах и о славе семьи Фуста, которая создала новое великое искусство.
Сначала Фуст, а потом Шефер появляются на страницах печатных произведений, как претенденты на славу и почет.
Вскоре после смерти изобретателя Петр Шефер делает первую еще робкую попытку прославить своего тестя.
В заключительной части книги «Institutionen Justinians», напечатанной 24 мая 1468 г., Шефер помещает стихотворение, написанное по его заказу Иоганом Фонсом. Это стихотворение говорит о двух майнцких Иоганах – первопечатниках, очевидно подразумевая Гутенберга и Фуста.
Потомки Фуста и Шефера унаследовали их типографское дело.
Проходят годы, сменяются люди, предается забвению прошлое, и сын Шефера Иоган смелее говорит о бесспорном праве деда и отца именоваться изобретателями книгопечатания, для него Гутенберга уже не существует вовсе.
В издании 1 503 г. Иоган Шефер гордо называет себя наследником семьи, которая изобрела книгопечатание. Шесть лет спустя, в книге «Enchiridion seu breviarium Moguntinum» Иоган Фуст именуется изобретателем нового искусства.
Наконец, в «Compendium annalium Francorum» аббата Третимиуса дано развернутое изложение прав семьи Фуста-Шефера называться бесспорными и единственными наследниками славы:
«Напечатана и закончена эта хроника в 1515 г. … в благородном и знаменитом городе Майнце, в стенах которого изобретено искусство печатания, Иоганом Шефером, внуком покойного доблестного человека и майнцкого бюргера Иогана Фуста, первого изобретателя названного искусства, который, наконец, в 1450 г., в 13 индикцию правления августейшего короля Фридриха III и славного майнцкого архиепископа Дитриха Шенк фон Эрбах, начал обдумывать и изучать искусство печатания и в 1452 г., с помощью бога, полностью его освоил, чтобы поставить производство печати с помощью и вследствие многих необходимых открытий Петера Шефера, своего слуги и приемного сына, которому он отдал в жены свою дочь Христину в достойное вознаграждение за столь многие работы и открытия. Но оба они – Иоган Фуст и Петер Шефер держали свое искусство в тайне, причем они обязывали клятвою своих помощников и слуг ни коим образом ничего не разглашать об этом искусстве, пока, наконец, в 1462 г. искусство не было помощниками разнесено по многим странам и получило немалое распространение».
В руках семьи Фуста-Шефера печать обернулась против своего творца и вонзила ядовитое жало забвения в его Ахиллесову пяту – необъяснимое замалчивание им своего имени в собственных книгах.
Иогана Шефера не в чем упрекнуть, он только продолжил в иной форме ту борьбу, которая началась между его дедом и Гутенбергом с самого начала совместной работы.
Договор, заключенный изобретателем с Фустом в 1450 г., уже содержал в себе неизбежность предстоящего конфликта.
Внешне все говорит в пользу Гутенберга – он единовластный хозяин дела, в его бесконтрольное распоряжение дает «добряк» Фуст чрезвычайно значительные по тем временам деньги – 800 гульденов на устройство предприятия из 6 % и по 300 гульденов ежегодно на ведение дела; прибыль должна распределяться поровну между двумя участниками.
Но эти блестящие монеты, брошенные изобретателю богатеем Фустом, имели темную оборотную сторону. Фактически полным хозяином был Фуст, ибо он всегда мог потребовать изъятия из дела своих вложений, что для Гутенберга означало утерю типографии и бесславный уход из созданного им предприятия. Изобретатель и его дело по существу были целиком во власти богатого бюргера, Сознавал ли это Гутенберг?
Прошлое Гутенберга свидетельствует о большом его деловом опыте, об остром уме и практической сметке, поэтому нельзя думать, чтобы он не отдавал себе отчета в сокровенном смысле подписанного им соглашения. Очевидно, другого выхода не было. Это была последняя ставка азартной игры, проиграв ее, Гутенберг должен был отойти от стола.
Первые восемьсот гульденов, очевидно, быстро израсходованы, т. к. уже в 1452 г. Фуст дает вторую ссуду в том же размере. В этом же году в дело вступает и Петер Шефер.
Кто был Фуст мы знаем. Шефер – молодой человек без имени и денег, но с бесспорными способностями, которые позволяют ему быстро сделать хорошую жизненную карьеру. Происходил Петер из Гернцхейма.
В 1449 г. он работал переписчиком в Париже.
Шефер был один из наиболее талантливых учеников Гутенберга; ему приписывается ряд улучшений в отливке шрифта.
Старинные гравюры оставили нам изображение этих трех людей, которые непосредственно участвовали в первом оформлении книгопечатания. Пусть эти изображения не являются подлинными портретами, но во всяком случае они рисуют характер изобретателя и его компаньонов с точки зрения близких им поколений.
Фигура Гутенберга, перенесенная с гравюр в замечательную скульптуру Торвальдсена, крупна и могуча – в этом здоровом мужественном теле живет здоровый дух изобретателя и бойца. Черты лица и правильны и резки, глаза смотрят спокойно и мудро, скорее взгляд философа, чем ремесленника, поднявшегося до осознания и воплощения нового искусства.
Фуст выхолен, как подобает богатому бюргеру, и закончено самодоволен – призвание этого человека – не труд и преодоление трудностей, – а удача.
Молодой Шефер весь, начиная от роста и кончая бесцветной, незапоминающейся физиономией, мелок и бездарен по сравнению с Гутенбергом. Только крепкий, закругленный подбородок и узкие сжатые губы говорят об упорном характере, который обеспечит этому молодцу безбедное и почетное будущее.
СТРАНИЦА 42-Х СТРОЧНОЙ БИБЛИИ ГУТЕНБЕРГА
Совместное дело Гутенберга и Фуста просуществовало пять лет. Период этот не был бесплодным. С почти полной достоверностью установлено, что ими в 1451 г. выпущена из печати латинская грамматика Доната, а в 1454—55 гг. папские индульгенции[35] и книжка для народа «воззвание к христианству против турок». Но главной работой была подготовка издания библии. Именно огромный труд по выпуску библии и явился, очевидно, основной причиной жестокого просчета в планах Гутенберга, которому пришлось удвоить заем денег у Фуста и окончательно запутаться в своих взаимоотношениях с богатым заимодавцем.
В самом деле первая библия состоит из двух томов. «in folio»,[36] в 324 и 317 страниц в два столбца. Это первый капитальный труд, изготовление которого должно было несомненно представлять огромные трудности, несмотря на опыт предыдущих мелких изданий.
Донаты. В Парижской национальной библиотеки сохранились два 27-строчных листка пергамента, составляющие часть Донат. Они особенно интересны тем, что демонстрируют частицу истории усовершенствования шрифта. На первых 9 строчках видно сильное изнашивание слишком мягких свинцовых литер. Дальше на этой же странице буквы, очевидно, отлиты уже из лучшего, более твердого металла.
Индульгенции. Найдено до сих пор 41 экземпляр индульгенций, напечатанных на пергаменте. Они интересны применением значительно более мелкого шрифта, чем в библии. В этих печатных листках оставлено место, чтобы вписать имя получателя, место и время.
Воззвание. Книжка «Воззвание к христианству против турок» напечатана на 9 страницах в четвертую долю листа. Содержание ее – призыв к христианам восстать для поголовного избиения турок – завоевателей Константинополя.
Библия. Гутенбергом напечатаны две библии: одна 42-строчная и другая 36-строчная. На книгах этих не обозначен год их издания. После тщательного сличения установлено, что более ранней по времени выпуска является сорокадвухстрочная. Появление ее в свет относят к первой половине 1456 года.
Часть ее тиража напечатана на пергаменте, часть – на бумаге. Обозначения страниц, сигнатур,[37] кустод[38] и инициалов[39] – нет.
В тридцатишестистрочной библии – 1726 страниц в два столбца. Она обыкновенно переплетена в двух или трех томах. В ней оставлены пробелы для инициалов, которые делались от руки.
Издание индульгенций и книжки «Воззвание к христианству против турок» впервые непосредственно поставило печать на службу политическим задачам своего времени. Воззвание, изданное Гутенбергом, уже содержит в зародыше будущую печатную газету и политический памфлет.
Характерно, что одним из первых печатных произведений явились индульгенции – воплощение эксплоататорских тенденций католической церкви, основанных на темноте народных масс. Недаром широкая продажа индульгенций явилась одним из поводов к реформационному движению, которое положило предел власти католичества в ряде стран и окончательно подорвало его былую мощь.
Католическая церковь учила, что число добрых дел, совершенных Иисусом Христом и святыми, столь велико, что его достаточно, чтобы искупить проступки всех грешников. Поэтому церковь может выдавать прощения кающимся и тем освобождать их от наказаний, которые они заслужили за грехи. Индульгенцией называлась грамота, овеществлявшая это отпущение кающегося, дарованное церковью. С XI века такое прощение можно было купить за деньги. Беззастенчивая торговля индульгенциями стала одним из крупнейших источников доходов римской курии. Особенно широко продажа индульгенций развертывалась тогда, когда папа предпринимал какое-нибудь дело, требовавшее громадных денежных затрат: войну с неверными, постройку собора св. Петра в Риме.
В дни работы Гутенберга совместно с Фустом произошло событие, потрясшее христианский мир, – 29 мая 1453 г. турецкие полчища заняли Константинополь.
Одряхлевшая, потерявшая былую силу, Византия уже ряд лет была на краю гибели. 'Турки во второй половине XIV века проникли На Балканский полуостров и утвердились на нем, владения их к 1400 г. простирались от Эгейского моря до Дуная. Нашествие Тамерлана и жестокое поражение, нанесенное им турецкому султану Баязету, отсрочили гибель Византии, но не предотвратили ее. – Раздираемая внутренними противоречиями Европа не могла и не хотела оказать реальной помощи Византии. Напрасно папа призывал к новому крестовому походу, – дни могучего авторитета наместника св. Петра ушли безвозвратно.
12 августа 1451 г. папа Николай V объявил отпущение грехов всем, кто пожертвует деньга на войну с турками. Продажа этих индульгенций в Германии осуществлялась проживавшим в Майнце Павлинием Цаппом. Вначале торговля шла слабо. Только после взятия Константинополя христиане откликнулись на призыв папы. Оживление спроса на «квитанции на будущее блаженство» заставило приспособить изобретение Гутенберга к их печатанию.
Но все это было мелочами в работе Гутенберга; основное, на что ушли труд и деньга пяти лет с 1450 по 1455 г., было издание библии. Когда эта основная задача казалась окончательно разрешенной и готовые листы библии лежали перед изобретателем, произошла катастрофа.
В 1455 г. Иоган Фуст предъявил к Гутенбергу иск на 2 020 гульденов; эта сумма сложилась из 1 600 гульденов, вложенных Фустом в Дело и 420 гульденов процентов.
Финал процесса был ясен: изобретатель не был в состоянии выплатить этой огромной суммы и созданная им типография должна была перейти в руки Фуста, который в лице Шефера подготовил искусного преемника для продолжения печатного производства. Драма изобретателя была неожиданно тяжкой потому, что она была первой; последующая история знает много аналогичных случаев, когда капиталист-предприниматель выбрасывает изобретателя на улицу, использовав его идею и подготовительный труд.
Сохранился единственный документ, относящийся к процессу Фуста-Гутенберга – запись бамбергского клирика[40] и нотариуса Ульриха Хелмаспергера.
По этой записи решение суда, принятое после рассмотрения жалобы Фуста и объяснений Гутенберга, гласило:
«Иоган Гутенберг должен составить подсчет всех доходов и расходов по типографии и того, что им было получено сверх этого, это должно быть зачтено в 800 гульденов; но если он согласно счету потратил более 800 гульденов, и это было обращено не на типографское производство, то должен он это возвратить; если Иоган Фуст подтвердит клятвой или клиентурой, что он упомянутую сумму ссудил под проценты и не из своих собственных денег, тогда должен Гутенберг ему оплатить эти проценты по смыслу договора».
6 ноября 1455 г. Фуст принес эту клятву в францисканском монастыре в присутствии ряда свидетелей, в связи с чем и составлена запись нотариуса.
Гутенберг не присутствовал при произнесении клятвы, вероятно, считая свое дело проигранным. От его имени участие в этой церемонии приняли священник церкви св. Кристофа – Петер Гюнтер и двое сотрудников изобретателя.
Окончательный приговор суда не сохранился. Во всяком случае достоверно, что после этого в Майнце книгопечатание осуществлялось двумя типографиями – Гутенберга и Фуста (по свидетельству Баргеллануса «каждый печатал своим прессом»), не менее бесспорно, что к Фусту перешел шрифт 42-хстрочной библии Гутенберга.
Фуст и Шефер в августе 1457 г. выпустили прекрасное издание псалтыря. Книга эта разошлась чрезвычайно быстро и второе издание ее появилось в свет уже в 1459 году.
Гутенберг в 1460 г. отпечатал третье и последнее свое крупное произведение «Католикон».
Конкуренция с Фустом была трудна для Гутенберга, так как богатый бюргер располагал гораздо более крупными денежными средствами, и, кроме того, приобрел себе в лице Шефера молодого и энергичного помощника.
Фуст и Шефер вложили свою лепту в развитие книгопечатания, но каждому должно быть воздано по его заслугам. Иво Виттиг – преподаватель церковного права, хранитель печати и каноник[41] церкви св. Виктора, в Майнце оставил на своем переводе Ливия, отпечатанном Иоганом Шефером, посвящение королю Максимилиану, в котором сказано:
«В каковом городе (Майнце) также впервые изобретено чудесное искусство печатания сначала искусным Иоганом Гутенбергом, как считают в 1450 г. после рождения Христа нашего господа и потом прилежанием и работой Иогана Фуста и Петера Шефера улучшено и укреплено».
VIII. НАРОД, ИМПЕРАТОРЫ и ПАПЫ
ЖИЗНЬ Гутенберга прошла в двух больших германских городах – Майнце и Страсбурге. В них он был свидетелем борьбы бюргерства с епископской и княжеской властью, борьбы ремесленников и городской знати, но все это было внутренней борьбой в верхних этажах социальной постройки, грызней из-за дележа благ, награбленных у «простого народа».
Под многообразной путаницей всевозможных привилегированных групп феодального строя, составляя его первичное основание, его почву, находится простонародье – громадная жестоко эксплоатируемая масса крестьянства и бесправного городского плебса.
Угнетение и эксплоатация этих масс делается все более и более ужасающей под влиянием развития денежного хозяйства. Правда, децентрализация власти, плохое состояние путей сообщения, бескультурье и темнота народа, национальные различия и рознь, своеобразие интересов крестьянства и плебса – все это раскалывает социальную почву и предупреждает возможность единого мощного взрыва ярости масс. Но почва вибрирует постоянно, то здесь то там возникают эпицентры[42] местных землетрясений. С конца XIV века народные революционные волны вздымаются все чаще и чаще, чтобы притти к широкому разливу германской крестьянской войны в первой половине XVI столетия.
Отголоски постоянных подземных толчков ощущаются всюду, наполняют мир неуверенностью и тревогой, и та среда, в которой вращался изобретатель, не могла не чувствовать на себе их влияния. Перемены неизбежны, революционные взрывы неотвратимы, даже такой умеренный человек, как Гуттен, в «Вадискусе или римской Троице» говорит образно и резко:
«Тремя вещами питаются бедные: сельдереем, луком и чесноком; тремя – совсем другими – богатые: потом бедных, лихвой и грабежом…»
Нередко восстания начинались потому, что не было, выхода, жизнь становилась хуже смерти. Тяжкие последствия чумы 1348 г., разоренье столетней войны, постоянные грабежи мирных земледельцев, усиление дворянской эксплоатации – вызвали взрыв крестьянского гнева, стихийного и беспощадного.
Об этом восстании рассказал Фруассар, выдающийся писатель XIV века, автор хроник, служитель знати – он смертельно испуган Жаками[43] и изумлен ростом мятежа.
Вскоре… случился удивительный и великий мятеж во многих областях французского королевства, именно: в Бовэзи, в Бри, на Марне и Лаоннэ, Валуа и всей стране до Суассона.
Многие деревенские жители, не имея никого своим вождем, собрались в Бовэзи. Их было сначала не более ста человек. Они говорили, что все дворянство французского королевства – рыцари и оруженосцы – опозорили и предали государство, и что было бы очень хорошо всех их истребить. И тому, кто так говорил, каждый кричал: «истинную правду он сказал: проклятье тому, из-за кого случится, что дворян не будут истреблять всех до единого». Тогда они собрались и отправились в беспорядке, не имея другого вооружения, кроме палок с железными наконечниками и ножей к дому соседнего рыцаря. Они разрушили и предали огню дом и убили рыцаря, его – жену и детей, – малолетних и взрослых. После того пошли они к другому замку и потупили там еще хуже.
И дальше рассказывает Фруассар о диких жестокостях крестьян и росте их движения; вскоре бунтовщиков стало шесть тысяч, а потом набралось более ста.
«И творили они величайшие злодейства. Они разрушили в области Куси, Валуа, епископства Ланского, Суассона и Нуайона более ста замков и хороших домов рыцарей и оруженосцев. Они убивали и грабили всех, кого находили. Но бог по своему милосердию ниспослал помощь, за которую нужно его премного благодарить».
Фруассар в своей классово яснонаправленной хронике пытается представить жакерию диким бунтом рабов, рядом бессмысленных жестокостей и обрисовать рыцарство невинной жертвой, но и он не может скрыть размаха движения и страха, который охватил дворян.
На самом деле жакерия протекала не так.
Стихийно поднявшееся крестьянство вскоре обрело вождя в лице опытного в военном деле Гильома Каля. Жаки получили поддержку от горожан, которые также жестоко страдали от бесчинства рыцарей.
Восстание развивалось успешно. Когда повстанцы подошли к Парижу, город заключил с ними союз. В столице Франции, в это время среднее сословие взбунтовалось против королевской власти. Глава парижских горожан, купеческий старшина Этьен Марсель, руководивший этой борьбой, решил использовать жаков, чтобы спасти молодые вольности Парижа. Дворяне, находившиеся на стороне дофина, были общими врагами и горожан столицы, и крестьян.
Парижане, соединившись с повстанцами, уничтожили ряд рыцарских гнезд в окрестностях столицы и осадили город Мо, где укрылись жена, дочь и сестра дофина.
Перед лицом грозной опасности дворянство объединилось, вождем его в решительном бою был король Наваррский Карл Злой.
Руанская хроника говорит: тогда дворяне пошли к Наварскому королю в замок Лонгвиль и просили его, чтобы он оказал помощь и принял меры к тому, чтобы рассеять жаков, разбить их и предать смерти. Они сказали ему: «Сир! Вы первый дворянин в свете. Не допустите, чтобы дворянство было совершенно истреблено».
«Если эти люди, которые называют себя Жаками еще долго будут действовать, а добрые города будут оказывать им помощь, они совершенно истребят дворянство и все разрушат».
Карл, в борьбе дофина[44] с Парижем был на стороне бунтующего города, но он забыл эту распрю пред лицом бед, грозивших его классу.
В это время счастье отвернулось от повстанцев, силы их, объединенные с парижанами, были разбиты под Мо и бежали.
Король Наваррский выступил против основных сил жакерии, вероломно заманил к себе Каля и напал на оставшихся без вождя и ничего не ожидавших крестьян. Рыцари Карла без труда разгромили многочисленное, но плохо дисциплинированное, вооруженное и обученное повстанческое войско.
Гильома Каля победители «короновали» раскаленным треножником и обезглавили.
Горожане, как обычно для мелких буржуа, бросили своих недавних союзников и предоставили им самим разделываться, как угодно.
Окрыленное успехом рыцарство потопило жакерию в крови.
Фруассар, столь многословный в передаче жестокостей крестьян, в конце описания осады Мо говорит кратко: «после поражения, которое вилланы[45] потерпели в Мо, они нигде уже более не собирались, ибо сир де Куси собрал у себя множество дворян, которые убивали их немилосердно и беспощадно всюду, где они находились». Охота благородного рыцарства за крестьянами была бесчеловечна, а уцелевшие вилланы были обложены тяжелой пеней, которая обрекала их на нечеловеческую нужду.
После этого, в период продолжавшейся столетней войны еще вспыхивали отдельные гораздо более слабые восстания, так называемые «малые жакерии».
Вскоре после того как гроза во Франции стихла, новые раскаты грома принеслись из-за моря.
Столетняя война Франции и Англии не только довела до неистовства французских жаков, но разорила и английские народные низы. Эта неимоверно затянувшаяся авантюра английского правительства требовала все новых и новых денег, выплачивать которые обязаны были те же бесправные и обобранные народные массы.
Поголовный налог на военные нужды – новый налог, разрешенный в ноябре 1381 г. парламентом, был беззастенчивым грабежом правительственных авантюристов. Он явился искрой, за которой последовал грандиозный взрыв.
Налог поступал плохо и несколько придворных богачей получили от короля на откуп сбор недоимок. Запасшиеся военной силой, агенты откупщиков стали производить розыск и выжимать недоимки «бесчеловечно обращаясь с народом и чиня ему многие обиды и тяготы».
Восстание началось в Эссексе – народные толпы перебили сборщиков и носили по городу их головы, воткнутые на колья; власти и судьи бежали.
Эссексы разослали своих людей в соседние провинции, призывая присоединиться к ним, чтобы «добыть свободу и изменить королевство и его худые обычаи».
Жители Кента откликнулись первыми на зов эссексев.
Две народные лавины двинулись к Лондону – кентцы с юго-востока и эссексы с северо-востока; они катились быстро вырастая, как снежные комья.
Сначала неорганизованная бесформенная масса крестьян, батраков и городского плебса принимала грозные очертания боевых дружин и нашла талантливых вождей, поднятых на гребень революционной волной.
По пути к столице инсургенты[46] захватывали монастыри и поместья, разоряли и грабили усадьбы, в городах подвергались разрушению дома ненавистных «народу лиц, мятежники открывали тюрьмы и выпускали на волю заключенных.
11 и 12 июня 1381 г. кентцы во главе с Уотом Тайлером и Джоном Боллом и эссексы, предводительствуемые Томасом Фарриигтом, подошли к Лондону…
На следующее утро перед возбужденными толпами Джон Болл – „сумасшедший английский поп из Кентского графства“, как назвал его наш знакомец Фруассар, произнес свою знаменитую проповедь.
„Плевелы Англии, – это угнетающие ее правители; и пришло время жатвы, когда долг всех – собраться и разделаться со всеми злыми помещиками, неправедными судьями, правоведами и всеми, кто опасен для общего блага. Лишь тогда они обретут спокойствие в настоящем и уверенность в будущем, ибо когда великие мира сего будут уничтожены, все люди будут пользоваться одинаковой свободой, одинаковой знатностью, достоинством и властью“ – так передает слова Болла летописец.
Но мятежники еще не поняли основного – власть и сильные мира сего всегда объединяются перед лицом опасности, едины они в борьбе с народом. Восставшие требуют выдачи грабителей-вельмож: герцога Ланкастерского и архиепископа Сэдбери и надеются на справедливость короля. Вскоре они будут за это жестоко наказаны.
Королю Ричарду всего четырнадцать лет, но он король и горе мужичью, которое смеет мечтать о свободах и потрясать власть, установленную богом.
Три встречи имел Ричард с восставшим народом.
Первый раз король со свитой спустился на лодках по Темзе к лагерю, чтобы говорить со своим народом. Шум, звон оружия, крики перемешанные с угрозами по адресу его ближайших советчиков, испугали Ричарда и он, пользуясь сумерками, бежал обратно в Лондон, во дворец.
Ночью повстанцы проникли в столицу, – сожгли дворец герцога Ланкастерского и разгромили крепость Темпль.[47] Король понял: стены его дворца слишком слабая преграда – ему не уклониться от свидания со своими „детьми“.
Вторая встреча короля с подданными состоялась в Майль-Энд на лугу за стенами города. Перед королем Ричардом выступил некоронованный вождь – Уот Тайлер, он изложил требования английских крестьян: все феодальные повинности должны исчезнуть; все крепостные держатели земель стать свободными; все ограничения купли и продажи – уничтожены; рыночные монополии привилегированных мест – отменены. Восстание справедливо, и победило, потому все содеянное крестьянами в эти дни должно быть забыто.
Выхода не было – король согласился на все – дело писцов приготовить правительственные акты, которые будут скреплены величеством.
Остался один пункт требований – наказание Неправедных советников – король колебался, бесцельно, ибо народ сам взял на себя роль судьи и палача. Вскоре головы архиепископа, казначея Гельса и инициаторов закона о подушной подати Эпльтона и Леджи поднялись на шестах над воротами лондонского моста.
Третье и последнее свидание состоялось 15 июня, – в этот день на Смитфильдском лугу решилась судьба восстания.
Снова Тайлер выехал навстречу королю и говорил от имени восставших. Он верил в силы свои и крестьянского войска и предъявил новые требования: „конфискация церковных земель, упразднение епископства, уничтожение закона об охоте и полное уравнение вceх сословий“.
Колебались устои власти дворянской и королевской, гибель угрожала порядку, который мнился вечным. Англия была накануне невиданного социального переворота.
Только меч мог подпереть зашатавшуюся корону – три удара мечем пресекли жизнь Уота Тайлера на Смитфильдском лугу.
Обман и предательство рассеяли повстанцев. Единственно, что им оставалось – вера в королевское слово и грамоты за его печатью.
Но был издан указ – королевские обещания, не скрепленные парламентом, недействительны. Парламент в ноябре 1381 г., с соизволения короля, не утвердил обещаний молодого Ричарда.
Вожакам восстания досталась смерть, а крестьянам – крепостное состояние.
Почва колеблется всюду – часты и разрушительны подземные толчки.
Почти в это же время, когда восстают английские земледельцы, в далекой Италии богатый промышленный город – Флоренция – стал ареной потрясающих событий, событий, столь невероятных, что кажется, будто этот город вырван из феодальной эпохи и перенесен в XIX век.
„В Италии, где капиталистическое производство развилось раньше всего, раньше всего разложились и крепостные отношения. Крепостной эмансипировался здесь прежде, чем успел обеспечить за собой какое-либо право давности на землю. Поэтому освобождение немедленно Превращает его в поставленного вне общества пролетария, который к тому же тотчас находит новых господ в городах, сохранившихся по большей части еще от римской эпохи“.[48]
В этом секрет того, что восстание чомпи во Флоренции первое рабочее восстание, и что оно проходит и гаснет в самом городе, не вовлекая в свою орбиту крестьянское население.
В XIV веке Флоренция – молодая, богатая, буржуазная республика. Лучшие сукна изготовляются в этом городе и покупают их везде охотно – в Европе и даже на Востоке. Много денег стекается во Флоренцию – она банкир всего Запада и самого папского престола.
Феодальная аристократия, в интересах которой бессмертный Данте в 1289 г. при Компалдино сражался в первых рядах флорентийского войска, отстранена от власти.
Капитан пышного флорентийского корабля „жирный народ“ – семь старших цехов, включающие наиболее зажиточную часть населения: банкиров, промышленников-сукноделов, буржуазную интеллигенцию.
Мелкая и средняя буржуазия сорганизованная в 14 младших цехов еще только борется за участие во власти, за представительство своих интересов.
Неорганизованные трудовые массы „тощий Народ“, бесправные пролетарии суконных мастерских, смотрели на драку хозяев и ждали своего часа.
Началось обычно: мелкая и средняя буржуазия младших цехов во главе с Сильвестром Медичи подняла восстание против власти крупных буржуа, но должна была использовать для своих целей и рабочую массу. Городская беднота вышла на улицу и начала расправу с ненавистными богачами. Испуганные мелкие буржуа помирились с хозяевами города, от которых им удалось добиться кое-каких уступок, и обрушились на своих вчерашних помощников.
Рабочие массы Флоренции – как их звали чомпи (оборванцы) – поняли, что им не на кого рассчитывать, кроме как на самих себя.
В ночь на 20 июня 1378 г. при звуках набата вооруженные массы подступили к сеньории[49] и по всему городу при криках „огня и крови“ уничтожали в огне дома и имущество богачей.
На следующий день был взят приступом замок подесты и осажденная сеньория согласилась на требования чомпи: учредить три новых цеха, в которые должны были войти трудящиеся, не приписанные к цехам, допустить в сеньорию двух членов из среды низов; равномерно распределять налоговое бремя среди населения и т. п.
Устрашенные заправилы согласились на все, но рабочие не верили продажной и вероломной сеньории и, разогнав ее, выбрали себе вождя и диктатора Флоренции – Микеле Ландо, бывшего солдата.
22 июня республика была в руках рабочих.
По всей стране носились тревожные слухи; говорили, что город разрушен толпой, что перебиты все богатые, что разграблены чуть ли не все дома; не удивителен страх итальянской буржуазии, ибо впервые над городом властвовал рабочий класс. Но даже враги восстания должны были признать, что все эти ужасы были пустыми выдумками испуганной буржуазии, в городе был порядок. Так сказано в письме одного современника:
„Не лежит в прахе Флоренция, не залита кровью, не опустошена хищниками. Стоят в целости дома, стоят высокие дворцы, в сохранности богатства и почти у всех неприкосновенно имущество. Полон народу город… Если что здесь произошло, то к уврачеванию, не к несчастью. И борьба шла не из-за добычи, а из-за получения власти: грабителей не мирволили, а распущенность их подавляли“.
Но, взяв власть, рабочие Флоренции не сумели ее удержать, не сумели подавить сопротивление своих поработителей и отрезать им путь к возвращению власти, не сумели даже сохранить оружие в руках, Микеле Ландо оказался предателем и ренегатом. С его помощью подготовлялось создание законной власти с участием буржуа, фактически продажа власти буржуазии. Чомпи медлили с решительным ударом, а вчерашний вождь их Ландо спешно стягивал войска на защиту буржуазного порядка.
Последний бой произошел 31 августа. На центральной площади города выстроились вооруженные цехи, силы чомпи сосредоточились на окраинах города. Регулярная пехота и кавалерия ударила на неумелых и лишенных опытных руководителей чомпи и разбила их. Восстание подавлено, буржуазия торжествует, ренегат Микеле в триумфальном шествии двигается из здания сеньории во главе войск при криках толп.
Восстание чомпи явление замечательное, но это вовсе не единственный бунт городского плебса в XIV веке. История оставила нам скромное количество данных о революционных движениях в средневековых городах, а буржуазные историки старательно проходили мимо них, но все же мы можем рассказать о другом рабочем бунте, может; быть менее ярком, но зато более продолжительном.
Это произошло в Фессалониках, втором после Константинополя торговом порте Балканского полуострова. Морская торговля этого греческого города носила международный характер: „На рынке Фессалоник можно было найти шерстяные и льняные ткани Европы (фландрские, французские, тосканские), вина и растительные масла Италии, мыла Венеции и Анконы, а также всевозможные одежды и ткани Азии и Греции“. Источники XII века называют Фессалоники самым известным городам во всем мире и исчисляют его население в двести тысяч человек (цифра без сомнения преувеличена).
Классовое расслоение в этом (Городе в начале XIV века зашло не менее далеко, чем во Флоренции. С одной стороны стоял мощный торговый и ростовщический капитал, с другой – значительные массы пролетаризованных ремесленников и портовых рабочих и корпорация моряков. Эти народные низы имели свою партию зелотов и своих вожаков; они были организованы – в этом было главное.
Когда сложилась благоприятная политическая обстановка, массы под руководством зелотов сумели добиться революционной победы и захвата власти.
Два претендента На византийский престол: законный наследник фамилии Палеологов и крупнейший малоазиатский землевладелец Кантакузен в 1341 г. вели борьбу за власть. В Фессалониках эта династическая война быстро перешла в войну гражданскую; народные массы руководимые зелотами, разгромили феодальную знать и утвердили диктатуру масс. Диктатура опиралась на террор, который был необходим, так как городу угрожали войска Кантакузена, призванные им сербские и турецкие интервенты и греческие феодалы.
Героический город сопротивлялся восемь лет и только в 1349 г. власть зелотов пала под натиском военной силы турков-османов, подчинивших Фессалоники снова центральной власти Византии.
Один из современником (Григорий Палама) говорит: „Строй зелотов“ – был впервые появившейся властью черни, строй который только зарождался и не мог быть обдуман человеком».
Основные пункты программы зелотов достойны удивления – эти люди далеко опередили свое время.
О власти зелоты говорили, что она создается из представителей всего народа, не ограничиваемая цензами и сословиями. Эта власть, основываясь на поддержке масс, может и должна быть диктаторской. Право такой власти насильственно отбирать имущество у богатых и обращать на общественные нужды. Привилегированных сословий не существует. Имущества богатых дворян, а также монастырей и церквей не неприкосновенны, все они принадлежат народу.
Революционная власть зелотов также погибла – не приспело время народовластия.
Но непрестанно возникают все новые и новые толчки и потрясения строя, основанного на насилии и грабеже. XV век богат революционными вспышками в Чехии и Германии.
Чешские крестьянские войны носят название «гуситских» по имени религиозного реформатора Яна Гуса.[50] Учение Гуса было осуждено Констанцким собором, как еретическое, и сам он погиб на костре в 1415 году.
Но имя Гуса было лишь знаменем, религиозные dопросы только внешней оболочкой движения – гуситские войны имели гораздо более глубокие социальные причины и велись в иных целях.
Чехи начали борьбу с католической церковью, она была борьбой всего народа, ибо все, начиная от крупных феодалов и кончая крестьянами несли гнет католического духовенства, которое владело почти четвертью земельных площадей чешского королевства, и сосредоточило в своих руках огромные богатства. Пока шла эта борьба, все были заодно и богатые феодалы и мелкое дворянство и крестьяне, но после победы крупные светские помещики захватили добычу в свои руки, крестьянам и мелкопоместному рыцарству церковная реформа ничего не дала.
Положение крестьян, наоборот, резко ухудшилось, благодаря повышению ставок денежного оброка и росту цен, вызванному широким развитием добычи серебра в Чехии.
Крестьянство, сначала поддерживавшее дворянскую партию, обратилось против нее, а мелкое дворянство колебалось между двумя враждебными лагерями, присоединяясь то к одному, то к другому.
Крестьянская партия приняла название таборитов – гора Табор стала укрепленным лагерем революционных крестьян и центром нового учения. Сюда стекались массы обездоленных и угнетенных; приходили бежавшие крестьяне, обезземеленные земледельцы, городской плебс, мелкие дворяне, разоренные богатыми феодалами. Помощь повстанцам оказывали рабочие серебряных рудников, условия труда которых были нечеловечески тяжки.
У этой разнохарактерной массы были общие цели, объединявшие их: отобрание поместий у крупных феодалов и водворение в городах более равных условий ремесленного труда. Но единство их одновременно разделялось рядом внутренних противоречий, благодаря чему они все были попутчиками лишь на время.
Среди таборитов все большее и большее значение приобретало коммунистическое учение.[51] Слова проповедников о близком наступлении тысячелетнего царства христова, где не будет ни бедных, ни богатых, ни слуг, ни господ, – учение о полном уничтожении собственности и окончательном искоренении экономического неравенства – увлекали бедных крестьян, рабочих рудников, городской плебс.
Но даже крестьянство и бедные ремесленники, все они были собственниками, и пойти до конца за этими коммунистическими лозунгами не могли. Рано или поздно внутри таборитов должен был произойти раскол.
Католическая церковь не хотела так легко расстаться со своими владениями и допустить распространение еретического учения Гуса в Чехии – в марте 1420 г. папа стал призывать верных христиан к крестовому походу против богемских еретиков. 150 тысяч рыцарей, наемников, авантюристов и набожных католиков, прельщенных отпущением грехов, двинулись на гуситов. Перед лицом этой опасности табориты вместе с калликстинами (дворянская гуситская партия) выступили на защиту страны и нации.
Табориты, предводительствуемые ветераном Столетней войны Яном Жижкой, представляли собой великолепную пехоту, скованную строжайшей дисциплиной. Десять лет длилась жестокая борьба и, наконец, в 1431 г. в сражении при Таусе крестовое воинство было безславно разбито. Папа и король вынуждены были пойти на уступки – через два года заключен мир – «Пражские компакты», по которому награбленное церковное добро досталось дворянству, и гуситы добились права вести службу на чешском языке и получать причастие в двух видах.
Тогда-то и наступил раскол среди самих таборитов и отход более умеренных слоев.
Калликстины использовали это благоприятное для них положение для того, чтобы уничтожить левых таборитов, которые своим коммунистическим учением угрожали самой священной частной собственности. 30 мая 1434 г. у Липара встретилось восемнадцатитысячное таборитское войско с двадцатитысячной армией калликстинов. Сражение длилось сутки и было упорно и жестоко – тринадцать тысяч трупов таборитов остались на поле битвы. Еще один акт средневековой революционной драмы был закончен.
Германия экономически была отсталой страной по сравнению не только с Италией, но и с Францией и Англией, поэтому крестьянские восстания разгораются в ней позднее. Крестьянский бунт 1391 г. в окрестностях Готы был изолированным и кратким. Табориты, рассеившиеся в Германии после Липарского поражения, занесли в Германию коммунистическое учение – в 1446 г. в Вюрцбургском епископстве свили себе гнездо бунтовщики гуситы; в 1496 г. там же рыцари перебили немало взбунтовавшихся крестьян, поднятых Гансом Дударем.
В Германии могучий смерч крестьянской войны прошел уже после смерти Гутенберга, достигнув своего апогея в 1525 году.
Над средневековой Европой простиралась темная ночь, горизонт в разных местах освещают пожары народных мятежей, воздух удушлив и тяжек.
Но линия феодального развития общества ломается – деньги и торговля получают все большую и большую власть, ремесло преобразуется в мануфактуру, чтобы подготовить дорогу капиталистической промышленности. Нарождается буржуазия, которая перестроит мир по образу и подобию своему – перечертит государственные границы, изменит водоразделы между классами и сословиями и учредит новую власть, свою власть капитала и биржи. Мечты феодализма о всемирном владычестве императора и вселенском главенстве папы уже рухнули и не воскреснут никогда. Даже сейчас в дни Гутенберга император и папа лишь призраки, бессильные тени перед нарождающейся силой национальных королей и территориальных князей, властью нового буржуазного класса.
Эней Сильвий Пиколломин в эти дни пишет:
«Папа и император гордятся своим высоким положением, но они не что иное, как блестящие призраки; они неспособны повелевать, и не хотят повиноваться; каждое государство имеет особого монарха и у каждого из этих монархов особые интересы. Чье красноречие в состоянии было бы соединить под одним знаменем столько несходных и враждующих друг с другом народов».
Давно и безвозвратно ушли времена Григория VII и Иннокентия III – пап великанов, державших в руках скрижали, на которых было написано:
«Папа один вправе распоряжаться знаками императорского достоинства».
«Папа может низлагать императоров» – и на деле повелевавших императорами и королями.
Не возвратятся и императоры Карл и Фридрих Барбаросса, на их престоле Фридрих III, – слабый властью и головой.
Наверху только призраки верховных глав феодального строя, а дальше внизу шатающаяся постройка феодализма.
Мир накануне новой главы человеческой истории, но только накануне – рождение нового строя будет мучительно и долго.
IX. ПОРОХ, КОМПАС и КНИГОПЕЧАТАНИЕ
ТВОРЕНИЕ Иогана Генсфлейша-Гутенберга огромно, так огромно, что трудно представить себе в наше время всю величественность его в социальном и вещном окружении XV столетия. Вспомним средневековые сумерки культуры, застой науки, младенческое состояние ремесленной техники и низкий уровень экономического развития – на этом фоне изобретение книгопечатания вырисовывается подобно гигантскому пику, поднятому ввысь человеческим гением.
Оценка книгопечатания с точки зрения следствий изобретения его для человечества еще рельефнее подчеркивает грандиозность дела Гутенберга. Лишь немногие достижения мировой науки и техники могут быть поставлены в один ряд с книгопечатанием по мощи воздействия на людское существование, на развитие общества.
Потенциальные силы, заложенные в этом новом искусстве, столь велики, что оно само могло возникнуть и сформироваться лишь в результате огромного скопления социальной творческой энергии.
Изобретение Гутенберга входит в мир в грозе и буре социальных и экономических потрясений, оно само революционный акт с железной необходимостью, влекущий за собою новые и новые перемены.
Начавшаяся ломка феодального строя, назревающие экономические сдвиги, народные революции XIV и XV столетий – то, о чем на первый взгляд без достаточной связи с жизнью и делом Гутенберга говорили мы выше, – все это создает книгопечатание, утверждает его бытие и делает его могучим орудием предстоящих социальных изменений.
Так и личность самого изобретателя приобретает действительную, неотъемлемо принадлежащую ей мощь, ибо что творческое достижение отбрасывает свои лучи на фигуру Иогана Гутенберга.
Пусть время стерло многое в списке его деяний, не должно ли нам во имя истины восстановить портрет этого человека во всем блеске красок. Может быть не так уже не правы те, кто, без достаточных документальных оснований, пытается утверждать, что в промежутках между пребыванием в Майнце и Страсбурге изобретатель много скитался, видел и пережил. Нет ничего невероятного и в том, что именно в эти годы жизнь столкнула его с революционным городским плебсом, показала ему тяжкое существование крестьянства, таившее неизбежность борьбы и бунта, и, наконец, раскрыла перед ним зачатки буржуазных отношений, подняв Гутенберга много выше уровня среднего немецкого горожанина.
В тот исторический отрезок, который включает жизнь Гутенберга, мир находился накануне новой главы человеческой истории.
«Хотя первые зачатки капиталистического производства имели место уже в XIV и XV столетии в отдельных городах по Средиземному морю, тем не менее начало капиталистической эры относится лишь к XVI столетию».[52]
Дело мастера Гутенберга сыграло немалую роль в подготовке этой новой эры. – «Изобретение пороха, компаса и книгопечатания – необходимые предпосылки буржуазного развития».
К. Маркс, касаясь революции 1848 г., сказал: «пар, электричество и сельфактор являлись гораздо более опасными революционерами, чем граждане Распайль и Бланки».
С неменьшим правом можно утверждать, что порох, компас и книгопечатание в средневековьи были не менее опасными революционерами, чем Уот Тайлер, Гильом Каль, Гус и Мюнцер.
В недрах разлагающегося феодального строя постепенно зарождаются все необходимые условия для перехода к новому товарно-капиталистическому производству, для победы буржуазии. Словно в огромный сосуд опущены электроды. Жидкость – сложное смешение социальных группировок феодализма, разлагается, выделяя на одном полюсе обезземеленного крестьянина, который превращается в пролетария, а на другом – класс буржуазии, накапливающий богатства, чтобы забрать в свои руки средства производства, «высвобождая» от них непосредственного производителя. Реакция протекает, бурно порождая взрывы буржуазных революций.
И вот порох, компас и книгопечатание брошены в этот сосуд, как химические слагающие, которым дано ускорить исторически неизбежный процесс.
Об изобретении пороха и компаса в XV веке говорится, конечно, лишь условно. В эту эпоху на определенном уровне развития производительных сил они вошли в жизнь народов как реальное движущее начало общественного прогресса и орудия ломки существовавших форм господства и подчинения.
Порох и компас были известны в Китае задолго до этого. Сообщение о компасе встречается в одном китайском сочинения второго века нашей эры. И снова посредниками между востоком Азии и европейским материком, как в изготовлении бумаги, явились арабы – этот передовой народ науки в средние века.
В Париже хранится рукопись Марка Грека, в которой впервые в европейской литературе содержится известие о порохе, сочинение это относят к 1450 году.
Порох совершил переворот во всем военном деле. «Но введение пороха и огнестрельного – оружия было, ведь, не насилием, а промышленным, т. е. экономическим прогрессом. Промышленность остается промышленностью, независимо от того, направлена ли она на созидание или разрушение каких-либо предметов. Введение огнестрельного оружия внесло коренные изменения не только в военное дело, но и в Политические отношения господства и подчинения. Для того, чтобы иметь порох и огнестрельное оружие, необходимы были индустрия и деньги; тем и другим располагают горожане. Поэтому огнестрельное оружие было с самого начала орудием городов и опиравшейся на них монархической власти в (борьбе против феодального дворянства. Прежде неприступные каменные стены дворянских замков падали под ядрами пушек горожан, а пули винтовок горожан пробивали рыцарскую броню. Вместе с облаченной в рыцарские доспехи кавалерией дворянства рухнуло также и, дворянское владычество».[53]
Вскоре порох находит и промышленное применение в передовой отрасли производства того времени – горном деле.
Именно здесь, впервые в Европе возникает капиталистическая организация труда.
Свидетельства, дошедшие до нас о рудниках Кера (относятся к 1455 г.) рисуют картину новых уже капиталистических форм производства, мы видим: наемных рабочих, получающих заработную плату; труд по сменам; строгую регламентацию работы и дисциплину под угрозой вычетов и штрафов; ответственность за целость инструментов. Уже тогда, от массы этих низших рабочих отделяется квалифицированный технический персонал, который организует и руководит техникой производства, – «орудующие циркулем и квадратом».
В начале XVI века шахты так обширны, что при работах применялся порох, а спуск и подъем рабочих и руды производился с помощью машин, которые приводились в движение лошадьми или водяной силой. Интересно, что в этих же рудниках применялся для ориентировки в проходке штреков и компас.
Уже в XII столетии компас стал известен европейцам; в одной провансальской книге этого времени говорится: «Когда моряки в туманную погоду не пользуются благодеяниями ясного солнца или с наступлением ночной темноты не знают в каком Небесном направлении движется корабль, они прикрепляют над магнитом иглу, которая вращается до тех нор, пока ее острие, по прекращении движения, не указывает северного направления».
Флавио Джойя в XIV веке усовершенствовал компас, поместив иглу в закрытом сосуде и сделав вокруг рисунок с румбами (горизонт делится на 32 части, которые названы румбами). Это усовершенствование расширило использование компаса в мореплавании, что с одновременным улучшением кораблестроения привело к великим географическим открытиям, также сыгравшим огромную роль в перестройке человеческого общества.
Сфера действия величайших мореплавателей средневековой Европы – венецианцев и генуэзцев была долго ограничена Средиземным морем.
Гибралтарский пролив казался им страшным и последним пределом, за которым безрассудных ожидает верная гибель, там: «тихое море, словно бесконечная, неподвижная громада, перед глазами расстилается туман, и день заменяется сумраком, не видно звезд, исключая некоторых неизвестных».
В XIV столетии этот рубеж перейден – это заслуга улучшения техники мореплавания и в частности компаса. Генуэзцы открывают Канарские острова, потом Мадейру и Азорские острова. Затем слава первых мореплавателей переходит от итальянцев к государствам Пиренейского полуострова, которые первые захватят богатейшую добычу и колонии на берегах океанов.
Грандиозные открытия Колумба,[54] Васко да Гамы,[55] Диаца[56] и других были сделаны в последнее пятнадцатилетие XV и в начале XVI века. Они совершенно изменили прежнюю картину земного шара, выдвинули на историческую арену новые экономические силы, создали мощные предпосылки для накопления богатств в руках буржуазии.
Но это было после, а Гутенберг имел современника – примечательного и безумного человека, с настойчивостью маниака добивавшегося открытия новых побережий – ему дано имя Генрих Мореплаватель.
Инфант Генрих – третий сын короля португальского Иоана, гроссмейстер ордена христа, располагающий огромными богатствами этого ордена.
У инфанта навязчивая идея – организация морских экспедиций в Атлантическом океане к берегам Африки. Денег много и он начинает посылать экспедиции на свой страх и риск.
На берегу моря у мыса Винцента богатое жилище Генриха; он изучает описания путешествий и карты, собирает моряков и отсюда посылает ежегодно два-три корабля в океан. Но в безумии Генриха есть система – корабли его проникают все дальше на юг, открывают новые острова и продвигаются вдоль африканского берега. Предприятие начинает давать доходы, ибо экспедиции инфанта, который говорил, что цель его – обращение жителей новых стран в христианскую веру, эти экспедиции специализируются на ловле невольников. Один писатель того времени трогательно описывает удачи одной экспедиции.
«Наконец-то, господу богу, воздателю добрых дел, угодно было за многие на службе его перенесенные бедствия даровать им победоносный день, славу за их труды и вознаграждение за убытки, так как захвачено всего мужчин, женщин и детей 165 голов».
Работорговля, несомненно была одним из сильных движущих мотивов всех плаваний «открывателей новых земель». И Колумб в донесении Фердинанду и Изабелле отмечает выгодную сторону своего живого товара: он восхваляет силу и выносливость плененных им караибов и предлагает завести правильную торговлю ими. В Европе цветные рабы не привились в широком масштабе, вследствие слабого ее промышленного развития, отсутствия острой потребности в рабочих руках и неблагоприятных климатических условий.
Но зато «рабский» капитализм нашел благоприятную почву на плантациях европейских предпринимателей в Африке и Америке и сыграл немалую роль в накоплении богатства в руках буржуазии и завоевании ею власти.
Несомненной заслугой инфанта явилось то, что на службе его воспитались кадры португальских моряков, которым принадлежит честь многих и смелых плаваний и открытий в дальнейшем. При инфанте португальцы исследовали острова и берега Африки почти до экватора.
Генрих Мореплаватель умер в 1460 году.
В это время искусство книгопечатания стало уже неоспоримым фактом, реальной силой, которой суждено было оказать свое могучее действие в грандиозном историческом перевороте.
Книгопечатание так же, как великие географические открытия, мощно раздвигало экономические связи и влияния и умственный горизонт человечества и так же, как порох, взрывало существующие отношения господства и подчинения и в частности господство католической церкви. Если порох и компас были замечательным использованием достижений более ранней культуры, то книгопечатание явилось изобретением XV века, его колоссальным успехом – успехом, который заставляет нас с особым вниманием и почтительным удивлением вглядываться в фигуру Гутенберга – этот человек сказал новое слово исторической важности.
Некогда Наполеон обронил многозначительную фразу: «Пушка убила феодализм. Чернила убьют нынешний общественный строй». Несомненно, что чернила, не столько чернила, сколько, конечно, печать, призвана сыграть немалую роль в разрушении буржуазного строя.
X. ВТОРАЯ ВСТАВНАЯ НОВЕЛЛА
(В которой повествуется о необычайных происшествиях в одном средневековом монастыре, гибели неудавшегося «святого» и о печатной книге – творении сатаны)
ВECEHHEE утро было празднично-ярко. Возрожденная зелень деревьев и трав, хрусталь речных вод, разноцветные пятна земли и камней сияли неповторимой свежестью красок. Природа расточала могучие избытки сил, казалось, первоисточники жизни раскрылись небывалым цветком в лучах молодого солнца.
Во внутреннем дворе монастыря зацвели фруктовые деревья, зеленел кустарник. На скамье, греясь на солнце, сидел грузный монах – тепло нежило его старое тело, сладко слипались утомленные глаза, Брат Эвзебий – переписчик только что вышел из скриптория,[57] где еще с рассветом начал он свой трудовой день. Приближающиеся шаги прервали его дремоту, открылись узкие щели глаз на лунообразном лице, рот растянулся привычной сладкой улыбкой.
Перед Эвзебием стоял юноша с иссушенным болезнью лицом, нездоровым румянцем и огнем лихорадки в глазах, от изношенной и неопрятной его монашеской одежды шел острый больничный запах.
Молодой монах опустился на скамью рядом с толстяком и заговорил горячо и отрывисто, точно ему надо было разорвать докучную паутину волнующих мыслей, которые заслоняли свет и сбивали с пути.
– Ты был добр ко мне, Евзебий. Когда я лежал на одре болезни, ты читал мне переписанные тобою жития святых. Я был потрясен. Высокий пример их возродил душу и болезнь покинула мое грешное тело. Я понял – подвиг предстоит мне. – Но горе несчастному, все рушится и я во власти соблазна. Это родилось помимо моей воли, внезапно возникло в уме и не покидает меня. Слушай…
Голос его пресекся, – перехватило дыхание.
– Ложь и обман воцарились в мире. Близок час расплаты, час последнего суда, о наступлении которого кричали исступленные толпы в дни чумы. Они ошиблись в сроке, но судный час ближе, чем думаем мы. Черные волны лжи и греха затопили землю и кто поручится, что канонизированные чисты, что так зорки глаза наши, чтобы заметить пятна на их праздничной одежде. Я понял: одни из святых, подобно Елизавете Тюрингенской, жалкие игралища чужих страстей, Елизавета пешка в руках Генриха Тюрингенского, который бросил ее и детей ее на подвиг самоотречения, чтобы овладеть богатым наследством своего покойного брата и мужа Елизаветы. Другие сами причастны к обману и коварству сильных мира сего. Власть и деньги правят не только грешными толпами, но и деяниями святых. И ныне, бичуя себя, слыша голос, который призывает меня на путь учительства и отречения, мне кажется, что я также ярмарочный паяц – за белой стеной притаились расчет и корыстолюбие и направляют шаги мои. Все лгут кругом и ты, Эвзебий, вместе с ними. Говори!
– Умолкни, нечестивый! – крикнул Эвзебий, лицо его налилось кровью, испуганно бегали вокруг маленькие глазки – не услыхал бы кто.
– Опровергни, открой глаза мне – хрипло шептал юноша, хватая монаха за одежду.
– Опровергаю, все опровергаю, – повторял старик: – все скажу аббату,[58] он проклянет тебя. Кайся и отрекись от заблуждений. Ты безумен, брат Григорий!
Юноша усмехнулся и тихо проговорил:
– Мы оба безумны и я, и отец аббат, но у него власть, поэтому его безумье страшнее. Я всегда чувствую, он таится где-то близко.
Брат Эвзебий неожиданно быстро поднял со скамьи свое тяжкое тело и мелкими шагами заспешил прочь. В галлерее, которая опоясывала дворик, он столкнулся с привратником. Привратник бежал к жилищу аббата.
– Куда торопишься, брат? – спросил Эвзебий, загораживая дорогу. Старик был любопытен и болтлив, и ожидание новостей почти изгладило страх от разговора с безумным Григорием.
– Прибыл посланный. Граф фон Эрбах, сиятельный брат отца настоятеля едет в обитель. Бегу сообщить, – запыхавшись пробормотал привратник.
В высокой и длинной комнате с узкими окнами, серыми стенами и каменным полом было темно и сыро. За большим дубовым столом в кресле, обитом кожей, сидел аббат богатого и влиятельного монастыря. Шелковая ряса облегала скелет великана. На плоском лице острые скулы вот-вот прорвут иссохшую желтую кожу. Опухшие красные веки почти скрывают глаза в глубоких впадинах глазниц, тонкие губы еле намечены над массивным квадратом подбородка.
Голос аббата глух, но монахи знают, что в минуты волнения и гнева он звучит оглушающе, как боевая труба.
По левую руку аббата стоит приор,[59] он подобострастен и незначителен, напротив перед столом – группа горожан в пышных платьях бургомистр и члены магистрата соседнего города. Аббат не терпит своеволия, он раздражен этими людьми, которые держатся, как ему кажется, недостаточно почтительно. Вражда горожан и духовенства ясна во взглядах, движениях и интонациях сторон, даже когда наступает молчание, затхлый воздух комнаты мнится напряженным и тяжким, как перед грозой. Говорит бургомистр:
– Святой отец, бесчисленные долги, оставленные нашему городу расточительными и нерадивыми предшественниками нашего магистрата, непосильны трудолюбивым гражданам. Городу уготовано славное будущее – искусны его ремесленники, все больше и больше народа стекается на наши ярмарки. Недалек тот день, когда мы полностью учиним расплату. Но сейчас заимодавцам надо подождать, неразумно зимой рубить голый сук, если к осени можно снять с него великолепные плоды. Мы просим об отсрочке процентов по долгу, которые требует с нас богатый и славный монастырь ваш.
Аббат. Я слышал, что ремесленники города открыто толкуют об отмене привилегий, испокон веков предоставленных нашему монастырю и что магистрат не дал должного отпора этим нечестивцам, не Наказывает за эту неслыханную дерзость. Верно ли это, сын мой?
Бургомистр. Святой отец, все привилегии будут подтверждены магистратом, если…
Аббат перебивает его. – В городе еретики чувствуют себя в безопасности. Власть светская не вырывает с корнем эти плевелы на божьей ниве, сорняки грозят заглушить урожай. Помните, что и над вашей властью есть судья. Апостол Петр в послании к коринфянам говорил: «Разве не знаете, что мы ангелов судить будем, а тем более дела житейские».
Мне известно, что горожане тайно ведут переговоры с графом фон Эрбахом о спорных землях его с монастырем и обещали графу поддержку в борьбе с нами. Верно ли это, сын мой?
– Граф фон Эрбах – ваш брат, – с оттенком насмешки говорит бургомистр. Аббат бледнеет, по продолжает глухо и ровно.
– Все верные – братья мои во Христе. Я писал его святейшеству архиепископу о тяжких грехах города против церкви. На вас будет наложен интердикт[60] и дьявольская гордыня города сломлена.
Волненье среди горожан, и бургомистр отвечает на удар ударом.
– Мы читали письмо. Посланный к архиепископу был перехвачен, святой отец.
Аббат повышает голос: – Дерзость ваша беспримерна, но я никогда не доверяю случайностям дела великой важности. Три гонца с тремя письмами были посланы к архиепископу Адальберту. Один из гонцов вернулся вчера.
Вошел монах, переговорив с которым приор наклонился к уху аббата и прошептал ему несколько слов.
Жилистые пальцы аббата крепко впились в ручки кресла и резким толчком он поднялся во весь свой огромный рост.
Воин церкви в эту минуту взглядом, осанкой, движениями преобразился в светского военоначальника, горожанам казалось, что у пояса его они видели меч.
– Смиритесь. Подумайте о том, что вам надлежит отказаться от всяческих козней и искупить свою вину перед монастырем. Ответ вы получите завтра, в город прибудет отец приор и сообщит вам наше решение! – Потом смиренно и тихо. – Час светских занятий моих окончен, Господь призывает к служению раба его рабов!
Горожане удалились и аббат сказал приору:
– Гонец моего брата не должен видеть этих людей. Приор вышел.
Аббат, размышляя несколько раз прошелся по комнате, потом остановился и хлопнул в ладоши. Вошедшему монаху он велел позвать брата Эвзебия.
Когда переписчик неслышно вошел, вернее вполз в комнату, аббат снова неподвижно сидел в кресле. Губы аббата что-то тихо шептали, Эвзебий стоял поодаль и ждал, кроме них в комнате никого не было.
Приор тихо приблизился к дверям и приложил ухо к щели.
– Ты становишься стар и нерадив, брат, – глухо прозвучали первые слова. – Тебе оказана великая честь тем, что я поручил тебе столь важное и угодное богу дело. Что ты сделал?
– Отец, мой разум слаб, – жалобно проговорил Эвзебий.
Снова голос аббата: – Слушай ты, нерадивый скот. Помнишь, когда ты нес службу в монастырской гостинице у нас умер проезжий купец. При его последнем издыхании присутствовал брат Эвзебий. Потом покойный приор обнаружил у этого брата несколько золотых гульденов. Приор обвинил тебя в краже у купца. Ты отрекался и говорил, – деньги эти ты принес с собой при поступлении в обитель и утаил. Знаешь ли ты, что надлежит сделать с нарушившим 33 главу устава, запрещающую монаху иметь собственность. Святейший папа Григорий говорил: «Монах, имеющий один обол,[61] не стоит и обола». А если у меня есть свидетель, который удостоверит, что эти гульдены были зашиты в пояс купца. Тогда, что? На это дело у тебя хватило разума? Я простил нарушителя обета, я простил вора, но помни, что ты у меня в руках.
Приор слышал как тяжело со свистом дышал Эвзебий. Аббат ударил по столу и продолжал:
– Нам нужен святой, который вознес бы славу нашего монастыря на новую высоту, который привлек бы в эти стены тьмы богомольцев, обогащая нашу казну неисчислимыми даяниями верующих. Мы водрузим его, как щит перед собой и графы, горожане и другие разбойники не посмеют и думать о споре с нами. И вот я сказал, что этот святой будет. Это должен быть человек с душой, охваченной божественным огнем, безумец нерушимо верующий в святость свою. Подвиг его будет отмечен чудесами. Чудеса свершатся, ты понимаешь меня? Они свершатся во славу всемогущего. Подойти ближе, Эвзебий!
Голоса спустились до шопота и дальше, как не старался приор, он ничего не расслышал.
Через некоторое время прибыл граф фон Эрбах, его провели прямо к отцу аббату. Настоятель в волнении ждал нового посетителя. Он знал бешеный характер брата. Предстояло трудное и опасное свидание.
Отворились двери и занимая почти все пространство входа и касаясь головой притолки, появился двойник аббата в богатом платье владетельного князя.
Граф фон Эрбах, входя склонился под благословением аббата и тяжело ступая направился к нему.
– Я рад твоему приезду, мой возлюбленный брат – ласково проговорил аббат. Граф сел. Вялые лицевые мускулы фон Эрбахов делали лица их невыразительными. Они сидели молча и лишь искоса наблюдали друг за другом.
На полу бился радостный солнечный зайчик.
Начал граф:
– Господин аббат, я давно и постоянно слежу за вами, все ваши штуки мне хорошо известны. Это вы натравливаете на меня горожан, вы поссорили меня с епископом, вы оттягали неправедным судом часть моих земель для жадного монастыря. Я не вижу конца вашим притязаниям. Я хочу последний раз поговорить с вами, но с самого начала предупреждаю, что сила решит наши споры и сила на моей стороне.
– Любимый брат, вы унаследовали богатое достояние нашего отца. Я не жалею об этом. Вы ведете блестящую жизнь. Я не завидую вам. Но не путайтесь в мои дела, не дерзайте разрушать то, что я создаю такими усилиями. Подумайте брат, десять лет я потратил на благоустроение моего монастыря. Я многого достиг за эти годы. Слава моего имени – это и ваша слава. И вот сегодня вы приходите ко мне и начинаете угрожать уничтожением всего, что труд мой…
Граф перебил его нетерпеливо и резко:
– Мне нет дела до ваших трудов!
– Вспомните, брат, мы играли вместе детьми.
– Земли, которые вы получили подкупом и ложью, должны быть мне возвращены, а вы обяжетесь клятвой впредь прекратить ваши происки. Вот мои условия.
Дружелюбный и даже заискивающий тон аббата изменился, он заговорил отрывисто и грубо, словно подражая собеседнику.
– Берегитесь брат, за моими плечами стоит всемогущая церковь!
– А за моими – королевская и княжеская власть!
– Попробуем договориться, – снова мягко произносит аббат: – придвиньте стул свой ближе, я что-то стал плохо слышать брат! – И дальше: – Помните, граф, папа Григорий отлучил императора Генриха и император шел в Каноссу.
– Хорошая компания встретила его в Каноссе – клятвопреступник Гильдебранд и распутная Матильда. Поистине Генрих был слеп и труслив.
– Вы заблуждаетесь, брат, Генрих был трезвым политиком, а слепы вы. Я подниму на вас пылающий духовный меч и железный меч мирской.
Я умею не только носить рясу, но и биться с врагом. Негодяю и еретику не будет пощады. Нашему курфюрсту давно нравятся ваши замки, а горожан я уже поднял против вас.
Судорога пробежала по лицу графа, глаза налились кровью.
– Змея, ты не только жалишь исподтишка, но и смеешь бросаться на меня открыто. Мой меч со мной и ты не выйдешь отсюда живым, прежде… – граф взялся за богатую рукоять.
– Спокойствие! – прошипел монах, скрывая руку на груди под рясой. – Я держу в руке кинжал и прежде чем ты справишься со своим длинным мечом, ты будешь мертв, брат. Мы прячем под скромной черной одеждой не только грешную плоть нашу, но и стальные клинки на страх врагам, а подвалы монастыря скрывают запасы оружия для будущей битвы. Спокойствие брат! – Отпустив руку аббат дважды стукнул по столу.
В комнату вошло несколько монахов. При неосторожном движении одного из них глухо звякнуло оружие, зацепившееся за косяк двери.
Лица братьев были Снова бесстрастны и невыразительны, граф сидел повернувшись к окну. Аббат заговорил громко и ровно, как бы кончая долгую, согласную беседу.
– Итак, мы договорились, любимый брат мой. Я советую тебе очень обдумать мой совет и поступить, как я сказал. Нам всем грозит опасность. Крестьяне доведены до отчаяния насилиями и поборами светских владык. Они готовы восстать, брат мой, мои монахи лучше знают тайные мысли земледельцев, чем твои многочисленные слуги. Гнев восставших обрушится на рыцарей, но не пощадит и монастырей, ибо бедняки будут искать богатств и не побоятся даже гнева господня. Вот опасность, которую нам надо совместно отразить. Вы молчите, брат? – с легкой насмешкой закончил аббат, – вы утомились с дороги, в монастырской гостинице вам приготовлены комнаты.
Выйдя от аббата брат Эвзебий направился в скрипторий. В большом светлом помещении за столами сидели десять переписчиков. У высокого стола в середине комнаты монах читал вслух священное писание, братья писали под его диктовку. Эвзебий, проходя, склонил голову перед большим распятием у входа и приблизился к среднему столу.
В это время из двери, которая вела в смежную библиотеку, просунулась голова брата Иогана – хранителя библиотеки, живые веселые глаза осмотрели переписчиков и Иоган вышел, он был весел и доволен.
– Братья, видели ли вы замечательную библию из славного города Майнца. Радуйтесь, тяжкому труду вашему приходит конец. Сказали мне, что новое искусство книгопечатания во много убыстряет труд изготовления книг и делает его во много крат дешевле. Размножатся священные книги, как песок морокой, и потекут по земле, как воды весенние. Чудо это огромно и необъяснимо!
– Ложь, визгливо и пронзительно закричал Эвзебий: не бог, а сатана, завладевший Майнцем, сотворил эту богомерзкую книгу. В костер эту книгу и слава нашему высокому труду.
– Если миряне изготовят столько книг, сколько песчинок, кто же купит наши книги? – тоном вопроса сказал один из монахов. Слова его прозвучали веско и все молчали.
Библиотекарь понес поражение, Эвзебий смотрел на него презрительно и торжествовал. Иоган, заклятый враг переписчика, ибо библиотекарь учен и при покровительстве аббата пишет труд: «О кознях и коварствах демонов против людей». В нем, между прочим, сказано: «Укушение блох и вшей производится демонами. Если кто-нибудь сказал бы мне прежде такую штуку, я назвал бы его полоумным. Но теперь я знаю это наверное по моему собственному долголетнему опыту». Брат Эвзебий завидует ученому человеку.
Звон колокола созывает братию в капитульный[62] зал на совещание.
Длинные деревянные скамьи пестрят отдельными черными пятнами, зал постепенно заполняется. Тихо перешептываются монахи, словно беспрерывно перевертываются страницы огромной книги.
Внезапно все встают и сгибаются в поклоне – в зал вступил аббат. Опираясь на высокий посох с загнутым внутрь концом, медленно идет к своему месту неограниченный владыка монастыря.
Аббат поднимается на возвышение и без того крупная его фигура кажется еще грандиознее, лицо спокойно и невыразительно, трепещущая братия никогда не знает часа, когда грянет гром. Садится аббат и вокруг него приор, камерарий,[63] апокризарий[64] и целарий.[65]
В полном молчании у аналоя один из братьев читает житие святого, память которого празднуется в этот день и потом главу из правил жизни монашеской.
Чтение окончено.
Голос аббата: – Поговорим о нашем ордене.
Несколько мелких дел разобрано и тогда неожиданно аббат поднимается:
– Брату Эвзебию было сегодня видение и он молил моего дозволения поведать о нем. Облегчим душу брата.
Эвзебий трудно втащил на возвышение свое грузное тело, осмотрелся кругом, мигая узкими глазками и начал так:
– Братья, вчера в дормитории[66] было жарко и душно, ибо его еще продолжают топить, несмотря на наступление весны. Брат Иоган-библиотекарь сильно храпел и мешал мне заснуть. Брат Иоган всегда храпит неимоверно, должно быть грешные мечтания смущают его в часы ночного отдыха.
Зубы аббата скрипнули: – Дурак! – не сказал, а тихо выдыхнул он. Переписчик самодовольно усмехнулся и продолжал.
– Итак, сон долго не смыкал мои усталые глаза, наконец я впал в забытье. Вдруг слышу тихие шаги приближаются к моему ложу и рука тяжело ложится мне на грудь. Ночной пришелец заговорил и слова его падали, как каменные плиты на мерзлую землю. Страшно мне было братья!
Все стихло, слышно было, как далеко на реке пел перевозчик. Эвзебий блаженствовал, впервые он центр внимания всего монастыря.
«И сказал сатана, да, да это был он, я узнал его. – Шум, многие ужаснулись, но кто-то тихо, но ясно проговорил: – Хорошо, что брат так толст, а то бы дьявол унес его с собой в преисподнюю».
Другой голос: – А как он, выглядел?
Эвзебий понял неудачу и беспомощно остановился. Легкий смешок. Стук посоха владыки установил тишину.
– Сатана сказал, я царь и владыка земли, мне поклонятся народы. Долго теснили меня, но ныне наступает час торжества. Подвластными мне силами магии и чародейства слуги мои выковали новое оружие которым завоюют тысячи тысяч. Все преграды падут перед ним, как стены иерихонские от звука труб. Слово мое услышите и будете думать, что это речь вседержителя, великий соблазн пройдет повсеместно. Вы, укрывшиеся в монастыре, не спасетесь также, незаметно проникну к вам и смущу братию. Ждите, завтра буду с вами.
Как спелая рожь от порыва ветра, дрогнули ряды монахов. Стон вырвался из чьей-то груди, многие вскочили, шепча молитвы.
Брат Эвзебий невозмутимо продолжал, видно хорошо затвердил свою речь:
– Далее совершилось великое, братие! Ударил гром, качнулась твердь и сатана исчез в огне. Запах дыма и серы душил меня. Но вот разлился свет невыразимый и благоухание, предстал передо мной сияющий вестник. Сладостный голос рек: «Да не смутится сердце твое, брат Эвзебий. Бессильны козни дьявола против вашей обители, ибо избрана она милостью всевышнего и даст миру нового святого, сильного перед богом!»
Волнение все нарастало и из глухого общего шума вырвался крик: – имя его?
Тихий доселе голос Эвзебия окреп; преодолевая гул, снова неспешно лилась речь: – и поведал мне дивный посланец – мне суждено открыть козни дьявола. Я узнал творение его, братья!
Все смолкло и, славно царапая сталью по стеклу, неожиданно пискливым голосом заторопился снова Эвзебий.
Вчера вошло оно в наши стены, это – чародейская книга, написанная нечеловеческой рукой. Братья, бегите ее соблазна, я узнал врага, запах выдал его, от книги идет запах огня и серы.
Уже не крик, а рев потряс зал.
Сжечь ее! В костер!
Даже страх перед поднявшимся аббатом не мог прекратить бури. Раздался резкий стук его посоха. Мгновение и все стихло.
– Братья, книга эта присуждается нами к сожжению и пусть с удвоенным прилежанием и верой в бога работают переписчики нашего монастыря, уже прославившиеся прекрасным искусством писания и украшения священного слова.
Аббат остановился, переждал и кинул тяжелый взгляд на приора. Догадливый приор поднялся и спросил:
Скажи, брат Эвзебий, кто избранный сосуд в монастыре нашем?
– Пал я перед вестником на колени, – продолжал Эвзебий – и молил его открыть мне имя избранника и ангел рек – вижу славный путь его, путь поста, молитвы и самоистязаний – имя его Григорий.
Крик человека был остр и замолк точно глубоко вонзился в гробовую тишину окружающего, его издал бледный Григорий и упал в тяжелом припадке, биясь головой о пол.
День кончался, братья вернулись с поля, из мастерских. В монастыре ложились спать после последнего богослужения. Тихо и мрачно смотрели каменные стены, обнесенные широким рвом. Трудно было проезжему отличить монастырь от рыцарского замка.
Только в монастырской гостинице была еще жизнь.
Недалеко от входа в гостиницу разведен костер. В небольшом углуб лении в земле легли тяжелые узловатые коряги, поверх которых с треском пылают сучья. Пламя облизывает сучья, вспыхивает на хвое, и красные уголья сыплются вниз в сплетение кряжей. Временами от легких порывов ветра пламя и дым бросаются в сторону и стелются по земле.
Человек, лежащий у костра, часто подбрасывает хворост: в эти минуты костер ярко освещает его большую жилистую руку, весь он в тени. Их двое у костра – поддерживающий костер, который все время что-то бормочет под нос и второй – тот, что лежит в стороне и молчит.
– Гори, гори веселей, шепчет человек, – не хочешь, тебе мало жратвы? Ничего, потерпи, будут большие пожары. Мы дадим тебе много хорошего дерева, отведаешь благородной человечины, если бы ты мог съесть камни, мы набросали бы тебе груды от замков и стен. Гори, гори – будешь служить народу!
– Что ты шепчешь, приятель? – спросил молчаливый.
– Обмозговываю важное дело. У твоего хозяина – купца в кошеле много денег?
– А тебе зачем знать?
Разговор прервался.
Помолчав, купеческий слуга добавил: – хозяин всю дорогу толковал о каких-то новых книгах!
– Книги и бумаги – козни господ против нас, – в них записывают недоимки и штрафы, мы спалим эти книги, когда придет наш час.
Тьма густела, от леса полз туман, сырость окутывала людей, забиралась под одежду, липла к телу.
Хранитель огня подвинулся ближе к пламени и на мгновенье оно осветило его лицо с густой черной бородой, кустами темных бровей и длинным кривым носом. От игры света и тени черты его лица казались крупнее и резче, глаза таились в глубоких черных провалах. Укладываясь поудобнее, он повернул голову и его собеседник вздрогнул: у этого человека не было уха.
Безухий заговорил снова:
– Огонь прожорлив, как крестьянский желудок. Сегодня я его владыка и хозяин, хочу накормлю или заставлю подохнуть с голоду. Ворчишь, – не нравится? Ну ладно, на еще – и он подбросил несколько сучьев.
В полутьме у костра возникла худая фигура монаха, он подошел так неслышно, словно внезапно сгустился туман.
– Хищные птицы слетаются на огонь – проворчал одноухий.
– Кайтесь! – воскликнул монах. – Кайтесь, ибо исполнились сроки и близок час суда!..
Молчание.
Скоро развернется твердь и бог призовет всех на решение свое, где не будет ни эллина, ни иудея. Кайтесь, смиритесь и ждите – я вещаю об этом вам!
– Смиряться? Ну, нет. Слушай, черная птица. Я тоже силен в богословии. Христос пролил кровь свою за всех нас и искупил всех равно от знатного до пастуха. Так кто же поработил нас крепостных? Будет суд, но здесь на земле и скорее чем ты думаешь.
– Гордыня говорит твоими устами, брат! Взгляни на меня, я был знатен, а ныне на мне власяница и тело покрыл язвами мой бич.
– Хочешь я покажу тебе рубцы, которыми изукрасили меня слуги всемилостивейшего графа моего. Взгляни еще на это, – он протянул к огню свою левую руку – где пальцы на руке, а ухо где? Я не один, нас тысячи, тьмы. Мы придем к знатным и богатым и к вам, служителям их, и потребуем все, что было отнято у вас, отцов и дедов наших.
Вскочил коренастый, растрепанный, страшный, потрясая бесформенным обрубком руки.
Ярко пылал костер, разбрасывая искры. Крестьянин быстро зашагал в бездорожье.
Брат Григорий исчез так же как появился – растаял сгустившийся туман и нет ничего. Остался лежать у костра только купеческий слуга, который вскоре переполз на место, крестьянина и начал подбрасывать хворост. Огонь жил бурно и скоропреходяще, рождались яркие обольстительные цветы и увядали мгновенно, сменяясь другими еще более прихотливыми и влекущими.
В это время два монаха вышли из ворот монастыря и разговаривая направились к гостинице. Это были – старик, ведавший монастырской гостиницей и брат Мартин, посланец аббата, сегодня вернувшийся из далекого путешествия. Они говорили громко, в этот час не опасаясь нескромных ушей.
– Я долго был в отлучке брат и отстал от монастырских дел. Сегодняшнее собрание капитула поразило меня, как удар грома. Чудны дела обители нашей. Расскажи мне брат, что слышно у вас?
Старик очевидно был глуховат, т. к. голос его звучал пронзительно.
– Новый святой объявился у нас соизволением господина аббата.
– Знаю, но почему соизволением аббата? – спросил Мартин.
– Старая лиса – аббат хочет возвеличить свой монастырь и отличиться перед епископом и папой. Да и к тому же надо поправить и денежные дела, паломников становится все меньше и меньше. Что же ему делать? Он выдумывает нового святого. Подожди, скоро его канонизируют,[67] будут чудеса и пойдут толпы больных, калек и просто праздношатающихся. Почему выбор пал на Григория? Во-первых, он сумасшедший и во-вторых, болен и проживет недолго. Умер и мощи готовы!
Интонации старика были злобны и едки.
– Откуда ты все это знаешь, брат?
– Болтливая баба-Эвзебий – рассказал мне все. Смотри молчи об этом, а то знаешь у аббата длинные руки.
– Сам-то говори тише, глухарь!
Брат Мартин беспокойно оглядывался, ему показалось, что в тумане мелькнула фигура человека. Вгляделся пристальнее и решил, что ошибся.
Монахи подходили к гостинице, невдалеке мутно краснели огни костра, за дверью слышались голоса.
Мартин вошел в просторную нижнюю комнату, в которой около печи сидел купец и слуга графа Эрбаха, беседа их шла медленно и – осторожно. Купец рассказывал: – Пришлось мне проездом быть в городе Майнце и узнал я, что в этом городе, славным торговлей хлебом и вином, изобретено новое примечательное искусство – искусство изготовления книг без переписчиков. Будут их печатать, как картинки или карты, легко и в достаточном количестве. Тогда сможем мы, купцы, продавать их на ярмарках, богатым людям и монастырям и думаю получим хорошие прибыли, если умеючи возьмемся за дело.
– Мудрый аббат наш – прервал купца Мартин – осудил это искусство, как бесовское. Благочестивыми руками монахов-переписчиков должны изготовляться священные книги!
– Чтение – монашеское дело. Господин мой, слава господу, плюет на грамоту, да и нам она не нужна, а купцы рады перепродать самого дьявола – лишь бы заработать, – сказал слуга, – пора наложить узду на безбожников. Скоро благородным людям останется итти с сумой, а все деньги соберутся в бездонных карманах жидов, ростовщиков и купцов.
– Торговые дела стали плохи, – как бы оправдываясь проговорил купец.
– Плохи, плохи, захохотал воин, – а признайся, сколько гульденов припрятано в сумке, которую ты так бережно снимал со своего воза?
– Я – бедный человек.
– Если бы благородный граф разрешил нам пощупать твои пожитки, узнали бы мы, какой ты бедняк! – снова прервал его противник.
– Грабить на большой дороге много мастеров.
– Негодяй! – крикнул воин, – ты смеешь поносить графа. Я тебя проучу! – и шагнул к купцу, но по дороге неожиданно наткнулся на дюжего монаха.
– Мир вам, братья! – сказал Мартин и схватил воина за руки. Купец поспешно исчез из комнаты.
Когда брат Мартин вышел из гостиницы, ветер разогнал тучи, туман растаял, светила луна. На дороге, которая вела к монастырским воротам, стояло одинокое дерево. Подойдя к нему, Мартин увидел: – странно высокий человек со склоненной головой стоял под ветвями.
Измученное тело объявленного святым монаха он снял из петли еще теплым.
– Бежать к аббату, скорее, скорее, – твердил про себя Мартин.
– Никто не видел покойника – спросил аббат.
– Никто!
– Пути бога неисповедимы. Забудь все, что ты видел. Брат Григорий представился в мире. Ты пойдешь, разбудишь Эвзебия и вы вдвоем уберете брата, бог призвал своего святого!
– Но, святой отец, вид Григория ужасен, язык выпал.
– Язык можно вырезать и у живого, мне не надо учить тебя брат.
Эвзебий спал крепко и приятно, во сне он снова переживал день своего успеха и необычайных событий. Он видел – вот комната аббата и владыка говорит ему:
– Григорий болен телом и дух его в смятеньи. Ты должен неотступно следить за ним, речами своими усилить его беспокойство, подогревать жажду подвига, требовать самоистязаний. Понял?
– Понял, но я видел нынче сон.
– Мне нет дела до твоих снов, брат Эвзебий.
– Я видел вещий сон.
– Ты должен был видеть сон, что наша обитель избрана богом и брат Григорий – избранный сосуд.
– Могу увидеть два она.
– Хорошо, послушаем, твой второй сон, – милостиво оказал аббат и положил свою тяжелую руку ему на плечо.
Но почему аббат кричит и сжимает ему плечо все крепче и крепче. Эвзебий проснулся и бессмысленными глазами глядел на склонившегося над ним Мартина.
Рано утром звуки погребального колокола и отчетливые удары в доску возвестили монахам, что один из собратьев покончил земное существование. Поспешно собирались братья к одру умершего…
Часть третья
СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА И ЖИЗНЬ ЕГО ДЕЛА
XI. ДРАМА В МАЙНЦЕ И СМЕРТЬ ГУТЕНБЕРГА
НАСТУПИЛА старость – закат человеческого существования. Эти вечерние годы (1461—68) Гутенберга бесплодны для нового искусства: за все восемь лет ни одно новое произведение печати, подготовленное его руками, не появилось из-под печатного станка.
Нет Иогана Генсфлейша-Гутенберга и в числе активных действующих лиц бурных событий в родном городе, он только зритель майнцкой драмы: в город врываются наемные войска, пылают пожары и льется кровь горожан. Вокруг кипит буйная шумная жизнь, но она проходит мимо состарившегося изобретателя.
Семнадцать лет (1445–1462) правления ремесленников явились последним периодом существования свободного города Майнца. С первых своих шагов новый магистрат, завоеваный цехами, бесполезно растрачивает силы На упорядочение и укрепление городских финансов; банкротство города неизбежно. Враждебный круг многочисленных кредиторов смыкается, долги так велики, что нет надежды на их выплату – бесплодно мечутся испуганные бюргеры, тяжкий долговой груз тянет их на дно. Шпейерский соборный капитул – один из крупных кредиторов – в 1450 г. добился наложения на Майнц опалы и папского интердикта.
Майнцский магистрат говорит, что «теперь… Они поставлены в положение пленников… нигде нет уверенности в личной и имущественной неприкосновенности, нет им вне города охраны и мира» и прибавляет: «мы ведь хотим выполнить свои обязательства по отношению к Шпейерскому соборному капитулу, но тогда мы дадим повод обратиться против нас тысяче других, перед которыми мы также в долгу; будет потушен один пожар, но тысячи новых возникнут, и этому не будет конца, ибо жалобщиков слишком много».
В поисках выхода из финансовых затруднений магистрат Майнца пытается вступить в борьбе с епископом и майнцким духовенством, чтобы путем отмены привилегий последнего и с помощью богатств церкви вывести город из тупика.
Канцлер города, упомянутый уже нами Конрад Гумери, обращается от имени магистрата к духовенству с ходатайством отказаться на год от ряда привилегий и впредь наравне с прочими гражданами выплачивать налоги на хлеб и вино.
Но ремесленники обанкротившегося города не имеют в руках реальной силы принуждения, которая единственно может привести к удовлетворению такового ходатайства. Духовенство ведет переписку с магистратом, безбоязненно спорит о своих правах, прекрасно учитывая огромные преимущества своего положения.
Епископ напоминает городу, что бюргерство получило права выбора магистрата и городские вольности из рук его предшественников и что права эти не вечны. Духовенство считает незыблемыми свои привилегии, и так уже слишком много поблажек сделано городу: разве не было жертвой со стороны церкви и помощью городу то, что уже раньше были понижены проценты по его долгу духовенству, самый долг прощен на одну треть и даны дополнительные субсидии.
Епископ Дитрих так добр, что даже соглашается дать городу еще 14000 гульденов при условии заключения с ним союза и мира. Но получение этой помощи скрывает за собой близкое объявление Майнца епископским городом.
Положение магистрата становилось все более и более затруднительным; с одной стороны деньги можно получить только от церкви и надо ее принудить к этому, с другой – необходимо содействие и помощь церкви, ибо епископ мог добиться защиты от Шпейера и других кредиторов.
Наконец, счастье как будто улыбнулось горожанам. Начавшаяся борьба двух влиятельных князей за епископский престол открывала простор для ловких политических маневров, и город имел возможность дорого продать свою поддержку – важно было не просчитаться.
Епископская война началась так: епископу Дитриху, умершему в 1459 г., наследовал граф Дитгер фон Изенбург-Бюдинген. После двухлетнего правления у него возник конфликт с папой, и Пий II сместил непокорного епископа 21 августа 1461 г. Епископская кафедра была отдана графу Адольфу фон Нассау, но Дитрих крепко держался за власть и не желал сдаваться. Спор должен был решиться оружием.
Бюргеры вели переговоры и с Дитрихом и с Адольфом, колеблясь в окончательном выборе союзника и набивая цену. Наконец, победили сторонники Дитгера, к которому тяготели ремесленники и который обещал больше.
Соглашение, заключенное опальным епископом с Майнуем, гласило, что магистрат и граждане присоединяются к апелляции[68] Дитгера, поданной папе, обеспечивают ему и его союзникам охрану в городе и принимают в город его конницу, но в количестве не более двухсот человек. В вознаграждение за эти услуги, епископ объявлял отмену ряда привилегий духовенства и обещал бюргерам и жителям города защиту против нападений за городские долги во всем майнцком курфюршестве.
Это соглашение ставило город в ряды смертельных врагов Адольфа фон Нассау. Горожане должны были понимать, что, победив, он не даст им пощады. Курфюршество было лакомым куском и противники дрались за него всерьез.
Но магистрат и ремесленники хотели получить все возможные выгоды, не ввязываясь серьезно в войну и сопутствующие ей случайности – близорукая и опрометчивая политика. Они упорно держались пункта договора о том, чтобы в Майнце было не больше двухсот конных воинов Дитгера и не соглашались на его просьбы об усилении гарнизона: точно война не могла угрожать их жизни и имуществу. Благодаря этому Дитгер был лишен возможности сделать Майнц своим основным опорным пунктом, а город подвергался серьезной опасности.
Фактически впутавшись в драку, горожане отказывались объявить войну и как страус прячущий голову в песок при неминуемом приближении врага, думали просто отсидеться за крепкими городскими стенами.
На уговоры сторонников Дитгера ответ горожан был таков: «Город обременен долгами, сейчас им удалось добиться выгодных полюбовных сделок с некоторыми кредиторами и эти обязательства надо выполнить, ибо иначе все пойдет прахом, а объявление войны потребует больших издержек».
Горожане Майнца просчитались дважды: во-первых, выбрав себе неудачного покровителя, и во-вторых, решив, что в войне можно принимать участие, не воюя и не неся потерь.
Граф фон Нассау победил своего противника. Неприятельские войска подошли к городу и, как бывает обычно, раньше молчавшие и прятавшиеся враги правящей партии, почувствовав почву под ногами, нанесли удар в спину своим согражданам. В ночь с 27 на 28 октября 1462 г. предатели открыли городские ворота наемным войскам Адольфа.
Горожане попытались защищаться, но было уже слишком поздно. На ночных улицах Майнца, вскоре освещенных пожарами, произошло не сражение, а бойня. До пятисот человек было убито в эту ночь я сто пятьдесят разграбленных домов погибло в пламени. Нещадно избивали и грабили всех сторонников Изенбурга.
Через день курфюрст и архиепископ Адольф въехал в усмиренный город. По его распоряжению было взято под стражу около восьмисот непокорных бюргеров. Они подверглись изгнанию из города, а имущество их было конфисковано.
Победитель Адольф щедро одарил своих друзей и помощников уцелевшими домами и награбленным имуществом опальных горожан.
Майнц лишился былых свобод и, как 300 лет назад, вновь стал епископским городом.
Так разыгралась драма Майнца.
Среди разных родов оружия, которыми велась война двух епископов, было использовано и книгопечатание – дар Майнца миру. Несколько печатных документов осталось потомкам и историкам:
Письмо короля Фридриха III от 8 августа 1461 г. о смещении Дитгера.
Отлучение Дитгера папой Пием II от Tibur Kalendas Septembris 1461 г.
Открытое письмо Дитгера по поводу его смещения от 6 апреля 1462 г. и другие.
Хроника Майнца говорит, что манифест Дитгера, выпущенный им 30 марта 1462 г., был «отпечатан во многих экземплярах первым книгопечатником в Майнце – Иоганом Гутенбергом».
Свидетельство это нельзя признать вполне достоверным, ибо найденные экземпляры этого манифеста оттиснуты шрифтом типографии Фуста-Шефера.
Бурные события в Майнце вовлекли искусство Гутенберга в свое течение и подчинили его политическим целям. Сам же Гутенберг, умудренный опытом и отягченный годами, не принимал непосредственного участия в политической борьбе этих дней. Но близкие и друзья изобретателя были на стороне Изенбурга. Муж Эльзы, сестры Гутенберга, Клаус Вицтум и зять его Иоган Гумбрехт, – оба попали в проскрипционные списки нового властелина Майнца, и владения их были конфискованы.
Одним из ярых противников Адольфа был доктор Конрад Гумери, который ссужал деньги Гутенбергу на его последние типографские работы. Возможно, что издание «Каталикона» было осуществлено на его деньги.
Обстоятельства складывались неблагоприятно для изобретателя, его симпатии к побежденной партии не могли быть тайной, но несчастье города неожиданно оказалось плодотворным для нового искусства и ускорило его распространение в Германии и в других странах.
Среди многих граждан, которые покинули Майнц в эти дни беспокойства и неуверенности, были также работники типографий. Покидая город, они не оставляли своего дела, и оно дало им заработок, а некоторым и почет, на чужбине.
И в Майнце книгопечатание не погибло – предприятие Фуста и Шефера сохранилось и в течение ближайшего времени издавало новые печатные произведения.
Епископская война и падение Майнца – последнее событие в жизни Гутенберга; дальше медленно затухает его старческое существование. Только имя изобретателя развернуто, как знамя былых побед и напоминает о живом человеке.
Это знамя видно издалека. Еще раньше, король французский Карл VII знал о господине Гутенберге в Майнце, в германском государстве, который изобрел книгопечатание. К нему посылал он специалиста в резьбе по металлу – Николая Жансона, начальника монетного двора в Туре, с целью разведать о новом искусстве.
Слава этого знамени заставляет властного и честолюбивого Адольфа фон Нассау выступить в роли покровителя изобретателя нового искусства, забывая прошлые провинности этого человека.
Декретом 18 января 1465 г. курфюрст Адольф II, архиепископ Майнца, объявляет, что «за услуги, которые оказал нам и нашему городу верный Иоган Гутенберг», он принимается на службу ко двору архиепископа, жалуется одеждой, получает «ежегодно двадцать мер хлеба и две бочки вина для его дома; но чтобы не продавал и не передавал этого никому; освобождается от всевозможных пошлин и налогов в нашем городе Майнце».
Не слишком щедро одарил курфюрст замечательного человека!
Материальные блага, дарованные курфюрстом, конечно, не могли обеспечить изобретателя; Гутенберг должен был иметь другие источники существования, но и этими пожалованиями архиепископского двора изобретатель пользовался недолго, – умер он в 1468 г. До конца своей жизни он владел типографией, которая потом перешла к доктору Гумери.
Сохранился документ, написанный Конрадом Гумери 26 февраля 1468 г., подтверждающий, что он с соизволения курфюрста Адольфа вступает во владение после смерти Гутенберга «некоторыми формами, шрифтом, инструментами и другим, относящимся к типографскому производству», которые оставил после себя Гутенберг и которые являлись и теперь являются собственностью его преемника.
За это Гумери обязывался, если он захочет использовать перечисленные материалы, иметь типографию только в Майнце, а при желании продать типографское оборудование, отдать предпочтение горожанам Майнца.
Существует версия, что под старость изобретатель ослеп. Это было бы последовательным и последним ударом его несправедливой судьбы.
СТАНОК ГУТЕНБЕРГА
Похоронен Гутенберг был в Майнце во францисканской[69] церкви. Впоследствии церковь эта подверглась разрушению и от могилы изобретателя не осталось и следа.
История Иогана Генсфлейша-Гутенберга – человека и изобретателя – закончена. Перед нами монолитный пласт почти семидесятилетней жизни, давность которому – половина тысячелетия. Время уже произвело над ним свою разрушительную работу, события многих лет бытия Гутенберга изглажены забвением и все труды ученых исследователей никогда не воскресят дней и дел изобретателя во всей их законченности и своеобразном блеске красок. Надо ли жалеть об этом?
Мы ищем в прошлом, прежде всего, развитие и подтверждение нашей теории, дающей «силу ориентировки, ясность перспективы, уверенность в работе, веру в победу нашего дела»; блестящие страницы человеческой истории дают нам великое вдохновение в нашей борьбе.
Под внимательным критическим взглядом наносные слои, песок и пыль позднейших выдумок спадают с возрождаемой правды человеческого прошлого и жизни передовых его представителей. Изобретатель книгопечатания встает перед нами – пусть только контурами своими – в замечательной оправе его буйного и плодовитого времени. Он чернорабочий своей переломной эпохи, которая разрушала загнившие феодальные устои, чтобы через последнюю трагедию капиталистического угнетения и разбоя, вывести человечество к светлому будущему коммунистического общества. Этот чернорабочий свою задачу выполнил хорошо – являя собой прекрасный пример энергии, доблестного упорства и веры в свое дело.
XII. ПОТРЕВОЖЕННЫЙ МИР
ГУТЕНБЕРГ не только создал книгопечатание, но и подготовил целую плеяду талантливых учеников. Некоторые из них еще при жизни учителя основали типографии в ряде городов Германии и даже в чужих странах.
Когда «новое искусство» прошло стадии исканий и опытов, когда техника книгопечатания была разработана и освоена, мастер Иоган не отгораживался щитами «производственных секретов» от окружающего мира, в котором были открыты широкие возможности развитию нового производства. Не стремление к личному обогащению и неизбежно связанная с ним боязнь конкуренции определяли отношение изобретателя к его помощникам и последователям. Если бы Гутенберг не раскрывал им полностью формулу своего изобретения, как могли бы эти люди столь быстро основать самостоятельные предприятия, создать многочисленные новые образцы печатного производства и, в свою очередь, обучить многих новых мастеров.
Великий изобретатель с необычайной щедростью, полными горстями разбрасывал вокруг себя семена нового искусства, почва была благоприятна и урожай не заставил себя ждать.
Гутенберг мог бы начать свою речь к ученикам, расходившимся по всему свету покорять его искусству книгопечатания, теми же словами, которые некогда, по свидетельству историка произнес завоеватель Атилла своим воинам перед Каталаунской битвой:
«Одержав уже столько побед над народами и почти достигнув обладания миром, я был бы бессмыслен и смешон в своих собственных глазах, если бы вздумал возбуждать вас еще словами, как будто бы вы не умели биться. Предоставим такую меру какому-нибудь новичку-полководцу и неопытным воинам, она была бы недостойна ни вас, ни меня».
Действительно, победы нового изобретения были столь бесспорны и выучка его бойцов столь крепка, что войско не нуждалось в возбуждении и уговорах.
Атилла на каталаунских полях и Гутенберг в Майнце потерпели поражения; но разгром орд Атиллы означал конец владычества гуннов, а личная неудача Гутенберга нисколько не вредила делу его ума и рук, ибо в одном случае дело шло об устремлениях дикого полчища к порабощению и грабежу, а в другом – о жизненном творческом начале изобретательского труда.
История книгопечатания сохранила нам ряд имен учеников Гутенберга. Наиболее талантливый из них – Шефер – изменил своему учителю. Еще при жизни изобретателя он становится мужем Христины Фуст и это определяет его поведение сегодня и путь его на завтра. Шефера можно скинуть со счетов.
Одновременно с Шефером у Гутенберга работали Бертольд Руппель из Ханау и Генрих Кефер. Оба они присутствовали при принесении Фустом клятвы во францисканском монастыре, представляя сторону изобретателя.
Кефер в 1473 г. появляется в Нюренберге, где занимается книгопечатанием в компании с Зензеншмидтом.
Руппель в 1462 г. после разгрома в Майнце переселяется в Базель. С его легкой руки книгопечатание в этом городе быстро развивается. К 1480 г. в Базеле существовало 26 печатных заведений, в следующее десятилетие основано двадцать новых, а в последнем десятилетии XV столетия еще двадцать.
Четвертый ученик – Иоган Нумайстер из Страсбурга переселился в Италию и в городе Фолиньо выпустил в 1471 г. «Leonardi Aretini de bello italiano adversus Gothos» и в 1472 г. «La comedia di Dante».
Примечательная карьера ожидала Иогана Ментелина, принадлежавшего к цеху художников и золотых дел мастеров Страсбурга. В период совместной работы Гутенберга и Фуста он жил в Майнце и после их разрыва вернулся в Страсбург, где по примеру изобретателя напечатал «Католикон» и библию.
За свои заслуги Ментелин в 1468 г. был возведен Фридрихом III в дворянское достоинство. Эта «высокая честь» была им завоевана очевидно тем, что он один из первых поставил книгопечатание на широкую промышленную основу и несомненно сумел сколотить капитал. Он не только выпустил много различных изданий, но и взялся за организацию их сбыта по-новому – им впервые была поставлена печатная реклама продукции своей фирмы.
В Бамберге типографское дело основал Альбрехт Пфистер. Есть предположение, что у Пфистера в Бамберге под непосредственным руководством Гутенберга была напечатана 36-строчная библия.
Возможно, что к ученикам Гутенберга принадлежали Конрад из Свенгейма и Арнольд Паннартц – первые печатники в Италии. В монастыре Субияко близ Рима ими впервые был отлит шрифт романского типа, но еще с сильным влиянием готики. Первая их книга вышла в свет в 1464 году.
Последние ученики великого изобретателя – Генрих и Николай Бехтермюнце и Виганд Шпис из Ортенберга, – были с учителем в дни заката его жизни.
Братья Бехтермюнце приходились изобретателю родственниками, и видимо, работали непосредственно под его руководствам. Когда старший брат Генрих в 1467 г. скончался, его место заступил Виганд Шпис, вместе с которым 4 ноября этого года выпустил Николай Бехтермюнце «Vocabularium latinotentonicum». Первые издания этой книги напечатаны шрифтом гутенберговского «Каталикона».
С каждым годом все быстрее и быстрее искусство Гутенберга распространяется по Европе и усеивает точками работающих типографий земную карту.
Печатные книги издавались в XV веке во многих городах Германии, Италии, Франции, Нидерландов, Венгрии, Испании, Англии, Дании, Швеции и даже Турции (есть сведения об основании типографии в Константинополе).
До 1500 г. во всем мире было уже напечатано 30000 названий книг.
Беспокойный человек был этот юнкер Гутенберг – беспокойство и волнение внесло в мир и его изобретение.
И без того восстания и мятежи все чаще и чаще сотрясают феодальные устои, и без того все неспокойнее сон рыцарей, духовных и светских владык – так зачем же вы, уважаемый Гутенберг, приближаетесь к этому пороховому погребу с зажженным факелом в руках?
Папы говорили о необходимости полного воспрещения книгопечатания и они были правы. Духовные книги порождают ереси и «соблазняют единых от малых сих», а светские – еще того хуже, подрывают основы религии и авторитет церкви. Науки, распространяемые книгами, даже монахов отвращают от истинного благочестия: «монахи оставляют духовные упражнения, чтобы знакомиться с глупостями земной науки. Не значит ли это покидать целомудренную супругу, чтобы связаться с блудницами театра?»
И вот теперь обеспокоенный папа должен вводит цензуру, следить за изданиями, выходящими неизвестно зачем в таком умопомрачительном количестве, конфисковать вредные, а виновных авторов и типографов сжигать на кострах. В 1546 г. папа вводит «Индекс запрещенных книг», чтобы предохранить добрых католиков от соблазнов печати. В списке этом значатся многие замечательнейшие книги человечества, сослужившие великую службу людям в их борьбе с природой и с угнетателями. Этот список бесконечно расширился за протекшие с тех пор века, существует он и поныне. Правда папы выродились и нет у них власти, чтобы сжигать неугодные произведения печати и карать их созидателей. Но не все еще потеряно – «есть еще судьи в Берлине» и новый «берлинский судья» Гитлер воскрешает мрачные обычаи средневековья. За несколько месяцев фашистского владычества в Берлине сожжено 20 миллионов томов «неблагонадежной» литературы.
Королям и прочим владыкам много хлопот доставили вы, Гутенберг и сколько народу из-за вас пострадало! В одной Франции с 1660 по 1756 гг. подверглось заключению в Бастилию 869 авторов, типографов, книгопродавцев и издателей газет. В Англии литератору Прайну в 1632 г. отрезали уши за нападки на придворный театр, но это еще было человечно. Во Франции Этьена Доле сожгли, а сатирического поэта Клода Лепти – повесили.
Вас обвиняют в том, что вы—пособник многих революций, что ваше изобретение помогло поднимать и организовывать массы, которые были созданы для того, чтобы в свое время кормить и обогащать феодалов, а потом капиталистов.
Оправдайтесь, если можете, мастер Иоган.
Понимаете ли вы, что вами были убиты замечательные достижения культуры и искусства? Великое прошлое древнего мира и начала средних веков люди воплотили в зданиях. Египетские пирамиды, греческие и римские храмы и общественные сооружения, соборы и дворцы средневековья – это сгустки материальной культуры народов, их быта, искусства и верований, – это каменные книги отошедших поколений.
Вы противопоставили им свои маленькие бумажные книги, и зодчество замерло, не стало этих величественных памятников, вместо них стали возводить просто театры, бани, жилые дома, техническое сооружение. Не я, а писатель, Виктор Гюго, обвинил вас в этом устами одного из своих героев.
Ваше изобретение вмешалось даже в установленный самой природой порядок, нарушило и изменило его.
Для чего было создано время? Для забвения, чтобы каждое новое поколение человечества чувствовало себя таким же беспомощным и голым на грозной земле, как и предыдущие? Только изустная передача прошлого опыта сохраняла немногие из накопленных знаний. А теперь книгопечатание воздвигло пирамиды книг, в которых сохраняются эти знания и опыт. На их основе человечество идет все дальше и дальше по шути развития науки и техники, утверждая свое господство над силами природы.
Для чего было создано пространство? Для разъединения людей, чтобы одиноко и спокойно трудились единицы и семьи на земле, «в поте лица добывая хлеб свой», а теперь печать ежедневно и ежечасно разносит идеи и сведения по всему миру, устанавливает постоянный духовный обмен между людьми и народами, объединяет единицы и мощные коллективы и бросает их в борьбу с угнетателями за лучшее будущее и с природой за использование ее могучих сил.
Ваше изобретение потревожило и продолжает тревожить мир, мы обвиняем в этом вас, Иоган Генефлейш-Гутенберг.
Если мир был потревожен появлением книгопечатания, то еще большее воздействие на общественное существование оказало возникновение газеты.
Газета. Это слово понятно теперь всякому, как хлеб и соль.
Но газета в ее современном виде – заостренного политического клинка – порождение капитализма. В далеком прошлом «прародители» газеты – были только несложным средством элементарной информации.
Еще в императорском Риме по указу власти, рабы переписывали для небольшого круга привилегированных лиц извлечения из протоколов сената и позднее более обширные «ведомости», включавшие кроме сенатских материалов, сведения о различных событиях, сообщения о победах и военных парадах.
В средние века роль газет играли письма князей, отдельных городов, и, иногда, частных лиц с информацией о событиях. Эти письма переходили из рук в руки.
В древнем Риме ведомости были письменной информацией для немногих избранных – они регулярно издавались властью.
В средние века, когда Европа разделилась на множество самостоятельных или почти самостоятельных государств, княжеств, свободных городов, когда не стало единого государственного языка, как в Риме, когда культура упала, – информация стала совершенно случайной и неорганизованной.
Изобретение искусства печати таило в себе неизбежное возрождение газеты, но уже на совершенно новой основе.
Печатная газета возникла тогда, когда стала утверждаться регулярная связь – вторая (после книгопечатания) необходимая предпосылка существования газеты. Поэтому, хотя и от конца XV века сохранились печатные информационные листки, выходившие в Германии и во Франции, но считают, что первая печатная газета появилась в начале XVI столетия.
В 1516 г. по приказу императора Максимилиана, Франц-Турн Таксис устроил первое травильное почтовое сообщение между Брюсселем и Веной. По этому образцу почтовая связь развивалась в других частях Германии и связала ее с соседними странами. В это же время впервые информационные печатные листки стали выходить периодически и получили наименование газеты.
Более близкие по типу к современной газете периодические издания, регулярно выпускавшиеся через короткие сроки, возникают на целое столетие позже. Во Франкфурте некий горожанин Эгенольф Эммель создал и 1615 г. еженедельную газету; в следующем году в том же городе появился конкурирующий орган правителя имперской почты Биргдена. В ближайшие годы «здание газет получает широкое распространение.
Народное хозяйство Западной Европы доросло до того уровня, когда появление газеты стало необходимостью и необходимость эта реализовалась.
В России прототип газеты „Куранты“ – рукописные листки с новостями о жизни разных государств (главным образом извлечения из иностранных газет), появились при царе Михаиле Федоровиче.
По указу царя Петра с января 1703 г. в Москве стала выходить первая периодическая печатная газета „Ведомости“ (о военных и: иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах). Вышло за год 39 номеров „Ведомостей“, напечатаны они в один или несколько листков, размером в осьмушку, подслеповатым церковным шрифтом. В „Ведомостях“ помещались и русские известия (источники их – приказы) и иностранные сведения, которые черпались из чужеземных газет.
„Ведомости“ Петра служили прежде всего для прославления успехов и деяний российского Правительства. В номере первом „Ведомостей“, правленном самим царем, напечатано: „Повелением его величества московские школы (академии) умножаются и 45 человек слушают философию и уже диалектику окончили, в математической шторманской (навигацкой) школе больше 300 человек учатся и добре науку приемлют“.
Россия более, чем на 100 лет отстала от Западной Европы по введении у себя печатного искусства. Она опоздала потому, что далеко отстала от своих западных соседей в хозяйственном и политическом отношениях. В дни Гутенберга русская земля была под властью татар.
Сроки еще не наступили и первого типографа-иностранца, появившегося в „Московии“ постигла злая участь.
„Еще в 90-х годах XV века в Москву приезжал любекский типограф Варфоломей Готан, в качестве переводчика; печатал ли он что-нибудь у нас, – неизвестно, но западные печатные книги он к нам ввозил. Посещение Готаном России закончилось для него трагедией, – его у нас утопили“.
Только через несколько десятков лет изменившиеся хозяйственные условия привели к созданию первой печатни на Руси.
В XVI столетии денежное хозяйство и торговый капитал уже пустили глубокие корни в московском царстве. Недавние владыки земли русской – крупные феодалы (бояре) и монастыри – встречают крепнущих противников в лице многочисленного мелкого помещичьего сословия в деревне и торгового капитала в городах. Победа дворянства и купечества выражается в диктатуре – огромном усилении царской власти; образец – Иван IV, прозванный Грозным.
Интересы купечества и дворянства требуют завоевательной политики, укрепления связей с чужеземными государствами для создания Новых рынков российскому сырью и усиления обмена. Внутри царства начинается переоценка многих ценностей: военной организации, форм управления и способов эксплоатации крестьянских масс.
От чужеземцев узнается искусство книгопечатания, а внутренние процессы в государстве создают необходимые предпосылки для внедрения его на отечественную почву.
Внешний толчок царская власть к созданию типографии в России получила после завоевания Казанского царства.
Оружие Ивана IV покорило казанских татар, церковь должна была помочь закреплению захвата; с этой целью правительство заботилось об основании многочисленных новых монастырей на завоеванной территории.
В 1553-55 гг. по указу Грозного скупались рукописные священные книги на торжищах, собирались по всей земле и шли к казанскому владыке Гурию. Но собранных книг не хватало, да и среди собранных мало оказалось исправных. Тогда-то и потребовалась печатная церковная книга на Руси, чтобы гармонично дополнить светский меч царей духовным оружием в угнетении иноплеменных народов, покорявшихся русскому самодержавию.
Две попытки выписать иноземных мастеров для постановки у нас печатного дела в 1547 г. через немца Шмидта и в 1552 г. с помощью датского короля окончились неудачно.
Русские люди основали первую российскую типографию – диакон церкви Николы Гостунского, что в Кремле, Иван Федоров и Петр Тимофеев по прозванию Мстиславец. Полагают, что научились они типографскому делу от итальянцев, ибо с итальянского языка заимствованы были ими названия типографских снарядов, позднее вошедшие в наш язык.
Первая типография – Печатный двор – была учреждена в Москве на Никольской улице; устройство ее длилось десять лет.
По свидетельству иностранцев, посетивших Московское царство в XIV веке, „По выгодному положению своему в самой населенной стране, в середине государства, по своему многолюдству и удобству водных сообщений Москва есть лучший город в государстве и преимущественно перед другими заслуживает быть его столицей.
Сам город весь почти деревянный и очень обширен, но издали кажется еще обширнее. Это происходит оттого, что почти при каждом доме есть обширный сад и двор; кроме того на краю города – длинными рядами тянутся здания кузнецов и других мастеров, употребляющих огонь при своих работах; между этими зданиями также находятся обширные поля и луга“.
Поссевин[70] приблизительно определяет пространство, которое занимала Москва до сожжения ее татарами (в 1571 г.), в 8000 или 9000 шагов, по Флетчеру[71] она имела тогда 30 миль в окружности…
Меховский говорит, что „Москва вдвое, больше Флоренции и Праги“, а англичанам, приезжавшим в Россию в 1553 г., она показалась с Лондон.
В этом-то большом городе, что „лежит далеко на Востоке, и если не в Азии, то, по крайней мере, на самом краю Европы“ рядом со стенами Кремля и в черте Китай-Города выросла первая типография. В ней 19 апреля 1563 г. начали и с марта 1564 г. окончили печатание первой книги: „Деяния апостольские, Послания соборные и святого апостола Павла послания“.
Книга эта напечатана на плотной голландской бумаге, имеет ряд украшений и бесспорно хороша.
Вторым изданием (1565) был „часовник“, а третьим – и очевидно последним – евангелие», вышедшее между 1564–1568 гг.
Так удачно начавшаяся деятельность первых печатников прервалась внезапно и быстро. Та катастрофа, которой вероятно опасался Гутенберг и которая его миновала, через столетие постигла первопечатников в далекой и неведомой ему России.
Переписчики книг, увидав, что книгопечатание лишает их заработка, подняли мятеж против бесовского искусства: печатный двор в 1568 г. подожгли и разграбили, а мастера его бежали, спасая свою жизнь.
Иван Федоров и Мстиславец покинули Россию и нашли приют в Литве.
Книгопечатание в Москве было восстановлено через три года. Андроник Невежа и Никифор Тарасиев, бывшие сотрудники Ивана Федорова, продолжили его дело и использовали, оставленный им шрифт.
Иван Федоров в чужой земле много работал в типографском искусстве, почти всю жизнь, но в Россию более не возвратился.
XIII. ПОСЛЕДУЮЩЕЕ
ГУТЕНБЕРГ создал печатную технику, которая просуществовала века. Только глубочайшее социально-экономические перемены, вызванные победой капитализма, создали почву для дальнейших коренных сдвигов в типографской технике. Капитализм перестроил печатное искусство по образу своему и подобию, – он ввел машины во все полиграфические процессы, создал огромные издательские и типографские предприятия, во много раз ускорил биение пульса печатного производства и бесконечно расширил влияние печати в жизни стран и народов.
Печать стала могучим орудием буржуазии в ее борьбе за власть, за экоплоатацию и подавление трудящихся масс. Печатное производство само изменилось, превратившись в производство капиталистическое, которое служит своим владельцам-капиталистам для получения прибавочной стоимости.
Общество человеческое разделилось «на два больших враждебных лагеря, на два больших, стоящих друг против друга класса: буржуазию и пролетариат», – неизбежно и печать должна была поделиться на два друг другу враждебных стана. Буржуазия и капиталистическое государство деньгами, правом собственности, полицейской силой и цензурою привязали печать к своей победной колеснице и оставили пролетариату только подпольную типографию, только возможность в жестокой борьбе отвоевывать право на свою печать.
XIX век – век господства и расцвета буржуазии, отмечен замечательными новшествами в искусстве Гутенберга, это искусство – техника его – как будто долго хранившееся в ледниках в анабиотическом[72] состоянии, вновь попадает под действие света и тепла.
Изобретательская мысль, пробуждаясь от долгой дремоты, снова и снова возвращается к книгопечатанию, чтобы дальше двигать вперед дело Генсфлейша-Гутенберга. Путь этих преобразований типографской техники, конечно, только одна из мелких пунктирных линий на карте развития мировой техники, основные магистрали которой – изобретение паровой машины и двигателя внутреннего сгорания, развитие химии и многообразное использование электричества.
В конце XVIII века книгопечатание сделало небольшой подготовительный шаг по пути изменения техники типографского дела – существовавший до этого времени деревянный печатный станок был заменен металлическим. Это новшество, введенное англичанином лордом Стенгопом, имя которого встретится нам дальше, само по себе не внесло никакой революции в типографское производство, но оно облегчило Кенигу решение задачи введения скоропечатного станка.
Кениг был одним из наиболее блестящих преемников Гутенберга в дальнейшем продвижении вперед его искусства.
В то время как старинный ручной пресс позволял изготовлять за десятичасовой рабочий день всего до тысячи оттисков с набора, то скоропечатная машина, даже когда она приводилась в движение мускульной силой, давала 1000–1200 оттисков в один час.
Изобретение Кенига замечательно еще и тем, что оно непосредственно определило переход от применения человеческой силы в типографии к использованию парового двигателя для нужд печати. Этим в типографском деле сберегалось огромное количество человеческого труда, были открыты широкие перспективы для дальнейшего ускорения печатания и, наконец, решался вопрос о печатной фабрике – крупном капиталистическом предприятии нового типа с могучей печатной продукцией, наводнившей страны газетами, брошюрами и книгами. Скоропечатная машина в ее первоначальном виде – проста. Основная часть ее «талер» – небольшая платформа, движущаяся вперед и назад, на которой в металлической раме укреплен набор или стереотип.
Подвигаясь вперед, талер сначала подводит литеры под особые валики, которые покрывают литеры типографской краской. Движение следует неуклонно вперед и, смазанный краской, набор соприкасается с белой бумагой, движущейся по цилиндру.
Оттиск получен, набор на талере откатывается назад и отпечатанный лист выходит на стол приемщика.
Предшественник Кенига – англичанин Никольсон в 1790 г. – опубликовал первый проект скоропечатной машины. Проект Никольсона осуществлен не был – новая идея не нашла отклика. Только через двадцать лет Кениг окончательно оформил эту идею и добился изготовления первой скоропечатной машины.
Удивительное это время – конец XVIII и начало XIX столетии: открытия, и изобретения множатся с умопомрачительной быстротой в этот период. Почти одновременно со скоропечатной машиной и машинным изготовлением бумаги (об этом будем говорить немного позднее) возникает литография – новая область печатного дела.
Всегда существовала крепкая связь между техникой печатания текста и рисунков. Само изобретение Гутенберга появилось на почве, подготовленной практикой изготовления оттисков картин, вырезанных на дереве. В первое столетие своего существования книгопечатание широко использовало и развило ксилографию и уже в конце XV века вызвало к жизни гравюру на меди. Гравирование на меди явилось крупным шагом вперед в борьбе за качество книжной иллюстрации.
МАШИНА КЕНИГА
Но человеческая мысль не останавливается на этом и в XVI веке появляется офорт. Офорт означал применение химии к иллюстративному печатанию, значительно облегчал работу художника-резчика и устранял одну из главных трудностей гравирования.
Объясним это подробнее. Задачей гравера было вырезать грабштихелем (инструмент из стали со срезанным наискось острым концом) или иглой, предназначенный к воспроизведению рисунок на гладкой отполированной медной пластинке. После окончания гравирования вырезанные углубленные линии наполнялись краской, а гладкая поверхность тщательно от нее очищалась. Потом бумага сильно прижималась к медной доске, краска из углублений всасывалась бумагой и отпечаток был готов. Но этот способ труден и долог, требует величайшей тщательности и точности от гравера, – достаточно неловкого движения, ослабления внимания и неверно проведенная линия, может быть перед самым окончанием рисунка, испортит все и заставит начать работу заново.
Офорт заменил вырезывание гравюры более простым и безопасным нанесением рисунка на покрытую лаком и потом закопченную поверхность металлической пластинки. После этого углубление рисунка достигается обработкой этой пластинки азотной кислотой (по-французски – («eau forte»), проедающей металл в местах, не защищенных лаком.
Литографию изобрел немец Алоизий Зенефельдер в 1796 г.; изобретение это появилось потому, что новые общественные условия открывали богатые возможности для распространения иллюстрированных изданий и нот и требовали удешевления их производства для роста барышей предпринимателей. Зенефельдер установил, что особый сорт камня, впоследствии названный литографским, обладает всеми необходимыми свойствами, чтобы заменить дорогую медь и открывает новые большие возможности для печатания с него рисунков.
Литографский камень легко поддается углублению травлением подобно меди и этим путем Зенефельдеру удалось добиться возвышенного и углубленного печатания с камня. Но что еще более важно, был изобретен и способ плоской печати.
Дело в том, что литографский камень, состоящий в основном из углекислого кальция, с одной стороны, обладает способностью легко принимать на себя жиры, с другой, – под действием азотной кислоты, переходит в азотнокислую соль кальция, почти не восприимчивую к жирам.
На камень наносят специальным жирным карандашом или тушью (состав их противостоит действию кислоты) штрихи, потом обрабатывают камень кислотой и, слегка увлажнив его, накатывают краской, последняя пристает к камню только в тех местах, где были написаны жирные штрихи, чистые же места краску не воспринимают. Так осуществлялось печатание с гладкого камня.
Насколько литография удешевляла печатание можно судить потому, что уже в 1798 г. торговец нотами Фальтер писал другому торговцу Гомбарту в Аугсбурге, «что он предлагает сонату вместо 1 гульдена 33 крейцеров, за 30 крейцеров, т. к. соната напечатана новым способом».
Иной общественный строй, иные отношения людей наложили свой отпечаток на жизнь изобретателей Кенига и Зенефельдера, которая была не менее трудной и противоречивой, чем жизнь Гутенберга.
Иоган Фридрих Кениг родился 17 апреля 1774 г. в Эйслебене в Германии. Он был сыном мелкого земельного собственника. В детстве Иоган посещал народную школу, потом перешел в местную, гимназию и, наконец, в удивительном 1789 г., когда соседняя Франция содрогалась в первых приступах великой революции, молодой Кениг поступил учеником в Лейпцигскую книжную типографию Брейткопфа и Гертеля.
Здесь провел он половину своей сознательной жизни, понял необходимость изменения устаревших форм печатной техники и здесь его энергия обрела направление, в котором дальше неуклонно развертывалась ее стальная нить.
Великая французская революция потрясла весь мир, молодая, полная сил буржуазия впервые осознала свою власть. Зачиналась капиталистическая перестройка всей общественной жизни. Революционная борьба в Париже воочию показала буржуазии мощь печати в борьбе за власть и барыши. Ручной печатный станок оказался жалкой клячей, которую пора было отправить на живодерню; новые лихорадочные темпы требовали машины.
С настойчивостью маниака Кениг долгие годы добивается осуществления проекта, который сложился у него уже во второй половине 1802 года.
Вереница лиц, предприятий и городов проходит перед изобретателем, но все попытки безуспешны. Сначала Кениг переселяется в Баварию и там в городе Зуле, где находятся оружейные предприятия, думает построить свою машину с помощью опытных местных механиков: Зуль сменяется Мейнингеном, потом изобретатель перекочевывает в Вюрцбург, отсюда он делает путешествия в Мюнхен и Вену. Кениг скитается по европейскому континенту в поисках страны со здоровым предпринимательским духом, людей, которые не боялись бы вложить свой капитал в реализацию его изобретения, поняв, что в нем скрыты огромные возможности получения прибылей. Но Германия этих лет экономически слишком отстала; европейский мир придавлен пятой корсиканского завоевателя и болен войной. Остаются две страны, где еще можно попытать счастья; Россия и Англия.
Из Вены Кениг посылает русскому самодержцу свой план. Русское правительство откликнулось на его предложение и обещало поддержку, требуя от изобретателя подробного описания и чертежей его машины. В сентябре 1805 г. изобретатель отправил необходимые материалы через Любек в Петербург, а в мае следующего года сам выезжает в северную столицу.
Новое разочарование постигает здесь Кенига.
Первоначальные обещания свои: организовать типографию, выплачивать Кенигу 10 тыс. рублей годового содержания и обеспечить его жилищем, правительство не выполнило. Безуспешно обивал он в Петербурге пороги сильных мира сего – дело не двигалось. В ноябре Кениг направился в Англию.
Эта страна молодого капитализма, энергичной новой буржуазии стала вторым отечеством Кенига и родиной его изобретения. В Лондоне Кениг нашел капиталиста, решившего вложить деньги в рискованное дело постройки новой машины, в лице крупного типографа Томаса Бенслея. Первая скоропечатная машина была изготовлена в 1812 г., а затем через два года вышел первый номер «Таймса» отпечатанный на машине Кенига.
Типографский ученик, бедняк и скиталец Кениг закончил свой путь тем, что сам сделался капиталистом-предпринимателем. Разбогатев, он вернулся в Германию, в компании с Бауэром 10 апреля 1817 г. купил здание монастыря Оберцелль, близ Вюрцбурга, и основал здесь свое предприятие, изготовлявшее скоропечатные машины.
Фирма Кениг и Бауэр существует до наших дней.
Иначе сложилась жизнь его современника Зенефельдера. Сын актера, Алоизий Зенефельдер родился в 1771 г. в Праге. Благодаря тому, что отец его вступил на службу в казенный театр Мюнхена, Алоизий получил возможность стипендиатом пройти курс в Мюнхенской гимназии и лицее. Потом он продолжал свое образование в университете Ингольштадта, где изучал право.
В студенческие годы будущий изобретатель пробовал свои силы на драматургическом поприще, одна из его пьес «Знаток девушек» была поставлена в Мюнхенском театре (1792 г.) и выпущена отдельным изданием.
Жизнь начиналась удачей и кто в юности не мечтал о славе? Но розовые мечты о близком успехе и блестящей карьере быстро столкнулись с суровой действительностью. В том же 1792 т. умер отец Алоизия и оставил семью, которая состояла из жены и восьмерых детей, почти нищими. Алоизий тщетно искал работы, напрасно пытался добывать средства к жизни литературой – ни один издатель не соглашался выпустить его произведения.
Тогда предприимчивой молодой человек сам пытается организовать печатание своих литературных работ. В поисках легкого способа печатания «своими средствами» он изобретает литографию.
На помощь ему в упорных опытах приходит случайность, вернее, две случайности. Случайность первая: Зенефельдер употреблял для растирания красок пластинку из золингофенского известняка. Этот камень в то время широко применялся в Южной Баварии для строительства, мощения тротуаров, различных домашних поделок. Золингофенский известняк стал известен во всем мире под именем литографского камня.
Случайность вторую внесла в дом Зенефельдера – прачка. Она пришла за бельем в июльский день 1 796 г. и под рукой не было бумаги. Алоизий записал счет отданного белья краской на камне. Когда прачка ушла, ему пришла в голову мысль вытравить на камне чистые места азотной кислотой, чтобы получить выпуклый текст счета.
Опыт принес удачу – написанный текст по мере травления становился выпуклым и годным для получения оттиска.
Так началась история литографского производства.
Всю жизнь Зенефельдер работал над дальнейшим усовершенствованием своего изобретения. В изданном им в 1818 г. руководстве он уже насчитывает 27 разных способов печатания с камней, – выпуклый, плоский, углубленный, одной или многими красками и т. д.
Даже перед самой смертью (умер он 26 февраля 1834 г.) неутомимый Алоизий работал над улучшением типографской туши.
Но использовать свое изобретение для целей личного устройства и перехода в ряды капитанов промышленности, пусть и второстепенных, он не сумел. – Между тем, литографии были созданы, принося немалые прибыли предприимчивым людям, во многих городах уже в первом десятилетии XIX столетия, а с третьего десятилетия литография господствовала в области иллюстрирования книг.
Собственное же предприятие Зенефельдера, благодаря непрактичности изобретателя, влачило жалкое существование и умер он бедняком, оставив жену и сына почти без средств к жизни.
Мы упомянули раньше имя лорда Стэнгопа – изобретателя металлического печатного станка; введением этого новшества не ограничивается роль Стэнгопа в улучшении типографского производства. Второе его изобретение так называемые матриц ы имеют еще большее значение.
Впервые стереотип был создан эдинбургским (Шотландия) золотых дел мастером Виллиамом Гедом в 1729 г. Лорд Стэнтоп усовершенствовал метод Геда и после него стереотипия заняла важное место в печатном деле.
Стереотипия – искусство получения точной копии с набора.
Если изобретение книгопечатания означало разделение гравировальной доски на подвижные литеры, то стереотипная организовала процесс в обратном направлении – с набора подвижных литер снимается копия в форме металлической доски или листа.
Процесс получения стереотипа слагается из двух операций. Сначала с готового набора снимается матрица: на подготовленный к печати набор накладывается влажный картон, склеенный из нескольких (до 10) листов тонкой бумаги. Особыми щетками бьют по картону, заставляя его плотно прильнуть к набору и воспринять все выпуклости литер и клише. Полученная таким образом стереотипная матрица нагревается вместе с набором под прессом и приобретает необходимую прочность.
В особой форме матрицы заполняются расплавленным металлом и стереотип готов – это вторая операция.
Суть стереотипии в том, что она сберегает шрифт, позволяет многократно через различной длительности промежуток печатать издания и, наконец, дает возможность приготовлять цилиндрические стереотипы, которые предопределили направление нового огромного, сдвига в типографской практике.
Появление скоропечатной машины откосится к периоду наполеоновских войн – тогда еще первых побед молодой буржуазии. Идут годы и капитализм широко распространяет свои корни по земле, поросли его вырастают и крепнут, в бешеной погоне за барышами буржуазия быстро создает «более могущественные и более грандиозные производительные силы, чем все предыдущие поколения, вместе взятые. Подчинение сил природы, машины, применение химии к земледелию и промышленности, пароходы, железные дороги, электрический телеграф, распашка целых частей света, приспособление рек для судоходства, целые, как бы из земли выросшие, поселения».
Лихорадочным темпам хозяйственной и политической деятельности капитализма мало машины Кенига надо все быстрее и быстрее выбрасывать на растущие рынки газеты и книга, увеличивая барыши, издательских магнатов, надо скорее снабжать капиталистических конквистадоров[73] печатным оружием в их ожесточенной борьбе, в завоевании рынков и одурачении эксплоатируемых масс.
В сороковых годах XIX столетия появляются новые конструкции быстроходных печатных машин, которые находят свое первое завершение в машине Буллока – прообразе ротации.
СОВРЕМЕННАЯ РОТАЦИОННАЯ МАШИНА
Машина Буллока печатала четырехполосную газету со скоростью до 5–7 тыс. экземпляров в час; основное новшество в ее конструкции: печатание со стереотипа, одеваемого на круглый печатный барабан и замена листовой бумаги лентой с рулона. Дальше из года в год, из десятилетия в десятилетие развертывается борьба конструкторов и машиностроительных предприятий в дальнейшем улучшении машин и механизации всех процессов печатного производства. Как далеко ушла вперед мощность новейшей ротации не только от скоропечатного станка Кенига, но и от машины Буллока можно судить по тому, что ротация «Ультра-Модерн» инж. Вууда, установленная в 1928 г. в типографии «Нью-Йорк Тайме» давала в час 50 тыс. экземпляров газеты в 32 полосы. Ныне и эти темпы оставлены позади.
Стереотип ротационной машины в равной мере пригоден для печатания и текста и рисунков.
Революцию в область печатания иллюстрированных изделий внесло использование фотографии. Фотомеханические способы иллюстрирования, возникнув во второй половине прошлого столетия, прошли огромный путь усовершенствований.
Сущность фотомеханического способа заключается в том, что фотоизображение любого предмета, картины, чертежа может быть перенесено на металл или литографский камень, на которых путем химической обработки, в частности травлением (вспомним гравюру на меди и литографию) получается либо выпуклое клише, либо формы глубокой или плоской печати, воспроизводящие фотографию.
Таким путем легко было получить оттиски черных линий и пятен рисунка, но над изображением переходных тонов изобретательская мысль билась долго. Эта задача была разрешена получением сетчатого негатива. В 1890 г. введен в употребление растр – это сетка, нанесенная на стекло, которое помещается в, фотоаппарат при снимке с оригиналов. Негатив получается разбитым на квадратики, в которых: в более светлых квадратиках будут крупные точки, в более темных – мелкие со всеми переходами от света к тени. «При изготовлении клише на позитиве получится обратная картина… При снимке, скажем человека, одетого в черный костюм, белый воротничок, клетчатый галстук, костюм даст сплошные крупные точки, воротничок – мельчайшие, галстук – разнообразные в зависимости от его пестроты».
Сетки бывают различной густоты и при более крупной клетке, как, например, можно ежедневно видеть в газетах, деление рисунка на группы точек различной величины хорошо видно простым глазом.
Фотомеханические способы позволили перейти от плоских досок гравюр к цилиндрическим и не только для выпуклых клише, но и для углубленных и плоских форм.
Существуют машины для тифдрука, т. е. глубокого печатания, которым изготовляются всем известные массовые иллюстрированные журналы и за границей и в СССР.
За последние годы огромных успехов в области печатания иллюстрированных изданий достиг офсетный способ (в частности многоцветный), которому, очевидно, принадлежит большое будущее.
В то время как ротационные машины глубокой печати дают скорость, значительно отстающую от скорости обычных типографских ротаций, и требуют отдельного печатания рисунков от текста, офсетные ротации одинаково хорошо воспроизводят текст и иллюстрацию.
Офсетный способ является «переносным» способом плоской печати. С плоской печатью мы уже ознакомились при рассмотрении литографии. «Перенос» же заключается в следующем: офсетная машина, кроме обычного печатного цилиндра со стереотипом имеет дополнительный передаточный резиновый цилиндр. Печатный цилиндр, покрытый краской, сначала прижимается к передаточному цилиндру, обтянутому резиной. Резина принимает краску и передает ее на бумагу.
Введение третьего резинового цилиндра вызвано тем, что при плоской печати прижимание бумаги к металлическому цилиндру не гарантирует, что вся краска всех частей рисунка перейдет на бумагу, ибо ни металлическая поверхность, ни бумага не могут быть идеально гладки. Резиновый цилиндр устраняет это затруднение.
Не менее грандиозные перемены претерпело в начале XIX столетия бумажное производство. Эти изменения тесно переплетались с техническим перевооружением полиграфии, ибо рост выработки бумаги пришпоривал производительность типографии и в свою очередь двигался вперед под влиянием быстро увеличивающейся прожорливости скоропечатных машин и ротаций.
Первые элементы механизации в производстве бумаги были внесены еще до Гутенберга организацией бумажных мельниц, но самая ответственная часть – формирование бумажного листа – еще столетия продолжала производиться ручным способом.
Наконец, в те же годы Великой французской революции, когда Кениг вынашивал идею скоропечатной машины, француз Луи Ровер разрабатывал проект бумагоделательной машины (1799 г.).
Первая бумажная машина была сконструирована и пущена в Англии в 1803 году.
К. Маркс уделил много внимания производству бумаги, считая бумажную машину одним из наиболее замечательных технических нововведений, ярким образцом важнейших тенденций развития техники, он писал:
«Два великих принципа, обусловливающих успешность, сполна воплощены в этом удивительном автомате. Одним из наиболее важных факторов во всех отраслях индустрии является непрерывность производства. Наиболее совершенной и наиболее производительной машиной является та, которая способна к беспрерывной производительности. Там, где изготовляемый предмет может проходить без перерыва (и следовательно без промедления) от первой до последней стадии своей обработки машинами, по всей вероятности, будет произведено лучшее изделие и с меньшими затратами, чем в том случае, когда предмет на каждой стадии своей обработки должен быть переносим с одного места на другое…
Она (бумажная машина) представляет собой законченную систему, ибо материал подается к одному концу и готовое изделие выходит из противоположного конца. Также и в другом отношении выявляет эта машина свою удивительную конструкцию, а именно: она действует совершенно автоматически. Она не получает помощи от человека, а совершает, возложенную на нее задачу, путем комбинирования и соответствующего действия частей, из которых она состоит. Если содействие и необходимо в каком-либо отношении, то лишь в смысле устранения случайных трудностей, а не для помощи самому производству».
Машина для выделки бумаги и печатная ротация – блестящие представители автоматизированных производственных процессов, которые составляют основу новейшей техники. Последние представители этих машин, конечно, далеко ушли вперед от того, что было при жизни Маркса, но данная им характеристика и по сей день полностью сохраняет свою значимость. В новейших машинах, основные принципы, вскрытые основоположником научного социализма, выявляются в еще более развитой форме. Как далеко вперед ушла производственная мощность этих автоматов можно судить по тому, что бумажная машина Балахнинской фабрики СССР дает почти в сто раз большую выработку в единицу времени против машины Донкина, которую, очевидно, подробно изучал в свое время Маркс.
Дольше других элементов типографского дела сопротивлялся механизации – набор. До последней четверти XIX века набирали вручную (максимальная производительность 1000 букв в час), пока, наконец, в 1886 г. Оттомар Мергенталер не изобрел наборной машины – линотипа, – она набирает в час свыше 4000 букв в виде отдельных отлитых строк.
Неудобство отливки целых строк, затрудняющее правку ошибок, привело к введению новой машины – монотипа, – с буквенным машинным набором. Монотип сконструирован в 1892 г. американцем Ланстоном.
Изобретательская мысль заглянула во все уголки печатного производства, внесла тысячи больших и малых новшеств в дело мастера Иогана и бесконечно усложнила его.
В безостановочной погоне за прибылью, подгоняемое жестоким бичом капиталистической конкуренции, издательское дело неслось сломя голову дорогой технического прогресса для того, чтобы… но об этом после.
Книгоиздательство за последние пятьсот лет не только коренным образом изменило свою технику, но и выросло в невообразимых размерах.
До 1500 г. было издано около 30 тысяч названий книг, в XVI веке – 285 тыс., в XVII – 972 тыс., в XVIII —1637 тыс., в XIX – 6100 тыс. и за первые 30 лет XX века – свыше 5 млн., т. е. почти столько же, сколько за все предыдущее столетие.
СОВРЕМЕННЫЙ ЛИНОТИП
Рост тиражей книжной продукции, газет и журналов за последнее столетие выражается в астрономических числах, точно человечество в припадке безумия решило обернуть материк бумажной пеленой, покрытой типографскими знаками и завалить океаны связками газет, журналов и книг.
А теперь о том, что после.
Мы живем в годы великого возмущения производительных сил против капиталистического производства, которое их создало, – возмущения трудящихся масс против буржуазии.
Книгопечатание, как капля воды, отражает в себе всю потрясающую картину назревшего социального конфликта.
Загнивший империалистический капитализм закрыл пути дальнейшего развития техники, – новые изобретения не находят применения, кризис останавливает реконструкцию предприятий и их расширение. Техника печатного производства, конечно, не составляет исключения.
За период прошедший с начала мировой империалистической бойни, не только приостановился рост издательской продукции, но выпуск ее даже снизился во всех крупнейших капиталистических странах.
Только страна, победившего пролетариата – Союз Советов свершает победное шествие по пути безостановочного расширения своей печатной продукции, только в нем открыты все возможности для всяческих новшеств типографской техники и разбужены гигантские силы изобретательства широчайших трудящихся масс.
В дореволюционной России не было промышленных предприятий изготовлявших сложное типографское оборудование – оно ввозилось из за границы. В СССР, проводящей ленинский план индустриализации, уже освоено строительство наиболее сложных машин типографского дела: наборных, плоских печатных машин и ротаций.
Гигантский подъем типографской техники в эпоху капитализма неизмеримо усилил роль печати в жизни народов. Политика, хозяйство, наука, быт – все стороны общественного существования испытывают на себе ее постоянное влияние.
Из десятилетия в десятилетие, из года в год печать переходила от одной победы к другой, становясь, как воздух и пища, необходимой общественному организму.
Но эти победы печати были одновременно и ее величайшими поражениями, ибо в руках буржуазии сделалась она орудием угнетения трудящихся масс, подкупка, рекламы и шантажа. Печать капиталистического мира – видимость силы и власти, на самом деле жалкая рабыня реакционной цензуры, в каждом движении своем жестко ограниченная волей дипломатических кабинетов, банков и трестов. Кажется она средством прогресса, суетливая ее работа создает видимость движения вперед, на самом же деле она только плотина на великом пути движения масс к лучшему будущему.
Так всюду и в странах открытой фашистской диктатуры и так называемых «демократических» государствах.
Некогда, в дни ломки феодальных устоев, роль буржуазии была революционна, тогда на недолгие периоды сквозь серый дым печатных строк, оправдывающих и восхваляющих существующий порядок эксплоатации и предержащую власть, прорывались, подобно яркому пламени, бунтовщические издания, свободные книги.
Еще в середине XVII века первая английская революция, когда «буржуазия, в союзе с новым дворянством, боролась против монархии, феодального дворянства и господствующей церкви» (Маркс), показала, как велика прогрессивная роль печати. Характерно, что наиболее широко используется печатное слово левым демократическим крылом – левеллерами, сторонниками последовательной политической демократии, выходцами из рядов городской и сельской мелкой буржуазии. Тогда же появляется и первый мученик печати – вождь левеллеров литератор Лилберн. Этот человек знал агитационную силу печати, ей отдал свой недюжинный талант и зато в течение почти всей жизни, либо находился под судом, либо в заключении.
Яркие страницы в историю революционной печати вписаны Великой французской революцией 1789 г. В краткий срок в кипящем народным бунтом Париже число немногих до того периодических изданий возрастает до 250 – огромной цифры по тем временам. Эта периодика – непосредственное орудие политической борьбы, лучшая ее часть разжигает массы, ведет их на штурм старого порядка. Уже Великая французская революция разоблачила бессмысленность надежд на прогрессивную роль «свободной печати».
Это были младенческие иллюзии первых революционных дней, точно пресса не одно из острейших орудий в классовой борьбе и буржуазная «свобода печати» не открытая лазейка для контрреволюционных вылазок. Чем дальше развертывались революционные события, тем яснее становилась несостоятельность этих иллюзий, ибо под покровом мнимых свобод множилась белогвардейская литература, против которой направлен декрет Конвента 29 марта 1793 г., устанавливавший, что всякий призыв «посягающий на народный суверенитет», карается смертью, ибо с помощью «свободной» прессы замышлялся комплот против революционного авангарда и его вождей, ибо главными движущими силами «свободной» прессы были спекуляция и подкуп.
И каждое новое революционное движение снова и снова подтверждает, что печать могучее орудие в руках тех революционных отрядов, которые выражают передовые идеи и которым принадлежит будущее – так было в 1848 г., так было в великие дни Парижской Коммуны и так было в России в 1905 и 1917 годах.
Но те дни, когда молодая буржуазия боролась за уничтожение феодальных пережитков – в далеком прошлом.
Власть была захвачена, социальная роль буржуазии изменилась и печать ее стала реакционной печатью, т. к. служит она реакционному классу в его борьбе с крепнущим пролетариатом, который все увереннее, а увереннее штурмует твердыни капиталистического строя.
Вместе с развитием пролетариата появляется и новая революционная печать, рабочий класс учится использовать и тайные типографии, и зарубежные издания, и кратковременные легальные возможности, и обман цензуры. Революционная печать, – сначала мирно утопическая – закаляется в огне классовых битв и растет.
И самые поражения этой печати были величайшими победами и ее и рабочего класса, и человечества.
Пройдя через поражения – разгромы типографий, аресты, ссылки | и казни своих бойцов выросла коммунистическая печать та, которая в Советском союзе является верным помощником большевиков в их борьбе и строительстве, а в странах капиталистических ведет жестокую борьбу с отживающей свой век буржуазией, ее наймитами и лакеями.
В руках революционного пролетариата коммунистическая печать огромная мировая сила. Изобретение Иогана Генсфлейша-Гутенберга, служа этой печати впервые, служит благу всего трудящегося человечества.
БИБЛИОГРАФИЯ
A. v. d. Linde – Gutenberg. Geschichte und Erdichtung. Stuttgart. 1878.
A. v. d. Linde – Geschichte der Buchdrückerkunst. Berlin. 1886.
Gutenberg – Feier in Mainz 1900. Festschrift im Auftrage der Festleitung herausgegeben von Bockenheimer 1900.
Gutenberg – Festschrift zur Feier des 25 jahrigen Bestehens des Gutenbergsmuseums in Mainz. 1925.
Gutenberg – Jahrbuch – 1926. Verlag der Gutenberg Gesellschaft in Mainz.
Gutenberg – Jahrbuch – 1927. Verlag der Gutenberg Gesellschaft In Mainz.
Gutenberg – Jahrbuch – 1928. Verlag der Gutenberg Gesellschaft in Mainz.
Gutenberg – Jahrbuch —1929. Verlag der Gutenberg Gesellschaft in Mainz.
Gutenberg – Jahrbuch – 1930. Verlag der Gutenberg Gesellschaft in Mainz.
Gutenberg – Jahrbuch – 1931. Verlag der Gutenberg Gesellschaft in Mainz.
Zedler – Die älteste Gutenbergtype. 1902. Veröfentlichungen der Gutenberg Gesellschaft, I.
Schwenke – Die Donat und Kalender Type. 1903. Veröfentlichungen der Gutenberg Gesellschaft, II.
Das Mainzer Fragment vom Weltgericht der Canon Missale von Jahre 1455 (1904) Veröfentlichungen der Gutenberg Gesellschaft, III.
Zedler – Das Mainzer Gatholicon, 1905. Veröfentlichungen der Gutenberg Gesellschaft, IV.
Das Mainzer Fragment vom Weltgericht.
Die Type B42 in Missale von 1493.
Die Missaldrücke P. und Jahr. Schöffers.
Die Bücheranzeigen P. Schöffers. Veröfentlichungen der Gutenberg Gesellschaft V–VII.
Segmour de Ricci – Cataloge raisonne des premieres impressions de Mayenco (1445–1467) 1911, VIII–IX.
Zedler—Die Bamberger Pfisterdrücke und die 36 zeilige Bibel, 1911. X–XL.
Zedler – Die Mainzer Ablassbriefe der Jahre 1453 und 1445. 1913. XII–XIII.
Sсhоttenbоher – Das Regensbürger Buchgewerbe im 15 und 16 Jahrhundert mit Akten und Dankverzeichnis 1920. XIV–XIX.
Sсhоttenbohеr – Die Landshuter Buchdrücker des 16 Jahrhunderts. XXI.
Zedler—Von Coster zu Gutenberg (Der Hollandische Frühdrück und die Erfindung des Buchdrückes) Verlag v. Hiersemann. Leipzig, 1921.
Zedler – Die neuere Gutenbergforschungen und die Lösung der Costerfrage Verlag v. Bayr. Frankfurt am Mainz, 1923.
F. Kapp – Geschichte des Deutschen Buchhandels. Leipzig, 1886.
Бaxтиаров – Гутенберг. Его жизнь в связи с историей книгопечатания. Издание Павленкова, 1892 г.
Щелкунов – История, техника, искусство книгопечатания. ГИЗ, М. Л. 1926 г.
Эйнгорн – Начало книгопечатания. Книга для чтения по истории средних веков под ред. Виноградова. Москва, 1903 г.
Ольхин – Иоган Гутенберг – изобретатель книгопечатания. Петербург, 1900 г.