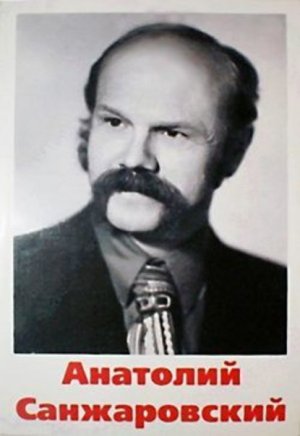
Муж, найденный в стогу
(История с историей моего первого фельетона)
Жизнь развивается по спирали и на каждом витке искрит.
Тамара Клейман
Врач зайдёт, куда и солнце не заходит.
Грузинская пословица
В вид из нашего редакционного окна влетел на взмыленной кобылёнке с подвязанным хвостом молодой здоровяк, навспех привязал её к палисадной штакетине и через мгновение горой впихнулся к нам в комнату.
– Кто из вас главный? – в нетерпении крикнул он.
В комнате нас куковало трое. Все мы были рядовые газетчики. Но в душе каждого сидел главный. Да кто ж признается в том на миру?
Все мы трое аккуратно уткнулись в свои ненаглядные родные бумажульки.
– Так кто ж из вас главный тут? – уже напористей шумнул ездун.
Мы все трое побольше набрали в рот воды. Воды хватило всем.
Мы сидели в проходной комнате. За нашими спинами была пускай не Москва, но всё же дверь к самому главному редактору.
На шум важно вышла из своего кабинета наша редакторша.
Мы все трое уважительно посмотрели на неё. И тем без слов сказали, кто в редакции главный.
– А что случилось? – спросила Анна Арсентьевна.
– Да вот! – Парень махнул кнутом. – Пишите про эту гаду… Не то я эту гаду захлещу кнутом. Вусмерть!
– А вот этого не надо, – флегматично сказала Анна Арсентьевна. – Не то вас посадят.
– Тогда скорейше пишите… Сеструха пришла к нему с зубами… А он её чуток не… Ну гад же!
– Можете не продолжать, – сказала Анна Арсентьевна. – Мы знаем, о ком вы… Это наша всерайонная зубная боль…
Тут Анна Арсентьевна повернулась ко мне.
– Это о Коновалове. Выслушайте, Толя, парня и пишите фельетон.
– Но я не написал ещё ни одного фельетона! – в панике выкинул я белый флаг.
– Вот и напишете первый.
Я зачесал там, где не чесалось.
Мы вышли с парнем в коридор.
И тут его прорвало.
– Мы одни… По-молодому как мужик мужику я тебе выплесну вкратцах. Пришла она к нему с зубами. А он глянул ей в рот, и загоревал котяра: «У-у-у!… Да у тебя страшный вывих невинности!» – Она и вытаращи на него зенки. В страхе допытывается: «Какой ещё вывих невинности?» – «Той самой. Святой. Богоданной!» – «Да у меня никто ничё и не отбирал. Что Боженька дал, то и при мне всё! Я ещё ни с одним парнем толком не гуляла!» – «А тут парень и не нужен. Невинность – товарушко хрупкий… Неловко присела, вот и вывих! Но ты не горюй. Я хорошо вправляю!» – «Но вы-то врачун по зубам!» – «И по всевозможным вывихам… Универсалище ещё тот!» – Она, дурёнка, и поверь. Вот невезёха!… Поплелась к Коновалистому в комнатку – он живё тут жа, при поликлинике, – на вправление вывиха… Козлина этот быстренько дверь на крючок и разогнался было всандалить. Да не на ту набежал. Мы, борщёвские, люди хваткие. По мордяке честно добыл два разка! На том и вся кислая рассохлась канитель… Пиши про эту гаду. Не то я за себя не поручусь…
А ночью мне, холостяку, приснилось, будто я уже казакую при жене и при сыне. И по пути из детсада забрели мы с ним в наш магазин. Выходим с молоком.
Идёт ровный, спокойный дождь.
– Пап, смотри! А дождь прямой, без зарючки!
В дверях впереди него замешкалась молодуха.
И сынишка сердито толкнул её в левую паляницу.
Она нервно сбросила его ручонку со своей сдобы:
– Что ты делаешь, мальчик?!
– Сынку, не толкай, – говорю я. – А то у тёти может произойти вывих невинности.
– Какой такой ещё невинности? – подивилась подмолодка.
– Святой… Богоданной… – апостольски уточнил я.
Наснится же такая глупь!
У меня впервые заболел зуб. С неделю уже маюсь. Всё собирался сбегать к врачу. Сегодня-завтра, сегодня-завтра… И бежать к тому же Коновалову. В районном нашем сельце Щучьем другого зубаря нет.
Если сейчас настрочу про Коновалова, то как потом буду я у него лечиться? Он же вырвет из меня что-нибудь другое вместо больного зуба!
И наутро поплёлся я к нему как рядовой зубной страдалец.
Я ещё рта не успел толком раскрыть, как Коновалов с апломбом выкрикнул:
– Рвём!
– Может, для началки хоть немножко полечим?
– Трупы не лечим!
Я расстался с первым зубом и твёрдо решил заняться фельетоном.
Невесть откуда узнала про это наша редакционная бухгалтерша, приятная дама бальзаковского возраста, и сноровисто понесла Коновалова по кочкам:
– Этот Коновалистый такой тип! Это тако-ой типяра!… Я прибежала к нему с зубами! А он помотался этак сладкими глазками по мне и: «Раздеваемся!» – «И вы тоже?» – спросила я невзначай и слегка шутя.
«Я при исполнении… Мне не обязательно…»
«А как раздеваемся?»
«Традиционно. Как всегда».
«И до чего раздеваемся?»
«До Евы».
«Но у меня же зуб!»
«И у меня зуб. И не один… И чего торговаться? Да знайте! Врач заходит даже туда, куда и стыдливое солнце не заходит! Раздеваемся! Народ за дверью ждёт!»
«Ну зуб же болит! А зачем раздеваться?»
И он мне научно так вбубенивает:
«Для выяснения всей картины заболевания!»
Всей так всей…
Ну, разделась. А он:
«Походим на четвереньках».
Я чего-то упрямиться не стала. Быстро-весело помолотила вокруг зубного станка. Разобрало, что ли… Я ещё и вкруг самого Коновала гордо прошпацировала на четырёх костях…
Он стоит слюнки глотает. Во работёха!
Я на него даже разок тигрицей зубами щёлкнула.
А он весь распарился, зырк на дверь, зырк на меня и никаких делодвижений. Лишь сопельки глотает. Ну не типяра ли он после этого?
Я понял, весь грех Коновалова слился в то, что он дальше смотрин не шагнул. И случай с бухгалтершей я не воткнул в фельетонуху. И подлинную фамилию девушки не назвал. Всё меньше будет хлопот у борщёвских скалозубов.
Вовсе не фельетон, а статья выплясалась у меня, и статьяра длинная, нудяшная.
А Анна Арсентьевна прочитала её и сказала гордовато:
– Прекрасный фельетон! Вместе понесём на согласование в райком. Праздник! Первый фельетон в газете!
Февральским вьюжным вечером мы с редактором двинулись в райком, к первому секретарю с красивой фамилией Спасибо.
Тока не было.
Анна Арсентьевна читала ему моё творение при лампе.
Я, дыша через раз, мёртвым столбиком торчал в сторонке.
Первому мой фельетонка понравился.
– Прекрасный испёк фельетон! Надо громить этого пьянчугу и распутника. Только, – Спасибо пистолетом наставил на меня руководящий мохнатый палец, – дорисуй нужную концовку моими словами. Присядь на углу моего стола и запиши. Диктую: «Врач. Советский врач. Я преклоняюсь перед людьми, которые носят это святое звание. Ведь им мы вверяем самое дорогое – свою жизнь. И до слёз становится больно, когда среди них нет-нет да и промелькнёт пятнистая душонка, подобная Коновалову. И долго ли он будет чернить честь советского врача?» – И уточнил: – До завтрашнего утра. Про утро не для печати… Записал?
– Записал… Спасибо Вам…
– Не за что.
После дополнительных бесчисленных руководящих усушек и утрусок мой фельетонидзе наконец-то прорисовался в газете.
В день его выхода Коновалов решительно напился.
Ну как можно было такое событие не обмыть?
Он был такой чистенький, что никак не мог добрести до своей сакли и замертво пал отдохнуть в знакомом стогу.
В тот исторический тёмный момент, когда над его фривольно откинутым в сторону башмаком белым тёплым облаком опускалось нечто непередаваемое на словах, он проснулся и очень даже уверенно взял хозяйку облака обеими руками за легендарное колено и почти твёрдо проговорил:
– А вот этого делать не надо.
Она узнала знакомый голос и, в деланном испуге вскрикнув для приличия, поинтересовалась:
– Пал Егорыч! По этой египетской темнотище я вас и не заметила в стогу… Вы-то что тут делаете?
– Пришёл сынка проведать! – с вызовом болтнул он первое, что шатнулось на ум.
– Дак сынок-то не в стогу пока живёт… В хате.
– Приглашай в хату.
Пал Егорыч, отважистый донжуанец, сорил любовью налево и направо. В щученских дворах в пяти бегали его сорванцы. Они и не подозревали, что у них есть живой папик.
Пал Егорыч вовсе и не собирался проведывать своего сынка. Всё просто ну так крутнулось. Просто набрёл на подгуле на знакомый стог, по старой памяти просто припал отдохнуть. И чем повернулся этот внеплановый привал? Как-то так оно нечаянно свертелось, и он пустил слабину, попутно – ну раз уж по судьбе занесло сюда! – решил наконец-то жениться.
А через недельку я столкнулся с молодожёнами на улице.
Они шли в загс.
– Я б этого святого гада задушил, – брезгливо сказал Пал Егорыч, показывая невесте на меня.
– Ой! Жуть с ружьёй, что ты мелешь?!… А я позвала б его в свидетели! А там и в посажёные отцы… Смотри… Худенькой веснушчатый парнишка, а чего смог… Умничка! Наконец-то этот бухенвальдский крепыш жанил тебя, бесхозного жеребца! Наконец-то у меня нарисовался законный супружец, а у Виталика – всезаконный папайя. Область отстегнула тебе хорошее новое назначение. В городке! Уедем отсюда… из этой дыры… А без фельетохи всё это было б?
– Никогда.
– А ты – сразу душить. Благодарить надо!
– А я что делаю? Мысленно… Всё б ничего, да ты слегка худовата, костлява…
Невеста расхохоталась:
– Егорыч!… Ну да Егорыч!… Роднуша!… Да ты ль не знамши?… Живёшь – торопишься, даёшь – колотишься, ешь – маешься, где ж тут поправишься?!
19 февраля 1960.
Поцелуй в овраге
Иногда, чтобы сделать женщине приятное, приходится с ней расстаться.
А. Байгильдиев
Только ты, Сашок, не представляешь, как обрадовало меня твоё письмо.
Был пасмурный день: изредка, то находя буйными порывами, то снова замирая, подобно биению сердца, лил дождь.
Дождик не радовал моё молодое тело, ибо оно находилось в дороге. В эти дни – с 18 по 25 июля – была дома. В Борщёве. Правда, дом очень далеко, но я ездила.
Прежде чем писать всю правду, хочу извениться: ты не имеешь права потом смеяться надо мной.
Итак, это было очень и очень давно, когда мне исполнилось всего семь лет. Я жила в том самом домике, где проходит моя молодость сейчас, в эти летние дни. Тогда я была подобна лани – дика и боязлива. У меня были те же чёрные глаза и те же брат и сестра, что и сейчас. В семье я была самая юная и красивая. Ух и шикаристочка была!
В один прекрасный день пришло несчастье к нам – сбёг родный папочка. Будто собаками его куда угнали! Нас трое у матери. Ты знаешь, что такое дети? Радость и горе! Из-за нас она вынужденно полюбила недостойного человека.
Сашок! Мой шоколадный Зая! Не осуждай меня так строго за прямоту. Рано или поздно придётся это высказать. Да! Придётся! Я так люблю тебя, мой, конечно, единственный, что не могу описать. Моя любовь подобна родниковой воде – чиста и прозрачна. Я ещё никому не говорила такого и не знаю, как высказать то, что на сердце.
С того дня, когда мы познакомились на почте, я не перестаю думать о тебе. Я во многом виновата, но ты должен простить мне: я была молода и неопытна. Да и условия не дозволяли тебя крепко любить.
Я думала, увлечение тобой быстро угомонится. Не вышло. Тебе легче, чем мне. Во-первых, ты мужчина. А мужчины переносят неприятности гораздо проще, чем женщины. Ведь ваше мужское сердце в три раза, по подсчётам одного женского журнала, крепче нашего, отсюда и вывод. В школе я познала любовь, хотя не совсем, но краешком пришлось коснуться.
Как вспомню тот новогодний вечер (помнишь, в десятом классе?), когда ты в туфельках по рыхлому снегу чесал за мной… Зачем? Ты же знал, что я не хотела тогда с тобой встречаться. Кстати, о чём ты думал тогда? Ведь хотел что-то сказать, да я не хотела слушать. Отслоилось три года. Теперь очень хочу знать, здорово ты обиделся тогда? И что хотел сказать?
Я сейчас поняла, чем ты дальше от меня географически, тем ближей к моему сердцу фактически.
Я никогда не забуду наш первый поцелуй в овраге, поцелуй пылкий и безжалостный, но такой родной. Помню, как ты тихо, но знойно спросил разрешения. Всё помню. Только вот одного не могу припомнить, почему после новогодней истории резко говорил со мной, когда я принесла тебе, члену стенгазеты «За богатый урожай», стишата. Ты отшиб мне всю страсть писать их. Я пришла за помощью. Я хотела понять тот божественный мир, в котором ты живёшь. Но ты оттолкнул.
Я думала, ты оттолкнул навсегда, и решила развлекаться по-товарищески с одним. Увы! Он не увлёк меня. Я думала бессонными ночами о тебе, о литературе, об искусстве.
И вот между строк твоего письма я прочитала – рано или поздно твоя судьба должна слиться с моей. Сложная проблема. Но неужели всё это правда!? А твои родители согласные? Что касаемо моей мамани, так она против не попрёт. Главная сила в нас двоих. Молодежь вон в Африке цепи колониализма рвёт! А тут… Но до тех дней надо дожить. Мне год на маляра учиться, а тебе на агронома целых шесть заочных лет. Это может истрепать все твои чувства.
Сашок! Можешь не сомневаться, что я здесь, на стороне, с кем дружу. Я не какая там мочалка, что бегает из рук в руки. Я не такая! Если кого полюблю, то обязательно других оставляю в покое. А вообще в большом городе очень трудно красивой девушке. Пошла как-то в церковь. К Богу с чего-то захотелось приблизиться. А ко мне приблизился один священносожитель. Этот долгогривый пенс[1] нажрался где-то как шланг и принял меня за шмоньку. Да не на ту наскочил! Еле отбилась от этого долгогривого шустриллы. Чуть Боженьке святую душеньку не отдала… Но это я отвлеклась от ровного пути. Меня попугивает мысля, не обведёшь ли ты вокруг белого пальчика? Ой, смотри! Ты же для меня всё: мать, сестра, брат, друг…
Эха, как хорошо, если бы мы встретились. Я жажду этой встречи. Ты писал, наша встреча зависит от меня. Теперь – от тебя. О! Как я тебя встретила б! Представь. Вот подходишь к общежитию нашего училища, спрашиваешь меня.
Я выскакиваю из кошачьего домика с такой радостью и вдруг осечка: робость, неуверенность, девичья гордость не дают обнять твоё нежное лицо. Я буду ждать и томиться до вечера, когда ночь нас обнимет. С помощью луны я так прильну к тебе, мой сладкий Зая, обовью твою шею и нежно – нет, нет, напротив! – горячо, с жаром припьюсь к твоим губам и буду целовать, целовать, целовать, пока оба не будем пьяные. Как хотела бы быть твоей спутницей… Горе и радости делили б без обиды пополам. Тебе кучка – мне кучка. Обе равные. Я готова ждать. Лишь бы знать, что твоё пылкое сердце стремится к моему ещё более пылкому. Меня просто бросает в жар, когда вижу твой почерк на конверте. Ещё больше бросит в жар, когда увижу твой образ. Почему не вышлешь свою фотку? Жаль? Или нет грошей? Ведь любишь. А кто любит, тот исполняет все капризы. Сколько тебя не видела, а образ твой всегда передо мной. Эха, Зая, как хорошо быть вместе!
Сашок, опиши подробно о себе с самого раннего детства и мечты на будущее. О своей семье и товарищах. Есть ли у тебя там девушка? (Я всё ещё сомневаюсь.) Молодость требует порой то, что невозможно исполнить. Очень прошу, напиши, с какого ты года, а то я столько тебя знаю, а вот с какого ты года не знаю.
Мой Зая, я с тобой поговорила. Так легко на сердце стало.
Да! От уличных прилипальчиков я слыхала, что я похожа на какую-то Кармен. Ты не знаешь, кто эта Кармениха? Ну да ладно… Пиши каждый день, а то сомневаться буду в верности твоих чувств. Вот ещё что волнует меня и очень даже. Сдал экзамены или нет? Я столько ждала из Воронежа письмо: хотелось ободрить, поддержать в трудную минуту. Почему не написал? Забыл? Некогда? Переживал? Дома я очень весело отдыхала. Веселье было исключительно разнообразное. А сейчас иду умываться и спать, почерк дурной стал и глазам больно: с дороги устала. Из дома только.
На этом кончаю свою филькину грамоту, не обижайся и не упрекай за прямоту, мой тюльпанчик сериглазый.
В будущем безраздельно твоя Тоня Зиброва.
Как же, как же…
Держи, Кармен, шире!
1960
Сандро
Кто всегда смеётся – дурак, кто никогда не смеётся – несчастный.
Подъём большой – и спуск трудный.
Грузинские пословицы
Под одной красной черепичной крышей жили столовая и магазин.
Верховодил в магазине «самый длинный Сандро» с тонкими прозрачными пальцами, как у неврастеника.
Какой продавец!
Про него даже газеты писали, что он «настоящий боец на фронте культурного обслуживания покупателей».
Эта страсть к культуре появилась у него после одного очень пикантного приключения.
Приходят раз к нему трое работяг:
– У нас тут пожар… Шланги горят![2] Дай одну на троих. Надо ж тушить!.. Долг запиши в тетрадку.
– Ваймэ! Нэт, дорогие друзиа.
– Для друзей да ещё дорогих всегда есть.
– Нэ всэгда, – усомнился Сандро.
– Так будет всегда! – было ему авторитетно обещано.
Часов в десять вечера Сандро прикрыл свою лавочку, пересчитал выручку и, довольный, насвистывая «Сулико» после честного трудового дня, резво затрусил к себе в новенькую походную избушку, которая, как символ вольнолюбия хозяина, стояла не на курьих ножках, а на арбе с колёсами. Только он эдак благородно щёлкнул за собой крючком, как его закрыли на вертушку.
Сандро не спопашился, как лёгкая деревянная его летняя резиденция перевернулась и закачалась на заботливых руках.
Её несли.
Сандро лежал, как он потом рассказывал, спиной на стене, ставшей полом, и усердно звал родительницу в освободители от тёмных сил.
Он вмиг умолк, когда очутился в воде. Тут Сандро своей чугунной головой снёс дверь с петель и вынырнул.
Фу ты!
Его бросили в круглый цементированный бассейн с высоко выступавшими над водой осклизлыми боками, который был на взлобке посёлка и издали смотрелся кратером на Везувии.
Сандро понял, что матушка его зова не услышит, а потому стал выкрикивать безадресные мольбы о помощи.
– Бей водяного! – услышал Сандро, и в бассейн посыпались градом пустые бутылки, банки и даже невесть откуда взявшиеся старательно обглоданные рыбьи позвонки.
Сандро в мгновение ока оценил соотношение тёмных и светлых сил и прибился к берегу, откуда бросали.
Баталия утихла.
До ограды не дотянуться. Стать на дно в бутылках – захлебнёшься. Правда, это не обязательно, если сможешь отхлебнуть с десяток цистерн. Но такой вариант не по зубам Сандро, и он тоскливо взобрался на свой катафалк и простоял, продавая дрожжи, на нём до утра по грудь в воде.
Он слышал, как к его резиденции подбегали ночные клиенты и, не найдя её на месте, не ударялись в панику, лишь торопливо расплёскивали сахарок в районе колёс, ворча снисходительно:
– Какой-то жлобина пожадничал и уволок для персонального удобствия.
Утром Сандро извлекли из бассейна посредством верёвки и отвезли в город к врачу, потому что Сандро взял моду бить себя по чердачку и причитать, по временам кусая несъедобные локти:
– Зачем ты меня, мама, с такой дурной головой родила!?
Голова не носовой платок, не купишь в магазине. Дефицитный товар. Не достанешь из-под полы, а в открытой продаже тем более.
Вот после рассказанного случая всё это Сандро намотал себе на ус, и у него появилась нервная страсть к культуре.
Теперь, когда у него спрашивали то, чего нет, он молча тащил покупателя за прилавок, сбрасывал всё с полок небьющееся на пол:
– Смотри!
Потом властно вёл перепуганного покупателя на склад, переворачивал всё вверх дном:
– Смотри, родной, дорогой! Нэту!
А потом на три дня закрывал магазин, чтобы привести в божеский вид своё хозяйство.
На дверь же вешал записку:
«Пашол на палчиса пакюшат шашлик на патружка».
Теперь кидало в жар Сандро и отсутствие присутствия бумаги.
Ну да! Той самой, для обёртки.
А без неё ни а, ни бэ, если желаешь культурно обойтись с товарищем покупателем.
И хитрый Сандро нашёл выход.
Он подружился с дядей Федей.
Дядя Федя – комендант. Человек для каждого из нас важный. Пусть он не отец-кормилец, но отец спокойствия.
У дяди Феди нет руки.
А ту, что есть, левую, моет он интересно. (Тётя Надя, жена, не любит его и никогда ему не поможет.) Из толстенной алюминиевой кружки он набирает воды в рот, обливает столб, который держит перила и карниз крыльца, намыливает мокрый кусок деревяшки и трёт об него левую свою со всех сторон – от ногтей до плеча. Потом поливает на руку изо рта, продолжая ею тереть – смывает мыло. При этом на его лице столько брезгливости и отчуждения, что, кажется, он жалеет, почему война не оторвала и левую.
Столько отчаяния в нём было каждое утро…
Конечно, наши тимуровцы не могли пробежать мимо чужой беды. Они составили график, и по утрам приходили поливать на руку дяде Феде и ревниво набирали себе очки.
Раз тётя Надя подкараулила и так выдрала за уши Витьку Стадникова, что теперь ни одного тимуровца палкой не подгонишь к дяде Феде и калачом не заманишь.
Свой выпад тётя Надя прокомментировала так:
– Пусть поменьше прикладывается! А руку он не на войне посеял. Оттого отнялась – больно много чарок за себя вылил. Он же не пьёт! За себя только льёт!
Что так, то так. Ни убавить, ни прибавить.
Дядя Федя ко всем вхож, как медный грош. Почтальон!
Именно это и обратило к нему взор Сандро.
Дядя Федя был из того сорта людей, которые, случайно сделав кому-нибудь приятное, не могут уйти, не получив, сами понимаете, вознаграждения.
За почтой он бегал раз в неделю, в трудный понедельник.
К нему приходили сами или он, подкараулив и нагрянув на адресата у пивной стойки, говорил нехотя:
– Тут тебе прислали. На. Потом прочитаешь. А то пиво кончится.
У него был нюх, присущий, видимо, только почтальонам. Он по почерку угадывал, о чём писали. Если радостное – он мог уйти за пять километров на плантацию, где работал человек, и, сияя, вручить письмо.
При этом, конечно, он не спешил уходить.
Письмо читалось вдоль и поперёк, потом обсуждалась с подчёркнутым энтузиазмом каждая строчка.
Инициатива, естественно, была в цепких руках дяди Феди.
Подходил обед.
Почтальон и владелец письма, мило перетирая свежие и позапрошлогодние новости, заходили в магазин.
Расчувствованный письмом человек покупал за труды дяде Феде гранёный стакан зверобоя. Это полагалось за радость по таксе, установленной безапелляционно самим почтальоном.
Потом он весёлым шагом отправлялся в посадку, клал гору газет в головы и сосредоточенно читал все письма на тот случай, что они имели необъяснимый для самого почтальона обычай пропадать. Так он хоть скажет беднягам, что там было. Любопытство его никогда не мучило.
Едва дядя Федя слипал глаза, как из засады выбегали резвые пионеры-второсменники, выхватывали из-под головы все газеты и письма и со спокойным достоинством несли в родную школу. План по макулатуре надо же как-то выполнять. Это взрослые могут на корню план зарубить, а детям это сделать высокая сознательность не позволяет. План они всегда дают любой ценой, как и взрослые.
За такой оборот дела никто не обижался.
У почтальона и без того горя хватало. Все ему сочувствовали. Нет у человека руки, не любит жена. До чужих ли писем тут? К тому же он комендант, тамада всех весёлых мероприятий. А где комендант, там и радость. Ну, как на него поднимется язык? Да и стоит ли из-за каких-то писем и газет! Газет ещё пришлют, журналисты без дела не сидят. Кому нужно, тот и письмо ещё раз начирикает. Ничего с ним не случится.
И вот тут-то вышел из тени на свет предприимчивый Сандро.
– О мудрейший! О высокочтимый Фёдоре! – лихо закручивал он игольчатый кончик чёрного уса. – Зачэм тебе терять газети где-то? Приноси мне, я – тэбе! – Сандро ловко расставил пальцы на высоту гранёного стакана. – Не бойся. Я тэбя нэ обману. Ти не покупател.
– Как-то совестно не носить хоть раз от разу, – набрасывает цену дядя Федя.
– Воскресни газэт я не трону. Эйо будэшь отдавать. Эсли спросят, где остальние, ответь: зачэм тебе зря тратить времю? Читай в воскресни статью «Мир за неделю» и всё будэт ясно, как дважди два – пятизвёздочни коньяк! И ти доволен, и я культурно работаю. Счастливи и наш общий друг товарищ покупател и читател: несёт селёдку нэ в кармане и нэ в кэпке, а в свежи газэт. Можэт и почитать, пока идёт на доме. Во-от на какую високую висоту поднимэт Сандро Квирикашвили торговлю на селе!
Знал, куда стрелял.
Проблеснули в газете портрет его и покупательская похвалюшка:
«Нет слов, чтобы выразить благодарность продавцу нашего посёлка Квирикашвили. У него всегда чистые руки, доброе сердце и обёрточная бумага. Пусть приезжают и поучатся продавцы у него, как надо обслуживать славных сельских тружеников!»
Хорошо, что никто не приехал перенимать опыт.
1961
Конкурс невест
Куда скачет всадник без головы, можно узнать только у лошади.
Б. Кавалерчик
У меня два брата.
Николай и Ермолай.
Ермолаю, старшему, тридцать три.
Мне, самому юному, двадцать пять.
Я и Ермолай, сказал бы, парни выше средней руки.
А Николай – девичья мечта. Врубелев Демон!
Да толку…
И статистика – «на десять девчонок девять ребят» – нам, безнадёжным холостякам, не товарищ.
Зато мы, правда, крестиком не вышиваем, но нежно любим нашу маму. Любовью неизменной, как вращение Земли вокруг персональной оси. Что не мешает маме вести политику вмешательства во внутренние дела каждого.
Поднимали сыновние бунты. Грозили послать петицию холостяков куда надо.
Куда – не знали.
Может, вмешается общественность, повлияет на неё, и мы поженимся?
Первым залепетал про женитьбу Ермолай.
Он кончил школу:
– Ма! Я и Лидка… В общем, не распишемся – увезут. Её родители уезжают.
Мама поцеловала Ермолая в лоб:
– Рановато. Иди умойся.
Ермолай стал злоупотреблять маминым участием.
В свободную минуту непременно начинал гнать свадебную стружку.
Однажды, когда Николайка захрапел, а я играл в сон, тихонечко подсвистывал ему, Ермолай сказал в полумрак со своей кровати:
– Ма! Да не могу без неё!
Это признание взорвало добрую маму.
– В твоей голове ветер!
– Ум! – вполголоса протестовал Ермолай. – У меня и аттестат отличный.
– Вот возьму ремень, всыплю – сто лет проживёшь и не подумаешь жениться!
Кавалер – хны, хны.
Я прыснул в кулак. Толкнул Николашку и вшепнул в ухо:
– Авария! Ермолка женится!
– Ну и ёпера!
– У них с Лидкой капитал уже на свадьбу есть. И ещё копят.
– Ка-ак?
– Он говорит маме: Лидке дают карманные деньги. Она собирает. Наш ещё ни копейки не внёс в свадебный котёл.
– Поможем? – дёрнул меня за ухо Коляйка. – У меня один рубляшик пляшет.
– У меня рупь двадцать.
Утром я подкрался на цыпочках к сонному Ермаку и отчаянно щелканул его по носу. Спросонья он было хватил меня кулаком по зубам, да тут предупредительно кашлянул Николаха. Ермолай струсил, не донёс кулак до моих кусалок. Он боялся нашего с Николаем союза.
Я сложил по-индийски руки на груди и дрожаще пропел козлом:
– А кто-о тут жеэ-э-ни-иться-а хо-о-очет?
Ермак сделал страшное лицо, но тронуть не посмел.
От досады лишь зубами скрипнул.
– Вот наше приданое, – подал я два двадцать (в старых). – Живите в мире и солгасии…
Я получил наваристую затрещину.
Мы не дали сдачи. На первый раз простили жениху.
В двадцать пять Ермак объявил – не может жить без артистки Раи.
– Это той, что танцует и поёт? – спросила мама.
– Танцует в балете и поёт в оперетте.
– Я, кажется, видела тебя с нею. Это такая некормлёная и высокая?
– Да уж не низкая…
– Сынок! Что ты вздумал? В нашем роду не было артистов. Откуда знать, что за народ. Ты сидишь дома, она в театре прыгает и до чего допрыгается эта поющая оглобля… Не спеши.
При моём с Николаем молчаливом согласии премьер семьи не дала санкции Ермаку на семейное счастье.
Ермолай был бригадиром, а я и Николай бегали под его началом смертными слесарями.
Свой человек худа не сделает.
Эта уверенность толкала на подтрунивание над незлобивым «товарищем генсеком», как мы его прозвали.
Когда у Ермака выходила осечка с очередным свадебным приступом и он не мог защитить перед мамой общечеловеческую диссертацию – с кем хочу, с тем живу, – мы находили его одиноким и грустным и, склонив головы набок, участливо осведомлялись:
– Товарищ генсек! Без кого вы не можете жить в данную минуту?
Если он свирепел (в тот момент он чаще молча скрежетал зубами), мы осеняли его крестным знамением, поднимали постно-апостольские лица к небу:
– Господи! Утешь раба божия Ермолая. Пожалуйста, сниспошли, о Господи, ему невесту да сведи в благоверные по маминому конкурсу.
Бог щедро посылал, и Ермиша встречал любимую.
Ермак цвёл. Мы с Коляхой тоже были рады и частенько по утрам, проходя мимо проснувшегося Ермака, я яростно напевал, потягиваясь:
Ермак беззлобно посмеивался и грозил добродушным кулаком:
– Не напрягай меня. Лучше изобрази сквозняк!.. Прочь с моих глаз… Живей!.. Не то…
Год-два молодые готовились к испытанию.
Удивительно!
Мама квалифицированно спрашивала о невесте такое, что Ермак, сама невеста, её родители немо открывали рты, но ничего вразумительного не могли сказать.
Мама спокойно ставила добропорядочность невесты под сомнение. Брак отклонялся.
Паника молодых не трогала родительницу.
– Для тебя же стараюсь! – журила она при этом Ермолая. – Как бы не привёл в дом какую пустопрыжку!
Раскладывая по полочкам экзекуторские экзамены, Ермолай в отчаянии сокрушался, что так рано умер отец. Живи отец, сейчас бы в свадебных экзаменаторах была бы и наша – мужская! – рука, и Ермолай давно бы лелеял своих аукающих и уакающих костогрызиков.
Столь крутые подступы к раю супружества заставили меня и Николая выработать осторожную тактику. Объясняясь девушкам в любви, мы никогда не сулили золотого Гиндукуша – жениться.
По семейному уставу, первым должен собирать свадьбу старшук. Ермолайчик. А у него пока пшик.
Мы посмеивались над Ермолаем.
Порой к нашему смеху примешивался и его горький басок.
С годами он перестал смеяться.
Реже хохотал Николайчик.
Я не вешал носа.
С Ермолая ссыпался волос. Наверное, от дум о своём угле. Потвердевшим голосом он сказал, что без лаборантки Лолы[3] не хочет жить.
– Давай! Давай, Ермошечка-гармошечка! Знай не сдавайся! А то скоро уже поздно будет махать тапками! – в авральном ключе поддержал Николя.
А мама сухо спросила:
– Это та, что один глаз тудою, а другой – сюдою? На вид она ничего, ладная, а глаз негожий. Глаз негожий – дело большое.
– Ма!.. В конце концов, не соломой же она его затыкает!
– Сынок, дитя родное, не упорствуй. Ты готов привести в дом Бог знает кого! На, убоже, что нам негоже! Тогда не отвертишься. Знала кобыла, зачем оглобли била? Бачили очи, шо покупали? (Мама знала фольклор.) За ней через пять лет присмотр, как за ребёнком, нужен. Глаза же!
– Ма!.. Мне уже тридцать три!
– Люди в сорок приводят семнадцатилетних!
Теперь все трое не смеёмся.
На стороне Ермолая я и Николай.
Мы идейно воздействуем на слишком разборчивую в невестах маму.
Ермолай бежит дальше. Устраивает аудиенции Лолика и мамы, как очковтиратель профессионал раздувает авторитет избранницы, убеждает, что золотосердечная Лолушка-золушка не осрамит нашей благородной фамилии.
Лёд тронулся, господа!
Мама негласно сдаёт позиции.
Возможна первая свадьба.
Лиха беда начало.
1961
Квартиранты
Весенние фантазии
Нет ничего плохого в том, чтобы делать иногда хорошее.
Г. Малкин
Что ни говорите, у Софьи Даниловны и у студента Каюкова вкусы разные.
Разошлись они, как уверяет её светловолосый[4] чичисбей бухгалтер Недайбогпропадёткопейка, на весенней почве. У неё по весне жёлчные пузыри, словно почки на дереве, лопаются.
Из-за квартирантов!
Пятнадцатого апреля она скликает их на кухню на конференцию и по случаю приближения лета читает домашний приказ, выстраданный ею в долгие зимние ночи. В нём намечено: минимум подходов к телефону («Если б автомат установить!»); не назначать по нему свиданий («очереди будут»); жечь свет в исключительных случаях: отбой в десять («ещё видно»), подъём в семь («уже видно»). Ослушники подлежат выселению.
Когда маленькая чванливая Софья Даниловна демонстративно покинула кухню, открылось собрание самозванной ассоциации квартирантов.
– Братики! Звонить будем! Но сначала у телефона повесим кисет из-под табака, как у Тараса Бульбы. И прежде чем снять трубку, опусти монету. Нет монеты – бросай два кусочка сахара. Или папиросу. Что есть.
– Жечь свет – сколько наука прикажет!
– Други! Не беги к куриному отбою. Интересный роман – не спеши прочесть. Для влюбленных распахнуты окна, если дверь заперта и ключи у хозяйки!
– Заговорщики! Она слышнула! Сидит на веранде и ненаглядный кадревич Недайбог возлагает ей на белый лобик примочки.
– Да бросьте вы, шлепокантрики! – предлагает неунывака Каюков. – Пускай остаются им примочки, жёлчь, копейки. На улицу! Познакомлю вас с весной. Я – весенний экскурсовод!
Разноцветная а капелла бредёт по тротуару.
Каюков входит в роль:
– Перед вами – цветы, улыбки, девочки. Сколько девочек! Что наделала с ними Весна! Зимой они были воинственно неприступны. Их красные, синие, белые, шапочки-колпаки я сравнивал почему-то с военными касками и никаких чувств не питал: безразличен к солдатам. Теперь девочки разоружились и вместо шапочек-касок – хвостики на затылочках и у самого уха – брошь-локатор. Разведывают, кому б понеотразимей улыбнуться. Весна!
– Стойте, рыцари! – Каюков подходит к горрекламе. – Читаю объявления. «Только к нам идите! Мелкий ремонт обуви производим на ходу. Быткомбинат».
Ребята рассмеялись.
– Тише. «В лесу потерялась такса три недели назад. Окрас рыжий, была одета в красную шлейку. Девочка очень контактная, идёт ко всём людям. Телефон 425-81».
– Все на поиски контакта! – гаркнула компания.
– Все так все, – соглашается Каюков. – Идём… А пока перед вами…
Остановились.
С месяц назад здесь были три ветхих домика. Теперь – строительный пейзаж. И кто на переднем плане!
– Бредите, куда знаете, – сказал Каюков ребятам. – Экскурсия окончена!
– Понимаем-с! – галантно простились с ним друзья.
На переднем плане строительного пейзажа – она. Девушка пролетарского вида. В синей спецовке. Талия – тростник. Очи с кулак, ланиты – заря…
Девушка помахала на кран, сняла рукавицы и присела на перевёрнутую носилку.
Над головой поплыла кирпичная клетка.
– Скажите, – Каюков набрал полную грудь воздуха, словно готовился пойти на дно речное, – кто эти парни и девчата? Вы строите земной филиал рая?
Она умно улыбнулась.
– Почему филиал? Дом молодожёнов. Пятиэтажный рай!
Каюков околдован. Почувствовал – он ничто без чародейки.
Они споро укладывали рыжие плитки.
Каюков добросовестно обливался по`том.
Аля то и дело, смешливо поглядывая на него, сдувала со лба зернистые капли.
Клетка поднялась.
Каюков плюхнулся на груду кирпичей и стал интеллигентно помахивать ноздреватой шоколадиной, как веером. Жарко!
Он узнал об Але всё.
Приехала из района. Ткачиха. Хотела быть семядолей.[5] Да передумала. Ходит на подготовительные в его строительный, любит Райкина и без ума от серьёзной музыки. Не терпит ухаживаний. Принцесса с проспекта Недотрог!
– А почему вы здесь после смены работаете? Вас здесь поселят?
– Что вы! Просто так! Тут будут жить мои подруги. Это даже романтично – строить первый в городе дом молодожёнов. История!
– Собираетесь застрять в истории?
– Ничутельки! А сами-то?
Каюков машинально дадакнул и вздохнул…
К отбою он не успел.
Едва перевалился через подоконник – братва подхватила его на руки и понесла по комнате.
– Дорогой товарищ экскурсовод! – сказали ему после круга почёта, которого удостаивался каждый влюбленный, вернувшийся со свидания. – Расскажите о последнем экспонате. Мы ждали!
За деревянной перегородкой до рассвета ворчливо кашляла Софья Даниловна, а вся капелла, растроганная повестью о фее, шёпотом философствовала о девичьей красе.
Никто даже не зевнул.
Зевок сочли бы кощунственным и поколотили соню.
Настало лето.
Каждое свидание начиналось на стройке.
Каюков убивал сразу двух зайцев. Проходил институтскую практику. Во-вторых, нравилась строить для людей. Просто так. Просто с любимой девушкой.
По осени он пригласил Алю к себе.
Серебрились окна.
Они сидели на подоконнике.
– Ого! – удивилась Аля. – У вас сад, и ты молчал?
– У Софьи Даниловны.
– А ты разве здесь никто?
Она взяла его за руку и потащила к яблоне, щебеча:
– Я так люблю свежие яблоки!
Каюков упирался.
Подкараулит Софа – пиши заявление завраем, чтоб принял в подведомственный ему союз небожителей. В институте тарарам поднимет!
Алины пальцы юркнули меж ветвей. В руках – крупнющее яблоко.
Повертела. Подула. Откусила.
– Кусай! – подала яблоко на вытянутых пальчиках.
Он добросовестно откусил.
Так, наверное, лишились рая, почтенные дочери Евы и сыны Адама, наши небезызвестные предки.
Однако надо что-то придумать. У Софы, может быть, записано, где какое яблоко висит.
– Эврика! – выпалил Каюков. – Рви!
– Это похоже на воровство. Разве не хватит одного?
Каюков сунул в карман четыре яблока – и из сада.
Разыскал свою старую рубашку, отполосовал пять лоскутков, завязал в каждый по десять копеек и повесил на ветви, где были плоды.
Эффект – неописуемый.
Наутро, заметив пропажу, Софа застонала. Присмотрелась – недоверчиво сняла один узелок. Развязала – быстренько сорвала остальные, спрятала под передник:
– Так и на рынок не надо носить, – пересчитала мелочь. – Только бы пса у Бухтияровых на ночь выкляньчить.
Она догадалась по лоскуткам о ночном покупателе.
Каюков переправил студенческие пожитки на новую квартиру.
Перед Рождеством Аля показала ключ:
– Сегодня тот дом распределяли! В штабе кооператива говорят: «Десять комнат свободных. Одна – ваша» – «Зачем? Я ж одна!» – «Век одной не будете; Да вы работали с первого дня до последнего». Не отбилась. Нет у меня настойчивости. Что с комнатой делать? Ну, давай думать!
Думали…
Думали…
Сыграли свадьбу.
1962
Как вернуть утраченную любовь
Трудно не делать глупостей, если на них хватает ума.
В. Сумбатов
Это началось накануне полёта в космос первого холостяка. То было на его родине.
Стоял август.
По Волге-океану гуляли белые теплоходы. Усталые волны с ленцой выползали на пологий пляж, да с неба, ясного, как девичьи глаза, струилась нежная теплынь.
А публика!
Ей тесно, как в предпраздничном чебоксарском автобусе. Даже негде упасть погреть свои кости.
Ага!
Вон у грибка крохотный песчаный пятачок.
Разоблачаюсь.
Я нырнул и пошёл себе на дно.
Грех мой – иду вслепую. И только б-бам!
Из глаз брызнул приличный сноп искр.
«Подводное нападение? Наверх!»
Едва глотнул я воздуха – под носом, тем самым носом, который на семерых рос, а мне одному достался, вынырнула русалочка. Афродита из речной волны! Улыбнулась. О Боже! За такую улыбку отдал бы миллион. В новых – какой разговор! – хотя за душой ни гроша.
«Какая прелесть! Какая прелесть! И встретил на дне с закрытыми глазами!»
Во мне заклокотало рыцарство.
Я смело протянул ладошку уточкой и назвался.
Мы долго плавали наперегонки, ныряли, ходили по дну на руках – всё это звенело в моей груди божественной мелодией первого свидания.
Безынцидентно прошёл первый испытательный, пилотный поцелуй.
Я рассчитывал на не слишком резкую пощёчину и недолгую обиду синеглазки, а получил трогательную уверенность во взаимности.
Бог миловал и на персональных смотринах в Валином доме. В вечернем костюме я чувствовал себя, как манекенщик при показе сомнительной новинки модной мысли.
Ценители – Валя и её мама, кандидат в тёщи.
Я, кажется, произвёл впечатление.
Я свободнее вздохнул и даже рискнул посмотреть самой тёще в глаза. Слово чести, она, как и её юное чудо, понравилась мне с первого взгляда.
Прекрасно всё шло к финальной ленточке, которую предстояло разрезать в загсе.
Второе сентября.
Прибывает космонавт.
Улицы с рассвета запружены. Илья-пророк, завотделом дождей небесного управления «Гром и молния», из зависти к космонавту льёт ливмя.
Но когда над городом пронесся на боку ТУ-сто с лишним, тучи расступились, и заулыбалось солнце. Вместе с нами оно приветствовало первого космонавта-холостяка.
Космонавт, крепко сбитый милый парень с очаровательной родинкой («милый» и «очаровательный» – первые Валины слова при виде гостя), стоя в открытой «Волге» скользит по узенькой асфальтовой реке с людскими берегами.
Вот он на площади.
На трибуну плывут цветы.
Понесла и Валя тот самый букет, который я преподнёс ей сегодня.
Подаёт космонавту.
Тянется на ц-цыпочках… ц-целует…
Я вздохнул, примирительно закрыл глаза.
Открываю – поцелуй продолжается! И продолжение следует!
В моей груди что-то оборвалось, упало к ногам.
Я весь увял.
Я шатаюсь незамеченным в бурливой толпе.
Площадь ликует.
А я думаю:
«Все мы любим космонавтов. Но зачем это так выпукло подчеркивать столь долгим поцелуем на глазах у бедного жениха?»
Слава Богу, поцелуй кончился. Они смеются.
Плакал мой покой.
Пока гостил космонавт, Валя была на всех с ним встречах. Правда, среди встречающих.
«Чтобы полюбила по-прежнему, надо стать тем, от кого она сейчас без ума», – философски заключил я и приплёлся в аэроклуб.
От меня открестились. Слабак!
Вале, между прочим, торжественно объявил – записался в космический кружок!
Валя несказанно обрадовалась.
На её весах любви я, кажется, дал щелчка небесному отпрыску.
Чтобы укрепиться в этом, я уходил из дому в часы, которые хотел проводить в космокружке, тоскливо отсиживался за аэроклубом в тихом бесопарке Гагарина. И грустно размышлял о времени, о Вале, о себе, опасаясь встреч со знакомыми.
Космонавт улетел.
Я купил гантели.
На Валиных глазах поднял на вытянутые руки два пуда.
Валя застыла в восхищении.
Я напрягся, зашатался.
Валя воскликнула:
– Милый! Я вижу, как тернист путь в космонавты! Но ты настойчив, ты им будешь! Правда?
Я отрешённо пролепетал:
– Наверное…
Мы поженились.
О тёще (какое грубое слово!) задумал поэму в трёх частях: детство, отрочество, юность.
В меня сатирик может разрядить фельетон.
Всё так же пять раз в неделю я скрываюсь в глуши гагаринского парка и нервно грызу кончик уже сотого карандаша. Творю.
В самозаточении вчера закончил пролог.
Героиня глубоко лиричной поэмы наверняка спасёт меня в час грядущего разоблачения.
Я не вешаю носа.
1963
Третий билет
Они вошли и в автобусе МВН 21–20 стало как-то видней.
Юноша – сама свежесть, сама молодость – провёл под локоток к сидению свою спутницу. Тихую, светлую.
Сосед, дремучий дедуган, деликатно зевавший, просиял, как несмышлёныш. Локтем пнул меня в бок.
– Смотри! С нами едет Весна! Писаная красавица! Жемчужинка!
Академический бородач восторженно выхватывал из тайников древнего сердца самые яркие эпитеты и безотчётно стрелял ими в прелестницу.
Молодые не слышали его.
Они сидели молча, смотрели друг на друга и улыбались.
Девушка вмельк обернулась.
Ой и глаза!
Столько тепла, что в них может наверняка сгореть весь белый свет. Может и отогреться. И ясные синие угольки дарили молодое тепло вихрастому принцу.
К ним глыбисто придвинулась кондукторша.
– Три, – подал монету юноша.
Кондукторша пошатала плечами.
– Вас же двое?
– Трое.
– ?!
Юноша привстал. Наклонился к самому лопушку уха кондукторши и торжественно доложил:
– Трое нас. Она (взгляд на девушку), я и наша любовь. Наша любовь уже взрослая. И зайцем не хочет ездить.
Пассажиры засияли.
Я – тоже.
А. Я. Безбилетный. 20 января 1963
Маневры женского сердца
Женщины – лучшая половина человеческих бед.
Г. Малкин
Да кто ж его знал, люди добрые, что свахе взаправде и первая чарка, и первая палка, и вестка в суд?
Намудрёхала я на свою головушку.
Как моргать перед судом праведным, народным?
Я вам как на суду божьем выкладу своё горе. Всё легче…
Муж у меня, две девочки. Такие хорошули! И муженёк пригожий. Без хвастовства.
Живём как люди.
Всё б ладно, да во мне, в ходячем пережитке, бес свахи засел. Так и подмывает то помирить кого, то познакомить да навсегда свести.
Три пары сроднила. Живут!
А на четвёртой повестку притаранили в суд!
Ну…
Как-то распотрошили Малаховский райсобес и тамошнего инспектора Тонюню Амплееву перекинули к нам. На укрепление.
Учёная, не замужем.
– Надоело, – жалуется, – молодиться.
Я будто ждала:
«Бегает у меня на примете один бесхозный партизаник. Может, глянешь?»
«А чего? Давай!»
Восьмого Марта обоих привела на вечер в дом культуры.
Со стороны показала её ему. Мой Матушкин (интересная фамилия, когда читаешь с хвоста) аж затрясся:
– Хор-роша до поросячьего визга!
Показала потом его ей. На вздохе доложила она:
– По нашей бедности беру на баланс.
В перерыв ненароком столкнула.
После вечера проводили они меня до калитки, простились честь по чести со мной, и пошли ворковать мои голубята.
Тоня – нерослая, хрупкая. Но пальца в рот не занашивай.
А Иван такой смирнуша… На курицу не посмеет косо глянуть. С лица судьбой не объегорен, да хватки нет в делах сердечных. Живёт напротив, всё канючил: подзнакомь да подзнакомь с кем-нибудь. За тридцать, а девушки нет.
Ну…
Сжалилась я да и возьмись в год кролика женить старого холостяка.
Редка девушка ни на кого не держит сердечных видов.
Заговорила с Тоней.
– Что вы! – вздохнула. – Никого! Одного служивого семь лет заочно обожала. Товарка адресок удружила. Ка-ак он писал! А потом заглох, как танк. Я его письмами чай вскипятила. И всё.
Раз она обронила – есть на прицеле в Малаховке какой-то Сергей. Очень юный, очень красивый и совсем ей не пара.
Я не придала значения этому компоту.
А этот Сергуня и смажь все мои хлопоты!
Ладно. Про Сергуху потом…
Ходят мои молодые, ходят…
Ей жужжу про него – ангел, золотой и всё остальное такое. Ему про неё – то же.
Вижу, Иван без её согласности не дыхнёт. А ей хоть бы хны.
Знай она ноет:
– Тоска-а с ним. Придёт вечером… Я читаю. Сядет напротив, вымолчит часа два и уплёлся. Ни в кино, ни на танцы-скаканцы. Мученье без взаимности, а не любовь!
– Ничего. Распишетесь – слюбитесь!
Перед Маем Тоня увеялась в Малаховку в командировку на полтора месяца.
Заявилась до срока и пылает вся нервною любовью:
– Сваха! Поговори с ним. Сегодня или никогда!
Я Ивана в обточку.
А он, сердечный, остолбенел:
– Тако вразушки?!.. Как кирпичиком из-за угла… Сегодня и нельзя – воскресенье. Загсок на отдыхе.
Расписались они в понедельник утром.
Как я была счастлива! Наверное, больше молодых.
Их поздравляли все.
Заведующая райсобесом дала Тоне трехдневный отпуск.
Но Тоня сказала – снова поедет в Малаховку довершать командировку.
Её уговаривали, да она была неумолима.
– Мамочка! – звонила в Малаховку. – Радуйся или плачь. Я вышла замуж!
– Ты ж ещё вчера не заикалась!
– Вчера было вчера. А сегодня я, мама, законная жона! Встречай!
Все зажужжали: нехорошо в первый час замужества покидать законного супруга!
Тоня махнула рукой и пошла, покачивая гордыми бедрами, к автобусу.
– Не к добру, – выдохнули райсобесовцы хором и стали гадать, будут ли жить молодые.
В субботу она нагрянула в наши края в победном сиянии. Тут насыпались матушкинские родичи, и спелась вечеринка.
С полувечера Тоня нахохлилась, как курица на яйцах, обхватила голову руками и отвернулась от жениха.
Дом так и замер.
Иван раскис, не знает что делать.
Показываю: обними!
Он опасливо обвил талию и таращится на меня. Что дальше?
Вижу, рука плеть плетью висит, подрагивает. Где ж там нежности выскочить?! Показываю: поцелуй, позвони вниз! Дзынькни крепенько хоть разок!
Вспотел, растерянно пялит глаза то на меня, то на Тоню.
Отдохнул малость.
Решился, потянулся.
Она брезгливо оттолкнула.
Всё разгуляево онемело.
Жених безмолвно – в слёзы.
Его матушка и воскликни:
– Господи! Да это ж слёзы божьей радости!
Вызвала я в сени Тоньку.
Так и так, что ж ты, кнопка бесчувственная, сваху в грязь благородным лицом? Я ж тебя ангелом навеличивала! А ты что творишь, шизокрылая?
И знаете, что она отчебучила? Век не буду сводней:
– Не любила я Ивана!
Встречалась с ним, а сохла-вяла-убивалась-страдала по Сергею.
Я-то не могла распознать.
Он ихний, малаховский попрыгун.
И те полтора месяца с ним поплясывала.
Узнал Сергей про Ивана да нашей Антонине от ворот крутой поворотишко. В воскресенье женился на другой.
Тонька ему:
– Думаешь, меня не любят? В понедельник жди замужней!
Так и выбежало.
Расписались.
Прилетела к Сергею и щёлк по носу брачным свидетельством:
– Ну! Облопался белены!?
Доказала…
Осрамилась!
И меня туда же…
Боже! Ну и нахлебная нынь молодежь. Сойтись сами не сойдутся. И разойтись сами тож не могут.
Пришлось мне и заявление за Ивана в суд писать.
Написала я ясно:
«Раз жена не проживала со мною ни одного дня и нету у неё таких желаний, прошу брак (всамделишный брак!) расторгнуть и ходатайствую о возмещении мне убытков, то есть собирали 2 (два) вечера в сумме 80 (восьмидесяти) рублей. А также прошу обратить внимание – она называла меня дураком в полном смысле этого слова».
Перепадёт ей на орехи.
Боже, мне, наверное, тоже.
Молвят, на суде товарищеском в райсобесе будет какой-то посторонний гражданин вроде корреспондента. Так вот он хочет мораль мне пропечатать, чтоб другие не промышляли сватовством на общественных началах.
Господи! Тогда со стыда хоть в лес беги. Так и отвадят от сватьиной свербёжки.
А может, корреспондента не будет?
Тогда и в лес бежать погодить?
Глядишь, какую парочку ещё сосватаю…
Надобно свою оплошку поправкой затянуть.
1963
Где наше не пропадало!
За плохую дикцию эхо ответственности не несёт.
Б. Крутиер
Эх, Русь – тройка с минусом!
А. Рас
Развесёлая картина у мокрого столба с вислыми обрезанными проводами, что стоит у самого правленческого крыльца. Человек десять вмиг нагнулись, затолкались и с тайным ожесточением начали вырывать что-то друг у друга.
Только во весь гренадерский рост невозмутимо в эпицентре толпы держался румяный гражданин с тетрадкой и властно просил, когда из-под его ног, где свирепствовали резкие людские крики и руки толпы, вылетал истошный поросячий визг:
– Тише, черти! Ти-ше! Живьяком ведь передавите!..
Из смутной толчеи вырвалась женщина со взлохмаченной головой и победно подняла за задние конечности хрячка, бросила румяному:
– Во что ценишь, Митрич?
Улей притих, слушает торг.
Пётр Дмитриевич шапку набекрень, поскрёб несократовский лоб:
– А шут его знай… Тридцать!
Кто-то разочарованно присвистнул:
– Заломил…
– Перегибаешь палку…
– И-и, правдоть насчёт палки, – с опаской добавила женщина.
– Не хошь!? – взбунтовал Митрич. – Ложь назад в корзину!
– И-и, ложь!.. – передразнила.
– Ложь! Теперько за тридцать пять твой!
Женщина сердито швырнула боровка назад в плетёнку.
– Выбирай, граждане! – призывает Митрич, и толпа снова заработала локтями.
Наконец приживил к груди покупку мужчина с расстёгнутой рубахой:
– За сколько порадуешь?
– За двадцать пять!
– Поубавь, Mитрич. Я не рыжий.
– Ну, по рукам. Восемнадцать! Где наше не пропадало!
– Пиши в свою тетраденцию.
Поросят «отпускали в кредит».
Толпа снова наступает на сани.
И снова гудит ласковая мольба:
– Тише, черти. Живьём задавите.
За какие-то полчаса бригадир Пётр Дмитриевич Кишик сплавил с молотка двенадцать колхозных поросят.
Народ растекался со стихийной ярмарки с визжащими покупками.
Мужику с расстёгнутой рубахой, видно, очень пришлось ко двору существо с пятачком, и он нежно посадил его за пазуху. Сказал:
– Хорош… Смирный.
Коробейник Кишик сияет.
Я пристаю с интервью.
У него падает бесшабашный тонус.
Он конфузливо отнекивается от славы.
– Зачем освещать?
И так доверительно:
– Выбракованных рассовал. Сдал под пашню… Могет, последний раз пищали…
– !?
– Tут ничего кислого. Вы покупали поросят? А я покупал. Купишь, бывало, в Ряжске – ничего. Принёс в мешке домой – отпевай! Дело базарное. Вот…
1963
Смерть по графику
Иногда в голову приходят такие умные мысли, что чувствуешь себя полным идиотом.
Б. Крутиер
В конце квартала бабушка взяла да и приказала долго жить.
Юная внучка Зина Ермошина ударила челом перед Кудрявцевым: отпустите на бабушкины проводы.
Цеховой отец оскорбился:
– У меня тоже, слава Богу, умирали! Но я по похоронам не скакал. Пахал, а не ручкой с мавзолея махал! План давить кто будет?
Пришелица с какой-то дерзостью противилась.
Начальник смекнул, что усопшая не явится на него с жалобой в местком, и авторитетно рубнул:
– Нет! До конца месяца – три дня. Пожалуйста, покидай она нас первого – отпускаю тебя хоть на полмесяца. Да не сейчас. А то ты погребёшь и бабушку, и план цеха. Бабушке первого не отчитываться!
Думаю я над этой катавасией, и видится мне повеленье Кудрявцева:
«В связи с тем, что цех систематически берёт план штурмом в последнюю декаду, приказываю: личные мероприятия рабочих – регистрации брака, свадьбы, похороны, дни рождения, именины – проводить только в первой половине месяца, дабы потом быть вдвойне мобилизованными на отдачу общественно-полезному труду».
1963
У подножия славы
Смешно лукавить там, где серьёзно врут.
Г. Малкин
Жили-были Витёк и Ванёк.
Не в тридевятом царстве, энном государстве, а в Триножкине.
На заре туманной юности полюбили «королеву».
Стали квадраты рисовать.
Поле – холст. «Беларусь» – кисть.
Стройная «королева» тянулась в небо, будто с выси хотела поведать, какие чудные у неё поклонники. Под ветром гимны пела им.
По осени слух о триножкинских кудесниках докатился до тружеников газетных полос.
Розовые краски мрачнеют, обстоятельства требуют явить колхозного отца Пенкина.
Жил Константин Михайлович без хлопот.
Да тщеславье подкузьмило.
Род людской не ломает копьев над проблемой, зачем человеку голова. Конечно, не только для шляпы.
Начался думающий процесс.
От нежно-розовой перспективы Константин Михайлович чуть не задохнулся и спустил тайную руководиловку: носить Ивана Матюшина на pукax, пока не вынянчим областную звезду!
Завертелись колёсики и винтики агрегата «Маякоделатель».
Первый продукт – моральный харч.
На сходках при случае и без оного Ивану запели дифирамбы. Герой нашего времени! Крой, братва, жизнь по Матюшину!
Парень клюнул.
Стали подсовывать кусочки полакомее.
Пришёл в колхоз новый трактор – Матюшину! Новый культиватор – опять Матюшину! Новый комбайн – только Матюшину!
За полтора года он надменно рисовался на двух только что с конвейера «Беларусах».
А Виктор Ларкин семь лет трясётся на одном рыдване.
Но есть порох в Викторовых пороховницах!
Завязался негласный бой правды и кривды.
По одну сторону Матюшин и колхозная свита нянек, по другою – Ларкин.
Как маякоделатели ни садились, а в музыканты не сгодились.
Осень щедрее вознаградила Ларкина.
Немая сцена в правлении.
Подумать!
Какой-то Ларкин – всем руководящим миром ни обойти, ни объехать!
Ну уж!..
Проплакала осень дождями.
Продрогла зима на ветру.
Заулыбалась солнечно весна.
Не улыбались только Иван и Виктор.
Матюшин зеленел от зависти.
Опять у Ларкина не кукуруза, а лесище!
Правленцы в момент сориентировались, и агроном Галина Лебедева безо всякой ловкости рук перенесла этикетку с 35-гектарнаго ларкинского леса на чахоточный островок Матюшина.
– Почему? – спросил Виктор председателя на комсомольском собрании.
Пенкин прикинулся шлангом. Не слышит.
Глухому можно позвонить и дважды.
– Так почему?
– Так надо! – громыхнул Пенкин.
Тут был и Матюшин. Он – комсорг.
Неосмотрительному критику воздали по полной программе.
По весне правление заключило с Ларкиным договор, обязуясь создать все условия.
Создало!
Не пустило сеять. Заставило парня возить барду.
Kак же далеко забрели очковтиратели, расчищая скользкую дорожку к липовой славе.
– В раздрае с обменом я ни при чём, – умывает руки Пенкин. – Это агроном!
Лебедева нудно распинала правду-матку, высосанную из тощего мизинца. Под конец махнула рукой:
– А! Кто ж его знал, что раскусят!
Чёрт с ними, с портфеленосцами!
Их ещё как-то можно понять в зоологической потуге расшибиться, но ослепить.
А Иван Матюшин?
Как он оказался погремушкой в их руках? Как мог заразиться звёздной чехардой и податься в светила, загребая труд даже друга, с которым рос с пелёнок?
Он что, Иван, не помнящий родства?
20 июня 1963
Такая любовь
Любовь – это такое чувство, от которого лишаются ума и те, у кого его нет.
Г. Ковальчук
Была она одна, а их было двое тёзок.
Ах, как любил её шофёр Витя-1!
А студент Витя-2!
Горячей, чем Ромео Джульетту!
Юная ветреница Ксюня Ястребок ведала: ревнивцы – доведись им встретиться! – так могут схлестнуться, что при ней засветится вакансия сердечного страдальца.
Эта перспектива её ничуть не восхищала, а потому зарубила на носу: отвечать взаимностью чичисбейкам только с разных широт. Их стёжки никогда не пересекутся!
Шофёр, местная любовь, баловал изысканным вниманием. О! Он ни перед чем не останавливался на подступах к сердцу красавицы.
Студент, «прибалтийский зайчик», письменно зондировал её сердце.
Знали бы, что палили по одной мишени…
Они любили.
И – она!
Ксюня, постигшая искусство нравиться, без удержу околдовывала воздыхателей. Богатый ассортимент женихов – богаче предсвадебный выбор!
Молодые пощипались.
Шофёр в сердцах укатил в командировку – дать улечься буре.
Едва присела пыль за машиной, как Ксюня, оскорблённо шмыгая напудренным носиком, понеслась на телеграф.
Ей так срочно загорелось замуж – аж губа трамплином поднялась!
«Витя зпт приезжай зпт если хочешь счастья тчк»
«У жениха был пришибленный вид: на него пал выбор».
Студент на радостях козлинул[6] и завертелся белкой в колесе.
Перевёлся в заочники, устроился на завод – молодая жена не будет работать! – и, сломя голову, усвистал в Сасово к Ксюшеньке за гарантированным счастьем.
Расписались в пятницу.
Свадьба – в воскресенье.
В субботу молодые пойдут в техникум за её кооперативным дипломом.
Студент ждал у газетного киоска, беспокойно долбил глазами часы.
Она засеменила на заветный угол.
В десяти шагах от встречи её нечаянно запеленговал возвращающийся из командировки шофёр.
Видимо, он прекрасно был осведомлён о революционном перевороте в душе своей шикаристки и потому погрозил пальцем. Смотри мне, коза необученная!
Жеманница удивлённо вскинула крашеную удлиненную бровь, демонстративно подняла голову. Секунда – она продефилирует мимо к тому, что ждёт за поворотом.
Тут сообразительный простак примирительно протянул ручки.
У Ксюши подкосились ножки.
– Милый! – шлёпнула она верхней губкой и попутно подумала: этот Витя самый родной! А рижанин… Ну нафига козе этот рябой баян?
Грузовик норовисто рванул.
Горький студент с минуту оторопело смотрел вслед машине. Он готов провалиться сквозь землю. Затопал ногами – асфальт не расступался.
Однако невеста почему-то не шла из головы.
Побрёл он к ней домой.
– Она ж… к тебе… – всплеснули руками домочадцы. – Попали мы с тобой в непонятное… Мы отдали её тебе под загсовскую расписку? От-да-ли. Всё честь по чести… Сам же видишь, мы не гоним тюльку косяком. И при чём тут теперь мы? Ну она ж, етишкин козырёк, к тебе пошла!
– Пошла-то, может, и ко мне…
Трое суток суженый стыдливо стучался к Ястребкам, стыдливо осведомлялся, не проявилась ли законная, и слышал стыдливый шёпот губ – нет.
На чётвертый день, так и не увидев благоверную, новобрачный, как опущенный в дёготь, поплёлся поездом в Ригу.
А Ксюня пять сладостно-жестоких дней и ночей угарно прошлёпала нижней губкой с шофёром под тёткиной крышей.
После медового месяца с нерасписанным подала письмецо расписанному:
«Витя, если можно, прости. Я постараюсь искупить свою вину и, когда будем вместе, стану достойной женой. Всю дорогу в тоске по тебе. Я хочу быть только с тобой, это решено давно. Ответ давай на тёткин адрес: Сасово, Советская, 138. Дубровиной Анне (для Ксении)».
Рижанин метнулся в развод.
Ксюня тоже не ударила в грязь лицом и в знак беды гордо хлебнула уксусу. Уксус был нашенец, советский, значит, отличный. А потому с нею ничего не случилось. Как стакан газировки оприходовала.
Как видим, Ксюня ух и тяжело переживала.
Растерялась в выборе спутничка.
Некультяпистый рижский фиглик нашпигован институтом, рай-житьё в чудном городе, уже свой феррари![7]
У шофёра, у этого недогона ушатого,[8] тоскливая семилетка, прозябание в кугутне.[9] Он почти филон.[10]
Зато шофёр красивше.
Уравниловка!
Она и посейчас не причалилась к окончательному бережку, хотя, собственно, выбора уже нет.
Застряла на нулях.
Оба Виктора не посмотрели, что у неё ноги растут из подмышек. Не посмотрели и на другое неоспоримое достоинство Ксюни: «испорченная женщина реже ломается». Ни на что не посмотрели эти гофрированные шланги, и дали Ксюрке от гнилых ворот крутой поворот.
И всё начинай сначала!
Вот что обидно.
3 сентября 1963
Молочный козел
Кто же виноват, что кроме Истории мы ничего не умеем делать?
Б. Крутиер
Была дряхлая осень.
Плаксивое небо.
Чернозём, который, по мнению очеркистов, отличается от сливочного масла лишь цветом, пополз по всем швам.
Устоялось классическое бездорожье.
– Сейчас не машине от гостиницы можно доплыть только до чайной, – авторитетно информировал почётный ветеран автогужтрснспорта.
Как бы ветеран сконфузился, увидь, что именно в эту минуту черту райгородка отчаянно пересёк уляпанный грязью козлик.
Победно пуская разбуженному рыжему псу дым в глаза, он гордо лёг на нижнеикорецкий курс.
На лицах пассажиров неприступно покоилась святая печать высокой миссии. Они деловито смотрели вперёд, готовые во всякое мгновение понести на вытянутых руках автоколесницу, если та влипнет.
В Икорце двое вышли.
Козлик, трафаретно чихнув, запрыгал далее по ухабам с прочим руководящим людом.
А икорецкие гости молодцевато выпрямились, принципиально глянули друг другу в глаза.
– Ну! – торжественно сказал тот, что повыше, потоньше и помоложе, тому, что пониже, потолще и постарше.
«Ну!» прозвучало, как хлопок пистолета на старте.
У высокого вдохновенно загорелись глаза.
Первое дело – визит конторе.
Они шумно распахивали одну дверь за другой, но никто не выбегал навстречу с хлебом-солью на расшитом рушнике.
– Где народ? На обеде? Как можно спокойно есть!?
Они даже как-то нехорошо oбрадовались, когда увидели зоотехника Анания Лыкова.
– Ага! – В их голосах дрожал металл. – Сам на курорте? Ты за него?
– Я, – обмяк Ананий.
– Рассыльный под рукой?
– Зачем?
– Он ещё спрашивает! К шести сюда – всех заведующих! Всех бригадиров! Всех помощников! Где тут у вас комсорг?
– Вот… Аннушка…
– Аня! – не переводя дыхания, продолжал высокий. – Аня! А вы умрите геройской смертью, но обеспечьте к вечеру трио дружинников по вашей линии. Нe делайте большие глаза. Напрасная трата эмоций!
Он властно отвёл её в сторону и стал с жаром объяснять.
В восемнадцать часов пять минут тридцать двe секунды по московскому времени открылась молочная конференция.
Какими речами блистали делегаты района! Бедное человечество прозябало бы в наведении ораторских жемчужин, не будь меня.
Я вовремя вспомнил о человечестве и потому всё добросовестно застенографировал.
Тот, что повыше, встал и сказал до гениальности ясно:
– Товарищи! Вон товарищ улыбается. А на улыбку нет оснований. Наоборот, кое-кому может обломиться! Район взялся до срока расквитаться с квартальным планом, а уважаемый «Путь к коммунизму» всю картину портит. Смотрите! Вам светят родные огоньки коммунизма!..[11] Ну что у вас за надои?! Смех! На Петровской ферме два и пять. Дали шрот. Опять два и пять! Никакой отдачи! Стоило ли этим товарищам давать шрот? Не стоило! Нужно к каждой корове подходить индивидуально: шрот по молоку! По одёжке протягивай ножки! А вообще, по-моему, надо танцевать от вопроса, хочет ли заведующий той фермой быть заведующим? Видно, не хочет. Срочно подыскать нового!.. Товарищи, – opатор перешёл на низкий регистр, будто собирался выложить гостайну, – товарищи, а вы уверены, что у вас на фермах честные люди?
– Ка-ак можно сумлеваться?
– Гм… Излишняя самоуверенность!
Его голос зазвенел вдохновенно:
– Спасибо дружинникам, что не пришли. А то б я с ними сейчас встретил доярок и прозондировал, с чем они идут домой с фермы. С молоком! Со шротом! Понавесили к демаркационной линии[12] и тащат по домам соцсобственность. Знаем мы ваше дорогое пролетарское самосознание.[13] Передайте им, что мы держим связь с милицией. Для кого-нибудь дела могут кончиться кислым пшиком… На полнедели мы приехали… Поднять ваше молоко… Это нужно сделать в трёхдневный срок! При желании можно всего добиться! Иначе кто-то положит на стол хлебные ксивы… извините, партбилеты членов КПСС!
Все были изумлены, озадачены, но аплодисменты зажали.
Мужичок в кацавейке, глядя на оратора, шепнул соседу:
– Шустёр молочный козёл!
Тот, что постарше, тоже сказал. Наверное, опыт научил его говорить мало и без патетики. Но с подтекстом.
– Товарищи, – сказал он. – Единственная просьба к вам. Нe подведите нас и не окажитесь сами в плохом положении.
Сделав дело, сияющие командированные с достоинством отбыли на покой.
Они были уверены, что теперь молоко польётся полной безбрежной речушкой. Ведь только что именно они убрали пороги!
Лыков иначе прокомментировал нашествие районных уполномоченных по борьбе за изобилие.
– Хотя я и большой оптимист, но после кабинетной грозы не рассчитываю на молочное, если можно так сказать, наводнение. Ox уж это опекунство! Толкачей косяками заносит в колхозы! И кого там только нет! Он знает село, как я танцую в балете. А едет организовывать! Вон ныне пожаловал толкать молоко инструктор горгаза Гром-Чмыхайло. Тот, что помоложе…
– А сев, уборка… – вклинился в интервью старый тракторист со скандальным прыщиком на носу. – Что деется! Понахлынут и из райзагса, и из райкомхоза, и из райтопа, и из райморга… Земля слухом полнится, там кампания живее продвигается, где есть михлюдки из райсуда и райпрокуратуры. Наш брат мозоль[14] не пристаёт с лекцией к судье, чтобы не смел вертеть, к слову, законами, как дышлом. А вот судья учит, как пахать. А что, – дед гордо погладил персональный прыщик, – если всех толкунов собрать воедино да создать колхоз? Паши, да не языком! Сей, молоти. Крути дело и не путайся под ногами верёвкой. Показывай нам, неорганизованным, как невестушку Землю любить, а мы на ус будем мотать. Ну что?
Я молча выставил большой палец и дал за идею взятку.
Папиросу.
Старику очень хотелось покурить.
1963
Осмелилась мышка пощекотать кошку
Мырождены, чтобсказкупортитьбылью.
В. Гараев
Только вы!..
– Может, кто ещё?
– Только вы, наш спаситель, можете убить её сатирическим пером!
– Кого?
– Сахарову из Синих Полян. Не то она наш авторитет в той округе пристукнет. Там такая!.. О-о-о…
Стон разбудил во мне рыцаря.
Благородство забулькало во мне как кипяток в тульском самоваре.
Я отточил копьё-карандаш, поправил шлем-берет и ринулся на семи ветрах в Поляны.
Вслед мне делали ручкой счастливчики из райкома.
Передо мной ангел, которого я должен убить.
Она склонила головку к кусту черёмухи, румянится, потупив долу кари очи.
Дрогнуло моё сердце.
Я почувствовал…
Там, в отделе кадров Парнаса, ошибся я. Следовало б мне подаваться в цех лириков, а не сатириков.
В милейшей беседе я уяснил – у ангела есть терпение. Что оно тоже лопается. Когда нельзя не лопнуть.
Весна.
Полночь.
Комсомольское вече.
А за окном пели самые разные птицы, в том числе и товарищи соловьи, пожаловавшие из Курска по вопросу культурного обслуживания влюбленных.
А за окном томился он, несоюзный член.
Галя умоляюще смотрела то на часы, то на окно, то на президиум.
– Господи-и!.. Двенадцать!.. – простонала она.
Прокричал одноногий петух бабки Meланьи.
Дремавший зал ожил, зашевелился, кто-то недовольно проворчал.
Галя робко плеснула масла в затухающий огонь:
– Закруглялись бы, мальчики…
Президиум ахнул.
Восемнадцатилетний председатель, комсорг Антон Вихрев, остолбенел. Но сказал:
– Вы слыхали? Да нет, вы слыхали?! Это ж оскорбление! Какие мы мальчики? Мы – комсомол! Во-вторых, это похоже на срыв собрания. Нет, это и есть срыв!
Cыp-бор с последствиями.
Всю ночку карикатурист Юрий Саранчин не спал.
Утром Галя натолкнулась в конторе на газету «Под лучом прожектора» и узнала себя. Руки назад, как у пловца перед прыжком, шея – длиннющая палка, венчающаяся подобием головы, брызжущий рот.
Ах, как жестоко поступила Галя с сатирическим художеством. Сорвала и бросила Юрию:
– Хрякодил! – иначе не называли его те, на кого рисовал карикатуры. – Хрякодил, я хочу с тобой поделиться поровну. Фифти-фифти. Полтворения твоего мне, пол – тебе, – и газету на две части.
Комитет.
Гонцы прилетели за Галей.
– Передайте, – сказала она, – пусть что хотят, то и решают.
– Ты смотри! Она ещё с гонором! – кипел Вихрев – Я ей!
Постановление комитета грознее Грозного:
«Ходатайствовать перед прокурором района о привлечении комсомолки Сахаровой к ответственности за хулиганское поведение».
Районному прокурору доставили гневный пакет. В нём выписка из протокола, акт о «разорватии печатного органа» и уникальнейшее произведение:
Николай Яковлевич!
С приветом к вам А. Вихрев. Прошу не оставлять случай безнаказанным – нам нельзя будет больше ничего вывесить да и над нами станут смеяться, а она говорит – мы ничего не сделаем. На мой взгляд, дать ей суток пятнадцать – образумится. Такого мнения и рабочком. Надеюсь, поддержите. Не примете мер – вы осложните нам работу с массами.
А неужели комсомол не управился бы сам? Без Фемиды?
На том сошлись и в прокуратуре.
А я всё же беспокоюсь.
Не дай Бог прорисуются у Вихрева последователи и станут Валей-Толей по комсомольским путёвкам посылать в казённые места.
На предмет экстренного перевоспитания.
Что тогда?
1963, 1965
Среди немых и заика оратор
Нет такой глупости, до которой мы не могли бы додуматься.
П. Перлюк
В колхоз «Богатырь» приехала бригада из молодёжного журнала «А мы тоже сеяли».
На встречу.
Демократичные гости перенесли стол со сцены к первым рядам, поближе к своему читателю, тихо уселись и стали, как подсудимые, ждать участи.
– Товарищи! – усмехнулся председательствующий, когда сотрудники закончили с ужимками похваливать журнал. – Дайте-ка им перцу. На пользу!.. Слова просит, – он поднёс к глазам лист, – Пётр Захрряпин. Завфермой.
С крайнего стула в первом ряду встал долговязый парень.
Кашлянул, осмотрелся, сунул руки за спину и скорбно вздохнул.
– Мне, товарищи, как и всем, – Пётр прикипел взглядом к потолку, – очень приятно встретиться с молодёжью, которая представляет сельскую прессу в столице. Но сегодня, уже к вечеру, встречает меня комсорг и говорит: будет встреча с журналистами, скажешь что-нибудь. А что я скажу, если этот журнал не читал? Я посмотрел пять номеров. Плохой журнал, надо сказать. Мне трудно выступать. Чувствую так, – кивок на гостей, – как они себя, когда приезжают в деревню. Ведь они, граждане, не знают, как отличить корову от быка! Не знают, с какой стороны доить корову!.. Не взял меня за душу журнал. И до тех пор не будет брать, пока писатели не пойдут в глубь села.
– Мне хочется, – уверенней рубил оратор, – как там говорится, сказать по существу. Тут публика сельского направления, поймёт. Вот двое у меня привезли на ферму комбикорм и другие вещи. Один пьяный. Ну не стоит! Другой тоже пьяный, но стоит. Только качается. Тому, что качается, говорю я:
«Сарыч, когда перевоспитываться будем?»
Он строго меня послушал и легкомысленно упал. Далеко людям до совершенства. Зло берёт. Исколотил бы – драться неудобно… Я стараюсь по-современному подойти. Я мог их выгнать, а – подобрал со снега, развёз по домам. Сам перенёс корм с саней в кладовую. В общем, стараюсь воспитывать свои кадры. А они пьют и пьют. Как с ними быть, граждане писатели? Вот о чём напишите!
Пухлявенькая телятница Надя Борзикова была категорична:
– Я про ребят. Плохого они поведения у нас. В один придых матерятся всеми ругательствами от Петра Первого до полёта Терешковой в космос. Водкой от них тянет – на Луне слышно! Есть нахалы – женятся три-четыре раза и портят жизнь стольким и больше девушкам. При помощи юмора таких надо что? Лин-че-вать!
Женская половина зала вызывающе поддержала:
– Пр-равильна!
Агитатор Зоя Филькина философствовала:
– Не надо слушать музыку. Надо знать биографию композитора. Послушайте Бетховена. Музыка тяжёлая, давит. Такой у него была жизнь. А музыка Россини лёгкая, радостная, как его жизнь. Моя просьба: печатайте биографии композиторов для сельских любителей музыки…
Советчики сидели в первых двух рядах и друг за другом поочередно стреляли в приезжих наставлениями.
У гостей туманились взоры. Они вежливо выслушивали каждого говоруна. Даже хлопали.
Столичное воспитание сказывалось.
1964
Барьер с челочкой
Прежде чем останавливать мгновение, убедись, что оно прекрасно.
Б. Крутиер
То было раннею весной.
Первый гром.
Первая тёплая дождинка.
Первый вздох.
Наша героиня вздохнула не раз и не два.
Сквозь прищур ресниц безучастно смотрела на экран.
«Голый остров».
«А в газетках расписали – шедевруха! Скучища…»
– … ну будто воду на тебя возят! – ввернул подсевший сосед.
Она несказанно оживилась.
Он притронулся к её пальцам, достаточно робко сжал, будто разведывая, и они ушли из тёмного кино.
Навстречу плыли зелёные огни светофоров, улыбки, каркасные дома.
Он вспомнил свою коронную идею – нет на земле страны, где бы любовь не обращала влюбленных в поэтов, – и прорвался альбомной рифмой:
Пёстрокрылка была без ума:
– Я буду любить тебя до бесконечности! – поклялся он.
На следующий день он упал к ногам Галки Подгориной:
– Я ате… ист… Но с этой минуты я верю. Бог есть. Это – ты!
Она попросила встать и дохнуть.
– Для смелости…
Галка примирительно улыбнулась:
– И что делать с тобой, сердечный разбойник?
– Любить! – картинно посоветовал Сергей.
Раз идёт Галка по парку – Сережка.
Сидит на скамейке с рыженькой принцессой и что-то пылко ей твердит. Никак про розы?
Прошла мимо – не глянул даже.
«Хорошо. На первый раз я тоже не видела».
Но через месяц, когда с неземной нежностью Сережка целовал другого ангела с чёлочкой, как у неё, Галка взорвалась.
Она нежданно выросла между ними, как атомный грибок, свирепо вращая белками.
Ангел испуганно удалилась.
– Что это? – спрашивает Галка.
– Испытание твоей верности. Я верен только тебе. Но это не значит – время делать оргвыводы о женитьбе. Жизнь ещё проверит верность друг другу, наставит столько барьеров. Зачем ждать, пока встанут барьеры сами, надо искать их и брать.
– С чёлочкой – барьер?
– Он, матушка, он.
Сергей порхает от барьера к барьеру и не торопится официально засвидетельствовать свою верность бедной Галке, которая так наивно ждёт от мотылька Сержа чего-то серьёзного.
Галка не выдержала испытания и пришла в редакцию.
– Будьте добры, напишите такой фельетон, чтоб он прочитал и умер. Это моё последнее желание.
Я почесал за ухом:
– А если не умрет?
– Тогда, наверно, я умру.
При мысли, что такая прелестница может уйти в мир иной, я отчаялся без раздумий распатронить вертопраха:
– Его фамилия? Где работает?
Галка долго тёрла нежный лобик и ничего путного не выдавила.
Она ничего не знала о своём сердечном разбойнике, если не считать, что он автор афоризма «Ах, любовь – это сон упоительный!», что он поёт: «На Дерибасовской открылася пивная» и читает стихи про розу с разницей.
– А по идее, ему б надо указать на дверь, когда пьяным объяснялся, – сказала Галка. – Но меня заинтриговало: а что потом, за объяснением, за испытанием?
Мне не жалко Галку. Я сказал, напишу фельетон о ней персонально. В назидание ветрушкам.
В Галкиных глазах гневно сверкнула молния.
Грома почему-то не было.
Гром благоразумно воздержался от стука.
1964
Генеральские игры
Если Господь создал человека по своему образу и подобию, то ему надо ещё много работать над собой.
Б. Замятин
У генерала Разборова умерла жена.
Ну, похоронил…
Благородно горюет целую неделю, горюет вон уже вторую…
Лёг – один, встал – один. Ни шуму, ни прений.
Как-то до грубости странно.
И первой эту странность заметила старинная приятельница покойной.
Заметила и усердно так говорит:
– Вы, Иван Николаевич, петушок ещё крепенький. Не страдать же век. Подыщу-ка я вам пеструшечку поинкубаторней.
– Поищите, поищите, тётя Люся.
Так и сказал: тётя Люся. Тем самым намекая, чтоб она не начала свои глубокие поиски и предложения с себя.
Дня через два звонит тётя Люся:
– Иван Николаевич! Нашла я вам компромисс. Ждите. Сегодня приведу.
И первая мисс ему не понравилась.
Не понравилась и вторая, и третья…
И осерчал тогда генерал. Подумал:
«Ну что эта тётя таскает мне вторсырьё? Одни братские могилы – упасть, обнять и заплакать![15] Что тут у меня, шлакоотвал?[16] Давай, Ванюшок, меняй тактику подбора. Сделай игрой…»
И стал генерал своим гостьюшкам как бы в шутку мерить давление. Выше ста двадцати на восемьдесят – никаких разговоров!
Померил у одной…
У другой…
У десятой…
Иссякли у тёти Люси мисс-запасы.
А игра генералу понравилась.
Хочется продолжения.
Что делать?
И тогда генерал переметнулся на газеты.
Отдал две копейки, а удовольствия на рубль. На первые три страницы и смотреть не надо. Там всё такое серьёзное.
А вот четвёртая – хе-хе.
Объявленьица о разводах.
Штука!
Решил генерал заняться миротворческой миссией.
«Парочка надумала развестись. А я пришёл и примирил. Дело? Большое и доброе! А не помирю – из свежих батончиков-разведёнок, может, себе подберу свою Стодвадцатьнавосемьдесят… Тоже дело!»
И пошёл он первый раз на дело.
Пришёл точно по адресу, вычитал в газете.
Когда молодые узнали, чего припёрся незваный генерал, союзом навалились его мутузить. Не лезь не в своё корыто!
И так отходили, что Иван Николаевич еле тёпленькие унёс бедные ножки.
Бредёт он в охах домой, горько думает:
«А на гражданке дедовщинка пострашне-ей, чем в армии…»
Тут его нагоняет толстейка молодуня. Подруга кандидатши в разведёнки. Тоже активисточка, прибегала мирить молодых.
То да плюс сё, и стала сыроежка жалеть бедного Ивана Николаевича.
И видит даже невооружённым глазом Иван Николаевич, что у молодуни кроме жалости и все прочие сахарные достопримечательности на месте. И в хороших количествах!
«Ох же и недви-ижимость! Ох же и сексопилочка!.. Обалдемон! Наконец-то я, съёхнутый, встретил свою Стодвадцатьнавосемьдесят!»
Дома он в счастье упал на свою братскую могилу, обнял, но заплакать не успел… Сердце…
Генерал погиб как подобает доблестному воину.
Погиб в боевом сражении на своём боевом посту.
На боевом посту Сто Двадцать на Восемьдесят.
1965
Завидки до озноба
Азарт – это состояние, в которое мы входим, выходя из себя.
В.Жемчужников
Сорокалетний Фёдор Прямушин, отличный слесарь, превосходный рационализатор, в один раз получил получку, тринадцатую, выслугу, отпускные, совместительские, надбавку плюс изобретательские.
Всего ну с полкило!
Разом горячо набежало в одну кучку одиннадцать пачек с копейками.
Вce пачки рублями.
Рубляшики хрусткие. Новенькие. Ещё теплячки!
Только что с гознаковского станка.
Вcё б хорошо, да вот – рублями.
Что ими делать? Стены оклеивать?
Так обои жалко. На днях поменял.
– Э! – хлопнул себя по лбу Фёдор. – Да я рублями пол выстелю, как паркетом. Войдёт Натулька – ахнет!
Но ахнула первой не жена, а соседка, Марь Ванна. Заскочила за зубком чеснока.
– Федюк! – припала соседка к косяку. – Ты что тут делаешь?
– Да вот, – равнодушно повёл Фёдор рукой на золотистый пол в спальне и гостиной, покрытый рублями. – Если скажу, что отмечаю день гранёного стакана… не поверите… Я по-честной… Сладил машинку, выдал первую партию… Вроде блин не комом… Сушу вот… Только вы, тёть Марусь… – Фёдор приложил палец к губам.
Соседка распахнула рот и, не в силах вымолвить хоть слово, обмякло, отстранённо обеими руками разом махнула на Фёдора, будто отталкиваясь от него, и, часто моргая, попятилась за дверь.
Через мгновение она у себя бессознательно набрала милицию.
Сыроежкин дом занят.
И к лучшему.
Тех коротких секунд, в течение которых она слышала апатичные, вялые гудки, eй вполне хватило, чтобы, по её мнению, придти к благоразумному решению.
Положив трубку, Марья Ивановна твердеющим шагом снова вошла к Фёдору.
– Федюшка, – с тайной надеждой в голосе запричитала она, – ты меня не бойси. Не сорока я… Сегодня ты, касатик, будешь ещё печатать?
– Да ведь как, тёть Марусь… Оно б, может, и можно, да сушить боль негде. Вот, – сожалеюще покосился ceбe под ноги, – вот остался пятачок. С десяток рублянов кину и боль негде.
– Федюшка! Сладкий ты мой! – ещё нежней пропела Мария Ивановна. – Все мои по деревням королевствуют… В отпусках… У меня четыре пустуют комнаты. Как стадионища!.. Хоть мильон суши!
А про себя подумала:
«Возложи, сунься только сушить… Назад ты у меня ни рублейки не получишь!»
– Тёть Марусь, – бархатно ворковал Фёдор, положа руку на сердце, – ваш стадион без дела не останется. Я ещё и ваш расписной балкончик, похожий па царскую шкатулку, оприходую… Да… Через три часа мы с Натали отбываем нах Сочи. Поджариться, подшоколадиться…Вернусь из отпуска – сотнями выстелю вам ваши стадион, балконион, кухнион!
Мария Ивановна затосковала.
«Хорош гусь, хор-рош. Только не туда летит… Это ж он не желает брать меня, старую кошёлку, в компанию. Это ж он принципиально не желает, чтоб и я в рабочее время золотой ложкой трескала чёрную икру. Ладно. Засуну-ка я тебя в сундучару![17] Ты у меня, фальшивый монетчик, сам через пять минут почернеешь!»
И действительно, милицейский наряд аккуратно уложился в отведённые пять минут.
Не отрывая строгого взгляда от пола, старшина спросил:
– Значит, народный умелец, на самодеятельных началах печатаешь деньги? С рублей начал?
– С рублей, – скромно повёл плечом Фёдор.
– А где станок?
– Только что взяла соседка… Мы на паях…
Наряд – к соседке.
И весьма некстати.
Наткнулся на целую «сладкую линию». Как раз гнала «Вечерний звон» на топтушку.
Линию аннексировали, а саму соседку чувствительно, до озноба, придавили ещё и штрафом.
1965
Персональный рай
Совесть! Поговори ещё у меня!
Бывает, что крест, поставленный на человеке, его единственный плюс.
Б. Крутиер
Прокуроры, оказывается, тоже стареют.
Их вежливо провожают на пенсию.
Желают несть числа светлых тихих дней.
– Вот где сидит мой покой! – Николай Фёдорович нервно рубнул себя по загривку ребром ладони. – Заслужил отдых… Хоть в петлю… Довели люди добрые!
К Николаю Федоровичу явилась охота к перемене квартиры.
– Хочу в эту.
Месяцок носил ордер.
– Не хочу туда, хочу сюда! – указующий перст бывшего прокурора засвидетельствовал почтение особняку Маркова.
В поссовете с извинениями обронили, что-де Марков съедет лишь через месячишко. Но убоялись сердитого взора и, храбро махнув на коммунальные каноны (подумаешь, важность!), досрочно позолотили ручку Николая Федоровича новым ордером.
По отбытии Маркова Николай Федорович соизволил персонально лицезреть облюбованный филиал земного рая.
Торжественно, не дыша, постоял у врат, величаво переступил порог.
Он лишился дара речи, как только узнал, что «Марков не весь уехал», что его родственница комсомолка Валентина Агеева «остаётся без движения». Но она покладистая. Не надо паники, ради Бога. Ей довольно и девятиметровой комнатки.
– Освободите! Нас трое! У меня ордер на все тридцать восемь метров, не считая дополнительных удобств!
– Любуйтесь своим ордером, а я здесь жила и никуда не пойду.
Кость на кость наскочила.
На втором рандеву Николай Федорович был уступчивее.
Беседа протекала в дружественной обстановке.
Строптивая Валентина выдвинула на обсуждение условия мирного сосуществования под одной крышей. Поздно возвращается в родные пенаты. Учится по вечерам. Работает во вторую. Могут пожаловать подруги, мать.
Николай Федорович мужался.
Но сорвался:
– Никаких друзей! Никаких матерей!
Обе стороны объявили состояние войны.
И Валентина намертво заперлась. Больше не ведала, как отвечать на выходки служителя Фемиды.
А он очень жаждал новоселья.
Приволок четыре стула и стал осаждать «рай».
Безуспешно!
Валентина мужественно держала оборону. Подкрепления в виде ободряющих записок близких и чугунков с варевом текли через форточку.
«Не много синичка из моря выпьет», – пораскинул Николай Федорович и через замочную скважину тоскливо объявил, что капитулирует, безоговорочно принимает условия сосуществования.
К месту осады прибыл председатель поселкового Совета Пятачков и провёл политбеседу:
– Товарищ Агеева, нехорошо-с… Мы Николая Фёдоровича на конференциях в президиум сажаем. Это вы видите. Старый человек. А вы игнорируете его!
Участковый Марычев умеет здраво ориентироваться в любой ситуации. Дал короткую установку:
– Выжми из него расписку, что не выбросит завтра на улицу. Это такой новосёл!..
С зубовным скрежетом, но вселился Мельников.
Оно и понятно.
Без труда не вынешь и малька из пруда.
А тут такой особняк выбил!
Николай Фёдорович вмиг забыл заповедь, что соседа надо любить. Если так далеко не простираются твои симпатии, то, на худой конец, уважай.
И этого нет в наличии.
Прошла Валентина с работы в свою комнату – у Николая Федоровича нервный тик.
Прошла на кухню – дрожь в руках.
Ой, как трудно в переплёте таком от желаний не переметнуться к действиям!
Николай Федорович отчаянно схватил её умывальник, стиснул в объятиях и ему легче стало. Готов вышвырнуть его ко всем чертям, но прокурорский рассудок обуздал вскипевшие коммунальные страсти, и Николай Федорович метнул умывальник всего-то лишь на террасу.
Потом у Николая Федоровича стал прорезаться талант электрика-самоучки.
– Уроки делать. И чего это лампочка не горит? – недоумевает Валентина, вернувшись ввечеру с работы.
Из-за стены ехидненькая информация:
– А это я с пробочками… Хе-хе… Получается.
Николай Фёдорович стал отчаиваться.
Какие психические атаки ни предпринимай – молчит.
«Неужто не выкурю?»
Выставил подруг, пришедших к Валентине: Стал гаденькими словечками пробавляться. Когда один на один. Прокурорское чутьё. Поди докажи, что «оскорбления имели место».
Какое наслажденье испытал он, когда стал самочинно переправлять комсорговы пожитки в сарай (благо, на отпуск она отбыла из Дубенков).
Параллельно с вышеозначенным Николай Федорович добывал «правду» в судебных инстанциях.
В иске живописал:
«Проживать совместно невозможно. Агеева встает в шесть (на работу!), начинается ходьба. А нам нужен покой. И даже были случаи, что приводила кавалеров. Выселите».
Валентина взяла в быткомбинате характеристику.
Там лаконично засвидетельствовано:
«Агеева дисциплинированна, вежлива, морально устойчива».
Шпаги скрестились.
Взаимно оскорблённые стороны встали за честь своих фамилий. Николай Федорович и свидетелей подобрал – закачаешься! Шутка ли в деле? Бывший районный судья Мартынов! Следователь Кривоглазов!
Свидетели-то пошли какие. Сами юристы. У схлестнувшихся сторон груды юридических пособий, кодексы испещрены пометками.
Соискатели истины так крепко вызубрили все законы, что ни один суд не может их рассудить. Суворовский суд отказал Мельникову за необоснованностью. Мельников бежит выше. Труженикам областного суда показалось, что мало допрошено свидетелей (!), дело мало изучено и на рассмотрение отправили снова в Суворов.
Да что ж там изучать? Зачем из липовой золотушной мухи глубокомысленно раздувать липового жирного слона? Неужели неясно, что притязания Мельникова не прочнее мыльного пузыря?
Стороны всюду идут.
Всюду пишут.
Первые жертвы склоки. Агеева «в связи с личными неприятностями, связанными с ненормальными жилищно-бытовыми условиями», оставила вечернюю школу.
Мельникову оставлять нечего.
Он стоит насмерть. Чтобы оставили весь дом!
Подумать! Не хватает двадцати восьми метров на троих!
Николай Федорович, может, и не затевал бы всей кутерьмы, чувствуй себя шатко. Но его сын – далеко не последняя скрипка в одной из районных организаций, а потому Николай Федорович так бесшабашно воинствен.
Райисполком, на виду у которого уже полгода с переменным успехом длится жилищно-бытовая схватка, пребывает в роли пассивного болельщика, симпатии которого, как ни парадоксально, на стороне Мельникова.
Активисты на общественных началах пытались урезонить Николая Федоровича. Дескать, весь район смеётся. Брось ты это судилище да извинись перед комсомолкой. Она права.
Куда там!
– У меня, у прокурора, не хватит таланту пигалицу выжить? Поглядим!
Какой же финал?
По осени сдадут новый дом и Агееву переселят.
А как до осени? Откомандируют её в область на курсы мастеров. Пусть учится. Хоть на три месяца прояснится дубеньковский горизонт.
А Николай Федорович?
Неужели вот так враз его и осиротят, оставив без соперника?
Дело это деликатное и рубить тут сплеча – упаси Бог. Ведь в затяжной схватке было столько упоения. И – конец!? Такой мирный и бездарный!?
Нет!
Николай Федорович что-нибудь придумает. Не коптить же небо тихо и незаметно. Не-ет. Ба, вот-вот повестка сыграет побудку в седьмой раз предстать пред правосудием.
В восьмой…
Девятый…
Прелести судебных поединков понимать надо!
Чуйствовать!
Первого июня выездной Суворовский суд собрал стороны.
В седьмой раз!
Как это в народе? Семь раз отмерь, один раз отрежь.
На седьмой раз уж и отрезал!
Николай Федорович какие версии ни выдвигал – лопались.
Последняя:
– Агеева в Дубеньках не жила! Двадцать третьего октября прошлого года она только выписалась из Шатовского Совета. Вот справка того Совета.
Справка – липовая.
Валентина выписалась оттуда ещё в шестьдесят первом!
– Как вы достали эту фальшивку? – спрашивают припёртого к стене бывшего прокурора.
Он начинает юлить:
– Да вы знаете… Я плохо помню… Кажется… Ага… Я позвонил Шишову. Это один из руководителей колхоза «Труд». Он – Трошину, председателю Совета. Повлиял на него. Тот написал, расписался и даже печать прихлопнул.
Какая оперативность!
Удивляться только надо, как чётко дарит Трошин направо и налево справки с автографами. Без бюрократизма. Без проволочек.
Банальный вопрос Трошину:
– Давали справку?
– А может, и дал.
– Она ж фиктивная.
– Не знаю, почему я такую дал.
Помолчав:
– Вспомнил… Звонят. Как не уважишь? Бумажки жалко, что ли. Я и выпиши, а в похозяйственную книгу не глянул. Вот.
Услужливый премьер села повесил нос.
– Подсобил добрым людям… А они меня – в лужу.
Сел и Мельников.
Связи, при помощи которых он коллекционировал липовые справки, не помогли.
Правда, странно?
Человек, который долгое время был прокурором, вдруг оборачивается заурядным мошенником и с гордо поднятой головой мчится в суд защищать себя, потрясая поддельными документами. Неужели он не знал, на что шёл?
Тут одних чуйств маловато.
30 мая 1965 (20 июня 1965)
Когда плачет ночь
(Трагггедия)
Косматая Ночь безумно неслась на свидание с Днём.
Вертлявые Реки, кроткие Равнины, горделивые Скалы с отвагой самоубийц бросались ей под ноги. Она спешила, быть может, в триллионный раз на встречу.
«Неужели и нынче отвергнет? Кажется, замаячил вдали ненагляда… Он!»
Ночь исступлённо выбросила руки-тени далеко вперёд, сплела их в кольцо и, веря, что обовьёт Его, стала у`же затягивать петлю рук. Она готова подарить первый поцелуй. Глаза, метавшие молнии неистовства, в блаженстве закрыты накануне большого счастья.
Но когда Ночь почувствовала, что в венке рук пустота, она вздрогнула и беззвучно, устало заплакала.
Ядрёные капли слёз тоскливо катились по измождённому лицу и падали долу, застывая на земной листве росинками.
Так и не познав счастья любви, обессиленная Ночь отходила в мир иной тихо, незлобиво, не в силах даже закрыть сухих глаз и прижать к груди руки, протянутые Дню-Нарциссу.
Она таяла пред его ликом.
Участь Ночи взбередила гордый Восток.
От горечи он зарделся и, казалось, вот-вот прорвётся жгучими слезами.
И тут из-за Горы выкатился весёлый Солнечный Мяч и расхохотался над всей этой предутренней трагедией.
Так приходит Утро.
Так сохнет Ночь миллионы лет по Дню.
Бедная Ночь!
Будь она Лизой, бросилась бы в озеро и всё ясно.
Тогда хоть не рассветай.
1965
Жена напрокат
Браки заключаются на небесах, а исполняются по месту жительства.
Г. Малкин
В двадцать я мечтал о подруге. В двадцать пять женился. У меня, бывало, спросят: «Красивая жена?» – я отвечу: «Некрасивая-любима, а любимая – красивая!»
Засвидетельствовав симпатии к фольклору, Николай с мажорного тона переходит на минорный:
«Домая 1964 годамыжиликаквсесмертные. Но (после этогоновсегдаждёшьчего-тострашного) вотяузнаю, что моялюбимаяжёнушкаизменяетмневсоавторствес Горлашкиным. ЭтонахальныйлюбовникимоейОльгидобрый начальник, тоестьпрораб. Ольга – маляр. Онивместеработаютвбыткомбинате. Спелись! При «беседе» онанеотрицалафакта. Чтоделать? Применитьсилу? Яруководствовалсянетолькочувствами, ноиумом, ивыразилсвоёнегодование, отшлёпавслегкаеё пощекам. Показалнадверь: не будужеявешатькрасный фонарьнаворотах. Мнекажется, онасрадостьюпобежалассыномклюбовнику. Но Серёжка? Мнеегожаль. Кто емузаменитменя, отца? Горлашкин? Почемуобэтомнеподумалажена? Еслионахочет, топустьпревращаетсявстопроцентнуюгулящуюженщину. Еёдело. Носудьбасына скатываетсявнеизвестность. Яеголюблюсердцемирассудком. Какхотителюблю. В конечномсчёте, ичувствоответственностиродителячто-то значит. Онаэтовыверилаи бьётменясыном: непускает кнему. Язнаю, семьяисчезла, носынестьибудет. Подскажите, какбыть. Серёжка! Онлюбитменябольше, чем мать. Янехочуеготерять. Не желаю, чтобынаширодительскиедрязгибросалинасудьбу сынатёмныепятна. Нехочу, чтобывыходилоповосточной пословице «Верблюддерётся слошадью, адостаётсяослу».
Жду от редакции ответанравственного, вразумительного и правдивого.
Н. УВАРОВ».
Визит к женатому холостяку расстроил меня.
Прежде я не ставил под сомнение святое назначение любви. Помните? «Любовь – это факел, который должен светить вам на высших путях».
Должен?
Свети, дружок!
Но сейчас, когда я с тоской смотрел на стол с объедками месячной давности, на всклокоченную постель, на хозяина в пальто, – трон любви заколебался передо мной.
Я ясно видел, что Николаю совсем не светит.
Он смотрел мне в глаза и настырно требовал ответа на программный вопрос, украденный у Шоу:
– «Скажи, почему женщины всегда хотят иметь мужей других женщин?»
Мне ничего не оставалось, как наивно признаться, что я не женат и что проблемы столь высокого свойства не стучались ко мне за разрешением.
Ольга пожаловала из Москвы на отдых в Дрёмов.
Отпуск улыбнулся: она снова влюбилась и, кажется, намертво.
Бог весть какой ждать развязки, если б не репродуктор, который хрипел со столба:
Идея!
Надо просто жениться!
Её отпуск ещё не кончился, как они вместо кинухи на минутку забежали в загс.
Дым медовых ночей рассеялся, и Ольга узрела, что спутник очень нерентабельный.
– У других мужья как мужья. Получка – денег приволокут, хоть в подушку вместо соломы набивай. А этот половой демократ[18] таскает каждый божий день одни грязные рубахи!
– Я ж не министр. Экскаваторщик, едри-копалки!
– Другой на твоём месте ковшом бы золото загребал, а не глину, милый.
Уроки жизни случались по стечению обстоятельств.
А потому во все прочие времена Уваров был доволен судьбой и, наверное, счастлив.
Будь журнал «Идеальный супруг», о Николае писали бы передовые и печатали его неподвижную личность на открытках. Как артиста.
Он мыл полы, топил печку, варил завтраки, обеды, ужины, сушил пелёнки, нянчил мальчишку и читал книжки.
Столь широкий диапазон импонировал Ольге.
Но и тут она покровительственно укоряла:
– Книжки ты брось. Лучше поспи. Ослепнешь – водить не стану.
Николай робко лез в пузырь.
Ольга ошарашивала жестоким доводом, как дубинкой:
– У меня пять классов. Более ни в книгу, ни в газету ни разку не заглянула. Не померла. И тебя до срока не вынесут вперёд пятками!
Кот Васька слушал и молча кушал.
Тихой сапой Николай переползал в вечёрке из восьмого в девятый, из девятого в десятый.
Потом начал слесарничать в цехе контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это на заводе синтетического каучука.
Курсы.
Вечерняя учеба котировалась у Уварова не ниже высокого подвига во имя несказанной любви к собственной жене.
Грезилось…
Заочный юридический институт…
Следователь Уваров несётся за матёрым преступником и запросто кладёт на лопатки.
Первое задание! Каково?
Он спешит в родные пенаты обрадовать Гулюшку…
Опередила женщина в чёрном.
Почти в полночь, когда он, голодный и усталый, брёл с занятий, она ласково взяла его за руку:
– Твоя жена и мой муж…
«Соавторство»!
Реакция была слишком бурной.
Он понял, в лучшую сторону надежды нет.
Долг платежом красен.
Ольга вызвала его на рандеву в отделение.
Он вёл себя, как истинный джентльмен, и галантно подарил ей расписку:
«Данав том, чтоя, УваровН. П., никакиххулиганскихдействийв физическомвыражениинебудупредприниматьпротивсвоейженыУваровойО. Ив.».
Она взяла подписку и съехала с любовником на частный сектор, не подумав даже развестись.
Через месяц привезла вещички назад, бросила Николаю, как сторожу, снова исчезла.
Вынырнула в суде: полквартиры вздумала отсечь, «чтобы не скитаться с сыном по частникам».
Не выгорело!
Соседи так охарактеризовали Николая:
«Уваров не пьёт. Мы очень им были довольны и радовались как хорошим человеком и добрым отцом. Жену не бил. Работал, по вечерам учился. Она стала дружить с другим. Всё равно он не запивал и вёл себя тактично. Жена бросила и ушла. Опять он всегда у нас на глазах трезв и немного печален».
Снова куда-то запропастилась жена!
Нету месяц. Нету два.
Прокурор чего-то липнет:
– Уваров, где ваша супруга?
– А я почёмушки знаю.
– Она расписана с вами. Что случится – вам отвечать.
Николай скребёт затылок.
Ребята в курилке подыгрывают:
– Взял любовник жёнушку напрокатки, а срока так и не указал.
– Пора б и честь знать…
У Николая последняя услада – Серёжка трёхлетний.
Пока Ольга на работе, Николай тайком прибегал к нему в сад с конфетами, играл, гулял, и оба со слезами расходились.
Ольга выкинула последнее коленце.
В «книге движения детей по детскому саду № 1» появилось её заявление:
«Прошунеотдаватьмоего ребёнкаУваровуН. П., т. к. мыснимнеживём. Прошуне отказатьмоюпросьбу».
Всё это во имя прораба!
Не слишком ли много приношений одному человеку? Кто он?
Человек в последнем приступе молодости.
О перипетиях судьбы судит, как о гвоздях:
– Все мы искатели. Ищем Счастье. Ищем повсюду. Дома, на работе и на улице. Я нашёл на работе. Я устроил свою жизнь.
Он оставил жену, с которой разделил десять лет и этаким фертом ринулся на сближение с Ольгой.
В нём Ольга ценит две давно лелеянные штучки: должность и оклад.
Чем-то эти артисты напоминают тоскливый треугольник. Уваров мучается чёрной изменой жены, готов в любую минуту заманить в родные пенаты и бойко разлучить с вероломным любовником. Но у Ольги, «старой волчицы», губа не дурка. Она знает цену обоих воздыхателей, а потому без колебаний тяготеет к Горлашкину.
Как всё это старо.
Эстафету неверных жён Ольга зло и величаво понесла дальше. И просто уходить со сцены она не желает.
– Я его затаскаю по судам! На каком-нибудь десятом или двадцатом судебном процессе этот сундук с клопами[19] умрёт! А сколько я попорчу ему крови по прочим каналам и канальчикам! – с маниакальной жестокостью рисовала она далеко не прекрасное будущее своего бывшего милого.
От такой перспективы стало жутко, и я замолвил словечко за Николая:
– Опыта не занимать… По глазам видно.
Каким благородным гневом вспыхнул Горлашкин:
– Да честнее Ольги нет женщины на свете! В её глазах ты ничего дурного не можешь увидеть. В них только нежность и верность.
Я оставил за собой право возразить – со стороны виднее.
И многое.
Пусть не разбазаривает восторги Горлашкин.
У Ольги он не первый, а третий.
Может, последний?
Судя по её жестокому влечению к «разнообразию мужчин», вопрос широко открыт.
С последним звонком удалось раскусить Николая.
Рыльце и у него в пушку.
Редакцию он пронял трактатом о небесной любви к Серёжке. Как щедро природа наградила его любовью к собственным отпрыскам!
Эффект был бы солиднее, не оставь Николай в тени Мишку.
Он плюшевый? С ним Серёжка отводит душу?
Увы!
Это не игрушечный медвежонок, а маленький гражданин, первенец Уварова. И живёт он далеко за Уральским Камнем с «мамой Тамарой».
Вспомнил, Николай, первую жёнушку?
Вот и слава Богу!
Слава-то Богу, а я рисуй ответ.
«Нравственный, вразумительный, правдивый».
Подарить с автографом солидный трактат об ответственности молодых за благополучие семьи? Поплакаться, как трудно быть супругом? Заострить внимание юной общественности на знании основ любви и призвать молодят не хватать счастье на лету? Тем более, когда ты в двухнедельном отпуске, в трёхдневной командировке или в краткосрочных бегах от супруги.
Всё это пустяки?
Но они имеют прямое касательство к тому, что в Дрёмове каждый десятый младенец входит в мир без отца.
Грустные плоды счастья напрокат…
17 октября 1965
«Мой фельетон»
Ну что может сказать в своё оправдание тот, кто не виноват?
М. Генин
Завтра – защита!
Я в панике прочёсывал последние кварталы города, но рецензента, хотя бы завалящего, ни кафедра, ни Бог не посылали. Как сговорились. Ну куда ещё бежать листовки клеить?[20]
У-у, как я был зол!
Я был на грани съезда крыши.
Преподаватели почтительно встречали меня на пороге и, узнав цель моего визита, на глазах мрачнели.
Уныло слушали мой лепет утопленника, вздыхали и, глядя мимо меня на голубое майское небо, твердили одно и то же (порознь, конечно):
– Даже не знаю, чем вам помочь. Вот он свободен! Идите к…
– Я от него…
– Вот вам пятый адрес. Божко выручит. Придите, покажите, – лаборантка провела ребром ладони под подбородком, – и он, слово чести, вас поймёт!
Я обрадовался, как гончая, которая напала на верный след.
Меня встретил красавец, похожий на Эйсебио.[21]
Я провёл рукой, как велели и где велели, молча отдал работу и сел на ступеньки.
Он расстроился:
– Ничего. Всё обойдётся. Сходи`те в кино, а завтра – защищаться.
Я выполнил наказ молодого кандидата наук.
Наутро он крепко тряс мою руку, будто собирался выжать из неё что-нибудь путное.
– Молодца! Я вам отлично поставил!
– Ты сегодня? – ударил меня по плечу в знак приветствия староста.
– Сегодня.
– На бочку двадцать копеек за цветы! Во-он у комиссии на столе они.
Я отдал двадцать копеек и гордо сел в первом ряду.
Звонок.
Гора дипломных на красном столе.
Голос из-за спины:
– Начните с меня. Я тороплюсь.
Подбежала моя очередь.
Председатель комиссии Манякин без всякого почтения взял моё сокровище, брезгливо пролистнул и принципиально вздохнул.
Пошла, сермяжная, по рукам.
– Мы не можем допустить вас к защите. Ваша работа оформлена небрежно.
Я гну непонятки. Делаю большие глаза:
– Не может быть. Я сам её печатал.
– Посмотрите… Дипломные ваших товарищей в каких красивых папках! Берёшь и брать хочется. Ваша же папка никуда не годится. Вся потёрлась.
– Потёрлась, пока бегал искал рецензента.
– А ведь работу вашу будут хранить в библиотеке. Её будут читать! – торжественно пнул он указательным пальцем воздух над головой.
– Не будут, – уверенно комментирую я. – Кроме рецензента в неё никто никогда не заглянет. А рецензент уже прочёл.
– Надо быть скромней, молодой человек. Вы назвали свою работу «Мой фельетон». Самокриклама! Ни Кольцов, ни Заславский себе такого не позволили б!
– Моя дипломная – творческая. Я говорю о своих фельетонах. Почему из скромности я должен не называть вещи своими именами? Хоть я и не Петров, но, судя по-вашему, я обязан представляться Петровым! Тут рекламой и не пахнет, – независимо подвёл я итог.
Конечно, рекламой не пахло, зато запахло порохом.
– И вообще ваша работа нуждается в коренной переделке! – взвизгнул председатель. – О-очень плохая!
– Не думаю, – категорически заверил я. – О содержании вы не можете судить. Не читали. А вот рецензент читал и оценил на отлично. Я не собираюсь извлекать формулу мирового господства из кубического корня, но ему видней.
Председатель не в силах дебатировать один на один со мной, а потому кликнул на помощь всю комиссию.
– Товарищи! – обратился он к комиссии.
Я оказался совсем один на льдине!
Пора откланиваться.
Спешу выпалить на прощание:
– Я искренне признателен за все ваши замечания. Я их обязательно учту при радикальной переработке дипломной! – и быстренько закрываю дверь с той стороны.
Вылетел рецензент.
На нём был новенький костюм, но не было лица.
– Что вы натворили! Теперь только через год вам разрешат защищаться… Не раньше… Даже под свечками![22] Ну… Через два месяца. Вас запомнили!
– Океюшки! Всё суперфосфат! Приду через два дня.
В «Канцтоварах» я купил стандартную папку.
Какая изумительная обложка!
Главное сделано.
На всех парах лечу в бюро добрых услуг.
– Мне только перепечатать! – с бегу жужжу машинистке. – Название ещё изменить. «Мой фельетон» на «Наш фельетон». И всё. Такой вот тет-де-пон.[23] Спасите заочника журналиста!
Машинистка с соболезнованием выслушала исповедь о крушении моей судьбы:
– Рада пустить в рай, да ключи не у меня. Сейчас стучу неотложку. Только через месяц!
С видом человека, поймавшего львёнка,[24] я молча положил на стол новенькую-преновенькую хрусткую десятку.
– Придите через три дня.
Положил вторую десятку.
– А! Завтра!
Достал последнюю пятёрку.
– Диктуйте.
На этом потух джентльменский диалог.
Через два дня вломился я на защиту.
Однокашники хотели казаться умными, а потому, дорвавшись до кафедры, начинали свистеть, как Троцкий.[25]
Я пошептал соседу:
– Следи по часам. Чтобы разводил я алалы не более десяти минут. Как выйдет время, стучи себя по лбу, и я оборву свою заунывную песнь акына.
На кафедре чувствуешь себя не ниже Цицерона.
Все молчат, а ты говоришь!
Нет ничего блаженнее, когда смотришь на всех сверху вниз, а из них никто не может посмотреть на тебя так же. И если кто-то начал жутко зевать, так это, тюха-птюха, из чёрной зависти.
Что это фиганутый сосед корчит рожу и из последних сил еле-еле водит пальцем у виска, щелкает?
Догадался, иду на посадку:
– Мне стучат. У меня всё.
Председатель улыбнулся.
Я не жадный.
Я тоже ему персонально улыбнулся по полной схеме. Для хорошего человека ничего не жалко.
– Вы мне нравитесь! – пожимает он мне руку.
Как же иначе?
1 января 1967
Седина в бороду, бес в ребро
Пришла весна – набухли почки, и печень тоже барахлит.
С. Сыноров
Иногда так хочется отвести душу к чужому телу!
Б. Крутиер
Любовь зла.
Она такая!
Она всё может!
Даже до развода довести.
Один, едва поднеся к губам полный кубок супружеского счастья, тоскливо морщится, будто его жестоко провели и вместо шипучего шампанского дали рыбьего жира. Энергично отплёвываясь, он весьма peзвo уносит ноги от молодухи на зорьке после первой брачной ночки.
Другой, колеблющийся элемент, съедаемый сомнениями, в дни получки устраивает сотый референдум друзей.
– А если мне развестись? – спрашивает после пятого стопарика.
Компания зычно хохочет и на всякий случай советует подумать. Она ничего не имеет против сто первого симпозиума.
У Тихона Гурьевича было всё иначе.
Начиналось, как у недвижимости, толстенькой чувствительной барышни, которая по весне рвала на лужайке ромашки и, круто поплевав на пальцы, тупо обрывала лепестки, шепча сквозь толстенькие губы:
«Любит не любит, любит не любит…»
Только у Тихона же Гурьевича гадание на цветах имело иную словесную виньетку:
«Бежать не бежать, бежать не бежать…»
Суд да дело – семнадцать лет слетело.
Полувековой старик затосковал по невстреченной и однажды не прибыл на ночёвку в родные пенаты.
Домашние заволновались.
Что?
Почему?
Да мало ли почему?
Может, спьяну отдал предпочтение отелю под забором и невзначай бдительные филины набрели.
А милиция не бюро добрых услуг.
По указанному адресу не доставляет ни под каким соусом.
Ошиблись домочадцы.
Влюбился Тихон Гурьевич!
Такого подвоха никто не ожидал.
Влюбился, как мышь в короб ввалился.
Теперь он гордо шёл в прекрасное далеко с новой спутницей.
Тихон Гурьевич искренне считал, что без него его короеды завоют. Прибегут и, как заблудшую овечку, потащат со слезами домой.
Конечно, он будет шумно куражиться да снисходительно по ходу движения раздавать сынюкам отеческие подзатыльники, как куличи. Не Бог весть какие большие слоны,[26] но всё же…
Увы, детки проявили похвальную дерзость.
– Ах! Так! – Тихон Гурьевич был несказанно оскорблён. – Не идёте? А может, у них там… Кошка из дому – мыши в пляс!?
Если гора не идёт к Магомету, то Магомет бежит к горе!
Вот он пожаловал собственной персоной навеселе и стал демонстративно крушить всё в доме.
– Сам нажил – сам бью! – комментировал он свой налёт.
Соседи кликнули милицию в свидетели.
Товарищеский суд охладил пыл погромщика.
Да ненадолго.
Ему показалось, что в саду слишком много будет яблок, и он ещё завязь пооборвал и в довершение ко всему обломал ветви.
Чтобы чувствовать себя настоящим героем, ему не хватало ста рублей.
– Не дашь – пеняй на себя! – сказал бывшей жене. – Не тяни! Ты мне тут нервяк не прививай! А то!.. Поздно будет, когда перед глазами засверкает! – предъявил он далеко не туманный ультиматум. – Давай! И я пошёл пинать комара!
Тихон Гурьевич расщедрился.
В обмен на женины деньги он, пошевелив понималкой, дал расписку, что «всё своё уже взял от Журавушкиной А.Е.»
Семья не знала, с чем придёт завтра штатный домашний мучитель.
Ребята стали кавалерами, поступили оба молодца в институт.
У матери забот, чтоб было на автобус обоим да копеек по двадцать на обед.
Но и на старуху цветёт-живёт проруха.
Через три года пришлёпал Тихон Гурьевич.
С повинной.
– Не могу я метаться между двумя семьями, как свинья на верёвочке. Мне за пятьдесят… Спокину я свою репризку…[27] Каюсь, шёл к ней – был в коматозе! – щёлкнул себя по горлу. – Надоел мне её вечный рыбкин суп… Давайте не разгребать семейную помойку и будем доживать вместе. Виновата ты, дражайшая, что я уходил… Никогда слова мне поперёк не кинула. А зря… Теперь ты видишь, «сколько же дров может наломать мужчина, если его не пилить!» Мы люди с понятием, секучие… Кто старое помянет, тому что угодно долой. Извините, я больше не буду.
Чудо не состоялось.
Старался дедушка Тихон быть семьянином, но сорвался.
Нашли фото любовницы.
– Отдайте! – с тигриной страстью вопил «ветеран сексуальной революции». – Я храню для памяти!
Ему было популярно разъяснено, что в таком случае лучше иметь дело с оригиналом, нежели с бумажной копией.
– И зачем тебя принесло?
– Чтобы свернуть вас в бараний рог и взять свою долю. Я всё равно отниму у вас одну комнату. Сюда будут ходить мои женщины. Я ещё ничего, – кокетливо рекламировал себя трухлявый сексуал-демократ,[28] с которого сыпался песок в доказательство того, что он уже ничего. – Будут ходить! И не пикнете. Не то я из вас трупы поделаю. Или химикатами укатаю. На выбор. Когда буду уходить, всё перебью своё нажитое. Сничтожу сад!.. А сам, может быть, даже повешусь. Напишу – вы довели!
11 января 1967
После подвига
Осмотрщик вагонов Иван Иванович Сусекин в нерабочее время совершил подвиг.
Три минуты пролежал под идущим гружёным товарняком, прикрывая полой плаща какого-то сорванца – заигрался на путях.
Спокойно жили герои только до утpa.
На пороге детсада Сашку расцеловала воспитательница Ольга Ивановна и повела к себе в кабинет, куда прежде водила лишь когда нашкодит.
– Сашенька! Да знаешь, кто ты!?
– Сашка Жмеринка.
– И?
– Дальше не знаю.
– Герой! – В порыве нежнейших чувств Ольга Ивановна гордо припечатала оттиск алых губ к щеке мальчугана и усадила рядом на рыжем диване. – Герой! Рассказывай, как получилось?
Сашка независимо шмыгнул носом.
– В мёртвый час скучно было, и я убежал ходить по рельсам. Чужой тощий дяденька запал на меня… Тут что-то страшно засвистело над нами. Поезд!.. Ну, поезд прошёл. Дяденька поднял меня за ухо, покрутил… Да больно!.. Чуть не открутил… Я показал ему язык: «Длинный, как дядя Стёпа, а дерёшься!»– и побежал домой.
Воспитательница поморщилась:
– Не то, Сашуля! Ты умаляешь роль детского сада в твоём героическом воспитании! Как это так тебе скучно в часы покоя? Вот что будешь говорить: «Мне не хотелось уходить из сада, но пришла мама и увела. Она была очень занята и послала меня за хлебом. Я так торопился, что не заметил поезда. Меня героически прикрыл своим плащом дорогой Иван Иванович Сусекин. Кто он? Передовой осмотрщик вагонов, ударник коммунистического труда, заместитель председателя месткома…»
Сашка съёжился:
– Я не запомнил.
– Надо, надо… Дальше: «Лежу я, товарищи дети, под поездом и горжусь, что есть у нас такие отважные люди, как Иван Иванович. Храбрость в нём развили в нашем детском саду № 2. В своё время он охотно – заметьте, охотно! – ходил в наш садик и воспитывался… После подвига мы, конечно, пошли в магазин. Я помнил, за чем шёл… Иван Иванович нёс хлеб. Дома при расставании я горячо поцеловал его. Мама даже чуть не заплакала. От впечатления. Дорогие ребята! Мужество, внимание к старшим, любовь к ним привиты мне в детском саду. Дети, слушайте воспитателей. Они желают нам добра».
И началось триумфально-воспитательное шествие Сашки Жмеринки и Ольги Ивановны по детским садам города.
Тон задавала Ольга Ивановна.
Она сажала Сашку как вещественное доказательство за красный стол, сама становилась рядом и гордо говорила:
– Дети! К вам в гости приехал самый маленький герой нашего города Саша Жмеринка. Он пролежал под идущим тяжеловесным поездом три минуты. Какое мужество! Таким он растёт в нашем саду. А я его воспитательница. Я подробно расскажу про его подвиг.
Сашка оказался поразительным либералом.
Он не уличал Ольгу Ивановну в том, что она важно откусывала от его пирожка славы.
Несформировавшаяся публика мёртво слушала и, не понимая, чего же хочет Ольга Ивановна, с замиранием глазела на легендарного Сашку.
А он из президиума, где восседал одиноко, а порой с местной воспитательницей, строил ей, детсадовской публике, гримасы: высовывал ехидный язык, выворачивал веки, навязывал из-под стола кукиши с маслом…
Победителя же не судят!
Зато Ивану Ивановичу очень не повезло с подвигом.
Утром он сунул свёрток с обедом в карман и уже на выходе из дома услышал о себе из-под тюлевой покрывалки, ниспадавшей с орехового «Рекорда».
Впорхнул преддомкома:
– Ай! Ван Ваныч! Нехорошо-с! Живёшь за стеной, а я узнаю о тебе только по приёмнику. Не обессудь… Р-р-рра-азочек!..
– Да ты, Михалыч, спятил! Нам ли целоваться, старым колышкам!
Как Иван Иванович ни отбивался, пред, всё-таки улучив момент, яростно лобызнул его за ухом и облегчённо вздохнул, смахнув чистую гордую слезу:
– Жив!.. Я сейчас хотел кликнуть в твою честь собрание-молнию жильцов. Да нельзятушки утром. Вот номер… К пяти – в красный! Я подготовлю вечер «Герои живут рядом!!!»
В красном уголке негде пятку поставить.
Сам Поддубный не протиснется к целевой стенновке домкома «Он из нашего подъезда шагнул в бессмертие!»
Ивана Ивановича усадили за высокий стол.
Он рвался сказать, что и через сутки сердце всё никак не переберётся из пяток в грудную клетку. Что и сейчас дрожат поджилки, и ни в какое бессмертие он шагать не собирается.
Но ему не давали открыть рта.
– Ивану Ивановичу – слава! – темпераментно и гнусаво всё время выкрикивал кто-то лозунг со стены.
Жильцы, низко склонив головы, жали Ивану Ивановичу руку и строго по очереди держали слово.
Домой он приплёлся в полночь. Расстроенный, как старый рояль после эстрадного концерта, и не уснул до утра от первой встречи с жестоким бессмертием.
В депо его продвинули как авторитета в комитет по трудовым спорам, в товарищеский суд, избрали председателем чёрной кассы. Сразу пришла куча приглашений выступить в доме отдыха[29] перед пожизненно заключенными, в клубе голубеводов, в каком-то обществе по распространению каких-то знаний и ещё где-то.
О том, как осмотрщик вагонов вдруг обернулся героем, пожелали узнать и школьники. Они стали приглашать его и Сашку. Повязывали галстуки и не отпускали до петухов.
Молодая поросль на встречах намертво стояла, докапываясь до корней героизма.
Сашку обещали дома поколачивать, а Иван Иванович сознательно рвал на себе последние волосы.
Но не смел отказать.
Иван Иванович до того навстречался – слёг.
В больнице раскусили, кто он и организовали встречу медперсонала и всех хворых с почётным больным.
Кровать Ивана Ивановича подняли на пиленые чурки, синее одеяло заменили красным.
Он не мог сидеть. Лежал с полотенцем на лбу, меланхолично выбросив слабую руку поверх красного одеяла, а все подходили, преданно её тискали и говорили, говорили, говорили…
Каждый халат не забывал пригласить на встречу к себе по месту работы.
Закончились смотрины, Иван Иванович отчаянно швырнул мокрое полотенце за диван и – домой.
Дома ждал воз писем.
Ну да, от пионеров и пенсионеров, наиболее любопытной категории рода людского. Они допытывались, о чём Иван Иванович думал, бросаясь под непустой товарняк: о Матросове, о жене, о детях. Интересовались, как учился, что любил читать. Читал ли Мопассана в пятом классе и какое влияние тот оказал на отделку его характера. Как относился к родителям, был ли бит, если да, то за что и как именно.
Каждый конверт умолял осветить жизнь со дня рождения до великого броска, так как она, наверное, поучительна.
Вначале Иван Иванович рыцарски отвечал, мобилизовав на почту всех домочадцев. Пионерам писала дочка пятнадцати лет Люда, пенсионерам – бабушка. Их консультировали Иван Иванович и преддомкома.
Раз Люда, чуть не плача от обиды, показала отцу конверт с целующимися голубями.
Юный вертопрах изливал душу:
«Я не могу без вас дышать, Людуня! Вы, по статейке в газетке, очаровательны. Мне б вашу фотку».
Это признание явилось лишним пёрышком, от которого тонет судно.
Иван Иванович порвал первое письмо из своей героической почты и еле слышно клацнул зубами, предварительно откинувшись на спинку кресла.
Представляете, у него куда-то запропастился пульс.
19 февраля 1967
У всякого Филатки свои ухватки
(Рассказ фельетониста)
Трудно ползти с гордо поднятой головой.
Б. Крутиер
«Кто лыка не вяжет, тот и лапти не плетёт!»
– Музыка облагораживает! – выразил я дерзкое предположение.
Директор музыкальной школы Эдуард Зудяков, имеющий в наличии опухшее лицо, свидетельство пренебрежительного отношения к закуске, весело рассмеялся. Потому что я сказал невероятную глупость.
Взгляды на музыку явно расходились.
Интервью не клеилось.
Тогда я сменил пластинку и полюбопытствовал о досуге и самочувствии Зудякова, зная, что он оставляет в ведомости автографов на два с половиной уха.[30] Но не все же двадцать четыре часа в сутки печёт он рубли. Когда-то и отдыхает.
Как?
Утром он мечтательно и мучительно ждёт почту.
Письмо!
Он вожделенно вскрывает послание, пробегает первые строчки и уверенным руководящим шагом ложится на курс преподавателя Дудякова.
– Что делать с тобой, великий ты мой артист подгорелого театра? Ты что вчера залажал?[31] – патетически вскинул руку с конвертом. – Что же это за сольфеджирование? Вот…
Он уставился в письмо, запел угрожающим речитативом:
– «Мы, родители, уведомляем вас, товарищ директор, что нам очень больно видеть Якова Андреевича Дудякова на снегу. Они были выпивши и могли простудиться… У них, поди, в трубочку завернулись уши от холода…» Какая баркарола! Ты что, фигурист,[32] лошадиными дозами?
Дудяков принципиально изучает пол, повинно скребёт свой затылок.
Зудяков – свой.
Наконец Зудяков обрывает паузу.
– Такую фугетту оставлять нельзя. Действуй!.. Ну чего ни с места? Твой нешевелизм меня удручает… Две ноты крестом[33] не можешь изобразить? Ну нульсон![34] Хоть скоммуниздь где на фёдора…[35] Лабай![36] Давай аллегретто![37]
Дудяков готов занять на омовение жалобы хоть у Бога, хоть у учащихся. Кто даст скорее.
Искомая сумма находится.
Бедным родителям вечером снова больно.
«Фигуристов опять разносят по домам».
Непосвящённые могут от умиления расплакаться.
Надо же!
Как в Нежносвирельске почитают отцов музыки.
На руках носят!
А всё куда проще.
Музыкальные отцы хватили лишку и потеряли способность передвигаться по горизонтали. Их так и подмывает пасть трупами на землю. Между близкими и тружениками хитрого домика[38] разгорается конкуренция. Оттого, кто вперёд подоспеет, зависит, где проведёт музыкальная персона ночку. Дома или вне.
Если почта не приносит родительского сигнала, настроение у директора падает ниже некуда.
Тогда он подходит к первому попавшемуся сослуживцу мужского образца и тоскливо предлагает:
– Погрустим…
Это предложение выпить за счёт приглашаемого.
Мне рассказывали на вечере воспоминаний зудяковских странностей, разумеется, не для печати:
– Сидишь с ним по ту сторону столичной и грустишь. Щекотливый переплётишко. Идёшь с ним и дрожишь. Вот такой концертарий! Сам не пьёшь, а отказаться – Боже храни! Ну, если не собираешься больше работать, дело хозяйское… А если не планируешь устраивать проводы с музыкальным миром, то…
Как Дудяков ни отбояривался, но Зудяков своей властью навёл-таки его в понедельник, тринадцатого января, на грусть.
Хорошенько погрустили в ресторанчике.
Вышли на воздух.
– Сочини ораторию! – размажисто распорядился Зудяков.
В подстрочном переводе с музыкального это означает: купи бутылку.
Подчиненный был без финансов.
Зудяков сочинил сам и, болезненно соблюдая служебную дистанцию, сунул ораторию в дудяковский карман.
Кажется, пошли.
Тут весь горизонт заполнила собой жена Дудякова с ребёнком и распорядилась следовать мужу за нею в магазин.
Дудякову стало весело и он бездумно переметнулся в новый лагерь. При этом торжественно вручил Зудякову его ораторию с развёрнутым комментарием:
– Не хочу! Я как могу борюсь с этими проклятыми ораториями, а вы, извините, уводите меня от борьбы… Вы ещё за это, извините, ответите! – непослушным пальцем погрозил Дудяков и трудно откланялся.
Зудяков окаменел.
Это не школа, а какой-то непроходимый клуб трезвенников! Никто не принимает! Был Дудяков и тот рвёт со старым! Оставить меня в одиночестве? И в открытую!? При переполненном зале! Как простить такое рубато?[39]
Отойдя шагов пять, Дудяков остановился, подумал и решительно вернулся к Зудякову.
Собрался с последним духом, твёрдо проговорил:
– Не желаю жить грустно. Хочу жить весело! И вашего сомбрирования[40] не боюсь! Греби ушами в камыши![41] – И выразительно сделал ручкой.
Зудяков захлопал белёсыми ресницами.
Такой дерзости он не ожидал. Он был оскорблён во всех святых чувствах. И как следствие всего этого, в тот самый момент, когда Дудяков, приподняв шапку и коротко поклонившись, повернулся уйти, Зудяков единым взмахом руки оставил вязкий алый автограф на лице подчиненного в области выше бровей.
– Ну! Доволен, свинорыл, светомузыкой? – крикнул вслед Зудяков. – Не горюй, получишь добавки… Наставлю я тебе ещё фиников! Будешь знать, как не слушать начальство! Это ж ты, сундучок с блошками, навязываешь мне строй капиталистический![42] Ты чего убегаешь? Или ты на струе сидишь?[43]
События затянулись в тугой драматический узелок.
Как станет распутывать его Дудяков? Посредством ответного удара?
К счастью, ответа не последовало.
Специалисты усматривают причину в том, что музыка всё-таки благотворно влияет на Дудякова. Она не позволила опуститься ему до кулачного разрешения проблемы. К тому же бить начальство просто и непедагогично, и неэтично, и неэкономично, и как хотите низзя!
По другой версии, также заслуживающей внимания, Дудякова удержало новое пальто, которое так не хотелось пачкать.
Оставшись в тяжком одиночестве, Зудяков сделал непоправимое: разбросал по улице рыбу, расколотил об угол дома № 33 свою ораторию и с тоскливым наслаждением послушал, как содержимое со вздохом выпил снег.
В полночь он нанёс визит Дудяковым.
Дудяков уже спал.
– Встать, человек пять! – велел Зудяков охрипло и устало. – Разве ты не видишь, кто пришёл!? Дудяков! Вот тебе ручка! Вот тебе бумага! Вот тебе моё выссссокое благословение!.. Пиши по собственному. Заранее! Я ж тебя всё равно подловлю. Свалю. Для начала впаяю строгачевского за ослушание… Я тебе сделаю козью мордулечку! Ты ещё запоёшь, до-ре-ми-фасоля! Ну пиши!
– А я неграмотный! – выкрикнул Дудяков и с головой укрылся одеялом.
Прошло с год.
Зудяков до смерточки ждал увидеть Дудякова хваченым.
А Дудяков принципиально не оправдывал его горячих надежд. Крепился. Не сдавался. Даже боролся. С искушением. И постоянно был преступно трезв, как стеклышко.
Но однажды это стеклышко как-то нечаянно кокнулось.
Не выдержало нагрузки. Дало трещину.
Если честь по чести, милиции надо б благодарность. В тридцатиградусный мороз подобрала Дудякова и на хмелеуборочной – в вытрезвитель. Наверняка б сыграл в ящик. Спасла музыкальную единицу!
От радости Зудяков чуть не помер.
Вывесил в школе заранее им сочинённую молнию.
Строго-настрого наказал не срывать.
А вдруг…
И для надёжности он, ликующий, весь день простоял в холодном коридоре у молнии. Как в почётном карауле.
К вечеру Зудяков и посинел, и почернел.
У Дудякова нерабочий день, и Дудяков ничего не знает!
Под покровом глухой ночи директор сорвал свою молнию и – к Дудяковым.
В квартиру полуночного гостя не пустили.
Там помнили его прошлый визит.
Зудяков тоскливо поинтересовался с лестничной площадки. Через замочную скважину:
– Дудяков! Ну, ты проснулся? Ты где вчера ночевал? В образцовом вытрезвителе? Ну субчик! Ну бульончик! Ну отощалый блинчик! Я захожу с севера…[44] Ну какую же ты пустил фиксу![45]
– Отстань! Хватит тащить нищего по мосту![46]
– Чего? Неслышиссимо!
– Отстань говорю, нерводрал![47]
– Неутыка! Хоть вагон тебе умного скажи – всё уходит в свисток! Твоё ослушание тебя погубит. Я б мог накинуть тебе зряплатку… И были б у тебя тачка, дачка да с кайфом жрачка. И мы с тобой почасту обрывали б струночку.[48] А так, сучкастый… Век воли не видать! Научу я тебя свободушку любить! Послушай, нестроевич, какого мнения о тебе родная общественность!
И с неописуемым восторгом, с каким поэты читают стихи любимым, Зудяков стал выть в скважину:
– Дудяков! – в горячечном упоении пальнул Зудяков. – Ну, ты всё понял, хмырь зелёный, в своём реквиеме? Ты хоть понял, что ты помеха? Говоришь, кончай мессу да иди спать? Я-то пойду. Но уснёшь ли ты? Завтра ты у меня серенады запоёшь. Да хорошенечко перечитай про перетяжку![49]
Теперь я понимаю, почему смеётся Зудяков, когда услышит что-нибудь возвышенное про бедную музыку.
2 апреля 1967
Безответная любовь
Нет таланта – не зарывайся!
Л. Леонидов.
Если тебе хочется говорить, но нечего сказать – пиши стихи.
Почти всякий в молодости воображает себя пиитом, а потому при первой возможности начинает гугнявить что-то рифмованное. Ему (ей) мало аудитории в одну человеко-единицу. Мало места в альбомах. Газету подавай!
В редакции пошли навстречу трудящимся и торжественно открыли бухту «Графомания».
Час от часу не легче.
Полку графоманов катастрофически прибывает.
Здравствует в Кривых Двориках Даша Лебёдкина.
Библиотекарь.
По совместительству поэтесса.
На этой почве прислала в газету граммов сто своих трудов.
В «Детстве и юности» правдиво воспела пройденный путь:
Метко схвачено.
Только вот Даша маловато сидела за партой. Раз даже не заметила, что частица не в натянутых отношениях с глаголами, а потому предпочитает держаться от них на расстоянии.
Не в ладах Даша с точками и запятыми.
Не будем вдаваться в подробности по линии грамотности.
Что ещё для души приготовила Даша?
И что это за тявкуша, которая с самого утра без дела носится? За что её только и кормят?
Явную оплошность срочно запеленговала поэтесса.
Тут же сполна выдает себе программу-минимум на день:
А все же, о чём этот стих?
В нём, догадываемся, заложена глубокая философия: человек целенаправленней строит свой трудовой день, следовательно, и жизнь, чем наш общий четвероногий друг.
Дальше.
В этом творении тявкула уже исправился. Ну кто что скажет против такого трудолюбивого пса? Стережёт крыжовник, зарабатывает на кость насущную. Жизненно!
Но вот героиню следующего произведения каким-то ветром закинуло в лес.
Жадина, она «все сорвать готова».
Но вовремя одумывается и, довольствуясь одним лютиком, остальные несёт людям.
А если волна захлестнёт старушку? Кто отвечать будет?
Героиня Даши умаялась и потому задумалась о покое.
Своё бессилие сознаёт и Даша.
Чтобы «пропечататься», взяла в соавторы не Александра Сергеевича и не Михаила Юрьевича, а – нам кого попроще! – Василия Кулёмина.
Даша «углубила» Кулёмина.
К его стихотворению из двух четверостиший дописала ещё три своих. (Одно процитировано.) И поскольку три больше двух, изгнала известного поэта из соавторов, рассчитывая единолично на славу и гонорар.
Много земли перерывают золотоискатели и находят немного золота.
Так и журналисты.
Когда сотрудник редакции – не семи пядей во лбу, тем более не семисот, всего не удержишь в голове! – перерыл тонну лебёдкинской руды и отыскал восемь добротных строчек, он так обрадовался, будто персонально открыл новую Америку.
По иронии судьбы – нет, это не ирония, зёрна от плевел отличит всякий! – три строфы, усердно написанные Дашей, были пущены в распыл как самые бездарные. Оставшиеся две кулёминские и увидели свет за подписью библиотекаря.
Фанатичная любовь довела Дашу до ручки.
Любовь зла, полюбишь как следствие и козла.
Козла Даша забраковала.
Она всей душой к Парнасу, а он от неё – подальше. Ни на какой козе не подъедешь.
А не поостыть ли Даше?
Стихи не её стихия. Красть у других? Податься переделывать классиков? Нерентабельно. Враньё не споро, попутает скоро.
А что касается её фанатичной любви к поэтической славе, так надо помнить кое-какие пустяки. Фанатизм доводит до крайности. Магомета он привёл на престол, а Иоанна Лейденского – на эшафот.
Каждому – своё!
Увы…
2 июля 1967
Не дразните маленьких!
Как велик спрос на непотребное!
В.Базылёв
Лето.
Яуза.
Маленький гражданин из тех, что тише воды, ниже травы и не путается у общества в ногах, угрюмо швырнул на траву мятую кепку, на вздохе достал из кармана ломоть хлеба и «особую», гордо водрузил её на картуз.
В расслабухе сел.
Снова взял бутылку, погладил, будто смахивал пылинки, и, протянув её к солнцу, тихо и деловито сказал:
– За ваше здоровье, Солнышко!
Он коротко поиграл горниста, отпил из горлышка, и, со свистом высморкавшись, стал тоскливо смотреть на воду.
– Фу! Как вы дурно воспитаны, синьор!
Мужичок обернулся.
Двое мальчишек лет по пятнадцати.
В газетных пилотках.
Тот, что повыше, отвесил поклон:
– Пан Козырёк! А это мой денщик Бессловесный.
Бессловесный галантно раскланялся.
– Так вот, – в присутствии разочарования в голосе продолжал Козырёк, – вы посеяли чувство коллективизма. Что творит с людьми час волка![50] Вы что, понедельник? Слегка встряхнутый? Как вы можете один так бесцеремонно употреблять столь благородный напиток? Вас одиночество не угнетает?
– Раз пришли, садитесь, – упавшим голосом сказал мужичок и на всякий случай взял бутылку в руки.
– Не беспокойтесь. Пьём только своё.
Денщик сделал из газеты три бокала.
Один услужливо подал синьору, а в два зачерпнул из реки воды.
Синьор улыбнулся, но лить водку в бокал не стал. Играть горниста сподручнее.
Чокнулись.
– Вздрогнем! – панически крикнул пан.
Денщик выставил пану ладонь щитком. Отставить!
И тут же выхватил у того бокал и метнул содержимое назад в реку, отчего она заметно стала полноводней.
В речку он брезгливо плесканул и из своего бокала.
Потом спокойно, запросто, будто свою, взял бутылку, чтобы наполнить свой и панов бокалы.
Мужичок робко икнул, но успел выхватить свою пропажу, пробормотав:
– Это что же, растрата с криком?[51] Средь бел дня?
– Как этот эзоп[52] раскрыл клюв! – покачиваясь, светски заметил пан.– Я в полном обалдайсе! Невозможный эгоистяра. Ужасно!
– Пейте своё, стакановцы! – весело бросил мужичок.
– Это страшнее пустого стакана! Кончай, ханурик, рублиться![53] Иль ты и в сам деле рекламнулся? – Пан подставил новый газетный бокал. – Не устал ротор гонять?[54] Накапай полный!
Мужичок и тут не раскололся.
– Синьор Помидориков! Вы ещё долго собираетесь дурачить маленьких? Мы так можем и растусоваться…
Бесцеремонно щёлкнув по носу мужичка, Козырек вежливо вывинтил бутылку из слабых, захмелелых рук, затем слегка толкнул пьяника в грудь, и тот, споткнувшись o подсевшего сзади денщика, плюхнулся в реку.
Вынырнул.
От злости мужичок потерял дар речи.
– Синьор! Как самочувствие? – корректно осведомился Козырёк.
– Расхлебаи!..[55] Парразиты!..
– Оля-ля-а! Рассольчик слишком крепенький!..[56] – искренне выразил сожаление денщик и налил из бутылки.
Козырек и Бессловесный подняли бокалы, чокнулись, поклонились мужичку:
– Синьор! – протянул руку с полным бокалом денщик. – Желаем выпить с вами на брудершафт. Не откажите. Будьте любезны.
– Ваше здоровье, Сам Самыч! Считайте, что пьём на брудершафт. Вы ведь уже хлебнули водицы нашей. Ну, счастливого плавания. Сделайте мальчикам ручкой! Мы отбываем. Рассосали, оприходовали ваш бутылёк самопала… Пора менять картинку… Может, пойдём с нами на клотик пить чай с мусингами?
Мужичок плюнул и грустно повёл вокруг очами.
И был вечер
И был парк.
По алее шёл человек в очках, но с транзистором.
Слушал Чайковского.
Его догнали две парочки. Козырёк и Бессловесный со своими пристебушками.
Они твистовали на асфальте, стонали про Охотный ряд.
– Дядь! – сказалa грудным голосом юная отроковица в брючках и с синяком под глазом, она не старше, как восьмиклассница. – Дядь, будь умницей и джентльменом… В очках ноги не потеют? Ну, чего выкатил салазки?… Или я похожа на разноцветный сук?[57] Подари уж, пожалуйста, транзистор и – флаг тебе в руки! – спокойно шагай себе в клуб свободных эмоций. А не подаришь – ампутируем. Мы смелые.
У дяди, наверное, было своё мнение насчёт джентльмена, и он не кинулся одаривать ночную драную уховёртку.
Это смертельно поразило её ранимое самолюбие.
Клюшка подбежала к своим и вызывающе скомандовала:
– Пошепчемся! Я не собираюсь щёлкать клювом![58]
Через минуту Козырёк, улучив момент, неожиданно припомадил дядю кулаком в эпицентр[59] и ногой по щиколотке.
Тот упал.
Трое врассып.
А та самая клякса ринулась к нему и – за транзистор.
Крепко, шельма, держит!
Уличная фея в сердцах:
– Полное неврубалово! До чего же ты, нельзяин,[60] наглый! Уцепился как за своё. Ну и кретинелло! Ну мыслимо ль так грубить скромной девушке!? Или у тебя ширма поехала?
Дядя встал и, не расшаркиваясь перед фишкой, припечатал ей такую пощёчину, что та взвыла диким голосом старой склочницы и метнулась в глушь деревьев.
Не гадайте, дискуссии на тему «Так ли поступает мужчина?» я не собираюсь заводить.
Mы ничего не раздаём с такой щедростью, как советы.
Так вот.
Как же быть, чтобы наш подросток оставался подростком, чтоб диапазон его безобидных шалостей не вторгался в границу разбоя и хулиганства, той сферы нечистой деятельности, которая является высокой привилегией избранной категории взрослых?
Выход есть!
Если бы подростки читали о себе в газетах, они б давно стали образцово-показательными. Но подросток не читает газет. Человек он занятой. Учёба. Кружки. Не проворонит фильм, особенно, если на посещение публики до шестнадцати наложено табу…
И если ночному безусому «джентльмену» глянулся ваш костюм и вам последует совет быть умницей, не выходите из рамок, а любезно прочтите ему какую-нибудь статью о хороших мальчиках, с которых ему не запрещено брать пример.
Особенно напирайте на то, что у нас все обеспечены и базы для грабежа нет. И что этот случай – простo досадное недоразумение. Окажется под рукой магнитофон – прокрутите одну из радиопередач «Взрослым о детях».
Если ваш марш-бросок в педагогику не спасёт костюма, пеняйте на себя. Не носите красивых вещиц.
Не дразните маленьких!
28 августа 1967
Коварство без любви
Трепашкин вкатился в свою рабочую обитель ровно к девяти.
Он незлобив, несварлив, воспитан. Он деловой человек.
Есть у него дела и в Москве.
Потому он заказывает столицу.
– Заказ принят в десять пятнадцать. Ждите. Приняла сорок четвёртая.
Трепашкин ждёт.
Час.
Два.
Со злобной надежной глядит на телефон.
Телефон вызывающе нагло молчит.
Будто в мембрану воды набрал.
Трепашкин запамятовал кодекс воспитанного человека, схватил трубку.
– Справочная! Справочная! Ну где Москва? – допытывается с пристрастием. – Ну где эта ваша Москва?!
– В Москве.
– Ну сколько можно ждать!?
– Все ждут, – авторитетно ставят его в известность.
Трепашкин, успокаивая себя, пытается считать до тысячи.
Пустое!
Не до этого.
Куча неотложных дел.
Первое – Москва. Из-за неё всё стоит!
Нужна сию минуту. На одну минуту!
– Алло! Справочная! Три часа жду Москву!
– Подождёте ещё. Ничего не случится.
– Господи-и!.. После дебатов с вами, пока выбиваешь эту Москву, надо скакать в аптеку и закупать на всю зарплату таблеток от сердца!
– Таблетки – дело личное, – уклончиво комментирует телефонистка монолог. – Хочешь глотай, хочешь за себя кидай.
Благородный Трепашкин жаждет крови.
Он просит старшую, чтобы та указала строптивой.
– Не вешайте трубочку, – деловито советует старшуня.
Через минуту:
– Вы слышали? Она просила у вас извинения и даже плакала!
Трепашкину стало стыдно.
Из-за него плачут!
Он извинился и положил трубку.
Растерялся.
Неужели это уже галлюцинации? Или просто показалось? Ведь то, что он слышал – давящийся смех! А ему говорят – плач.
Он бежит в соседний кабинет подчиненного и визгливо осведомляется:
– Справочная! Что вы делаете? Уже четверть часа, как отключили телефон!
– На подготовочку взяли.
– Мне работать надо! Дайте хоть по городу звонить! – умоляет он.
– Это можно.
Москву всё-таки дали. В шестнадцать пятнадцать!
Но говорить не посчастливилось.
В нужной конторе работали до четырёх.
Трепашкин позвонил старшей Печниковой и вежливо осведомился:
– Что у вас творится? С десяти часов не могли дать Москву!
– Претензии не по адресу. Четверть часа как я заступила. Первую смену вела Ромашина.
– Бог с ними, с этими сменами, – вздохнул Трепашкин. – Но вы представляете, сколько вреда приносит ваше невнимание? Во-первых, я шесть часов, ничего не делая, на нервах просидел у телефона. Ждал. Целый день! И таких горемык ведь множество!
– Вы не один.
– Что можно сделать за шесть часов?
– Не знаю, – искренне созналась Печникова.
– Съездить в Москву и уладить дела! Второе. Двадцать один раз обернуться вокруг Земли! За это время Волга вливает в Каспий… Сколько вёдер воды?
– Но при чём тут вода?
Он извинился и поплёлся домой.
Ему чудилось, что по пятам несётся бесёнок и дразнит:
– Тунеядец! Тунеядец!
– Не по своей воле, – разгромленно буркнул в оправдание Трепашкин.
За день у него под глазами повисли мешки, посеял сколько нервных клеток, а они не восстанавливаются.
Во имя чего все эти приобретения?
Земля слухом полнится – после этого детективного происшествия на телеграфе был срочно создан кружок. Появился у него лозунг «Что ты сделал, чтобы твоей работой был доволен абонент?»
Этот кружок – оригинальный ликбез. Что-то вроде ликвидации безграмотности в отношениях между телефонистками, с одной стороны, и абонентами – с противоположной.
На первом занятии проходили всесильное слово пожалуйста, с которым натянутые отношения у телефонисток.
Учеба, оказывается, штука сложная.
Как ни трудно, а до смысла докопались.
Потом, чтоб тут же не позабыть, повторили пожалуйста десять раз хором.
Как пишут в газетах, первый рубеж был успешно взят.
На втором занятии отдельные слова смело складывали в простые предложения типа: «Абонент – наш друг», «Давайте беречь смолоду его нервы и время».
Успехи делались грандиозные.
От простых предложений переметнулись к сложным:
«Не стучи себя по виску и не гримасничай в трубку, когда отвечаешь абоненту, доведённому тобою до белого каления».
И этот рубеж с бою взят!
Не пора ли теперь садиться за гимн-очерк о телефонистках?
Но об этом в следующий раз.
Ведь не последний день звоним.
10 октября 1967
Глина
Дарование в человеке есть бриллиант в коре. Отыскав его, надобно тотчас очистить и показать его блеск.
Александр Суворов, полководец.
В Нижнедевицке, в районном степном селе под Воронежем, самые разные люди говорили про Михаила решительно разно:
– На что там у него смотреть? Серость! Примитивщина!
– Ну додуматься же до такого! Родному отцу алебастровый памятник во дворе поставил! Цыгане с испугу десятой дорогой обегают его дом. Чудик, каких поискать… А послушаешь, так наговорит такую кучу дров! Право, зачем вам тратить понапрасну время на встречу с ним?
– Если вы хотите увидеть необработанный русский самородок, отправляйтесь сию же минуту в Лог! Это же неподнятый пласт народной культуры! Выбросьте из головы, забудьте, что вам пели про него и отправляйтесь. Нy чего же вы думаете?
Категорическая противоречивость мнений заставила меня не клянчить ни у кого никакого «мотора», и я почапал, как здесь говорят, в Лог пешком.
Благо, был солнечный день, и последнее нежаркое августовское тепло вовсе не портило дорогу.
На пригорке стоял свежевыбеленный Михаилов дом.
Я огляделся, но никакого памятника я нигде не видел. Я подошёл к дому сбоку и только тут заметил свинцовый барельеф, прибитый к белой стене гвоздями: шляпки едва были различимы.
Наверное, слишком долго и сосредоточению я рассматривал человека со стены, так что и не увидел, как откуда-то сверху, с косогора, спустился долговязый, моложавый мужчина.
Мы переглянулись.
Как я и догадался, это был сам Михаил.
Я не знал, с чего начать.
Он же, поглядывая то на меня, то на стену, краснел всё заметней, и через какие-то полминуты его продолговатое лицо пылало огнём, и ещё на этом лице просеклось какое-то выражение школярской виноватости, будто его ждал выговор.
Я молчал.
Тогда Михаил, в нерешительности показав глазами на барельеф, тихо сказал:
– Отец…
Я кивнул.
– Он, – оживился Михаил, открывая дверь, – у меня и… Заходи в хату. Он у меня и в альбомах везде. Вот на, посмотри. И вот на стене над койкой увеличенный. И вот… Сам рисовал.
С огромного полотна величиной с полстены прямо на нас печально смотрел пожилой человек, сидевший на бревне. Какой-то полубольной, отрешённый, какой-то бессильно-отчаянный, но нет, не равнодушный ещё. Может, с профессиональной точки тут не все гладко выписано, но зато здесь схвачено метко куда более существенное: здесь сама госпожа естественность, сама реальность. Жизнь прожита, а главное так и не сделано, жалуются глаза.
– Как ему жилось?
– Не сахарно… Мечтатель… Ветродвигатель изобретал. Писем Москва полный угол накидала, а дело так и не вышло. Любил отец и фотографию, а сам был мастер по часам. Хороший, хвалили, был мастер. Зайдите в любую сейчас мастерскую, попросите для смеху выточить какую детальку для ручных часов. Заменить заменят заводской деталью, а сами не выточат. А он на станочке ось маятника вытачивал для дамских часов. Там той осюшки длина миллиметра два! Лупу на глаз, работал с лупой, хоть и был под годами… К фотографии я крепко прилип. Это у меня от отца. Есть у меня киноаппарат. Снял, как отец ходит, кур кормит, сидит на бревне, отдыхает… В Его День домашним показываю эту свою кино.
– Ты учился?
– А то как жа! Восемь классов. Школа киномехаников.
– А потом?
– А потом таскаю вот банки с плёнкой то в Гусёвку, то в Лог. В этих двух сёлах картины показываю.
– Как ты стал рисовать?
– Так это ещё со школы. А вот… В шестьдесят пятом помер отец. Захотелось оставить какую память по отцу. Думаю, дай-ка на скульптуру его возьму. Попервах из пластилина это бюст. Вышло вроде того. Ага, загорелся Мишака! Из синей глины – в речке у нас такая – попробовал, покрасил. Ничего! А из гипса? Ну, какая аптека мне столько гипсу продаст?! Так я в скобяном магазине набрал алебастра. Сделал до пояса, поставил на постаментишко перед окном, где отец на брёвнышках частенько сиживал. Год простоял! А там дожди да морозы сгубили все мои старания. По городам льют как-то с пустом внутри, а у меня он целиковый. Зимой надумал лопаться. Тулово я выбросил, а головы и одну и другуя уберёг.
Михаил небрежно так достал из-под кровати старый мешок, и извлёк из него обе головы, извлёк неожиданно и мне стало страшно. В первое мгновение мне показалось, что настоящие эти головы так быстро сняли с чьих-то плеч, что ещё и кровь не успела выступить, что ещё и жизнь не успела уйти из глаз – настолько велико было ощущение правдоподобия. Мне стало невмоготу оставаться поэтому в доме, я попросил Михаила выйти во двор.
– Вот так многия, – переступая порог, со смешком говорил Михаил. – Придут, пытают, что, чего, как… А покажешь головы – на пуле выскакивают и до свиданухи не говорят.
Во дворе сидит на корточках ватага ребят. У каждого по подсолнуху. Грызут семечки, ещё молочко. Рядом с белоголовым хлопчиком рослый петух-красавец с изумительными шпорами спокойно, даже лениво склёвывает семечки из одной же шляпки, что была в руке мальчика.
– Петушака подсолнухи любя, – поясняет эту картину Михаил и продолжает: – Не мог я смириться с тем, чтобы не было у меня никакой памяти по отцу. Надумал я сделать из свинца. Спросил у одного заезжего малярика, как сделать форму. Тот сказал. Тогда мы с Юркой, – Михаил показал рукой на паренька, от которого не отходил петух, – пошли в яр. Туда у нас сваливают негодную всякую технику. Набрали мы из аккумуляторов перегородок свинцовых, поплавили в ведре на костре, сделали форму в земле… Три года висит на стене барельеф. Понравился очень деду Тиме Иванову. Навалился дед просить: сделай и меня так на памятку. Нy что мне, глины в речке жалко? Сел покойный так, смотрю я на него и леплю… Не успел сосед, мастер по шапкам, сшить шапку, как мой дед готовенький. Покрыл серебрянкой. На, дедуня, неси себя на радость, и пошёл, будто глыбу золота понёс… Слушай, а чего б нам не сходить к его бабке и не посмотреть, как я сделал?
Тот бюст стоит на столе, на самом распочётном месте.
Пелагея Уколовна говорит:
– Деда вродешко и нетути, а как же нетути, раз он вот стоит как живой? Славно Мишака зарисовал.
– Рисовал я вот это, – показывает Михаил на полотно на стене, обое вы там. А это я лепил.
– Ну, какая ж там разничка – лепил, рисовал? Главно – как живой!
Заходили и в другой по пути дом, и там Михаилова работа. И там похвалы Михаилу.
Хозяйка мне говорила:
– Ты, гостюшка, не думай, раз хвалю, так мы с ним родня. Мы такая родня: плетень горел, а мы руки грели.
Когда мы остались одни, я спросил Михаила:
– Нравится работать с глиной?
– А чего? Интересно, уважаю я эту делу. Прямо тайна… Смотри, сначатия ничего, глина и глина. У другого ком глины он и есть ком глины, а у меня, у Мишаки Шестопалова, из глины выходя отец, дед Тима… Вот есля б мне почитать хоть одну книжонку по скульптуре… Иля послушать человека, что по этому делу работая. А что жа я, самоучка, всё сам да сам? Хорошо, eсля б таких, как я, собирали хотешки раз на год, смотрели их работы, советовали, подсказывали, как лучша делать наперёд.
– Ты знаком с кем-нибудь из художников-самоучек в Нижнедевицке?
– Так-то я кой да кого знаю. А подойти не решаюсь. Я ж ни с кем не знаком! Они люди с дипломами. В грамоте. Они повыше, а я пониже. На улице не подойдёшь… А своего места… ну мастерской, у них тожа нетушки. Так что пока только с барыней с глиной и поговоришь… Мда-а… Так посмотришь, глина и глина… Кому ком грязи… А у кого из глинки выходя отец… дед Тима… Правда, чудно`? А?…
Село Лог, Нижнедевицкий район, Воронежская область. 1978
Даю на отсечение!
Темнота тоже распространяетсясо скоростью света.
Л. Ишанова
Избирательность памяти коварна.
Не помню я ни лица, ни имени учительницы, научившей читать, писать. Зато расхорошо помню другого своего первого учителя. По курению. Точно вчера с его урока.
Васька.
Лохматый двадцатилетний леший. Носил и в лето и в зиму неизменно по две фуфайки. Всаживал одну в одну, как матрёшки. И круглый год бегал в малахае. Это-то на Кавказе. (Дело происходило в местечке Насакирали.)
Васька был большой начальник.
А я маленький.
Васька пас коз, я пас козлят. С июня по сентябрь, конечно. В каникулы.
В рабочей обстановке мы не могли встречаться, хотя производственная необходимость в том и была. Сбежись наши стада, это чревато… Вернутся козы домой без молока.
У Васькиных коз и у моих козлят были прямые родственные связи. Как говорил Васька, это была кругом сплетённая родня.
Однако в обед, когда наши табунки дремали в прохладе придорожных ёлок, мы с Васькой сходились на бугре. Третьим из начальства был Пинок, важный Васькин пёс с человеческим лицом. Всегда держался он справа от Васьки. Был его правой рукой.
Козы были по одну сторону бугра, козлята по другую. Они не видели друг друга, зато мы с Васькой видели и тех и других. У хорошего пастуха четыре глаза! И если уж они паче чаяния кинутся на сближение, им другого пути нет, как только через наши трупы.
Но разве мы допустим их воссоединения?
И вот однажды в один из таких обеденных перерывов – было это в воскресенье тринадцатого июля 1952 года – мы сошлись. Запив полбуханки чёрного хлеба литром кипячёного молока из зеленой бутыли, посоловелый Васька – а было так парко, что, казалось, плавились мозги, – разморенно вставил себе на десерт в угол губ папироску. С небрежным великодушием подал и мне.
Я в страхе попятился, спрятал руки за спину.
– Ты чего? – удивился Васька. – Кто от царского угощенья отпрыгивает по воскресеньям?
– Я не к-кур-рю… – промямлил я оправдательно.
– А! – присвистнул Васька. – Вон оно что! Мамкин сосунчик! Долго ж тебя с грудного довольства не спихивают. Сколько тебе?
– Тринадцать.
Васька лениво мазнул меня пальцем по губам. Брезгливо осмотрел подушечку пальца. Вытер о штаны.
– Мда-а… Молочко ещё не обсохло. Мажется, – трагически констатировал он. – Несчастный сосунчик!
Это меня добило.
Я молча, с вызовом кинул ему раскрытую руку.
Он так же молча и державно вложил в неё «ракетину».
– Хвалю Серка за обычай. Хоть не везёт, дак ржёт! – надвое сказал Васька.
Что он хочел этим сказать? Что я, дав вспышку, так и не закурю? Я закурил. Судорожно затянулся во всю ивановскую. Проглотил. И дым из меня повалил не только из глаз и ушей, но и изо всех прочих щелей. Я закашлялся со слезами. Во рту задрало, точно шваброй.
– Начало полдела скачало! Всё путём! – торжественно объявил Васька. И мягко, певуче вразумил: – Всякое ученье горько, да плоды его сладки…
– Когда же будет сладко? – сквозь слёзы допытывался я.
– Попозжей, милок, попозжей, – отечески нежно зажурчал его голос. – Не торопи лошадок… Надо когда-то и начинать… А то ты и так сильно припоздал. У меня вон куревой стаж ого-го какой! Я, говорила покойница мать, пошёл смоктать табачную соску ещё в пелёнках. Раз с козьей ножкой уснул. Пелёнки дали огня. Народ еле спас… Кто б им тепере и пас коз?… А вызывали, – Васька энергично ткнул пальцем в небо, – пожарку из самого из района! Жалко… С пелёнками успел сгореть весь дом, а за компанию и два соседних.
Его героическое прошлое набавило мне цены в моих собственных глазах.
Я угорело зачадил, как весь паровозный парк страны, сведённый воедино.
– Это несмываемый позор, – в нежном распале корил Васька, любя меня с каждой минутой, похоже, всё круче, всё шальней. – В тринадцать не курить! Когда ж мужчиной будем становиться? А? В полста? Иль когда вперёд лаптями понесут? И вообще, – мечтательно произнёс он, эффектно отставив в сторону руку с папиросой, – человек с папиросиной – уважаемый человек! Кум королю, государь – дядя!… Человека с папироской даже сам комар уважает. Не нападает. За своего держит! Так что кури! Можь, с куренья веснушки сойдут да нос перестанет лупиться иль рыжины в волосе посбавится… Можь, ещё и подправишься… А то дохлый, как жадность. Вида никакого, так хоть дыми. Пускай от тебя «Ракетой» воняет да мужиком! – благословил он.
А я тем временем уже не мог остановиться. Я прикуривал папиросу от папиросы.
Васька в изумлении приоткрыл рот, уставился на меня не мигая.
– Иль ты ешь их без хлеба? – наконец пробубнил он.
Он не знал, то ли радоваться, то ли печалиться этаковской моей прыти.
На… – ой папиросе у меня закружилась голова.
На… – ой я упал в обморок.
Васька отхлестал меня по щекам. Я очнулся и – попросил курева.
– Хвалю барбоса за хватку! – ударил в землю он шапкой. – Курнуть не курнуть, так чтобы уж рога в землю!
До смерточки тянуло курить.
Едва отдохнул от одной папиросы, наваливался на новую. Мой взвихрённый энтузиазм всполошил Ваську.
– Однако, погляжу, лихой ты работничек из миски ложкой, особо ежли миска чужая… По стольку за раз не таскай в себя дыму. Не унесло бы в небонько! Держи меру. А то отдам, где козам рога правят.
Не знаю, чем бы кончился тот первый перекур, не поднимись козы. Пора было разбегаться.
– Ну… Чем даром сидеть, лучше попусту ходить. – Васька усмехнулся, сунул мне пачку «Ракеты». – Получай первый аванец. Ребятишкам на молочишко, старику на табачишко!
Пачки мне не хватило не то что до следующего обеда – её в час не стало.
На другой день Васёня дал ещё.
– Бери да помни: рука руку моет, обе хотят белы быть. Ежли что, подсобляй мне тож чем спонадобится.
Я быстро кивнул.
Каждый день в обед Васёня вручал мне новую пачку.
Так длилось ровно месяц. И любовь – рассохлась.
Я прирученно подлетел к Васёне с загодя раскрытой лодочкой ладошкой за божьей милостынькой. Васёня хлопнул по вытянутой руке моей. Кривясь, откинул её в сторону и лениво посветил кукишем.
– На` тебе, Тольчик, дулю из Мартынова сада да забудь меня. Разоритель! Всё! Песец тебе!… Испытательный месячину выдержал на молодца. Чё ещё?… С ноне ссаживаю со своего дыма… Самому нечего вон соснуть. Да и… Я не помесь негра с мотоциклом. Под какой интерес таскай я всякому сонному и встречному? Кто ты мне? Ну? – Он опало махнул рукой. – Так, девятой курице десятое яйцо… Я главно сделал. Наставил на истинный мужеский путь. Мужика в тебе разбудил… Разгон дал. Так ты и катись. Добывай курево сам. Невелик козел – рога большие…
Этот его выбрык выбил меня из рассудка.
– Василёк, не на что покупать… – разбито прошептал я.
– А мне какая печаль, что у тебя тонкий карман? Шевели мозгой… Не замоча рук, не умоешься…
Стрелять бычки у знакомых я боялся. Ещё дойдёт до матери… Стыда, стыда… К заезжим незнакомцам подходить не решался. Да и откуда было особо взяться незнакомцам в нашей горной глушинке?
Не получив от Василия новой пачки, я в знак вызова – перед гибелью козы бодаются! – двинул зачем-то козлят в обед домой, в наш посёлочек в три каменных недоскрёба.
Уже посреди посёлка мне встретилась мама.
Бежала к магазинщику Сандро за хлебом.
Я навязал ей козлят, а сам бросился в лавку.
Радость затопила душу. В первый раз сам куплю! Накурюсь на тыщу лет вперёд! Про запас!
На бегу – в ту пору я всегда бегал, не мог ходить спокойным шагом – сделал козу замытой дождями старой записке на двери «Пашол пакушать сацыви в сасетки. Жды. Нэ шюми. Сандро.» – и ветром влетел в лавку.
Денег тика в тику. На буханку хлеба да на полную пачку «Ракеты»!
Сандро курил.
Заслышал о «Ракете» – жертвенно свёл руки на груди. Из правой руки у него бело свисал, едва не втыкался в прилавок, длинный, тонкий, съеденный хлебом нож, похожий на шашку. Этим ножом Сандро резал хлеб, который продавал.
– Вах! Вах!.. – сломленно изумился Сандро и забыл про папиросу в углу губ. – Ра амбавиа, чемо мшвениеро?[61] Ти, – он без силы наставил на меня нож, – хочу кури`?… Кацо, ти слаби… Муха чихай – ти падай!.. Хо, хо![62] Тбе кури не можно… От кури серсе боли-и, – опало поднёс руку с ножом к сердцу. – Почка боли-и, – болезненно погладил бок, – тави[63] боли-и, – обхватил голову, постонал. – Любофа… дэвочка нэ хачу… Нэ нада блызко…
Сандро жадно соснул и, завесившись плотно дымом, уныло бубнил:
– И рак куши, куши тбе всё… Скушит, спасиб скажэт, а ти спасиб ужэ нэ слишишь, пошла на Мелекедур…[64]
Он потыкал, нервно, коротко, ножом вверх, покойницки сложил руки на груди:
– Деда[65] плачи. Твоя друг Жора Клинков плачи. Сандро тожэ плачи… Один шайтан папирос смэётся!
Сандро свирепо сшиб ногтем мизинца шапку нагара с папиросы, яростно воткнул её снова в рот.
– Вот ти на школа отлишник… истори знай… Полтыщи лэт назад в Англии и в Турции курцам дэлали «усекновение головы». Простыми словами – башка долой к чёртовой маме! На Россия курцов учили палками. Не помогало кому – смертную казнь давали. И луди всэ бил крепки, всэ бил здорови. Дуб, дуб, дуб всэ!… И пришла на цар Пэтре Пэрви… Покатался по Европэ да превратился в заядли курильщик. Пэтре позвала мужик, сказала: «Кури, чемо карго[66]! Кури, чемо окро каци![67] Нэ буди кури – давай голова сюда мнэ! – Сандро ласково поманил пальцем, позвал: – Дурной башка секир буди делат!» И всэ эсразу кури-и, кури-и… Сонсе за дым пропал!… Сама Пэтре мно-ого кури-и-ии, кури-и-и… Сама Пэтре от кури тожэ на Мелекедур пошла… – скорбно сложил руки, как у покойника. – А бил Пэтре, – Сандро с гурийским неуправляемым темпераментом зверовато прорычал, размахнул руки на весь магазин, показывая, какие разогромные были у Петра плечищи; угрозливо рыкнул ещё, вскинул руки под потолок – экий махина был Пётр! И сожалеюще, пропаще добавил: – А табак секир башка делал Пэтре, не смотрел, што на цар бил…
Сандро помолчал и убеждённо закончил свою речь, воздев в торжестве указательный палец:
– Табак сильней царя!
С минуту простояв в такой монументальной позе, Сандро твёрдо, основательно пронёс белый нож туда-сюда в непосредственной близи моего носа, медленно, злобно выпуская слова сквозь редкие и жёлтые от курения зубы:
– Нэт, дорогой мой, поэтому ти «Ракэт» нэ получишь. «Ракэт» я отпускаю толко лебедям… двойешникам. У ных ум нэту, на ных паршиви «Ракэт» не жалко. На тбе паршиви «Ракэт» жалко. Ти отлишник, у тбе чисты ум, ти настояшши син Капказа! Син Капказа кури толко «Казбеги»!
Я считал, что я горе горькое своих родителей, а выходит, я «сын Кавказа» и должен курить только «Казбек»! Чёрт возьми, нужен мне этот «Казбек», как зайцу спидометр!
Но выше Сандро не прыгнешь, и вместо целой пачки наидешевейшей, наизлейшей «Ракеты» он по-княжьи подал мне единственную папиросину из казбекского замеса.
Чтобы никто из стоявших за мной не видел, я обиженно толкнул папиросу в пазуху и дал козла, быстрей ракеты домой. Только шишки веют.
Папироса размялась. Я склеил её слюной. Бухнулся на колени, воткнул голову в печку и горячо задымил. С минуты на минуту нагрянет мама с водой из криницы в каштановом яру, надо успеть выкурить!
Едва отпустил я последнюю затяжку – бледная мама вскакивает с полным по края ведром.
– А я вся выпужалась у смерть… Дывлюсь, дым из нашой трубы. Я налётом и чесани. Заливать!
Она обмякло усмехнулась, с нарочитой серьёзностью спросила:
– Ты тут, парубоче, не горишь?
Я сосредоточенно оглядел себя со всех сторон. Дёрнул плечом:
– Да вроде пока нет…
Мама смешанно вслух подумала:
– Откуда дыму взяться? Печка ж не топится…
И только тут она замечает, что я стою перед печкой на коленях.
– А ты, – недоумевает, – чего печке кланяешься?
– Да-а, – выворачиваюсь, – я тоже засёк дымок… Вотушки смотрю…
Мама нахмурилась, подозрительно понюхала воздух.
– А что это от тебя, як от табашного цапа, несёт? – выстрожилась она.
– Так я, кажется, козлят пасу, а не розы собираю…
Еле отмазался.
Но как же дальше?
Переходить на подножный корм? Подбирать окурки? Грубо и пошло. Не по чину для «сина Капказа». Покупать? А на какие шиши?
А впрочем…
Я не какой-нибудь там лодырит. Не кручу собакам хвосты, не сбиваю баклуши. В лето хожу за козлятами. За своими, за соседскими. Соседи кой-какую монетку платят за то матери. Могу я часть своего заработка пустить на поддержание собственного мужского достоинства?
«Ракетой» я б ещё с грехом пополам подпёр своё шаткое мужское достоинство, будь оно неладно. И зачем только раскопал его во мне преподобный Василёчек? А на «Казбек» я не вытяну. Да и как тянуть? Из кого тянуть? Нас у матери трое. Каждая копейка загодя к делу пристроена. Каждая аршинным гвоздём к своему месту приколочена. Ни Митюшок, ни Гришоня не курят, а они-то постарше. Отец вон на войну пошёл, погиб, а тоже не курил. А что же я?
Папироска из пачки с человеком в папахе и бурке была последняя в моей жизни. Была она ароматная, солидная. Действительно, когда курил её, чувствовал себя на полголовы выше.
Страшно допирала, припекала тяга к табаку. Однако ещё сильней боялся я расстроить, огневить матушку, братьев.
Во мне таки достало силы не нагнуться за первым бычком, втоптанным одним концом в грязь. Достало силы не кинуться с рукой к встречному курцу.
Позже, когда я зажил самостоятельно далеко от родных, у меня в кармане всегда стучало больше чем на пачку «Ракеты». Но к папиросам меня уже не звало, не манило.
Я угощал девушек конфетами. Девушки не стеснялись угощать меня папиросами. Я вежливо и так обстоятельно отнекивался, что распечатал четвертый десяток в чине холостяка. По временам бедное сердце замирало: неужели придётся жениться на табакерке?
Но, слава Богу, нет правил без исключений.
Мне мое исключение нравится. Не надышусь… Да, да. Я говорю о жене. Представляете, не курила, не курит и не хочет! Прямо какая-то небожителька или инопланетянка.
А инопланетянам ай как туго приходится на земле. На работе сидит моя инопланетянка в комнате, где ещё пять молодых пеструшек. Все укушенные, разведённые. Все курят. И ка-ак ку-урят!
Порядочный конюх не закурит в присутствии лошади: лошадь не переносит дыма. Наш же прекрасный слабый пол открыто смеётся над лошадиными нежностями. Вся капелла как ударит в пять тяг – пожарники, взлетев по своей автолестнице, не раз совали в форточку шланг. Однажды даже пустили пену, и отделались бедолаги лёгким порицанием по службе.
Домой возвращается моя насквозь продымленная всегда и слегка закопчённая. Не то что комар – я боюсь к ней приближаться. Летом при открытом окне меня комары до костей за ночь искусают, а её облетают. А ведь мы обое не курим.
Дело дошло… Приехавшая из филиала бухгалтер пихнула ей в стол свёрток: пускай полежит.
Через день звонит та южанка с вокзала:
– Друженька! Через три минуты я отбываю…
Моя и всполошись:
– Ка-ак!? Ты ж забыла у меня в столе…
– Ничего, лапушка, я не забыла, – игриво сладит та. – Я никогда ничего не забываю. То я тебе, пардон, подарушек подложила. Не свинью. Прими и не ругайся, пожалуйста. Ты хорошо приняла мой отчёт.
Разворачивает моя свёрток и не знает, то ли радоваться, то ли погодить. Это была её невольная первая… Взятка? Не знаю… Бутылка чернил[68] и пачка дорогих сигарет с афишкой на боку: «Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья».
Господи, до чего докатились. В благодарность уже ничего приличного кроме сигарет не могут презентовать. По своим запросам меряют. И подкладывает-то кто! Незамужняя молодая завлекалка своей сверстнице!
До жестокого дымного бума дожили мы. Все загрязняют и среду, и себя. Все чадят. Заводы. Фабрики. Котельни. Машины. Люди. Взрослые и не очень. Женщины. Мужчины.
«Бесовская пагуба» всех одолела. Чадят дома. Чадят на работе. В школе. Под школой. В подвалах. На чердаках В поездах. В автобусах. В самолетах…
А виноват мужчина. Нет в доме Мужчины, нет властной мужской руки. Сломался, вывелся мужик. Сила безволия сильнее его самого, придавила его, не может он наступить собственной табачной песне на горло. Как уверяет жена, нынче не мужики пошли, а одна хилость. Мужики избабились, а бабы измужичились, уточняют сами женщины. И итожат: нынче она – это он, а он – это она.
Доколе же слушать такое?
Мужики-дымари, внимай сюда. Под секретом что шукну… По самым авторитетным коридорным слухам, скоро введут налог на дым. Удовольствие дорогое. Себе в убыток. Выгодней заранее бросить… Соберите в кулак остатки мужества[69] и докажите, что вы мужики не только по паспорту.
Давайте поиграем в мужчин.
В игру принимаются и те, кто не играет в хоккей. Давно и с пристрастием просят вас врачи не курить. И вообще врачи мира только добра Вам всем хотят. Лозунг у них какой был! Воспитаем к 2000 году поколение, не знающее вкуса табака.
Но мы уже проехали двухтысячный. Какие успехи насчёт вкуса? Гран-ди-о-зные! Даже в школах дети открыто курят. Я от умиления рыдаю, когда вижу, как на переменках пионэрки сановито чадят у входа в школу. Теперь мы топчемся на порожке новых побед. Ждём-с, когда разрешат курить и в детских садах. А там и в яслях.
И всё же…
И всё же, как быть тем, кто сегодня не прочь бросить? Кто решил сорваться с дымного пути? Кто без толку изводит врачей?
Я таким страдальцам доложу. Не казните себя курсами рефлексотерапии, аутогенной тренировки. Не тираньте себя иглоукалыванием. Не заедайте свой век таблетками. Не смешите гипнозом и жвачкой от курения. Сделайте хоть одно доброе дело для себя. Выбросьте однажды ко всем чертям все ваши вонючие соски и не летите вослед подбирать их, чтоб тут же воткнуть в рот. Удержите себя, вспомните, что вы мужчина.
Обязаны «стоять доблестно».
Обязаны, так стойте. И не дёргайтесь. Отсева в игре в виде чьей-либо кончины не ожидается.
Не верите? Нужны живые факты? Вот вам ваш покорный слуга. Бросил и не помер!
Мало утешения в одном примере? Подавай массовость? Можно и массовость. Во Франции… Когда-то во Франции «курение быстро стало привилегией богатых и знатных людей. Маркиза де Помпадур, любимая хозяйка Луи XV, была страстным курильщиком и имела больше чем триста трубок!» Теперь этим не гордятся. В той же Франции разом целая деревня Салер – двести пятьдесят человек! – недавно бросила это дело, табак. И все живы! И вас ждёт не дождётся та же участь.
Гарантирую!
А чтобы был стимул в игре, на кон ставлю в количестве одной штуки свою голову, слегка задымленную в глубоком розовом детстве. Даю её на отсечение тому, кто навеки угаснет от разлуки с папиросой, с этой ядовитой радостью.
На кону ставка, пожалуй, приличная. Так что играйте на здоровье.
Играйте по всем правилам.
Пошёл – иди, не оглядываясь.
И не пятясь.
1983–2001
Битва при кулинарии
Ничто так не компрометирует, как знакомство с собой.
Ген. Малкин
У нас довольно симпатичная библиотека. Много ли, мало ли, но если у Пушкина было три тысячи книг, так у нас, извините, поприличней.
Правда, к книжкам к своим мы не притрагиваемся. Бережём. Лет через тридцать вот выскочим на пенсию. Будем старенькие, будем боленькие… До городской библиотеки не доплывёшь. Тогда и навалимся союзом на свои запасы, все по порядку до единой перехлопаем. А пока мы со своих мудрых писаний и пыль не смахиваем. Пускай тоже мудреет.
Но как-то жена с полуупрёком, с полусожалением обронила:
– Будь у нас свои сказки, я б читала по одной на сон грядущий. Сказки короткие, хорошие. Сказки всегда хорошо кончаются, и я бы быстро засыпала.
Жена намекнула – муж из-под земли, а подай!
Я намотал на рыжий ус её пожелание и почувствовал себя роденовским мыслителем.
Где добыть сказки? Где, ёлка с палкой?
Сказок всяких выше глаз. Русские… Братьев Гримм… И прочие другие.
У меня нет братьев, нет прочих других.
Однажды я увидел на улице мужчину, забитого макулатурой. Макулатура была в руках, на плечах и чуть ли не в зубах.
– Чем радуют? – спрашиваю.
– Братишками.
Я с лёту – продай! Предлагаю за несчастный мусор всё, что было со мной и на мне.
– Юмор трамвайных широт, – мрачно оценил он моё горячее поползновение к приобретению и сановито удалился в сторону приёмного пункта вторсырья.
Своей макулатуры у меня не было. Оставалось кусать несъедобные локти. Да занятие это нерентабельное.
Уцелился я в лихорадке собирать бумажный хламишко. Естественно, покуда копил, братьев с горизонта как ветром сдуло.
Отслоилось месяца три.
В субботу пятнадцатого октября, в полусолнечный день, мы прогуливались.
Ещё издали жена заприметила на двери вторсырья белое пятно. Подбежала и обомлела. Подхожу я, она сражённо, без слов тычет крашеным коготком в объявленьице:
В воскресенье, 16 октября 1983 года, в честь дня Коммунистического субботника в приемные пункты поступят абонементы следующих авторов:
…
…
Сказки братьев Гримм.
Абонементы выдаются с одновременной сдачей 20 кг макулатуры за один абонемент.
Администрация
Мама миа!
До полуночи мы с превеликим усердием кланялись сборам своим.
Перекладывали листик к листику. Книжечку к книжечке. Перевязали всё новёхонькими блёсткими бечёвочками. Получилось презентабельно, шикарно. Хоть к каждой к стопке сажай по красному подарочному банту.
Как ни странно, у нас выщелкнулось ещё время и на сон.
Жена уснула скоро, только уронила щёку на подушку и уснула, предвкушая радость, что уж завтра-то вечером она успокоится, отойдёт ко сну с книжкой братьев в руках.
Я же завести глаза не мог. Виделось чёрт знает что!
То мне мерещилось, что я приплёлся на пункт самый последний и ни одного братца мне не досталось. То мне виделась картина: подхожу, а последний абонемент отдают какому-то типу, вовсе не похожему на меня.
Я смертельно расстроен.
Весёлый приёмщик не знает, чем и помочь моему горю.
Говорит сострадательно:
– Я читал сказки. Хотите, расскажу?
Он рассказывает, а я вздыхаю и, похоже, засыпаю. Засыпаю, кажется, лишь затем, чтоб увидеть другой кошмарный сон.
Вижу: живу я не в панельном доме, не на четвёртом своём этаже, а где-то в сказочной избуше на курьих лапках. Вдруг из дремучего леса выходит Баба-Яга костяная нога в обнимку со своим товарищем Кощеем Бессмертным.
Кощ пьян-распьяненький. Курит. На нём сомбреро, кроссовки.
Кощ сошвырнул с ногтя окурок «Мальборо» прямо в мою избушку. От удара окурка избушка качнулась и вспыхнула как порох.
С чувством исполненного долга Кощ мягко чиркает ладонью о ладонь:
– «В драмтеатре имени Герострата с триумфом прошла премьера спектакля „Гори, гори ясно!“ .
Проговорив это и перекрестив мою хатку в огне, слегка приотставший Кощ устремляется за своей спутницей, напевая на мотив известной песни:
– Не улета-ай… не-е у-улета-ай…
А тем временем Баба-Яга садится в красную «Волгу» и словно удаляющийся факел пропадает за стеной дубов.
Вдогон Кощ машет ей мечом в пятьсот пудов и грозит папановским голосом:
– Ну-у, ма-ать!.. Ну-у пог-годи-и!
Я один в избушке, объятой выше крыши пламенем. Я мечусь по избушке. Что делать? Как спастись? Что взять с собой?
Я могу взять лишь одну вещь и самую дорогую.
Хватаю с полки братские сказки, прыгаю в окно, завешенное лохматым пляшущим огнём.
Я оглядываюсь и холодею.
Со всех сторон ко мне ринулись великаны-чудища в красной униформе. На околышках фуражек, похожих на таксистские, выведено у всех «Книголюб всея Руси».
Книголюбы явно возбуждены. Орут, воинственно жестикулируют кто шашкой, кто кинжалом, кто кухонным ножом:
– Гони сюда брательников!
– Не то за брательников сорвёшь ножичка!
Я тесней прижимаю братьев к груди. Пробую пробиться сквозь тугое книголюбовское кольцо. Кинжал вонзается мне в живот… ниже пояса…
Перепуганная моим смертным криком жена вскакивает, будит меня.
Я несколько прихожу в себя и слегка начинаю радоваться, что это всего лишь сон.
С пятого на десятое пересказываю, что видел.
Жена не остаётся в долгу. Спешит со своими новостями.
– Наснится же… – пожаловалась. – Время за полночь, кругом глухо. У себя же на Зелёном кисну одна на трамвайной остановке. Подкатывает личная чёрная «Волжанка». Галантно распахивается дверца: «Прошу». – «Нет, нет!» – я в ответ и пошла по трамвайным путям.
Долго ли, коротко ли шла. Слышу, сзади нарастает цокот. Оборачиваюсь. Мужичок с ноготок следом жгёт, железными каблучками асфальт бьёт.
«Тпру-у! – останавливается рядком и осаживает под себя высоко выскочивший из-под него черенок дворниковой метлы. – Тпру-у, Сивко-Бурко, вещий Воронко! – И мне: – Тебе, Снегурочка, по какому маршруту ехать?»
«По тридцать седьмому», – отвечаю.
Пододвинул он, подтолкнул ко мне метлу. С поклоном:
«Глубоко извиняюсь, ступы нету. Садись прямо на помело. Садись, Красная Кепочка, поскорей! А то покуда доедем до твоей бабушки, пирожки состынут», – и показывает на мою лаковую сумочку.
Я вся выпугалась. Да как это я сяду? На мне белые туфельки на высоких каблуках, кремовое, с розами, подвенечное моё платье. Голова обвязана алой лентой. Мне и страшно и… весело. Мышь копны не боится! Стройная, неотразимая, стою поперёк согласию качаю головой. Не сяду!
«Можь, Белоснежка, ты взамуж желаешь? За королевича! М-могу!.. У нас в загсе закон: кто первая объявляется с утреца, тоей выдают под расписку королевича! Ни боль ни мень. Соглашайся. Везу! С этого часа наточно захватишь, устолбишь перву очередь!»
Я каблучком по рельсу постукиваю, вальяжно вздыхаю.
«Где уж нам уж сбегать замуж, мы уж так уж как-нибудь… "
«Не жалаешь взамуж… Так ближе`й загса книжный мага`зин… С моим удовольствием доставлю первую на братовьёв… Сказочки…»
Я ничего не имею против сказок. Даже напротив… Книжный ближе… Скорей развяжусь… Да как я сяду на метлу?… И вокруг ни души…
Тут он выдернул из сапога поварской, с локоть, ножище.
«Кончай выёгиваться!.. Не сядешь, волосатая хромосома, – приреж-жу!»
Страх и повали меня на метлу.
Мужичок взбрыкнул молодым жеребчиком, игогокнул и бегом. Три остановки молча мчал без остановки.
Слышу, подрала я всю попонию, ноги. Платье лоскутками. Каблуки посбились, послетали.
Боль всю так и печёт, так и печёт. Мне бы на крик кричать – страх не пускает наружу ни голоса, ни слёз.
Ну, подлетел он к книжному. Стал. Отхекивается.
«Приехали… Вставай… Дальше трамвай не идёт… Наш трамвай идёт в парк…»
При этих словах всматривается он вдаль по улице и на остановке примечает размытую неясным, нетвёрдым светом фонаря одинокую фигурку.
«И каковский это из семи козляток честно дожидается своего Волка?… От лешак… Рано, выходит, бить отбой… Как не обслужить?…»
Пока мужичок так рассуждал, я трудно поднялась и – бежака!
«Крошечка Хаврошечка! – взрывчато гаркнул он. – А платить?!»
Вымахнула я из сумки всё что было. Три бумажки по рублю. Подхожу на ватных ногах. В дрожи сую. На свету блеснуло с пальца мое кольцо.
С прощающей, мягкой подкруткой ущипнул он меня выше обручального колечка. Ласково отвёл руку с деньгами:
«Взяток не беру!.. Драйку[70] давай. Как на трамвае!»
Я ему десяточку. Мельче не было. Вернул он мне семь копеек в сдачу и, игогокая, упругим галопом поскакал дальше, настёгивая себя прутиком.
От этой жути меня всего съёжило. Ну и сны… Как бы беды не натянуло…
Только два…
Не спится. Хоть захлопывай глаза. Хоть пялься в потолок. Эффект нулевой.
Жена зачем-то ставит пригорюненно стопку на стопку.
Я зачем-то крест-накрест утягиваю, ужимаю всю эту горку зелёной токопроводкой и – намётом к пункту!
«Неужели проспал? – грохало в висках. – Неужели я, ёлка с палкой, последний?…»
Фу! Упарился, дух из меня вон. Так зато я первый!
И единственный!
Часов через шесть подкружил меж деревьями к пункту на красном «Жигуле» без номера угрюмый со сна приёмщик Краюшкин.
Я скорей своё приданое на раздольные амбарные весы.
Краюшкин барственно гремит гирькой. Из милости роняет в дремучее, чёрное буйство вислых усов:
– Мимо.
– Мимо чего?
Мимо абонемента. Недолёт четыре кэгэ.
– Через десять минут долетит! Найду! Три тыщи с гачком книг! Не найти!?
Я на одной ноге домой.
Выдернул четыре кирпича из чьего-то собрания. Что попалось под руку. Охоту сполнять, убытку не считать!
– А теперь грамм триста лишку, – посветлел лицом приемщик. Моя радость – его радость! Томики-то мои девственно-чистенькие. Нечитанные.
– Не рвать же от книги! – кидаю нетерпеливый жест и в горячке тяну к нему руку. Дарю свои скромные граммы, только давай побыстрей талон!
Карман с талоном я надёжно зашпилил и, возвращаясь домой, прижимал карман к груди. А ну выроню!
Благоверная провожала меня за сказками со всеми почестями. Чуть не как национального героя.
Я уже важно спускался по лестнице с красным велосипедом на плече, когда она, чем-то хрустко шурша, в спешке нагнала меня.
– Главное – забыли! – выкрикнула с досадным укором. – Во что положишь-то? Вот несу… Сперва в целлофановый пакет. Потом пакет с книгой в сумку. Вот смотри… Кладу под прижим на багажник…
В магазине на Федеративном я внёс велосипед в тесный тамбур и, опасаясь, чтоб охотники приключений не разлучили меня с ним, рысцой к толпе в подписном углу.
– Братьев нету? – на крике покрываю бубуканье толпы.
– Братьев нет! – кидает поверх шляп и косынок продавщица. – Остались одни сестрицы.
На Перовской стоят мои братья!
Но они по ту сторону замка, я по эту. Обед! Откроют минут через двадцать.
Мучительней минут я не знал в жизни.
Возле замка уже кипел кой-какой народец.
Я сделал братишечкам ручкой. Ку-ку, я здесь! – и, не сводя с них сладкого взгляда, потиху бочком, бочком протёрся к замку.
Минимум наш!
И максимум приголубим. В жизни главное первым подбежать к кассе. Первый у кассы будет как следствие первый у продавца!
Наконец-то я держу братьев!
Но…
Не пойму чувства. Мне и радостно и не очень.
Уж больно братушки в какой-то тусклой, жёлто-грязной одёжке.
У нас на кухне стены покрыты красной краской. Мы и собираем книги строго под цвет кухни.
– А подайте, – говорю, – мне тот экземплярчик. Красный. С витрины.
– Бракованный экземпляр.
– Ну дайте другой. Только не этот… По ребру листы будто голодная мышь погрызла…
– Те экземпляры, – сонная молодая бабёха, не поворачиваясь к горке книг за стеклом на полке, повела к ним рукой, – ещё хуже.
Мне уже легче. Оказывается, досталась мне лучшая книга. С самой витрины! Цени!
Я аккуратненько её в мешок в целлофановый. Мешок – в тёмно-красную сумку, заляпанную конопушками. Под прижим на задний багажник и во весь дух домой!
Братья – за мной!
И в наше оконце блеснуло солнце! То-то дома будет коктейль!
Гордыня манит потрогать, погладить своё богатство.
На ходу изогнулся колесом, лап-лап по багажнику.
Пусто!
Я остановился и помертвел. Сумки с братьями нет и в помине. О господи!
На всю прыть назад!
Не до правил. Дую по левой, запретной стороне. Где-то здесь посеял!.. Наткнусь с секунды на секунду… И трёх же минут не ехал!
До магазина уже с сотню шагов.
Дальше не могла выпасть. Это где-то здесь посеял… Посеять посеял, а всходов что-то и не видать…
На остановке всех ближе ко мне крупный, медвежеватый малый.
– Не видели, красную сумку тут никто не поднимал?
– Поднимали. Две женщины… У них ещё две сумки. Полные.
– Где они?
– А я как-то и безо внимания… Не то шатнулись в «Молоко». Не то марахнули за аптеку… В булочную… Или в кондитерскую…
Поймай ветра в поле!
Молочный за спиной остановки. Аптека наискосок по тот бок. Булочная за аптекой совсем на другой улице.
В «Молоке» народу, как колосу в урожайный год. Потоптался-потоптался я у порожка и, сломя голову, – в булочную. В булочной всего три старушки. Сумки пустые.
В кулинарии безразмерная очередища.
Похоже, я так угорело пялился на сумки на столе для укладки купленных продуктов, что невесть откуда из недр очереди выпнулся мужик-тумба и толсто закрыл их собой.
Прожёг глазами по сумкам в руках очереди. Медленно поспешая, люди принялись заносить сумки с видимой мне стороны за себя.
Ну кто? Кто позарился на моих братцев? Ну кто изо всей этой а капеллы?
Я снова к малому. Слава Богу, автобуса его всё нет.
– Слышь, да какие эти женщины из себя?
– Одна старая. Другая вроде молодая, как бы не дочь. Одеты вот в такое, – охлопывает себя по тёмно-коричневой куртке. – Вот в таких тарахтушках. А у дочки даже с капюшоном.
Изо всех рысей я по старому маршруту.
«Молоко».
Булочная.
Кулинария.
Ничего похожего.
Нет, надо взять под контроль идущих по две…
А если они угадали мой ход и прошмыгнут мимо по одной?
Я потерянно торчу на остановке. Не знаю, что и придумать.
А вдруг они за домом? Прячутся?
Глазом не мелькнуть, как я во весь мах облетел дом.
Пусто.
Эх, человеческая доброта!.. Только и читаешь про тебя в газетах. Вернули кошелек. Вернули через бюро находок зонтик. Вернули жену… Мужа…
Но неужели нельзя вернуть братьев? Они же мои…
Я столько копил эту дурацкую макулатуру. Ночь не спал… Сон какой видел!.. С трёх караулил приемный пункт!.. Первый ворвался штурмом в магазин!.. Я!..
Что я да я?!
Может, у магазина на сучке висит сумка моя. С моими братьями. А я тут разъякался!
Я к магазину.
Цепко обшариваю деревья. Голые. Без сумки.
Из магазина выкатывается довольный мужичонка с красными братьями под мышкой.
Какое коварство!
Сонная продавщица мне пела, что все остальные экземпляры хуже моего. А тут – красные! При мне красных и не было на виду!
«Человек несправедлив! Если кто-то взял моё, то почему я не могу взять чьё-то?»
Первое несвалимое желание – выдернуть у клопика братьев с лёта.
До мужичка шагов пять. Их мне хватает произвести кое-какие расчёты. У меня велик, у него «Москвич»… Берётся за ручку… Не годится… Слабо`! Живо накроет калошкой!
У меня достает мужества пройти мимо садящегося в машину типуса с красными братьями и не вырвать их.
Я тащусь нога за ногу к углу аптеки. Тупо пялюсь на булочную. На кулинарию. Кто? Кто изо всех этих снующих мимо женщин?
Непостижимо…
Где-то в радиусе, может, ста метров лежат мои братья в чьей-то авоське рядом с пакетами молока, шницеля и не подозревают, как я убиваюсь по ним. Нет, я не вернусь домой с голыми руками! Без братьев мне нет домой пути! Ну как это придти ни с чем? А братья-то были! Вот этими руками платил за них два пятьдесят! За макулатуру отвалил сорок копеек. Минусуй сорок. Два десять чистого убытку. Да разве в два десять уберёшь все мои казни? Не-ет! Я вернусь домой только с братьями!
Я намётом в булочную. Гоню косые взгляды в сумки. Люди ужимаются, сторонятся…
Неужели без братьев возвращаться? Без родственничков?!
Может, наведаться ещё в кулинарию? А что там? Был… Напрасные хлопоты…
Но все же поталкиваю велик к кулинарии. Опало захожу. Так, на всякий случай. Захожу и столбенею.
Дева в коричневом пальто, в красной косынке с вызовом, очень даже импозантно читает у окна, на виду у всей безразмерной очереди, какую-то тяжёлую книжку. Я не вижу обложки, но сразу учуял – моя!
И в бешенстве вырвал!
Вилюшка хищневато вскинула изумлённые глаза тигрицы в синих обводках.
– Что вы рвёте из рук?
– Книгу!
– Да как вы смеете?!
– Смею! Своё рву! Своих братьев!
– Что, только у вас могут быть братья? – аврально взметнулась спесивая фуфыня. И совсем беспардонно глаза в глаза: – Мы честно сдали макулатуру! Честно купили!
– Купили? Да ещё честно? – сощурил я тоже глаза. – На дороге? Это мои, к вашему сведению, братья. Вот вмятины! Вот!! – тычу в шероховатые щербины на ребре книги. – Вот! Вот!..
Очередь очнулась. С млеющим любопытством уставилась на нас.
Дева панически бледнеет. Лицо у неё бр-р! Худое. Вытянутое. В веснушках. Веснушчатая крыса!
– Мы вам кричали, а вы поехали… – сломленно бормочет.
– Мысленно кричали?… Что же берёте то, что не клали? Для других чужое добро страхом огорожено, а для вас мёдом обмазано?
Смешанно-наглая усмешка:
– Не мы… Так взяли бы другие…
Свои грязно-жёлтые сказки я поменял в магазине на красные.
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Домой я скакал мимо кулинарии и увидел веснушчатую крыску с матушкой. Крыска не казалась мне больше крыской, а чем-то напоминала не то Джоконду, не то её сестру. Или подругу. Или подругу подруги…
Я счастливо вскинул свою красную книгу, как флаг, победно замахал ею широко над головой. Смотрите, любуйтесь! Обменяли!!!
И проскандировал трижды:
– Спа-си-бо! Спа си-бо!! Спа-си-бо!!!
Ей-же-ей, поблагодарить следовало. Ведь вернись я из магазина безо всяких приключений, у меня б никогда не было этих сказок именно в красивом, в красном переплёте.
А дома холодом осыпала меня с голубой полки мёртвая, пугающая пустота – открылась сегодня ночью, когда я, ёлка с палкой, с горячих глаз махнул в макулатуру те разновёхонькие четыре тома.
Радость во мне притухла, приувяла, и я уже полуторжественно, полускорбно выставил сказки посреди вольного простора.
Особняком сказки не устояли, свалились. Однако всё пустое место так и не заняли, так и не закрыли собой.
Пустоты оставалось ещё много.
Воскресенье 16 октября 1983
Приходи к закрытию, дорогой!
Человек – это только звучит гордо!
А. Фюрстенберг
– Алло! Ремонт?
– Так точно-с.
– У меня сломалась «Эрика».
– Поздравляем. И милости просим. Через три недели унесёте новенькую.
– А нельзя ли унести сегодня? Я в срочной работе по горло.
– Все в том самом по горло. До конца квартала три дня. Но коль такой свербёж, приходи к закрытию, дорогой!
Возвышение в ранг дорогого вселило надежды, и в половине шестого, орудуя предусмотрительно захваченной из дому велосипедной отвёрткой, я снимал подставку из-под «Эрики». У мастера на столе.
Мастер курил и как-то недружелюбно время от времени пускал мрачный, косой взгляд в недра машинки.
Обстоятельно выкурив гаванскую сигару и оказавшись не у дел, мастер тут же нашёл новое занятие по душе.
Задумался минут на десять.
Торопливо, на нервах, – время, время! – кинулся я что-то ещё отвинчивать, чем, к неудовольствию мастера, вывел его из столбнячной задумчивости.
Заразителен не только дурной пример.
Мастер тоже навалился что-то отвинчивать.
Но уже через минуту его снесло с горячей волны. Стал тряпицей с чрезмерным прилежанием протирать верх машинки, ворча про то, что рабочий день безбожно быстрым аллюром закругляется.
У нас произошло разделение.
Мастер сонной мухой ползал по верхам. Протирал пластмассовый верх. С медвежьей силой давил грязным, уже темно-фиолетовым комком очистителя на шрифт, кстати, чистый ещё из дому; давил так, что, казалось, вот-вот моя "Эрика» хрустнет под его слоновьей волосатой десницей.
«Не останови – размолотит ведь! Но как остановишь?»
Мне было до слёз жаль бедную «Эрику», и я, не смея соваться со своим уставом в чужой монастырь, всё же отважился отвести увечье от бедняжки. С молчаливым упрямством первооткрывателя я полез в глубь, отвинчивая всё, что отвинчивалось, стараясь своим энтузиазмом, без слов привлечь внимание мастера к нутру машинки, как бы намекая, давая понять, что гвоздь поломки сидит именно там, в её металлических недрах.
Старшуня не обрывал мою инициативу, аккуратно складывал в кучку винтики-железочки.
Наконец он дал царский знак отойти от стола.
Я отошёл.
Мастер зачем-то отломил кусочек тонкой проволоки, подержал её в щипцах на коротком жёлто-выморочном огне, уронил на пол, но подымать поленился. Или раздумал.
До шести оставалось три минуты.
Мастер со вздохом принялся собирать машинку. И тут случилось странное. В сторонке, где всё лежало с моей машинки, бугрилась ещё горушка деталей, которые, увы, почему-то оказались лишними.
Я разинул рот, аврально готовясь в следующую минуту умереть со смеху, когда мастер начнёт показывать, что машинка работает.
Но когда он начал показывать, я разочарованно захлопнул рот: на заложенный в машинку лист чётко ложились оттиски букв.
– Фирма веники не вяжет, – учтиво констатировал маэстро. – На первый раз с тебя, дорогой, четыре восемьдесят.
Я благодарно сунул пятерку и поспешно выскочил, боясь, что за мной погонятся со сдачей и с квитанцией. Но за мною никто не гнался. Ни с милицией, ни без.
Счастливый, дома я плюхнулся за машинку и оцепенел.
Машинка не печатала!
Давишь на пуговки, буквы на железных кривульках скачут, но до бумаги не доскакивают. Что я… Доскакивать доскакивают, да оттиска не дают.
У мастера на красоту давали, а у меня бастуют? Не иначе. На белом плотном листе – оставил мастер в машинке – напечатал же вот он вон как глазасто: «Прошу проверить воспроизведение». Каким образом?
Утром я снова звонил в мастерскую.
– Рады будем видеть тебя, дорогой, к закрытию! – заключил разговор на сладкой ноте мастер.
Теперь мой визит стоил уже пять восемьдесят.
Пришлось мне лететь к закрытию и в третий раз, чтобы подарить там шесть восемьдесят. Подарить я успел, да машинка преподносила прежние концерты. В мастерской печатала – дома отказывалась наотрез.
Почему?
Профессиональное любопытство пригнало меня в мастерскую и в четвёртый вечер.
Маэстро свойски улыбнулся мне.
Но, обнаружив, что я без «Эрики»-кормилицы, с опаской спросил:
– Или заработала?
– В том-то и дело, что нет! – выпалил я. – По этому случаю я приглашаю тебя в ресторан!
(К той поре я тоже перешёл уже на ты.)
– Это пожалуйста, – солидно, с теплом согласился мастер. – Кварталишко прикрыли монетно. Не грех и с клиентом тесно общнуться в непринуждённой обстановке.
После того как мастер профессионально оприходовал первый гранёный стакан тёщиной смеси, я вкрадчиво спросил:
– Скажи, дорогой, как это получается… У тебя моя машинка работает как часы, а у меня балбесничает?
Крепёжка размягчила моего гостюшку.
Он стал такой слабый, словно муха весной.
Где-то в углу попробовали запеть.
На угол отовсюду зашикали.
– Эй, пьяный комбинат, кончай орать!
Я ждуще смотрел на мастера.
– Всякая работа любит мастера, – кренясь набок, назидательно, с победной меланхолией отвечал он. – Потом… Дело мастера боится… Боится – значит уважает… Вот эта твоя «Эрика» меня боится и печатает, а тебя не боится и не уважает…
– Туману густо подпускаешь. Ну, чего ехать на небо тайгой? Хоть по большому секрету шепни.
Мастер слегка осерчал. Вздулся, как пузырь водяной.
– Это, – пробормотал, – уже шпионаж производственный… И под большим секретом не выдам самый маленький секрет фирмы… Что же, выдай секреты, а сам накройся медным тазиком и ступай по миру с рукой?
На манер попрошайки мастер широко выбросил на край стола медвежью свою лапищу с зажатым в ней тушистым цыплёнком не то под табаком, не то под махоркой.
– Или, – валко наклонился ко мне, – ты думаешь, что мы как врачи?… Если побежал какой по врачам, так до тех степеней ему бегать, пока не откинет лапоточки.
– Оставь параллели, – тоскливо поморщился я.
– И меридиан-ны тож! – давнул он локтем в стол, и стол, сухо всхлипнув, прогнулся. – Ни к чему. Гул-ляй, душ-ша!..
И чем больше градусов принимал этот ломастер, тем всё круче въезжал он в молчаливость, в замкнутость.
«Этот не даст наступить себе на ногу. Не расколется. Будто замок на язык повесил… Никаких секретов мне не высидеть…» – потерянно подумал я и расплатился с официантом.
Шло время.
«Эрика» по-прежнему не работала. Зато мастер увязался сниться мне каждую ночь. Всё звал приходить к закрытию.
И вот однажды, то ли наяву, то ли в мимолётном сне я услышал вещий голос. Голос спросил:
– Ты помнишь, как вызывал жэковского слесаря?
Я помнил.
Быстро он пришёл.
Я тогда даже удивился.
Час был предобеденный, и слесарь прямой наводкой угорело прострелял сразу на кухню. Увидев, что стол был гол, как ладонь, хмыкнул. На лице проступила оскорблённая бледность.
«Сломан кран в ванной, – прошелестел я. – Пойдёмте покажу».
«Удивил! Эка фантазия!.. Да что я эти кранты не видал! И на глаз не надо! Я инструмент не взял…» – и торжествующе удалился. А я пошёл чинить кран.
– А помнишь, как приходил светлячок?
Как не помнить? Это незабываемо.
Брезгливо косясь на шнурок на стене, тот электрик сказал:
"Я его и глядеть не желаю. Покупай новый. Зови меня, приду с корешками. Поставим на океюшки! Вчера раздавило клопа…[71] Пришлось отстрадать вечер в свете решений КПСС? В крутой темноте-то не нравится? А я поставлю новый… Век благодарить будешь!"
Я ахнул.
Что ж это за выключатель, что его надо ставить целой бригадой! Неэлектрик, я взлез на стул, стал смотреть, чего же не хватало в неработающем выключателе. И сразу понял! Прижал спичкой отошедшую клеммочку – выключатель до сей поры преданно служит мне полной верой и правдой.
– А помнишь, как твоего друга из Нижнедевицка шизокрылый таксист около часу мчал с Ленинградского вокзала на Ярославский? Через всю Москву, с пробегом по кольцевой?… А вокзалы стоят стена к стене на одной площади… А помнишь, как ты пришёл с новенькой «Эрикой» из магазина? – допытывался голос.
Я помнил и это.
В магазине «Эрика» работала нормально.
Дома…
Каретка ни с места. И что-то не подпускает буквы к бумаге.
Я в мастерскую. (Той мастерской сейчас уже нет, снесена.)
Мастер толкнул от себя язычок на левом боку машинки. Заработала!
Я спросил, сияя, сколько с меня.
Мастер чисто рассмеялся:
«Чудик! За что? Она ж стояла на фиксаторе. Чтоб при транспортировке каретка не дёргалась туда-сюда… Просто надо было вам дома перевести язычок на себя. Не догадались… Я перевёл. За такой пустяк как можно брать деньги? За что?»
Это было десять лет назад.
– Сейчас мастера наивных вопросов не задают, – грустно сказал голос. – Сейчас они за то дерут наличными.
Разобрался я с фиксатором. Но неужели не разберусь с прочими рычажками?
Самым близким к моему носу был рычажок лентоводителя. Я толкнул его вверх – ни с места. Не идёт вперёд, может, пойдёт вниз?
Я дёрнул книзу.
Хлоп-хлоп по клавишам – музыкалят! Буковки на бумажку летят красивые, сановитые.
Я снова рычажок кверху – «Эрика» снова не печатает.
Своим ходом добежал-таки я до разгадки, почему же баклушничала моя прелестница «Эрика»!
Я не мог не поделиться своим счастьем с мастером.
С порога ору:
– Я знаю, почему баклушничала у меня «Эрика»! Но вам не скажу!
Он засмеялся, не веря мне:
– И правильно! Свои секреты держи в секрете! Меньше говоришь – спокойней спишь!
Он обрадовался мне, как кот свежей сметане, и снова – дуй, не стой! – деловито накинулся раздевать и потрошить мою бедную «Эрику».
Я молча отстранил его.
Нажал книзу переключатель ленты. Застучал по клавишам.
«Эрика» печатала отлично!
Мастер – да из него мастер, как из пивной бутылки кадило! – сражённо отступил на шаг и обморочно пришатнулся к стене. Ничего другого кроме показного обморока ему и не оставалось. У него не было выбора. Он понял, что его секрет и в самом деле раскрыт.
А «Эрика» и не думала ломаться.
Просто я по нечаянности, работая на ней, задел кверху злополучный переключатель. Лента сместилась. «Эрика» перестала печатать.
Мастер уловил, что я в технике круглый долбун во всех трёх измерениях, а потому, чтобы покруглее с меня сорвать, ломал передо мною ремонтную комедь. Желая показать, как машинка работает, он опускал переключатель, а потом, улучив момент, поднимал. Мастер-игрун…
И сколько бы кланялся я ему, одному верховному известно.
А сколько дуриком выщелкнул он у меня капиталу? Ну что же… Зато я получил хороший урок. А хороший урок тоже больших денег стоит. К тому же я сделал глубокое открытие: ничто не даётся нам бесплатно, даже наша собственная глупость.
Однако…
Обо всём этом я напишу. Надо же как-то возвращать «ремонтные» расходы.
Я посмотрел на мастера.
Наш незабвенный Тигрий Львович Зайчиков недвижно подпирал стену, будто примёрз. Он что, и в самом деле ладится откинуть чалки?
Возьмём себя в руки и не заплачем.
Всё равно рабочий день уже кончился.
Вторник, 1 ноября 1983 года.
Начато в 9.45,2, закончено в 13.54,6.
Себе дороже
Нет такого тупика, из которого нельзя попасть в другой.
Б. Рацер
В солнце домерзает последний декабрьский денёк.
На подоконнике убранная кроха ёлочка.
Маленький Серёжик скучно трогает иголочки. Не колются… Наклоняется лицом к макушке – тихий больничный запах заставляет его поморщиться.
Ёлочка эта магазинная. Пластмассовая. Какая-то понарошковая…
Не-ет, не-ет от неё того весёлого, волшебного духа, какой шёл от взаправдашней – доставала до потолка! – ёлки в прошлом Новом году.
Серёжик вздыхает и мимо мёртвой карманной ёлочки спускает обиженный, тоскливый взгляд на радостную улицу, сияющую под солнцем хрустальными снегами.
Во двор вкатывается красивая оранжевая «Волга» с шашечками на крыше.
Серёжик проводил её протяжным мечтательным взглядом и, подложив обе ладошки под правую щёку, аврально застонал.
– Что с тобой? – всполошилась мать. – Зуб?
Сережик готовно потряс головой.
– Давай ниточкой вырву! – в лёгкой панике предложил свои царские услуги отец.
Серёжик оскорблён. Что он, заяц какой, ниткой чтоб рвали зуб?
Серёжик знает себе цену и пробует поднять её в глазах отца. Наваливается ныть громче, требовательней, гибельней.
– Ишь, какой провористый! – сердится мать на отца. – Или ты врач? Надо ребёнка к врачу!
В знак одобрения Серёжик сбавил на полтона.
С достоинством бледнея, отец показал матери на Серёжика:
– Собирай. Поведу.
Серёжик захныкал сильней.
– Может, тебе ещё такси заказать? – скромно вспыхнул отец.
– А почему бы и нет?! – хватается за эту соломинку мать.
Отец с постным лицом подсаживается к телефону.
К врачу поехали всей троицей.
Через две минуты машина остановилась у детской поликлиники.
Серёжик уныло покосился на входную дверь, протестующе замотал головой.
– Что это за фигли-мигли? – опало поинтересовался отец.
– А то, что ребёнок, наверно, боится к врачу, – выразила предположение мать.
– Может, его ещё в платную скатать? – с нежным сарказмом бросил отец.
– А почему бы и нет! – и в эту соломинку вцепилась мать. – Народу наверняка там сейчас негусто. Да и врачи пообходительней… Как-никак, платная…
– Но туда неблизкий свет. Пока допилим, мальчик весь искричится от боли!
Серёжик обломно стих, тем самым с ходу отмёл демагогический выпад отца.
И Нарциссовы помолотили в центр города.
Серёжик один восседал на переднем сиденье и во все глаза пялился на летящие навстречу автобусы, столбы, дома, площади в новогоднем блёстком убранстве.
У мальчишки захватывало дух.
Про зуб про свой он и думать забыл.
Отец, поддерживая за локоток мать, проворчал с заднего сиденья:
– Какой-то он весь довольный собой, как Чебурашка…
Серёжик вздохнул и то ли жалобно, то ли виновато потихошеньку заскулил.
Когда вышли от врача и пошли к автобусу, Серёжик рёвушкой заревел. Слёзы в три ручья ударили из глаз.
Родители оцепенели.
– Вот и дожили до запоздалых слёз… Ты что плачешь? Ведь зуб-то вырвали!
– Да-а… – покаянно тянул Серёжик, рассыпая слезинки по асфальту. – Да я… Да я только… на такси хотел покататься… А вы… а вы… ещё и зуб вырвали…
Мать обомлело всплеснула руками.
Отец не без восторга потрепал его по щеке.
– А ты у нас орёлик. Дал вырвать здоровый зуб и стерпел. Герой!
– Герой-то герой… Да больнушко-то как!.. – пожаловался Серёжик.
17 ноября 1983. Четверг.
На отдыхе
Как строго ни судит себя человек, он всегда находит хороший повод для амнистии.
В. Зуев
Ножкин и Рожкин вышли из гостей.
Было уныло и пусто.
Кругом ни души, как на дне морском. Некому и слово сказать сердечное.
– О! – разом воскликнули Ножкин и Рожкин, устремляя радостно горящие взоры вперёд по улице.
– То никого, а то нежданчиком сразу двое! – уже один сказал Ножкин. – И как-кие похожие!
– Как близнецы! – восхитился Рожкин. – Полный неврубон!
– Эй! Близнюки! Вы чего такие одинаковые? – впал в любопытство Ножкин. – От одной мамки? Кто у вас старшее?
– Миряне, – сказал встречный, – вы что-то путаете. Это вас двое. А я, – он ищуще огляделся, – а я один.
– Да он нас дурачит! – поражённо выпалил Рожкин. – Белым днём обманывает нас. Насмехается. Что мы, своими глазами не видим?
– Вид-дим, – меланхолически подтвердил Ножкин. – Их двое.
– А он, понимаешь, говорит, один. Да мы из принципа не стали бы вдвоём разговаривать с одним! А два на два почему не поговорить? Даже под интерес и честно, по-джентльменски. Пускай не обманывает!.. Да чего мы с ним попусту фиксы сушим?[72] Дад-дим? – вдохновенно вопросил Рожкин.
– Дад-дим! – торжественно разрешил Ножкин, безуспешно силясь собрать непослушные пальцы в кулак.
Брезгливо чиркнув ладонью о ладонь, встречный галантно приподнял шляпу. Извинительно сказал сидящим на траве в растрёпанных чувствах Ножкину и Рожкину:
– Видит Бог, и в мыслях не было… Вынужденный экспромт.
И так же галантно удалился.
Охая, Рожкин робко, полуобрадованно сообщил Ножкину:
– Как хорошо, что он был всё-таки один!
– Но ещё лучше, что нас было двое, – провожая виноватым взглядом надёжно уходящего прохожего, скромно похвалился Ножкин. – Тебя бьёт – я отдыхаю. Меня бьёт – ты отдыхаешь…
1983
Разговоры, разговоры…
Без секса прожить ещё можно, а вот без разговоров о нём – никогда!
В.Рябикин
– Алло! Лику, пожалуйста.
– Я за неё.
– Антире-есно… Что бы это значило?
– Только то, что с вами разговариваю я.
– Это 301 – 86–30?
– Нет.
– А чего ж снимаете трубку?
– Шутка. Но!.. Этот, этот номер! Почти…
– Тоже антиресно!.. Только мне нужна Лика.
– Но какие преимущества у Лики передо мной?
– Она моя подруга.
– А разве я не могу попасть вам в честь? Разве я не могу быть вашим другом?
– А зачем? У меня и без того закадык по шнурочек на шее! Вся Расея «от Москвы до самых до окраин» и частично забугорчик.
– Да вы многостаночница! Справляетесь?
– Слава Аллаху, жалоб пока нет.
– Столько друзей…Как лягушат на кочке… Не ошиблись бы…
– В чём можно, в том уже, слава всё тому же Аллаху, обшиблась!
– Это вас не огорчает? Не рано ли?
– В самый раз. Чем раньше, тем спокойней.
– Сколько вам?
– Двадцать один… Что же вы спросили возраст, а не спрашиваете, как зовут?
– Это был бы мой следующий вопрос.
– Олюня!.. А сколько вам лет?… Чего сопите? Хотите дать ложную информацию?
– Ни Боже мой! Двадцать четыре.
– Гм… У меня публика посолидней…
– То есть?
– Ну-у… За тридцать… за сорок… В основном тридцатники, сороковики…
– А пятидесятников нету?
– Не фиксировала. Может, и проскакивали отдельные резвые экземпляры на броневиках…
– По кличке БМВ?[73]
– Ну хотя бы…
– И что вы с ними делаете?
– Разное.
– А вы не желаете ещё раз ошибиться?
– Я подумаю, стоит ли ошибаться. Где вы работаете?
– В прохожем ряду ветром торгую.
– Не находка… Я сама на подступах к такой. Кому с голяками интересно?
– Жаль, что во мне не уловили главное достоинство. Сорок воров не смогут обокрасть одного голодранца! К тому же у меня ещё один крепкий плюс. Душа у меня очень богатая!
– Такая перспективка меня не греет. Я вся в горячих поисках… в художественном растрёпе. Рисую богатенького кадревича[74] и параллельно далеко не бедненького черновичка.[75] А вы, увы, ни то ни сё. Вы в кадр не попадаете.
– Но душа!
– Я это уже слышала. Скучно…
– Дайте ваш телефон.
– Отныне не даю.
– А что случилось ныне?
– Не ночевала дома. Не угодить бы к бабаю на блины…[76] На моих золотых пятнадцать ноль-ноль. Я только что еле причерепашилась. Состояние такой… эй-хо-рии… Не спала… Голова раскалывается на две равные половинки… Или это от полковника?[77] Как вспомню, какими стакана`ми после коленвала[78] дули коньячишко, умереть хотса… Ой!..
– Пили-то хоть за что?
– Да кто ж его знает? Кажется, отмечали столетие то ли лошади Будённого, то ли его шашки… Набузыкались… Оя!.. «Водка – враг народа, но наш народ врагов не боится»! Мы смеляки!.. В три часа ночи ходили на пруд купаться с бабслеем…[79] Бабслей в ночном пруду… Кррррыссссотулечка-а!.. С пруда я пришла в незнакомых джинсиках какого-то бабтиста…[80] Умереть не встать… Что мамахен петь? Что ночь была у подруги или в другом городе? Вариант с подругой дохлый. Скажет, чего не позвонила… Следовательно, я была в другом городе, где у моих знакомых нет телефона… Жду. С минуты на минуту пришлёпает. Обалдемон… Ох и вклеивать будет! Сейчас ещё ничего, а утром кыш не могла выговорить. Ну что мне мамике бедной петь? Конать под дурочку?
– Дайте телефон – скажу.
– Я никогда дома не бываю. Я или работаю, или отдыхаю с друзьями. Без дела дома не сижу. Поэтому вы меня никогда не застанете. Я "вся в дороге, вся в пути". Дайте лучше вы свой, я позвоню вам под случай.
– У меня… Я говорю от друга. У меня нет телефона.
– Сочувствую. Нет телефона, не будет и красивой чернобурки!
– Вы красивая, как коровка сивая?
– Меня можно сравнить только с дикой ласковой кобрушкой. Я смуглая, у меня в жилах бегает южная кровь. Я всем нравлюсь.
– Все-е-ем? Подумаешь! Я тоже… Даже себе…
– Но мне вы не понравитесь. Вы слишком молоды. Если ваши годы перевернуть, то ещё…
– Переворачивайте. Я согласный на переворот. Мне ровно сорок два!
– Но это всё равно не выруливает на дело. У вас нет телефона.
– Я установлю!
– Когда установите, тогда и общнёмся. Привет бабунюшке, малышок-колокольчик! Чао, какао! Не скучай, кефир!
– !?…
Пятница, 6 июля 1984. 14.59–15.02.
Салатный ребус
Я за этой голубушкой полжизни гонялся!
Я готов был за неё полжизни отдать, я готов был вообще за неё всю жизнь свою уступить, не моргнув и глазом.
Но такой жертвы от меня не потребовали.
Жизнь оставили мне.
А взаменки взяли с меня наличными два восемьдесят семь.
У меня математические наклонности. Я сразу подсчитал, что я получил бы в сдачу тринадцать копеек, бери нечто другое и несколько раньше. Но я брал то, что брал, и никакой сдачи мне не причиталось.
Выпал свободный, пустой час – загорелся я оголубить ванную свою. Беру я банку в руки и очень хорошо даже чувствую, как у меня до пределов возможного открываются глаза, а заодно, за компанию, и рот.
– Так ты какая? Голубая или салатная? – одними губами шепчу я банке почти гамлетовский вопрос. – Поверь я глазам и этикетке, с одной стороны, так там, внутри у тебя, всё голубое, а дай я веру, с другой стороны, опять тем же глазам и язычкам, вылезшим из-под крышки пока я нёс домой и которые я сразу не заметил, – у тебя всё там салатное…
Нет, мне этот салат не по зубам, сказал я себе и, вспомнив, что ум хорошо, а два лучше, легкомысленно склонился к лучшему.
Директриса магазина Надежда Фёдоровна не выразила восторга по поводу моего визита.
– Мы не можем, – сказала она профессионально спокойно.
– Что?
– Принять. Это ж получится левая эмаль, – показала она глазами на банку, которую я поставил на стол справа от неё.
– По этикетке голубая. А на самом деле мне не нужная салатная…
– Всё равно левая! – непреклонно квалифицировала содержимое моей банки безупречная Надежда Фёдоровна. – Такого товара у нас уже нету. Поставь на прилавок – левый товар! Ревизорня его только и ждала!
Напоминание о недремлющем оке произвело на меня неизгладимое впечатление. Я старательно спрятал банку в портфель и вышел, кажется, на цыпочках.
Через какое-то время глаза отыскали эту злосчастную банку, руки цапнули её и сами понесли в хозторг на смотрины.
Но заданного темпа хватило у моих ног лишь до ближайшего уличного автомата. Я позвонил.
Главный товаровед торга Тарелкин сказал:
– Я поговорю с директором. Примет. А взамен возьмёте другое что.
Радость торжества справедливости придавила меня так, что я почувствовал гору на плечах и у меня хватило духу добраться домой. На магазин же меня недостало.
Пережил я эту радость – магазин закрыли на учёт.
Не то месяц, не то два не было доступа к Надежде Фёдоровне.
Наконец и доступ есть, и Надежда наша Фёдоровна в целости и сохранности вся.
Сидит за тем же столом, только с другой стороны.
А это значит, переквалифицировали её в бывшие.
И теперь она подбивает директорские бабки свои.
– Насчёт обменять нас не интересует, – почти по-одесски сказала тоненькая и обманчиво хрупкая замдиректора Елена Фалькович. – Может, там, извините, ещё тёпленькое изделие ваших почек.
– Вы мне льстите. Ни у кого такого ещё не было – салатное, из-под неоткрытой крышки вот выступило. Но как я мог туда его вогнать?
Этот довод показался ей неубедительным.
Звоню Тарелкину.
Тот долго и, по-видимому, содержательно говорит с новым директором Иняхиным, который, бережно положив трубку, подумал и обронил, крепясь:
– Беру под свою ответственность. Набирайте товару на два восемьдесят семь!
Тут крашеным коготочком отзывает его Фалькович, и через минуту он шёлково говорит, с нежной настойчивостью рассматривая шампур, воткнутый в полку:
– Не могу. Она поставила ультиматум: она или вы.
– Даже так! Конечно, вы без колебаний выбрали её? Губа не дура.
– Мне с нею работать. А уступи я вам – кинет заявление на стол.
– И не лишайте её такого удовольствия. Дайте ей автограф! У вас что, паста кончилась? Вот вам моя шариковая ручка и мужская рука на благословение.
– Не могу, – обречённо шепчет Иняхин. – Я второй день в торговле. Будь свои – отдал бы!
Для убедительности он принялся охлопывать карманы.
1985
Как Тит повез себя хоронить
(Из народного юмора)
Лодырь – это высшее проявление закона сохранения энергии.
М. Генин
Дед был настолько стар и дряхл, что, казалось, мог рассыпаться, не впихни его старуха в тулуп и не подпояши. При этом Митрич, сухонький коротыш, вертелся послушною юлою в руках крутонравой дебелой жёнки и беззлобно ухмылялся в подпаленные усы.
Мы вышли из дому, присели на завалинке.
Глотаем свежак и балясничаем.
– Было такое, – морщит лоб Митрич, – на войне. Летит пуля, жужжит. Я вбок – она за мной. Я в другой – она за мной. Я упал в куст – она хвать меня в лоб, я цап рукой – жук! – и тонко засвистел.
Так он смеялся.
– Митрич, серьёзное что-нибудь, – клянчу.
– Ладно, – соглашается он и смахивает с ресницы слезу. – Говорил слепой глухому: «Слушай, как безрукий голого обдирает».
– Ну, Ми-и-трич…
– Так и быть про серьёзное. Было это до царя Горошка, когда людей было немножко, когда снег горел, а соломою тушили. Жили три брата. Два работящих. Пахали, сеяли, убирали… Третий, Тит, ленивцем вырос. От лени губы блином обвисли. Со сна распух, знай приговаривал:
«Больше спишь – меньше грешишь! – И на бок. – Аминь!»
Терпели, терпели братья и говорят ему:
«Аминем квашни не замесишь. Добывай всяк своим горбом. Или берись за дело, или получай свой пай и сам промышляй».
«Отделяй».
Съел Тит свой надел.
«Что ж ты теперь собираешься делать?» – спрашивают братья.
«Умирать».
«Ишь, куда хватил! Потешиться над нами вздумал? Чудак покойник: умер во вторник, в среду хоронить, а он поехал боронить».
«Никуда я не поеду. Сделайте из своих досок гроб, я лягу и несите меня на кладбище».
Сколотили братья гроб. Поставили на разбитую тележку. Положили Тита в деревянный тулуп, сказали:
«Думал, на кладбище отнесём? Рядом с отцом-матерью положим? Марать нашу землю? Не-е. Сам ищи смерти там, куда Савраска доковыляет. Н-но-о!»
И поплёлся Савраска по селу.
У телеги Тита ни стона, ни плача.
Лишь мальчишки с гиком.
«Что это?» – спросила мальчишек странница.
«Дядя Тит повёз себя хоронить».
Странница настигла тележку.
«Соколик ты мой ясный! – запричитала. – С чего ты очи сокрыл?»
«Есть нечего было», – подсказала сопливая толпа.
«Господи, оживи! Я возьму его, накормлю!»
«Че-ем?» – бессильно выдохнул Тит.
«Сухарями».
И захотелось голодному Титу глянуть на свою спасительницу, но глаз никак не откроет. Окончательно разбила его лень.
«Сухари-то какие?»
«Сухие, соколик!»
«Э-э, – протянул упало Тит. – Их ещё мочить надо… На покой, Савраска, на вечный покой».
Нищенка в сердцах плюнула:
«Слёз своих жалко, а не тебя, лежня!» – И пошла.
И скрипит одиноко телега.
И день, и другой, и третий…
Ленивому нет места на земле.
Ленивый и могилы не стоит.
1986
Тик и Так
Сказка
Жили-были два друга.
Тик и Так.
Характерами не мёд.
Иногда так раскричится Так, что у Тика начинается нервный тик.
И Тик не любил оставаться в долгу. Ответит так, что и у Така начинал дёргаться тик.
Они всегда рядом, близко, но никогда не бывали вместе. Знай лишь дулись друг на друга, не разговаривали.
У них бегал связным Маятник.
Маятник был услужливый. Не терпел склок, всё подтирался умирить друзей. Он чинно носился туда-сюда, туда-сюда и, услащивая слова друзей, всегда говорил мягче того, что ему велено было передать, уминал ссору.
«Колебания маятника придавали уверенность часам».
Но друзья постоянно подпекали друг друга такими скверностями, что Маятник расстроился и заболел.
– Не могу, не могу… не могу… – шептал он. – Как кузнец, весь век колотишь. Совсем заколебали, совсем загоняли. Совсем вы меня умаяли! Ходить больше нету сил ни к одному, ни к другому.
Маятник не хотел новой разладицы, предусмотрительно остановился на полпути от Тика и от Така.
Остановился на золотой середине.
Но ссора разгоралась.
Кто же умирит их теперь?
К Таку и к Тику набежали отднокорытники.
Всем надоели их перекоры.
Всем зуделось их примирить.
– Мы живём в замечательное время! – торжественным хором сказали Тяп и Ляп, Шаляй и Валяй, Бим и Бом, Шалтай и Болтай, Авось и Небось, Так (однофамилец Така) и Сяк, Гоп и Смык, Кое и Как, Сикось и Накось, Еле-первый и Еле-второй. – Как вам не стыдно ругаться?
– Вот именно! – подкрикнули Ваньки и Встаньки, Фигли и Мигли.
– Вы забыли, что мы друг другу друг, товарищ и брат! – сказали Иван и Марья, Иван и Чай, Мать и Мачеха. – Мы должны жить душа в душу. Как одна душа. Мы должны лить друг другу бальзам на душу. Быть друг другу лекарством. Должны быть неразлучны, нераздельны, как мы. Мы всегда вместе, нас не разделить, мы попарно единое целое. Почему мы и занимаемся цветами в свободное и в несвободное время. Наша жизнь должна благоухать цветами!
– Да! Да! – поддакнули Мальчик и Пальчик, Мужичок и Ноготок, Паинька и Мальчик, Дед и Мороз, Тип и Топ, Хип и Хоп.
– Ха! Чепуха! Три ха-ха! – заорали Ванька и Каин, Бой и Баба, Соловей и Разбойник, Карабас и Барабас, Змей и Горыныч, нагрянувшие не то с тропика Рака, не то с мыса Сердце-Камень, не то из Орехова-Зуева, не то из Гусь-Хрустального, не то с соседней улицы Малые Кочки. – Живи кто как ж-жал-лает! А кто несогласный – дрысь в ухо и вообще куда хошь!
– А вот попробуй! – пригрозили Аника и Boин, Дон и Кихот.
– Надо всем любить друг друга! – пискнули Маша и Резвушка, Шуры и Муры, Трали и Вали, Палочка и Выручалочка. – Даже если не любится, а надо, так люби по разнарядке.
– Раскатитесь вы все отсюда! – закричали первый раз вместе Тик и Так. – А не то перетопим всех в Амударье или в Сырдарье! Ну! Кому первому хотно в Аму? Кому в Сыр? Только без Дарьи?
После таких слов с Маятником случился удар.
Он пал вместе с Часами на мостовую.
Их подобрал прохожий. Поднёс к уху:
– Часики, вы ходите? Айдаюшки со мной?
Но Часики уже не могли ходить.
Они были мертвы.
Мёртв был и Маятник.
A без него не могли жить и непримиримые враги-друзья Тик и Taк.
Вечные соперники жили и работали вместе, лишь споря и ссорясь.
Тик и Так тоже умерли.
9 декабря 1988. Суббота. 20.45–21.00
Позелени ручку
Нам не дано предугадать,
Кому и где придётся дать.
В. Дагуров
Прямо с урока Врежик угодил на операционный стол.
Сам директор вызвал скорую.
Мальчишку увезли.
Аппендицит.
Острый. Точнее, острее острого.
– Резать подано! – с почтительно-весёлым полупоклоном доложила хирургу медсестра.
Хирург заметно поскучнел:
– Вы мне сперва родителей его подайте.
Мать Врежика была в командировке.
Скорая полетела по всему городу разыскивать отца.
Отец-таксист не стоял на месте.
Скорая гонялась за ним и час, и два…
Надвигалась критическая минута.
Хирург всё быстрей нервно прохаживался туда-сюда по коридору мимо операционной, временами экспромтом срывался на лёгкий, панический бег.
– Напрасно, – со стонами причитал Врежик, – ждёте вы отца. У отца уже давно вырезали аппендицит. Резать больше нечего…
Успокаивая прежде всего самого себя, а на больного, хирург ответствовал так:
– Не переживай, солнышко. Найду что и у твоего папаши отре…
Ласковому доктору не суждено было договорить.
Таксистские кулаки, жёсткие, как камни, сумасшедшие и неуправляемые, градом осыпали хирурга.
– Вот что, дорогой! – трудно останавливая свои кулаки, напутственно прохрипел горячий таксист. – Иди и оперируй! Для разгонки на первый раз пока тебе хватит!
Доктор – местами он уже фиолетово вспух – съёжился.
Он мужественно пробовал не охать от боли.
К тому же избитое самолюбие шептало:
«Откажись от операции. Не в состоянии ж скальпель удержать! Или у тебя нету гиппократовой гордости?»
– Иди и оперируй! – наизготовку снова сжал кулаки таксист. – Ишь, молодой, да ранний!.. Моё дело, дам я тебе в лохматую лапу, не дам, позеленю я тебе клешню или ещё крепко подумаю, прежде чем позеленить. Но знай! Если плохо кончится операция, я за своего Врежа так тебе врежу, что из операционной тебя вынесут на руках только в морг. Другого маршрута не будет!
До собственного выноса предусмотрительный доктор дело не довёл.
Врежика выписали из больницы, и он без охоты снова вернулся в школу к своим старым прилипчивым подружкам. К заморским фигурам с трюнделями. К двойкам с тройками.
А что же отец-таксист?
Неужели забыл про свое коронное дам не дам?
Нет, не забыл.
Получив здоровенькое, чисто подштопанное своё чадушко из хирурговых рук, отец на всякий случай завёл сына за себя и дал полную волю своим страстям, мстительно швырнув хирургу в лицо с полсотни зелёненьких самой мелкой расфасовки.
«Должное отдают мелочью»!
Шурша и игриво балансируя, зелёное золото тесно устлало пол у хирурговых ног.
– Ты, – хищневато выговаривал отец, – тянул с операцией! Боялся, что после операции я не дам. Но я чалавек чесни! Ты это запомни! Я твою таксу даю. Я бы сказал о тебе всё-о-о-о, что думаю! Но оч-чень «жаль окружающую среду» – ты вылитый белохалатни рэкетир! – и огнисто пробежался по весёлым зеленям, энергично втирая их каблуками в пол.
Уязвлённый хирург стоял в золотом кругу и не спешил из него выходить.
Благо, через секунду таксист хлопнул дверью.
В кабинете кроме самого толстуна хирурга никого больше не было.
Со вздохом он закрылся на ключ. Надвое переломился в поясе и кинулся подхватывать зелёнку с полу, будто с калёной сковороды.
Толстое, колодистое тело гнулось трудно.
Опустился на колени. Кряхтел, ползал, подбирал в аккуратную стопочку, умываясь солёным по`том.
Кто после этого скажет, что взятки сладки?
Александр Айкович проснулся среди ночи со сжатыми от гнева кулаками.
– Такой сон не имел права мне сниться! – оправдательно сказал он спящей жене. – У меня такого не было! И даже не будет! Чесни слово!
Жена вздохнула во сне.
Он кисло поморщился, подумал в грусти:
«Но как же тогда быть с моим утверждением, что сон – зеркальное отражение наших дневных хлопот? Вах, вах…»
Кафан. Армения.
Понедельник, 8 июня 1992
Сладкая хина
Секс – общение, основанное на голом энтузиазме.
В. Посоховский
– Оник! Вот!.. Полюбуйся, что натворил твой Хинго!
И Иван со злостью швырнул в Оника цветастый ком.
Оник развернул.
– Платье?… Ирочки?…
– Бббыло… платье… Вчера вечером она уходила в нём к Хинго… А взаполночь вернулась домой уже без платья!
– Ка-ак без платья?
– А вот так… Под мышкой доставила со свиданухи этот тряпичный комок…
– Иване-джан! Ваня-джан! Ваничка-джан! Дорогой!.. Расскажи, что случилось?!
– Что случилось! Что случилось! Что может случиться, когда два дурысика в шестнадцать лет остаются одни за бугром посреди ночи? Ты старший брат. Власть и указ младшему брату. Пускай твой младшак тебе и расскажет! А у меня нет слов!
Оник с крыльца трубно ревнул в открытую дверь:
– Хинго! На выход!
Нехотя выходит Хинго. Высокий, красивый. Лицо литое, в бронзе загара. Взгляд прокудливый.
– Хинго… Хинго, что случилось? – Оник потряс перед ним цветастым комком. – Это что?
– Что, не видишь? Платью…
– Не вижу платью. Это тряпка… Рваная…
– Резаная, – уточняет Хинго.
– Почему резил?
– Пусть Ира не доводит!.. Я как ей вчера сказал… Ира, моя Ирочка-джаник, я тебе лублу! Я тебе так лублу, так лублу, так лублу, что и не знаю, как крэпко лублу! Ира-джаник, давай скорей! Не дашь – убью! Она сказала: убьёшь – срок судья даст. Большой! И смеётся! Ножкой балуется! Ручкой машет! Попи играет! Что я мог делать? А пик коммунизма, – вмельк скосил глаза ниже пупка, – до луна уже достаёт! Я вежливо сказал, что судья даст – это мне неинтересно. Мне интересно – ты. Считаю до трёх! Я чесни считал, а она та-ак смеялась! Ножкой та-ак баловалась! Ручкой та-ак махал!.. Я чесни досчитал до целых десяти! А она всё равно та-а-ак смеялась! А она всё равно та-ак ножкой баловалась! А она всё равно та-ак ручкой махал! А она всё равно та-ак попи играл!.. На моих бедни нервах!.. Тогда я достал свой маленьки ножичек и от серци до коленка платью ею рези сделал.
– Зачем платью испортил любими девушка? – строго спросил Оник.
– И совсем новое! – уточнил Иван. – Хоть я и не отец, а старший брат Ирке, да… Расходы и на меня падут. Что мы, новое платье девке справляй?
– А! Проехали про эту платью! – сказал Оник. – Хватит про эту платью. Что, Хинго, получилось дальше? Без платью девушка от тебе бежал?
– Ти что?! – обиделся Хинго. – Она что, дуричка? Она мне лубит, я её лублу… Что бежать? Она уже прибежал! Она без платью всё равно та-ак смеялась… Та-ак ножкой баловалась… Та-ак ручкой махал… Та-ак попи играл!.. Я чуть не умэр!
– Чуть не считается, – буркнул Иван.
– В лубове всё считается! – авторитетно возразил Оник. – Скажи, Хинго, когда ты платью рези, что бил ищо?
– А всё!.. Она платью сняла, в комок положила и кинула мне. И всё равно та-аак смеялась!.. И всё равно та-аак ножкой баловалась!..И всё равно та-аак ручкой махал!.. И всё равно та-аак попи играл!.. Я чуть ещё раз не умэр! Она сказала: съешь платье – мечта твоя сбудется! Я тольке один рукав скуши. Болша не мог. И то рукав бил летни, коротки. А если б бил длинни? Я понял, что всю платью мне не скушать, попросил извинени у Аллаха и пошёл прямо на Ирик-джаник! А Ирик-джаник всё равно та-ааак смеялась!.. А Ирик-джаник всё равно ножкой та-ааак баловалась!.. А Ирик-джаник всё равно та-ааак ручкой махал!.. А Ирик-джаник всё равно та-ааак попи играл!.. Я бил ужэ нэживой…
– Хорош неживой! – передразнил Иван. – А натворил чего?
– Да! – поддакнул Оник. – Ти чиво натворил? Ты чито, девушке руку ломал? Ногу сломал? Глаз поломал?
– Ти что!? – снова обиделся Хинго. – Дурак? И я не дурак. Зачем мне её рука, её нога, её глаз?
– При чём тут глаз? – встрепенулся Иван. – Он ей… э… эту… самую… сломал!..
Оник страшно удивился:
– Ваня-джаник! Не только у дэвушки – у кого хочешь что хочешь можно сломать! Рэбро! Челюсть! Нос! Ух! 3уб! Палец!..
– Во! Во! Куда он лазил своим пальчиком-коммунизьмой? Чего он там забывши?
– Ваня-джаник! Извини! Эсли дэвушка не захочэт, никто к ней со своей коммунизьмой не подлезет! Пачаму она не побежал, когда голи остался? Потому что «сексу не прикажешь»!
– Да как же ей бежать в народ голяшкой?
– Два час ночь какой народ? И потом… Голи… Это страшно? В Грэции, на Олимпиадах, голи всэ бэгали! Чтоб ничаво не мешал! Голи! На стадионе! При всём народе! Днё-ём! А тут два час ноча… Такое горэ…
– Конечно, горе, – стоял на своём Иван. – Он ей эту самую сломал…
– Ваник-джаник! Извини… Я тебе не понимай… Хинго сломал что-то такое, что даже ти не знаешь, как назвать. А откуда нам знать, что он сломал? Я так скажу. Чтоб никакой поломка не бил, надо бил Ире-джаник бегай. Не нравится – беги бегом! Дорога на доме знаэшь! Хинго сдели всё что мог. Сдели хорошее…
– Очень хорошее! – с сарказмом хмыкнул Иван. – Дело сделал, платье порезал в тряпку!
– Конечно, Хинго я не хвалю. Не надо било платью рези. Не нравится тебе платью на дэвушка, скажи ласково: Ирочка-джаник, подари мне твой платью. Ира-джаник дэвушка хороши, может, сама б и отдала. Но раз не догадалась снять и отдать, Хинго и рези. Хорошее дело сделал Хинго. Дэвушка осталась голи, лёгки. Не хочешь дальше нови поломки, бегай от Хинго. Ира-джаник не побежал. Кто виноват? Значит, нови поломка била приятна и Хингу, и Ире-джаник… Какие сейчас споры про поломки?
– Но из платья он-то халат сделал?
– За платью я и спрошу с этого красиви бандитика… Сколко скажешь, Ваня-джан, стоко за платью дадим. Ваня-джан! Ми люди чесни. Нам чужое не надо, Ваник-джаник. А Хинго я, Ваник-джаник, крэпк накажю.
Оник поклялся месяц не выпускать Хинго из дома по вечерам.
– Лето! Я задохнусь дома сидеть по вечерам! – сказал Хинго.
– Будешь сиди у забор перед окном!
Посёлок обнесён штакетным забором. У забора летняя печка. По вечерам, пока на ней готовится ужин, там полно народу. Вроде посиделок.
Оник привязал Хинго к столбу в заборе, и он до полуночи сломленно сидел один уже третий вечер.
– Поднеси руки к дырке, – попросила вдруг Ира с той, с чёрной, стороны забора, куда свет от уличного столба как-то не решался забегать. – Не`люди! Зверюги! Мою сладкую Хинку посадили под арест! Руки повязали! Вас бы всех пересажать!.. Из-за какого-то платья… Да я на нём пуговицы донизу нашила – получился хипповый халатик! Больше резать не надо!
Ножом она перерезала бечёвку у него на руках.
Он орлом перемахнул забор, и они побежали в чёрные кусты чая, что начинались у самого забора.
На бегу Ира не то застёгивала нижнюю пуговичку халата, не то расстёгивала.
Пойди пойми в ночи.
1993
Спасти Михалыча!
Ложка мёда придаёт пикантный вкус бочке с дёгтем.
Г. Малкин
– Ффу-у! Ну и давка! Еле втёрся в дверь…
Что деется с народом! Что деется! Все какие-то бешеные до работы. Давятся, будто их станки разбегутся, приди несколькими минутами попозжей.
Но разве они могут?
Боятся на минуту опоздать. Из-за дурацкой минуты чуть было невинного человека не сплющили в худой блин!
Да чтоб я ещё хоть раз к восьми полез на работу?
Не-е!
Покорнейше благодарю!
Они боятся, они пускай и плющатся.
А я не боюсь.
Я смелый. Буду ходить, как ходил. Смелым.
Идёшь спокойно, основательно.
По крайней мере, ты кум королю, отец министру.
Все трусливые в мыле пробежали к восьми.
Теперь в гордом одиночестве шествуют друг за другом смелые.
Вышагиваешь и чувствуешь себя рабочим человеком.
А то… Чёрт меня дёрнул. «Пойду как все». Врезался в эту свалку – еле в проходную втёрся…
Я замечаю, что толпой снесло меня вбок.
Я приложился плечом к крайнему в толпе, собрался уже встегнуться в саму толчею и благородно двинуться по центру к турникету, как двое, слышу, тихонечко, даже уважительно, но стабильно оттирают меня в сторону от центра моего устремления. Проще, сбивают с твёрдого и верного пути.
– Э-э! Мужики! – гаркнул я на них. – Не шалить!
– Извините, – говорят мне опять же тихо и даже культурно. – Извините, мы из заводского профсоюзного контроля.
– А что мне контроль!? – тычу на часы по тот бок над крутилкой. – У меня, господа, извините, в загашнике, к вашему сведению, ещё целых, неначатых, пять минут!
– Вот и хорошо, – отвечают мне тихо и даже вежливо. – Сделайте небольшую услугу. Надо проверить вахтёра. Побудьте, пожалуйста, в роли меченого атома. Пройдите через проходную вот с этим пропуском.
Развернул я тот пропуск… Господи!
И зажмурился.
– И вы серьёзно хотите, чтоб я с этим пропуском пошёл?
– Хотим.
– Не люблю я мочить залепухи…[81] Да и… А ну Михалыч засекёт?
– Слава и премия бдительному Михалычу!
– А не засекёт?
– Умоется кварталкой.
"Боже! – думаю я разбито. – Да неужели я, Васька Пестролобов, с дурцой? Я за всю жизнь, поди, в первый раз припрыгал на работу ко времени и на`! Такую подлянку родному Михалычу? Опоздай я и на пять, и на десять минут, Михалыч свойски улыбнётся, пальчиком так славно, добродушно погрозит, и весь накачион. Сверкнёт когда святое желаньице заложить под бороду… В рабочее время выскочить по-тайной за градусами на угол – ввек отказу не бывало от Михалыча. С одной базы![82] Пропустит, никому не стукнет и за всё за то хорошее – я ему залуди такую подлянищу?"
– Товарищ! Вернитесь в себя! – в один голос говорят мне два контролёра. – Идите. Время не ждёт. Что вы размечтались? Сами ещё опоздаете.
– Нет, – говорю, – панове. Что я, долбак? Помесь тигра с мотоциклом? Не пойду я с вашим пропуском. А насильно не имеете права заставить.
– И не заставляем, – тихо и опять же даже принципиально говорят. – Пройдёт другой.
И забирают пропуск.
Я отдал и тут меня, как током, прошило:
«А ну сунь они этот манифест какому матёрому активистику – как швед под Полтавой сгиб мой Михалыч! Надо спасать Михалыча! Если не я, то кто же?!»
Дёрг я ту лапшу назад и молча выверенным курсом вперёд.
Михалыч выловил меня глазом из толпы, сделал персонально мне из стекляшки ручкой, улыбнулся. Золото, а не человек!
Я остановился напротив Михалыча.
Остановился вкопанно, хорошим дубком. В приветствии торжественно вскинул руку, так что едва не упёрся пропуском в окошко.
– Привет доблестному Михалычу!
Михалыч на мою бумаженцию и не глядит.
Вроде даже обиделся, что так близко подставил.
Однако ласково подтолкнул мой кулак в сторону движения. Мол, иди, иди. Некогда бодягу разводить! Валом народ валит! Самая сила пика. Сам видишь. Не тяни аллилуйю за хвост!
А я не вижу.
А я тяну.
А я не трогаюсь с места.
Даже напротив.
Медленно, ясно повторяю со значением:
– При-и-иве-е-е-етик, Михалыч-cветик!..
А сам знай мизинцем тычу в карточку на пропуске. Смотри! Смотри же ты, старенькая ты калошка, что я тебе подсовываю!
Михалыч выглянул из-за моего кулака с пропуском, кисло пожмурился и в горячем нетерпенье снова и уже сильней толкнул мой кулак в сторону движения. Что за заигры?… Да пролетай же, бажбан! Вот банный лист!
А я ни с места.
Тычу мизинцем в карточку. Словно меня заело.
За спиной зароптал трудовой класс.
– Граждане и в том числе очень глубоко любимые гражданушки! – назидательно говорю некультурной толпе. – Не напирайте, пожалуйста. Не в очереди за правильным пивом! Человек, – киваю на Михалыча в стекляшке, – на работе!!! Ему надо все, повторяю, исключительно все пропуска наточняк проверять! Нет ли какого подвоха. А то знаете, сам читал… На одном заводе местные шутники подсунули на подпись своему мастеру наряд. Мастер верил всем, добрая душа был этот мастер, и он не глядя махнул. А потом этот наряд вывесили на общий смех. Был тот выписан наряд, – свободной, без пропуска, рукой я тряхнул в воздухе, – на обточку диска Луны! Во-он оно какие коврижки!.. Ты всё понял, Михалыч?… Дор-рогуша?!..
– Да кашляй, кашляй ты, нерводрал, дале! – вскочил в своей колбе Михалыч и зверовато уставился на меня. – Ну ты чего расчехлил лапшемёт? Ты что мне в такой мент басни поёшь? Ещё в самые глаза тычешь свою пробегалку! Да я тебя как облупленного и без бумажухи знаю! Да я сейчас вызову свой наряд! – Он снял трубку. – И тебе живо соберут все твои шарики! А то они у тебя, знаешь-понимаешь, не все дома. Разбежались! Раскатились, какой куда хотел!
В трубке отозвались.
– Срочно на проходную! – приказал в трубку Михалыч.
И тут толпа, потеряв всякое терпение, так двинула меня, что я мешком с опилками вальнулся за крутилку и растянулся по полу. Как на морском пляжу.
Боли от ушиба я не почувствовал.
Может, потому, что эту боль покрывала, забивала более сильная боль за Михалыча? Ну почему он не стал смотреть на карточку в моём пропуске?
Я покосился на злосчастный пропуск, зажатый в кулаке.
С карточки на меня весело щурилась лукавая лошадиная морда.
1994
В виду моря
И жизнь хороша, и мы хороши!
А. Рас
Наконец-то провожающие тугой гурьбой вышли из купе. Каждый оставил кто сумку, кто авоську, кто просто свёрток. Набежал полный угол снеди.
– Ну, доча! – вздохнула Клавдия, размято обводя угол. – Полная обалдемонка! Никакого нам с тобой отдыха не видать. Какой же в шутах отдых – перемолотить эстолько за дорогу!
Рита, закормленная с осени круглая неповоротливая толстушка лет двенадцати, похожая на бочонок с розовыми сытыми щёчками, кисло пожмурилась.
– Душно. Нет ни одной ветринки.
С этими словами Клавдия повисла на оконной ручке.
Охнув, окно опустилось под её весом. Было в ней центнера полтора, и набрала она эти полтора центнера в неполные сорок лет. Платью было тесно на ней. Как несмазанная телега скрипело оно, когда Клавдия двигалась.
– Не кривись, а начинай, – полуприказала Клавдия.
Рита взобралась с ногами на постель и принялась тоскливо, совсем без разгона жевать. Клавдия тоже угнездилась по другую сторону столика на постель с ногами и тоже стала лениво, как бы по обязанности есть.
У каждой была строгая специализация.
Рита прибирала одни бананы и апельсины. Клавдия налегала на пузатенькие курьи лодыжки, бросаясь птичьими останками в окно и запивая всё это лимонадом.
А между тем окно тихонько подпрыгивало, будто прицеливалось, а можно ли вернуться на старое место, и, кажется, окончательно осмелев, подпрыгнуло до самого верха и плотно закрылось.
В купе разлилась тугая духота.
Но Клавдия горячо разбежалась в еде, умывалась по`том и на миг уже не могла прервать трапезу, чтобы встать да открыть.
– Вона смотри! – обращается к Рите и тычет лодыжкой за окно на ребят в поле, собирали помидоры. – И ты по такому пеклу, может, кланялась бы этим красномордым помидорянам… Да что ж я – психушка? Пускай трактор терпужит, он дурак железный… Я в поликлинику, к своему человеку… Заслонила тебя справкой от этой горькой, каторжанской практики… Да-а, мать у тебя, дочаня, гигантелла! В каждом волоске по талантищу сидит!
Рита зевнула, посмотрела на короткие жирные пальцы матери в дорогих перстнях. Будто для сравнения с неясным интересом покосилась на свою недельку на указательном пальце, на золотое колечко на мизинце.
– Ты у меня, Ритуль, во всякое лето практикуешься по старому расписанию. Выдерживаешь порядок… Месяц у бабы Мани на молоке, месяц у бабы Нины на малинке да месячишко вот у тёть Оли на море. Молоком да малинкой отбаловалась. Осталось снять пробу с моря… Скоро свежей в купе станет. От Харькова начинается твоя моря…
Уныло поглядывая за окно, Рита с торчащей изо рта белой палкой банана провожает южную харьковскую окраину.
– А в Харькове, – сонно тянет, – нету ни одного моря.
– Как это нету? – оскорблённо всплывает на дыбки Клавдия. – На той неделе проезжала – было! И нету? Или его перенесли?
Рите лень отвечать. Делает отмашку:
– Слезь с уха.[83]
Разговор тухнет.
В купе тихо. Слышен лишь хруст куриных косточек да вздохи старушки в обдергайке, что неприкаянно толклась в проходе.
– А в Голохватовке у тёть Оли шикаристо, – обрывает молчание Клавдия. – Вечера чёрные. На небе полным-полно звездей.
Рита морщится.
– Ой и культура у тебя, Евтихиевна… – Рита звала мать по отчеству. Как зовут на работе. – Неправильно говоришь. Надо: не звездей, а звездов!
Клавдия почему-то засомневалась.
– Тоже мне выискалась грамотейша! Это твоя счастья, что сейчас вроде не держат в одном классе долгей одного года. А то б ты – обалдеть! – за пять сезонов и из первоклах не выскочила!
– Бабуль, – поворачивается Рита к беспризорной старушке в проходе, – скажи, как правильно: звездей или звездов?
Лукавство качнулось в умных глазах.
Старушка забормотала:
– Звездей… звездов… Я-то и словов таких не слыхивала…
Клавдия широко ухмыльнулась, нависла тяжёлым облаком над столиком, заваленным кормёжкой.
– Тоже удумала у кого грамоту искать, – зашептала Рите, вполглаза косясь на старушку. – Да это ж, небось, ушатая[84] лимитчица с рожденья! Тёмная вся! Просвети хоть по части картишек эту развалюшку… Выходи на связь!
– Бабуль, – тоскливо тянет Рита и срезает крашеным коготком колоду затёртых карт на краешке стола, – а хошь, за две остановки научу тебя в…
– Во что? Во что? – вытягивает лицо старушка.
Рита унывно повторяет, но я не рискну назвать те карточные игры.
– Деточка, к чему тебе эти карты? К чему тебе эти серёжки?
Клавдия сторожко наставила ухо.
Уши греет, подслушивает.
Старушка повернулась к ней.
– Да знаете ли вы, что носить серьги вредно? Это не я, это немецкие учёные говорят. В мочке уха находятся рефлектогенные зоны, связанные с внутренними органами. Долгое ношение серёг приводит к заболеванию этих органов. Носить можно по три часа в сутки и обязательно снимать на ночь. Детям вообще носить нельзя!
Клавдия ералашно вломилась в амбицию:
– Да лезла бы ты со своими учёными в сосновый тулуп![85] Родному дитю возжалеть?! Да я свою разряжаю покрепша училки-мучилки! А ты мне указывать? Дочкя с пяти годков с рыжими ушами[86] бегая и – где она больная? Да здоровейше её нету во всей параллели!
Клавдии показалось, что свёрток на столике заворочался. Она опустила взгляд. Ей примерещилось, что видный из бумажного свёртка зажаренный молодой поросёночек в панике похлопал вытаращенными глазёнками и машинально потянул в себя торчавший изо рта пук зелёной петрушки.
«Как бы ещё не заверещал… Кругом чужие люди… Сраму… – опало думает Клавдия. – Может, махнуть его в окно?… Вот такие мы! У нас всего завал! На наш дорожный век нам и курятинки хватит!»
Из окна ударил дух близкого химзавода.
Клавдия быстро закрыла окно.
– Вот дярёвня! Вот вонища!.. Этих деревенских хоть духами францюзскими затопи, всё одно деревенский ароматий не перешибёшь!
«Эх, Мотря! Как и поворачивается язык! Деревенька тебя кормит-поит. Была б ты без деревни такая бугристая?» – подумала старушка и холодно уставилась на Клавдию.
Отрывисто, режуще спросила:
– Сама-то давно из деревни? Давно ли из грязи да в князи выстегнулась?
Клавдия почему-то вдруг растерялась и ничего не нашлась ответить.
А старушка тем временем, властно смахнув край постели Клавдии на колени, наседала:
– Выметайсь с моего места! Я садилась с тобой… Уже час жмусь у твоих ног, всё жду, когда ты кончишь жевать в три горла. Да ты, похоже, будешь бесконечно мять до морковкина заговенья!
Говорит так старушка и зло выставляет билет.
Да, место это старушкино.
"А что ж тогда мой аспид? – смято думает Клавдия. Аспидом она звала мужа. Под синим массивным профилем на руке, так прозрачно напоминающем Клавдию, у него была вытатуирована жалоба: «Мамочка, это вот она довела меня до могилы!» – Ох, аспид! Бегал сам за билетами. Клялся-божился – места наши нижние. А выходит, одно над одним".
Делать нечего.
Клавдия трудно перетаскивает свою постель на верхнюю полку. Оперлась на неё, разбито пялится в окно.
– Ритуль, – устало говорит она, – что ж мы с тобой за хрюшки, что не можем залезти на вторую полку?
Рита равнодушно и немигающе смотрит на мать и молчит.
Где-то в степи поезд зацепился за столб.
В окне – петля дороги, у переезда грузовик с краном.
Шофёр провёл нетвёрдой рукой по губам, закрыл глаза и затянул отчаянным голосом, посылая Клавдии знаки счастливой души:
Деловой пламенный призыв шофёра выпихивает Клавдию из тупика.
– Милушок! – в грусти бросается она к открытому окну. – Помоги! Подсади своей бандурой на вторую полку!
Шофёр широко разбрасывает руки.
Из кабины его оглобельки видать далеко в обе стороны.
– Я что, дорогая моя недвижимость? Я завсегда согласный войти в интерес с женским классом. Но у моего краника грузоподъёмность недостаточна. Надорвётся-с!
Клавдия сердито захлопывает окно, на вздохе роняет Рите:
– Не жили хорошо, нечего и начинать…
Духота спала-блаженствовала на пустой постели на верхней полке.
А под нею, прилепившись друг к дружке, томились Клавдия с Ритой. Так и просидели всю ночь двумя крутыми буграми.
Но вот и дорожные терзания позади.
Весёлая, радостная Клавдия хлопочет у летней плиты в саду.
В виду моря!
На стол под яблоней ставит перед дочкой чашку манной каши. Подаёт с ложки.
Рита крутит головой.
Поталкивает, шлёпает ложкой мать в локоть:
– Здесь не хочу! Полезли на крышу, Евтихиевна!
Клавдия зацветает богатой улыбкой.
На крышу, так на крышу!
Как-то кроху Риту уговаривали всем семейством съесть вторую ложку каши за маму. Рита впервые топнула ножкой и заявила, что уступит только на крыше.
С той поры, приезжая в гости в деревню, мать кормит Риту завтраками, обедами, полдниками, ужинами только на крыше. Если однажды Рита пожелает, чтоб ей манную кашу подали на маковку Останкинской телебашни, мать не посмеет отказать, заберётся и туда. У материнской любви устава нет.
Кряхтит, ойкает Клавдия – следом за Ритой взмащивается по ненадёжной лесенке на пологую крышу сарая.
Тихонько усаживаются.
С минуту, обмирая от восторга, любуются они панорамой моря.
Потом Клавдия тихо дует на ложку с кашей, несёт Рите.
Рита благосклонно принимает. Каша нравится.
Рита лезет к матери подкрепить этот радостный факт поцелуем, и они – проваливаются.
Слабодушных прошу не волноваться.
Я угадал ваше желание и подстелил своим героиням не то что охапку – воз свежего душистого сена! Чтобы долго им не лететь, туго забил сарай сеном до самого верха.
Так что мать с дочерью свалились в мягкий аромат лета и счастливо расхохотались.
– Хрю-хрю? – извинительно спросила снизу благодушная хавронья.
Её вопрос я осмелюсь лишь подстрочно перевести как «Вы кто?»
– Хрю-хрю! – прощебетала в ответ Рита. – Свои! Да свои!!!
В пряной прохладе сена Рита скоро уснула и уронила руку на грудь матери.
Матери жаль будить дочку.
Не двигаясь, Клавдия долго смотрела в пролом крыши на чистое небо. Слушала море, слушала охавшую внизу от жары хавронью.
Мало-помалу неясное чувство вины засверлило, затревожило Клавдию. В чём она виновата? Перед кем?
Перед дочерью?
Перед выброшенными в вагонное окно свёртками с добротным харчем?
Перед бабунюшкой в обдергайке?
«Интересно, а как она вызнала, что я деревенского разлива? Или птаху и без паспорта видать по полёту?… Да, и я, и Рита родом отсюда, голохватовские. Всего десятое лето в городе… Куда ни залетишь, а душа домой кличет всегда…»
Сон закрыл ей глаза.
Ей нигде так сладко не спалось, как на сеновале.
Д о м а.
1994
Гордый жмурик
Дороже здоровья только лечение.
А.Тарасов
Операционная.
Стол.
Молодой хирург развалил страдалика, как кабана, искренне подивился нежданно открывшемуся в лёгкой дымке внутреннему миру больного и забыл, что делать дальше. Он срочно вспомнил, что все свои знания забыл в непрочитанном учебнике.
Делать нечего. Надо бежать на свидание с учебником.
Он торопливо содрал с головы нелепо нависавший в изломе бывший белым то ли поварской, то ли шутовской колпак, на бегу швырнул в угол также бывший белым халат и побежал.
Прибегает – районная библиотека ушла в декрет вместе с библиотекаршей.
Соседняя капремонтируется.
Центральная санитарит.
А уже вечер.
А дом рядом.
А по видаку скоро очередная серия «Богатые тоже плачут».
Ну как пропустишь?
И он побежал смотреть богатые слёзы.
Когда хирург пришёл снова в операционную, больного на столе не было.
Откуда-то из недр тишины придавленно горевала музыка.
Он выглянул в окно.
По улице брела похоронная дивизия.
И впереди, как знамя, несли на руках бывшего больного.
«Чёрт побери этих больных! Какие нетерпеливые пошли! Потерпел бы! Полежал бы на столе какой денёк… Не пашут же здесь на тебе! Для этих же барбосов стараешься! По последнему медписку хочешь отоперировать. А прибегаешь – он уже на кладбище отъезжает. Ну куда спешат? Ну куда спешат? Разлёгся в гробу как анафема! Маши не маши, даже пальчиком не шевельнёт в ответ. Горде-ец. Закушался дядя!»
1994
Утренние хлопоты
Осень в Ясеневе
Соавторы, или Сопение как двигатель творческой мысли
Дождь гулял под зонтиком…
Как я ни тужился, телега дальше не ехала.
– Сочиняй стишок с этой первой строчкой, – положил я свою строчку перед Гришей.
Сын солидно, авторитетно засопел, будто в одиночестве переносил на новое место Эверест.
Весь и сразу.
Тяжёлое сопение живо пробило затор где-то в недрах странной поэтической машины, и совсем скоро стих легко, с приплясом выбежал наружу.
Мой маленький Григореску автоматом оттарабанил три последние строчки.
Я только в такт подмыкивал.
Вроде получалось дуэтом. Оба-два сочиняли!
Вот мы и докопались до точности, кто что сложил.
25 августа 1998 года. Вторник.
(Газета «Труд», № 113 за 2000)
Сапоги
Пирожок
Если ваша жена – клад, вам причитается двадцать пять процентов.
А. Бортников
Слыхали? У нас муж любимую жену убил.
Пирожком.
Всё Ясенево так и присело.
Что за пирожок? Где добытый? Кем выработанный? Чем начинённый?
Без суда разве доедешь до точности?
И вот уже на суде, из-за решётки обезьянника, муж раскладывает правду-матку по полочкам.
– Не убивал я… Мы ж двадцать два года отжили!
Зал не поверил.
Уточнил, наводящий подпихнул вопросец:
– Может, тебе просто некогда было? По нечайке, может?…
Махнул муж на глупость рукой и продолжал так:
– Хозяйка была без вопросов. Что с лица, что характером… На кухне… Всё могла! И чай вскипятит! И так ядрёно! Он у неё кипел, не знал, куда деваться. Свистел как резаный! Значит, вскипятит… И даже нальёт… Всё могла! Вот только с пирожками не ладила.
А я пирожки любил… Пережиток барский…
Вижу, хочется ей мне угодить. Горячо. Наваляет целую горушку. И тогда обое мы краснеем. Она за свой труд. Я за своё бессилие съесть те пирожки. Без долота ж, без зубила, без молотка, без пилки не подходи к тем пирожкам!
За месяц с грехом и с зубилом пополам одолеешь-таки ту горку и больше в страхе не заикаешься про пирожки года с два.
Но любовь не мрёт.
Года через три снова одарит горкой. Один железней другого.
Раз пирожок упал ей на ногу.
– Как каменюкой кто отблагодарил! – поделилась впечатлением от того упада.
Полмесяца честно отгуляла на больничном.
А тут Восьмой заходит март.
На пирожки потянуло опадающего символа.
Думаю, надо всерьёз брать пирожковый редут.
Накупил ей килограмма с два кулинарных книг. Одна «Традиционная русская кухня» толще кулака. А «Большой рецептурный кулинарный словарь» и того толще. На то и «Большой»!
Но мне мало.
Так я ещё разбежался и на целую «Энциклопедию выпечки».
Будем по науке печь!
Глядишь, умягчим каменные пирожки.
Надо, сушу я голову, к книжкам-подаркам что-нибудь и от себя пристегнуть.
Тут у меня сынок возрос. Побежал шестилеточка в первые классы.
– Ну-к, сынок, потренируй ручку. Давай нарисуем мамке поздравленьице по случаю случайно случившегося случая!
«Дорогая мамочка! – живо-два сажает сын буквы-лягушки на открытку. – Поздравляю тебя с праздником 8 Марта и желаю много-много всего-всего, чего ты хочешь. А я хочу мягких пирожков!» – И кинул занятную петлю подписи.
«И я», – черкнул я ниже.
И тоже расписался.
Принялся сынок за адрес.
Против слова Куда накрутил:
«Планета Земля!»
И после Кому вывел:
«Мамочке любимой!!!»
Восьмого утром сын с открыткой, я с книгами двинулись на кухню поздравлять нашу единственную на всю квартиру красавицу.
Сын чинно прочитал открытку, заработал вежливое спасибо.
Я подаю книги свои – обиделась прям на эти книги с намёком, поскучнела в лице. И ни звучочка.
– Я тоже хочу чего-нибудь мякенького… – промямлил я.
– Значит… будет…
И запустила тесто.
Я опрометчиво поверил, что пирожки и впрямь выбегут из духовки пушистые.
По случаю праздника.
Ничего ж непозволительного я не хотел. Я просто хотел откусить от пирожка. И очень хотел.
А потому добросовестно кусанул!
Пирожку хоть бы хны. Ни вмятинки, ни царапинки.
Зато зуб у меня аврально хрустнул и трупно рухнул на пол.
В ужасе глядя на свою невосполнимую утрату, я запустил этот пирожок в его творца. С горячим распоряжением:
– Сама испекла – сама и кушай!
Но кушать ей уже не довелось. Пирожок был тяжелюха, будто в него запекли ком золота.
Это не я…
Это досада…
Это поломанный зуб кинулся пирожком!
На сломанный зуб суд и повесь всю эту худую петрушку.
1999
Знаешь ли ты, дорогой, что я выхожу за тебя замуж?
Опускаясь с небес на землю, не забудьте раскрыть парашют.
Л. Леонидов
«Женщина всегда права, особенно когда ошибается».
– Ужастик!.. Послушай же!.. Ну сколько можно звонить? Послушай, чмо худое! Ты не на ту запал… В конце концов это неприлично. Доведёшь – бомбочку под дверь суну!.. К нему как Маша ехала за тыщу вёрст положительная девушка, а он не открывает! Я ж вижу! Стоишь под дверью. Ну заяц!
Она пришатнулась лицом к самому глазку, защёлкала зубами хищней папановского волка.
«Чёрт возьми! Неужели она и в самом деле видит меня? Как хорошо, что этой блохе Бог рогов не дал, а то б дверь пробила!»
Не отрываясь от глазка, я переступил с ноги на ногу.
– Ну, чего, самолюб, сопишь? Много чего знаешь? Лучше б переложил паркет… Старый… Скрипит… Открывай! А то будет хуже!
«Хуже не будет… Ну слух, как у пограничной ищейки. Через обитую дерматином дверь дыхание слышит!»
– Открывай! Или ты уже не мужчина?
Дожала!
Я был всё-таки ещё мужчина. Во всю злость расхлебенил дверь до предельности.
– Что я говорила! – удивлённо вскрикнула она. – Что я говорила!
Она торжественно возложила кулачки на заметные и под пальто вкусные бёдра.
«Да-с… Очень трудно всё-таки быть мужчиной. Будь моя власть, я б старым холостякам платил за вредность».
– Что… ты… говорила?…
– А то, что мне очень жаль тебя. Но, к сожалению, помочь тебе ничем не могу.
– Без ребусов можешь?
– Представь, могу. Знаешь ли ты, милый, что я выхожу за тебя замуж? – прошелестела она со старательным французским прононсом, хотя преподавала немецкий в провинциальном институте благородных неваляшек.[87]
– Откуда ты взяла?
– Отсюда. – Она строго приставила к виску палец, как пистолет.
– Гм… Я всегда в тебе ценил деловую хватку. Но сегодня ты меня разочаровала. Старый холостяк, между прочим, продукт вообще-то хрупкий. Его не рекомендуется вот так сразу за скрипучие жаберки… Грубо.
– Сам виноватушко! Довёл… Пять лет думать! Лев Толстой за это время целую «Войну и мир» написал! Женись и думай! Что тебе?
– Размечталась… Вот так сразу и женись?
– Да! Вот так сразу, если не считать твоей вечной раскачки.
– Когда ты всё это решила?
– Сейчас. У тебя под дверью. Сам виноват! Открой сразу, я б, пожалуй, и не докувыркалась до такой решительности. А пока ты не открывал, я загадала: откроет – выйду сразу…
– А если б не открыл?
– Чуть погодя.
– Ну, это ещё надо доказать, что именно у меня под дверью ты всё это загадала. У тебя есть свидетели? Документы какие-то?
Из квартиры рядом выглянула на миг любопытная старуха.
– Послушай, что за дела? Может, ты всё-таки пустишь девушку в квартиру?
– Такую девушку только не пусти… – Эти, – показываю на раздутые сумки у её красивых ног, – тоже с тобою?
– Со мною… Приданое… Тарань на кухню… Не зря целый месяц отгостила в деревне у отца с матерью…
На кухне она весело тараторила, доставая из сумки телячью лодыжку:
– Ты думаешь, я шучу? Шутить я давно разучилась. Ничего не поделаешь, тебе надо смириться с мыслью, что я выхожу за тебя, дорогуша, замуж. Вот такая ария Хозе из оперы Бизе. Целая Шопениана. И попутно привыкай, титан возрождения, к своему семейству!
Она поставила на стол у вазы фотокарточку девочки лет семи:
– Это Иришка. Лялька…
– Чья?
– Разумеется, наша…
– Не приписывай мне соавторства.
– Но днём раньше, днём позже… Какая разница? Мужчинчик ты порядочный. Думаю, не откажешься удочерить такую красотулю… Всем от этого только хорошо. Сплошной шоколад! Мне не надо рожать, тебе не надо бессмысленно колебаться… Так когда ты нам с Иришкой подаришь свою фамилию? Она у тебя такая красивая… Так когда?
Я в недоумёнке вздыхаю и целомудренно ухожу в незнанку.
1999
Звонок вниз
Порядочная женщина верна и мужу, и любовнику.
Веселин Георгиев
А что бы вы, мил человек, сказали ласкового своей ненаглядной жёнушке, приди она с работы не в семь ноль-ноль, как положено по родному трудовому кодексу, а в половине второго ночи? К закрытию метро? Ну-с?… Так что же вы б сказали?
Вот-вот!
То же самое гордо сказал и я.
Только мысленно.
Потому как культурный и креплюсь из последнего.
Вам-то проще. Это не ваша жена растягивает любовь к службе до половины второго. Но растяни ваша – вы бы не сказали? Да ещё вслух? Да ещё!…
Двадцать лет отжили. Без сучка, без задрочинки!
А тут тебе отпад. Полный!
Бегала она в другие работы. Без происшествий.
В восемь туда. В семь сюда.
Туда – сюда… Туда – сюда… Туда – сюда…
Челночок!
И вот перебежала она служить к…
Назвать его грубым словом – некультурно. Назвать культурно – язык не поворачивается.
Вскакивает в пять и три часа жестоко хлещет себя по лицу. Перед трюмо. То ли ум в себя вколачивает, то ли чего из себя лишнее выколачивает, то ли ещё чего…
Раньше я и не знал, что у моей пёстрокрылки есть лицо.
Прибежала с работы. Поела. Баиньки.
Вскочила. Умылась. Убежала.
Теперь часами себя волтузит, как какая тиранозавриха. Волтузит-волтузит, волтузит-волтузит… Отдохнёт да примахнёт…
Отделочные работы в полном разгаре!
Быстренько заштукатурит избитые места и отбывает королева наша служить. Отечеству… Государю-с…
Ну, служит месяц.
Служит целых два…
Стала задерживаться.
Сначала на час.
Потом на два…
Подъехали и три…
А ретивое подёргивает у меня. Шепчет:
«Спроси у неё чё-нибудь… Патрон у неё не холостой ли? А вдруг этот бабтист уже подговаривается к ней с сексболом?… Да что подговаривается!? А ну она там нижней губкой уже шлёпает с этим слоном в маринаде!»
Не могу. Не могу подозревать жену в чём-то, не доверять… Это не по мне. Если что такое – разве она сама не скажет? Мы ж вроде культурные люди?
А между тем…
Как-то подлетела полночь. Ни Германа, ни моей паранджи…
Наконец…
Открываю ей дверь, пальтецо её пристраиваю на вешалку и вежливо так вхожу в вопрос:
– На метро успела?
– Да уж не опоздала.
И в голосе вроде досада. Рано, мол, прискакала.
И поясняет:
– Ты в свой рюкзачок, – по-хозяйски, как дятел, простучала крашеным коготочком мой висок, – ничего такого не запихивай. Работуня новая. Всё запущено, но растащено. Надо всё сгрести. По последнему слову техники. Надо не на счётах пришлёпывать, а на компьютере. Осваиваем новейшую программу. 1С! Понял?
– Допустим…
Божественным трепетом проникся я к Одному. Да ещё с С.
И закрыл зубы.
Не лезу в её сальто-мортале, кредиты с дебетами…
Решил так. До полуночи 1С! А уж дальше – всё моё!
Но вот стало её зашкаливать.
Может, уже и пушкинский Герман приплавился на ночёвку, а моей всё нет. Дело к часу ночи – нет!
Звоню:
– Ты извини… Я с напоминанием… На метро не опоздаешь? Без тебя не закроют?
– Пусть только попробуют!
И так дышит, и так дышит!
Проклятый 1С, поди, допекает…
Жалко мне стало мою.
Глухая ночь. В домах напротив редкие огонёшки.
Надо пойти встретить в метро. А то как бы кто чего…
Спустился в метро. Стал у турникетов за столб. Смотрю, кто выходит. Глазами ищу своё сокровище.
Смотрю, смотрю…
Присмотрелся нечаянно к столбу.
На нём красной пастой старательно выведено:
«Здесь была я».
И ниже зелёной уточнено:
«Поносная струя!»
А через мгновение что я вижу?
Фенькин номер!
Идёт-бежит моя паранджа весёлая-весёлая! Аж пританцовывает. Будто только что с трахтодрома спрыгнула!
И на бедре у неё лохматая рука. Владелец лохматки – предводитель всех квазимод мира! Нет-нет трахтор и пришатнёт её за бедрышко к себе. Она в безотказной радости прильнёт. Бабай не теряется. Лизнёт её то в щёчку, то в ухабик под ушком…
Какой любвезадиристый квазимодка!
Поцелуйчики – это вам не шуточки! Поцелуй – это ответственный звонок вниз! За день не назвонился. Ну!
Меня как-то разом подсекла гордость за мой безупречный выбор. Она нравится не только мне, но и… Значит, есть у меня вкус! Однако я ни с кем не собираюсь делиться своим пускай и щербатым сокровищем, и я вызывающе вышагнул из-за столба им навстречу.
Он в прошлом военный спецок. Изобрёл туман для шпионского самолёта. Вот летит самолёт. Его не видно. Видно лишь кучку тумана. А какой бдительный будет палить по туману? Поди сообрази, что в туманчик-то завёрнут целый самолётища!
Квазимодка думает, что сейчас и он, и она в его родном тумане, и никто их не видит.
Это ему так кажется.
А я-то вижу всё!
От столба я твёрдо иду к ним на таран!
Теперь настал черёд их шока.
Моя пробляндинка, увидев меня, в панике дёрнула его волосатую лапу книзу, что-то ему сказала. Он готовно рожу тяпкой,[88] отмежёвывается от неё примерно на полметра и уже без аппетита шлёпает на таковецкой пионерской дистанции от неё в мою сторону.
Я стою, торжественно жду их подхода.
В башку лезет какая-то школьная глупь с уроков географии:
Моя натуралка знакомит нас.
Я подаю руку, что-то даже жму и попутно навожу справку:
– Сколько раз прочитали «Отче наш»?
– Упаси, Боже! Мы атеисты. И нам не до того было.
– Разумеется. Вы что, всех подчинённых провожаете в половине второго ночи до их супружеского катафалка?
– Не всех… Только главную… Второе лицо в фирме…
Моя раскладуня удивлённо уставилась на него. Что за трахтрибидох?
– Да! – принципиально подтверждает он. – Второе лицо в фирме! С сегодня…
– Гм! – сказал я тоже принципиально. – Вы что же, до этой поры сводили кредит с дебетом?
– Представьте… И больше – ни-ни… Главные кадры надо беречь… И я проводил… Какой криминал? Вот…
– Спасибо за доставку груза «двести». Надеюсь, в полной сохранности?
– В полнейшей!
– На первый случай попробую поверить… Но чтоб это в последний раз, – пробормотал я и, не прощаясь с ним, побрёл вверх к своему дому.
Она нагнала меня. Молчит.
Я гордо сказал:
– Я бы простил тебе всё! Только не этого юного натуралиста[89] с платформой…[90] Им же только детей за большие финажки[91] пугать! Или в темноте все Аполлоны?
– Что ты, безбашенный, несёшь? Как ты мог подумать? Чтоб я с этим?… У него жена страшней кикиморы!
– И не потому ли он метнулся в твои голубые просторы?
– Ну!… Если не верить своей жене, то как тогда и жить? Ну… Человек беспокоится… Хотел, чтоб безо всяких чепе добралась до дома. Проводил чисто по служебной необходимости…
– И лизал в щёку в метро – это тоже суровая служебная необходимость? И где паслась его татаро-монгольская волосатая кочерга?
Дома при ярком свете я увидел, что губы у неё свеже покусаны.
"Наверняка у них была любовь с эполетами![92] Неужели этот вояка-экстрасекс на пенсии станет всухомятку давиться одними губами без любви? Чего этот увядающий шустрый электровеник кинется названивать вниз без маниакальной жажды слиться, может, в последнем жестоком экстазе с моей раскладушкой?"
Сердчишко у меня опять сильно упало.
– Он или людоед? – скромно уточняю я. – Как чужое – за один приляг готов всё сразу слопать! Чего натворил этот милитарист с твоими губами? Все ж порвал! Штопать чем будешь? Цыганской иголкой со смоляной ниткой?
– Ничего он не рвал. У окна сижу весь день. Продуло. Апрель… Примитивная простуда!
– Святой простудифилис?
Я подошёл к зеркалу.
Пристально стал рассматривать свою голову.
Рогов пока вроде не видно. Ни больших, ни маленьких. И тяжести их я пока не слышу. Но какому винторогому козлу свои рога в тяжесть?
Может, развестись? Не проблема. Да сын…Что будет с сыном? Надо держать семью ради сына.
Но это вовсе не значит, что я заживу по принципу «Уж лучше вкусную пищу делить с друзьями, чем давиться дерьмом в гордом одиночестве».
Я нашёл своей новую службу. Приличная контора. Приличней заработок.
Мавр сделал доброе дело. Мавр может отдыхать.
И уехал я в санаторий.
Сосновый бор. Река.
Чего ещё желать?
Я выкупил слегка уже подгоревшую путёвку и сыну.
Раз всё делалось на бегах, не всё выплясалось ловким коленцем. Несколько дней пришлось спать на одном диване.
Но это не беда.
Главное, отдых удался.
Незаметно просвистели две сыновы недели, и жена нагрянула за нашим парнем на БМВ, боевой машине вора.
Она страшно торопилась, и я никак не мог посмотреть ей в лицо-яйцо. Как дорогой мандат, она всё прятала от меня это своё яйцо.
Наконец я всё-таки изловчился и заглянул в принадлежащее ей её яйцо. Губы у неё были искусаны.
«Неужели этот экстремист опять вышел на связь?» – с опаской подумал я.
– Тебя что, собаки рвали? Что с губами?
– Стандартная простуда! Не веришь – прими за сказку… Отстань!
– Простуда? В такую жарынь?! Тридцать же пять!
– Новость! Бывает всё!
– Но почему только с тобою?
Я внимательней посмотрел на жену и чуть не взвыл.
– Тебя что, и на новой работе грызут?
Молчит.
– Но на новой работе у тебя начальник – бабец!
Молчит.
Таня-партизанка – два.
– Откуда бээмвэшка?
– Со старой работы…
– Так бы прямо и говорила! Этот парашливый минимундус… Он что, всё никак не угомонится и по старой памяти продолжает тебя грызть?
– Никто никого не грызёт… Ну сколько можно одно и то же переливать? Прос-ту-да!
– Придумай что-нибудь новенькое! От такой простуды недалеко и до французского насморка![93] В апреле у окна сидела. Продуло! Но сейчас… Июль! Тридцать пять в тени! Сорок шесть под мышкой! Откуда выкатиться простуде?
– А ты что, не слыхал, что простудиться можно и в жару?
– Двадцать лет прожили – ни разу не простужалась! Ни в минус тридцать пять! Ни в плюс тридцать пять! А тут простуда на простуде! И простудой наглюще погоняет!
И тут подпихнул словечушко наш малолеточка сын:
– А я знаю, где нашу мамку покушали… Ой, покусали… Вчера, тридцатого июля, у дяди Миронова был деньрожка!
– Опс! Конечно, на дне рождения температурка была за сорок. Что кушали-с? Чистый самопляс,[94] северное сияние[95] или коньячелли?
– А тебе какая разница!?
– То-то я гляжу, чего это тебя не догрызли… По трезвяку до такого б не докувыркались… Зациклились на губах. Даже злые собаки до губ не опускаются и вовсе не начинают разговляться с губ. На то таскают толстый амбарчик и целых два оковалка ляжек… Да-а-а-с, склеенный кадр…[96]
Моя кадрица[97] по нежданке быстро увезла сына на мироновском шизовозе.
А я и пригорюнься.
Ну, какой тут отдых, если на твою жену накинулся проголодавшийся людоед? Слопает же всю мою паранджу вместе с волосяной сеткой для лица!
Оставалась целая неделя до конца срока моего санаторного отдыха. А плюну-ка на этот конец и дуну домой спасать остатки жены? Пока всю не слопали!
Я не находил себе места.
Я носился по лесу и рассуждал. Это что же за зверина этот енот-полоскун!? Что она в нём откопала? Чего она с этим одноклеточным сдружбанилась? Воистину, «женщина – друг человека, который не является её мужем»! Неужели она у меня из тех, про кого сказано: «Женщина непобедима в умении сдаваться». Но – кому? Наверняка на деньрожке у этого сексоболиста была в гостях одна моя мадамелла. Была на первое, на второе, на третье… На сотое!… Это он её пил, ею закусывал, её ел! Одну! И никак не облопается! Но – подавится! Обязательнушки!
Боже! Что же делать?
Пока я тут санаторничаю, она там… С эполетами… Пришпандорился этот Укроп Помидорович к ней и без конца знай окучивает её, окучивает… Ну уж!… Да я в мент прихлопну эти изнурительные сельхозработки!
У меня ещё оплаченная неделя отдыха.
Плевать на отдых!
Я еле перекрутил ночь в санатории, помахал ручкой своей оплаченной неделе и подрал на попутках из санатория.
В электричке усталость прижала меня плечом к вагонной стенке, и я задремал.
Мне приснилось, кто-то во мне осторожненьким голоском позвал Русь в моём лице к топору. Пустопорожним зовом всё это не кончилось. Я разгорелся до тех степеней, что пообещал самому себе в капусту искрошить своего голодного зложелателя-людоеда. Одним ударом поклялся рубить с плеч по две головы. И – метнул в соперника топорок. Да промазал. Стучу кадыком на всю землю:
«Не гарцуй в моих владениях! Отвали от моей авоськи! Меняй половую ориентацию! Не то пришью!»
Тут пошла вторая серия сна.
И теперь я увидел свою ненаглядку.
Сколько живём – всё наглядеться не могу.
Только… Г-господи!… Некогда свеженький мой батончик иссох в мумию, воинственно держащую, как знамя, косу в руке! Из какого музея ужасов прибежала ко мне в сон эта голая скелетина в набедренной повязке бантиком и с короной на голове? Если я вру – гляньте вправо. Неужели это моя алюрка в обозримом будущем? Да стоит ли из-за такой красотулечки разбрасываться топориками?
Я срочно проснулся и тут же окончательно отверг этот горячий топорный бред.
Дико! Неинтеллигентно!
Топор!
Как чуть что – сразу за топор!
Заруби агрессора и прыгай на дерево да кричи, как макака:
– У-у! У-у! У-у!…
Неинтеллигентно всё это!
Да как я могу его топором? Он же – один такой в Одессе![98] И он же мне почти родич. Мы ж с ним однодырочники! Не-е… Нельзятушки топором… Сдать рога в каптёрку[99] и – ша! Он же в глазах жены, этой трёпаной рогожки, уравнен со мной. Она равно верна и ему и даже потом мне! Во вторую очередь. А ему в первую. Мне всегда достаются вторые роли. Чужие объедки. Такая моя планида.
И всё равно надо решать смирно эту теорему.
Итак.
Дано: порядочная жена верна и любовнику, и мужу. Требуется доказать, что порядочный муж терпелив к любовнику жены.
Бррр!
Но надо, Федюня! Надо!
Раз порядочная женщина обратила на этого коллайдера внимание, значит, он тоже порядочный. Жена порядочная, муж порядочный, любовник порядочный. Порядочный треугольник!
Все порядочные!
А порядочные люди топорами не кидаются.
И я не буду.
Первой мне встретилась милая тёщенька.
– Ну что? – говорю. – Будем кусаться или целоваться?
В присутствии близких слёз тёщенька единогласно и без митинга высказалась за поцелуи.
На этом и закончился наш вступительный словесный переброс.
Вот золотой человек!
Вот кто истинно желает зятю долгой и счастливой жизни! Она ж превосходно знает, что зацелованный человек живёт на двенадцать лет дольше.
Мы срочно в охапочку и за крепкие поцелуйчики.
По-родственному.
Нацеловались мы со сладкой тещёнькой…
Отдохнул я чуток и говорю:
– Что же вы не следите за доченькой? Пока я прохлаждаюсь с сыном по санаториям, тут вашу любимую доченьку слопают. Откинет же ещё новенькие адидасы! Вы видели её губы?
– Ну что губы!? Что губы!? Да это ж банальная простуда!
– Я двадцать лет с нею изжил и ни разу не было в 35-градусную жару у неё простуды!
– Ну и что? Человек вон тоже жил, жил, жил – и валенки на сторону. А раньше ни разу ж не помирал!
– Как она тут развлекается? – Подумал: «Под кем?» Но вслух корректно уточнил: – И с кем? Вы знаете?
– Какие ещё развлечения? Вы что, забыли, что моя доченька замужем? Не лично ли за вами?
– Лично-то лично. Да губы кто ей так безобразно погрыз? Кого мне вызывать на дуэль?
– Вызывайте на дуэль свою больную мнительность да подозрительность. А моя доченька чиста перед вами, как стёклышко!
– А я хочу знать, кто погрыз это стёклышко и не порезался?
– Не смейте ни в чём подозревать мою дочь! Она не прости-господи какая там! Моя дочь – порядочная женщина!
– В том-то и беда, что порядочная. Во сколько наша порядочная прибывает домой?
– В семь. Как часы! Точна как швейцарские часы!
Мне не хотелось, чтоб первый же день моего приезда подмочила схлёстка с женой. Позвоню. Звонком я как бы предупрежу, чтоб она по старой памяти нечаянно не стриганула после работы в мироновские палестины. Хочешь мира – греби сразу до хаты!
Она, похоже, сильно огорчилась моему звонку.
– Ты почему недоотдыхал весь свой срок?
– Это у тебя надо спрашивать.
– За сколько лет первый раз вырвал путёвку и притерпужил раньше срока!
– Ну что теперь? Ребёнок родился. Назад не впихнёшь… Ты во сколько сегодня придёшь?
– Не знаю.
– Уходишь в незнанку? Подсказываю. Матушка говорит, что ты тут в моё отсутствие в семь засвечивалась дома.
– Ну-у!… Матушка-то точно в семь будет дома.
– А ты, светлуша?
– После работы мне надо заскочить к Миронову…
– К чему этот прыжок влево? Твоя дистанция конкретная: присутствие – дом! И ни на пальчик в сторону!
– Это ты так считаешь.
– Ты уже два месяца в новой конторе! К чему эти левые забеги до полуночи и длинней?
– Хоть я и в новой, но надо навести бухмарафет в старой. Я обещала… Он там зашивается один… Принимала у него бухгалтерию – всё тёмно, запущено. Пока всё осветишь, распутаешь…
– Кто-то запутывал долгими годами, а ты распутывай? И сколько на это тебе надо лет? Ты ж уже в другом месте работаешь!
– Или ты тормознутый? Я ж обещала чисто по-человечески! Не могу я вот так бросить… Надо довязать кой-какие хвосты… Надо погрести кой-какие пустяки.
– Пустяки спокойно оставляй Миронову, и в семь я тебя жду дома.
– Жди. Я не запрещаю. А я поеду туда.
– Родина зовёт?
– Она, родимая… Ну надо ж концы подгрести!
– Кончай с концами. Кончай этот левый сексбол. В семь жду!
– Я не возражаю.
Семь ноль-ноль.
Её нет.
Звоню в мироновскую шарашку.
Отвечает рубач.
Оказывается, на весь притонелли остались лишь трое. Этот охранник, бабальник Миронов и наша орденоноска порядочная.
Прошу позвать её.
– Генсек! – докладываю ей. – Меня потрясает ваше служебное рвение. Пахать в две смены в разных заведениях – это очень, наверно, трудно? Ну зачем вы рвётесь на безоглядный износ? Слопают же ведь!
– Но не тебя же!
– А останки хорони я? Гробчик-веночек-свечулечки заказывай, могилку рой, слёзки лей, в грудку себя колоти… Мне только это и остаётся? А кому-то только радость? К чему такое грубое разделение обязанностей? Я ни с кем и ничем не желаю делиться. Всё гребу себе. Весь банк!
– Я не возражаю. Греби. Но где-то в районе полуночи. Пожалуйста! Хоть большой ложкой!
– Мадам! Кончай меня кошмарить.
Как человек весьма воспитанный, я считаю своим высоким долгом предупредить, чтоб потом вы не говорили обо мне: ах, какой он несносный коварец! Если ровно через час вы не будете блистать своим присутствием дома, я, извините, поеду вас встречать с дружком Топориком. И уж тогда у кого-то на плечах может не досчитаться дурьей курьей сообразиловки. Товарищ местоблюститель, извини, но я предупреждаю, это не чёрный юмор. Это суровая необходимость. Время пошло!
– Не пуржи! – вяло порекомендовала она.
Я смолчал и вежливо положил трубку, разыскал в кладовке свой лёгкий баклушный топорец с кривой рукояткой и стал точить его напильником.
Вжик-вжик. Вжик-вжик…
Влетела ко мне в комнату мёртволицая тёща.
– Я слышала весь ваш разговор. Что вы делаете?
Вжик-вжик. Вжик-вжик…
– Точу топор. Пойду с ним встречать нашу многознамённую порядочную в сопровождении панка Миронова.
Вжик-вжик. Вжик-вжик…
– Но зачем точить? Убить можно и так… обухом… И просто тупым…
Вжик-вжик. Вжик-вжик…
– Просто тупым – грубо. И очень может быть даже больно. Я хочу облегчить этому пламенному людолюбу кончину.
Вжик-вжик. Вжик-вжик…
– А при чём тут он? Сучка не захочет – у кобеля не вскочит!
Вжик-вжик. Вжик-вжик…
– Выходит, наша порядочная – порядочная сучка?
Вжик-вжик. Вжик-вжик…
– Я этого не говорила.
Вжик-вжик. Вжик-вжик…
– Я про это и не спрашивал…
Тёща схватила телефонную трубку и позвонила нашей порядочной:
– Рысь ты непутёвая!… Разнесчастушка!… На метле дом-м-м-мой из того сада небритых ежей! Не то задам порежа!… Он наточил топор! И очень остро! И поедет, стуколка, встречать тебя!
Тёщенька, милая моя матя, сделала своё доброе дело и с чувством свято исполненного долга отбыла в обморок.
По праву любящего зятя я уложил её в пуховую постельку, подал воды, с горушкой горсть таблеток, размахнул до предельности окно и вызвал дорогой скорую.
Врач скорой и наша порядочная сексопилочка причалили вместе.
Было без пяти восемь. Вечера.
Уложилась.
После этого случая моя незабудка ни разу ни на минуту нигде не задержалась после работы.
Ровно в семь – дома!
По ней я стал сверять сигналы точного времени.
Слилось три года и – ни одной даже завалящей простудинки!
Ни летом, ни зимой.
Простуды почему-то совсем забоялись связываться с моей благородной неваляшкой.
На то она и порядочная.
2002
Комментарии
Муж, найденный в стогу. Районная газета «За коммунизм» от 19 февраля 1960 года. Село Щучье Воронежской области.
Поцелуй в овраге. (Первоначальное название «Филькина грамота».) Рассказ. Впервые опубликован [100] 6 сентября 1967 года в тульской областной молодёжной газете «Молодой коммунар».
Сандро. «Молодой коммунар», 22 сентября 1967 года.
Конкурс невест. «Молодой коммунар», 3 октября 1967 года.
Квартиранты. «Молодой коммунар», 18 июня 1967 года.
Как вернуть утраченную любовь. «Молодой коммунар», 14 апреля 1967 года.
Третий билет. «Рязанский комсомолец», 20 января 1963 года.
Манёвры женского сердца. «Молодой коммунар», 8 марта 1967 года.
У подножия славы. «Рязанский комсомолец», 20 июня 1963 года.
Такая любовь. «Рязанский комсомолец», 3 сентября 1963 года.
Осмелилась мышка пощекотать кошку. Сначала 4 октября 1963 года в «Комсомольской правде» (Москва) появилась моя ядовитая зарисовка «Был бы в комитете прокурор…» с карикатурой В Черникова. Я переработал зарисовку. В апреле 1965 года «Мышка…» пискнула в «Молодом коммунаре». Позже её перепечатал столичный журнал «Крокодил» (№ 18 за 1965 год).
Среди немых и заика оратор. «Молодой коммунар», 5 февраля 1965.
Барьер с чёлочкой. «Молодой коммунар», 6 июня 1965 года.
Персональный рай. «Молодой коммунар», 30 мая и 20 июня 1965 г.
Когда плачет ночь. Приложение к газете «Молодой коммунар», 1965 год.
Жена напрокат. «Молодой коммунар», 17 октября 1965 года. За этот фельетон меня лягнула цэковская «Правда». Мол, слишком смело подана деликатная тема. Редактор «Молодого коммунара» Евгений Павлович Волков был большой умница. Всегда чутко прислушивался к советам «Правды». Только поступал ровно наоборот: "Удостойтесь чести быть расхаянным «Правдой»! Раз тоскливая "ПравДуня« понесла по кочкам – это высшего пилотажа материал! А за это надо хвалить!» Похвалил на редакционной летучке, премировал недельной вольной командировкой в Ленинград, когда я мог привезти материал о чём хочу.
«Мой фельетон». «Молодой коммунар», 1 января 1967 года.
Седина в бороду, бес в ребро. «Молодой коммунар», 11 января 1967.
После подвига. «Молодой коммунар», 19 февраля 1967 года.
У всякого Филатки свои ухватки. «Молодой коммунар», 2 апреля 1967 года.
Безответная любовь. «Молодой коммунар», 17 июня 1967 года.
Не дразните маленьких! «Молодой коммунар», 25 августа 1967 года.
«Коварство без любви». «Молодой коммунар», 10 октября 1967 года.
Глина. Журнал «Клуб и художественная самодеятельность» (Москва), № 23 за 1978 год.
На отдыхе. Журнал «Огонёк» (Москва), № 3 за 1984 год.
Как Тит повёз себя хоронить. Газета «Сельская жизнь» (Москва), 6 сентября 1986 года.
Спасти Михалыча! «Клуб 12 стульев» «Литературной газеты», 30 июня 2004 года.
В виду моря. Еженедельник «Моя семья» №30 за 2007 год.
Осень в Ясеневе. Стих написан вместе с сыном Григорием и впервые опубликован в газете «Труд» 22-28 июня 2000 года.
Дождь гулял под зонтиком… Стих написан с сыном Григорием и впервые опубликован в газете «Труд» 22-28 июня 2000 года.
Сапоги. Стих написан вместе с сыном Григорием и впервые опубликован в газете «Труд» 22-28 июня 2000 года.
Пирожок. "Литературная газета, «Клуб 12 стульев», 22-28 мая 2002 года. Одновременно в этом же выпуске «Клуба 12 стульев» были напечатаны и рассказы моего сына Григория. Наши творения дали под одной общей шапкой "Отцы и дети «Клуба ДС».
К слову, Григорий занесён в Книгу рекордов России, стран СНГ и Балтии «Диво». Ему выдан диплом, который гласит:
«Награждается САНЖАРОВСКИЙ ГРИГОРИЙ, самый юный писатель России. Книга его иронических рассказов „Смешинки от Гриши“ вышла в свет, когда автору исполнилось семь лет».
Первые рассказы Гриши были опубликованы в главной газете России «Российская газета». Тогда ему было шесть лет.
Январь 2004