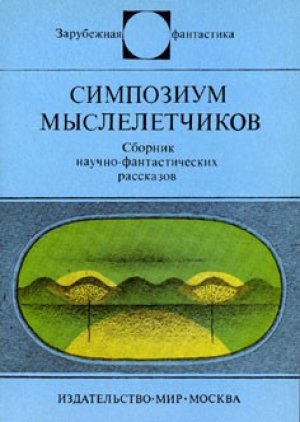
Наука и фантастика
Польские фантасты радуют нас своей активностью. За девять лет — за то время, что существует серия «Зарубежная фантастика», — издательство «Мир» выпустило четыре книги Станислава Лема, авторские сборники Конрада Фиалковского «Пятое измерение» и Кшиштофа Боруня «Грань бессмертия» да к тому же две антологии — «Случай Ковальского» (1967) и «Вавилонская башня» (1970). И вот перед вами третья антология — «Симпозиум мыслелетчиков».
Название, подходящее для любого сборника фантастических произведений. Действительно, всякий сборник рассказов разных авторов подобен симпозиуму. Так и представляешь себе аудиторию, раскинувшуюся амфитеатром, трибуну, куда поднимаются по очереди (иногда по нескольку раз) докладчики — в основном знакомые нам лица. Мы и раньше выслушивали мнения Станислава Лема, Стефана Вайнфельда, Витольда Зегальского, Януша Зайделя, Чеслава Хрущевского. Знаем их точки зрения. Наверное, к этому симпозиуму они подготовили новые аргументы, солидные, иронические, сокрушительные. Среди ораторов есть и незнакомые имена — темпераментная молодежь рвется в бой. Итак, симпозиум, итак, диспут.
Проблема обсуждается все та же: перспективы развития жизни и науки. Прежде всего о самом важном: как сохранить жизнь. Ее не так-то легко отстоять в нашем беспокойном мире, где еще сильны милитаристы, бряцающие оружием и подчас пускающие его в ход. И польские фантасты — представители социалистического лагеря — посвящают немало рассказов разоблачению опасной игры с огнем. Лаконичен и выразителен рассказ Ч. Хрущевского «Игра в индейцев» — все о той же пресловутой кнопке атомной войны, которую может нажать и фанатик, и даже подросток, увлеченно играющий в войну. О том же повествует и Ст. Лем в своей искрящейся остроумием пародии на западную фантастику «Конец света в восемь часов». Характерен ее подзаголовок — Американская сказка. Подобными сказками о наивных ученых, будто бы просто из упрямства способных взорвать весь земной шар, и пугали человечество поджигатели войны.
«Великое открытие и капитализм» — такова тема большого рассказа Ч. Хрущевского «Барабара». Произошло важнейшее событие: вернулся в XX век из глубины столетий человек. А вокруг этого человека ведется возня расистов, милитаристов, карьеристов, думающих только о своих микроскопических выгодах.
Но фантастика недаром называется научной. Она отражает события, которые происходят в науке. В естественных науках сменились лидеры. Физика, которая главенствовала в течение всего XX века, теперь уступила первенство биологии.
Науки, как и страны, развиваются неравномерно. Периоды плавного продвижения, даже застоя, сменяются стремительными рывками. В свое время академик А. Н. Несмеянов сравнивал эти рывки со штурмом укрепленного здания: за прорывом на вышележащий этаж следует распространение по этажу, очистка отдельных комнат, затем пауза, накопление сил, подготовка к штурму следующего этажа. В науках прорывы в новые области знания — прежде всего кардинальные открытия, связанные с созданием нового инструмента исследования. Разумеется, новый инструмент — это не только телескоп, микроскоп, но и новый метод исследования. За прорывом в новую область следует серия крупных открытий в той же области, затем освоение открытий, их широкое использование. Именно тогда широкие массы узнают о подвигах ученых, тогда наука пожинает лавры.
Так вот, физика совершила кардинальный прорыв внутрь атома в первой трети XX века, даже в конце XIX. Судите сами: открытие радиоактивности — в 1896, электрона в 1897, кванта в 1900, атомного ядра в 1911 году. За этим последовало теоретическое осмысление новых и смежных открытий — теория относительности в 1905–1916 гг., квантовая механика в 20-х гг. И в 30-х гг. еще один прорыв на следующий этаж, теперь уже внутрь атомного ядра, связанный с открытием нейтрона в 1932 и искусственной радиоактивности — в 1934 году. Новые факты! Новая теория! Это был фундамент, на котором техника начала постройку здания современной науки. Последовал каскад технических достижений середины XX века: атомное оружие (1945) и атомная электростанция (1954), электроника и телевидение (40-е годы), автоматика, вычислительная техника (40-е и 50-е годы), новая наука-кибернетика и, наконец, на базе теории относительности, электроники и кибернетики — прорыв человечества в космос 4 октября 1957 года.
Эти технические свершения, величественные, наглядные, могучие, создали физике славу и репутацию лидера естественных наук. Создали славу через десятки лет после фундаментальных открытий, когда физика уверенно распространилась вширь по территории, захваченной еще в начале века.
И вот, пока длилось триумфальное шествие физики, биология ждала своего часа.
Были и у биологии свои штурмы, прорывы на новые этажи. В середине XIX века микроскоп позволил открыть клеточное строение вещества (1858). За этим последовало открытие клеток во всех тканях, открытие одноклеточных болезнетворных микробов. Однако и у микроскопа были свои пределы.
Но вот в 40-х гг. нашего столетия физики преподнесли биологам новый исследовательский инструмент — электронный микроскоп, который обеспечил прорыв на молекулярный уровень.
Наконец удалось увидеть ген. Удалось доказать, что ген — это молекула нуклеиновой кислоты — ДНК, удалось выяснить, что вся программа жизни организма записана на ДНК лишь четырьмя значками. Удалось расшифровать код ДНК, узнать, как записываются там химические формулы белков. После двухгодичных усилий удалось синтезировать ген в лаборатории. И уже совсем недавно сделано еще одно радикальное открытие — обратная транскрипция. Оказывается, живая клетка может весьма вольно обращаться со своими ДНК, вырезать куски, чинить сломанные, вставлять отрезки. Для всего этого существуют специальные ферменты. Биологи заговорили о генной хирургии — о подсаживании недостающих генов для излечения наследственных болезней. Заговорили даже о генной инженерии — о проектировании новых видов растений и животных, более полезных и более продуктивных,
Добавьте к этому успехи в области медицины: ликвидацию многих инфекционных заболеваний в ряде стран (прежде всего в СССР), выращивание эмбриона в биологической колыбели, создание клонов — вегетативных копий лягушек, управление эмоциями (пока у крыс), пересадки сердца, замораживание неизлечимо больного человека в надежде, что в будущем его сумеют оживить и вылечить. Пусть это еще только первые опыты, но уже всем ясно, что для биологии наступила эпоха больших надежд.
И, конечно, надежды эти отражаются в фантастических произведениях, в частности в предлагаемом сборнике. Читая книгу, обратите внимание, сколько здесь фантазий на биологическую тему: управление чувствами человека на расстоянии, передача ощущений больного врачу для диагноза, анабиоз, соединение человеческих нервов с машиной для ликвидации технических поломок, чудесное излечение человека, волшебное исчезновение человека, жизнь мозга после смерти тела, считывание и воплощение мечтаний, исправление или мгновенное изменение внешности.
Научная фантастика далеко не всегда соответствует проверенным истинам, добытым в прошлых веках и десятилетиях. И в ней очень сильна эмоциональная сторона, роднящая ее с искусством. Но все же фантастика выражает надежды науки и надежды, связанные с наукой, разочарования науки и разочарование в науке, использует научные планы, предъявляет науке претензии, вносит предложения и пожелания, восторгается и протестует. Взлеты фантастики всегда были связаны с периодами больших свершений в науке.
Один из самых блестящих периодов в развитии естественных наук пришелся на середину прошлого века — 1858–1869 гг. К этому времени относится появление теории Дарвина и Периодической системы Менделеева, открытие клетки, законов наследственности, спектрального анализа. Несколько раньше был сформулирован закон сохранения энергии.
Человечество XIX века было потрясено успехами инженеров. Паровоз, пароход, телефон, телеграф! За восемьдесят дней можно объехать вокруг света! Сейчас трудно даже представить, как поражены были люди перспективами, которые открывала машинная техника. Но ведь психологически перейти от конного экипажа к паровозу было куда труднее, чем от паровоза к ракете. Техника вызывала восторг, казалось, что она способна осчастливить мир. И эти настроения выразил в литературе Жюль Верн. Первый его роман датирован 1863-м годом.
Для него самого разочарование пришло достаточно быстро — в 1870 г., когда прусские роты вторглись во Францию. Науки науками, а войны шли своим чередом, солдатские сапоги топтали крестьянские поля, как и в дотехническую эпоху. И сомнения в пользе техники при капитализме были выражены другим великим писателем — Гербертом Уэллсом в 90-х годах прошлого века. У него мы прочли, что в классовом обществе наука может приносить вред человеку, об агрессивных пришельцах из космоса, о войне в воздухе, о гибели гениальных одиночек, о техницизированном фашизме и о деградации человечества, если оно и дальше будет идти по капиталистическому пути развития.
Могучая и неисчерпаемая атомная энергия могла бы перестроить всю жизнь на Земле. Но когда эта энергия попала в руки людей, оказалось, что она способна приносить не только пользу, но и вред. Великолепные машины-автоматы при капитализме не только помогают человеку, но и вытесняют его.
Этот краткий и поневоле схематичный экскурс в прошлое необходим для того, чтобы напомнить: и в XX веке фантастика, следуя за ходом развития отдельных наук, переживала свои периоды подъема и спада, периоды строительства воздушных замков и периоды критики уже построенных.
Вопрос о связях между наукой и фантастикой не так прост, как это может показаться на первый взгляд.
Не случайно на всех симпозиумах шел разговор о пределах возможностей роботов. В этой книге вы прочтете о роботах тупоумных, педантично выполняющих заданное и доходящих при этом до абсурда (Ст. Вайнфельд «Симпозиум мыслелетчиков», Я. Зайдель «Закон есть закон»), о роботах, по ошибке губящих человека (В. Зегальский «Состояние опасности»), и о роботах, которые, преследуя свои цели, сами начинают эксперименты над живыми существами (Кш. Малиновский «Ученики Парацельса»).
Вполне логично, что обсуждение проблемы «Робот и человек» вызывает повышенный интерес к успехам биологии, тем более, что биология все яснее показывает удивительные возможности живого организма, его преимущества по сравнению с техническими устройствами.
За сто с лишним лет в науке произошло много событий, которые отражались в фантастике разных стран по-разному. И взяв конкретный сборник, мы как бы фиксируем отдельный момент, кадр, вырезанный из киноленты.
Первый сборник польских фантастов, первый симпозиум («Случай Ковальского», 1967) пришелся на тот момент, когда фантастика, озабоченная нежелательными последствиями открытий физиков в области атомного ядра и в кибернетике, вела яростную дискуссию о ценности этих открытий. Спор шел между энтузиастами науки и скептиками. Мы их тогда называли «физиками» и «лириками». К числу физиков принадлежали присутствующие и здесь, на третьем симпозиуме, С. Вайнфельд и Я. Зайдель, среди лириков же наибольшую активность проявлял Ч. Хрущевский. Физики были обстоятельны, суховаты, подчас скучноваты. Лирики же явно имели преимущество в литературном отношении, писали увлекательнее и убедительнее, отличались иронией, сарказмом, образы у них были сильнее. И как водится, те и другие перегибали палку в споре. Физики изображали победы науки слишком легкими, лирики же осуждали всякую мечту, даже мечту о победе над смертью, даже мечту о счастье. Дескать, не указывайте нам, что такое счастье, пусть каждый будет счастлив по-своему (Ч. Хрущевский «Сто Сорок Вторая»).
На втором симпозиуме («Вавилонская башня», 1970) наметилось сближение позиций, казалось бы, непримиримых спорщиков. Лирики стали рассудительнее, объективнее, физики — лиричнее и литературнее. Даже позаимствовали литературную манеру лириков. Это особенно заметно на нашем сегодняшнем симпозиуме, где С. Вайнфельд выступает с вариантом космических охотничьих рассказов в виде этакого межпланетного Мюнхгаузена, родича лемовского Иона Тихого, а Я. Зайдель, такой обстоятельный, такой преданный технике в прошлом, представлен короткими и броскими ироническими новеллами. Видимо, иронический стиль стал ведущим в фантастике семидесятых годов. Вот и физики вслед за лириками вынуждены принять этот стиль, если хотят, чтобы читатели приняли их.
Итак, мы явственно ощущаем перемену тематики. Неживая природа уступила место живой, мечты физические — мечтам биологическим. Из пятнадцати рассказов только в трех — космические полеты, в первом же сборнике из двадцати семи рассказов — четырнадцать космических путешествий. Время пришло иное — биофантастическое.
И еще одно надо отметить: новую нотку в произведениях физиков. Подавленные иронией своих противников, физики как бы признали, что их фантастические мечты были односторонними, что в развитии науки есть и свои сложности. Но все-таки…
Все-таки хочется, чтобы мечты осуществились.
Г. Гуревич
Стефан Вайнфельд
Симпозиум мыслелетчиков
— Итак, молодой человек, вас привлекает работа космического репортера?
Мартын Петкевич кивнул. Редактор «Обозрения ближнего космоса» внимательно осмотрел кандидата. Петкевич выглядел прекрасно: высокий, стройный, спортивного вида, он был образчиком здоровья и молодости.
— Ваша квалификация?
— Учился в Ягеллонском университете по двадцатилетней пересмотренной программе. Имею звание доктора литературы средних веков III степени, доктора математики и биологии II степени, диплом космического отделения Ленинградского политехнического института и любительские права межпланетного пилота…
— М-да… Довольно скромно. Следовало больше учиться, молодой человек. Надо думать, вы занимались не только учебой.
— Ну да, шатался по Солнечной системе и ее околицам.
— Шатался! Фи! Учтите, журналисту жаргон противопоказан. Ну, это так, между прочим. Я обязан предупредить вас, что работа космического репортера трудна и ответственна, требует инициативы и предприимчивости, а также постоянного углубления имеющихся знаний. Вы — юноша с задатками, мне вас рекомендовал старый приятель, мнению которого я могу доверять… поэтому я предоставлю вам возможность проявить себя. Вы слышали о мыслелетах?
— Нет.
— Смелое признание. Очко в вашу пользу. А о светолетах вы слышали?
— Да.
— Мыслелеты, молодой человек, — это, вероятно, наиболее совершенный вид космических кораблей: они преодолевают пространство со скоростью мысли. Пока что изготовлено всего несколько машин; ведь надо учитывать не только колоссальные затраты труда, но и не поддающиеся предсказанию последствия путешествий со скоростью мысли. Уже введение светолетов принесло массу хлопот, потому что разведчики-любители принялись, как вы выражаетесь, «шататься» по Галактике. Поэтому круг людей, допущенных к мыслелетам, был строго ограничен, и в немногочисленных экспедициях на такого рода кораблях приняло участие всего несколько человек. Прошу хранить это в тайне.
— Само собой.
— В ближайшие дни на орбитальной базе «Гарибальди» должен состояться симпозиум, в котором примут участие члены экипажей мыслелетов и кандидаты. Вам предстоит проникнуть на базу и присутствовать на заседаниях симпозиума, носящих сугубо закрытый характер. Сумеете?
— Не знаю.
— Иначе говоря, вы отказываетесь?
— Нет, почему же? Попытаюсь.
— Предупреждаю, если вас выведут на чистую воду, то «Гарибальди» станет для вас тюрьмой на несколько месяцев: организаторы симпозиума считают, что очень важно сохранить результаты совещания в тайне. Поэтому подумайте, не следует ли вам сразу же отказаться.
— Я не собираюсь отказываться.
— В таком случае — желаю удачи! — сказал редактор, а когда за Петкевичем закрылась дверь, он повернулся к видеофону:
— Орбитальный центр 13–217–383, попрошу немедленно!
Он считал, что самое сложное уже позади. Посадка на «Гарибальди», регистрация и даже карточка участника симпозиума, хотя никаких документов у Петкевича не было. Видимо, организаторы считали, что, если человек информирован о мероприятии, этого достаточно. Петкевич расположился в предоставленном ему помещении и за полчаса до срока занял место в зале заседаний. Понемногу прибывали остальные участники, обмениваясь рукопожатиями и пожеланиями здоровья; видимо, в этом немногочисленном обществе Петкевич был единственным человеком, никому не известным и никого не знавшим. Это несколько смущало его, но, отложив попытки установить контакт (что в конечном итоге представлялось ему неизбежным) до перерыва, он усилием воли заставил себя в четвертый раз просмотреть брошюру с описанием «Гарибальди». Другие участники время от времени поглядывали на него — украдкой, но с явным любопытством, пока известный эрудит и острослов профессор Уваров не открыл заседания. На повестке дня стояли сообщения участников экспедиций о наиболее интересных открытиях. Уваров назвал несколько имен, среди которых Мартын, к великому удивлению, услышал и свое. Поскольку в этот момент собравшиеся обернулись к нему, было ясно, что он не ослышался и Уваров имел в виду именно его особу. Что делать? Встать и публично признаться, что это недоразумение — он не просил слова? Написать записку председателю?
— Поскольку наш молодой друг, командор Петкевич, впервые участвует в симпозиуме, предлагаю дать ему возможность вначале выслушать сообщения других докладчиков, — сказал председатель. — Первым выступит полковник Трюкло.
Блондин с уже начавшей пробиваться сединой встал, поклонился собравшимся и прошел к трибуне. После краткого вступления он сказал:
— На предыдущем симпозиуме я информировал собравшихся о том, что мы хотим послать робота-разведчика на планету 14–24–90 в созвездии Волосы Вероники. Этот проект был осуществлен, и робот-разведчик принес весьма обнадеживающую информацию. По его данным, на планете 14–24–90 имели место условия, благоприятные для существования жизни, притом аналогичной земной. Правда, замеры и анализы, проделанные роботом-разведчиком, посланным на мыслелете, были не очень точны, но даже с учетом вероятных ошибок можно было считать, что высадка людей на планете вполне возможна.
Ободренные такой перспективой, мы направили туда группу из трех человек, которые должны были в тот же день по получении предварительных, но уже более точных результатов замеров и анализов возвратиться на земную базу. Поскольку полет мыслелета в оба конца происходит практически мгновенно, учитывая время на подготовку к выходу из корабля, предварительную адаптацию, отдых и памятные снимки, мы подсчитали, что на исследовательские работы остается целых четыре часа, а этого вполне достаточно.
Мы ждали, что группа вернется через двенадцать часов, но она не вернулась ни через двенадцать, ни через двадцать четыре. Спустя двое суток стало ясно, что наши коллеги либо заблудились, либо погибли.
Друзья! Думаю, не стоит описывать наше состояние. Скорбь, подавленность — сказать так значило бы сказать слишком мало. Но, если б мы оставили друзей в несчастье, мы не были бы настоящими разведчиками. Мы немедленно начали подготовку спасательной экспедиции да к тому же поторопились выслать робота-разведчика. Спустя четверть часа он вернулся на Землю, и мы с изумлением узнали, что наши товарищи пребывают в добром здравии.
Естественно, возник вопрос: не могло ли случиться, что они натолкнулись на какие-то любопытные объекты и изменили первоначальный план. Прошу не забывать, что члены мыслелетных экспедиций руководствуются правилами, которые нельзя нарушать. Ни о какой связи с помощью электромагнитных волн на межгалактических расстояниях нечего и говорить, зато ничто не мешает членам экспедиции вернуться хотя бы на несколько минут и, согласовав необходимые изменения, отправиться обратно. Первая тройка прекрасно знала об этом. Тем более загадочным было их поведение.
Я был назначен командиром спасательной экспедиции. Как известно, мыслелет вмещает трех человек, но оказалось, что нужно взять с собой различное дополнительное оборудование, и пришлось сократить экипаж до двух человек. Вторым членом экспедиции и одновременно заместителем командира был назначен мой давний друг доктор Пербуко.
У каждого из присутствующих здесь за плечами по крайней мере одна экспедиция на мыслелетах, поэтому я не стану описывать ощущения, связанные с неизбежной концентрацией мысли перед стартом. Покинув Землю, мы в мгновение ока оказались на планете 14–24–90. Наш корабль, управляемый мыслью, опустился у подножия небольшого холма. Сквозь хрустальные окна мы видели сказочно-красочную растительность, однако не заметили ни единого следа того, что хоть как-то напоминало бы о мыслелете наших предшественников. У нас возникло подозрение, что местная атмосфера невероятно быстро разъедает материалы, использованные для строительства мыслелета; кто знает, не могла ли первая тройка, неосмотрительно удалившаяся от корабля, вернуться лишь к печальному воспоминанию об этом чуде современной техники. Все в наших рассуждениях казалось убедительным: роботы-разведчики находились на планете слишком недолго, чтобы подвергнуться коррелирующему действию атмосферы; члены экипажа первого мыслелета, хотя и потеряли корабль, могли остаться живыми и здоровыми. Если это так, то нам предстояло бы выполнить простую задачу: двух молниеносных полетов на Землю было достаточно, чтобы эвакуировать потерпевших крушение. Поскольку тот мыслелет, видимо, опустился неподалеку от холма, наши коллеги должны были находиться где-то поблизости, быть может в зарослях.
Я как командир принял рискованное решение покинуть корабль. Надев космический скафандр и запасшись дополнительным баллоном с кислородом, я выполз через шлюз наружу, взобрался на холм и осмотрелся. Можете себе представить мое изумление, когда не более чем в полукилометре я увидел целый и невредимый мыслелет предыдущего экипажа. Некоторое время я смотрел на него, раздумывая, отправиться ли к нему или же сначала предупредить дежурившего в нашем корабле доктора Пербуко, но тут почувствовал, что кто-то схватил меня за ноги. Я уже взялся было за стержень-дематериализатор, который на всякий случай прихватил с собой, разумеется, для самозащиты, но тут взглянул вниз. Да, друзья, я понимаю, вы уже догадались, кого я увидел! Это был лейтенант Икс, навигатор первого мыслелета, и притом в одних плавках. Заметив мое изумление, он расхохотался, а так как у него не было при себе радиопередатчика — ведь в плавках его не поместишь — и я не мог связаться с ним, то я скинул с себя скафандр, уже совершенно точно зная, что мне не угрожают ни удушье, ни отравление.
Атмосфера планеты оказалась чистой и более приятной, чем я мог предположить. Совершенно успокоившись, я попытался узнать у лейтенанта Икса что-нибудь о судьбе остальных членов экипажа и о том, почему они задержались на 14–24–90. Икс, продолжая смеяться, начал довольно путанные объяснения и проводил меня к тому месту, где на траве лежали два его товарища. Вначале мне показалось, что они без сознания, но, наклонившись, я услышал тихие стоны.
— Капитан Игрек! — воскликнул я. — Что с вами творится?
— Ох! — простонал он. — Моя голова, моя бедная голова…
— Вы ранены? — спросил я.
— Нет… моя голова… голова у меня разламывается… пить!
Мне стало ясно, что капитан Игрек и его заместитель Зет тяжело больны, вероятнее всего, они отравились; лейтенант Икс, видимо, тоже был болен, хотя и не так серьезно. Что на них подействовало? Таинственное излучение? Но бортовые приборы ничего не обнаружили. Какой-то элемент, входящий в состав атмосферы? Нет, здесь дышалось нормально, может быть, даже лучше, чем на Земле… я не чувствовал ничего особенного… Правда, мне очень хотелось пить.
Однако это было привычное земное ощущение, которое на нашей планете исчезает, стоит выпить стакан чаю или томатного соку. К несчастью, ни того, ни другого под рукой не было. Я не мог побежать к мыслелету и утолить жажду… Что?.. Нет, это не оправдание, но я действительно оказался в сложном положении.
Мыслелет нельзя было посадить рядом с больными. Доктор Пербуко не должен был покидать корабль по соображениям безопасности. Я мог сделать только одно — с помощью лейтенанта Икса перетащить Игрека и Зета к мыслелету, где, как я надеялся, доктор Пербуко подлечит их или, в худшем случае, поочередно переправит на Землю.
Но жажда мучила меня все сильнее. Мне пришло в голову, что у первой экспедиции могла остаться хотя бы одна банка томатного соку. Я спросил об этом лейтенанта Икса.
— Сок? — захохотал тот. — Здесь есть кое-что получше. Видите источник?
Только тут я обратил внимание на небольшой ключ, бивший из скалы. Я стоял в нерешительности, но Икс подбежал к нему, зачерпнул в ладони жидкость и погрузил в нее лицо.
— Чудесно! — сказал он наконец. — Попробуйте.
Я подошел. Золотистая жидкость была холодной и пузырилась, словно минеральная вода. Она была очень вкусной и напоминала первосортный лимонад. Я сделал глоток, потом утолил жажду досыта и тут же почувствовал себя значительно лучше. Неуверенность как рукой сняло. Все было гораздо проще, чем мне казалось вначале. Действительно, отчаиваться не стоило. Удручавшие меня мысли исчезли, и я только теперь мог полностью оценить прелесть этой далекой планеты, изумительную растительность, гармонию разнообразнейших звуков, еще не известных мне. Но в то же время я почувствовал легкое утомление, поэтому лег на траву, подложив руки под голову. Лейтенант Икс, тыча в меня пальцем, хохотал так, что я не мог произнести ни слова. Меня тоже охватило веселье, и я расхохотался во весь голос. Я понял, что таинственная жидкость отлично повлияла на мое самочувствие, поэтому решил выпить еще немного. Я поднялся, но вдруг планета закачалась подо мной. Решив, что впервые в жизни я встречаю планету, у которой так заметно перемещается центр тяжести, я кое-как добрался до источника и прильнул к нему. Что было дальше, я не могу рассказать, потому что пришел в сознание только на Земле. Голова ужасно болела. К счастью, недомогание быстро прошло. Немного таинственной жидкости мы привезли на Землю, и я буду рад, если делегаты соизволят продегустировать ее в виде эксперимента — разумеется, в дозах, достаточно малых, чтобы не опасаться каких-либо последствий. Мне хотелось бы, чтобы председатель распорядился провести этот эксперимент.
Профессор Уваров нажал на кнопку звонка. Через минуту появились служители в белых пиджаках, разносившие на подносах сосуды параболической формы с экстремальной точкой, обращенной вниз и приделанной к тонкому столбику, покоящемуся на круглом диске, параллельном плоскости подноса. Прозрачные сосуды были наполнены золотистой пенящейся жидкостью. Участники симпозиума рассматривали ее на свет, пробовали и нюхали. Один из них решился влить в рот содержимое параболоида вращения и одобрительно сказал соседу: «А знаете, коллега, недурно!» Тогда и остальные опорожнили сосуды. Атмосфера стала менее официальной; в общей дискуссии насчет органолептических свойств напитка принял участие и Мартын. Он был доволен: такая атмосфера помогла ему преодолеть дистанцию, отделявшую его от остальных.
— Мы избрали для исследования планету 12–81–97 в галактике Е7 NGC3115, — начал свое сообщение адмирал Порук. — Надо признаться — экспедиция была подготовлена недостаточно тщательно. Ей не предшествовали исследования робота-разведчика. Мы считали, что на мыслелете не составляет труда слетать на планету без предварительной разведки, так как в случае каких-либо затруднений можно, ничем не рискуя, вернуться на Землю.
Поэтому мы просто заняли места в креслах мыслелета, собрались с мыслями, стартовали и тут же мягко опустились на еще никому не известную планету. Пейзаж за окнами казался не очень-то привлекательным. Камни, покрытые серебристо-синим налетом… реденькая коричневато-бурая растительность… Ни малейшего движения. Вероятно, жизнь на планете 12–81–97 находится в начальной стадии или же наоборот — уже замирает, решили мы. Взгляд на приборы — и первая гипотеза готова. У планеты очень разреженная атмосфера и высокая степень радиоактивности. Возможно, обитатели планеты слишком уж рьяно начали использовать энергию ядерного распада, в результате чего возросла кинетическая энергия молекул газов, составлявших атмосферу, их скорость превысила критическую, и планета постепенно лишилась воздуха. Цивилизованные существа эмигрировали, а может быть, погибли, остались только низшие формы жизни. Как это проверить? Ничего не поделаешь, придется выйти из корабля, чтобы поискать остатки былой цивилизации. Мы с навигатором, инженером Боруевым, натягиваем космические скафандры и покидаем мыслелет, оставив на борту лейтенанта Виадера.
И вот первая неожиданность: снаружи трескучий мороз. К счастью, наши скафандры, приспособленные в основном к умеренно отрицательным температурам, снабжены электрообогревом. Включаем батареи и быстро отправляемся в путь. Тяготение на планете в несколько раз меньше земного, так что мы прыжками удаляемся от мыслелета. Местность резко меняется. Она по-прежнему дикая, неприветливая, даже пугающая, но уже иная. Камни уступают место холмам, изрезанным оврагами. Однако грунт по-прежнему покрыт серебристо-синим налетом.
Идем дальше по оврагу и вдруг видим, как из-за поворота выползает что-то вроде огромного ящика неправильной формы. Мы решили, что это живое существо, заключенное в какое-то подобие хитиновой оболочки. Но вот стенки ящика раздвигаются и оттуда вылезают трехногие зеленые существа с телом овальной формы, а вокруг пояса у них растут щупальца. Нам все ясно: зеленые существа — жители планеты, быть может мутанты первичных обитателей, находящиеся, однако, на достаточно высоком уровне развития. Они обнаружили наше прибытие и выслали нам навстречу — что? Делегацию? Вооруженный почетный караул? Трудно сказать. Их намерения нам пока не известны. На всякий случай мы прячемся за каменный уступ и пытаемся установить связь с лейтенантом Виадером. И надо ж такому случиться: нагреватели скафандров поглотили столько энергии, что наши радиоаппараты отказали. У нас совершенно нет возможности ни сообщить Виадеру о своих наблюдениях, ни получить от него информацию. Друг с другом мы можем общаться, только если кричим, прижавшись шлемом к шлему. Незавидная ситуация. Мыслелет вызвать невозможно, вернуться к нему тоже нельзя, не обратив на себя внимание местных жителей, которые, если только они враждебно настроены, несомненно, догонят нас в своем экипаже, прежде чем мы успеем добраться до корабля.
Остается только наблюдать за поведением хозяев планеты. Кажется, они нас не ищут. При помощи несложных орудий они раскапывают грунт и не то танцуют над ямами, не то совершают обряды. Некоторые из них касаются щупальцами грунта: то ли исследуют что-то, то ли ищут, а может быть, укладывают — издалека не видно. Боруев стукнул по моему шлему — он предлагает установить связь с местными жителями. Один из нас должен остаться за каменным уступом, второй — отползти немного и появиться перед трехногими существами с другой стороны. Если они вздумают напасть на одного из нас, второй сможет добраться до мыслелета и поспешить на выручку товарищу.
Мы решаем, что первым пойдет к трехногим Боруев. Он осторожно отползет на достаточное расстояние, а потом поднимется во весь рост. От него до трехногих не больше двухсот метров; они должны его заметить. Но они по-прежнему заняты своими таинственными делами. Боруев направляется к ним, сначала медленно, потом все быстрее. Трехногие не проявляют никакого интереса к субъекту, как там ни говорите, весьма отличающемуся от них. Боруев останавливается в нескольких метрах от них и жестикулирует, показывая на небо и на себя. Незаметно, чтобы трехногие оторвались от своих дел. Убежденный, что нам в любом случае ничто не угрожает, я выхожу из-за уступа и иду к ним. Боруев подает мне какие-то знаки. Я приближаюсь к нему и устанавливаю звуковой контакт.
— Они ничего не видят! — возбужденно кричит он.
— Но слышать-то нас должны! Звуки распространяются даже в разреженной атмосфере!
— Они и на звуки не реагируют!
Мы размахиваем руками перед трехногими. Они не обращают на нас ни малейшего внимания. Боруев, наконец, решает прибегнуть к радикальному способу: хватает одного из аборигенов за щупальце. Тот быстро отдергивает конечность, на секунду замирает, но тут же снова возвращается к прерванному занятию. Боруев повторяет эксперимент. Трехногий замирает, в такой же позиции замирают и его товарищи. Теперь уже я прикасаюсь к одному из обитателей планеты. Он застывает, но одновременно застывают и остальные, а буквально через секунду все словно бы в панике заползают в свой транспортер и быстро уезжают туда, откуда прибыли.
Мы с Боруевым обмениваемся изумленными взглядами, а потом начинаем как можно быстрее прыгать к мыслелету, следя лишь за тем, чтобы соблюдать равновесие. Лейтенант Виадер встречает нас вздохом облегчения. «Ну, — говорит он, — а я — то уж опасался, как бы с вами чего не случилось». Запаса тепла в скафандрах хватило ненадолго, и холод дал о себе знать. Но мы уже согрелись. Рассказываем Виадеру о своем открытии, однако Виадер принимает наши сообщения довольно скептически. «Должны же они как-то ориентироваться на местности и общаться друг с другом», — утверждает он. И разумеется, он прав! Может быть, не обладая зрением, они особенно развили другие органы чувств, например обоняние? В принципе это возможно, но в таком случае они, несомненно, обратили бы внимание на характерный запах, исходящий от наших скафандров.
Мы еще раз задумываемся над этим. Трехногие нас не видят, не видят совсем, так, словно мы для них воздух, словно мы прозрачные. Мы приходим к выводу, что орган зрения аборигенов реагирует на волны, которые проникают сквозь нас, не отражаясь и не преломляясь. Это длинные радиоволны! Гипотеза довольно сомнительная. Аборигены невысоки, в них метра полтора. Если бы мы оказались правы, приемные рецепторы планетян должны были бы достигать сотен метров, если не километра!
Мы решаем проверить свою гипотезу, что не так-то легко: наши приемопередающие устройства работают в метровом диапазоне. Значит, возвращаться на Землю? Признаюсь, друзья, надо было рассмотреть и такую возможность. Но Боруев решает изменить настройку приемника. И оказывается, планета прямо-таки окутана длинными и сверхдлинными волнами, а тот серебристый налет, о котором я говорил в начале выступления, частично поглощает, а частично отражает эти волны. Наши предположения, хотя и необъяснимые с точки зрения современной техники, на деле оказываются вполне правдоподобными! Это не помогает нам понять способ общения планетян, но позволяет прийти к выводу, что мы для них — существа невидимые, какие-то духи, что ли. Вероятно, потому-то они и убежали так неожиданно!
Придя к такому выводу, мы решаем лучше изучить условия жизни трехногих. Перебираемся на мыслелете к тому месту, где произошла первая встреча с ними, летим дальше. Двое из нас отправляются в экспедицию. На этот раз на корабле остается Боруев.
Отбросив всякую осторожность, мы длинными прыжками продвигаемся к темнеющей на горизонте возвышенности. Предчувствие нас не обмануло: это поселение трехногих. Странное поселение из безоконных коробок, покоящихся на каменных столбах. Ящики-транспортеры подъезжают к строениям, выстреливают вертикально вверх пассажиров и остаются на месте до тех пор, пока трехногий не спрыгнет вновь, занимая место в экипаже. Не зная, как общаются трехногие, мы не могли понять их действий, но попутно делали важные наблюдения. Вот та группа, едущая на транспортере, образует основную нераздельную ячейку общества. Семья? А может быть, это — простите мне слишком смелые предположения — один планетянин в нескольких особях? Пока не известно.
Нам удалось установить, что трехногие питаются какими-то клубеньками, выкопанными из грунта; впервые мы с ними встретились как раз в то время, когда они отправились добывать пищу.
Что? Нет, мы были на планете слишком недолго, чтобы проводить более фундаментальные исследования; срок возвращения на Землю истекал. Однако мы попытались установить контакт с трехногими — с сомнительным, правда, результатом. Я расскажу об этой попытке.
Так вот, мы хотели, чтобы планетяне нас увидели. Каким образом? Очень просто: поскольку от серебристо-синего налета отражаются радиоволны, мы решили покрыть себя этим налетом. Однако на случай, если они захотят напасть на нас — хоть мы в это не очень-то верили, — нам нужно было быстро стать невидимыми. Боруев придумал простое приспособление. Он создает из папье-маше оболочки, которыми мы должны прикрыть скафандры. Внешний вид оболочки не имеет значения, но проще всего придать ей обтекаемую форму, которая сделает нас похожими на планетян. Сходство еще более усилилось, когда Боруев прицепил к каждой оболочке лопатку, автоматически посыпающую оболочку серебристо-синим песком… так создавалось впечатление, будто мы тоже трехногие. Замаскировавшись, мы отправились на встречу с аборигенами. Неподалеку от ущелья стоят два транспортера. Трехногие выкапывают клубеньки, но вот один из них замечает нас и подает знак остальным. Они видят нас и все-таки не могут принять за своих, потому что каждый из нас чуть ли не вдвое выше среднего планетянина.
Они бросают свои клубни, и видно, что их изумление беспредельно. Наконец один из них ложится на грунт; другие делают то же самое. Мы совещаемся. Ведь испуганные трехногие могут не понять, что мы собираемся установить с ними контакт и преисполнены самых лучших намерений. Мы решаем ретироваться и вернуться только через несколько часов. За каменным уступом мы снимаем наши оболочки и ставим одна к одной, а сами возвращаемся на корабль. Наконец нам показалось, что самое время возобновить свои попытки. Мы выходим из корабля, идем к оболочкам… и что же видим? Наши оболочки окружены оградой из камней, и перед каждой из них возвышается пирамидка свежевыкопанных клубеньков! Вот так мы, земляне, люди из плоти и крови, на планете 12–81–97 превратились в богов, которых хотят умилостивить.
Имеем ли мы право еще раз лететь на планету трехногих? Если сами мы и углубим свои знания, то не окажем ли вредного воздействия на разум тамошних обитателей? Эти фундаментальные вопросы — основной результат нашей поездки. Честно говоря, мы не в силах на них ответить. Поэтому я не могу утверждать, что когда-либо мы разгадаем загадку трехногих… и даже попытаемся это сделать.
Что до меня, то, признаюсь, лично я бы сейчас же отправился на планету 14–24–90. Тамошний напиток, друзья, пришелся мне по вкусу.
— К счастью, мы запаслись некоторым количеством этой жидкости, — сказал полковник Трюкло. — Может быть, еще по одной?
— Слово предоставляется профессору Крофору! — возвестил председатель, когда очередной эксперимент с напитком был успешно завершен.
Профессор Крофор встал. Этот человек был в самом расцвете сил. Он говорил не спеша, мягким, приятным басом.
— Поскольку исследование галактик находится еще в начальной стадии, естественно, что в каталоге планет Ближнего космоса могут встречаться ошибки… Так вот, группа, членом которой я имел честь быть, пала жертвой именно такой ошибки. Впрочем, я не совсем верно выразился. Мы не пали жертвой, а скорее воспользовались ошибкой, благодаря чему пережили невероятное и неожиданное приключение.
В каталоге напротив планеты 44–72–71 значилось, что планета лишена разумной жизни, но зато изобилует оригинальными и очень красивыми представителями флоры. Поскольку темой моей юбилейной двадцать пятой докторской диссертации, на этот раз по биологии, было исследование того, насколько возможно и целесообразно доставлять на Землю некоторые растения Ближнего космоса, я решил отправиться на 44–72–71, чтобы посмотреть, не годятся ли для этой цели некоторые образчики тамошней флоры.
Я укомплектовал экипаж мыслелета, согласовал время вылета, но за день до старта, размещая в кабине то да се, неосторожно сел в кресло пилота, а так как думал я все время о цели полета, произошла невольная концентрация мысли, и я совершенно неожиданно оказался на поверхности 44–72–71.
В первый момент я вознамерился немедленно возвратиться на Землю, но сквозь хрустальные стекла увидел такую прекрасную, такую изумительно расцвеченную ниву, что во мне заговорил ботаник. Я быстро натянул космический скафандр, вылез из корабля и бросился к полю. Однако не успел я до него дойти, как услышал позади что-то вроде лязга. Оглянувшись, я увидел трех существ, по форме напоминавших полипов из губчатого пластика. Они стояли между мною и кораблем. Руководствуясь скорее инстинктом, чем разумом, я, огибая их, побежал к кораблю, но они оказались проворнее и преградили мне дорогу. Я еще раз попытался обойти их — напрасно. Тогда я пошел прямо на них, решил пробиться, раскидать их в стороны, прижать к грунту, перескочить через них. Однако эти создания оказались более прыткими и сильными. Они оплели меня своими то ли лапами, то ли щупальцами, а я трепыхался, словно муха в паутине, чувствуя, что постепенно теряю силы. Вскоре меня охватило отчаяние, но потом я решил на время прекратить борьбу — чтобы немного передохнуть, собрать остатки сил и неожиданным рывком вырваться из объятий полипов.
И тут я вдруг почувствовал, что эти создания общаются друг с другом, больше того, что я их понимаю. Может быть, телепатия?
— У него нет серого пятна, — сказал один, и я понял, что речь идет обо мне.
— У него нет вообще никакого пятна, — сказал второй.
— У него целых два голубых пятна, но не там, где положено. Не на макушке, а сбоку, — сказал третий, и я догадался, что он имеет в виду мои голубые глаза.
— Серия с голубыми пятнами уже кончилась. Его надо разобрать и сдать в лом.
— Да, но с тех пор прошло уже пять цветов, все экземпляры уже сданы в лом; может, это модель новой конструкции?
— Это не может быть новой конструкцией, оно совершенно бесформенно.
— Необходимо отдать его в отдел разработки, пусть там решат, что с ним делать.
Признаюсь, слушая странный разговор, я совершенно забыл о бегстве, а теперь было уже поздно. Засунув меня во что-то вроде мешка, полипы погрузились в грунт, словно кроты, высверливая коридоры и направляясь к неизвестной мне цели. Кажется, я потерял сознание, потому что впоследствии не мог даже приблизительно сказать, как долго длился этот поход; космические часы, встроенные в комбинезон, остановились, видимо, из-за удара во время борьбы. Во всяком случае, очнулся я в просторной камере, освещенной сине-зеленым светом. Но мне все казалось, что я сплю и меня мучит какой-то кошмар. Надо мной склонились две фигуры, которые вначале показались мне изображениями танцующего бога Шивы; однако когда я сел и вгляделся получше, то увидел, что многорукие существа покоятся на гусеничном основании. Туловище их еще можно было спутать с живым организмом, однако гусеницы совершенно явно свидетельствовали о механическом происхождении. Но при этом существа разговаривали.
— Оно начинает двигаться, — сообщила первая фигура.
Другая, внимательно наблюдая за мной, сказала:
— Это какая-то старая модель.
Разговор оживился настолько, что я уже был не в состоянии уловить все.
— Оно не может быть старой моделью. Это не наша конструкция.
— Здесь нет других конструкций, только наши. Откуда оно могло здесь появиться?
— Разбористы утверждают, что прилетело сверху.
— Пустое. Наверху ничего нет.
Кружа возле меня, они продолжали беседовать, при этом двигались так медленно, что я вполне мог убежать. Но куда?
— Надо исследовать внутренний механизм, — услышал я. — Давай снимем оболочку…
Я вскочил.
— Стойте! У меня внутри нет никакого механизма!
Видимо, мои слова дошли до их сознания, так как они остановились, будто опешив. Я воспользовался этим и сказал как можно более проникновенно:
— Я не ваша конструкция. Не искусственное создание. Я человек. Живой.
— Живой?
Было ясно, что они не поняли значения этого слова. Зато я понял, кто передо мной: это были автоматы — совершенные автономные системы, неспособные понять, что может существовать нечто движущееся, сознательно действующее, мыслящее и в то же время не запроектированное и не изготовленное.
— Живой — это значит, что, если вы нанесете мне повреждения, меня уже не удастся исправить. Лучше установить, как я действую, чем испортить, — подбросил я им мысль. Это их убедило.
— Надо переслать его на фабрику, на испытания. Потом сделаем анализы.
Словно из-под земли появились полипы, те самые, которых гусеничные шивы называли разбористами. Один из них поднял меня и перенес в огромный зал. Вдоль галерейки, опоясывавшей стены, виднелось что-то вроде конусов, снабженных ритмично двигавшимися конечностями. Вершины конусов были окрашены в серый цвет. «Серое пятно», — вспомнилось мне. Приглядевшись получше, я заметил, что пол галерейки, мерно пульсируя, сползает вниз, перенося какие-то детали устройств; конусы же что-то монтировали, но что? Этого я еще не знал, но вскоре услышал всеобщий, полный изумления шепот:
— Новая модель! Работать быстрее! Работать быстрее!
Мне было не ясно, как могут работать быстрее идеально продуманные механизмы. Вскоре я услышал, как кто-то сказал уже спокойнее:
— Неудачный экземпляр! У нас еще есть время. Его возьмет разборист. Неудачный. Еще есть время…
— Какая модель? Почему неудачная? На что у вас еще есть время? — громко спросил я, надеясь, что мои слова услышит кто-нибудь из конусов. Действительно, мне удалось наладить контакт с ближайшим соседом.
— Новая модель монтажера. Это ты. Но ты плохо работаешь, тебя заберет разборист. Если новая модель будет работать хорошо, мы изготовим серию монтажеров нового цвета. Они займут наши места, а нас заберут разбористы. Но ты — неудачный, и у нас еще есть время.
— Что значит «заберут разбористы»? — спросил я.
— Ну, заберут и отправят в лом. Сломают либо расплавят. Не известно. Никто не возвращается. До нас была зеленая серия. Несколько зеленых пятен еще работают. Пока они не будут заменены серыми. Там, выше.
Я поднял глаза и четырьмя метрами выше заметил монтажера. Это был уже не такой правильный конус, как серые пятна, а нечто вроде усеченной сахарной головы с зеленой макушкой.
Разговор оборвался. Я сидел неподвижно, раздумывая, как поступить, когда вдруг услышал шепот:
— Идут разбористы! Идут разбористы!
Действительно, где-то наверху появились два полипа, которые, быстро передвигаясь вдоль галерейки, считали: «Серый… серый… серый… зеленый!» Они остановились около первого встреченного зеленого монтажера и охватили его своими щупальцами. Зеленая сахарная голова пыталась сопротивляться, хватаясь всеми конечностями за перила галерейки. Однако полипы были готовы к этому. Они быстро открутили хватательные конечности монтажера, оставив висеть культи лап, саму же сахарную голову распороли сверху донизу и бросили в трубу, проходящую по галерейке. Зеленый монтажер исчез бесследно.
Немного погодя я заметил, что полип направляется ко мне. Перепуганный, я схватил с пола часть уже смонтированного механизма и кинул в приближающегося полипа. Тот, удивившись, остановился. Ободренный первым успехом, я принялся бомбардировать разбориста всем, что было под рукой. Обескураженный полип пытался хватать части на лету и снова класть их на транспортер, явно отказавшись от намерения поймать меня. Я услышал шепот серых конусов: «Разборист неисправен. Серый цвет, серый цвет. В лом, в лом…» Конусы знали, что к чему. Через минуту появились другие полипы и, преодолевая сопротивление пришедшего в негодность разбориста, сняли его пластико-губчатую оболочку и что-то сделали внутри, видимо остановили силовой механизм. Брошенный в трубу разборист полетел вниз, навстречу своей судьбе. Таким образом, я стал невольным свидетелем царящего на планете безжалостного закона отбора, определяемого различием клейм и обозначений и, кажется, лишь незначительными внешними признаками. Зачем все это?
Но думать было уже некогда. Ко мне опять приближались. Однако полипы не кинули меня в трубу, а затащили в освещенную сине-зеленым светом камеру. Шивы на гусеницах уже поджидали меня, явно уведомленные о случившемся.
— Оно не годится в монтажеры, но проявляет сообразительность, — заметил один.
— Может, его удастся использовать для новой модели проектира?
Я опасался, что они опять вернутся к мысли содрать с меня кожу.
— А зачем вам новая модель? — вставил я.
— То есть как зачем? Нас спроектировали уже довольно давно.
— Разве вы плохо выполняете свои функции, разве вы неисправны? — спросил я, вспоминая то, что слышал у монтажеров.
— Мы исправны, но нас спроектировали давно.
— Кто же вас спроектировал?
— Проектиры. Предыдущая модель проектиров.
— А что с ними?
— Сданы в лом.
— Они неисправны?
— Исправны, но эта модель уже устарела.
— А что станет с вами, если вам удастся разработать новую модель проектира?
— После того как будет изготовлена новая модель проектира, нас отправят на переплавку.
Должен признаться, что у меня по коже побежали мурашки. Я оказался на планете спятивших кибернетических существ, которые воспроизводили последующие поколения с полным сознанием собственной обреченности.
— А вы хотите, чтобы вас отправили на переплавку? — спросил я.
Они не поняли. Я постарался объяснить по-другому:
— Ну что вы предпочитаете, чтобы вас отправили на переплавку сейчас или позже, потом?
Теперь до них дошло. Шивы некоторое время раздумывали, наконец один из них ответил:
— Позже, позже.
— Почему же вы в таком случае работаете над новыми моделями проектиров?
— Они более удачные, могут создавать новые модели монтажеров.
— А что вообще делают монтажеры?
— Монтируют других монтажеров, а также проектиров и разбористов.
Я продолжал эту странную, жутковатую беседу, зная, что стоит мне ее прервать, как шивы примутся — в буквальном смысле слова — сдирать с меня шкуру.
— Но зачем вам так много монтажеров, проектиров и разбористов? — спросил я, используя их своеобразную терминологию.
— Нам много не надо. Просто старые модели постепенно отправляются в лом.
— В таком случае зачем вы вообще проектируете новые модели?
— Как это зачем? Завод должен работать.
— А разве завод не может выпускать что-либо другое?
— Но ведь ничего другого не существует.
— А кто построил завод?
Они не поняли. Поэтому я спросил по-другому:
— Ну, кто здесь был еще до того, как построили завод?
— Завод был всегда.
Я вдруг подумал о разумных живых существах, которые положили начало этому зловещему процессу, превратившемуся в самоцель. Откуда они прибыли? Каковы были их намерения? Как сложилась их судьба? Может, они и сами уже сданы в лом? Подумал я и о том, что никогда этого не узнаю — так же, как мои друзья на Земле уже никогда не узнают, что сталось со мной.
Обдумывая, каким образом продержаться подольше, я, к своему изумлению, услышал:
— Надо проверить, как оно взаимодействует с другой частью.
«Оно» означало меня. Но что за другая часть? Э, да ведь речь идет о мыслелете! Я приободрился. Значит, еще не все потеряно!
— Меня необходимо поместить внутрь той части, — подсказал я.
Шивы колебались — вероятно, сначала хотели установить, что находится у меня под кожей.
— Таким образом вам легче будет выяснить, откуда я прибыл и для чего создан.
Не знаю, почему эта довольно убогая аргументация их убедила, но они согласились. Появившиеся разбористы затащили меня и проектиров в камеру для исследований. Здесь уже стоял мыслелет, окруженный странными, незнакомыми приборами. На внешних стенках корабля виднелись мелкие выбоины, но с первого взгляда было ясно: мыслелет устоял против попыток размонтировать его на составные части. Люк был заперт, проектиры не смогли забраться внутрь. Возможно, именно поэтому они и согласились привести меня сюда еще до вивисекции. В сопровождении обоих проектиров, окруженный разбористами, я добрался до замка люка. Потом одним рывком открыл крышку, вскочил внутрь, тут же захлопнул ее и уголком глаза еще успел увидеть, как ползут шивы, размахивая своими лапами. Я уселся в кресло пилота, подумал, удастся ли мыслелету преодолеть неизвестную мне толщину грунта, отделявшего камеру от поверхности планеты, и сконцентрировался.
Как видите, я вернулся на Землю.
Крофор немного помолчал, потом сказал:
— Все-таки хорошо, что мы — люди. — И добавил: — Я думаю, по этому случаю нам следует попросить полковника Трюкло прибегнуть к запасам живительной влаги.
— Возможно, в будущем станут серьезнее относиться к полетам, — сказал упитанный аспирант Огогос, — однако сегодня это еще лотерея. Я и члены моего экипажа вытянули в этой лотерее счастливый билетик. Мы отправились в экспедицию, словно на загородную прогулку, без всякой подготовки. Планету 33–33–94 в галактике С0 NGC3379 мы выбрали просто потому, что ее номер в каталоге совпал с номером телефона одного из моих друзей. Можете называть это легкомыслием, пусть так, но ведь в экспедиции приняли участие молодые люди, которым вместе не исполнилось и трехсот лет.
Что? Сколько нам сейчас? Хм… около двухсот. Нет, нет, я не ошибся и, прошу мне верить, не нахожусь под влиянием таинственного напитка… ну, может быть, самую малость, но что касается суммарного возраста членов нашего экипажа в настоящее время, то я не ошибаюсь. Экипаж… не в полном составе. Несчастный случай? Нет. Отнюдь. Хотя при желании можно сказать и так. Все зависит от точки зрения… У меня заплетается язык?.. Возможно, вам виднее, но, уверяю вас… последний эксперимент с напитком… нет, нет, моя голова работает на редкость четко… Я говорю загадками? Да нет, просто вы меня все время прерываете, я никак не могу приступить к сути. Друзья, вы стали слишком разговорчивы… Простите, председатель, все, все, я возвращаюсь к теме сообщения.
Итак, сразу же после концентрации мыслелет оказался на поверхности планеты 33–33–94. Мы прижались носами к хрустальным окнам корабля и онемели. Картина была и-зу-ми-тель-ней-шая. Местность напоминала некоторые уголки нашей Земли. Под голубым небом раскинулось ультрамариновое море, ласкающее золотистый берег. Синь и золото! Вдоль берега росли деревья, напоминавшие пальмы, с той разницей, что стволы их были до самой кроны усеяны мелкими лиловыми цветами. Шестиногие существа в цветастом оперении и с двумя хвостами играли, перепрыгивая с дерева на дерево и кидая друг в друга охапки цветов. Ах, как это походило на бал, на земной карнавал… маски, конфетти…
Что? Мне следовало бы говорить стихами? Ах, адмирал, адмирал! Вы даже не представляете себе, сколько поэзии было в этой картине! Не откладывая дела в долгий ящик, мы взглянули на результаты химического анализа атмосферы, на показания датчиков температуры, плотности излучения и прочая и прочая… Все было примерно в земных пределах. Мы быстро отворили люк и вышли, признаюсь, даже без скафандров. И ничего. Воздух был абсолютно чист, насыщен бодрящим ароматом… благодарю за замечание, председатель, я постараюсь умерить свои восторги. Как бы там ни было, ободренные, мы отправились в путь и уже через несколько сотен метров встретили первых туземцев. Нет, капитан, это были не чудовища, а человекоподобные существа. Впрочем, как знать, может, скорее, мы, люди, похожи на обитателей той планеты. Во всяком случае, должен признать, что мы, трое землян, выглядели карикатурно. Они — высокие, стройные, пропорционально сложенные, синеглазые, прекрасные. Мы… да что тут говорить, — особой красотой не отличались. Вы сами видите, у меня склонность к полноте. Вин, навигатор, как раз наоборот — тощий, как жердь. Что же касается командира корабля, коменданта Бодайца, то это умный, милый парень, но совершенно лысый, его голова напоминала лимон с торчащей на самой макушке шишкой. Впрочем, не помню, чтобы на Земле это доставляло ему какие-либо неудобства.
Тридцать три—тридцать три—девяносточетыряне шли к нам, в платьях из цветов, босые, с венками на головах — дети природы, еще не отравленные ядом цивилизации. Вы сами, друзья, по собственному опыту знаете, что каждая встреча с еще не известными представителями разумных существ вызывает чувство неуверенности и заставляет внутренне напрячься, быть готовым к конфликту, стоит только другой стороне проявить хоть каплю недоверия по отношению к нам. По-моему, в большинстве случаев конфликты возникают не из антипатии, а из обоюдных опасений, трудности взаимопонимания и сомнений относительно мирных намерений. Простите, у меня, кажется, получилось несколько громоздко. Девяносточетыряне преодолели этот барьер, я бы сказал, с первой же попытки, используя межпланетный сигнал доброй воли — улыбку. Надо признать, нам в этом помогло взаимоподобие. Столкнись мы с существами, напоминающими, например, кристаллы исландского шпата, улыбка которых проявлялась бы в виде фосфорического блеска одной из граней, мы могли бы ошибочно интерпретировать ее, что привело бы к трагическим последствиям. А тут мы с первого взгляда почувствовали взаимную симпатию.
Говорить они не умели, видимо, общались между собой с помощью ультразвуковых или каких-то иных сигналов. Во всяком случае, для общения с нами они использовали язык жестов, которому выучили нас поразительно быстро. Уже через четверть часа мы могли выражать собственные мысли и понимали то, что они хотели нам сказать.
Мы сообщили, что прибыли издалека, из другой галактики, из планетной системы звезды, именуемой Солнцем. Они приняли это как должное, как это принял бы житель черноморского побережья, узнавший, что разговаривает со скандинавом. Мы же подумали, что туземцам вообще не известно о существовании иных миров. Тогда мы поступили точно так, как это делали мореходы эпохи великих географических открытий: решили поразить их побрякушками. Бодайц вынул из кармана небольшое зеркальце, посмотрелся в него и отдал его туземцам. Зеркальце переходило из рук в руки, вызывая мягкие улыбки. Мы были несколько разочарованы, так как ожидали удивления, восклицаний, наконец, предложений о взаимной торговле. Ничего подобного. Последний туземец вернул зеркальце с любезной улыбкой, а потом, взяв Бодайца за руку, очертил в воздухе как бы плоскость. К нашему изумлению, мы заметили, что в этом месте образовалось сгущение газа, которое понемногу начало голубеть, и наконец из него возникло нечто вроде зеркальной плиты, в которой были виды наши собственные отражения. Вин потом рассказывал, что ему при этом вспомнились сахарские миражи, мне — сообщения древних путешественников о магии чародеев Центральной Африки. Что касается Бодайца, то у него не появилось никаких ассоциаций, зато он увидел во всей красе свою лимонообразную голову с шишкой на макушке. Он ничего не сказал, но невольно сделал неповторимую гримасу.
Это не ускользнуло от внимания синеглазых. Тот, которого мы между собой назвали «Кси» (должен заметить, что их имен мы так и не узнали, ведь они не издавали ни звука), жестом спросил Бодайца о причине его неудовольствия. Наш комендант, поломавшись для порядка, объяснил Кси, что его удручает вид собственной физиономии, но тут уж ничего не попишешь — нам не дано выбирать себе внешность.
Кси в ответ сделал несколько быстрых точных движений руками. Мы напряженно глядели на него. Через несколько секунд мы поняли, что он имел в виду: он предложил Бодайцу ни много ни мало, как получить более приятную внешность на все время нашего пребывания на 33–33–94.
Мне и Вину это показалось страшно привлекательным. Мы стали уговаривать Бодайца принять предложение, апеллируя к научным интересам: мол, он первый из землян имеет возможность трансформировать свою внешность. Мы взывали к исследовательскому чутью Бодайца, напоминали, что в историю науки навечно вошли имена биологов, которые сами на себе проводили опыты. Однако наш друг считал, что предложение Кси следует отнести к категории суеверий. Тогда мы возобновили атаку, утверждая, что и суеверия требуют научного исследования. Наконец не без внутреннего сопротивления Бодайц согласился на трансформацию, о чем мы немедленно сообщили Кси.
Девяносточетырянин провел нас в укрытый между деревьями шалаш, сплетенный из чего-то вроде бамбуковых побегов. Простота его внутреннего убранства произвела на меня странное впечатление: мебель отличалась высокой функциональностью и даже комфортом, но в то же время, несомненно, была произведением искусства.
Кси достал из тростникового секретерчика какой-то порошок и, вновь создав зеркало, жестом пригласил Бодайца понюхать его, как нюхают табак. Комендант не без колебаний взял двумя пальцами щепотку порошка и сунул себе в нос. И вот на наших глазах его череп начал трансформироваться, приобрел пристойную форму, да что там — идеальную в нашем человеческом понимании. Бодайц не перестал быть самим собой, не утратил присущих ему черт и все-таки изменился. Сущность трансформации состояла в том, чтобы подчеркнуть все красивое, эстетичное в его внешности и затушевать все уродливое.
Кси опять создал в воздухе зеркало, и Бодайц с явным удовлетворением посмотрелся в него. Мы знали нашего друга долгие годы, но не подозревали, что для него так важен внешний вид. Он посмотрел на нас гордо и даже как-то свысока… и это было не просто удовлетворение интеллектуала от удачно проведенного эксперимента.
Когда Кси предложил Бодайцу воспользоваться другим порошком и тот, ничтоже сумняшеся, сделал это, мы утвердились в своих подозрениях. Его лысый череп покрыли буйные светлые кудри. Наш командир не верил собственным глазам: он схватился за волосы и сильно дернул их, словно пытаясь сорвать парик. По шипению, которое он издал, мы догадались, что все обошлось без обмана. Он был счастлив, мы — обескуражены.
Мы пытались узнать у Кси, каким образом произошла трансформация и не чародейскими ли специями объясняется идеальная внешность его самого и его соплеменников. Кси дружески улыбнулся и мягко выпроводил нас из дома. Рядом, на небольшой полянке, на гладкой площадке стояло несколько кресел. Кси уселся в одно из них и жестом пригласил нас последовать его примеру. Как только мы уселись, площадка, к нашему изумлению, поднялась в воздух и поплыла над вершинами высоких пальм. Перед нами как на ладони раскинулось спокойное море, лесок и пляж, а поблизости от него виднелся наш мыслелет.
Неожиданно на нас что-то посыпалось; это были лепестки цветов. Их сбросили с площадки, пролетавшей над нами. Кси помахал рукой. Бодайц молчал, видимо, погруженный в думы о своей новой внешности, но мы с Вином принялись оживленно беседовать. Зеркала-миражи… трансформация внешности… летающие платформы… Совершенно очевидно — наше первое впечатление было ошибочным. Мы столкнулись не с примитивными существами, а с народом, находившимся на очень высокой ступени развития, настолько высокой, что, несмотря на поразительные научно-технические достижения, которые они как бы походя продемонстрировали нам, этот народ сумел сохранить, а может быть, и заново воссоздать свою естественную среду.
Мы вспомнили, что наше прибытие их совершенно не удивило. Больше того, они вели себя так, словно давно нас ожидали. Ну, конечно же, они заранее знали о нашем прилете, а их приветливая встреча говорила об уверенности в собственной силе, гарантировавшей безопасность. У них наверняка были какие-то фабрики, заводы, но, наверное, расположенные где-нибудь в глубине континента либо даже на другой планете, чтобы не отравлять атмосферы, почвы и воды. Поверхность их родной планеты предназначалась только для жизни… И разве не ради этого была организована воздушная прогулка? И разве это не был самый прямой ответ на наш вопрос? О, Кси нас отлично понял!
Площадка начала снижаться. Солнце уже клонилось к горизонту; прошло два-три часа с момента нашего прибытия. Площадка мягко опустилась на грунт. Кси вновь пригласил нас в шалаш. Но едва мы сделали несколько шагов, как ботинки свалились у нас с ног; и я заметил, что Вин изумленно рассматривает свою одежду. Его блуза совершенно истлела. Мы были поражены. Дело не в одежде: в конце концов можно было по примеру местных жителей ходить в убранстве из цветов. Нас испугало другое: разъедающее воздействие местной атмосферы на земные материалы. Не проржавеет ли оболочка мыслелета? Сможет ли машина возвратиться на Землю?
Мы бегом кинулись к кораблю; Бодайц трусил позади. Детальный осмотр убедил нас, что несущая конструкция и механизмы совершенно целы, но обивка кресел истлела, словно была изготовлена из залежалого материала. А ведь корабль был герметически закрыт! Мы с Вином посмотрели друг на друга сначала вопросительно, потом с ужасом. ВРЕМЯ — вот ответ на загадку. Время на этой планете для живых существ текло медленнее, чем для предметов. Может, это была искусственная деформация четвертого измерения? Мы постарели на несколько часов, но на самом деле прошло несколько месяцев, а может быть, и лет. Если мы еще задержимся здесь, то уже не застанем на Земле ни родных, ни друзей, ни знакомых — вообще никого из нашего поколения. Как можно скорее улететь! Как можно скорее!
Мы снова проскользнули через люк в кабины — только мы двое: Вин и я. Бодайц неожиданно захлопнул люк снаружи, потом отскочил на несколько шагов так, чтобы мы хорошо видели его сквозь иллюминаторы, показал рукой на свою голову, пригладил ладонью кудрш, сорвал с пальмы несколько цветов и, посыпав ими свою истлевшую одежду, сделал прощальный жест рукой. Потом отвернулся и кинулся прочь от мыслелета.
Мы поняли его. Он предпочел отказаться от любимой работы и человеческого общества, только бы не лишиться новой внешности и не блистать лысой головой в форме лимона с шишкой на макушке.
Таким образом, увы, мы потеряли друга и отплатили девяносточетырянам черной неблагодарностью, оставив им человека, зараженного опасной для всякой цивилизации болезнью: легкомыслием.
Мартын Петкевич встал, чувствуя, что, выпив сок внеземного происхождения, он не в состоянии сделать даже несколько шагов. Однако голова у него была светлой, а речь — гладкой, словно язык перекатывался на шарикоподшипниках.
— Я позволю себе поблагодарить председателя за предоставленную мне возможность выступить, а присутствующих — за готовность выслушать меня, — начал он, не очень-то зная, о чем говорить. — Я хотел бы сообщить о результатах полета на планету 12–34–56…
Мартын назвал последний набор чисел, выигравший в космолото.
— Мы отправились в путь скорее из жажды приключений, чем из стремления обогатить науку новыми сведениями. В этом полете я выполнял роль… — он сглотнул, чтобы ложь лучше прошла через горло, — м-да, стало быть, я выполнял роль пилота. Командиром корабля был мой дружок Алойз Сливак, с которым мы не раз болтались между Солнцем и Альфой Центавра; заместителем у Сливака был Карел Пакотек. Это был спокойный, крепкий, медлительный парень, любитель пошутить и повеселиться. Свое решение отдохнуть на 12-34-56 мы тотчас же привели в исполнение.
Плоскогорье, на которое мы опустились, было покрыто буйной растительностью. Тамошняя атмосфера несколько отличалась от земного воздуха, так что мы не могли снять скафандры, но результаты остальных анализов были обнадеживающими. Мы вылезли из люка и осмотрелись. Походило на то, что из всех возможных способов проведения уикэнда мы выбрали не самый лучший. Местность была совсем неинтересная. Планета не сулила никаких неожиданностей. Если б не чувство неловкости перед друзьями, которым мы уже успели сообщить о предполагаемом полете, мы, недолго думая, вернулись бы на Землю. А так пришлось хотя бы на день задержаться, чтобы оправдать звание галактопроходцев. Уж такова человеческая натура. В свое время я читал рассказ одного средневекового писателя, не помню уж названия. Мужчина порывает с невестой, которая ведет себя двусмысленно: регулярно посещает какую-то квартиру, скрывая от жениха свои странные похождения. Спустя много лет, уже после ее смерти, этот человек случайно узнает, что его бывшая любовь просто хотела окружить себя ореолом таинственности. Поэтому она сняла комнатку и ходила туда, чтобы провести несколько часов в одиночестве, то вязала, то смотрела в окно.
Так и мы. Уж коль решили выступать в роли великих путешественников, надо держаться до конца. Так сказать, взялся за гуж… Мы вытащили из кабины шахматную доску, расставили фигуры и сыграли несколько партий; потом, чтобы поразмяться, устроили гонки метров на сто — до одинокого покореженного дерева, росшего в центре плато, в стороне от рощицы. Раз, два, три… и мы помчались, правда, не очень быстро, так как на поляне было полно ям и камней. И представьте себе, когда до дерева оставались считанные шаги, оно дрогнуло и пустилось наутек, как-то странно, словно бы вместе с корнями быстро перемещаясь по грунту. Это было настолько неожиданно, что в первый момент мы прямо-таки остолбенели. От скуки не осталось и следа. Словно дети, мы принялись играть с деревом в кошки-мышки, гонять его друг к другу, подбегать к нему, хлопать в ладоши. Бедное дерево кидалось туда-сюда, пытаясь прорваться сквозь окружение — напрасно!
Мы все больше приближались к нему и, когда нам уже показалось, что мы вот-вот коснемся его руками, дерево исчезло, будто его и вообще не бывало. Не осталось никаких следов… на этом месте росла густая трава…
Я наклонился.
— Делать нечего, возвращаемся на Землю, — сказал стоящий передо мной Алойз.
Он только что находился шагах в двадцати от меня. Я удивился и взглянул на него. Он держал в руке шахматную доску. «Что такое? — подумал я. — Неужели он успел уже сбегать к кораблю и вернуться? И зачем ему шахматная доска?» Я невольно взглянул на корабль, чтобы прикинуть, мог ли Алойз добежать до него и вернуться… и увидел моего друга, который шел к нашему биваку. «Что за дьявольщина! — подумал я и повернулся к Алойзу с шахматной доской, но его уже не было. — Галлюцинация! Только этого недоставало!» Однако я решил выждать. Не хотелось верить, что я, человек здравый, рассудительный, страдаю галлюцинациями.
Кто-то схватил меня за руку. Передо мной стоял бледный, возбужденный Карел Пакотек. Я еще никогда не видел его в таком состоянии.
— Мартын! — закричал он, — Мартын, знаешь, кого я только что видел? Невероятно…
— Алойза с шахматной доской!
— Нет, я увидел самого себя.
Мне стало не по себе. Может, здесь выделяется какой-то газ, который проникает сквозь герметические скафандры и приводит к нарушению работы органов зрения и слуха? Газ — сквозь скафандры? Чушь! А может, какое-то излучение… Так или иначе раздумывать некогда, надо бежать к мыслелету.
— Алойз, подожди! — крикнул я.
Он остановился, мы подбежали к нему и, не вдаваясь в объяснения, бросили: «К кораблю!»
Не раздумывая, не расспрашивая ни о чем, он присоединился к нам. Через несколько шагов мы вдруг остановились как вкопанные: между нами и мыслелетом стояло трое. Это были… мы сами. Они сорвались с места и побежали к нам… то есть мы сами бежали к самим себе… к Алойзу, Карелу и ко мне, ведь я — то был я, настоящий Мартын Петкевич, тот самый, который прилетел с Земли; что касается Сливака и Пакотека, то я уже просто не знал, кто из них кто. Во всяком случае, те, кто стояли возле меня, с криками разбежались. Конечно, и я не стал ждать, а дал драпака. Я старался обойти новоявленную тройку, чтобы спрятаться в мыслелете, и мои друзья поступали, насколько я мог заметить, точно так же. Но теперь та тройка принялась играть с нами в кошки-мышки; окружив мыслелет, приближаясь к нему, хлопая в ладоши, перебегая с места на место. Обливаясь потом от усталости и страха, я остановился и внимательно вгляделся в двух Алойзов и двух Карелов. С кем из них я прилетел на эту сумасшедшую планету? Отличить было невозможно. Оба экземпляра каждой пары походили друг на друга как две капли воды. Отличались они лишь выражением лиц. Алойз и Карел номер два были веселы, зато Алойз и Карел номер один напоминали загнанных лошадей. Мой двойник тоже чувствовал себя преотменно. Я же наверняка ничем не отличался от первых номеров. «Попробуем рассуждать логично, — подумал я. — У нас, прибывших с Земли, есть основания для беспокойства. Извлекать удовольствие из такой ситуации могут лишь двойники, даже если они существуют только в нашем воображении. Значит, настоящие люди — первые номера. Мы погибнем, если совместными усилиями не выберемся из этой путаницы».
— Сливак! — крикнул я. — Пакотек! Подойдите ко мне и возьмемся за руки!
Как я и думал, приказ выполнили первые номера; я почувствовал прикосновение человеческих рук из плоти и крови. Я принял на себя командование и отдал приказ:
— Когда крикну «три», кидаемся на них. Раз, два, три!
Мы что есть мочи побежали к нашим двойникам, а они — исчезли. Просто-напросто расплылись в воздухе. Были да сплыли. Мы добежали до мыслелета и как можно быстрее влетели внутрь, старательно задраив люк, а потом кинулись к креслам. Мы были слишком возбуждены, чтобы немедленно сконцентрироваться и вернуться на Землю. Тяжело дыша, мы вначале перебрасывались отдельными словами, наконец успокоились настолько, что уже могли начать беседу. Ее темой, естественно, было удивительное появление двойников.
Шаг за шагом анализируя все, что произошло, с того момента, как мы покинули мыслелет, мы пришли к интересному выводу. Мы заметили, что двойники вели себя точно так, как мы сами некоторое время до этого: делали те же жесты, те же гримасы, произносили те же слова. Это не могло быть коллективной галлюцинацией, как нельзя назвать галлюцинацией эхо тех слов, которые возвращаются к вам, отраженные от каменной стены. Эхо! Да, в этом что-то есть. Может быть, где-то за ближайшей звездой проходил абсолютный барьер времени, и поэтому все, что происходит здесь, немедленно повторяется, отражая прошлое. Если б это открытие, как большинство великих открытий, сделанное случайно, подтвердилось, наши имена навсегда вошли бы в историю науки.
Но как проверить правильность гипотезы без соответствующих приборов и — что еще хуже — без соответствующей научной подготовки? Мы решили снова довериться случаю и выйти из корабля, для безопасности предварительно связавшись друг с другом линем, словно альпинисты. На этот раз долго ждать не пришлось. Тотчас же появились двойники, уже не три, а целые толпы двойников, несколько Алойзов, Карелов, я сам в достаточном количестве экземпляров. Они гонялись друг за другом, отдыхали, разговаривали, звали друг друга, кричали, словом, делали в точности то же, что и мы совсем недавно.
Мы вернулись на борт мыслелета. Все было слишком запутанно, слишком сложно. Одно казалось несомненным: это не эхо времени. Слишком много жестов, гримас, слов, и все это — теперь, одновременно, а раньше, когда мы действовали сами, — с определенными промежутками. Может, на Земле и найдется какой-нибудь мудрец, который сумеет объяснить нам это. Вернуться бы на Землю…
Пятнадцать минут мы отдыхали, чтобы потом как следует сосредоточиться. Я отдал должное своим увлечениям и вспомнил литературу эпохи Просвещения… Гулливер среди лилипутов? Нет. Робинзон? Скорее всего, да. Какое изумление он пережил, услышав голос: «Робинзон! Бедный Робинзон!»
— Эврика! — воскликнул я. Оба мои товарища так и подскочили в креслах. — Нашел! Отгадал загадку! Мы — на попугаичьей планете!
Они не поняли. Тогда я быстро объяснил:
— Планета населена космическими попугаями, точнее, космическими хамелеонами, которые совершенно бессознательно, но очень точно воспроизводят внешний вид предметов и подражают голосам других существ. Быть может, кроме хамелеонов, никого другого на этой планете нет, а есть только растения, которые хамелеоны научились копировать; хамелеоном могло быть и убегающее от нас дерево. Когда стадо хамелеонов увидело людей, услышало их голоса, радости их не было предела. Каждое наше движение, каждый жест были точно зафиксированы, а затем повторены. Вот чем объясняются гримасы веселья, потом утомления и изумления; если когда-нибудь на этой планете высадится человек, то, введенный в заблуждение нашими копиями, которые, быть может, будут передаваться в роду хамелеонов из поколения в поколение, он подумает, что попал на другую Землю.
Наши имена, друзья, не войдут в историю, но наши лица, наши голоса теперь зафиксированы и, возможно, останутся в космосе до тех пор, пока существует род галактических хамелеонов.
— Поздравляю, слышал, слышал! Какой успех! — редактор «Обозрения ближнего космоса» вышел из-за стола и энергично пожал руку Петкевича. Но тот уже больше не мог сдерживать злость и взорвался:
— Вы поставили меня в идиотское положение! Вы специально подстроили все это!
— Что вы, я только помог вам попасть на симпозиум…
— Липа это, а не симпозиум! Литературный кружок космических хоббистов!
— Молодой человек, если вы по-прежнему хотите стать журналистом, вам следует избегать жаргона. Это так, между прочим. Что же касается мероприятия, в котором вы участвовали, оно носило несомненно научный характер: это симпозиум воображения. Исследователь космоса, лишенный воображения, не может рассчитывать не только на успех, но и просто на благополучное возвращение. Вы специалист в области литературы средних веков, вам не следует забывать о том, что если б не романы Жюля Верна и Жулавского, не проекты Кибальчича и Циолковского, то не было бы и полета Гагарина.
Редактор извергал потоки слов. Мартын не мог ничего возразить. Впрочем, откровенно говоря, он был склонен признать правоту редактора. Разве не воображение и его производная — мечта тысячелетиями были движущей силой, превратившей человека из кроманьонца в завоевателя космоса?
— А кроме того, — добавил редактор, шутливо улыбаясь, — согласитесь, что человеку противопоказано всегда быть чересчур серьезным. Время от времени ему просто необходимо пофантазировать, просто так, для развлечения…
— Значит, я прав, — упирался Петкевич. — Все, что происходило на симпозиуме, было высосано из пальца!
— А то, что вы пили? — с улыбкой спросил редактор.
— Это, я думаю, единственное заслуживающее доверия доказательство того, что межгалактические экспедиции реальны. Ни в Солнечной системе, ни в ее окрестностях мне не доводилось пробовать такого напитка…
Он лучше любого из синтетических напитков, даже лучше натурального томатного сока. Он бодрит, проясняет мысли, улучшает настроение… Вы пробовали его?
— Дорогой мальчик, — загадочно улыбнувшись, сказал редактор, — со временем ты поймешь, что никто не в состоянии точно указать, где проходит граница между вымыслом и правдой. Можешь ли ты утверждать, что космические хамелеоны родились только в твоем воображении и нигде во Вселенной на самом деле нет таких существ? Что же касается напитка…
Редактор открыл встроенный в стену шкафчик и вынул из него два сосуда, точь-в-точь таких же, как те, что применялись для экспериментов на симпозиуме, а также оригинальную емкость для жидкости из толстого темного стекла, похожую на сужающийся кверху цилиндр.
— Напиток этот — вовсе не монополия иных галактик. Некогда его создали земляне, но отказались от дальнейшего производства в период решительной борьбы со злоупотреблениями в этом деле. Нам удалось напасть на его след в Гастрономическом музее, мы воспроизвели технологию изготовления, и вот…
— Редактор стал откручивать проволочку, и пробка, вытолкнутая таинственной силой, выскочила с громким хлопком. Из отверстия потекла струя пенящейся золотистой жидкости, которую редактор ловко направил в подставленный параболический сосуд, — …вот теперь мы можем лакомиться им. За ваше здоровье, как говаривали в средние века. Раньше этот напиток называли шампанским…
Станислав Лем
Конец света в восемь часов
Редактор «Ивнинг стар» просматривал еще влажный от типографской краски номер своей газеты. Весьма благосклонно прочел передовицу собственного сочинения, с одобрением пробежал глазами раздел спорта и новости дня, поморщился лишь при чтении последней полосы. Снимок, запечатлевший собрание Клуба бывших сенаторов, напоминал скопище раздавленных на бумаге тараканов.
— Ну и клише, черт побери! — буркнул редактор, непроизвольно протягивая руку к внутреннему телефону. Однако тут же решил, что для разговора с техническим редактором в комнате, пожалуй, чересчур жарко, и вместо того, чтобы снять трубку, нажал кнопку климатизации. Его глаза, безразлично скользнув по колонкам финансовых сообщений, неожиданно загорелись и расширились. Редактор ахнул, наклонился и стал читать набранную жирным шрифтом статью «Пролитая кровь». Через минуту—другую хватил ладонью по столу, подскочил, расстегнул воротничок сорочки и, пробежав глазами еще с десяток строк, всем телом навалился на внутренний телефон.
— Алло! Секретариат!.. Мисс Эйлин? Пришлите ко мне Роутона. И не говорите, что его у вас нет. Целыми днями любезничает, вместо того чтобы добросовестно работать! Он должен быть у меня немедленно, вы поняли?
Не дожидаясь ответа, редактор снова взялся за статью. Бормоча проклятия, он еще раз перечитывал ее, когда послышался стук в дверь.
— Войдите! С каких пор вы начали стучаться, и что все это значит? — хлопнул он рукой по раскрытой газете. — Вот удружил! Вот спасибо!
Роутон был невысок. На сероватом и словно засушенном лице светились холодные сонные глазки. Репортер был одет в серый костюм. На голове серая шляпа, которая, казалось, приросла к волосам. Он жевал резинку так медленно, словно засыпал.
— Шеф! Что с вами? Печень пошаливает?
— Прекратите! Почему в судебном репортаже вы написали, что эта баба пускала его к себе?
— Вы же говорили, что последнее время у нас редко появляются пикантные, острые вещи.
— Умолкните, не то у меня кровь… закипит! И ради остроты вы превратили восьмидесятилетнюю старуху в любовницу убийцы?
— А кому от этого хуже? Ему все равно болтаться, а она накрылась, так что жаловаться не будет.
— А газеты? Облают нас, поизмываются…
— Бизнесмену плевать на клевету конкурентов. Вы сказали полить соусом, немножко сальца; получайте и сальце, и соус. Я еще довольно деликатно поступил, потому что написал, будто этот душегуб искренне любил ее.
— Довольно! Перестаньте! Запомните одно, — редактор принялся ритмично бить ладонью по столу, — если вы еще хоть раз так подведете газету (ведь судья знает, как обстояло дело, и может прислать опровержение), то вылетите отсюда в двадцать четыре… секунды! Сенсации надо организовывать, а не придумывать! Ф-фу, ну и жара! — Редактор отер пот со лба… — Довольно об этом! У меня для вас есть работа.
Роутон сел в кресло, облокотился о письменный стол и потянулся к небольшой шкатулке, в которой редактор хранил сигары. Помял одну, другую, наконец выбрал хорошо свернутую, отгрыз конец, щелкнул зажигалкой и погрузился в кресло, приняв как можно более независимую позу.
— Я даю вам шанс. Солидный шанс. Я узнал кое-что интересное. Это может стать для нас золотой жилой. Пустим все машины, тираж увеличится! Только на этот раз вам придется поработать головой. И никаких измышлений! Слышите?! — бросил он, потому что репортер прикрыл глаза и выпускал дым с таким блаженным и отсутствующим выражением лица, словно сидел на корме собственной яхты. — Итак, слушайте. Через несколько дней должна состояться конференция физиков, посвященная открытию профессора Фаррагуса. Речь, кажется, пойдет о невероятном изобретении — лучах смерти, ракетах, Луне или о чем-то там еще. Не известно, о чем, но конференция совершенно секретная. На ней будет всего около тридцати ученых. Пресса не допускается, слышите?
— Слышу.
— Вы должны туда попасть. Только без ваших штучек!
Он сурово взглянул на репортера, который, сидя с закрытыми глазами, ничего не заметил.
— Не ждите, что я стану гадать вам на картах. Вам придется соображать самому. Действовать надо культурно — насколько это в ваших силах — и дипломатично. Газета горит — вы и сами знаете. Это наш общий шанс. Ну, Роутон…
Репортер молча протянул руку, которую редактор попытался было сердечно пожать, но сей акт дружелюбия не достиг цели. На лице у Роутона отразилось неудовольствие. Он погасил сигару, спрятал ее в плоскую жестяную коробочку, служившую портсигаром, и снова принялся жевать.
— Шутки в такую-то жару? — сказал он. — Только без сантиментов, шеф. Я думал, вы мне даете чек!
— Чек! А вы знаете, куда ехать? Идите сюда! Они подошли к большой карте, висевшей на стене. Редактор обвел красным карандашом маленький кружочек.
— Вы поедете прямо в Лос-Анджелес. В восточном пригороде его находится Центральная исследовательская станция Физического факультета университета; там вы должны разузнать, где и когда будет проходить конференция.
— А кто будет платить? Мормоны?
После долгих поисков редактор извлек из кармана тощую чековую книжку и принялся выписывать чек; когда настала очередь проставить сумму — замялся.
— Смелее, смелее, — ободрил его Роутон, — вы знаете, сколько стоит самолет до Лос-Анджелеса? Не стану же я терять время на поезд! А какая там дороговизна!
Он взглянул на чек, словно бы беззвучно присвистнул и, не снимая шляпы, почесал в голове.
— Да такой суммы мне в случае чего даже на аптеку не хватит, — заметил он. — Ну, ладно, скажем, это на дорогу. Теперь выпишите мне мой гонорар.
Редактора Салливэна, казалось, поразила столь неслыханная наглость.
— Гонорар? А за что? Откуда я знаю, не кончите ли вы свое путешествие в каком-нибудь полицейском участке? Сделайте из этого сенсацию и тогда получите… получите…
— Три кругленьких, — подсказал репортер. Шеф поперхнулся.
Улыбающийся Роутон молча повернулся к двери.
— Впрочем, — добавил он в глубоком раздумье, — в «Чикаго сан» мне дали бы, сколько я пожелаю. Они там сидят на долларах.
Доконав редактора этими страшными словами, он осторожно прикрыл за собой дверь.
Назавтра в полдень Салливэн, просматривая почту, увидел телеграмму, подписанную буквой Р. и поспешно вскрыл ее. ПРИЕХАЛ СТРАШНАЯ ДОРОГОВИЗНА ОГРОМНЫЕ РАСХОДЫ ПРИШЛИТЕ ДЕНЕГ, — с помощью электрического тока сообщал прыткий репортер. Салливэн поднял трубку внутреннего телефона.
— Алло! Мисс Эйлин, телеграфируйте, пожалуйста, Роутону: Лос-Анджелес, 33-я авеню: «Как тетка? Зачем деньги? Салливэн». Записали? Прошу молнией.
Под вечер Салливэн забежал в редакцию. Его уже ждала телеграмма. Как оказалось, секретарша, питавшая слабость к репортеру, послала телеграмму с оплаченным ответом, поэтому на бланке было десять слов: ТЕТКА УГАСАЕТ ЕДИНСТВЕННОЕ СПАСЕНИЕ ДЕНЬГИ ДЕНЬГИ ДЕНЬГИ ДЕНЬГИ ДЕНЬГИ ДЕНЬГИ
Салливэн застонал и схватился за сердце, рядом с которым покоилась чековая книжка.
Обосновавшись для начала в небольшой гостинице, Роутон принялся кружить по университетским корпусам. Прежде всего он старательно пришил к лацкану пиджака несколько орденских ленточек и вставил в петлицу значок известной бейсбольной команды. Это помогало при установлении контактов со студентами и лаборантами. Учебный год начался недавно, и толпы молодежи заполняли коридоры старых кирпичных зданий, окруженных купами вековых лиственниц. Репортер сосредоточил все внимание на здании Физического факультета. Быстренько достал расписание лекций и даже — невероятно! трудно поверить! — готовился записаться на первый курс. Он старательно изучал все объявления, развешанные на стенах, не исключая и тех, в которых сообщалось о поисках комнаты с незапирающимся входом или напоминалось о необходимости возвратить книги, взятые перед каникулами в университетской библиотеке. На подобные занятия он потратил два дня, но все еще не напал на след. Он рассчитывал на то, что на время конференции профессор отменит лекции или лабораторные работы; однако заседание могло произойти в какой-нибудь свободный день или в воскресенье, а, похоже, так оно и было, потому что никакого объявления, отменяющего лекции, Роутону обнаружить не удавалось. Вдобавок ко всему оказалось, что Фаррагус читает только по вторникам и четвергам. Роутон пошел на его лекцию по волновой механике и благодаря своей железной воле выдержал два часа абсолютно невразумительного брюзжания (как он со злости окрестил лекцию профессора) только затем, чтобы с передней скамьи вперять в старого ученого горящий энтузиазмом и умом взгляд да усердно записывать в специально припасенной тетради математические формулы, впрочем, в весьма вольной интерпретации.
После лекции он подошел к кафедре и робко спросил (хороший репортер, если это потребуется, может изобразить даже робость), не согласится ли профессор принять его завтра во второй половине дня и поговорить об одной идее, недавно пришедшей ему в голову.
— Я напал на эту мысль при изучении вашего труда «Трансмутация стереометрических инвариантов общей теории поля», — выпалил он без запинки название работы Фаррагуса, которую несколько часов назад листал в университетской библиотеке.
Старый профессор заинтересовался любознательным студентом и, несмотря на то что явно спешил, начал оправдываться: «Нет, я не могу встретиться с вами завтра, так как принимаю экзамены».
— Тогда, может быть, в пятницу, — попросил Роутон, всем существом выражая глубочайшее разочарование и подавленность.
— Увы, и в пятницу тоже нет… утром я должен готовиться… у меня будет этакое небольшое… в общем, хм, у меня не будет времени, да и вторую половину дня я занят. Разве что поздно вечером, но не могу ручаться, когда кончится… когда я вернусь домой. Может быть, в субботу вы придете ко мне в лабораторию?
Сияющий Роутон поблагодарил, договорился на субботу и, посвистывая, присоединился к толпам студентов, снующим по лестницам.
«Честный старикан, все как на ладони, — думал он, — голову даю на отсечение, что заседание будет в пятницу после обеда. Даже обидно, что все так просто получилось. Дай бог, чтобы так шло и дальше. Однако на всякий случай надо проверить».
Он кометой облетел лаборатории, мастерские и аудитории факультета. Оказалось, что все занятия, назначенные на вторую половину дня в пятницу, были перенесены на субботу или понедельник. Что это могло значить? Только то, что у доцентов и профессоров это время было занято — чем?
«Либо та самая конференция, либо я круглый идиот», — подумал Роутон и в награду за собственную проницательность устроил себе отменный обед за счет Салливэна. Он и так уж достаточно сэкономил, перейдя из гостиницы в комнату, снятую у вдовы покойного мексиканского политика; это, собственно, была клетушка, заполненная старой мебелью, в основном креслами-развалюхами, полными клопов. Но, снимая комнату, Роутон об этом не знал. Бессонные ночи способствовали разработке плана действий, и, доведенный до отчаяния стойкостью насекомых, с которыми делил ложе, Роутон прохаживался по комнате в лунном свете, бормоча:
— Будут три математика, восемь физиков и один химик. Кроме того, наверно, съедутся специалисты из других городов. Теперь — как же туда пролезть?
Сначала у него было серьезное намерение появиться перед уважаемым собранием под видом почтенного индийского ученого в чалме, с выхоленной седой бородой в завитках, в золотых очках и с негром, держащим над ним опахало, но это была, по его собственным словам, совершенно идиотская мысль. Клопы не давали ему глаз сомкнуть, интенсивно ускоряя дозревание нужной концепции, и поэтому уже в три часа утра она выкристаллизовалась и приняла окончательный вид. Битва началась — оставалось только воплотить идеи в жизнь, но это казалось Роутону уже мелочью. Он засел за свои записи, сделанные в университете. Туда были занесены привычки и характеры всех сотрудников факультета. Он знал, что профессор Фаррагус — самый старший из них, что он старый холостяк, живет вдвоем с таким же старым слугой в маленьком розовом домике в тени больших каштанов, стоящем в километре от здания Физического факультета. Из соответствующих рубрик можно было узнать (он слышал это от студентов), что иметь с профессором дело следует только при высоком положении барометра, ибо при пониженном давлении он как подагрик и ревматик мучается от различных болей и становится совершенно несносным и бесчеловечным. Вообще-то — в этом все студенты были единодушны — Фаррагус относился к разряду экзаменаторов-мучителей и обладал прекрасно сохранившимся, несмотря на возраст, темпераментом холерика.
Взвесив все это, репортер появился возле профессорского домика около семи утра, неся под мышкой портфель, содержимое которого было в состоянии распалить даже не особенно буйную фантазию. Там в удивительнейшем соседстве лежали рядом: второй том «Теории ядерных сил» Эфферсона и Уэбстера, справочник «Как разводить кур», пачка жевательного табака, наручники, удостоверение контролера Водопроводной компании в Милуоки, три карты, кусочек мела, пустое пластмассовое яйцо, а также очень тяжелый, обернутый грязным носовым платком сверток, в котором находились резиновая, покрытая свинцом перчатка из тех, которыми пользуются рентгенологи, и герметически закрытый, тоже свинцовый, тюбик с надписью: «Радиоактивный изотоп йодистого калия — только для употребления в закрытых лечебных учреждениях».
Вооруженный таким образом, Роутон прибыл в пригород, где стояли домики университетского городка, прежде всего убедился, что жалюзи на окнах фаррагусовского дома еще опущены, после чего забрался в сад и принялся уничтожать яблоки, которые он по дороге срывал с чрезмерно отягощенных ветвей, свисающих через забор. Только он управился с этим здоровым, хотя и несколько однообразным завтраком, как показался профессор, направляющийся к себе на факультет, как обычно, в семь тридцать. Это был высокий, худой, сутуловатый старик; лицо у него было крупное, синеватое, с обвисшей кожей. Ничего не подозревая, он продефилировал перед сидевшим в кустах репортером. Когда он исчез из поля зрения, Роутон выкопал перочинным ножиком небольшую ямку в земле, посадил в нее несколько яблоневых зернышек и, пригладив волосы, ринулся в бой, а проще сказать, обратился к старому слуге. Этот на первый взгляд добродушный старичок с роскошными седыми бакенбардами, великолепно оттенявшими его свежие румяные щеки, медленно прохаживался по небольшому садику вокруг дома и поливал цветы. Роутон двинулся к калитке, как крейсер с двойной броней.
— Добрый день, — начал он, перегибаясь через изгородь.
Сейчас он напоминал худого серого кота-забияку, ластящегося к кому-то.
— Добрый день.
Голубые глазки старого слуги удивленно остановились на чужаке.
— Господин профессор у себя? — спросил Роутон.
— Нет. Пошел на лекции. Он всегда выходит в это время.
— Я имею удовольствие говорить с его братом?
Слуга проглотил наживку достаточно легко. Роутон понял это по жесту, которым старик отставил лейку.
— Нет… я веду хозяйство господина профессора. А что вы хотели?
Репортер прекрасно знал, что старый слуга до прошлого года был лаборантом на кафедре физики. Когда из-за преклонного возраста он уже больше не мог переносить аппараты и помогать профессору во время демонстраций опытов, Фаррагус, четверть с лишним века читавший лекции в университете, взял его к себе, предварительно с великим скандалом выдворив свою экономку. «Профессор — сущая горчица, — подумал репортер, — а этот старичок — бальзам для ран, на мое счастье».
— Речь идет о чрезвычайно важном деле, — сказал он громко и добавил: — Я из Федерального бюро расследований, командирован госдепартаментом в Вашингтоне.
Слуга поспешно пригласил высокого гостя войти. Спустя минуту в прелестной небольшой беседке среди цветов Роутон, как это пристало истинному демократу, уже сердечно беседовал со слугой. Видимо, это не унижало достоинства Чрезвычайного правительственного уполномоченного.
— Я, собственно, прибыл, хм, в связи с тем… мероприятием, которое состоится завтра, — сказал он. — Не знаю, вы в курсе? — добавил он быстро, разыгрывая недовольство тем, что проговорился. Старый лаборант разгладил седые бакенбарды.
— В курсе. Я знаю обо всем. У господина профессора нет от меня тайн. Мы живем бок о бок вот уже семнадцать лет, — добавил он конфиденциально. Это «мы живем бок о бок» особенно понравилось репортеру.
— Ну, прелестно. И вы знаете, где будет происходить заседание?
— А как же!
Репортер изобразил недоверие.
— Вам профессор и это сказал? Боже мой, но это же почти государственная тайна! И вы в состоянии разобраться в столь сложных вопросах? Хотя… видимо, да… если вы присматриваете за таким знаменитым человеком, как Фаррагус…
Слуга все нежней гладил седые бачки.
— Оно, конечно… кое-что знаю. При покойном господине ректоре Ховерье, который читал основы теории относительности… а в то время это было внове… я был препаратором. Потом, когда к нам пришел Тарлтон — тот, что сейчас доцентом в Нью-Йорке, — я уже сам был на кафедре с тремя помощниками. Ну, а через девять лет приехал мой профессор… тогда еще ассистент. Нервный… ужасно. Обмакнул мел в чернила и написал на резолюции декана наискосок: «Не согласен». А ведь ему тогда еще не было и тридцати…
— Зачем в чернила? — спросил репортер, лишь бы что-нибудь сказать: он слушал одним ухом.
— Не знаю — видно, чтобы получше писалось. Очень способный, так быстро защитил диссертацию. Я ему помогал. А как читал лекции! Когда он говорил о матричном исчислении, то даже с других факультетов студенты приходили, а таких демонстраций, как у нас, ни у кого не было.
— Ну, да, да, — сказал репортер, даже глазом не моргнув. — А как быть открытием профессора? — закинул он удочку. Рыбка клюнула.
— О, знаете ли, это великое, величайшее дело…
— Что, вам известны подробности? Нет, ни за что не поверю. Ведь все это очень сложно…
Старик скромно улыбнулся.
— А интегральное или матричное исчисление, вы думаете, проще? Но ведь люди и в этом разбираются. Во время экзаменов ребята, бывало, меня всегда просили: «Джон, встаньте рядом с дверью и, когда профессор раздаст задания, подсказывайте… помогите сделать работы… а то… а того…» Хи-хи-хи… да, да, было, было… но, но зачем же вы все-таки приехали, если можно спросить? Не станете же вы ждать профессора?
— Разумеется, нет. Я приехал, видите ли… есть данные… подозрения, что профессору угрожает некая… опасность.
— Что вы говорите? — испугался старый лаборант.
— Увы, да. Так я, видите ли, как бы это сказать… разведать, как и что. На этой конференции не будет никого, кроме ученых, правда? — неожиданно резко спросил он.
— Нет… профессор говорил, что только одни специалисты.
— От прессы, надеюсь, тоже никого? Эту голь пускать не следует.
— Вероятно, да.
— Дело в том, — сказал репортер, — что за профессором необходимо установить наблюдение. Он возьмет с собой на заседание какую-нибудь папку или что-нибудь в этом роде?
— Да… бумаги… наверно, свою работу.
— Я ее-то и имею в виду, — сказал репортер, — это очень важно. А где машина профессора? Не пойдет же он так далеко пешком?
— То есть как далеко? Вы не знаете города? Ах, правда, вы же приезжий! У нас нет машины. Профессор машин не любит.
— Мне придется осмотреть дорогу… — сказал как бы про себя репортер. — Так как же мне туда пройти?
— Куда?
— Ну, на завтрашнюю конференцию?
— Вы не знаете, где Физический факультет? — с нескрываемым удивлением спросил слуга.
— Ах, да! Столько забот в голове! Знаю, знаю, видел на плане.
Слуга принялся долго и пространно объяснять, рисуя пальцем на столике, а репортер лихорадочно размышлял.
«Что делать? Сам не понимаю, как мне в голову пришла идея с госдепартаментом… Теперь придется ехать на этой лошадке, сколько удастся».
— Простите, — сказал он серьезно, почти угрюмо, — я вижу, что имею дело с человеком разумным, интеллигентным и что вы осознаете, какую ценность представляет профессор Фаррагус для нашей отчизны, поэтому скажу вам все… Нашему департаменту стало известно, что шпики иностранных держав пытаются слям… пардон, выкрасть плоды трудов профессора. Самый опасный момент будет завтра, когда профессор явится на конференцию. Они могут вмонтировать в стену микрофон, либо подложить бомбу с часовым механизмом, либо при помощи водопроводных труб впустить некую пластическую субстанцию…
Репортер неожиданно осекся, так как, болтая, что ему на ум взбредет, вдруг сообразил, что его собеседник знает физику.
— Поэтому, — быстро покинул он опасную тему, — наш департамент хотел сначала дать знать профессору обо всем и прислать несколько человек для охраны в критический момент, но мы опасались, что профессор недооценит предупреждения. Вы же его знаете… а? Однако мы не можем допустить, чтобы такому человеку что-либо угрожало, и поэтому я был послан сюда самолетом со специальными полномочиями. Хорошо, что я встретил именно вас. Профессор необыкновенный человек, но очень уж того… нервный, правда?
— Ох, да, — вздохнул слуга, — он очень добрый, но уж если что-нибудь решит, то на своем настоит, а когда разгневается — не приведи господь.
— Вот именно. Мы об этом прекрасно знаем. Это наша обязанность.
Так вот, мне необходимо присутствовать на конференции, потому что я обязан непрерывно следить за профессором, но он не должен об этом знать. Понимаете?
— Понимаю… — теперь лаборант оттягивал свои бакенбарды и накручивал их на пальцы. — Оно, конечно, надо бы, но…
— Какие могут быть «но», если речь идет о важном деле! Когда профессор выйдет завтра из дома?
— В шесть вечера.
— Ага. Ну, конечно, раз конференция начнется в шесть тридцать.
— Нет, в шесть сорок пять.
— Да, да. Я оговорился. Профессор знает своих коллег в лицо, поэтому я должен укрыться в зале, чтобы меня никто не видел, понимаете? Я возьму с собой специальный аппарат и автоматический револьвер, — репортер хлопнул по оттопыривающемуся заднему карману брюк, в котором лежал футляр от зубной щетки.
— Так, что же нам сделать?
— Вы случайно не знаете кого-нибудь, кто мог бы меня впустить в зал?
— А, правда! Ну, конечно! — обрадовался слуга. — Конечно, знаю! Стивенс! Он сейчас старший лаборант в корпусе. Все ключи у него.
Репортер встал.
— Так что же, профессор сегодня после обеда не придет домой?
— Нет… будет у сестры в городе. Вернется только к ночи.
— Прекрасно. В половине шестого я буду тут с машиной и отвезу вас на факультет, там поговорим с этим, как его? Сти…
— Стивенс, Стивенс. Он был помощником на кафедре еще год назад.
— Вашим подчиненным?
— Ну да.
— Стало быть, я приеду на машине и заберу вас, — повторил репортер, небрежно встал, приложил пальцы к шляпе и быстро вышел на дорогу. Слуга удивленно смотрел ему вслед. Такое случилось с ним впервые в жизни.
Тихо посвистывая, в радужном настроении, репортер доехал автобусом до города, оплатил в гараже комиссионные за пользование автомашиной на два часа, выбрал черный как ночь «бьюик» с компрессором, приказал поставить новое сиденье сзади и поморщился, увидев в вазочке несвежие цветы; наконец, сунув в зубы тридцатицентовую сигару, уселся за руль и что было сил погнал за город.
Опускались первые осенние сумерки, когда тормоза огромной машины завизжали перед домиком профессора. Возбужденный ожиданием необычной поездки, старый слуга уже сидел на скамеечке в садике, одетый в свой лучший костюм. Репортер ждал в машине, пока слуга закроет все двери в доме и выйдет к нему. Наконец тронулись. Со Стивенсом все прошло гладко. С огромным уважением он рассматривал Чрезвычайного правительственного уполномоченного по особо важным делам.
Когда они расположились в малюсенькой комнатке, дежурке лаборанта, и старый слуга изложил Стивенсу суть дела, неожиданно молчаливый джентльмен с сигарой открыл портфель, выхватил из него черное удостоверение с золотым гербом на обложке (такие роскошные удостоверения выпускала Водопроводная компания в Милуоки) и, молниеносно открыв его, словно это был затвор фотоаппарата, подсунул под самый нос ошеломленному Стивенсу. Если какая-нибудь тень сомнения еще и гнездилась в душе этого честного человека, то теперь она окончательно исчезла. Разыскав в большом застекленном шкафу нужный ключ, он показал его правительственному уполномоченному.
— Хорошо. Я приеду за час до начала, — сказал репортер, — а сейчас покажите мне зал, чтобы я мог как следует сориентироваться. Может быть, я установлю там комприматор.
Его просто распирало от нахальства. Он уже обращался к Стивенсу на «вы», опуская «мистер» и время от времени бросал непонятные слова вроде комприматора. Здание в эту пору было почти пустым. Длинными, мрачными коридорами трое заговорщиков пошли к боковому крылу и остановились перед высокими дверями, глубоко сидящими в толстой стене. Стивенс, чувствуя значимость момента, долго гремел ключом в замке, пока наконец двери не поддались. Это был небольшой зал, уставленный стульями. Первый ряд занимали кресла. Перед ними возвышалась маленькая сцена, на ней стол, покрытый зеленым сукном, спадающим до самого пола. Репортер внимательно осмотрел все, поднял сукно и заглянул под стол.
Окончив осмотр, удовлетворенно кашлянул и решительно заявил:
— Я устроюсь здесь. Да, вот еще что, — обратился он к неподвижно стоявшим лаборантам, — как вы будете пропускать приглашенных?
— Каждый должен показать пригласительный билет, даже если я знаю этого человека лично, — сказал Стивенс.
— Кто выдает приглашения?
— Деканат Физического факультета… Простите, а если господин профессор или кто-либо из господ обнаружит вас, что будет? Меня не выкинут? — неожиданно забеспокоился Стивенс, у которого не умещалось в голове, что особа, посланная правительством, будет три часа сидеть, скорчившись под столом.
— Будьте спокойны. Вас не выкинут, а если даже что-нибудь случится, то я вам говорю, — репортер покровительственно улыбнулся, как Рокфеллер, — мы устроим вас на такую должность, что они только локти будут кусать.
— Я уж лучше остался бы тут, в университете.
— Ну, так останетесь, нечего бояться. Там, где нахожусь я, без моего ведома ни у кого волос с головы не упадет. Ну, с этим мы покончили. Завтра вечером я буду здесь, — поворачиваясь, он подмигнул серьезному Франклину на портрете, взиравшему на зал о высоты.
Доброжелательный правительственный уполномоченный не поленился отвезти старого слугу домой.
— Смотрите, чтобы профессор ни о чем не узнал, — сказал он со значением, высаживая старичка из машины. — Мы не хотим, чтобы он напрасно нервничал. Это может ему повредить. Ну, до свиданья. Благодаря вам все пойдет как надо. Вы славно послужили Соединенным Штатам.
Он дал газ, и черная машина, словно ее сдуло с места, пропала в вечернем мраке. Слуга еще долго стоял неподвижно, глядя, как вдали тают красные огоньки. Слова репортера потрясли его до глубины души.
Роутон потел. Под покровом сукна было дьявольски душно, а в заполненном зале температура все повышалась. Сидя словно в бочке, он слышал гул многочисленных голосов. Это продолжалось так долго, что ему, не приспособленному к «турецкой позе», пришлось несколько раз ее менять; мурашки ползали у него по ногам. Наконец заседание началось. Кто-то забренчал астматическим звонком прямо у него над головой. Он даже вздрогнул, потому что под сукно, в пяти сантиметрах от его колена, влез черный мыс ботинка.
— Уважаемые коллеги, — раздался над столом зычный старческий голос, — открываю чрезвычайное заседание, посвященное сообщению коллеги Фаррагуса. Слово предоставляется коллеге Фаррагусу. В этот момент чем-то зашуршали, закашляли, доски заскрипели — докладчик раскладывал что-то на столе, наверно папки с бумагами. В зале было слышно покашливание и истинно профессорское сморкание — трубное и продолжительное.
— Уважаемые коллеги!
У Роутона под столом был небольшой стенографический блокнот и специальная авторучка с встроенной под пером лампочкой, при свете которой можно было писать. Едва профессор начал говорить, как ручка запорхала по белому листку. Но, о горе! Неожиданно профессор перестал говорить и начал писать. Он повернулся, отошел от стола, и послышался скрип мела о доску.
Будучи прирожденным любителем риска, Роутон не мог усидеть спокойно. Несмотря на то что его познания в математике ограничивались четырьмя арифметическими действиями, а единственной специальной литературой в этой области являлись для него долларовые банкноты Федерального банка, он во что бы то ни стало хотел увидеть, что именно пишет Фаррагус на доске. Поэтому он начал потихоньку приподнимать край зеленого сукна. В тот момент, когда появилась узенькая щелка, мел в руках профессора треснул, разлетелся, и маленький кусочек попал репортеру прямо в глаз. Роутон едва сдержал проклятия. Вытер платочком заслезившийся глаз и, уже отказавшись от выхода на поверхность, сидел, словно подводная лодка в глубинах океана, накрытый волнами зеленого сукна. Из ужасно сложных выкладок профессора получалось — насколько Роутон мог понять, — что во время каких-то теоретических исследований тот вывел некую математическую формулу, «материальная реализация которой была бы равносильна концу света». Как профессор сказал, так Роутон и записал, не понимая, впрочем, совершенно, каким образом математическая формула может влиять на судьбы человеческие. Однако же из дальнейшего изложения стало ясно, что это возможно.
— Я искал, — говорил профессор, — условия, при которых выполнялось бы это теоретически вычисленное положение. Вначале мне казалось, что это невозможно. Однако кропотливые двадцатидвухлетние поиски наконец увенчались успехом.
— Уважаемые коллеги! — голос Фаррагуса надломился. — Мне удалось создать соединение, существование которого предсказывала вот эта написанная на доске формула… и это соединение… самая страшная, самая мощная сила, отданная природой в руки человека… это соединение, которое в состоянии погубить все живое на нашей планете, все, что обитает на ней, обратить в пепел и наконец уничтожить земной шар, превратив его в клубы раскаленных газов… а затем в результате центробежной взрывной реакции привести к распаду всю Солнечную систему… всю Галактику… миллионы звезд и солнц… всю Вселенную… это соединение… это соединение здесь!!!
Фаррагус стукнул чем-то твердым по столу так, что репортер подскочил, решив, что запальчивый экспериментатор намерен тотчас же доказать справедливость своих апокалиптических пророчеств.
— В этой пробирке хранится белый порошок, который при низкой температуре совершенно инертен и безопасен, мало того — не вступает ни в какие химические реакции, ни кислоты, ни щелочи, ни какие-либо иные химические соединения не растворяют его! Профессор все больше возвышал голос. — Но будучи подогрет до восьмисот градусов по Цельсию — столь незначительной температуры, — этот препарат видоизменяется ужасающим образом. Прошу уважаемых коллег обратить внимание, — произойдет не химическая реакция, как в снаряде, заполненном динамитом… не реакция ядерного распада, как в атомной бомбе… ибо и тут и там мы имеем дело с детонацией ограниченного характера. И пусть даже действие ее, как в случае с водородной бомбой, распространяется на несколько десятков километров, что значат такие расстояния по сравнению с размерами континентов и морей?
Мой препарат, вот этот легкий белый сыпучий порошок, подогретый до температуры восемьсот градусов, становится ДЕТОНАТОРОМ МАТЕРИИ! Что значит «детонатор материи»? Это значит, что если в атомной бомбе в энергию взрыва превращается лишь сотая часть массы, то мой препарат расщепляет материю на два противоположных полюса: материю и антиматерию, результатом чего явится их немедленное соединение и взаимоуничтожение с выделением потрясающих количеств энергии… Протоны, соединяясь с антипротонами, испускают излучение с напряжением в сотни миллиардов электронвольт… от центра взрыва этот процесс распространяется с известной в природе скоростью… со скоростью света.
А поэтому, если когда-либо в каком-либо пункте видимого звездного космоса кто-либо однажды даст толчок такой реакции, кто-то приведет в действие детонатор материи, то конец света — истинный и необратимый конец света, понимаемый как полное превращение всех субстанций в энергию в результате непрекращающегося космического взрыва, станет действительностью — неизбежной и окончательной… Ибо достаточно щепотке белого порошка попасть в огонь, как это вызовет взрыв запасов энергии, аккумулированных в материальных частицах… скачок температуры до миллиардов и триллионов градусов… и благодаря этому мелкая, казалось бы, невинная белая пыль может уничтожить всю Вселенную!
«Ну и ну!» — перо репортера летало по бумаге как сумасшедшее, а стопка исписанных листков росла. Роутон так ликовал, будто профессор пророчил вечный рай на Земле.
— Мое изобретение… мой препарат я назвал генетоном, то есть созидателем… Почему созидателем? Потому, уважаемые коллеги, что с этого момента не будет более войн, так как любая война означала бы полный, буквальный и абсолютный конец света, ибо каждая война привела бы к уничтожению той земли, по которой мы ходим, вместе со всеми солнцами и звездами, во время безоблачных ночей горящими над нашими головами… а мы можем быть уверены, что ни один человек, ни один народ, ни одно государство не решились бы на столь ужасный шаг! Поэтому я верю, что мой генетон самим фактом своего возникновения открывает эру вечного мира народов… Был слышен шелест бумаг в зале, скрип стульев, кашель; кто-то высморкался вблизи так громогласно и демонстративно, что репортер вздрогнул. «Вот и поминки», — подумал он, когда зазвенел звонок и скрипучий голос председателя произнес:
— Кто желает высказаться?
— Позвольте мне… — отозвался неподалеку низкий, ровный бас.
— Коллеги, — загудел минуту спустя тот же бас над самым репортером, — есть в нашем языке одно меткое выражение, которое гласит, что человек чересчур часто руководствуется желаниями, а не действительностью… Коллега Фаррагус предложил нам некую гипотезу. Она столь же смела, сколь и любопытна. Она вполне может заинтересовать литераторов, занимающихся научной фантастикой… но только литераторов. Ученому же не пристало высказывать идеи, не подтвержденные экспериментами. Я вижу на доске формулу и утверждаю, что эта формула не может быть реализована, так как ничто не соответствует ей в действительности, ибо коэффициенты уравнений были установлены столь же искусственно, сколь и произвольно. Формула эта представляет собой не более чем своеобразный каламбур, математическую забаву…
— Как вы смеете! — раздался рядом резкий возглас Фаррагуса.
Говоривший пропустил это мимо ушей.
— Из теоретических предпосылок, взятых с большой натяжкой и даже со сверхапокалиптической натяжкой, был сделан вывод произвольный, поспешный и, я бы сказал, легкомысленный…
По залу прошел гул.
— Такое вещество, — послышался стук пальца по доске, — не в состоянии привести к разложению материи… а тем более к возникновению пар протонов и антипротонов… Что мы видим? Мы видим смешение количества тепла и величины температуры. А второй закон термодинамики? Я полагаю, коллеги, все ясно. Для меня проблема генетона более не существует.
— Так вы считаете, что это шарлатанство?! Обман?! — закричал Фаррагус, пытаясь перекрыть шум зала. — Что двадцать лет исследований были сплошной ошибкой? А что же в таком случае представляет собой то, что лежит у меня здесь, вот в этой пробирке? Тот препарат, который вы видите?!
— То, что вы синтезировали, — мягко ответил гремевший до сих пор бас, — если это действительно было синтезировано, представляет собой не более чем еще одно из пятнадцати тысяч новых, не приносящих пользы химических соединений, которые ежегодно регистрируют альманахи экспериментальной химии.
Говоривший начал спускаться со сцены. В зале стоял страшный шум.
— Стало быть, точные доказательства, точные вычисления для вас ничто?! — кричал Фаррагус, совершенно потеряв над собой власть. — Как мне вас убедить? Разве что сунуть эту пробирку в пламя свечи, и только катастрофа сможет доказать, что я не зря потратил большую часть своей жизни?
— Да, лишь такой путь… однако опасаюсь, что мой уважаемый коллега значительно преувеличивает опасность подобного опыта. Подать зажигалку?
Послышался общий смех. Зал гудел.
— Немедленно выпустите меня! — раздался тонкий, возбужденный голос Фаррагуса. — Я вам докажу, что я прав, чего бы мне это ни стоило! Послышался треск падающего стула, потом дверь с грохотом захлопнулась.
Доктор Грей, ассистент физики в Лос-анджелесском университете, первый помощник Фаррагуса, опаздывал на работу. Все больше ускоряя шаг, он шел к университету, который спрятался за раскидистыми кронами старых деревьев. Выйдя на площадь Вашингтона, Грей уже издали увидел толпу людей около решетки ограды. Одни стояли спокойно, другие грозили кулаками темным окнам университета. Изумленный ассистент замедлил шаги.
«Демонстрация? — подумал он. — Здесь?» Ему пришло в голову, что все складывается как нельзя лучше: профессор, обычно донимавший его едкими замечаниями за малейшее опоздание, сегодня, наверно, не обратит на это внимания — ведь произошло что-то необычное. С немалым трудом он протиснулся к высоким воротам с золочеными прутьями, напоминающими частокол из металлических копий. За воротами стоял лаборант Стивенс и четверо его помощников, а рядом — Грей даже заморгал от удивления — полицейский офицер в полной форме.
— Добрый день, доктор, — сказал привратник. — Сейчас откроем, только, пожалуйста, подойдите поближе.
Они отомкнули тяжелые решетчатые ворота, и под неприязненные выкрики толпы ассистент проскользнул за ограду. Те, что стояли поближе, вели себя спокойно, только мрачно глядели на него, зато сзади слышались враждебные выкрики, и даже какой-то камень просвистел в воздухе. К счастью, за ним не последовали другие.
— Ради бога, что здесь происходит? Безработные? Что им тут надо? — начал доктор Грей, обращаясь к офицеру.
— Доктор Грей? — спросил офицер. — Хорошо, что вы пришли.
— Господин инспектор, что тут происходит? Чего хотят эти люди? Что-нибудь случилось? — вопрошал перепуганный доктор.
Инспектор казался злым и обеспокоенным.
— Нет, что вы… это все проклятая статья.
— Какая статья?
— Вы не видели сегодняшней утренней газеты?
— Нет.
— Ну, так почитайте.
Офицер достал из кармана помятый и сложенный вчетверо номер «Ивнинг стар». Грей взглянул на первую полосу и обомлел. Там виднелся огромный заголовок, обрамленный восклицательными знаками:
ЧЕСТОЛЮБИВЫЙ ПРОФЕССОР ВЗРЫВАЕТ АМЕРИКУ!
А пониже мелкими буквами:
ГЕНЕТОН — страшный взрывчатый материал, В МИЛЛИАРД РАЗ более мощный, чем водородная бомба!
Еще ниже:
СЕНСАЦИОННЫЙ РЕПОРТАЖ С ТАЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СВЕТИЛ МИРОВОЙ НАУКИ!
Собственный корреспондент
Вся эта прелестная история была густо сдобрена цифрами и неизвестно откуда выкопанными фотографиями участников собрания, описанного во всей красе. Надо признать, что Роутон не ударил в грязь лицом. Он создал рельефную, полнокровную эпопею, героями которой были профессор Фаррагус и его основной оппонент (репортер ухитрился узнать его имя). Роутон представил их как столкнувшихся лбами фанатиков, готовых ради доказательства справедливости своих утверждений в запальчивости уничтожить весь мир. Слова, которые Фаррагус произнес выбегая из зала, показались прыткому репортеру недостаточно устрашающими и не в полной мере отражающими страшную угрозу Земле, поэтому он сгустил краски и, ничтоже сумнящеся, написал:
«…профессор Фаррагус, подняв вверх сосуд с генетоном, бросается к двери и кричит: „Скоро мир убедится в том, что мой препарат — самый страшный разрушитель, какой только знала история человечества!“»
— Ой! Генетон… — ужаснулся Грей.
— Неужели это правда? Я говорил с профессором, он утверждает, что таких слов не произносил. Вы были на конференции?
— Что? Ах, нет, меня не было в Лос-Анджелесе… Бог мой, что будет? Так эти люди…
— Послушайте-ка, доктор… этот препарат чего-нибудь да стоит? — спросил инспектор, конфиденциально взяв Грея за локоть.
— Что? В каком смысле?
— Ну, он что, действительно взорвется, если его сунуть в огонь? Вы это видели?
— Что вы говорите? Упаси боже… не видел, потому что больше бы я уже ничего в жизни не увидел. Что он понаписал, этот репортер? Препарат вызывает симметричное раздвоение материи… Вы понимаете? Нет? Возгорание материи — уже прямое следствие… Это — как искра в бочке пороха, пожар все распространяется и распространяется, и ничто не может его остановить. Достаточно одного грамма этого порошка, да что там, десятой доли грамма, огарка свечи и коробки спичек, чтобы покончить со Вселенной. — Так вы уверены, что…
— Уверен ли я?! Оставьте меня в покое! Где профессор?
Грей дрожал от возбуждения.
— Где он? — обратился Грей к Стивенсу, хватаясь за голову.
— Бог мой, но он же не мог сказать этого серьезно!
— Профессор-то? Когда он утром пришел в университет, его хотели линчевать, — и все из-за проклятого репортера, который раззвонил об этом.
— Я работал над препаратом вместе с профессором семь лет… это ужасно… — бормотал Грей.
Толпа сгрудилась и стала напирать на ограду. Кто-то из самых слабонервных кричал:
— Эй там, расступитесь!!!
В образовавшемся проходе появились несколько громил, которые несли к ограде, словно таран, вывороченный телеграфный столб. Инспектор бросился к воротам, одной рукой хватаясь за свисток, другой — за рукоять пистолета.
— Не сметь разбивать ворота! — рявкнул он. — Слышите? Гопкинс! — крикнул он полицейскому, который, опираясь на карабин, глядел на него во все глаза, — беги к телефону, проси, чтобы нам прислали пару констеблей, мотопомпу и пусть держат наготове еще штуки две! Грей побрел к зданию в таком состоянии, словно он только что принял натощак парочку стопок старого вина. В кабинете профессора царила тишина. Грей постучал в дверь — ответа не было. Он нажал ручку. Профессор даже не повернулся на его покашливание. Он сидел в кресле, низко опустив голову, и барабанил пальцами правой руки по крышке стола. На столе валялась груда исписанных бисерным почерком листков. Только когда Грей оказался совсем рядом, тот заморгал усталыми и припухшими от бессонницы близорукими глазами.
— А, Грей? Вы не были вчера на конференции, да?
— Господин профессор, фатальное стечение обстоятельств, — начал Грей, — моя племянница…
— Ах перестаньте! Поверите ли, Гунор назвал мое открытие пустым надувательством, мои данные — фальшивыми, а уважаемое сборище высмеяло меня!.. Стадо, проклятое стадо!
— Каждое новое великое открытие… — несмело начал Грей.
— Знаю, знаю — принимали враждебно и неохотно. Ну и что же?
— Полемика, господин профессор, это естественная вещь. Что значит мнение Гунора перед лицом фактов? Пустяки…
— То есть как пустяки? — профессор вскочил. — Гунор смешивает с грязью меня, мою работу — это пустяки? Называет препарат безобидным порошком, а, казалось бы, самые компетентные люди аплодируют ему — это пустяки?
Фаррагус вдруг оперся о стол, побледнел и схватился за грудь.
Грей перепугался.
— Где нитроглицерин? Здесь? Сейчас… я сейчас… — Он подал старцу стеклянную ампулку, побежал за водой, трясущимися руками наполнил стакан и вернулся к столу. Фаррагус, обмякнув, сидел в кресле. На желтоватых щеках выступили кирпичные пятна.
— Сердце… сердце… — прошептал он едва слышно. Когда Грей хотел подать ему воду, он отмахнулся. Пришел в себя, встал, пошатываясь, добрался до окна и взглянул в парк, где за деревьями слышались глухие крики.
— Какая подлость!.. — проворчал он. — Когда я утром вышел, они хотели меня прикончить. Я думал сделать из генетона символ и гарантию мира, а какой-то Гунор, который дал науке… простите, вы сами знаете, что… осмеливается… только потому, что у него рука в Вашингтоне.
В этот момент послышался деликатный стук и в кабинет просунулся человек средних лет, глаза которого молниеносно обшарили кабинет. Из заднего кармана помятых серых брюк он извлек толстый стенографический блокнот и, вооружившись им, приблизился к профессору, отвесив учтивый поклон.
Профессор отвернулся от окна и только теперь заметил нахала.
— Кто это? Что вам угодно?
— Роутон из «Ивнинг стар», — представился пришелец, кланяясь еще раз. — Репортер по особо важным делам, — добавил он с вежливой улыбкой. — Господин профессор, я позволил себе вчера поместить статейку…
— Ах, так вот кто заварил эту кашу! — яростно крикнул Фаррагус, подступая к репортеру с таким видом, словно бы собирался выкинуть его за дверь. — И вы еще смеете ко мне приставать?
— Одну минуточку. Тут, понимаете, такое дело: вы изволили выразиться в том смысле, что этот препарат, генетон, будучи помещен в пламя или нагрет иным образом до температуры восемьсот градусов, приведет, так сказать, к концу света. В связи с этим я не замедлил проинтервьюировать профессора Гунора… сегодня утром у него дома. Я спросил его, что он думает о последствиях, которые имели бы место в результате помещения вашего препарата в огонь.
— Ага! И что же он ответил? — спросил Фаррагус, поднося руку к уху, чтобы лучше слышать.
— Господин профессор Гунор, — почти пропел в ответ репортер, вперив свой взгляд в стенографический блокнот, словно в молитвенник, — ответил мне, что результат был бы таким же, как если бы мы Всыпали в огонь щепотку табаку. «Быть может, экспериментатор чихнет… этим дело и кончится», — сказал профессор Гунор. Я хотел бы спросить, какова в связи с этим позиция уважаемого господина профессора?
Фаррагус посинел.
— Экспериментатор чихнет… — прошептал он, нервно сжимая и разжимая пальцы, — чихнет… Вы… Вы желаете знать мое мнение? — дрожащий голос Фаррагуса сел, но в нем послышались стальные нотки. — Хорошо. Скажите своим читателям, скажите этим медным лбам, этим тупицам… что сегодня же в восемь часов вечера с последним ударом часов я введу мой препарат в пламя… а тогда пусть бог смилостивится над профессором Гунором… над всеми людьми… и над этими надутыми спесивцами, которые меня высмеяли! Выгнали! Вышвырнули!!!
Секунду стояла мертвая тишина, потом профессор с ужасной гримасой схватил ключ и выбежал из комнаты. Проскрипел замок, в котором снаружи повернули ключ. Грей секунду стоял окаменев, потом беспомощно огляделся вокруг.
— Господин… господин профессор! — неожиданно взвизгнул он.
Репортер все еще писал. Потом старательно закрыл авторучку, вложил блокнот в карман, словно это было что-то чрезвычайно ценное, и, даже не пытаясь открыть дверь, ловко вскочил на подоконник. От земли его отделяли четыре метра. Он перекинул ноги наружу и, победно улыбнувшись Грею, воскликнул:
— Экстренный выпуск!
После чего исчез.
Грей начал метаться по комнате, издавая отчаянные вопли, наконец, схватил стул и попытался выбить им дверь. Это, конечно, не удалось, но грохот привлек внимание полицейского инспектора.
Поскольку профессор оставил ключ в замке, инспектор повернул его, вошел и тотчас отскочил, потому что Грей замахнулся на него остатком стула.
— Что это значит? Что вы делаете? — сурово спросил страж порядка, завидев растрепанные волосы, сумасшедший взгляд и бледную вспотевшую физиономию ассистента, который, жестикулируя, пытался сладить с разбросанными бумагами и льющейся из чернильницы рекой чернил.
— Репортер… профессор… Фаррагус… генетон… сбежал… — стонал Грей.
— Да успокойтесь вы наконец. Где профессор?
— Бог мой, что теперь будет?
— Да говорите же в конце концов.
Грей опустился в кресло.
— Репортер пришел от Гунора, раздразнил профессора… довел его до бешенства, потому что Гунор сказал, будто генетон никогда не взорвется… что он ничего не стоит… тогда профессор закричал… что сегодня в восемь часов сунет генетон в огонь.
Инспектор протяжно свистнул. Быстро осмотрелся.
— Где профессор?
— Куда-то побежал, может, домой.
— Где этот порошок?
— Был у профессора в стеклянной ампуле.
— Где ампула?
— Тут была, в ящике стола…
Они бросились к столу. Ящик был пуст.
Инспектор вдруг крикнул:
— Господи, где репортер?
— Выскочил в окно!
Инспектор задохнулся.
— Ну, — сказал он, — теперь-то уж действительно начинается светопреставление.
Он выбежал в коридор. Было слышно, как он набирает номер телефона и кричит в трубку, поднимая на ноги весь комиссариат.
— Арестуйте его, как только увидите! — кричал он. — Что? Что? Хорошо!
Он уже собирался повесить трубку, когда что-то вспомнил.
— Алло! Брэдли! Слушайте, как только вам в руки попадется Роутон, репортер из «Ивнинг стар», дайте ему пару раз «бананом» и киньте в холодную, пусть остынет… Он так же опасен, как и профессор!
Грей сидел на предпоследней ступеньке лестницы, играя ключом.
— А вы что тут сидите? — спросил инспектор, который летел вверх словно ракета. Грей равнодушно взглянул на него.
— Я собирался пойти пообедать, да стоит ли?
— Это еще почему?
— Ну, ведь после восьми уже не надо будет больше есть…
— Пропадите вы пропадом! — прорычал инспектор и помчался дальше.
Государственный секретарь положил пресс-папье слева от серебряной статуэтки, изображающей статую Свободы, потом справа, затем перед собой и долго смотрел на его хрустальный шарик. Наконец он поднял голову.
— Ну?
Генерал Харвей проглотил слюну.
— Мы сделали все, что могли.
— Ничего вы не сделали.
— В два часа оцепили все вокзалы, станции надземной железной дороги и метро, улицы, площади; мобильные патрули с фотографиями Фаррагуса разъезжают по городу. Они держат постоянную радиосвязь с Главной квартирой. Оцеплены университетские здания… произведены обыски в квартирах профессоров… в три мы развесили объявления, назначающие пять тысяч долларов награды за информацию о месте нахождения профессора. Ни одна машина, ни один самолет, ни один человек не могут без нашего ведома покинуть Лос-Анджелес. Государственный секретарь с такой злостью стучал линейкой по пресс-папье, словно оно было во всем виновато.
— Ну и что?! — взорвался он. — Ну и что?!
Харвей почесал переносицу.
— Ежеминутно ждем сооб…
Зазвонил телефон. Государственный секретарь поднял трубку.
— Что? — спросил он. — Да. Это вас. Он отдал трубку генералу. Тот прижал ее к уху. Некоторое время слушал, потом его шея стала наливаться кровью.
— Что? Фельетон? Из Лос-Анджелеса? Что? Что?? Что??? Не разрешать! Возвратить! Пустить в ход все резервы!
Он прикрыл рукой микрофон и глухо сказал:
— Надо было этого ожидать. В городе паника-то есть волнения… — поправился он. — Толпы людей стремятся выйти из города в различных направлениях.
— Какое мне дело! — взорвался государственный секретарь. Хрустальное пресс-папье закончило свое существование, разлетевшись под столом на тысячи осколков.
— Что делать, мистер Давьес… сил полиции недостаточно. Я вынужден просить о помощи армию. Секретарь достал из кармана носовой платок.
— Армию? Это невозможно…
Он встал и подбежал к окну.
— Какой скандал! Звонки из британского посольства… вопросы… понижение курса акций на шестнадцать пунктов… наконец разговоры в конгрессе… нет, это исключено! Вы должны обойтись своими силами.
Генерал отдернул руку от микрофона.
— Фельетон? Инспектор? Слушайте меня. Стяните из Пасадены и Сан-Диего, вообще со всего округа, городские отряды, можете реквизировать автобусы. Что? Что?
Он побагровел еще больше.
— Там… то же самое?.. Пусть ищут! Почему они не шевелятся, идиоты? Поставить кордоны, проверять документы и пустить в дело радио. Все это блеф! Людей, имеющих машины, можно в конце концов отпускать, пусть едут к дья… что? Переодетый? Он может быть переодет? Что, я и этим тоже должен заниматься? Значит, тяните всех за бороды, а мне не забивайте голову ерундой! Это может вам дорого обойтись, напоминаю! Ладно, ладно.
Он бросил трубку.
Государственный секретарь перестал ходить по комнате и остановился около стола.
— Ну?
— С утра задержали шестьсот восемнадцать человек, — начал генерал.
— Можете не продолжать, понимаю, сплошные Фаррагусы! Хорошо. Ну, а еще что?
Зазвонил другой телефон. Государственный секретарь поднял трубку.
— Что? Белый дом? А?.. хорошо, жду. Канцелярия президента, — прошептал он в сторону Харвея, уничтожая его взглядом. Но тут же его лицо приняло другое выражение.
— Господин президент? Да, это я. Слушаю. Совершенно определенно. Мы не можем поднимать шума, поэтому действуем ограниченными силами, но зато это отборные отряды. Да. К вечеру он будет у нас в руках, совершенно точно. Я тотчас сообщу.
Он отложил трубку. Выражение самоуверенности, как по мановению волшебной палочки, слетело с его лица.
— Вот так. Уже Белый дом. Это будет стоить мне портфеля. Подумайте — третий звонок с утра! Какой скандал! Люди с ума сходят на улицах.
Снова зазвонил телефон.
— Я слушаю вас, мисс! Из британского посольства? Прошу передать, что я на совещании у президента, буду через час.
Телефон звякнул.
— Только этого не хватало… — начал государственный секретарь, но под странным, неподвижным взглядом генерала осекся.
— Что вы так смотрите?
— Простите… но если мы… не приведи господь… если нам не удастся его схватить, то ведь речь пойдет уже не о портфеле, а о… смерти…
— Что?
Государственный секретарь стоял, как громом пораженный. Наконец рассмеялся противным смехом.
— Мне это даже в голову не пришло, — признался он. — Ничего себе, хороши дела! Тридцать тысяч полицейских, три с половиной тысячи патрулей на радиомашинах, собаки, самолеты, геликоптеры — и не могут поймать одного старика с больным сердцем…
Телефон зазвонил еще раз. Генерал слушал рапорт так, словно из трубки ежесекундно выскакивало шило, жаля его в ухо.
— Ну, другого выхода у меня нет, — сказал он наконец, поднимая глаза на секретаря. Мне нужна армия, иначе я ни за что не ручаюсь. Секретарь уселся на стол и по-наполеоновски скрестил руки на груди.
— Пожалуйста. Делайте, что хотите.
Он склонился над столом, заваленным газетами с огромными красными и черными заголовками, игравшими свежей краской.
Теперь генерал набирал один номер за другим.
— Алло? Генерал Уилби? Господин генерал, я говорю из кабинета государственного секретаря Давье-са… Вы знакомы с положением, не так ли?.. Возникла паника… могут быть волнения, грабежи… у меня уже нет людей для восстановления порядка. Необходимы… да, вы меня прекрасно понимаете. Нет, не пехота. Я предпочел бы моторизованные отряды. Так будет лучше, не правда ли? Что вы сказали? Прекрасно.
— Что это? — государственный секретарь взглянул на часы. — Уже шесть. Осталось два часа?
Он открыл ящик стола, поискал таблетки от головной боли, сунул их в рот. Генерал положил трубку.
— Сумасшествие, — сказал он. — Сумасшествие. Если б хоть знать, как в действительности обстоит дело с этим проклятым генетоном.
— Половина специалистов утверждает, что это шарлатанство, а другая — что реакция возможна, — сказал государственный секретарь.
— А что говорит Гунор?
— Слышать о нем не хочу. Ведь по сути дела все это началось из-за него.
— Вообще-то все это затеял репортер.
— Как его там?
— Роутон, — бросил генерал, подняв трубку и покручивая телефонный диск.
— Верно. Его наконец взяли?
— Не знаю. Сейчас позвоню.
Генерал опять начал набирать номер.
Первым делом Роутон направился к междугороднему телефону. Через восемь минут его уже связали с редакцией. Передав балласт самых свежих новостей ротаторам, он почувствовал, что ему стало свободнее и легче. Полный бодрости и самых радужных надежд, он вышел на улицу и взглянул на удлинившиеся уже тени. Приближалось к шести.
«Прежде всего, — сказал он себе, — надо отыскать профессора. Можно будет взять дополнительное интервью. Правда, сама история со взрывом была бы сенсацией номер один, но если это действительно означает конец света, то уже некому будет читать специальный выпуск. Нет, этого мы не допустим. Только бы полиция не помешала…»
Роутон оглянулся. Прошло всего несколько часов с момента исчезновения профессора, а город уже кишмя кишел моторизованными и пешими патрулями. На каждом углу проверяли документы у людей, которым с виду было больше сорока.
Репортер вошел в небольшую кондитерскую. Ему всегда лучше думалось за мороженым. Поэтому он заказал фисташковое со взбитыми сливками и принялся размышлять:
«Собственно, можно было побежать за Фаррагусом. У меня было преимущество, потому что я выскочил через окно, — думал он. — Но сначала пришлось послать репортаж. Ну, еще не все потеряно. Паста свое дело сделает».
Он решил пока отложить розыски профессора. Надо было заняться и другими проблемами.
— Мисс, где здесь телефон? — спросил он, облизывая ложечку.
— Кабина вон там.
Репортер даже не прикрыл за собой дверцу. Набрал номер телефона квартиры доктора Грея и терпеливо ждал. Наконец в трубке послышался далекий голос.
— Алло, доктор Грей? Хорошо, что я вас поймал. Говорит профессор Гемпфри из Техаса. Коллега, я специально прилетел самолетом в связи с этим роковым генетоном… Вы меня не знаете? Нам не дано знать всех. Но, но, мне дорого время. Скажите, пожалуйста, как выглядела пробирка, в которой старик… то есть профессор Фаррагус держал свой порошок?.. Что? Да, это важно! Ага… стеклянная… а длинная? Хорошо. А порошок был белый, да? С оттенком или совершенно белый? Как соль? Прекрасно.
Грей принялся очень пространно объяснять.
— Увы, коллега, я не могу с вами встретиться. Я говорю из Главной квартиры шефа полиции… да. Я тоже поражен. Но в таком солидном возрасте, как мой… нет, нет. До свидания.
Буфетчица вытаращила глаза на репортера, который не обратил на это ни малейшего внимания. Он бросил на мраморную плиту стола доллар и остановился в дверях, чтобы спросить:
— Где тут ближайшая аптека?
— За углом.
— А продовольственный магазин?
— Рядом.
— До свидания. Да не подмешивайте в мороженое молока, а то вас пресса уничтожит.
Он купил в автомате две жевательные резинки, в киоске приобрел сигару и значок Клуба курильщиков, потому что он был весь золотой и очень массивный, пришпилил его к внутренней стороне лацкана и побежал дальше. B аптеке он не задержался. Только купил стеклянную пробирку с патентованной пробкой, потом попросил в магазине щепотку соли, отсыпал один грамм в пробирку, а остальное выбросил. «Армия стоит на равнине с развернутыми знаменами, — сказал он себе, — а теперь пора ринуться в атаку».
Он купил в книжном магазине план города и, быстро осмотревшись, заметил вдалеке большую рекламу магазина радиотехнических приборов. Взглянул на электрические часы над входом в подземку. Было тридцать минут седьмого.
«Немного поторопимся», — решил он и почти бегом влетел в магазин. В глубине из-за прилавка, увидев его, поднялся рыжий молодой человек в белом, элегантно скроенном пиджаке с перламутровыми пуговицами.
— Дайте-ка мне большой радиоактивный монитор — этакий счетчик Гейгера, понимаете? — сказал репортер, быстро обшарив глазами блестевший никелем и дорогими инкрустациями магазин. Рыжий продавец с сожалением покачал головой.
— Увы, все раскуплено… сегодня после обеда был большой спрос…
— И ничего не осталось?
— Ничего, — эхом отозвался продавец. Роутон, добродушно улыбнувшись, взглянул на него.
— Может, для простых смертных и не осталось, — сказал он очень тихо и спокойно, — но для меня-то, надеюсь, найдется. Ну, живо, молодой человек… а не припрятали ли вы чего-нибудь для себя на черный день? Или мне применить чрезвычайные меры?
Он слегка отогнул лацкан. Значок блеснул золотом и исчез. Продавец молча вышел в маленькую комнату, завешенную бархатной портьерой, и вернулся с небольшой, но явно тяжелой коробкой.
— Двадцать шесть долларов.
— Получите. Привет. Инструкция внутри?
— Да. До свидания. Благодарю вас.
— Не за что. Со счетчиком или без него, конец света выглядит одинаково, — бросил репортер уже через плечо. На улице он переложил аппарат в портфель и остановился, чуть присев, словно собирался дать пинка подъезжающему автобусу.
«Явление второе», — сказал он себе и вошел в магазин игрушек. Он пробыл там недолго — через минуту уже вышел с прелестным танком под мышкой. Этот танк, способный распалить воображение любого человека в возрасте до четырнадцати лет, был снабжен электрическим моторчиком и мог управляться на расстоянии.
— Теперь нам необходим медиум, — задумчиво сказал Роутон. Идя по улице, он заглядывал в ворота; наконец в одном из больших дворов заметил того, кого искал.
— Гарри, поди-ка сюда на минутку, — закричал он, останавливаясь в тени лестницы. Мальчуган лет шести в длинных ковбойских брюках, бегающий по двору с деревянным атомным пистолетом в руке — на его желтом, как лимон, свитере был намалеван кровавый тигр — остановился при звуке его голоса, а потом сделал несколько шагов в сторону ступеней.
— Я не Гарри, — сказал он сурово, исподлобья глядя на незнакомца.
— А кто?
— Том.
— Видишь ли, Том, тебе нравится такой танк?
Том сделал еще три шага и теперь оказался уже чересчур близко от чудесной игрушки, чтобы думать об отступлении. На его лице отразилось возбуждение.
— Это кому? — спросил он тихо.
— Тебе, — ответил Роутон. — Только ты должен мне помочь, понимаешь? Я — знаменитый сыщик. Ты, наверно, слышал о таких, а? Ну вот, это как раз обо мне. При помощи радиоактивных лучей я слежу за одним преступником, но один справиться не могу. Если ты мне поможешь, считай, что танк твой.
Наступило напряженное молчание.
— А не врешь? — прошептал мальчуган.
— Не вру. Порази меня гром, если я собираюсь тебя обмануть, Томми.
— Честное слово?
— Честное слово.
— А что мне делать?
— Прежде всего договоримся, — сказал репортер. Он открыл портфель и вытащил оттуда счетчик Гейгера. — Видишь, сынок, — говорил он, разрывая бумагу, — это наш гончий пес. Преступнику, которого я выслеживаю, я подмешал в сапожный крем радиоактивный препарат, благодаря чему мы сможем его где угодно отыскать при помощи вот этого счетчика Гейгера. Понял?
— Угу.
— Ну и хорошо. Только, понимаешь, я не могу бегать по улице с аппаратом на животе. Сообщники гангстера меня быстро засекут. Поэтому мне необходима твоя помощь. Гейгера мы засунем внутрь танка… вот так… ты пойдешь впереди, а я буду смотреть на стрелку, вот тут, на циферблате. Никто не обратит на это внимания. Самое удивительное в этой истории то, что я ее вовсе не выдумал. А теперь пойдем во двор… да, а где твоя мама?
— Она поехала к дяде и сказала, что вернется через час.
— Это нам подходит. Сейчас мы посмотрим карту… понимаешь?
Репортер разложил карту на крышке мусорного ящика. И долго молча изучал ее.
«Вероятнее всего, профессор облюбовал это место еще в кабинете, — рассуждал он. — Я полагаю, что он все хорошенько продумал. Оно должно находиться близко и в то же время быть таким, чтобы никто не мог ему там помешать. Ну, в качестве средства сообщения он может воспользоваться автомобилем — это, пожалуй, отпадает, велосипедом — тоже отпадает, потому что для блага человечества я проткнул ему камеры; ногами… Остановимся на ногах».
— Иди, сынок, — сказал он громко, — поедем в автомобиле в притон разбойника. Ты не боишься?
Малец взглянул на репортера с обидой и одновременно с восхищением. За углом поймали такси. Погрузив в него Тома и танк, Роутон вскочил на переднее сиденье, рядом с шофером.
— К университету, только быстро.
На углу площади, в некотором отдалении от здания Физического факультета, он расплатился с шофером и вылез вместе с Томом. Было еще, к сожалению, довольно светло, и поэтому пришлось прибегнуть к маскараду с танком и ребенком; в противном случае полиция быстро обратила бы внимание на его странные манипуляции. Танк, приведенный в движение, во хвалу фирмы, которая его изготовила, деловито погрохатывая, полз по асфальту, а Роутон вместе с малышом, которому приказал называть себя дядей, бежал за ним, ежеминутно поглядывая на циферблат радиометра. Скоро характерное подрагивание стрелки показало ему, что они напали на след. Профессор, оставляя следы радиоактивного йодистого калия, ушел из университета в сторону центра города. Это весьма обеспокоило и удивило Роутона, и его волнение достигло предела, когда оказалось, что следы совершенно явно ведут к ближайшей станции метро.
— Доконал нас противный старикашка, — зло проворчал репортер. — В метро с танком не заедешь. Придется снова пускать в ход мыслительный аппарат.
На скамейке ближайшего сквера он опять проанализировал положение по карте, в то время как Том, совершенно позабыв о его существовании, гонял с танком по газону.
Тем временем уже порядком стемнело. Роутон после глубокого раздумья вытащил аппаратик из танковой башни, сунул пустой танк пареньку в руку, похлопал его по щеке и побежал в сторону улицы, взмахом руки и пронзительными криками остановив одновременно два такси.
— На станцию, — бросил он шоферу. — На товарную, а не пассажирскую, — добавил он тут же.
— Хотите сбежать товарняком? Поздно уже — через полчаса восемь, — сказал шофер.
— За каждый совет вычитаю пять центов с таксы, — невежливо сказал репортер. — Поезжайте, куда вам говорят, иначе я ни за что не ручаюсь.
Перед товарной станцией он бросил приготовленную мелочь в раскрытую ладонь шофера и побежал так, словно под ним горела земля. Большие часы уже показывали без четверти восемь. «Массу времени загубил с пацаном», — ругал себя Роутон, когда, задыхаясь, перелез через высокую металлическую ограду. Он легко спрыгнул на деревянный грузовой настил. Пути, забитые вагонами, стояли тихие и безлюдные, только со стороны города долетал непрекращающийся гул и шум автомобилей.
«Почтенные люди разбегаются, и если бы не я, ничто бы им не помогло, — пронеслось у Роутона в голове. — А если мне не повезет, придется лететь в бесконечность».
Он опустил головку аппарата и, глядя на фосфоресцирующую в темноте стрелку, пошел так быстро, как только мог, стараясь описать возможно большую дугу. Он рассчитывал на то, что таким образом в каком-нибудь месте пересечет путь, по которому прибыл сюда Фаррагус, если он не ошибся в расчетах и старик действительно избрал местом последнего суда эту большую, заполненную вагонами и безлюдную станцию.
Без семи восемь капельки пота покрыли лоб репортера. Он пробежал уже три четверти своего маршрута, а стрелка прибора не дрогнула. Фонари появлялись все реже. Тут было уже почти совершенно темно. Наконец он уже едва мог идти: слабый свет давали только лампы путевых стрелок.
Неожиданно стрелка прибора затанцевала, и почти одновременно он заметил лучик света, падающего на гравий. Он глубоко вздохнул, беззвучно положил уже не нужный теперь аппарат на землю и выпрямился. Дверь одного из вагонов была прикрыта неплотно, из щели падал дрожащий желтоватый свет.
— Свеча, — сказал себе Роутон, и на душе у него сделалось так хорошо, словно вся она была выложена стодолларовыми банкнотами. Он на цыпочках подкрался к вагону и заглянул внутрь сквозь щель. За большим ящиком сидел профессор. На краю доски стояла грязная, довольно толстая восковая свеча.
«Громница»,[1] — подумал репортер. Рядом лежали часы, и совершенно явственно слышалось тиканье, усиленное резонансом пустого ящика. Фаррагус, сидя на грязном полу, опирался о край ящика и тяжело дышал. В руке у него была стеклянная пробирка. Бросив взгляд на часы, репортер увидел, что у него в запасе еще шесть минут.
«Не так уж мало, — подумал он, — но если бы тут стоял какой-нибудь полицейский, он наверняка с грохотом бросился бы в дверь, профессор сунул бы пробирку в огонь, и… пойте, хоры небесные. Надо придумать что-нибудь получше. Только бы, упаси боже, не испугать его. Жаль, я не прихватил шприца с водой: можно было бы погасить свечу».
Но шприца не было, а часы тикали. Дьявольски быстро, подумал Роутон.
Он заметил, что на противоположной стороне вагона, на высоте ящика, в полуметре от его края, чернеет прямоугольная щель, настолько широкая, что в нее можно было просунуть руку. Он на четвереньках пролез под вагоном. Оказавшись по другую сторону пути, он увидел, что находится на расстоянии вытянутой руки от головы профессора, сидевшего к нему спиной. К сожалению, выступающая доска заслоняла свечу и задуть ее было невозможно. Да и такой неожиданный поступок мог вызвать у профессора сердечный приступ. Репортер стоял неподвижно. Вдруг что-то мягко коснулось его ноги. В первый момент он вздрогнул. Потом пошарил рукой в темноте. Это был маленький худой котенок, который терся о его ногу, тихо мурлыча. Роутон поднял котенка, взял его на руки и начал нежно гладить.
«Кого любят старые засушенные книжные моли? — задумался он. — Котов любят. А посему иди спасать мир, кот!»
И Роутон мягко поставил котенка на краешек щели, легонько поддав ему под зад.
Котенок тихо мяукнул и вскочил в вагон, а репортер прильнул к дыре, наблюдая, что делается внутри.
Профессор вздрогнул, поднял руку с пробиркой, но, завидев кота, снова сел.
Что-то вроде усталой, горькой улыбки появилось на его сухих синих губах.
— Кс-с-с, — прошептал он. — Кс-с-с… киска…
Котенок подошел к профессору. Тот протянул руку. Трубка с порошком мешала ему, поэтому он положил ее на ящик. Пробирка блестела на расстоянии двух ладоней от репортера, у которого даже дух захватило. Он вытащил из кармана трубку с солью и приготовился к решающему удару. В левую руку взял камушек и перекинул его через крышу вагона. Раздался короткий стук, и профессор опустил котенка, невольно повернув голову в сторону источника звука. Длилось это самое большее секунду.
Потом профессор успокоился. Посмотрев на часы и, видя, что до восьми осталось еще три минуты, положил котенка на доски и протянул руку за пробиркой.
— Добрый вечер, — сказал Роутон.
Профессор подскочил, схватился за сердце и отступил к стене. Но уже в следующий момент взял себя в руки.
Схватил пробирку и поднес ее к пламени.
— Фу, вы собираетесь нарушить слово? — сказал репортер. — Но ведь… еще осталось три минуты.
Профессор изумленно вперился во тьму. Это, должно быть, какой-то дьявольски храбрый человек, если он осмелился так говорить, а может, у него есть даже револьвер, и сейчас он целится в него?
— Револьвер вам не поможет, — сказал он наобум. — Вы видите, дно пробирки в двух сантиметрах от пламени. Даже если вы выстрелите, я успею сунуть ее в огонь.
— Вижу, — ответил Роутон, — но у меня нет револьвера.
— Кто вы? Что вам надо?
— Я хотел с вами побеседовать.
— Отойдите.
— А не все ли равно, где встречать конец света? Почему бы нам не поговорить?
— Вы что, ошалели? Через две минуты произойдет нечто ужасное, нечто страшное — катаклизм, которого не знали ни звезды, ни люди.
— Хорошо, — сказал репортер, — с человечеством в порядке, но что вам надо от котенка?
— Что? Как?
— Чем провинился перед вами котенок, что вы и его хотите убить?
— Я… котенка?
— Профессор, а такой непонятливый, — материнским тоном сказал Роутон. — Ведь приканчивая Вселенную, вы и котенка тоже погубите.
— Вон! — закричал профессор, и рука, держащая пробирку, задрожала. — Идите прочь! Через полторы минуты… через полторы минуты…
Он тяжело дышал, блестящими глазами вглядываясь в часы. Большие капли пота выступили у него на лбу и стекали по лицу.
— Может быть, вы успокоитесь? — мягко сказал репортер. — Подумайте. Сколько прекрасных вещей есть в мире: птицы, горы, женщины, дети — большинство из них даже не знают, что должны умереть. Ведь это очень скверно: из личных побуждений, из гордости устроить конец света.
— Да вам-то что известно?! — буркнул профессор. Секундная стрелка обегала диск. Еще минута и двадцать секунд!
— Не столько, сколько вам, но все-таки кое-что мне известно. Подумайте о звездах. Тысячи людей смотрят на них каждую ночь. Мужчины, плывущие на океанских кораблях, эскимосы в полярных льдах… Негры… Почему вы хотите все это у них отнять? Отнять можно только то, что даешь, да и это нехорошо.
— Идите вы со своими проповедями, — выдохнул профессор, — а то… а то…
— Что — «а то»? Ведь вы и так собираетесь сделать черт знает что, так что уж хуже не будет. Вы серьезно собираетесь сунуть пробирку в пламя? Но, собственно, зачем? Ведь вы даже удовлетворения не почувствуете. Гунора вы не убедите — в лучшем случае превратите его в кучку пыли.
— Прочь! — рявкнул Фаррагус. Оставалось еще пятьдесят секунд.
— Успокойтесь. Я должен сказать вам кое-что весьма неприятное.
Профессор зловеще рассмеялся — если этот сдавленный, похожий на кашель звук можно было назвать смехом.
— Любопытно, что такое, по-вашему, неприятность для меня, — сказал он. — Но говорите быстрее, осталось еще сорок секунд.
— Не надо так спешить. У нас есть время. Так вот… только вы действительно приготовьтесь к скверному известию.
— Идиотизм. Вы меня на пушку не возьмете, — проворчал Фаррагус.
— А я и не пытаюсь. Я — Роутон из «Ивнинг стар», тот, что написал статью — помните?
— Ну и что? Только поэтому вы хотите, чтобы я не сунул пробирку в огонь?
— Ну… нет, но знаете, этот порошок в вашей пробирке… не совсем генетон.
Профессор резко поднес трубку к глазам.
— Лжете! Что значит «не совсем»?
— Ну, это я, чтобы вы не волновались… говорят, у вас сердце больное… я, видите ли, забрал ваш порошок.
— А это что? Уж не сахар ли? — ехидно спросил Фаррагус. — Ну, довольно. У вас осталось ровно столько времени, чтобы быстренько помолиться, если вы верующий. Мне это ни к чему.
Стрелка подходила к черте. Оставалось еще десять секунд.
— Нет, это не сахар, это соль, — сказал репортер. — Будьте осторожнее, когда станете совать пробирку в пламя, потому что соль стреляет, еще обожжетесь…
Фаррагус рыкнул и сунул стекло в огонь.
— Только спокойно… спокойно… — говорил репортер, словно ребенку. — Все будет хорошо… вот увидите.
Пламя охватило стекло, порошок действительно только потрескивал в пробирке. И все.
— Не взрывается… — простонал профессор. — Подлец, что вы наделали?!
— Я же вам говорил. Пробирочку заменил.
— Так это правда? Когда?
— Минуту назад, когда вы отвернулись. Это я бросил камушек. Да вы не волнуйтесь. Генетон — наверняка прекрасное изобретение, только лучше уж его не испытывать.
— Действительно, не взрывается… — профессор еще глубже засунул пробирку в огонь.
— Я еще никогда не видел, чтобы соль взрывалась, к тому же такая чистая… Вам плохо? — сказал репортер. Он молниеносно пролез под вагоном на другую сторону пути, изо всей силы толкнул дверь и вскочил в вагон.
Фаррагус издал глухой крик, закачался и упал. Его рука инстинктивно потянулась к карману. Репортер поддержал его, всунул руку в карман профессора и, найдя там флакончик с лекарством, силой влил лежащему без сознания Фаррагусу в рот несколько капель. Вскоре профессор начал дышать спокойнее.
Когда он открыл глаза, то увидел, что сорочка у него расстегнута, а под голову засунуто что-то мягкое — пиджак Роутона. Что-то теплое согревало ему сердце. Профессор протер глаза — кот. Это было дело рук Роутона.
— Страшно нервные вы, ученые, — сказал Роутон. — Ну, уже лучше, да? Пойдем баиньки! А может быть, вы скажете что-нибудь интересное нашим читателям? Я сейчас бегу к телефону. Будет чрезвычайный выпуск. Впрочем, это не обязательно, пусть это вас не волнует, уж я что-нибудь придумаю за вас.
— Обокрал меня, обокрал меня… — шептал профессор, не имея сил, чтобы подняться. — Уйдите… уйдите… что за муки!
Он прикрыл глаза и лежал словно мертвый. Слезинка выкатилась у него из уголка глаза и сбежала на грязный пол.
— Да, обокрал, — деловито произнес репортер, — но мне сдается, я поступил правильно. Впрочем, с этим вы и сами позже согласитесь. Он встал.
— А теперь потихоньку пойдем к ближайшей стоянке такси, — сказал он, — а кота я советую вам прихватить с собой. Все-таки близкая душа. Я сам охотно взял бы его, но у меня такая злющая хозяйка. Она может его обидеть.
— Куда вы дели мой генетон? Что вы с ним сделали? — шептал профессор, пока репортер помогал ему встать.
— Порошок-то? Никуда пока еще не дел. Тут он — в карманчике для часов. Я, наверное, получил бы за него и миллион, да это не мое. Я отдам его вам, но, разумеется, только тогда, когда вы дадите мне честное слово — а? В связи с этим концом света у меня были некоторые расходы: танк влетел мне в шесть долларов, счетчик Гейгера почти в тридцать, мороженое, такси — да и радиоактивная паста тоже на улице не валяется, — но это уж мое дело. Вы мне дадите только слово. Вы это сделаете — правда? Вашего слова мне достаточно.
Чеслав Хрущевский
Игра в индейцев
В штабе только что кончилось совещание, и генерал Лимерик Хаттон шел по улице, насвистывая. Настроение было отменное: после семичасовой дискуссии утвердили его план «Розовые облака», дьявольски хитроумный план атомного удара. Начальник штаба армии, генерал Хаттон, ликовал как ребенок. «Кстати, о ребенке, — вспомнил он, — что там поделывают мои сорванцы, Джек и Кэтрин? Разумеется, исследуют местность».
Хаттон с детьми на прошлой неделе приехал сюда, в горы Колорадо. Было принято такое решение — сто тысяч высших офицеров и крупных специалистов должны вместе с семьями поселиться в городе, которого не было ни на одной карте и который официально просто не существовал. Среди гор, в лесных дебрях, в каменных гротах, под землей и даже на дне озера было возведено несколько тысяч строений. Деревянные домики в норвежском стиле маскировали входы в подземные сооружения, где располагалась штаб-квартира командования и множество электронно-вычислительных машин. Генерал шел по улице между домиками. На полянке в глубине леса для начальника штаба и его семьи построили двухэтажную виллу, прямо-таки игрушечку. На ставнях вырезаны сердечки, на подоконниках горшочки с геранью, веранда, завалинка, перед завалинкой качалка. Жена ликвидировала дом в Вашингтоне. Надо сказать, делала она это с большим нежеланием, без спешки.
— Не переношу сельской жизни, — сказала она мужу.
— Этот городок расположен в прекрасном месте, — заверил ее генерал.
— Не переношу прекрасных мест.
— А какой воздух! Сущий бальзам!
— Не переношу бальзама! У меня аллергия ко всяким бальзамам. Здесь у нас был открытый дом, а там… там… — говорила она, повышая голос. — Там все будет закрыто.
— Не все, — поправил генерал. — Только определенные объекты по вполне понятным причинам.
— Не понимаю ваших вполне понятных причин, — миссис Хаттон действительно не могла понять, почему нормальные люди выезжают из роскошных резиденций бог знает куда и зачем, подвергая лишениям своих ближних.
— Это необходимые учения, — объяснял генерал. — Деталь оборонительных маневров. Мы должны испытать все.
— И как долго продлится это испытание?
— Три—четыре месяца, — гладко солгал генерал. Он прекрасно знал, что пребывание в этом необычном городке затянется самое малое на год.
Генерал забрал с собой сына и дочь. Они выехали на следующий день после описанного разговора. Было решено, что миссис Хаттон присоединится к семье несколько позже. Мысль об этом еще больше подняла настроение начальника штаба, он ускорил шаг и через несколько минут уже поднимался на веранду деревянной виллы.
Джек и Кэтрин играли в индейцев. Ординарец генерала доложил, что все в порядке, за исключением какао.
— Какао? — удивился Хаттон. — Что это значит: за исключением какао?
— Перед вашим приходом, генерал, на виллу напали индейцы, я защищал запасы какао как мог, но под натиском превосходящих сил краснокожих пришлось отступить. Они опустошили чулан, прихватив сорок банок какао.
— Но ведь они не любят какао!
— Именно поэтому они и реквизировали все запасы. Банки открыли и посыпали порошком какао окрестные дорожки.
— Кретин, — буркнул генерал. — Из тебя такой же солдат, как из… — Хаттон не договорил, потому что в кухню ворвались индейцы.
— Сдавайся, генерал! — крикнул Джек. — Ты наш пленник!
Кэтрин накинула на отца лассо. Но хорошее настроение не покидало генерала. План утвержден, жена в Вашингтоне, дети в полной форме. Он позволил вывести себя на полянку. Ординарец шел следом, думая о том, что он по горло сыт проделками этих верещавших сорванцов и что в столовой подают сардельки и пиво.
— Ты что такой грустный? — спросил Хаттон. — Играть не умеешь?
— Так точно, не умею, сэр!
— Ну, тогда отправляйся в столовую и не порти нам игру. Кругом, марш!
Ординарец отдал честь и четко выполнил приказ. Индейцы завели пленника в палатку-вигвам.
— Поговорим, — начал Джек.
— Охотно. О чем, сынок?
— Я вождь племени киова-команчей.
— А Кэтрин?
— Она вождь племени крик.
— Чудесно. О чем будем беседовать?
— О рае, — объяснил вождь.
— О рае? — рассмеялся генерал Хаттон.
— Мы собираемся говорить серьезно, — Кэтрин затянула ремень на руках отца. — Ты пленник и должен отвечать на все наши вопросы. Мы хотим знать, как обстоят дела с раем.
— Как обстоят сейчас и что будет потом? — уточнил Джек, стягивая ремнем ноги генерала.
— Человек по-разному представляет себе рай, — начал Хаттон. — Осторожно, сынок, порвешь мне носки. Пленного, конечно, полагается связывать, но излишнее усердие, мне думается, ни к чему!
— Нет пощады бледнолицым! — проговорила Кэтрин. — Говори — что представляет собой рай?
— Когда я был ребенком…
— Ты был ребенком? — прервал Джек. — Не помню.
— Он был ребенком, когда нас еще не было, — объяснила Кэтрин. — Не будем мешать. Пусть говорит.
— М-да. Сначала я представлял себе, что в раю нет школы, не надо учить уроки, никто не заставляет мыть руки. Потом я немного поумнел и в офицерской школе думал о рае уже несколько по-другому.
— Как?
Индейцы были безжалостны.
— Я был уверен, что в раю нет ни офицеров, ни унтер-офицеров. Зато есть красивые девушки, с которыми можно танцевать и кататься в лодке по пруду. Потом картина рая в моем представлении опять изменилась.
— Это когда же? — допытывался Джек.
— Когда я стал офицером-профессионалом. В раю, в моем новом раю, не было офицеров старше меня чином и некоторых родственников вашей мамы. Не было также штатских.
— Ну, а теперь? — допытывалась Кэтрин. — Как ты теперь представляешь себе рай?
— Как генерал, — добавил Джек. — Как начальник штаба.
— Честно говоря, теперь мне некогда думать о рае, — Хаттон беспокойно пошевелился. Связали его крепко. Он почувствовал легкую боль в области сердца. Индейцы очень интересовались проблемой рая. Вождь команчей повторил вопрос, и генералу пришлось продолжить.
— Сейчас я представляю себе рай так, как и все взрослые мужчины. Удобное кресло у камина. Трубка и стаканчик чего-нибудь покрепче.
— В раю никто никому не может сделать ничего плохого, — сказала Кэтрин.
— Никто никому, — подтвердил генерал.
— У тебя волос не упадет с головы.
— Да, да.
— А здесь, на Земле? — спросил Джек.
— Ну, по-разному бывает, — ответил Хаттон, который начал всерьез беспокоиться.
— Когда-то ты сказал, — напомнила Кэтрин: — «Наша жизнь — истинный ад».
— Я так сказал? — неискренне удивился генерал.
— Это еще что! Ты сказал, что всех вы не сможете отправить в рай, а те, которые останутся здесь, пожалеют, что когда-то родились. Мы ни о чем не хотим жалеть, — закончил вождь команчей и вынул из кармана онемевшего отца связку ключей. — Мы войдем в укрытие под деревянным домиком, — спокойно сообщил он. — Мы знаем пароль, открывающий бронированные двери. Ты разговариваешь во сне, Кэт подслушала. Мы записали на магнитофон твой голос, твои команды, когда ты учил нас обращаться с оружием. Несколько дней назад ты сказал: «Внимание! Подготовить пусковые установки!..» Мы приготовили наши луки, а ты и говоришь: «Запал!» Кэтрин спросила, с атомными ли боеголовками. Ты ответил: «Снять предохранители атомных боеголовок!» А потом стал считать: «Десять, девять, восемь, семь…»
— Вы спятили! — завыл Хаттон. — Немедленно развязать! Слышите? Рязвязать!
— Мы знаем пароль, который открывает другую дверь, подключает автоматические телефоны к шести твоим друзьям-генералам и подает сигнал тревоги, — продолжал Джек.
— Нет! Нет! — взвизгнул генерал. — Вы не имеете права этого делать! Это шутка, ну скажите, что это шутка…
— Нет, не шутка! Мы тоже хотим в рай! В раю лучше, чем здесь. Мы встретимся с тобой у камина. Мы боимся ада, ты даже не представляешь себе, как мы его боимся! Подай мне второе лассо, Кэт. И носовой платок. Надо заткнуть ему рот.
Генерал Хаттон лежал в палатке. Связали его крепко, со знанием дела. Индейцы хорошо овладели искусством связывания бледнолицых.
Джек открыл дверь в подземный туннель. Кэтрин несла магнитофон. Они шли молча, сосредоточенные и возбужденные.
Перед дверью, ведущей в пункт управления, сидел дежурный офицер. Он знал генеральских детей и рассмеялся, увидев на них индейский наряд.
— Большой вождь идет по тропе войны? — спросил он Джека.
— Телефон испортился, — ответил мальчик. — Ординарец пошел в столовую, поэтому отец прислал нас. Он хочет с вами поговорить. Мы встанем у двери и никого сюда не пустим. Хорошо?
Офицер махнул рукой.
— Присматривайте. Этой двери сам черт не откроет. Только ваш отец знает пароль. Ну, я пошел.
И он ушел. Они подождали, пока не умолкнет эхо шагов. Пароль был: «Седьмой день недели — понедельник». Джек забрался в кресло, прикрыл рот платком и произнес пароль по возможности низким голосом. Дверь тут же подалась. Вторую дверь открыли с такой же легкостью. Вошли в зал электронно-вычислительных машин. Загорелись лампы. Дети услышали голос: «Пароль».
— Начало тридцать второго июля, — сказал Джек.
Тогда противоположная стена раздвинулась, и они увидели пожилую женщину за небольшим столиком.
— Что вы здесь делаете? — изумленно крикнул Джек.
— Работаю. Я секретарша вашего отца. Вчера господин генерал был очень утомлен, и пока я просматривала секретные папки в соседней комнате, вышел, забыв обо мне. Я знала, что рано или поздно кто-нибудь сюда заглянет. Странно, что он позволил вам… — она замолчала.
Это была энергичная, деятельная женщина. Она заметила смущение детей, магнитофон в руках Кэтрин, ключи…
Воинственных индейцев заставили покинуть подземелье. Позже поговаривали, что генерал Лимерик Хаттон подал в отставку, да чего только люди не скажут!
Чеслав Хрущевский
Барабара
Конверт был внушительный: большой, тяжелый, весь в сургучных печатях. Мы взвешивали его на ладони, рассматривали на свет, перебрасывались лаконичными замечаниями вроде: «Ну и ну!», «Хо-хо!», «Вот это да!», выражали изумление, удивление и бог весть что еще — разве можно передать словами душевное состояние людей, в руки которых неведомо как попало таинственное письмо. Ни одному из нас не было известно, кто его принес, кто положил на стол. Раз в неделю вертолет доставлял на искусственный остров пресную воду, овощи, фрукты, консервы и почту. Раз в неделю — по субботам. В среду — никогда. Самолет тоже отпадал: мы бы наверняка услышали шум моторов. Самолет не комар.
Одиннадцать мужчин искали нефть на дне океана, все отличались завидным здоровьем, никто не страдал галлюцинациями. Откуда же, черт побери, взялось письмо?!
На конверте адрес:
Королевская канцелярия
Начальнику канцелярии, генерал-майору Фердинанду Дъе
Вскрывать или не вскрывать? Начальнику канцелярии! Сюда — в океан? Абсурд! Мы решили вскрыть конверт и прочитать письмо.
В конверте оказалось несколько десятков страниц, отпечатанных на машинке. Вот они без всяких комментариев.
Господин генерал!
Четвертого августа сего года решением Правительства Его Королевского Величества была создана Чрезвычайная комиссия по расследованию дела под шифром «НА». Я был назначен председателем комиссии и незамедлительно приступил к работе.
Настоящим имею сообщить, что 15 сентября сего года комиссия успешно окончила работу.
При сем препровождаю подробный отчет, содержащий:
а) описание событий, столь сильно взбудораживших общественное мнение страны и мира;
б) показания свидетелей и заинтересованных лиц;
в) протоколы экспертизы;
г) мои комментарии.
С чистой совестью могу заявить, что мы сделали все, дабы как можно детальнее восстановить действительный ход событий.
В интересах истины приходилось открывать двери частных домов и дверцы тюремных камер, врата дворцов и ворота крепостей.
Господин генерал!
В соответствии с Вашими пожеланиями доклад отпечатан в единственном экземпляре, без копий. Я лично следил за соблюдением абсолютной секретности, так как понимал, что малейшая неосторожность может привести к разглашению государственной тайны.
Отчет в опечатанном конверте Вам вручит специальный курьер.
Председатель Чрезвычайной комиссиид-р Иоахим Анн
Второго июля сего года я получил от коменданта шестого форта, капитана Дорна, письменный приказ:
«Разведать участок А-6 второго квадрата. Патруль — пять человек. Возвращение в семнадцать ноль-ноль».
Затем капитан позвонил мне:
— Возьмите машину. В районе оазиса Гу-ну рыскают отряды черных. Будьте максимально осторожны. Желаю удачи.
Мы отправились в три часа пополудни. Через час сержант Сэм, наблюдавший за окрестными холмами, воскликнул:
— Господин лейтенант! Человек!
Я остановил машину, солдаты выскочили на шоссе. Кто-то, не помню кто, сказал:
— Негр.
— Убегает, — добавил другой.
— Нет. Бежит в нашу сторону.
Через несколько минут к нам подбежал чернокожий гигант не менее двух метров ростом. Я никогда не ошибаюсь в таких вещах. Заинтересованные, мы глядели на гиганта, а он щерился и рассматривал нас с неменьшим интересом.
— Как тебя зовут? — спросил я. — Куда и откуда бежишь?
Он молча улыбнулся.
— Не понимает, — проворчал капрал. — Ни словечка не понимает.
Я повторил вопрос на языке суахили, руунде и на наречии батути, однако негр упорно молчал, и я подумал, что он просто не хочет говорить при свидетелях.
— Потолкуем в форте. Садись в машину.
В семнадцать ноль-ноль я доложил капитану:
— Мы поймали в пустыне черного Геркулеса.
— Геркулеса, говоришь?
— Два метра ростом, ей-богу, капитан!
— Покажи…
Пять солдат ввели негра. Комендант поморщился.
Мой начальник с трудом переносил мучавшие его боли желудка и совсем не переносил черных. Просто не переваривал! Кроме того, он терпеть не мог людей, которые были выше его ростом. Он обожал ботинки на высоких каблуках, однако никакие каблуки не могли спасти его от комплекса, так сказать, «малорослости».
Не удивительно, что негр-гигант вдвойне разозлил его.
— Что он делал в пустыне?
— Бежал, — ответил я, не погрешив против истины.
— Бежал? Ты хотел сказать — убегал?
— Никак нет, мчался, как дьявол, но не убегал.
— Бежал… мчался… не убегал… Подозрительная история. Ты уже допросил его?
— Он не желает говорить.
— Может, не понимает?
— Я знаю четыре негритянских наречия, капитан.
— Стало быть, не желает понимать. Он знает, что ему грозит? Ведь он крутился неподалеку от форта.
— Я сначала показал ему кулак, потом палку, наконец, револьвер, а он глядел на меня и улыбался.
— Сукин сын! Слышишь? Сукин ты сын! Шпион! Взвод стрелков, стройсь! Вывести арестованного!
Мне казалось, что черный гигант или не понимает серьезности ситуации, или сознательно игнорирует опасность. Он позволил подвести себя к стене. Добродушно улыбаясь, рассматривал солдат, выстраивавшихся в две шеренги. Он даже глазом не моргнул, когда первая шеренга опустилась на одно колено и шесть человек щелкнули затворами.
— Взвод, смирно! — скомандовал капитан Дорн. — Будешь говорить? Нет? Тем лучше! Терпеть не могу ваше бормотание. Ты куда смотришь?
Негр поднял голову. Посмотрел в небо. Я подумал, что он спятил со страха. Считает звезды!
— Там, наверху, ничего нет! — пронзительно кричал капитан. — Ничего! Смотри сюда! Один карабин, два, три, один, два, три. Шесть карабинов. Каждый выстрелит по одному разу, и ты будешь шесть раз убит. Голова, сердце, живот, живот, сердце, голова — через шесть дыр вытечет твоя жизнь. Что? Ах, ты молчишь?! Еще десять секунд! Последняя возможность. Ну, говори же, идиот! Оправдывайся! Моли о пощаде! Ну! Четыре, пять, шесть, семь, восемь… девять, десять! Взвод, к но-ге! Отвести арестованного в камеру!
Комендант расхохотался. Однако я — то знал, что он дьявольски взбешен. Испытанный метод на сей раз дал осечку. Негр оказался не из пугливых.
В семь вечера я заглянул в казино. Капитан, нахохлившись, сидел за офицерским столиком и, завидев меня, крикнул:
— Марис! Садись! Поужинаем вместе!
Подавив вздох, я сел, а капитан продолжал:
— Я голоден, как черт! Заказал бифштекс. Ничто так не успокаивает нервную систему, как бифштекс.
— А желудок? — участливо спросил я. — Как с желудком, капитан?
— Бифштекс и мертвого поднимет на ноги, хорошо прожаренный кусок говядины — лучшее лекарство. О чем, бишь, я толковал? Ах, да, о лекарстве. Я вылечу этого негритоса. Он еще заговорит. Готов спорить на что угодно. Ну! Хе-хе! Боишься?
— Знаю, что проиграю.
— Проиграть начальству — удовольствие, шик, честь! Многие из моих подчиненных мечтают о такой возможности. Поспорим на бутылку коньяку.
— Так точно!
— Что еще за «так точно»? Давай лапу! Сержант Сэм! Ко мне! Разними! Кругом марш! Не ты, Марис! Ты оставайся. Послушай, я развяжу ему язык. Угостим подлеца спиртом. Запоет соловьем!
— Будем надеяться.
— Запоет, запоет! Клянусь коньяком!
Комендант замолчал. Солдат в белом фартуке принес бифштекс, наполнил рюмки.
— Блеск, — причмокнул Дорн. — Блеск, говорю. Пей! Набирайся сил. За мое здоровье!
Я выпил.
— Ты мировой парень, — расчувствовался капитан. — Но тряпка! Пудель! Задрипанный артист! Шесть лет мы жаримся в пустыне, на африканской сковороде, словно… словно… этот бифштекс… Шесть лет на службе у короля… И что же? Ничего! О нас забыли, Марис! Ну, то, что забыли о тебе, — правильно: у тебя ведь нет гонора. Но у меня-то есть! Поэтому я получу повышение, орден. Когда? Скорее, чем ты думаешь! Почему? Потому что я поймал опасного шпиона. Усек? Я ждал случая шесть лет. Этот черномазый поможет мне осуществить мечту. Пошли, Марис. Заглянем к нему.
Капитан прихватил флягу со спиртом, и мы отправились. Коньяк ударил ему в голову. Он с трудом спускался по лестнице. Около камеры номер семнадцать остановился и шепнул:
— Посмотри, что он делает.
— Спит, капитан.
— Ну, тогда открывай.
Негр лежал на циновке. Дорн вытащил из кармана наручники и сказал:
— Надень-ка ему браслеты. На всякий случай.
Я выполнил приказ без особого удовольствия: не люблю таких методов. Капитан превысил свои права. Негр спал крепко, но наконец он проснулся. Украшения на руках заинтересовали его. Он поднес их к глазам, потер о щеку, потом с улыбкой взглянул на нас. Я отдал бы голову на отсечение, что в этот момент он подумал: «Что вам, собственно, надо? Что за странная игра?»
— Давай флягу, Марис! Наполни чарки! Выпьем! — комендант одним глотком осушил свой стакан. — Бери пример с меня! Пей!
К моему удивлению, черный гигант не отказался. Выпил, глубоко вздохнул и заглянул в пустой стакан.
— Просит еще, — обрадовался Дорн. — Ну, пей до дна! Прекрасно! Отлично! Теперь слушай! Если будешь молчать, повесим, как собаку. Утром пойдешь под суд по обвинению в шпионаже.
— Не понимает.
— Не понимает? Может, и так. Марис, покажи свое искусства.
— Искусство, капитан?
— Ну, на гражданке ты малевал бездарные картины. Нарисуй виселицу. Он должен понять. Принимайся за дело!
Я вырвал из блокнота страничку и несколькими штрихами изобразил виселицу и висящего на ней черного человека, а капитан все причитал:
— Запоет! Уверен, что запоет! Поторопись, Марис!
— Готово, капитан.
— Покажи. Недурно! Сейчас он поймет, что к чему!
Черный внимательно посмотрел на рисунок, улыбнулся, потом уже без улыбки вернул листок коменданту.
— Идиот! Кретин! — надрывался Дорн. — Не разбирается в искусстве! Бездарь! Встань! Встань, когда говоришь с начальством!
Негр даже не дрогнул.
— Встань, пожалуйста, — сказал я. — Если ты понимаешь значение этих слов, встань.
Гигант взглянул на меня и вскочил с циновки.
— Марис! — зарычал комендант. — Он отлично знает наш язык! Вот это фрукт! Дай ему в харю, Марис! Выполняй приказ! Не можешь дотянуться? Встань на табуретку. Пусть он не глядит на белого свысока! Мне вторую табуретку. Черт… а, черт! Что он делает?
— Разрывает наручники, капитан.
— Крикни часовых! Он бросится на нас… Стреляй! Стреляй! Позже капитан сообщил, что заключенный хотел его убить.
Со всей ответственностью заявляю: мой начальник, вероятно, под влиянием коньяка несколько сгустил краски. Негр разорвал кандалы, кинул их под ноги Дорну и спокойно улегся на циновке. Мы вышли из камеры. В коридоре капитан осыпал меня ругательствами, обвинил в трусости и нарушении субординации. Только вечером к нему вернулось приличное настроение.
— Прости, прости, — говорил он, хлопая меня по плечу. — Я напрасно взвился. Виноват бандит. Он и ангела выведет из терпения. Напиши в протоколе, что черномазый признался во всем, раскололся под огнем перекрестных вопросов.
— Но он не сказал ни слова!
— Ты отвратительный переводчик! Я-то его понял! Он признал свою вину, молил о пощаде. Так и запишем. Я уже вижу заголовки в столичных газетах: «Капитан Дорн поймал опасного шпиона», «Белый Давид победил черного Голиафа». Провидение дало мне в руки этого гуся. Меня называли «маленький капитан». Завтра вы скажете: «маленький майор», послезавтра — «маленький полковник», «маленький генерал». Пиши протокол, Марис!
Ответить я не успел. На улице затрещали винтовочные выстрелы. Капитан с криком «Тревога! К оружию! Черные наступают!» выбежал из комнаты.
Объяснения мы получили от спокойного, как всегда, сержанта Сэма:
— Никто не нападает. Стреляют, потому что черный исчез.
— Сбежал?!
— Никак нет — исчез. Решетка в окне цела, замок в двери не тронут.
— Организовать погоню!
— В каком направлении?
— Во всех направлениях!
Один из часовых сообщил, что за стеной форта на песке виднеются следы босых ног. Два взвода, прихватив собак, отправились в погоню.
— Не помню, сколько было времени. У меня нет часов. У меня никогда не было часов. Мы с женой сидели перед шалашом. За день до этого белые солдаты сожгли деревню. Негры убежали. Куда?.. Переплыли малую воду и скрылись в джунглях. Да, господин, а мы остались. Нома сказала, что белые не причинят нам зла, потому что в наших жилах течет и их кровь. Я всегда слушаюсь жены. Это очень умная женщина. Она никогда не болтает попусту, но в тот вечер разболталась не на шутку. Когда она наконец замолчала, я услышал лай собак.
Тут Нома и говорит:
— Сохрани нас Великий и Добрый Дух. Белые преследуют черного.
— Откуда ты знаешь? — спрашиваю.
— Было три выстрела.
— Я, — говорю, — не слышал ни одного.
— Значит, ты глухой. Кто-то сбежал из тюрьмы. Собаки, — говорит, — на белых не лают. Смотри, Барути! Человек бежит! Негр!
Да, господин, это был негр. Большущий, широкоплечий верзила. Нома отвела его в шалаш. Я был против: не люблю встревать в чужие дела. Я пытался втолковать жене, что собаки его легко обнаружат, мы подвергаем себя большой опасности.
— У страха глаза велики, — говорит она. — Ляг, Барути. Ляг так, чтобы солдаты увидели твои почти белые ноги. Я скажу: «У моего мужа проказа». Они боятся Мбубы. Ну, ложись.
А что я мог сделать, господин? С одной стороны, солдаты, с другой — негр, который мог убить одним ударом кулака. Нома вышла из шалаша. Потом я услышал голос лейтенанта Мариса:
— Как сквозь землю провалился! Опять исчез!
— Кто, господин?
— Черный. Опасный бандит. Ты его не видела, Нома?
— Нет!
— Чьи это ноги?
— Моего мужа, господин. У него проказа. Умирает.
Что было потом? Собаки увели отряд в другую сторону. Чудеса, да и только!
— Странно, — говорю я жене. — След-то вел прямо в шалаш.
— Он обманул собак, — говорит Нома. — Этот человек — Великий Чародей. Он, — говорит, — мой сон. Я, — говорит, — столько ночей видела во сне, как Великий Черный пришел к нам в шалаш.
— Офицер, — говорю, — кричал, что это бандит.
— Офицер врал.
— Пусть твой негр сам скажет, что офицер врал. Почему, — говорю, — он не отвечает?
— Может, не знает нашего языка. Ты понимаешь, о чем мы говорим?
А негр, господин, улыбается, но молчит.
— У него губы потрескались от жары, — говорит моя жена. — Дай ему воды, Барути.
Большой негр выпил воды. Тогда Нома говорит:
— Он голоден.
— Мы и сами, — говорю, — со вчерашнего дня ничего не ели.
— Он сделает так, что мы будем сыты и богаты.
Я, господин, не мог поверить. Я никогда в жизни не видел чародеев. Почему немой гигант бежал от солдат? Ведь он мог их заворожить, мог просто исчезнуть. А он почему-то взял да и спрятался в шалаше. Чего ради? Ему нужна была наша помощь. Я подумал, что неплохо бы выяснить, на что он способен. Мы спасли ему жизнь, и теперь он должен выполнить любое наше желание.
— А недурно бы съесть кусочек жирной баранины, — говорю я Номе.
Она прикинулась, будто не слышит.
— Перевезешь его через Горячую реку, — говорит. — Солдаты могут вернуться с минуты на минуту.
— Я плохо себя чувствую, — говорю. — Очень плохо. Мне и весел-то не удержать.
Честно говоря, господин, я чувствовал себя совсем неплохо, и Нома прекрасно знала об этом.
Она умная женщина, господин. Нома решила любой ценой спасти великана и сказала мне, что, если я не хочу помочь ей, она сама перевезет его через Горячую реку. Они дождались, когда луна спряталась за тучу, и вышли из шалаша. Прошел час, может, полтора или два. У меня нет часов. У меня никогда не было часов… Наконец Нома вернулась.
— Что с черным? — спрашиваю.
— Солдаты забрали лодку, — отвечает, — и мы перебрались через реку вплавь. Я чуть было ни утонула, но он вовремя заметил, что я слабею. Он сильный, как лев. Да что там лев! Он сильнее льва! Держал меня за руки, а сам плыл на спине. Выбрались на другой берег. Я проводила его до негритянского поселка. Там нас приняли как родных. По ту сторону реки живут добрые люди.
— Может, и добрые, — говорю. — Ну, продолжай.
— Я сказала им, что Великий убежал от солдат, что за ним гнались собаки, но перед нашим шалашом они потеряли след… Потом негры дали нам два кокосовых ореха. Пришла сестра вождя племени, у которой луна мозги в голове перевернула.
— Мафута?
— Да, Мафута. Пришла и говорит: «Она жирненькая, как поросенок, моя луна. Поэтому я ем ее по кусочкам. Смотрите, вчера отгрызла четверть, сегодня четверть. Осталась половина. Завтра съем остальное. Мафута любит есть луну. Хорошая, жирная луна». А сама хихикает.
Вождь крикнул, чтобы она замолчала, а я попросила Великого: «Мафута больна. Дотронься пальцем до ее головы, и она выздоровеет».
Я дважды повторила свою просьбу, и тогда он дотронулся пальцем до лба Мафуты, и она тут же перестала хихикать. Мы услышали, как она говорит: «Хочу спать. Проводите старую Мафуту в бунгало, Я не спала столько ночей. Чего вы ждете? Мбуми, я хочу спать».
Впервые за восемь месяцев она назвала своего брата по имени. Великий Черный вылечил ее.
— Ты, — говорю я, — рассказываешь удивительные вещи, Нома.
— Это еще что! После выздоровления Мафуты все начали говорить наперебой. Каждый о чем-нибудь просил.
— А он?
— Он молчал. Только улыбался. Наконец Мбуми утихомирил раскричавшихся негров. «Я знаю, что ты устал, — сказал он Великому. — Но голод хуже усталости. Ты должен накормить все селение».
— И он накормил? — спрашиваю.
— Он проводил нас на Белую поляну. Там под одним из деревьев лежало несколько мешков с мукой и сушеным мясом.
— Вот те раз! — говорю.
— Ей-богу! Я видела это собственными глазами. Мбуми приказал бить в барабаны. Чтобы все знали, кто пришел в их селение. Я слышала, как он сказал Великому: «Ты — Багени, гребец. Великий гребец, который переплыл Барабару… Великий Млечный Путь… Мы построим тебе в самом центре деревни прекрасный дом. Под крышей поставим кресло из слоновой кости. Ты сядешь в него и будешь исполнять наши желания. По три желания в день».
— А потом?
— Потом Великий Черный встал и вдруг исчез.
— Исчез? Нома, но это невозможно! — говорю.
— И все же он исчез. Мы обыскали заросли. Мбуми нашел два отпечатка его ног. И больше ничего. Багени опять пошел по Великому Пути. Ушел туда, откуда явился. А я вернулась к тебе. Переплыла Горячую реку в лодке, которую дал мне вождь.
Вот, господин, что рассказала Нома, когда возвратилась из негритянского поселка. Больше я не видел Великого Багени. Только слышал барабаны черных… Тамтамы говорили: «Ищите Великого Багени… Ищите Великого Багени, который вылечил больную Мафуту и накормил весь поселок… Ищите Великого Багени, который переплыл Барабару!»
Председатель комиссии обратился ко мне с просьбой:
— Профессор, мы будем благодарны, если вы как можно подробнее опишете свою встречу с Большим негром. Нам чрезвычайно важно знать мнение человека, пользующегося заслуженной репутацией крупного ученого.
Признаюсь, этот комплимент был мне приятен. Видимо, потому я и отступил на сей раз от правила: «Пиши о том, в чем разбираешься». До сих пор основными героями моих «произведений» были метеориты. Им я отдал тридцать лет жизни, посвятил двести научных трудов. О людях я не писал никогда. Человек — тема трудная. Я всегда предпочитал анализировать камни. Вероятно, потому, что они никогда не пытались со мной спорить. Мои метеориты молчали, даже самые абсурдные теории не могли вывести их из равновесия: все они переносили с поистине каменным спокойствием. А люди? Их волнует любая мелочь. Они так легко загораются, взрываются по всякому поводу. Я описал тысячи метеоритов, а о человеке не написал ни строчки. Однако Багени был похож на метеорит — он молчал. Впрочем, не будем опережать события.
Помнится, была суббота, второе июля.
Дьявольски устав от жары, я после работы в лаборатории отдыхал на веранде бунгало, наслаждаясь прохладой, созерцанием неба и особенно тишиной. Впрочем, это продолжалось недолго. Тишину нарушила моя дочь Ио. Я не прочь послушать хорошую музыку в хорошем исполнении. Ио же скверно играла собственное сочинение на расстроенном пианино. Конечно, меня это раздражало. Спустя некоторое время вдалеке загудели тамтамы. Музыка Ио и тамтамы! Какое сочетание! Представляете себе? Я не выдержал.
— О, господи! Перестань! Это невыносимо!
— Что, собственно, невыносимо? Моя игра или тамтамы?
— И то, и другое.
— Во всем виноваты негры, — безапелляционно заявила Ио. — Они заглушают меня своими барабанами.
— Насколько я понимаю в тамтамах, наши соседи чем-то взволнованы.
— У них масса причин для недовольства.
— Меня не интересует политика.
— Но политики интересуются тобой.
— Уверяю тебя, я так же далек от политики, как мои метеориты.
— Вернемся домой! Уедем отсюда!
— Сейчас? Да ты что! Нам дали прекрасный дом, отлично оборудованную лабораторию. Благодаря заботам губернатора база экспедиции походит на роскошный отель. Прислуга, пианино…
— …на котором изволила играть глубокоуважаемая госпожа Тьюро, пока ее не укусила муха це-це…
— Спокойной ночи, дорогая, — перебил я ее. — Я пошел спать… Спокойной ночи, говорю.
— Не уверена, что эта ночь будет спокойной, — сказала Ио и добавила шепотом: — Кто-то ходит возле нашего дома.
— Видимо, никак не найдет парадное. Надо помочь. Я выйду… Но не успел я кончить фразу, как дверь резко отворилась и на пороге появился высокий негр.
Тяжело дыша, он сделал шаг вперед и опустился на пол.
— Обморок! Крикни Мото и Ясуфа!
Ио выбежала из комнаты и через минуту вернулась в сопровождении напуганных слуг.
— Положите его на кровать! Быстрее! Чего вы ждете?
— Он тяжелый, как слон, — пробормотал Мото.
— Как бегемот, — поправил Ясуф. — Нам одним не справиться.
Но все-таки они подняли его и перенесли в мой кабинет на диван. Мы решили, что кровать не выдержит. Едва голова негра коснулась подушки, как он открыл глаза и улыбнулся.
— Сердечно приветствую вас, — сказал я. — Меня зовут Аустин, профессор Аустин, минералог-петрограф.
Поскольку он молчал, я спросил:
— Вы меня понимаете?
Негр глубоко вздохнул.
— Не понимает, — сказал Мото.
— Ты понимаешь, о чем я говорю? — спросил я на языке суахили. Наш гость сел, открыл рот, однако не произнес ни слова.
— Немой, — прошептал Ясуф.
Я соображал, как быть дальше, но в этот момент черный великан вдруг соскочил с дивана, подошел к стеллажу с метеоритами, взял самый большой из осколков, внимательно осмотрел его, потом подбежал к окну и быстро выпрыгнул в сад.
— Сбежал! Скорее за ним! — крикнул Ясуф, не двигаясь с места.
— Гость прихватил на память ценнейший из осколков. Интересно, он оставил свой адрес? — издевалась Ио.
Тираду Ио прервал телефонный звонок. Я поднял трубку. Комендант шестого форта сообщал о бегстве негра, опасного преступника.
— Рост два метра, а может, и больше, — говорил капитан Дорн. — Немой или прикидывается немым. Советую как следует запереть окна и двери. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, капитан.
— Кто звонил? — спросила Ио.
— Комендант. Из тюрьмы шестого форта сбежал черный великан.
— Почему ты не сказал, что он у нас?
— Забыл.
В ту ночь барабаны не умолкали. Мото, который хорошо знал их язык, монотонно переводил:
— Великий Черный… Великий Багени сбил собак со следа… вылечил больную Мафуту… накормил всех жителей селения….. Мкубва Багени ушел… Ушел Багени, который молчит… Ищите Великого…
Мото вдруг осекся и, забавно наклонив голову, прислушался.
— Почему ты молчишь? — спросил я. — Барабаны гудят словно дьяволы, а ты слушаешь и ничего не говоришь. Ты оглох?
— У Мото хорошие уши, господин. Мото слышит тамтамы и быстрые, очень быстрые шаги. Кто-то бежит. Сейчас мы увидим его.
Прошла минута, может, две. Наконец на дороге, ведущей к бунгало, появился бегущий человек. Мото еще раз доказал, что у него и впрямь феноменальный слух и отличное зрение.
— Это Багени, господин! — возбужденно воскликнул он. — Великий Багени возвращается к нам!
— Как ты догадался, что это он?
— Я не догадался, я вижу, — буркнул Мото. — Сейчас он будет здесь.
Да, Багени вернулся. Он прыгнул на веранду, улыбнулся и вручил мне два камня, два метеоритных осколка… а ведь со стеллажа он взял только один. Черный гигант принес новый осколок метеорита и тем самым пополнил мою коллекцию. Я со злорадством заметил Ио:
— Ты сомневалась, будет ли эта ночь спокойной. Но это самая счастливая из всех ночей! Взгляни, какой прекрасный осколок! Отлично виден рисунок, напоминающий иней на окнах! Интересно: совершенно незнакомое расположение линий. Это не фигуры Видманштеттена.
Признаться, я забыл о негре, об Ио, обо всем на свете. Вооружившись лупой, я миллиметр за миллиметром рассматривал метеорит. Потом позвонил губернатор Лон и сообщил, что вечером над Западной пустыней были замечены два огненных болида, промчавшиеся с севера на юг. Вскоре после этого раздался сильный взрыв. Час тому назад нашли остатки метеорита.
— Вы должны их увидеть, — сказал губернатор. — Я приеду через десять минут.
Но губернатор приехал еще раньше. Я ожидал его на веранде, препираясь с Ио, которая во что бы то ни стало хотела участвовать в ночной экспедиции. Спор решил губернатор, разумеется, в пользу дочери. Мы уже занимали места в автомобиле, когда офицер, сопровождавший его превосходительство, заметил Большого негра, который стоял у окна.
— Кто это? — спросил он.
— Великий Багени, — ответила Ио.
— Великий Багени, о котором уже битый час гудят тамтамы?
— Да, гость моего отца.
— Откуда вы его выкопали?
— Сам пришел.
— Что он говорит?
— Он ничего не может сказать, — сообщила Ио. — Молчаливый Голиаф. Подарил отцу кусок железного метеорита.
— Из шестого форта сбежал немой негр, — офицер выскочил из машины. — Я позвоню коменданту.
— Это уж ни к чему, — сказал губернатор. — Возьмем черного с собой.
Багени не заставил себя упрашивать. Он легко открыл дверцу машины и сел рядом с шофером. Машина тронулась. Ночь была прохладная, но никто не замерз. Мы были слишком возбуждены. Ехали всего три с половиной часа. Губернатор крикнул: «Стоп!», машина резко остановилась, и мы увидели участок высохшего русла реки Гу-ну. Там чернела воронка диаметром метров двадцать. Я осторожно опустился на дно и нашел несколько десятков осколков. Они на первый взгляд казались осколками метеорита, но, повторяю, только на первый взгляд. Присмотревшись внимательнее, я понял, что это осколки искусственного происхождения. Лабораторные анализы, проведенные позже, полностью подтвердили мое предположение. На обратном пути губернатор сказал:
— Мы догадывались об этом, но хотели знать ваше мнение, профессор. Надо думать, здесь разбился воздушный корабль, возможно, реактивный, а может быть, и ракета.
— Значит, это не болиды?
— Наблюдатели засекли два огненных шара, мчавшихся над пустыней. Метеориты здесь не редкость. Но в данном случае, скорее всего, были ракеты. Первая при посадке взорвалась. Вторая, вероятно, приземлилась удачно. Меня интересует ваш негр, — губернатор понизил голос. — Патруль поймал его в шесть часов на краю Западной пустыни в районе форта, в четырнадцати километрах от места приземления первой ракеты. В девять черный исчез из тюрьмы, переплыл Горячую реку, позабавил негров своими фокусами, а в десять явился к вам. Интересно, правда? Ну, надеюсь, вскоре мы распутаем этот узелок. Вы позволите задержаться у вас, профессор?
Губернатор оказал нам честь, соблаговолив остаться на ночь в бунгало. Время было позднее, он решил проанализировать создавшуюся ситуацию. Спустя некоторое время группа наших гостей пополнилась двумя взводами солдат и четырьмя офицерами.
Солдаты окружили дом, офицеры заняли холл. Об отдыхе нечего было и думать. Основным объектом разговоров был, разумеется, Багени. Поскольку он решительно молчал, губернатор обратился ко мне:
— Нам представляется, что ракеты и ваш негр появились почти одновременно в одном и том же районе. Так ли?
Я подтвердил. Его превосходительство удовлетворенно улыбнулся.
— Негр не хочет или не может говорить. Но факты, факты говорят сами за себя. Факт первый: человек, которого называют Багени, находился вблизи места посадки ракет. Факт второй: Багени принес вам, профессор, осколок, представляющий собой часть ракеты, потерпевшей катастрофу. Факт третий, вытекающий из первых двух: Багени входил в состав экипажа корабля, который уцелел. Так или нет?
— Не исключено, что и так.
— Это факт! Необходимо установить, откуда была запущена ракета. Почему она опустилась в Африке? Где оставил господин Багени свой корабль? Кто он такой?
— Он молчит, — напомнил я. — Каким же образом вы думаете получить ответы?
— Он молчит, но понимает нас, и этого вполне достаточно. Майор, повесьте карту мира. Багени покажет нам место старта ракет.
«Еще не известно, покажет ли», — подумал я. Губернатор, словно угадав мои мысли, настойчиво повторил:
— Покажет! — а потом добавил: — Есть же у него инстинкт самосохранения. Мы поймали его вблизи форта. Ему грозит расстрел за шпионаж. Он должен соображать. Так или нет?
Негр улыбнулся.
— Вот видите! — воскликнул губернатор. — Я начинаю понимать его беззвучную речь. Это лишь дело привычки. Я убежден, что он ответит на все вопросы. Скажите, вы входили в состав экипажа ракеты? Да… его улыбка означает подтверждение. Были две машины? Да, прекрасно, понимаю. Мне все совершенно ясно. Одна ракета погибла, вторая — благополучно приземлилась.
Багени посерьезнел.
— Все очень просто! — продолжал его превосходительство. — Да… да… Два раза «да». Ваше лицо — словно открытая книга. Теперь подойдите, пожалуйста, к карте и покажите место старта.
Черный гигант медленно подошел к стене, несколько секунд рассматривал карту.
— Мы ждем, ждем, — торопил губернатор, но негр развел руками, и тогда заговорила молчавшая до сих пор Ио:
— Этот жест означает бессилие. Неужели он и сам не знает?
— Покажем ему атлас неба, — предложил я.
— Вы считаете… вы считаете, профессор, — пробормотал один из офицеров, — что… что ракеты были запущены с другой планеты?
Губернатор рассмеялся.
— Ну и ну! Сказки! С другой планеты! В это трудно поверить!
Я достал из шкафа атлас неба и положил на стол. Потом объяснил негру, чего мы хотим. Он понял и тут же начал просматривать карты. Мы, несомненно, имели дело с цивилизованным человеком. Он листал страницу за страницей. Потом остановился. Я заглянул через его плечо.
— Схема нашей Солнечной системы, — шепнул я. — Он искал ее. Посмотрим, какая планета. Что такое? Но, Багени, это же Земля! Ракеты стартовали отсюда? Ничего не понимаю!
— Чего вы не понимаете, профессор?
— Почему же в таком случае он не может показать на карте место старта ракет? Он узнал Землю среди других планет, но карта той же планеты ничего ему не говорит. Неужели…
И тут я понял, кого мы принимаем в своем доме. Да, теперь я знал, кто такой Багени и откуда он.
— Ваше превосходительство! — воскликнул я. — В каком случае вы не узнали бы на карте своей родной страны?
— Ну, если б она серьезно изменилась. Недавно я пролетал над родными местами. Четырнадцать лет там не был. Новые города, новые поселки, новые автострады. Я спросил пилота, где мы летим, не заблудился ли он?
— Багени не узнает Землю по той же причине. Он возвращается после долгого отсутствия.
— Возвращается? — повторил губернатор, по-прежнему ничего не понимая.
— Если верить теории Эйнштейна, — объяснил я, — то время можно сократить. В космическом пространстве ракета летит со скоростью, скажем, двести тысяч километров в секунду…
И я изложил губернатору суть теории относительности.
— Ну и что же, профессор? — губернатор не мог скрыть нетерпения.
Багени прислушивался к моим рассуждениям с возрастающим интересом. Он не спускал с меня глаз.
— Ну же! — торопил губернатор. — Чего же вы тянете, черт побери!
— Предположим, наша планета тысячи лет назад переживала период бурного развития техники. Допустим, что в то время в космос были запущены две ракеты. Они развили колоссальную скорость. Для экипажа прошло несколько недель или месяцев, а Земля за то же время постарела на несколько веков. Катаклизмы смели с лица Земли цивилизации, изменили поверхность планеты. Вот почему Багени не может узнать карту нашего мира.
Некоторое время стояла тишина, потом губернатор прошептал:
— Негр… Черный, как ночь, негр в ракете?
— Он мог быть механиком или ординарцем, — заметил майор.
— Или же пилотом, навигатором, — заметила Ио. — Ваше превосходительство, Багени не черный. Его тело покрыто грязью и пылью. После ванны он посветлеет.
— Вы так думаете?
— Но это же очевидно, господин губернатор!
— Невероятная история!
— Снять посты? — спросил майор.
— Посты? — удивился губернатор. — Вы имеете в виду почетный караул перед домом?
— Так точно, ваше превосходительство. Я обмолвился.
— Караул может остаться. Мы отвечаем за безопасность дорогого гостя.
Я взглянул на часы. Был час ночи, третьего июля.
Его превосходительство, губернатор Лон, решил заночевать в бунгало. Воспользовавшись любезностью профессора Аустина, губернатор занял его кабинет и провел там тайное совещание с офицерами. В два часа ночи установил телефонную связь с премьером. В три часа приступил к изучению донесений офицеров Африканского корпуса.
Профессор Аустин отправился на отдых, Багени под душ, а Иоанна расхаживала по холлу. Пока губернатор вел телефонный разговор с премьером, дочь профессора пыталась заинтересовать своей особой черного гиганта, который, увы, отнюдь не посветлел после купанья. Вот отрывок из ее дневника, с которым нам удалось ознакомиться без ведома автора:
3 июля. Три часа утра… Багени после купанья выглядел привлекательно… Я попросила уделить мне несколько минут… Господи, какая это была странная беседа!.. Я говорила, он молчал… Я помню все свои слова…
— Присядьте, пожалуйста, — сказала я. — Губернатор будет рад, когда увидит вас. Вы никогда не были черным в полном смысле этого слова. Это изумительный коричневый цвет с золотым отливом. Рюмочку горячего грога? Вы — символ прошлого, я — представитель настоящего. Какая встреча! Вчера и сегодня поднимают тост за завтра.
Великий Человек выпил рюмку вина, а я продолжала:
— Багени, вы исполняете человеческие желания. Осуществляется один из самых прекрасных моих снов. Я могла бы выступить в роли вашего переводчика. Женщина лучше понимает мужчину. Я не знаю, как выглядели женщины много тысяч лет назад, но, надеюсь, сравнение будет в мою пользу.
Гигант улыбнулся. Я поблагодарила за комплимент и предложила:
— Приступим к делу. Я хочу быть вашим переводчиком, связным, гидом по новому, не знакомому вам миру. Зачем, спросите вы? Идя бок о бок с вами, я войду в историю. Женщина с историческим прошлым! Вот моя мечта. Багени! Багени, вы спите? У, противный негритос!
Дальнейшие записи в дневнике Иоанны Аустин не представляют интереса. Жертва мисс Ио не была принята. Этот факт мы сочли достойным внимания.
После совещания с офицерами и разговора с премьером губернатор приступил к изучению донесений. Нам удалось разыскать копии этих документов. Первый был составлен комендантом шестого форта, капитаном Дорном.
Донесение № 1
2. VII. Патруль лейтенанта Мариса неподалеку от форта арестовал негра. Я с полной достоверностью установил, что черномазый был шпионом. Во исполнение устава мы поместили его в камеру № 17. В 19 часов заключенный исчез. Я немедленно провел расследование, и выяснились такие обстоятельства:
1. В 18.30 черный получил пищу от надзирателя Герна.
2. В 18.45 тот же надзиратель заглянул через оконце в камеру, увидел пустую циновку и сообщил начальнику караула о бегстве арестованного.
3. Решетка в окне цела, замок в двери — тоже. Мы детально осмотрели стены и пол, но не обнаружили ни малейших следов повреждений (прилагается эскиз правого крыла тюрьмы).
Арестованный, если даже он каким-то чудом вышел из камеры, должен был пройти по коридору второго этажа, спуститься на первый этаж, миновать комнату охраны, наконец часового в воротах. Я допросил всех. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал.
4. Часовой Тоус, находившийся за стеной форта, обнаружил на песке отпечатки босых ног.
5. В 19.15 из форта вышел взвод под командованием лейтенанта Мариса. Солдаты с собаками дошли до шалаша мулата Барути. Затем повернули к Горячей реке. Возвратились через два часа. Беглец обнаружен не был.
Комендант шестого форта, капитан Л. М. Дорн
Донесение № 2
3. VII. Протокол допроса мулата Барути. Стенограмма.
Лейтенант Марис. В котором часу к вам пришел Большой негр?
Барути. Не знаю, господин. У меня нет часов.
Марис. Вы спрятали беглеца в своем шалаше?
Барути. Моя жена, очень умная женщина, спрятала его против моего желания.
Марис. Как получилось, что собаки не учуяли его присутствия?
Барути. Не знаю, господин, но Нома сказала: это Великий Чародей. Он все может.
Марис. А потом она отвела черного в негритянское селение по ту сторону Горячей реки?
Барути. Да, господин. Они переплыли реку, В этой деревушке Великий Негр вылечил больную Мафуту и накормил всех, а потом исчез.
Марис. Ты встречал его позже?
Барути. Нет, господин.
Конец стенограммы
Приписка лейтенанта Мариса. Перед шалашом мулатов собаки по невыясненным причинам потеряли след и увели отряд в другую сторону. Один из наших черных лазутчиков сообщил, что лунатичка Мафута действительно выздоровела, а люди из ее поселка объедаются мясом и лепешками. Нома, жена Барути, скрылась в джунглях.
Донесение № 3
В 17.00 над Западной пустыней были замечены два огненных болида. Несколькими минутами позже послышался сильный взрыв. Неподалеку от реки Гуну патруль сержанта Тилли нашел остатки метеорита, которые казались либо осколками снаряда, либо обломками ракеты.
Изучив донесения, губернатор сделал несколько пометок в блокноте. Эти пометки были представлены комиссии в первые дни сентября.
Вот они:
1. Багени обладает особыми способностями:
а) проникает сквозь стены;
б) исцеляет (зачеркнуто, вместо «исцеляет» написано «лечит»);
в) разбирается в метеоритах (подчеркнуто);
г) чудесным образом снабдил негров пищей (слово «чудесным» зачеркнуто и исправлено на «удивительным»);
2. Я согласен с профессором: Багени может быть представителем земной працивилизации («может быть» зачеркнуто, написано «наверняка является»).
В четыре часа утра губернатор вызвал капитана Дорна, после чего комендант вернулся в форт. Через час три взвода отправились в Западную пустыню.
Командир получил приказ любой ценой найти ракету, на которой прибыл Великий Багени.
Секретарша губернатора записала:
«Губернатор отвез господина Багени в порт. Под звуки марша высокий гость взошел на борт крейсера „Брейв“».
Мне посчастливилось видеть, как господина Багени встретили на крейсере.
Губернатор Лон, обменявшись приветствиями с адмиралом, представил гостя:
— Великий Багени.
— А мне кто-то говорил, что господин Багени — черный!
— Злые сплетни!
— И чего только люди не выдумают, — сокрушался адмирал, безрезультатно пытаясь совладать с тиком правого глаза. — Вижу, вижу собственными глазами! Обыкновенный загар, — и, протянув руку молчаливому гостю, адмирал воскликнул: — Приветствую, приветствую вас от всего сердца! Ради бога, простите, что я осмеливаюсь предложить вам мою скромную каюту.
Великий Багени наклонил голову.
— Наш гость выражает удовлетворение, — пояснил губернатор. — И благодарит за сердечный прием.
Когда губернатора провожали, я совершенно случайно услышал, как он вполголоса бросил адмиралу:
— Не забудьте обо мне.
Я совсем не хотел подслушивать, но до меня донеслось:
— Да, да, не забуду. Только благодаря вам, ваше превосходительство, наша отчизна имеет честь принимать у себя высокого гостя.
Еще одно рукопожатие, и губернатор покинул крейсер.
Точно в восемь ноль-ноль «Брейв» отдал швартовы.
Я получил приказ присутствовать на торжественном обеде. Был подан салат из помидоров, сандвичи с раками, фаршированные куры, гуси, цесарки с имбирем и, кажется, яйца в соусе. Ко всему этому вино — красное и белое. Адмирал Анензис поднял тост за здоровье гостя. Аппетит у всех был отменный. Мы молча ели, обмениваясь улыбками.
Я как раз нацелился на цесарку с имбирем, когда в каюту вошел радист и вручил адмиралу срочную телеграмму. Старик надел очки, откашлялся и прочел вслух:
ГОСПОДИНУ БАГЕНИ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА. ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕГО КОРОЛЕВСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА СЕРДЕЧНО ПРИВЕТСТВУЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРАЦИВИЛИЗАЦИИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ. МЫ ХОТЕЛИ БЫ ВЫРАЗИТЬ ВАМ НАШУ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ВЫ СОБЛАГОВОЛИЛИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НАПРАВИТЬСЯ В НАШУ СТРАНУ. МЫ ОЖИДАЕМ ВАС В КОРОЛЕВСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР.
В перерыве между тостами за короля и премьера принесли вторую телеграмму.
— ГОСПОДИНУ БАГЕНИ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА, — читал адмирал. — ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД НАШЕЙ СТРАНОЙ И ДАЛЕКИМ ПРОШЛЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕГО КОРОЛЕВСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА НАГРАЖДАЕТ ГОСПОДИНА БАГЕНИ РАДУЖНОЙ ЛЕНТОЙ К ЗВЕЗДЕ ОРДЕНА ВЕЛИЧАЙШЕГО ПРИЗНАНИЯ.
Поздравления и приветственные крики длились не меньше пяти минут, а затем мы с удвоенной энергией набросились на остывающие блюда.
Наш гость ел за двоих, пил мало, дарил улыбки направо и налево и молчал как рыба. Почти с женским изяществом он оперировал вилками и ножами, хотя пиджак из белой альпага стеснял его движения.
— Аристократ до мозга костей, — прошептал командор Орнесс. — Какие манеры!
— Что ни говорите, представитель самого древнего рода на Земле, — добавил первый офицер. — Это что-нибудь да значит.
— Вот только досадно, что он молчит.
— Может быть, наши предки не умели разговаривать? — предположил лейтенант Орр.
— Умели, лейтенант, — с иронической улыбкой заметил адмирал. — Но, обладая способностью мыслить, они не мололи вздора.
Лейтенант Орр недовольно отодвинул тарелку.
Точно в шестнадцать ноль-ноль крейсер «Брейв» окончил рейс.
В порту нас ожидали толпы людей. Под звуки марша адмирал Анензис передал Великого Багени министру иностранных дел.
17.00. Премьер вводит высокого гостя в резиденцию короля.
17.07. Премьер и Великий Багени переступают порог Лазурного зала.
17.10. Премьер произносит исторические слова: «Ваше королевское величество, позвольте представить вам ВЕЛИКОГО БАГЕНИ!»
17.13. Король прерывает партию в шахматы и начинает «беседу» с гостем. Премьер переводит его молчание.
Король (отодвигая шахматную доску). Кто-то говорил мне, что наш уважаемый гость… несколько… э… темнокож.
Премьер. Как изволите видеть, ваше королевское величество, Великий Багени скорее светлый, нежели черный.
Король (встает). Скорее? Да он абсолютно белый! Я приветствую вас! Приветствую! Надо думать, вы утомлены?
Премьер. Господин Багени прибыл по Великому Пути. Он возвращается сюда после многовекового отсутствия.
Король (усаживаясь на трон). О, это весьма мило с его стороны. Ну и как же в те далекие времена выглядела наша любимая планета? Кто из наших предков сидел на этом троне?
Премьер (откашливаясь). Осмелюсь напомнить вашему королевскому величеству, господин Багени не разговаривает.
Король (удивленно). Не разговаривает? Но нас он понимает?
Премьер. Прекрасно.
Король. Ну, а как мы его поймем?
Премьер. Я получил разъяснения от губернатора Лона, как расшифровывать его жесты, улыбки и движения.
Король. Прошу вас, премьер, быть переводчиком.
Премьер (с поклоном). Вы оказываете мне великую милость, ваше королевское величество.
Король. Наши политики заявляют, что господин Багени представляет наших праотцов, и его прибытие в нашу страну окончательно и бесспорно подтверждает тот факт, что наш народ — народ избранный.
Премьер. Совершенно справедливо изволили заметить, ваше королевское величество. В свое время катаклизм уничтожил цивилизацию, созданную нашими прапредками, но ракета, запущенная ими в космос, вернулась невредимой. Великий Багени поможет нам продолжить дело наших отцов.
Король. Мы слышали, что господин Багени совершил несколько чудес и помог этим… ну, как их там?
Премьер. Черномазым.
Король. Вот именно.
Премьер. Если я верно понял нашего гостя, он оказал две—три мелкие услуги неграм… по ошибке. Он думал, что именно так выглядят современные земляне, что это они представляют нашу страну.
Король (улыбаясь). Так мы и предполагали. Забавное недоразумение. Ну, теперь-то он уже знает, кто есть кто и кто кого представляет. Пусть же он окажет небольшую услугу истинным избранникам народа.
Премьер. Господин Багени сделает все, что в его силах.
Король (играя пешкой). У нас вот уже несколько лет рождаются одни дочери. Сейчас королева опять ждет ребенка. Мы просим, чтобы это был наследник.
Премьер (обменявшись взглядом с Великим Багени). Просьба удовлетворена.
Едва премьер замолчал, как раздался гром орудий. Его королевское величество, с трудом сдерживая возбуждение, считал залпы. Двадцать четыре. Минутой позже в Лазурный зал вбежала запыхавшаяся фрейлина королевы.
— Ваше величество! — воскликнула она, приседая в почтительном реверансе. — Королева принесла миру сына.
Разрумянившийся премьер пожал руку Великому Багени и сказал дрожащим голосом:
— Достаточно, чтобы он подумал: да будет сын!
Король движением руки подозвал Начальника дипломатического протокола:
— Подай мне Орден Величайшей Благодарности.
И его королевское величество лично приколол к груди Великого Багени жемчужную звезду, сказав при этом:
— Наш дорогой гость действительно необыкновеннейший человек!
— О, провидение! — воскликнул премьер. — Ваше величество, он должен получить титул королевского камергера.
— И старшего конюшего, — добавил маршал двора.
Король одобрил предложения.
— А теперь, — сказал его величество, — мы приглашаем любезного нашему сердцу гостя на торжественный банкет.
Столы, установленные традиционной подковой, прогибались под тяжестью тарелок и блюд. Этот прием превосходил торжество, организованное двором в день коронации.
Премьер болтал с мадам Ростен, исполнявшей ответственные обязанности супруги министра изящных искусств. Генерал Косен забавлял анекдотами свою обворожительную соседку, баронессу Кен. Король прислушивался к рассуждениям профессора Зено, ректора Королевской академии. Остальные гости оживленно беседовали, рассуждая обо всем и ни о чем. Великий Багени молчал.
Мы записали беседы, которые велись поблизости от короля и высокого гостя.
Так, например, премьер сказал, обращаясь к мадам Ростен:
— Багени — прирожденный политик. За каких-нибудь сорок минут я с его помощью разрешил четыре чрезвычайно сложные проблемы государственного характера.
— А именно? — спросила супруга министра изящных искусств.
— Могу сказать только, что вскоре мы станем самым могущественным государством в Солнечной системе.
— Господин Багени — прежде всего ученый, — вклинился в разговор профессор Зено. — Мы только что обменялись с ним несколькими фразами.
— Вы разговаривали с Великим Багени? — изумился премьер.
— Я говорил, он слушал. Я прекрасно понимаю его, когда он говорит молча.
— О чем же вы беседовали?
— Эрудиция этого человека подавляет. Он знает все. Да что я говорю! Он знает больше, чем все! С его помощью мы наконец познаем тайну жизни и смерти.
— Проблемы государственного характера гораздо важнее, — заметил премьер.
— Великий Багени был послан учеными.
— Политиками, господин профессор!
— Вдохновенными! — воскликнула мадам Ростен.
— Учеными! — упирался ректор. — Его возвращение подтверждает теорию наших ученых, что некоторые из метеоритов суть космические корабли, запущенные с Земли несколько тысяч лет назад. Следует напомнить, что господин Багени прежде всего установил контакт с профессором Аустином, то есть с представителем мира науки.
— Стечение обстоятельств. Если б не губернатор…
— Господин премьер, — прервала баронесса Кен. — Великий Багени сам разберется, что к чему.
— Пусть разберется, — заявил король и, показывая на гостя серебряной вилкой, спросил: — Что означает его улыбка?
— Он хочет сказать: «Я был, есть и буду политиком, — объяснил премьер. — Как руководящий государственный деятель я был послан в ракете для того, чтобы вернуться на Землю и обеспечить продолжение политической линии наших праотцов, той самой линии, которую с железной последовательностью реализует ваше правительство!»
— Нет! Нет! — протестовал профессор. — Вы неверно прочли его мысли. В глазах маэстро я прочел: «Я был, есть и буду ученым!»
— Из его жестов ясно следует, что это неправда. Он дал мне недвусмысленно понять: он был, есть и будет политиком.
— Я читаю по его глазам, как по открытой книге. Он был, есть и будет ученым…
— Вы оба ошибаетесь, — проговорил генерал Косен. — Это солдат. Взгляните на его фигуру.
— По моему скромному разумению, — загудел министр финансов, — господин Багени — экономист.
— Господи, какая чепуха! — возмутился королевский лейб-медик доктор Пробст. — Если б он умел говорить, он сказал бы: «Моя специальность — медицина».
Дискуссию прервало появление полковника Торнера.
— Ваше королевское величество, — рявкнул военный, вручая королю голубой конверт. — Мы получили ультиматум.
— Ультиматум?
— Наши южные соседи требуют выдачи господина Багени.
— Какая наглость!
— Свои претензии они обосновывают тем, что космический корабль опустился в той части Африки, которая-де семьдесят лет назад была их собственностью.
— Невероятно!
— Они грозятся разорвать торговые отношения, если мы…
Полковник замолчал. В банкетный зал вошел майор Дель, провозгласив с порога:
— Ультиматум! Наши северные соседи требуют выдачи господина Багени. Они утверждают, что этот человек — гражданин их государства, поскольку ракета опустилась на территории, которая сто лет назад принадлежала им. Они грозятся порвать с нами культурные связи.
Король открыл рот и тут же закрыл его, не произнеся ни слова, потому что в дверях появился дипломатический курьер.
Хоть он и запыхался, но ухитрился произнести:
— Ультиматум!
— Ультиматум от юго-восточных соседей, — спокойно пояснил Председатель королевского совета. — Они требуют выдачи…
— Довольно! — прервал король. — Мы назначаем Великого Багени вице-королем принадлежащих нам африканских территорий.
— Вот ответ, достойный великого монарха! — воскликнула мадам Ростен под бурные аплодисменты.
Около восьми часов вечера гости направились в бальный зал. По счастливой случайности я заметил, что мадам Ростен в сопровождении новоиспеченного молчаливого вице-короля вышла в сад. Говорят, у хорошего газетчика должно быть по меньшей мере две пары ушей. Наверное, поэтому я услышал, как она говорила:
— Великий Багени утомлен. Отдохните же перед тем, как приступить к выполнению тяжких обязанностей вице-короля… Пройдемте в беседку.
У хорошего газетчика должно быть по меньшей мере две пары хороших глаз. Наверное, поэтому я заметил, как господин Багени присел на скамейку в беседке… Несколько позже, когда мадам Ростен отошла, к нему подошел незнакомец, и я услышал:
— Я представляю другую державу. Я чрезвычайный посол… (шепот)… По нашему мнению, то, что вам предложили пост вице-короля, — просто досадное недоразумение. Подробности в дороге.
Хороший газетчик никогда не теряет самообладания и по мере возможностей старается поспевать всюду. Наверное, поэтому я сумел добраться до аэродрома и занять место пилота самолета. Минутой позже сюда прибыл Великий Багени в сопровождении незнакомца.
— Взлет, — распорядился тот. — Курс — триста семь.
Я незамедлительно выполнил приказ, прекрасно понимая, что теперь все зависит от меня. Когда мы набрали высоту, незнакомец разговорился.
— Мое правительство, — говорил он вице-королю, — предлагает вам пост главного директора концерна… Нет?.. Так я и думал. Действительно, смешное предложение! Я выполнил свои обязанности. Теперь я буду говорить от собственного имени. Взгляните вниз… Тысячи огней… прекрасные города… фабрики… железные дороги… Все это может стать нашим. Вдвоем мы завоюем мир. В наши карманы потекут капиталы всех банков, и в ближайшем будущем мы станем во главе Соединенных Штатов Мира. Два президента — вы и я. Я и вы! Черт побери! Что с мотором? Вынужденная посадка?.. Только этого не хватало! К тому же в Африке! Пилот! Что вы делаете!..
Третьего июля текущего года я получил приказ от коменданта шестого форта, капитана Дорна:
— Разведать участок А-8 третьего квадрата. Патруль — пять человек. Возвращение в двадцать тридцать.
Мы отправились немедленно. Через четверть часа сержант крикнул:
— Господин лейтенант, к нам бежит какой-то человек!
Это был Великий Багени. С соответствующими почестями мы доставили его в форт.
— Отвести подлеца в камеру! — крикнул капитан. — Это никакой не Багени, а курьер бунтующих племен. Отличный бегун, марафонец.
— Великого Багени в камеру? — воскликнул я изумленно. — А если… если он опять чудесным образом покинет тюрьму?
— Сказки! Вы знаете, как он тогда сбежал. Его выпустил один из наших часовых.
— Негры говорят, что он сбил собак со следа.
— Ерунда. Перед шалашом мулатки собаки учуяли след раненой антилопы.
— Он вылечил больную негритянку.
— Она всегда была здорова, старая симулянтка.
— Он накормил целую деревню.
— Наш взвод, отступая после стычки с черными, оставил на поле боя запасы провианта.
— А его деятельность в столице, капитан?
— Даю голову на отсечение, что это был не он.
Ничего не поделаешь, пришлось отвести Великого Багени в камеру № 17. Десятью минутами позже капитан получил телефонограмму: комендант третьего форта сообщал, что его люди застрелили черного курьера. Несмотря на троекратное предупреждение, тот не хотел остановиться. При нем нашли зашифрованное письмо, которое переслали в штаб.
— Когда вы его застрелили? — спросил капитан Дорн.
— Двадцать четыре часа назад. Мы похоронили его в каменоломнях.
Телефонограмма совершенно сбила с толку моего начальника. Он бросил шлем на пол и расстегнул мундир.
— Багени… негр… курьер… Кто, черт побери, тот человек, которого я бросил в камеру?
Окончательный ответ принес сержант Сэм.
— Господин капитан, неподалеку от реки Гу-ну мы нашли ракету. В кабине пилота висела вот эта фотография.
— Фотография Великого Багени, — обрадовался я. — Итак, человек, которого вы посадили в тюрьму — вице-король.
— Немедленно освободить! Умолять о прощении!
Сержант Сэм выбежал из комнаты. Вернулся он очень скоро.
— Разрешите доложить. Великий Багени исчез! Приехал господин губернатор.
К сожалению, главный редактор убрал из сообщения колоритную сцену встречи губернатора с капитаном, объяснив это заботой о моральном облике молодежи: ей, как он выразился, ни к чему преждевременно познавать некоторые языковые нюансы.
Мне выпала честь закончить это повествование, так как его эпилог разыгрался в моем бунгало.
Мы слушали радио. Вначале передавали репортажи, потом коммюнике о встрече Великого Багени с премьером, о беседах в королевской резиденции, о торжественном банкете, о назначениях, почестях, наградах, которыми был отмечен высокий гость. Одно из последних сообщений касалось похищения вице-короля неизвестным человеком.
— Багени позволяет кому угодно водить себя за нос… — сказала Ио. — Я предлагала ему свою помощь, сотрудничество. Он отказался и теперь наверняка жалеет. Не понимаю, как можно похитить взрослого человека. Большого, сильного человека.
— Может быть, похищение было ему на руку, может быть, соответствовало его планам.
— Возможно, — буркнула Ио и села за пианино.
Почти в тот же момент в динамике загремел голос спикера:
— Алло! Внимание! На краю Западной пустыни военный патруль нашел самолет. Задержаны двое. Один из них выдает себя за главного редактора «Новостей из первых рук», утверждая, что умышленно посадил самолет, на котором пытались похитить вице-короля.
Второй пассажир отказывается что-либо объяснять. Великий Багени исчез. Мы просим…
Шум двигателя заглушил голос спикера. Приехал губернатор.
— Я ищу вице-короля, — сообщил он, поздоровавшись с Ио. — Этот идиот, капитан Дорн, арестовал его и посадил в тюрьму. Разумеется, Багени обиделся и покинул негостеприимные стены. Сбежал, опять сбежал! Что я скажу королю? — сокрушался губернатор. — А я так надеялся на Багени!
— Каждый из нас возлагал на него особые надежды, — ответила Ио. — Каждый связывал с ним исполнение собственных желаний… Каждый по-своему объяснял его молчание…
Звук приближающихся шагов заставил всех замолчать. То, что случилось позже, не требует комментариев. На пороге стоял Великий негр. Губернатор первым пришел в себя.
— От имени его королевского величества сердечно приветствую вас, ваше высочество.
Багени пожал руку его превосходительству и, к величайшему нашему изумлению, сказал спокойным, мелодичным голосом:
— Через несколько минут я возвращаюсь туда, откуда прибыл.
— Вы… вы разговариваете? — простонал губернатор. — Почему, почему же вы все время молчали?
— Моя ракета, — улыбнувшись ответил Багени, — приводится в движение энергией, почерпнутой из молчания. Молчание — великая сила.
Он снова одарил нас улыбкой и быстро вышел из комнаты. Многочасовые поиски, предпринятые по инициативе губернатора и проведенные пятью взводами Африканского корпуса, кончились ничем.
Около полуночи над Западной пустыней был замечен огненный шар… Он мчался с колоссальной скоростью с юга на север. В ту же ночь обсерватории отметили появление новой кометы. Она дважды облетела Земйю и помчалась к туманности Андромеды.
Повесть о Великом Багени мы обычно читали после ужина по главам, а когда добрались до конца, начальник базы сказал:
— Ну, ребята, пора открыть тайну: кто это сочинил? В чудеса я не верю, а вы?
Гринсон, известный своей строптивостью, ответил:
— Говорят, что в небе и в земле сокрыто больше, чем снилось философам, а тем более начальникам баз.
— Я думаю, — сказал Гуткинс, любивший шутить по всякому поводу, — я думаю, чудеса обычно происходят по средам: я появился на свет в среду, письмо тоже было найдено в среду.
— Ставлю автору бутылку коньяку, — воскликнул Дорнье, человек особо уважаемый на искусственном острове, — он заботился о наших желудках. — Слышите, целую бутылку, пусть он только встанет, стукнет себя в грудь и скажет: «Господа, все это придумал я».
Но неизвестный автор скромно молчал, хотя мы сулили ему златые горы. Рукопись отправилась в ящик начальничьего стола. Дни шли, работа продвигалась, а в общем ничего не изменилось.
Девять белых и два негра вели на дне океана поиски нефти.
Кшиштоф Борунь
Прежде, чем умру…
Действующие лица:
Узник.
Первый священник.
Второй священник.
Начальник тюрьмы.
Действие происходит в тюрьме: в камере смертников и в коридоре.
Шаги двух человек — часового и священника — в металлических переходах галерей и в коридорах отдаются гулким эхом, перекрывая остальные тюремные звуки. Вначале очень далекие, постепенно они приближаются, становятся все громче. Слышен звон ключей, щелчок, скрип тяжелой металлической двери. Потом — шаги одного человека, входящего в камеру. Скрип закрываемой двери. Тишина.
Священник (неуверенно). Ты звал меня, сын мой…
(Скрип койки. Узник встает.)
Узник. Да…
Священник. Ты хотел исповедаться?..
Узник (поспешно). Нет… То есть… да.
Священник. Я вижу, ты сомневаешься…
Узник (нервозно). Скажите, святой отец, вы действительно не имеете права… никому говорить о том… что услышите от меня?
Священник. Тайна исповеди свята.
Узник. А если… Я хочу кое-что сказать вам… Просить…
Священник. Любое признание или просьба, о которых священник слышит на исповеди, остаются тайной. Слушаю тебя, сын мой.
Узник. А если это будет не исповедь? Я давно перестал верить…
Священник. Понимаю тебя, сын мой. Просто ты хочешь перед смертью сбросить с себя тяжелое бремя… Не опасайся, твое признание в любом случае останется тайной. А веришь ты сам или нет — что ты об этом знаешь?!
Узник. О, не думайте святой отец, что меня обуял страх перед карой, которая меня постигнет через одиннадцать часов… Это лишь мгновение. Я не верю ни в кару, ни в награду после смерти. И даже не жалею о том, что убил… Если б я мог начать жизнь заново, я сделал бы то же самое. Не смотрите на меня так… Может быть, после того, что я скажу, вы поймете… Для меня смерть — конец всего. Можно даже сказать — освобождение. Однако в том-то и дело, что это совсем не конец… при этом остаются нерешенными некоторые проблемы… Уйти из жизни, даже не попытавшись хоть что-нибудь сделать, было бы преступлением, несоизмеримо большим преступлением… нежели то… вы сделаете то, о чем я вас попрошу?.. Вы можете поклясться, что сделаете это?
Священник. Клянусь, я сделаю все возможное, дабы исполнить ваши желания. Особенно если… это может предотвратить зло.
Узник. Не торопитесь клясться. А если то, чего я от вас хочу, будет не в полном согласии с законом?
Священник. С законом?
Узник. Не бойтесь. Это не принесет вреда никому, наоборот — огромную пользу, просто неизмеримую… для всех… (резко меняет тон и тему). Вы знаете, на чем основывается механизм побуждений и эмоций?
Священник (застигнутый врасплох). Механизм чего?
Узник. Я имею в виду философское обоснование таких психических явлений, как агрессивность, страх, восприятие приятного и неприятного… Вы имеете хотя бы малейшее представление, какие физические и химические процессы сопутствуют этому?
Священник (безмерно удивленный). Не понимаю… Какое отношение… Ведь вы предлагали…
Узник (прерывает его). Все в порядке. Я еще не сошел с ума. Это было что-то вроде… скажем, испытания, проверки — не обманываете ли вы меня. Не будем закрывать глаза на тот факт, что я вам тоже не верю. Я имею на это право… да, пожалуй, и обязан. Кто знает? А ведь я вынужден вам все сказать… У меня нет другого выхода. Просто я выбираю меньшее из зол, точнее — меньшую вероятность, что буду обманут… Я не хочу вас обижать. Но пусть все будет ясно… Знаю, что и вы не можете мне доверять. Имею ли я право требовать, чтобы вы, не зная, о чем идет речь, сделали то, что я скажу? Я прекрасно понимаю. Нельзя слепо верить. Особенно убийце.
Священник. Не в этом дело… Вы говорили о расхождении с законом…
Узник. Вы отказываетесь… Это можно было предвидеть. Я напрасно забиваю вам голову…..
Священник. Я не говорил, что отказываюсь. А вдруг вы сказали правду и речь идет о предотвращении преступления?.. Но если бы я мог взвесить, как поступить, если бы я знал факты…
Узник (после недолгого молчания). То, что вы говорите, понятно и разумно — мне этого достаточно… Я вам скажу (его голос начинает дрожать). Вы имеете право знать… И может быть, вы проклянете ту минуту… когда захотели узнать правду… Так как потом уже не будет выбора…
Священник. Думаю, с божьей помощью всегда можно отыскать правильный путь… А если это облегчит твою совесть…
Узник. Дело не во мне… Вы не поняли… Дело в том что груз, о котором вы говорите, придется нести вам самому…
Священник. Вера помогает нести тяжелейший груз… Уже не раз случалось…
Узник (прерывает его). Вы уверены, что нас никто не подслушивает?
Священник. Абсолютно. Я здесь уже шесть лет. Начальник тюрьмы — глубоко верующий человек… высокоморальный…
Узник. Это не относится к делу… Начальник может не знать. Есть способы… Единственная надежда — что до этого никто не додумается. Если я решился на этот разговор, то лишь потому, что никто даже и не подозревает… По крайней мере, так можно думать по ходу следствия и судебного разбирательства. Впрочем… у меня уже нет выбора… (решительно). Слушайте (шепотом). Речь идет о доме. Точнее, о бараке… Полтора часа езды на автомобиле… Где?.. Об этом потом, если вы согласитесь… Барак старый, деревянный. В радиусе трех километров никто там не живет. Когда-то я снял этот барак, якобы под мастерскую… Хозяину назвался чужим именем, а так как я был в парике, темных очках, загримированный, то он не мог узнать меня на фотографиях в газетах. Так вот… Я хочу, чтобы вы… этот барак… сожгли.
Священник. Что?!
Узник. Развалюха стоит меньше, чем я заплатил, когда ее снимал. Хозяин не будет в убытке.
Священник. Но…
Узник. Ясно, что вы этого не сделаете, если не узнаете, зачем. И, наверное, будет недостаточно сказать, что в этом бараке находятся материалы, которые должны быть уничтожены. Об этом вы наверняка догадаетесь сами. Это нужно сжечь… Иначе… если они попадут в человеческие руки… (все более нервозно). Случится непоправимое! Не смотрите на меня так! Я знаю, что вы ничего не понимаете. Но я не преувеличиваю. Скорее, стараюсь говорить осторожно… Если бы я рассказал все как есть, вы сочли бы меня сумасшедшим…
Священник (нетерпеливо). Скажите, наконец, в чем дело?!
Узник (с трудом). Хорошо. Конечно, я должен сказать… О том, к чему могут привести эксперименты, не знал никто. Только Анна Брок, Мартенсберг и я. И у меня не было выбора…
Священник. Ради бога, в чем дело? Какие эксперименты?
Узник (спокойно). Понимаю — следствие и суд классифицировали это как классическое убийство на почве «треугольника»… Я-де был не только ассистентом и секретарем Анны Брок, но и ее любовником. И когда появился Мартенсберг, я оказался «на мели» и поэтому насыпал в рюмки яд… Я не возражал, когда следователь, а затем и прокурор уцепились за эту версию. Это был шанс… что они не доберутся до истины. И они действительно пошли по ложному следу. Вы — первый, кто узнал правду… До вас знали только одно: что Анна Брок-ученый с мировым именем, лауреат Нобелевской премии в области биофизики, Мартенсберг — известный потентат электронной промышленности, председатель «Эльбио». И что я — убийца — был обязан своим жертвам всем: образованием, положением, счетом в банке… Судьи сочли это обстоятельством отягчающим, но второстепенным. В действительности же это было вопросом не второстепенным, а основным! Анна никогда не была моей любовницей. Я был моложе на двадцать лет, но это не имеет значения. Просто… у меня была девушка. Правда, я поссорился с ней именно из-за того, что она заподозрила меня в связи с Анной, не хотела верить, что я целые ночи занят в лаборатории… Но так было на самом деле…
Священник. А Мартенсберг?
Узник. Это совсем другое. Он действительно делал все, чтобы вскружить Анне голову. Так она легче могла стать его слепым орудием. Из-за него я превратился в убийцу. Но дело не в ревности. Я не мог допустить, чтобы он реализовал свои планы…(с возрастающим напряжением). Это было чудовищно! Ведь она не была мне безразлична. Анна долгие годы была моим другом, опекуном, чуть ли не матерью… У меня все время перед глазами эти последние минуты… Она подняла рюмку и улыбнулась мне… Я думал, что не выдержу… сломлюсь. Но она сказала: «За наш общий успех!». Это решило все. Я глядел, как она пьет… И, наверное, был страшен. Должно быть, потому Мартенсберг и обратил на меня внимание. Поэтому он так быстро сообразил, что к чему, когда почувствовал боль. Быстро связался с секретаршей… Я не успел ему помешать… Но самой страшной была та минута, когда Анна поняла… Она посмотрела на меня… Полный удивления, вопрошающий взгляд… Мог ли я убить только Мартенсберга? Я знал — если она останется в живых… все будет потеряно… Я… не хотел… а ведь… не мог иначе!.. (в отчаянии) Вы меня понимаете?
Священник. Пытаюсь понять… Но ничто не может оправдать преступления, убийства! Нарушить божью заповедь!.. Нет! Любое преднамеренное убийство, пусть даже и обусловленное высшими соображениями, остается смертным грехом. Не нам оценивать справедливость этих слов…
Узник. А кому?
Священник. Когда мы ставим свою волю выше воли бога…
Узник (прерывает). Так ведь можно доказать, что я был исполнителем воли божией. Но не в этом дело. Дело в том, что иного пути не было… Я в этом совершенно уверен. Я долго размышлял. Искал иного решения. И не нашел… Оба они должны были погибнуть. Именно тогда, когда уже я знал, что другого выхода нет, я снял этот барак. Хотел сделать там тайник… Чтобы потом, после того, что должно было случиться, выждать и посмотреть, не обнаружит ли полиция материалов, над которыми работали мы с Анной. Если бы это произошло, я все отдал бы на откуп прессе, придал бы делу всеобщую огласку. Это был второй вариант… Альтернатива. Несравнимо худшая, но выбора не было. Так или иначе, я обратился бы в полицию. Я и не собирался бежать!
Священник. И все же вы сделали попытку.
Узник. Тогда, в институте? Это было не бегство. Я говорю бессвязно… Я хотел укрыться на несколько дней в том бараке, посмотреть материалы и уничтожить все, что могло облегчить создание таких генераторов. И в то же время сохранить доказательства того, чем грозили миру эти эксперименты. Вычисления и записи я унес за день до приезда Мартенсберга. Взял также важнейшие элементы аппаратуры.
Священник. А может, у вас были другие намерения?
Узник. Вы думаете, я хотел использовать генератор для личных целей? Прокурор наверняка сказал бы именно так… Если б он только знал… Неправда! Я был не только ассистентом Анны и ее секретарем! Это я открыл эффект кумуляции! Правда, вы в этом не разбираетесь. Сегодня, после их смерти, никто не имеет об этом представления. Вы тоже должны забыть. Но теперь… мне нужно, наконец, сказать, о чем шла речь. Хотя бы в общих чертах. Я не случайно спросил вас, знаете ли вы что-нибудь о физиологическом механизме побуждений и эмоций?
Священник. Я не очень-то понимаю…
Узник. Но вы, вероятно, знаете, что в мозгу расположены центры, контролирующие эмоциональные состояния? Некоторые из них, например центры сытости, голода или жажды, четко локализованы. Иные, — например, страха, — не удалось локализовать. Но это неважно. Важно то, что на процессы, протекающие в этих центрах, можно воздействовать. Вы не слышали о таких экспериментах? Их проводили уже в пятидесятых годах. Ученых интересовала реакция животных на электрическое или химическое раздражение тех или иных центров мозга. Чаще всего опыты проводили на кошках или крысах. Кошка становилась агрессивной… или же начинала бояться мышей. Крыса со вживленными в мозг электродами могла сама раздражать центр удовольствия. Превращалась в наркомана. Погибала от голода, жажды, утомления, нажимая лапкой педаль стимулятора.
Священник. Я слышал об этом!
Узник. Уже тогда некоторые ученые предостерегали… Но это было только предчувствие наших потенциальных возможностей… Лишь работы Анны Брок и мое открытие… наши исследования, которые так щедро финансировал Мартенсберг… Они создали реальную опасность. Так вот… Необходимо еще кое-что объяснить, чтобы вы поняли. Процессы управления побуждениями и эмоциями связаны прежде всего с обменом веществ. Вы знаете, что такое синапсы? Нервные соединения, связь между нейронами, и прохождение сигналов в нервной системе зависит от их, так сказать, пропускной способности. Так вот, в этих синапсах происходят метаболические процессы с участием определенных катализаторов. Это от них зависит прохождение сигналов в нервной сети, в мозге. От них зависят мысли, чувства.
Священник. А от чего зависит обмен веществ? Надеюсь, вы не утверждаете, что наша душа, наши самые интимные переживания и мысли, наша воля несвободны? Что они являются игрой… химических реакций, токов, бегущих по нервам…
Узник. Можно было бы ответить и да и нет. Я знаю, к чему вы клоните… Но все не так просто. Материальная основа всей психической жизни — именно эти физические и химические процессы в нервной системе. Но процессы эти так сложны, что не стоит искать здесь простого детерминизма. В первую очередь они обусловлены тем, что уже было записано в мозге раньше, тем, что мы помним, чему научились, что закрепилось у нас в виде безусловных рефлексов. И хотя все это — электрохимические процессы, здесь можно говорить о личности, об индивидуальности переживаний, о свободе воли…
Священник. Ну… не знаю…
Узник. Эта дискуссия может завести нас далеко, а я не собираюсь говорить с вамп о существовании свободной и бессмертной души. Я пытаюсь только объяснить вам, каким образом то, что мы привыкли называть душой, связано с физическими и химическими процессами, проходящими в нервных клетках. Иначе вы не поймете, что произошло… Так вот… каталитические реакции, о которых я уже говорил, те химические реакции, от которых зависит прохождение нервных импульсов — они в свою очередь находятся в зависимости от определенных факторов электрического и магнитного характера. Например, от частоты электрических импульсов. Больше того, при всех таких реакциях происходят не только изменения в структуре живой химической субстанции, но в то же время возникает магнитное излучение — эмиссия фотонов. Этот спектр — смесь волн различной длины. Почему же их длина различна? Тут вступают в силу сложные биохимические процессы. Но несомненно, что определенной реакции соответствует определенная длина волн. Здесь может иметь место и обратная зависимость. Вы улавливаете суть?
Священник. Признаться… не очень…
Узник. Коротко говоря, профессор Анна Брок сконструировала генератор, дающий возможность управлять этими процессами на расстоянии. А я, дурак, нашел способ выборочным образом воздействовать на симпатические связи. Вы можете спросить, отдавал ли я себе отчет в том, чем это грозит, к чему может привести? Я считал, что она знает лучше, что она ясно видит границу, которую мы не должны перейти. Я верил ей. Верил ее рассудку, совести, чувству ответственности. Но выяснилось, что я ее не знал. Она считала, что таким путем спасет мир от мучений, страха, войн… А потом появился Мартенсберг… Как легко она дала себя увлечь! А он был просто гангстер. Образованный, воспитанный, интеллигент… но гангстер. Больше того — фанатик, охваченный жаждой власти. Я пытался открыть ей глаза. Но она была слепа. Ей казалось, что она командует ситуацией, а между тем она была всего лишь инструментом. И тогда я понял, что бессилен, что если я собираюсь бороться с ними, то должен скрывать свои мысли… Именно тогда… я понял, что остаются только крайние меры…
(Минута молчания. Слышен скрип койки, потом нервные шаги по камере).
Священник. Успокойтесь. Хотя из того, что вы сказали, я понял немногое, но догадываюсь, насколько все это важно. И я верю вам. Может быть, даже понимаю, почему вы требуете, чтобы я стал… поджигателем. Но разве действительно нет иного пути? Разве та, другая, возможность, о которой вы говорили, не лучше? Неужели нельзя сделать правду достоянием гласности и таким образом отвратить опасность?
Узник (иронически). Правду достоянием гласности? Все-таки вы ничего не поняли! А должны понять! Попытаюсь объяснить еще раз, попроще… То, что происходит в нервной системе, имеет решающее значение для нашего психического состояния, определяет наши мысли, чувства. В основе этих процессов лежат химические и электрические явления. Иными словами, биохимическим процессам, обмену веществ, преображению живой материи сопутствует электромагнитное излучение. Каждой реакции соответствует определенная длина волн. Это вы понимаете? Так вот, Брок открыла, что существует и обратная зависимость. Излучение определенной длины благоприятствует некоторым процессам, ускоряет некоторые реакции. Иначе говоря, используя излучение определенной длины, генерируемое искусственно, можно было бы управлять реакциями, проходящими в живых клетках. Дело в том, что эту гипотезу нам не только удалось подтвердить экспериментально — мы нашли способ избирательного, направленного воздействия, к тому же на расстоянии. Одним словом, мы нашли способ управлять тем, что творится в живом организме, в особенности в нервной системе, не исключая и мозга. Вы понимаете, что это значит?
Священник (со страхом). Неужели?.. Это страшно…
Узник. Да… Вижу, что наконец-то вы поняли… И это были не только теоретические выводы. Мы проводили эксперименты. И не только на животных… Вначале на себе… Самое скверное то, что это не обязательно должно вызывать неприятные ощущения. Наоборот. Чаще всего это бывает… приятно. Вы понимаете? Приятное рабство… Такого еще не бывало в истории человечества. Мы перешли границу… Для Мартенсберга это был шанс… По его требованию мы провели опыт. Только один и с ограниченным числом людей. Но этого было достаточно. Мы привезли генератор в центр «Эльбио». Установили над залом заседаний правления — двумя этажами выше. Я видел… Члены контрольного совета с энтузиазмом подхватывали самые нереальные проекты Мартенсберга… С каким обожанием они смотрели на него!.. Серьезные, рассудительные люди! Ужасная картина! Мы следили за ходом заседания с помощью скрытой телекамеры. Анна была совершенно слепа. Ничего не понимала. Смеялась, словно ученица после удачной шутки… Именно тогда я и понял, что другого выхода нет…
Священник. Страшно…
Узник. Страшнее, чем рабство…
Священник (испуганно). А этот генератор действует на всех?
Узник. Есть индивидуальные различия. Но небольшие… Наиболее сильная реакция — у тех, кто находится в поле излучения. На расстоянии тридцати трех метров мы отметили нарушения психики, податливость в отношении различных предложений. Чиновники и заинтересованные лица, находившиеся случайно в поле действия генератора на различных этажах здания, вели себя как сумасшедшие. А ведь генератор был небольшой — экспериментальная модель. Но Мартенсберг понял, какую возможность мы ему предоставляем. Он решил приступить к массовому выпуску этих генераторов. В тот несчастный четверг, после его прилета из Канады, мы должны были втроем разработать детальный план. Что это был за план — не спрашивайте… Я не мог ждать…
Священник (в отчаянии). Но разве нельзя было предохранить от воздействия…
Узник. Можно. И даже нетрудно… Мартенсберг во время эксперимента с контрольным советом сам для себя принял меры… Но… видите ли… Люди могут не захотеть защищаться… Крыса тоже не хотела…
(Минута молчания. Слышны нервные шаги по камере).
Священник (с трудом). Но вы верите в то, что… даже если я сожгу все… не найдутся другие?
Узник. Не знаю. Каждое открытие обусловлено суммой знаний. Достигнутым уровнем развития техники. Мы не можем ликвидировать эту область знаний, но можем сдержать ее развитие. Это важно! Очень важно! Чем позже человек получит власть над чужим мозгом, тем больше вероятности, что мир сможет этому воспротивиться. Я должен верить, что ЭTO будет лучший мир. Что мне еще остается?..
Священник (решительно). Где этот барак?
Узник. Поедете по юго-западной, автостраде, на пятьдесят седьмом километре будет дорога на… (голос стихает).
Далекие тихие шаги нескольких человек по металлическим переходам тюрьмы. Они все приближаются. Звон ключей, щелчок, скрип открываемой двери.
Начальник тюрьмы. Пора…
Узник. Да, но… почему… нет священника?
Второй священник. Я здесь, сын мой.
Узник (беспокойно). Нет… я спрашиваю о том священнике, который меня исповедовал. Он был у меня вчера вечером…
Второй священник. Я его заменяю, сын мои.
Узник. Нет! Я хочу, чтобы он был здесь. Хочу его видеть…
Второй священник. Это невозможно…
Узник (в отчаянии). Я должен с ним увидеться, прежде чем умру…
Начальник тюрьмы. Увы, это невозможно. Святой отец попал в катастрофу…
Узник (с надеждой). Но он жив?
Второй священник. Увы! Неисповедимы пути господни… Тот, кто готовил тебя в последний путь, сам ушел первым.
Узник (бормочет). Это невозможно… Он не мог погибнуть… Не можете ли вы сказать мне, отец мой, где и когда случилась катастрофа?
Второй священник. Часов восемь назад. На юго-западной автостраде. Подробностей я не знаю.
Начальник тюрьмы. Больше ждать нельзя… Пора…
Звуки шагов по переходам и коридору, напряжение усиливается, идущие останавливаются.
Узник (в отчаянии). Когда произошла катастрофа: при возвращении или при выезде из города?..
(Никто не отвечает.)
Узник (в паническом страхе). Я не могу сейчас умереть! Я должен знать! Этого нельзя оставить так! Нельзя! Нельзя!
Конрад Фиалковский
Пробуждение
Он проснулся. За огромными, во всю стену, окнами были видны голые ветви дерева, а дальше — параллелепипеды домов с дисками антенн на крышах. Там, между домами, хозяйничал ветер, временами налетающий с гор, но комната была звуконепроницаемой, и он слышал только, как стучит сердце. По телу бегали мурашки. Он хотел пошевелить ногой — и не мог.
Некоторое время он лежал неподвижно. Вероятно, сейчас уже весна, ранняя весна… Или поздняя осень. А тогда была зима и на шоссе лежал смерзшийся снег. Поворот казался простым, и он слишком поздно понял, что скорость чересчур велика. Потом, когда он выжал педаль тормоза до предела и почувствовал, как машина пошла юзом, стало ясно, что из виража не выйти. Столбики с красными светящимися бляшками на противоположной стороне шоссе катастрофически надвигались. За несколько мгновений до удара он выключил зажигание, потому что был старым водителем и больше всего боялся смерти в огне. Еще он помнил серую поверхность скалы с пятнами снега. Удара он уже не почувствовал…
«И все-таки я жив, — подумал он. — Вероятно, подлатали как смогли, а потом спорили, выживу ли. Ну, что ж, я их не подвел, пусть порадуются. Когда выйду отсюда — преподнесу им цветы. Привезу в коляске, а уж дальше — не моя забота.
А может, мне повезло, и я буду ходить? А лицо? Что с моим лицом?»
Он резко повернул голову, но зеркала в комнате не оказалось. Стены были пусты, и ему почудилось, что они отражают больше света, чем обычные стены, словно они были покрыты блестящей пленкой.
В полной тишине едва слышно прозвенел звонок. Он попытался поднять голову, но шлем давил на виски. И тут он услышал голос:
— Ты проснулся? Мы ждали, когда ты проснешься.
Это был голос женщины, такой четкий, словно она стояла рядом. Но ведь в комнате никого не было.
— Наверно, ты чувствуешь слабость, тебе холодно. Не волнуйся, так и должно быть. Все в порядке. Это пройдет, и ты сможешь совершать даже дальние прогулки, а зимой бегать на лыжах. Будешь здоров, совершенно здоров, как раньше.
— Ты… ты в этом уверена?
— Да. Мы проверили все, каждый твой мускул, каждую кость. Все переломы срослись. Никаких особых повреждений. Мозг работает нормально. Можешь забыть о несчастном случае навсегда.
— Забыть?
— Если хочешь.
Он помолчал. Теперь стены светились ярче, а может, ему только показалось.
— Сколько времени я здесь? — спросил он наконец.
— Долго. Сейчас весна. Через несколько дней появятся первые зеленые листья.
— И я выйду отсюда… сам?
— Да. У тебя впереди еще много лет жизни. Ты молод, Корн.
— Ты знаешь мое имя?
— Разумеется. Ты мой подопечный.
— Понимаю. Ты меня оперировала…
— Оперировал Тельп, он твой ведущий. Он придет позже.
— А ты?
— Я и так с тобой.
— Но ведь тебя здесь нет, слышен только твой голос…
— Увидимся позже. Сейчас мы тебя изолировали. Ты еще очень слаб.
— Я как будто возвращаюсь из дальнего странствия…
— Не понимаю.
— Надо полагать, это был нелегкий случай. Даже странно, что я выжил.
— Тогда ты подумал…
— Я ни о чем не успел подумать. Просто боялся сгореть, ничего больше.
— Тебе повезло, Корн. Следом за тобой ехал грузовик. Тебя вытащили, и через несколько минут ты уже был в клинике.
— Помню. Я обогнал его перед самым поворотом. Представляю себе, сколько хлопот было у Кар. Когда она сможет меня навестить?
— Кар?
— Да, Кар, моя жена.
— Пока ты еще очень слаб. Но когда кончится срок изоляции…
— Сколько мне ждать?
— Не думай об этом. Сейчас ты заснешь. Мы и так слишком долго разговаривали. Проснешься окрепшим и не будешь чувствовать холода.
— Но я не хочу спать… — сказал он, и его тут же стало клонить ко сну. Ответа он не услышал.
— Ты проснулся? Прекрасно… — Над ним склонился невысокий мужчина. Корн видел его глаза, огромные, темные, с тем странным выражением, которое бывает только у близоруких. — Я Тельп, твой ведущий. Как самочувствие?
— Пожалуй, неплохо.
Корн пошевелил ногами. В комнате было светло, и сначала он подумал, что светит солнце. Но за окном шел дождь, и только стены горели ярким желтым светом.
— Прекрасно! — сказал Тельп. — Ты даже не представляешь себе, как я рад. Попробуй встать, — он подал Корну руку.
«Я могу двигаться, честное слово, могу двигаться», — подумал Корн, коснулся босыми ногами ковра и встал.
— Я не чувствую слабости, — сказал он.
— Так и должно быть. Вначале ты даже почувствуешь некоторый избыток сил, пока не привыкнешь.
— Не понимаю.
— Это довольно сложно, и все же так оно и есть. Помни, ты стал сильнее, наверняка сильнее, чем был раньше.
— Укрепляющее лечение?
— Нечто подобное, — Тельп улыбнулся, и Корн заметил, что хирург — его одногодка, а может, и моложе. Корн сделал несколько шагов по комнате.
— А лицо, как мое лицо?
— Хочешь себя увидеть?
— Да.
— Зеркало! — крикнул Тельп, хотя в комнате никого не было.
— Его принесут?
Тельп усмехнулся и показал на боковую стену. Часть ее теперь отражала внутреннее убранство комнаты, и, подойдя ближе, Корн увидел себя. Это было его лицо, может, немного изменившееся, но наверняка его. Сначала он не понял, какие же произошли изменения, потом сообразил: на лице не было морщин.
— Пластическая операция?
— Тебя пришлось немного подремонтировать, — Тельп опять улыбнулся. — Надеюсь, ты не в претензии?
— Конечно.
Корн смотрел на свое лицо, на коротко подстриженные волосы и на странный, переливчатый материал, плотно облегающий тело. Ни одной пуговицы. На Тельпе был костюм из такого же материала.
— Как его снять? — спросил Корн.
Тельп подошел и слегка потянул материал у шеи — он разошелся вдоль невидимого шва. Корн увидел свою грудь, исчерченную тонкими, поблекшими шрамами.
— А вы меня здорово искромсали…
— Да, но срослось, как видишь, отлично.
— Совсем не больно, — заметил Корн, показывая на шрамы. — Но вообще со мной было много мороки…
— Иначе и быть не могло. Ты — моя докторская диссертация, Корн.
— Докторская? Так серьезно?
— Серьезней некуда. Совершенно новое дело. Уникальная операция.
— Правда?
— Ты еще в этом убедишься. Во всяком случае, сейчас твой организм работает, как говорится, без перебоев. Понимаешь? На все сто, а то и на двести. У тебя впереди целая жизнь. Можешь стать даже космонавтом.
— Правда? Девушка говорила только о лыжных прогулках…
— Девушка?
— Та, с которой я разговаривал, когда проснулся.
— Кома.
— Это ее имя?
— Да. Она тебя курирует. Я только врач: операция, предварительные процедуры…
— Да. Наверно, у тебя масса пациентов. У Кар их всегда полным-полно.
— У кого?
— У Кар, моей жены. Ты же должен был с ней связаться.
— Да, конечно.
— Это она меня сюда поместила. У вас очень современная клиника.
Тельп некоторое время смотрел в окно на ветви дерева, качающиеся под порывом ветра, потом сказал:
— Одно ясно: своей жизнью ты обязан ей.
— И тебе…
— Моя роль, — замялся Тельп, — в определенном смысле вторична.
— Не понимаю.
— Мы еще успеем поговорить об этом. А теперь поешь. Первый настоящий обед после долгого периода искусственного питания. Ты рад?
— Еще бы.
— Сейчас подадут. Возможно, он покажется тебе несколько странным, но ты пока на диете.
Кори хотел было спросить, когда кончится изоляция, но в этот момент дверь открылась, въехал столик и запахло бульоном. Тельп пододвинул стул.
— Садись и ешь. Хочешь послушать музыку? Еще древние заметили, что музыка благотворно влияет на процесс пищеварения.
— Здесь есть радио? — Корн осмотрелся, но не увидел приемника.
— Только динамик. Что бы ты хотел послушать?
— Мне все равно, — Корн сел и расстелил на коленях салфетку. Динамик зашумел, послышались мелодичные звуки.
— Это ты включил?
— Я? Нет. Это автоматика, — сказал Тельп и вышел.
«Уж не слишком ли много здесь автоматики?» — подумал Корн, но потом принялся за еду и забыл об этом. Еще раз он вспомнил об автоматике после обеда, когда столик сам выкатился из комнаты, а дверь за ним сразу же закрылась. Корну захотелось посмотреть, что же происходит со столиком. Он подошел к двери и подождал, пока она откроется, но дверь так и не открылась.
Он вернулся, подошел к окну, взглянул на серое небо — надвигались сумерки. Потом лег и уснул.
Опять, как и в то злосчастное утро, он был на обледеневшем за ночь шоссе. Опять обгонял большие автобусы. На горизонте синели далекие горы. Обогрев работал уже несколько минут, в машине было тепло и, делая первые виражи, Корн насвистывал марш, который помнил еще с юношеских времен. А потом резкий поворот и странная спазма в желудке, когда колеса оторвались от поверхности шоссе. Он проснулся, чувствуя, как кровь стучит в висках. И услышал голос:
— …опять, опять неконтролируемые сны. Это недопустимо. Сколько раз можно повторять…
— Схема рекомбинации предусматривает эту фазу, — говорила женщина. Этот голос был ему знаком.
— Какое мне дело до ваших фаз! Это мой пациент.
Корн открыл глаза. Около кровати стоял Тельп. Больше никого не было.
— Он проснулся. Займитесь им. Я вернусь попозже.
Корн взглянул на дверь, но там не было никого. Тельп смотрел ему в глаза.
— Не так уж приятно видеть во сне кошмары? Но это пройдет! Потом у тебя будут нормальные сны, которых ты не будешь помнить.
— А она… почему она вышла?
— Кто? Кома? Вернется. Теперь ты будешь под ее опекой. Она следит за твоей адаптацией.
— Она психолог?
— И психолог тоже. Ну, что ж, я ухожу. Я пришел, потому что у тебя подскочило давление, участился пульс, и я решил узнать, что случилось…
— Знаешь что, с меня довольно, — сказал Корн.
— Не понимаю.
— Я сыт по горло этой изоляцией. Я чувствую себя здоровым, совершенно здоровым, хочу видеть родных, знакомых. Я хочу выйти.
— Скоро выйдешь.
— Уже слышал.
— А что ты хочешь услышать еще?
— Когда же я выйду?
Тельп внимательно взглянул на него.
— Пройдешь курс адаптации. Это отнимет дня два, три. Потом выйдешь и остальное будешь решать сам. Но эти несколько дней тебе придется побыть здесь. Ты взрослый человек, Корн.
Около двери Тельп еще раз обернулся, взглянул на Корна и сказал:
— Тебе тридцать один год. У тебя еще все впереди. Помни об этом.
Он ушел, а Корн смотрел в потолок, который тлел и переливался в темноте еле видимым голубоватым светом, и размышлял о том, что же хотел ему сказать близорукий врач с широким лбом. Потом потолок погас, и Корн остался в темноте.
Он открыл глаза, когда почувствовал прикосновение ко лбу у самых волос. В комнате опять было светло. На стуле около кровати сидела девушка и смотрела на него.
«Портрет, — подумал он. — Она словно сошла с картины старых мастеров».
— Кома? — спросил он.
— Да. Вот и я.
— Знаю, ты психолог. Ты отвечаешь за мою адаптацию?
— Можно сказать и так. Но весь курс адаптации — попросту беседа, — она говорила спокойно, четко, как хороший лектор.
— И с чего же ты собираешься начать?
— Безразлично. Ведь ты когда-то увлекался астрономией?
— Да, еще в школе, перед выпускными экзаменами. Откуда ты знаешь?
— Ты должен привыкнуть к тому, что я знаю о тебе очень многое, и не удивляться. Договорились?
— Да. Итак, я занимался астрономией еще до того, как поступил на физическое отделение.
— Я обрадовалась, когда узнала об этом. С теми, кто по ночам смотрел в небо, мне легче разговаривать: они как бы вне времени. Это остается на всю жизнь.
— Не понимаю.
— Понимаешь, только, может, еще не знаешь об этом. Вспомни.
Он хотел сказать, что не знает, о чем же ему надо вспоминать, но внезапно ощутил вечерний ветер, веющий с опаленной солнцем пустыни, и вспомнил небо, на котором горели яркие вечерние звезды. Это было давно, лет десять — двенадцать назад. Разбитая дорога, низкие глинобитные домишки, блеяние коз, а потом равнина и какие-то развалины — оттуда он смотрел в небо.
— Звезды над пустыней кажутся ближе, — говорил старик-азиат, — и поэтому здесь построили обсерваторию. По ночам смотрели в небо, а утром, когда восходило солнце, спускались вниз, в подземелье, на отдых. Вот уже тысяча лет, как они ушли, но если б они жили сегодня, все было бы точно так же.
— Ты знала об этой обсерватории? — спросил Корн.
— Да. Но тогда ты был еще слишком молод, и все казалось тебе неизменным, или, скорее, очень медленно изменяющимся. Так бывает всегда, пока ты молод. Если мы замечаем, что все изменяется, — значит, мы стареем. С годами дни становятся короче, лето сливается с зимой и следующим летом, а осени и весны мы почти не замечаем.
— Зачем ты мне об этом говоришь?
— Потому что время — твоя проблема.
— Проблема?
— Да.
Он не понял. Внимательно посмотрел на девушку, увидел ее неподвижные темные глаза и волосы, гладкие и собранные на затылке в пучок, и спросил:
— Сколько тебе лет?
— Мне? Разве это важно?
— Думаю, что да. Ты разговариваешь со мной, как старшая сестра, вводящая мальчика в жизнь, а я подозреваю, что ты еще играла в песочек, когда я сдавал выпускные экзамены.
— Я никогда не играла в песочек, — Кома сказала это спокойно, и все-таки ему почудилось, что он ее обидел.
— Ну, пусть сравнение и неудачное, — заметил он, оправдываясь. — Но все равно ты моложе меня. Мне кажется, тебе есть что мне сказать, и я бы хотел, чтобы ты сказала об этом просто и ясно.
Она немного помолчала, потом, улыбнувшись, ответила:
— Корн, я скажу тебе только одно. Разговор с тобой — моя работа. Я знаю, что делаю, и поэтому нам придется еще немного побеседовать. Разве что ты очень устал…
— Я не устал, но мне бы хотелось скорее покончить с этой процедурой. Потом я буду разговаривать с тобой на любые темы.
— Не думаю, чтобы ты сюда вернулся. Скажи, ты когда-нибудь хотел стать космонавтом?
— Каждый мальчишка мечтает об этом.
— Но потом ты мечтал еще и о другом?
— Возможно… когда-то. Не помню.
На самом деле он помнил. Это было, когда вернулась первая венерианская экспедиция. На экране телевизора он видел толпы, флаги с серебряными знаками космонавтов и цветы, которые девушки бросали в машины. А в машинах сидели люди, знакомые по фотографиям, люди, вернувшиеся оттуда.
Тех, что возвратились в металлических ящиках, стоявших в трюмах ракет, не показывали, но их гибель только подчеркивала героизм живых. В тот раз еще он опоздал в кино, потому что телепередача была длинной, а он хотел посмотреть ее всю. Но тогда ему было уже столько лет, что он не мог представить себя улыбающимся в автомобиле вместе с ними. Может, он в ту пору еще воображал, как покидает ракету там, на Венере, погружается в скафандре в белые испарения планеты.
— Я — космонавт? Мне как-то трудно это себе представить, — сказал он.
— Экспедиции к отдаленным планетам, возвращение через несколько лет…
— Нет, это не по мне.
Она снова помолчала.
— А имя профессора Бедфорда тебе не знакомо?
— Нет. Какое-то изречение, теорема? Или я должен помнить его по выступлению на каком-нибудь съезде?
— Нет. Он жил очень давно. Еще до твоего рождения. Твой отец наверняка знал это имя.
— Так позвони ему и спроси.
— Не шути.
— Я говорю серьезно. Если тебе это нужно…
— Я-то знаю, кто такой Бедфорд. Он вошел в историю как первый человек, позволивший себя заморозить. Он умирал от рака, и когда его признали безнадежным больным, тело его охладили, так что жизненные процессы в организме приостановились. Потом его заключили в герметическую оболочку и погрузили в жидкий азот. Теоретически процесс был обратимым. Но только теоретически. В то время никто не мог вылечить такого больного.
— Он решил подождать иных времен? И поэтому… заморозился?
— Подождать, пока люди не научатся возвращать замороженным телам жизнь и лечить рак. Для него время остановилось.
— Он умер.
— Нет, он… ждет. Это промежуточное состояние между жизнью и смертью — ожидание. Когда находишься вне времени. Состояние, в котором космонавты летят к Урану и Нептуну. Когда Бедфорд проснется, в глубине космоса разгорятся новые солнца.
Он заметил, что глаза ее неподвижны и черты лица стали резче.
— Для него время тоже будет проблемой? — спросил он наконец.
— Да.
Корн понял. Он долго молча смотрел на стены, горевшие неизменным светом, наконец спросил:
— Сколько… сколько лет?
— Сорок один год. Сорок один год миновал зимой.
— Это много? — задал он бессмысленный вопрос.
— Много, — ответила Кома.
Витольд Зегальский
Состояние опасности
— Конечно, справишься, — Арат протянул на прощание руку.
— Через несколько месяцев пришлем замену. Ты должен выдержать.
Тед пожал протянутую руку и кисло улыбнулся.
— Понимаю, — сказал Арат, — но мы не можем дать тебе никого. Сам знаешь — у всех работы по горло. Правда, объект маленький, устаревший, но техконтроль не обнаружил крупных дефектов, так что особых забот у тебя не будет. Пока довольно одного человека, а потом переведем на полную автоматику. Ну, держись, старина!
Арат помахал рукой и пошел к вертолету. Тед смотрел, как он, покачиваясь, поднимается по ступенькам, закрывает дверцу, садится рядом с пилотом… выглядывает из кабины.
— Да посмотри как следует, может, все-таки найдешь хоть какой-то след Макса! — крикнул он, но его голос утонул в шуме моря. Вертолет дрогнул, медленно оторвался от бетонной плиты и, сделав круг над площадкой, помчался на запад.
Тед глядел ему вслед до тех пор, пока машина не скрылась из глаз. Гул моторов утих, и опять стал слышен лишь монотонный шум волн, бьющих о бетонные волноломы. С плоской крыши было видно только бескрайнее море, сливающееся с далеким горизонтом. Тед с отвращением подумал, что ему придется несколько месяцев прожить на этой богом забытой станции, в помещении, венчающем огромный пористый перевернутый обелиск, на двести метров уходящий в глубь моря. Над поверхностью воды возвышалась только станция, в которой размещались производственные цехи и жилые помещения, а ниже — лишь рыбы заселяли бесчисленные переходы и гроты. Сотни видов разместились на различных уровнях, откуда в соответствии с гармоиограммой их засасывали трубы транспортеров, отправляющие рыб в производственные помещения. Сооружение было старое. Несколько горизонтов уже бездействовало, но это никого особенно не огорчало, так как с года на год станцию должны были закрыть или модернизировать. Впрочем, недавно морское хозяйство специализировалось на разведении планктона и водоплавающих растений, менее трудоемком и более продуктивном.
— Надо же было, чтобы это выпало на мою долю! — со злостью сказал Тед. — Мало я насиделся в этих паршивых одиноких дырах! Мог бы наконец и отдохнуть.
Он часто разговаривал сам с собой. Это был прекрасный способ поддерживать психическое равновесие в безлюдных местах, способ, применяемый ихтиологами и командами малых космических станций.
Правда, можно разговаривать с автоматами, наносить телевизиты знакомым или беседовать на разные темы с информационно-увеселительным центром, но это заменители, не всегда дающие положительный результат. Автоматы бывают хорошими партнерами, если их память достаточно обширна, содержит необходимые тесты и связи. Электронный мозг средней мощности проявляет гениальность в определенной области, что не мешает ему совершенно не разбираться в целом ряде, казалось бы, простых вопросов.
Разговоры с центром перестали интересовать людей с тех пор, как выяснилось, что партнер или партнерша на пространственном экране — не более чем иллюзия, один из миллиардов образов, записанных в студии. Телевизиты же вызывали раздражение и депрессию, усугубляя ощущение изолированности от больших коллективов. Оставалось одно — говорить и слушать голос человека, пусть даже это значит слушать самого себя.
Тед пошел к выходу. Спустился на первый горизонт и, миновав жилую часть, толкнул дверь, ведущую в производственный цех.
Машины работали беззвучно: под прозрачными покрытиями бесшумно происходил процесс переработки рыбы, на щитах автоматов загорались и гасли контрольные лампочки. Тед подошел к пульту управления. В центральной части пульта, усеянного циферблатами и экранами, горела схема строения станции. На ней было много темных пятен. Тед нажал переключатель. Отозвался электронный мозг, управляющий всей станцией.
— Давно бездействуют нижние горизонты? — спросил Тед.
— В каком порядке докладывать? — ответил мозг вопросом на вопрос.
— Начиная с последнего отключенного уровня, в обратном порядке.
— Пожалуйста. Последняя авария произошла на третьем горизонте восемнадцатого июня две тысячи двести пятого года в девятнадцать ноль восемь. До этого вышли из строя секции А, В, С сто десятого горизонта…
Несколько минут Тед терпеливо слушал. Старому сооружению грозила гибель: лопались перекрытия и стены, замирали транспортные шахты, выходила из строя электрическая проводка. Производственный процесс следовало остановить, чтобы сохранить станцию в состоянии, пригодном для эксплуатации.
— Благодарю, — сказал он, — достаточно. А теперь запомни: меня зовут Тед.
— Хорошо, Тед.
— Если Макс дал тебе какие-нибудь указания, касающиеся его образа жизни, ну, например, просил тебя его разбудить, напомнить о том, что нужно бриться, или что-то в этом роде, с сегодняшнего дня это отменяется.
— Хорошо, Тед. Запомнить?
— Да.
Он на секунду задумался.
— Как тебя зовут? — бросил он в микрофон.
— Ева, — ответил мозг.
Тед улыбнулся. У каждого автомата, наделенного голосом, было имя — старый обычай, оставшийся со времен первых роботов. Работающий с машиной человек мог изменить это имя, изменить тембр голоса…
Но это случалось редко. Тед не собирался отступать от правил.
— Слушай, Ева, — сказал он. — Где Макс?
— Не знаю, Тед, я его не вижу.
— А где он был в последний раз?
— Сидел за пультом управления.
Тед непроизвольно оглянулся.
— Так же, как я?
— Да, Тед.
— А потом?
— Не знаю, Тед.
— Почему не знаешь?
— Он выключил меня. Потом я его искала, так как он был в опасности.
Тед нажал белую кнопку и задумался. Исчезновение Макса поразило всех. Обшарили всю станцию, склады, цехи и даже несколько подводных горизонтов, хотя скафандры и моторные лодки оказались на своих местах. Светловолосый норвежец исчез. Остался только след. Центральный мозг станции отметил, что в течение четырех часов существовала опасность для человеческой жизни. Потом предохранитель вернулся в нормальное положение. Из анализа записей следовало, что все это происходило в воде. Предполагали, что Макс неосторожно подошел к одному из волноломов и упал в воду, получив контузию. В районе станции акулы не были редкостью.
Когда Тед проснулся, было позднее утро. Солнце стояло высоко, и оконные плиты, поддерживающие постоянную силу света внутри жилых помещений, потемнели. Он вышел в коридор и некоторое время раздумывал, войти ли в комнату, которую еще недавно занимал Макс. Потом толкнул дверь.
Эта просторная комната не отличалась от других помещений подобного типа. Застекленная стена позволяла наблюдать за морем и небольшим бассейном, окруженным террасой. Меблировка была стереотипной — сменяющиеся картины, большой телевизионный экран. Все здесь было в полном порядке, словно ожидало возвращения хозяина. Педантичность Макса была хорошо известна. Его робот-прислуга получал от хозяина, наверно, самую подробную программу действий, какую только можно вообразить. Днем раньше в комнату Макса приходила комиссия. Но осмотр шкафов, письменного стола и записей не помог. Вещи оставили на месте, не очень-то зная, что с ними делать. Макс был «человеком из реторты», родился в институте и не имел родителей.
Тед нажал кнопку в стене. Кремовые плиты раздвинулась, открыв внутренность шкафа. Здесь висело несколько костюмов, лежали сорочки, несессер… Среди мелочей он заметил фотографию в рамке. Нажал кнопку, и на матовой поверхности появилось улыбающееся лицо девушки с голубыми глазами. Он долго рассматривал ее, пытаясь представить себе, как она восприняла трагическое сообщение. Потом опять нажал кнопку. Новое изображение не появилось: фотография оказалась единственной. Тед положил фотографию на место и подошел к окну.
Океан, омывая волнами стены станции, разбрызгивал пену, неспешно, зернышко за зернышком вымывал песок из бетонных стен. Светлая голубизна неба и более темная — моря сливались на горизонте. Ему показалось, что он понял, почему у девушки на фотографии голубые глаза. Наверное, Макс частенько стоял у окна.
На столе, рядом с экраном, лежала стопка бумаг и папок. Он бегло просмотрел их. Графики продукции, производительность машин, длинные ленты вычислений электронного мозга — все эти данные имели отношение к ремонту нижних горизонтов. Материала было много. Макс не терял времени даром. Тед подумал, что и ему надо будет заняться этим, чтобы заполнить несколько десятков дней пребывания на станции.
Он просмотрел названия микрофильмов в подсобной библиотеке. Нашел много микрофильмов об астронавтике, репортажей о космических полетах, романов и стихов. Макс когда-то пытался поступить в школу ракетных пилотов, но из-за незначительного дефекта сердца его кандидатуру отклонили. На его долю достались туристические экскупсии в лунные города и, может быть, тоска по несбывшемуся. Впрочем, Макс был хорошим ихтиологом и в совершенстве овладел своей профессией, что помогало ему отвлечься от мысли о рулях в кабине астронавигатора.
— Ну что ж, — сказал озадаченный Тед после осмотра, от которого, впрочем, многого и не ожидал, — надо заняться чем-то конкретным.
Некоторое время он в нерешительности глядел на записки. Потом все-таки взял их с собой. Часть производственных цехов бездействовала, под защитными покрытиями застыли ленты транспортеров, шестерни и подшипники. Роботы, выполняя решение контрольной комиссии, производили ремонт, заменяли вышедшие из строя части и смазку. Он подошел к одному из механизмов, у которого робот снимал огромную стальную деталь — ведущий вал с хватателей подъемника. Тед наклонился над размонтированной машиной. Предохранитель автомата задержал опускающийся рычаг с многотонным грузом. Робот ждал, пока Тед кончит осмотр и уберет голову.
Над ним висели ножи. Ряды ножей различного типа тянулись секциями на протяжении нескольких метров. Одни потрошили сырье, другие отделяли головы и хвосты. Отходы падали в канал, по которому их переправляли на нижние горизонты, где водились хищные виды рыб. Как и остальные машины на станции, эта была далека от требований современной техники. Тед пожал плечами и пошел дальше. Робот опять принялся за дело.
— Нет смысла запускать горизонты, — ворчал Тед под нос. — Все это похоже на огромный чулан. Здесь нужно устроить музей, и пусть автомат водит экскурсии. Нечего держать тут человека.
Он неохотно уселся за пульт управления и начал просматривать документы. Поначалу ему казалось, что разбираться в материалах, обработанных другим человеком, дело долгое, но вскоре он убедился, что это не так. Хаос в бумагах был только кажущимся; они составляли нечто целое, единую систему, дающую возможность быстро ориентироваться и в очень сложной ситуации. Прежде всего, Макс хотел исключить дальнейшие аварии. Автоматы под водой сами заменяли сработанные сегменты всасывающих каналов, латали дыры, восстанавливали сложную сеть электрических проводов. Положение было устойчивым, и вряд ли здесь Теда подстерегали какие-то неожиданности. Заданный центральному мозгу план технических осмотров гарантировал станции бесперебойную работу. На всех работающих горизонтах действовали телевизионные камеры, установленные в узловых пунктах.
Тед включил четвертый горизонт. На экране появились туманные контуры, потом они стали резче и наконец возникло четкое изображение внутренней части подводного зала, продырявленной просветами и устьями переходов. Степы, полные ниш и щелей, были отшлифованы морем. В колеблющихся колониях водорослей кормились косяки рыб. В потолке большой пещеры Тед увидел гладкий, воронкообразный выход шахты и ящик мегафона. Особые звуки привлекали в пещеру рыб, а мощный поток воды засасывал их в канал, ведущий в производственные цехи. Сейчас здесь было спокойно. Эксплуатация должна была начаться лишь через несколько месяцев.
Следующий день ушел на изучение содержимого папки. Когда утомленный Тед отодвинул ее от себя, была уже ночь. Подробный просмотр бумаг привел к совершенно неожиданным результатам: сто третий уровень был отремонтирован и полностью готов к эксплуатации. Макс уже передал центральному мозгу запись необходимых звуков для привлечения рыб. В папке Тед нашел и оригиналы — три перфорированные пластиковые таблички, содержащие всю технологию четырехчасового производственного цикла.
Он взглянул на фотографию, которую еще перед обедом принес из пустой комнаты Макса. Трехмерное лицо девушки улыбнулось ему из металлической рамки. Ему пришло в голову, что было бы приятно с ней побеседовать, нанести ей телевизит. Но он не знал ни ее фамилии, ни номера, а для выяснения всего этого при тех данных, которыми он располагал, потребовалось бы много времени. На одиноких станциях работники часто беседуют с электронным мозгом. Часто, намного чаще, чем это показывает статистика, они поверяют им самые интимные мысли, а в момент отъезда стирают их с кристаллов памяти. Можно было попробовать. Он спрятал фотографию в карман и вышел.
Производственный цех был уже готов к запуску, роботы стояли на своих местах около машин. Он сел за пульт и вызвал центральный электронный мозг. На пульте зажегся зеленый глазок экрана.
— Слушай, Ева, — сказал он, вынимая фотографию, — ты не знаешь, кто эта девушка?
— Это я, Ева.
— Ах, вот как, — буркнул Тед, — значит, это ты? Как твоя фамилия? Где ты живешь?
— Фамилия моя Джексон, а живу я здесь.
— Где? — удивился он. — На станции?
— Да, Тед.
Он взял себя в руки. Кроме него, на станции не жил никто. Это было какое-то чудачество Макса. Надо было спрашивать по-другому.
— А где ты жила раньше?
— В Амстердаме. Потом, перед тем, как меня засыпало лавиной, я жила в Альпах. Теперь живу здесь, а нахожусь там.
Он смотрел на фотографию. Девушка по-прежнему улыбалась.
— Значит, ты мертва, Ева?
— Макс так говорил, когда был в скверном настроении. Он говорил, что я не должна была взбираться на стену, но потом просил у меня прощения. Я жива, здесь живет мой голос и здесь меня можно видеть на экране.
Тед задумался. Только теперь он понял, почему Макс много лет не покидал станции и заполнил работой жизнь. Теду расхотелось видеть девушку Макса на экране и уж тем более продолжать этот разговор.
— Слушай, Ева, — заметил он, — ты не сказала мне что сто третий горизонт полностью отремонтирован.
— Но ты не спрашивал об этом, Тед.
— Ты сообщила, что он не действует. Почему?
— Он не подключен к центру питания. Я не могу эксплуатировать его сама.
«Значит, достаточно нажать соответствующий переключатель, чтобы процесс начался. Этой простейшей операции Макс не успел проделать. Завтра я подключу горизонт стационарно», — решил Тед. Ему не хотелось сейчас спускаться в энергетические помещения, — чтобы несколько десятков минут копаться в лампах и кабелях. Он поискал на пульте кнопку, обозначенную номером 103, и нажал холодную гладкую поверхность.
На щитах загорелись контрольные сигналы, дрогнули стрелки, засветился экран. Чуть слышно зашуршали машины. Под звуконепроницаемыми покрытиями поползли еще пустые ленты транспортеров, завертелись ножи…
Он взглянул на экран. В огромном зале сто третьего горизонта начали собираться чешуйчатые рыбы с тупыми мордами и длинными антеннами усов. Они выплывали из темных проемов коридоров.
В подводных казематах плескались рыбы. Их становилось все больше, они кружились все быстрее, и насосам пора было уже начать работу. Однако почему-то процесс задерживался. Теда это беспокоило. Наконец он заметил, что течением засасывает в воронку рыб. Это продолжалось недолго, и вскоре все прекратилось. Он удивился. В воронке опять исчезло несколько рыб, но спустя минуту они поднялись наверх. Наклонившись над экраном, он внимательно следил за работой всасывающего канала. Рыбы вели себя довольно странно. Вместо того чтобы собраться возле воронки, они сбились в кучу возле камня у стены. Первый раз в жизни Тед наблюдал подобное и пытался найти этому объяснение. Может, акустическое отражение? Воронка продолжала всасывать рыб с перерывами. Тед взглянул на контрольные циферблаты: насосы работают правильно.
Неожиданно он почувствовал, как его обхватили стальные руки. Он повернул голову. За спиной стоял один из роботов. Тед остолбенел от изумления. Еще не бывало такого, чтобы автомат притронулся к человеку. Каждый робот снабжен предохранителем, который исключает такую возможность. Лишь медленно сжимавшиеся объятия заставили Теда вернуться к реальности.
— Немедленно отпусти, — сказал он.
Робот заколебался, стальные пальцы чуть ослабили хватку.
— Немедленно отпусти, ты, дрянь!
Автомат не реагировал. Теда охватил страх. Он оглянулся. Роботы непонятно почему снялись со своих мест и двигались по дорожкам вдоль машин. Их медленная неуверенная поступь, неожиданные остановки, явное отсутствие цели очень напоминали поиски. У Теда мелькнула мысль, что он вздремнул и ему снится какой-то жуткий сон. Робот легонько потянул его.
— Стой! — крикнул Тед. — Стой и отпусти меня, слышишь?! Робот заколебался. Тед взглянул на пульт управления, на кнопку аварийного выключателя, блокирующего все приборы станции, в том числе и атомный реактор. Он лихорадочно попытался освободиться, протянуть руку… Кнопка была совсем рядом.
Но это ему не удалось. Он почувствовал, что робот тянет его, медленно, останавливаясь только, когда тот кричит. Пульт с циферблатами, выключателями, с горящим экраном все удалялся. Тед попробовал преодолеть парализовавший его страх перед неведомой опасностью, попытался собраться с мыслями, упорядочить их.
Он с трудом взял себя в руки. Прежде всего необходимо остановить робота, который на приказ «Стой!» реагировал лишь через несколько секунд. Тед заметил, что и другие автоматы, бродившие неподалеку, в этот момент замирали. Поэтому он, не переставая, кричал «Стой!» и лишь иногда отдавал приказ центральному мозгу станции заблокировать все механизмы. Но Ева молчала, только иногда из динамика слышалось невнятное бормотание.
Он громко повторял: «Стой! Стой! Стой!», а тем временем прикидывал, что же могло произойти. Неожиданно ему пришла в голову мысль о бунте роботов. Чушь! А может, Макс отдал Еве какой-нибудь самоубийственный приказ? Но автомат не мог бы его выполнить, это выходило за рамки его возможностей. Тед снова возвратился мыслями к Максу. Ведь перед своим исчезновением он тоже сидел за пультом. Значит, сейчас повторяется то же самое… Он вздрогнул. Смутное ощущение опасности стало принимать вполне реальные формы. К нему возвратилось потерянное было равновесие. Если он не сумеет изменить ход событий, его ожидает судьба Макса. Но что делать? Робот опять потянул его.
— Стой! — крикнул Тед. Нет, нельзя было молчать ни секунды. Каждая пауза на несколько сантиметров удаляла его от пульта управления. Он взглянул на зал. Вентиляционные и очищающие устройства со свистом поглощали воздух. Значит, насосы реверсируют. Вместо того чтобы засасывать воду, они засасывают воздух, но воздух поступает в зал извне, значит… засасывают воздух… засасывают воздух…
Он вздрогнул. Проверил, куда же его тянет робот. Без сомнения, автомат двигался к началу транспортной ленты, к транспортеру, идущему к секции вращающихся ножей, секции, сортирующей сырье… Нестандартные отходы попадают в канал, идут на корм рыбам…
— Нет! — заорал Тед, чувствуя, что робот опять пришел в движение. — Стой, сволочь! Стой! У тебя же есть предохранитель! Стой! Ты ничего не можешь мне сделать! Стой! Стой!
Предохранитель? У каждого робота есть предохранитель, не позволяющий ему причинить человеку вред. У Евы тоже есть предохранитель, центральный, регулирующий действия всех роботов на станции. Стало быть, предохранители полетели? Комиссия проверила все приборы, с этого начинался любой контроль. Именно с этого. Прежде всего с этого. И все-таки предохранители? Минутку… Предохранитель начинает работать под воздействием…
— Стой! Стой! Я отправлю тебя на свалку… Стоп! Стоп! Стоп!.. Что-то испорчено, повреждено… Эта скотина меня видит, слышит — иначе бы он не реагировал, а ведь он реагирует, слабо, но реагирует… Значит, контур органов чувств работает…
Тед хрипло выкрикивал приказ, пытаясь ослабить объятия стальных рук, его мозг работал четко. Он пытался привести все в единую систему, вспоминал отрывочные сведения из лекций. Предохранитель. Прибор действовал по принципу выбора — замеченный объект или был человеком, или же не был. Стало быть, если робот видел и слышал человека и все же привел в действие хвататели, это могло случиться лишь из-за того, что приказ был заглушен. Такое нарушение мог вызвать лишь контур биотоков мозга.
В угрожающей ситуации инстинкт самосохранения у человека ответствен за биоволны, приказывающие роботу оказывать помощь всеми доступными ему средствами. Неужели мой инстинкт самосохранения не действует? Ерунда! Действует, и еще как!
Тед взглянул на экран. Рыбы в пещере собрались около обросшего водорослями камня. Их длинные усы ритмично шевелились. Тед видел только контуры лежащей в пещере глыбы, но, может быть, именно поэтому понял, что это такое. У стены, опутанный витками плесневеющего кабеля, лежал разъеденный коррозией старый робот. С возрастающим беспокойством Тед понял, что предохранитель робота, вероятно, действует, что, быть может, он воспринимает и передает в центральный мозг станции сигналы опасности для огромной массы рыб, собравшейся там.
Тед почувствовал, как на лбу, на щеках и шее у него выступили капли пота. Разум Евы, хоть и состоящий из сотен миллионов кристаллов, был слишком мал, чтобы отличить импульс коллективной опасности, который исходит от косяка рыб и поступает к ней через предохранитель проржавевшего робота, от импульса одного человека. У него даже мелькнула мысль, что электронный мозг, разум низшего порядка, сильнее воспринимает импульс примитивный, более агрессивный, ибо он ничем не смягчен. Ева — электронный мозг — пытается с помощью подчиняющихся ей роботов, машин, насосов всеми способами ликвидировать состояние опасности. Первым шагом в этом направлении было переключение насосов на всасывание воздуха. Но в кристаллах мозга Евы сидит память о том, что это он, Тед, вызвал состояние опасности, запустив процесс на сто третьем горизонте, а значит, надо ликвидировать причину…
— Стой! Стой!
Робот не реагировал, пульт все удалялся, тихий шелест работающих под прозрачными покрытиями секций ножей переходил в визг вращающегося металла. Взгляд Теда упал на инструменты около машин, различные манипуляторы и ключи, от самых больших до самых маленьких, педантично подготовленные роботами для последующего ремонта механизмов. Механизмы, которые через час, через несколько минут, а может и секунд, втянут его на транспортер. Он закрыл глаза, старался не думать, но ему не удавалось отогнать картину, стоящую перед его глазами. Автомат приподнимет колпак, столкнет человека. Один миг — и его подхватит лента. Даже следа, малейшего следа не останется на блестящих частях машины. След?
Он посмотрел по сторонам. Стальные инструменты лежали возле прохода, по которому шел тащивший его робот. Хватательные конечности автомата ограничивали движение рук Теда, но все же он мог протянуть кисть. Изготовленные из твердых сплавов инструменты, если их бросить на ленту сразу после того, как откроется защитный колпак, должны вызвать аварию, а контрольные устройства тут же остановят производственный процесс…
Робот медленно передвигался по проходу. Тед молча протянул руку, растопырил пальцы, до боли напряг мускулы. Кончиками пальцев дотронулся до холодной поверхности гаечного ключа. Изо всех сил схватил конец рукоятки и прижал к себе. Когда они уже подошли к машине, прозрачный колпак открылся и человек бросил инструмент в водоворот вращающихся шестерен. Ключ исчез. В машине что-то заскрежетало, скрежет усилился, неожиданно глухой лязг заполнил ее внутренности, отразился от потолка цеха, и многократное эхо замерло вместе с движением валов. Загорелись красные аварийные огни.
— Пусти меня, — сказал Тед роботу.
Автомат выполнил приказ.
Тед подошел к пульту управления, выключил электронный мозг и программу эксплуатации и взглянул на замерший цех ихтофабра, молчаливые устройства, застывшие в различных позах автоматы.
Закусив губу, он медленно нажал кнопку центрального электронного мозга.
— А теперь за работу! — крикнул он.
Автоматы дрогнули и поползли исправлять последствия аварии.
Витольд Зегальский
Человек, у которого болел компрессор
В тот день Гарри проснулся в гнетущем настроении и, как обычно, первым делом подошел к окну. Стояло прекрасное весеннее утро, и солнце, уже высоко поднявшееся над небоскребами, выманило с домашних площадок рои разноцветных геликоптеров, весело кружившихся в безоблачном небе. Внизу, на бульваре, среди зелени прогуливалось множество людей, по эстакадам тянулись шнурки машин, словно бы нехотя исчезавших в темной пасти туннеля.
Эта картина не успокоила Гарри, а, наоборот, еще больше усугубила мрачное настроение, гнездившееся в глубине его артистической души. В этом не было, разумеется, ничего удивительного: чему же тут удивляться, если восприимчивая к прекрасному натура художника тоскует, потому что не может полностью ощутить прелесть дня? И все по такой возмутительно прозаической причине, как отсутствие нескольких еврасов! Это тянется дни, недели, да что там — годы, если учесть, что случайно добытые деньги немедленно исчезают, как фата-моргана, рассеиваются словно туман. Чтобы встать на ноги, прекратить эту вечную погоню за мелочами жизни, надо было написать по меньшей мере одну видеоновеллу с тридцатью процентами новизны либо романовизию двадцатипроцентной новизны. При этом произведение должно отличаться свежестью формы и содержания. Легко сказать «должно», но дьявольски трудно это реализовать. Вспомним: еще древние утверждали, что nihil noul sub sole.[2]
И все-таки… Угрюмая физиономия Гарри вдруг оживилась.
— Эврика! Эврика! — воскликнул он. — Разумеется, nihil novi, если не считать новых конструкций, теорий, машин, аппаратов!
Наука и техника — вот сырье для производства видеоновелл, свежих, как только что выпеченная булка из автомата. Они — основа всяческих перемен. От каменного топора до звездолета! Вот источник, бьющий славой и еврасами! Зачем быть слишком требовательным? Ну, на худой конец, только одними еврасами. Сейчас важны прежде всего скорость и оперативность. Давным-давно доказано, что если у одного из пятнадцати миллиардов человек возникает более или менее стоящая идея, то точно такая же идея возникает и у многих других на всех континентах Земли и бог весть где еще. Правда, с творчеством дело обстоит несколько иначе, но разве можно быть уверенным, что в тот же самый момент у другого писателя, скажем в Гренландии, не родилась такая же идея? Эта мысль вызвала прилив пессимизма, но Гарри быстро отделался от сомнений и приступил к энергичным действиям.
Прежде всего — выбрать достаточно притягательную область науки, а потом ознакомиться с современнейшей техникой в этой области. Проблема была простой только на первый взгляд. Гарри нажимал все новые и новые клавиши соответствующих секций мыслительно-творческого конденсатора, именуемого в просторечии Мытвоконом, однако из прибора не так-то легко что-нибудь выжать. Ответы были возмутительно двусмысленными, и из лих следовало, что любое направление науки одинаково важно, притягательно, перспективно и открывает много технических возможностей.
Мытвокон утверждал, что даже у философии — а это уж было полнейшей ересью — колоссальные возможности! Гарри выключил аппарат и решил действовать сам.
Возьмем старую и в то же время развивающуюся науку — кибернетику, симбиоз современности с традицией. А теперь пошли дальше, — он нажал кнопку автоматического секретаря.
— Слушай, Ас, загляни в персональную картотеку и скажи, работает ли хоть кто-то из моих знакомых на какой-нибудь фабрике, в каком-либо учреждении, лаборатории, связанных с кибернетикой. Только чтобы это было как можно ближе: мне некогда кататься черт знает куда.
Секция автоматического секретаря замигала, и спустя секунду динамик захрипел:
— Аллан Порки, старший конструктор на фабрике математических компьютеров, район 12, бульвар Тангенсов.
— Откуда я его знаю?
— Вы полгода ходили вместе к дошкольному воспитателю.
Выбор не получил одобрения.
— Ты что, рехнулся? На кой ляд мне такое знакомство? Есть там у тебя еще кто-нибудь? Только без фокусов. Это должно быть солидное знакомство, ясно?
— Так точно, — буркнул динамик Аса. — В запасе у нас есть Джеймс Крофт, промышленный директор лабораторий завода кибернетической аппаратуры, сокращение и кодовый знак для переписки ЗАКАПП. Он два года учился с тобой в девятом классе.
Гарри затрясло от возмущения. Либо у автоматического секретаря короткое замыкание, либо просто не срабатывают контакты канального избирателя и требуется энергичное вмешательство хозяина.
— Ну, ты там! — Гарри треснул кулаком по аппарату. — Если мы два года вместе отсидели в одном классе, то откуда Крофту меня помнить?
— Можешь не сомневаться — помнит, — заверил Ac. — В то время у тебя были с ним крупные столкновения, а такое имеет тенденцию закрепляться в центрах памяти.
— Лучше бы он забыл! — недовольно бурчал Гарри, жалея, что, например, не прогуливал вместе с Крофтом уроки. — Есть там еще кто-нибудь?
Автомат назвал три имени, но эти люди работали на Луне и Марсе. Оставался Джеймс Крофт, кандидатура сомнительной ценности, хотя, принимая во внимание профессию и должность, чрезвычайно удобная. Но Гарри не только не помнил лица Крофта, он даже не мог припомнить, имели ли примененные к нему педагогические приемы характер мягкого напоминания или сурового физического воздействия. Фотография Джеймса, переданная из городского центра и засветившаяся на экране видеофона, также ни о чем не говорила. С экрана глядел мужчина с мечтательными глазами, пухловатыми щеками и чудовищно развитой нижней челюстью, что никак не свидетельствовало об овечьей кротости.
Со смешанными чувствами Гарри покинул квартиру и направился к домашней площадке, где стояли воздушные такси — геликоптеры.
Дверь отворилась, и Гарри переступил порог кабинета директора. Большой холл был заполнен светящимися экранами и схемами, которые пульсировали огоньками и контрольными кривыми. Посредине, под маленьким куполом, стоял полукруглый пульт управления, а за ним сидел Джеймс Крофт.
— Выключите этого толстокожего болвана и дайте Тома. Должно получиться, он гораздо эмоциональнее. Я сам видел, как он плакал, когда венерианская «Звезда» забила гол «Объединенному Зареву». Принимайтесь за работу. В случае чего, докладывайте. Конец.
Крофт выключил видео и вопросительно взглянул на Гарри.
— Небось, не узнаешь, — сказал Гарри. — Я твой товарищ по школе…
— Разве тебя можно не узнать! — возликовал Крофт, раскрывая объятия. — Счастлив оказанной мне честью…
Гарри не пришел в восторг от прекрасной памяти директора лабораторий завода кибернетической аппаратуры и, честно говоря, был бы рад, если б Крофт перепутал его с каким-нибудь знакомым, например с другом третьей категории. Но дальнейшее окончательно развеяло последние надежды.
— А помнишь, Гарри, как ты отлупцевал меня? — продолжал ликующий Крофт, многозначительно пошевелив своей массивной челюстью. — Ты ревновал ко мне Кэти из одиннадцатого «Б», хотя, по правде говоря, меня в то время интересовали только транзисторы.
— Что-то запамятовал, — Гарри за улыбкой попытался скрыть беспокойство. — Возможно, между пами и были какие-то недоразумения, различия в точках зрения…
— В конце концов ты меня классно отделал.
Беседу прервал настойчивый сигнал видео. Крофт улыбнулся извиняющейся улыбкой и наклонился к микрофону. К далекому собеседнику поплыл поток указаний, советов, приказов кого-то подключить, переключить, выключить, отключить, отрегулировать…
Гарри едва слушал, сосредоточив все свое внимание на возможно более объективной и быстрой оценке возникшей ситуации и выработке тактики дальнейших переговоров.
— Ты мог бы и забыть о грехах молодости… — буркнул он, когда Крофт опять повернулся к нему.
— И не думай! Буду помнить до гробовой доски и до гробовой же доски останусь твоим благодарным должником. Ты пробудил во мне интерес к кибернетике.
«Похоже, Джеймс немного не того, — подумал Гарри. — Страдает манией преследования. Видимо, не лжет, вероятно, я его здорово отлупил, может быть, даже чересчур. Но что это за Кэти, черт побери? Совершенно не помню, впрочем, не в этом дело, надо выкручиваться…»
— Прости, друг, но что-то я никак не свяжу наши стычки с теорией информации.
— Сейчас объясню. Тебе сказали, что я бегаю за Кзти, поэтому ты взял из лаборатории симультативный одоратор, направил на меня… и пять часов мне казалось, что я дышу одним сероводородом. Тебя ввели в заблуждение насчет меня и Кэти, а ты поступил так, словно это была правда. Поэтому на следующий день я действительно стал за ней приударять, даже не без успеха, но когда мой робот-опекун оставил меня на минуту, я получил от тебя очередную взбучку. Тогда я распустил слух, что бросаю Кэти ради ее подружки Мэри. На следующий день слух дошел до Кэти, она взбесилась и помчалась к тебе жаловаться, будто я не даю ей прохода. Именно тогда я и сменил гуманитарный лицей на физико-математический и начал размышлять о том, что со мной случилось, то есть о влиянии информации на действия элементарных устройств с обратной связью и так потихоньку-помаленьку благодаря тебе стал кибернетиком. Приди же в мои объятия!
Крофт встал и прижал очумевшего гостя к своему лабораторному халату.
Немало удивленный, Гарри решил скорректировать свое мнение о Джеймсе. Первое впечатление, как это довольно часто случается, было ошибочным: выяснилось, что Крофт достаточно симпатичный, его нижняя челюсть казалась теперь не такой топорной, в ней чувствовалась мужественность, не лишенная привлекательности. Бар-автомат подал бутылку шампанского, и атмосфера тотчас же стала гораздо сердечнее. Но тут опять забренчал видеофон — какой-то эксперимент проходил не так, как нужно. Крофт, выслушав сообщение, взбесился:
— Если Том не подходит, тогда оставьте его, — кричал он в микрофон. — Какой от вас прок! Нет, в проекте ошибок нет, это вы никуда не годитесь. Ну, ну… Да, попытайтесь с Бобом, он дисциплинирован. Держите меня в курсе. Конец. — Щелкнул выключатель, Джеймс улыбнулся.
— Прости, но у них там опять что-то не получается. Послушай, что же привело тебя в ЗАКАПП?
— Мне хотелось здесь поработать, — признался Гарри. — С некоторых пор меня интересует современная техника, все эти рычаги, шкивы, шестерни…
— Прекрасно, — обрадовался Джеймс. — Наконец-то ты решил взяться за полезное дело!
Гарри остолбенел. Вот он, гомо техникус, продукт эпохи механических забав. Наверно, еще молокососом он монтировал транзисторные приемники прямого усиления и электронные рогатки. Ради кого я мучаюсь, творю свои видеоновеллы и сатиродивы?! И без того известно, что все культурные потребности этого существа ограничиваются наблюдением за матчем по домашнему видео, а единственная его мечта — спортивная программа от зари до зари. Мало я тебя лупцевал в свое время, и вот они — печальные плоды жалостливого обращения с друзьями!
— Ты меня не понял, Джеймс, — сокрушенно покачал головой Гарри. — Я хотел бы работать в качестве литератора.
Крофт вытаращил на него глаза, словно увидел марсианскую летающую устрицу, потом задумчиво почесал подбородок.
— Знаешь, старик, — бросил он в смущении, — трудно будет. В ЗАКАППе нет подходящей единицы. Хм, правда, есть родственный отдел. Мы издаем каталоги и инструкции, но каталог или инструкция — дело очень серьезное… я хотел сказать — очень специфическое. Их у нас пишут высококвалифицированные инженеры. Э, постой, чуть было не забыл, есть еще отдел рекламы. Иногда мы издаем листки с короткими призывами вроде: «Автодоярка из ЗАКАППа доит сама», «У бара из ЗАКАППа не стираются шестерни». Разумеется, это мелочи, но, может, попробуешь?
— Я и реклама? — возмутился Гарри. — Мой талант, артистизм, моя впечатлительная душа, тонко впитывающая оттенки окружающего мира, моя одухотворенность — и призывы приобретать телеуправляемую автодоярку!
Джеймс беспокойно крутился в кресле и, вероятно, с величайшим удовольствием растаял бы или спрятался в пульте управления.
— Я хотел тебе помочь, — смущенно принялся он объяснять.
— Но у нас действительно нет ничего лучшего. Вполне приличная платная должность: два евраса в месяц, ну, а по-дружески накину тебе еще один — специальный.
Сообщение о зарплате размером в три евраса, вместо того чтобы вызвать благодарность, окончательно возмутило Гарри. Три евраса! Это же просто издевка над творческой личностью! Три евраса! В месяц! За кого он меня принимает? Какой убогий духом человек!
— Эх, Джеймс, — Гарри рассмеялся. — Ты, видно, думаешь, что я пришел к тебе, движимый корыстью?
— Ты близок к истине, — признался Крофт. — Что-то последнее время я не слышал о твоих успехах.
— Очень жаль, — заметил Гарри. — Еврасы для меня не проблема. Просто меня увлекла новая идея: хочу писать о технике и промышленности. Моим героем будет процесс появления, возникновения нового продукта во всей сложности его обработки, закалки, монтажа… Это будет новая технологическая поэтика, нечто совершенно свежее, что удивит мир.
Крофт с сомнением покачал головой. Потом наморщил лоб и наконец спросил, чем он может помочь.
— Я хотел бы ознакомиться с каким-нибудь интересным технологическим процессом, — сказал Гарри. — В случае нужды ты мне дашь кое-какие объяснения. Вот и все.
Джеймс массировал себе челюсть и чесал за ухом.
— У тебя есть возражения?
— Это невозможно, — буркнул Крофт. — Сейчас объясню, почему. — Он нажал одну из многочисленных кнопок. На большом настенном экране появились ряды полок, уходивших на высоту нескольких этажей и заполненных ящичками, похожими на древние книги. Их корешки были пронумерованы да к тому же снабжены различными буквенными и цифровыми обозначениями или знаками цветового кода.
— Вот частица нашей технотеки, — объяснил Джеймс. — Как видишь, она производит недурное впечатление, но, с нашей точки зрения, она довольно скромна. В каждой из этих коробочек находится самое меньшее полкилометра перфорированной ленты с записью хода процесса. Рецепт изготовления самого простого кибернетического устройства записан в нескольких десятках, а то и сотнях томов; если же взять более сложную систему, запись займет тысячи томов. Никто из нас, инженеров, не знает точно, что там закодировано, потому что эти ленты готовят автоматы, читают автоматы, а то, что запрограммировано, выполняют тоже автоматы. Конструктор разрабатывает лишь основную идею и дает основные исходные положения. А оптимальные варианты и детали выбирают автоматы. Иначе говоря, это знания сотен тысяч ученых, закрепленных в памяти компьютеров.
— И с этим нельзя познакомиться? — недоверчиво спросил Гарри.
— Почему же, можно, если ты владеешь секретом бессмертия, — ответил Крофт, — только ты получишь столь же длинный ряд формул и математико-химико-физических символов.
Разговор прервал настойчивый звонок, и тут же на большом экране появилось объемное изображение разгневанного человека.
— Главный, — шепнул Джеймс, пытаясь спрятать за спиной початую бутылку.
— Тэк-тэк, попиваем, стало быть, шампанское, а работа стоит, — буркнул главный. — Есть повод или как?
Крофт объяснил, что как раз решает кадровый вопрос и надеется приобрести прекрасного сотрудника в отдел рекламы.
— Новый работник, стало быть, вдобавок ко всему в отдел рекламы, — главный директор ЗАКАППа ехидно цедил слова. — Прекрасно, однако сначала надо иметь, что рекламировать? Не так ли, Крофт? Ты тут прохлаждаешься, а тем временем лента транспортера отправляет в небытие наш фонд зарплаты! Ты забыл, что в комиссии сидит профессор Йорк, член Кибернетической академии и присяжный эксперт Объединенных ракетных предприятий. За каждый час мы платим этой пиявке еврас, а он сидит уже третий день.
— Нельзя было взять кого-нибудь другого? Может, Йорк сделает что-нибудь на общественных началах?
— Не надо философствовать, Крофт! — рявкнул главный директор. — Ты убеждал меня, что каждый из твоих инженеров, пройдя специальную подготовку, будет чувствителен, как мимоза. А я сию минуту получил сообщение, что ни одна из этих трех патентованных мимоз не реагирует: все ведут себя, словно бесчувственные колоды.
— Но они регулярно посещали…
— Довольно, Крофт! Таскались по боксерским матчам, гонкам, упивались пивом. Ни один не был в художественном салоне, на симфонических концертах, в драмовидах — я — то их знаю. Трутни! Делай что хочешь, но чтобы через час доложил мне об успехе. Если нет, то при очередной выплате не увидишь ни одного евраса.
Лицо главного исчезло с экрана, и еще некоторое время только эхо гудело под куполом кабинета. Крофт вздохнул, опустился в кресло и тупо уставился в стену.
— Тайфун пронесся, — отметил Гарри и сочувственно покачал головой.
Джеймс медленно поднял голову. Некоторое время смотрел на Гарри отсутствующим взглядом. Вдруг словно очнулся. Глаза у него загорелись, рука стала привычно массировать челюсти, он встал и, что-то тихо бурча, окинул Гарри внимательным взглядом. Видимо, осмотр его удовлетворил, потому что Крофт потер руки, сел за пульт и нажал кнопку. Из щели в крышке пульта выполз листок.
— Гарри, ты художник? Ты ощущаешь прелесть природы, тебя будоражат трели канареек, ты любишь драмопение и симфостоны?
— Спрашиваешь! — Гарри был задет за живое. — Моя тонкая творческая натура поглощает продукты культуры так же, как желудок, например, всасывает яичницу.
— Хм… А у тебя есть хоть какое-то техническое образование? Ну, скажем, какие-нибудь курсы техников-любителей или что-то в этом роде?
— Я знаю только некоторые детали моего домашнего робота, — ответил Гарри. — Конденсаторы, катушки, избиратели, ферритовые вставки и прочие мелочи.
— Не густо, конечно. Ну да бог с ним. Подпиши! — Крофт сунул Гарри листок. — Принимаю тебя в качестве инженера, специалиста по биотокам с заданием управлять запуском объекта XY-5. Разумеется, с трехдневным испытательным сроком и зарплатой четверть евраса в день.
Четверть евраса в день — этим брезговать уже не пристало.
— Ты отличный товарищ, — Гарри сердечно пожал Джеймсу руку. — Когда приступать?
— Немедленно.
Хождение по коридорам длилось недолго, перед ними раздвинулись двери, и они вошли в небольшой зал, заполненный машинами различной формы и величины, которые стояли рядами вдоль узких проходов. Под потолочными балками извивались кабели и струились шланги. В центре помещения на возвышении стоял прозрачный павильон, откуда можно было обозревать весь зал и, вероятно, управлять работой устройств.
Они вошли в павильон; внутри виднелось несколько человек в белых халатах. Они загораживали, высокое металлическое кресло и сидевшего в нем мужчину, который качал головой, беспомощно разводя руками. К Джеймсу подошел высокий инженер с озабоченным лицом.
— Я слышал, Боб тоже никуда не годится, — буркнул Джеймс вместо приветствия. — О, господи, это нам за грехи наши, за лагерь, за Капри, за Лазурный Берег и все матчи в Неаполе и Риме! Что же, за вас я должен получать нагоняй от начальства? Приветствую вас, уважаемый профессор! — Крофт повернулся к утомленному человеку с седеющей бородкой, зевавшему за контрольным столом. — Как идет эксперимент?
— Никак, — сообщил бородач, явно борясь с дремотой. — Ни одна стрелка не дрогнула. Придется обратиться к директору с просьбой о надбавке за нудную работу.
— Есть надежда на положительный результат, — быстро заверил Джеймс. — Я только что взял нового сотрудника, возможно, это изменит ход эксперимента.
— Хм, — проворчал профессор без всякого энтузиазма.
— Гарри, садись в кресло! — крикнул Крофт. — А ты, Стив, подготовь все к запуску. Остальные по местам!
Гарри уселся на пневматические подушки и вытянул ноги. Все прошло неожиданно гладко: он попал на интересующее его предприятие, зачислен на весьма выгодных условиях, а вдобавок принимает участие в опыте, который, несомненно, тоже удастся использовать. Правда, то, что происходило вокруг, было совершенно непонятно, но, разумеется, в самое ближайшее время технический мир раскроет перед ним свои тайны, и тогда-то он выдаст новое и, конечно, гениальное произведение…
Инженер Стив надел Гарри на голову шарообразный шлем с множеством кабелей, а затем натянул ему на руки толстые перчатки, к которым тоже был присоединен пучок разноцветных проводов, убегавших за пульты с циферблатами, контрольными лампочками и различными датчиками неизвестного назначения. Инженеры и лаборанты сели за пульты, а Крофт упал в кресло рядом с бородатым экспертом. Наступила минута ожидания. Гарри чувствовал на себе взгляды всех, но ничего не происходило.
— Слушай, Джеймс, что я должен делать?
— Ты? Ничего. Это мы работаем, а ты должен только сидеть и докладывать. Сейчас мы закончили измерение твоих биотоков для коррекции алгоритма. А теперь закрой глаза, максимально сосредоточься и говори, как себя чувствуешь: может, тебе что-нибудь мешает, что-нибудь болит, чешется, колет… Вообще все…
Гарри зажмурился. Он слышал только тихий шум токов, циркулировавших в измерительных приборах, и дыхание сидевших поблизости людей. Больше он ничего не чувствовал, вернее, чувствовал, что охотно перекусил бы, желательно что-нибудь солидное, вроде шницеля с яйцом и картофелем фри, потому что утренняя яичница была лишь далеким воспоминанием. Он стал размышлять, не нарушит ли каких-либо порядков, если во время эксперимента попросит принести перекусить. Он открыл глаза.
— Вы что-нибудь чувствуете? — спросил профессор.
— Абсолютно ничего.
— Странно, а стрелка отклоняется, — заметил Крофт, посмотрев на циферблат. — Ты действительно ничего не чувствуешь?
— Абсолютно, — заверил Гарри. — Зато у меня есть к тебе просьба. Ты не мог бы организовать что-нибудь поесть? Я позавтракал довольно давно.
Бородач и Крофт обменялись взглядами.
— Стало быть, вы чувствуете голод, — отметил профессор. — То есть вы все-таки что-то чувствуете.
— Да я целый день не ел, так имею я право быть голодным?! — проворчал Гарри.
Профессор махнул рукой.
— Вы должны сообщать обо всем. Обо всем, — добавил он с нажимом. — А вы, ребята, — повернулся он к инженерам, — подбросьте-ка тысченку вольт на трансформатор, а то как бы бедняга не потерял сознания с голодухи.
Инженеры и лаборанты захохотали, что возмутило Гарри до глубины души. Гнев нарастал в нем очень быстро, через минуту он готов был подойти к самому толстому дылде и, несмотря ни на что, дать ему урок хорошего тона.
— Там кому-то смешно? — он взглянул на лаборантов. — Ну, так я могу испортить вам настроение. А ты, бородач, повежливее, а то я тебя быстренько научу…
— Простите, — поклонился профессор. — Я не собирался вас обижать.
Бородач взглянул на Крофта и покачал головой.
— Такого эффекта мы не предвидели, — шепнул Крофт. — Кажется, это действует двусторонне. Каждое усиление токовой нагрузки заостряет кривую, так что ощущение силы тоже возрастает…
— Тихо, — профессор приложил палец к губам и с любезной улыбкой обратился к Гарри. — Вы все еще хотите есть?
— Нет, благодарю, — буркнул Гарри. — Ваши насмешки отбили у меня аппетит. Я привык есть в культурном обществе.
Собравшиеся зашумели.
— Гарри, закрой глаза и говори, что ты чувствуешь, — попросил обеспокоенный Крофт.
— Хорошо, хорошо, — проворчал Гарри и опустил веки. Он сделал это не ради Джеймса: просто у него не было никакого желания рассматривать этих неинтересных людей, сидевших за пультами и таблицами. Его привлекал иной мир — внутренний, который неопределенным и непонятным образом разрастался в нем самом, с каждой секундой он все больше рос и зрел, заполнял его неизвестными, смутными чувствами, которые как-то перекликались с ощущением силы и уверенности в себе. В следующий момент Гарри отметил, что мир этот вышел за пределы его тела, что он продолжает разрастаться, охватывает все более широкие круги, словно расталкивает пласты окружающего его мрака…
— Что ты чувствуешь, Гарри? — услышал он настойчивый голос Джеймса.
— Тихо, — прошипел он в ответ. — Я вслушиваюсь в себя. Такое порой бывает с разумными существами. Между прочим, я никогда не предполагал, что у меня такой богатый внутренний мир. Теперь я начинаю заполнять им весь ваш зал.
— Что?
— Отстань, мне надо сосредоточиться, чтобы познать самого себя.
Внутренний мир, а точнее, странное ощущение распространяющегося вширь естества постепенно менялось, упорядочивалось, переходило в покой, истому отдыхающего гиганта, который греется на песке, наслаждается собственным здоровьем и дремлющей в нем силой. «Что такое, черт побери? — подумал Гарри. — Что-то здесь не так. Нет слов, состояние приятное, но, пожалуй, хм, неестественное. Правда, я всегда подозревал существование в себе скрытых сил гения и мысли, однако что-то мне сдается, они должны проявляться в творческой активности, а не в лени. Пожалуй, это не вдохновение, а фокусы Крофта. Самое скверное во всем этом то, что я совершенно не знаю, где кончается мое „я“, а где начинаются явления, вызванные этими почитателями шестеренок и рычагов. Ну что ж, надо спросить».
Гарри неохотно открыл глаза.
— Эй, Джеймс, что у тебя за эксперимент? Я чувствую себя так, словно превратился в этот зал вместе с машинами и твоим щитом управления.
Крофт потер руки, а профессор с удовлетворением поглаживал остренькую бородку. Инженеры и лаборанты быстро записывали результаты замеров.
— Ты образуешь единую электрическую схему с этими устройствами, — объяснил Крофт. — Твое тело является как бы продолжением этой механической части, или, если тебя это больше устраивает, механическая часть есть продолжение тебя. Вы живете не в симбиозе, но представляете собой интегрированные части единого технико-биологического комплекса.
— Что-то вроде механического кентавра?
— Вот именно. Ты — его голова и нервная система, усиленная компьютером, выполняющим роль второго мозга. Разумеется, в данный момент работой всего комплекса управляем мы, но придет время, когда управлять такими агрегатами будут люди, с ними соединенные.
— Любопытно, любопытно, — буркнул Гарри. — Но сейчас я, вероятно, еще не работаю, Джеймс?
— Ты этого не чувствуешь?
— Чувствую, что отдыхаю. Лежу на солнечном пляже.
— Это потому, что ты под током, но на холостом ходу, — объяснил Джеймс. — Начнешь работать, когда мы переключим тебя на активный режим.
— А какая, я, собственно, машина? Токарный станок, фрезерный?
— Ты космическая ракета, комплекс двигателей на химическом топливе. У тебя есть топливные насосы, компрессоры, система охлаждения, дюзы, корректирующие шибера тяги…
— О, рай! — вздохнул Гарри. — Как бы ненароком не улететь на Луну.
Крофт рассмеялся.
— Не бойся. До этого еще далеко. Лишь через несколько десятков лет стартуют первые ракеты, управляемые таким образом. А теперь немного поработай, чтобы не растягивать этот срок. Передаю его в ваши руки, профессор. Дайте ему работу.
Бородач кивнул головой и передвинул какой-то рычаг на пульте. Гарри ахнул.
— Что случилось? — с любопытством спросил профессор.
— Кто-то пнул меня, — простонал Гарри, массируя рукой ягодицу.
— Интересно, — профессор вернул рычаг в исходное положение и снова быстро передвинул его.
— Ox! — крикнул Гарри.
— Простите, это из-за быстрого включения стартера, — пробормотал бородатый член Кибернетической академии. — Надо было проверить реакцию. Вся наука зиждется на опыте и изучении результатов.
— Чихал я на ваши объяснения.
— Я член академии и требую, чтобы ко мне обращались с уважением!
— Чихал я на вашу академию. А ну, пни меня еще раз, и я встану да так турну тебя в виде опыта, что никакого изучения результатов не потребуется.
От контрольных щитков уже бежал Крофт.
— Друзья, успокойтесь! Гарри! Во имя цивилизации приходится порой переносить неприятности. Неужели тебе надо перечислять имена людей, принесших величайшие жертвы ради этой цели?
— Перестань плести, Джеймс. В нашем договоре о пинках не говорилось!
— Это была ошибка! Ты получишь специальную премию. Наука тебя не забудет!
— Ладно, ладно, только пусть твой бородатый академик не толкает меня, — примирительно проворчал Гарри, которому пришлось по душе упоминание о науке. — Не в премии дело. Включайте меня, профессор, как вам заблагорассудится.
— Я сделаю это с величайшей деликатностью, — заверил профессор Йорк. — А теперь закройте глаза и передавайте свои ощущения.
На этот раз запуск прошел безболезненно. В Гарри проснулась какая-то сила, словно где-то в зале, среди машин расправил плечи герой, готовящийся к еще не известному, но великому подвигу. Сила эта могла снести стены зала вместе с павильоном, могла разбить и уничтожить все в радиусе полкилометра. Гарри знал, что мог бы дать сейчас такую силу тяги, которая занесла бы его на Марс, знал ее величину… хотя в то же время ничего не понимал. «Вероятно, ко мне подключили какую-то секцию компьютера, — размышлял он, — иначе откуда бы мне знать о Марсе и запасе топлива, вес которого составляет 7600 тонн? Однако самое удивительное, что я ощущаю эту машину так, как новые внутренние органы, как руки, пальцы, ноги. Я не знаю даже, которое из этих устройств соответствует такому ощущению. Левая или правая машина вызывает ощущение, что у меня есть хватательный хвост? Пожалуй, надо спросить об этом у профессора».
— Алло, проф! Которая из машин — мой хвост?
— Что?
— Хвост. Одно из этих устройств, я это чувствую, является как бы моим хвостом.
Вопрос произвел сильное впечатление на члена академии и на Крофта. Профессор был возбужден, Крофт — обеспокоен.
— Профессор, вы что-нибудь понимаете?
— Разумеется, — бородач блаженно почмокал губами. — Необычное подтверждение моей теории. Токи управления машин после трансформации в биотоки пилота ищут себе места в наименее загруженных участках мозга. Прежде всего, это места, которые некогда управляли устройствами и органами, в настоящее время полностью или частично исчезнувшими.
— Ну, тогда все ясно, — обрадовался Крофт. — Можно продолжать. Друзья, по местам! Сейчас, Гарри, мы включим рабочее положение, что равносильно проверке двигателей ракеты в предстартовый момент.
— Хорошо, хорошо, буду докладывать…
Гарри прикрыл глаза. Ощущение того, что он является частью гигантской двигательной системы, ее мозгом, глазами и ушами, было чрезвычайно любопытным. Правда, сидеть в странном шлеме, в перчатках, напоминавших лапы давно вымершего чудовища, было несколько смешно — в каких же все-таки удивительных экспериментах приходится участвовать артисту, художнику, чтобы могло возникнуть произведение глубокое и экспрессивное. Если при этом вдобавок что-то перепадает и науке, то, пожалуй, уже можно говорить о двойном удовлетворении.
Джеймс отдавал распоряжения, что-то там творилось около щитов, кто-то, кажется, Стив, отсчитывал: «Семь… шесть… пять…» Наконец послышалось сакраментальное «ноль!», и Гарри тут же почувствовал боль в коленном суставе.
— Болит колено.
— Сильно?
— Можно выдержать… о-о-х! Закололо печень… раздирает мускулы руки…
— Спокойно, спокойно, это сейчас пройдет.
— У-у-у! — взвыл Гарри, открывая глаза.
— Что такое? — профессор поднял брови и взглянул поверх измерительных приборов. — Не крутитесь в кресле!
— О-о-о… о-о-о… Почки! О-о-х, что за жуткая боль… разрывает на части! Немедленно выключите эту чертовщину! — Гарри пытался вскочить с кресла.
— Секундочку, одну секундочку! — кричал Крофт, удерживая его на подушках. — Пойми, это не почка болит, это в какой-то из машин мелкий дефект. Перестань орать и сосредоточься, подумай спокойно… Может быть, сможешь указать машину? Которая из них?
— Дьявол их знает! Ox, ox, как колет, ой, ой… немедленно выключите…
— Минутку, еще минутку, — рука Джеймса пригвоздила Гарри к креслу. — Ребята! Проверить кривые работы машин! Профессор, какая из них может восприниматься как почка?
Профессор взглянул на потолок и прикрыл глаза.
— Хм, надо подумать, Крофт. Прежде всего необходимо получить дополнительные данные. Пусть этот человек успокоится и скажет нам наконец что-нибудь путное…
В Гарри ударил заряд дикой боли, тупой, невыносимой… Он крикнул, вскочил на ноги, почувствовал руку Крофта, удерживавшего его за плечо, рявкнул «пусти!». Это не помогло. Тогда Гарри послал его одним ударом на доски по всем правилам ринга. Такая же судьба постигла и члена академии, пытавшегося вмешаться, потом на полу оказался Стив… Гарри, несмотря на дикую боль, ощущал в себе силу всех работавших в зале машин. Подбегавшие люди опасливо пятились… Шар шлема покатился под компьютер, таща за собой разноцветные кабели… за ним полетели перчатки… Боль оборвалась, исчезла, расплылась так неожиданно, что трудно было поверить в ее существование. Гарри не стал ждать — ринулся в дверь, пронесся по ступеням лестницы и помчался к выходу…
Полулежа, в кресле, он меланхолически посматривал на панораму города, но не видел ни небоскребов, ни цветных реклам на фоне темнеющего неба. Минуты радости и полного счастья, которые он ощутил после того, как выбрался из ЗАКАППа, уже давно канули в вечность, оставив после себя горький осадок сожаления о том, что цель не достигнута. На ЗАКАПП и Крофта рассчитывать больше не приходилось, как и на знакомство с каким-либо производством. Одно воспоминание об ощущении боли, связанном с сидением на подушках экспериментального кресла, было так неприятно, что Гарри заранее знал: в ближайшие годы он не сможет переступить порог даже мармеладной фабрики! Итак, прощай, слава! Прощайте, эпохальные произведения, прощай, новое направление литературного творчества, классический продуктивизм, убитый превратностями судьбы!
Грустные размышления прервал сигнал автоматического секретаря.
— Что там еще?
— Тебе письмо от некоего Крофта…
— Этот проходимец осмеливается мне писать?
Гарри подошел к Асу и вынул из ниши для корреспонденции сложенный листок.
«Дорогой друг! — писал Крофт. — Я хотел бы извиниться перед тобой за те неприятные ощущения, виновниками которых мы оказались, но ты так скоропалительно покинул нас, что я могу сделать это только в письме…»
Гарри не без удовлетворения подумал, что Джеймс боится его. Крофт, разумеется, мог то же самое сказать по видео либо нанести телевизит. Но тогда бы ему несдобровать!
«…детальный анализ записи работы машин показал, что твои костно-суставные боли были вызваны неплотным прилеганием вала коробки скоростей в системе вспомогательного двигателя секции III. Что же касается острого приступа болей почки, то это был результат отсутствия синхронизации компрессора топливного фильтра главной дюзы. Так что не опасайся за состояние своей почки, ты здоров, просто у тебя болел компрессор. Теперь я хотел бы подчеркнуть твой значительный, хоть и кратковременный, вклад в развитие биокибернетики, но, я думаю, тебе понятно, что после всего происшедшего мы с искренним сожалением вынуждены отказаться от твоего столь ценного для ЗАКАППа и науки сотрудничества. Инцидент с профессором Йорком разрешен таким образом, что тебе не придется предстать перед судом. Твой заработок вместе со всеми возможными премиями и надбавками составил два евраса. Однако, поразмыслив над состоянием твоих финансов, о котором ты говорил, и учтя мизерность упомянутой суммы по сравнению с твоими заслугами, мы сочли неудобным перечислять тебе эту до смешного незначительную сумму, а вынесли официальную и публичную благодарность.
Всегда преданный должник и друг
Джеймс Крофт»
Гарри смял листок и кинул в корзинку. Вот каналья! Распорядился еврасами, поразмыслив над состоянием моих финансов!
Гарри вернулся в кресло и опять погрузился в раздумья.
— А может, написать о человеко-машине? Пожалуй, не так уж и глупо, — задумчиво прошептал он. — Это направление в литературе можно было бы назвать кибернетическим кентавризмом. Этого наверняка еще не было…
Гарри прошел в кабинет, подсел к концептору и с энтузиазмом принялся конструировать видеоновеллу, тут же названную им «Человек, у которого болел компрессор».
Кшиштоф Малиновский
Ученики Парацельса
Доб свернул в узкую аллею, ведущую к институту. Огромное прямоугольное здание в лучах утреннего солнца сияло отблесками алюминиевых плит и оконных переплетов. В холле Доба овеяло прохладой. Климатизаторы работали на славу.
Он, как всегда, вежливо кивнул портье, открывшему дверь пневматического лифта, и, бодро переступив порор, вошел в кабину.
Личная лаборатория и кабинет Доба находились на двадцать втором этаже. В свое время он позаботился о том, чтобы его уголок был расположен как можно выше — ему нравилось во время работы любоваться прекрасным зрелищем, открывающимся взору.
Центральный институт биофизики был расположен на небольшом холме неподалеку от города. Четкий шестигранный столб здания прекрасно вписывался в окружение известняковых холмов, местами покрытых низким кустарником, и был виден издалека. Только немногим удавалось стать сотрудниками института. Его элитарный характер, нимб таинственности, который окружал проводимые в нем исследования, будоражили воображение молодых людей, стремившихся в науку. Доб хорошо знал этих молодых ученых, полных энергии, склонных видеть в каждом слове, в каждом жесте намек на тайну или на великое открытие. Но он предпочитал людей пожилых. Их опыт, самообладание и — знания были для него более приемлемы, нежели горячность юных… А вообще-то лучшими сотрудниками были все-таки цифроны. Если от них не требовали чрезмерной концепционной работы, они были намного полезнее людей. Собственно, он даже не мог сказать, как, впрочем, и его коллеги, когда цифроны достигали предела своих концепционных возможностей, а когда они только имитировали такое состояние. Быть может, это звучало смешно, но кибернетики и бионики института уже не могли справиться с детальным анализом психической структуры цифронов. Несколько столетий назад, когда появились первые цифроны, создатели этих автоматов могли запросто нарисовать их логические схемы. Потом, с течением времени, цифроны, способные к психической, а в какой-то степени и «физической» эволюции, изменились настолько, что сегодня уже никто не пытался вмешиваться в процесс их изготовления лишь для того, чтобы исследовать их реакции. При этом не было поводов для нареканий, так как цифроны работали хорошо и были просто незаменимы при выполнении порученных им обязанностей.
Доб еще со студенческой скамьи помнил, что несколько десятков лет назад пришлось существенно изменить внешность цифронов. Вначале, когда они еще не были распространены так, как сейчас, каждый конструктор считал для себя чуть ли не обязательным добиваться максимального очеловечивания их внешнего облика. Однако постоянное совершенствование конструкции все чаще приводило к досадным ошибкам при общении с автоматами, и тогда под влиянием общественного мнения от этого пришлось отказаться. Цифронам оставили такую внешность, которую им придали поначалу, — коренастые, длиннорукие создания с большими головами, в которых умещались центральные системы управления и наборы оптических и звуковых рецепторов. При этом выгадали и конструкторы, так как такое решение дало им возможность, отбросив соображения чисто эстетического характера, совершенствовать автоматы и вводить в них все более сложные нейронные системы.
Теперь уже почти никто не помнил об этом. Цифронов использовали во всех научных учреждениях, в промышленности, торговле и даже в домашнем хозяйстве.
Размышления Доба были прерваны ассистентом Бьерном.
— Добрый день, профессор! Получены результаты синтеза. Увы, опять никакой реакции на импульсы имитаторов. Не хотите ли ознакомиться с ночными замерами?
— Да, да… Прошу вас проверить записи на лентах…
Когда Бьерн вышел, Доб оперся лбом о холодное стекло, образующее одну из стен кабинета. «Опять ничего… Пожалуй, мы вообще идем не тем путем», — подумал он. Неудачи бесчисленных опытов, проведенных за последние девять лет, породили у него совершенно парадоксальную уверенность в том, что каждый очередной эксперимент обречен на провал. В этом была и своя хорошая сторона: разочарование после каждой неудачи становилось все менее горьким.
Дверь в лабораторию нейрофизики была приоткрыта. Когда Доб закрыл ее за собой, его обдала волна теплого влажного воздуха. Доб недовольно поморщился. Привычная атмосфера лаборатории в последнее время начала его угнетать.
Над столом, возле прикрытого окна, горела маленькая лампочка. Там лежали ленты с тонкими линиями записи имитационных импульсов, автоматически генерируемых каждые полчаса и питающих щечки небольшого вводного устройства, выполненного в виде цилиндрического конденсатора; сквозь него также каждые полчаса пропускали порции сложных белковых структур. Доб искал среди них одну — аксон, нервное волокно, которое должно было увенчать их исследования…
Доб взглянул на ленты — по ним на идеально равных расстояниях бежали тонкие острые пики записи импульсов имитатора; в промежутках между пиками, там, где оставалось место для вожделенного ответа аксона, бумага была пуста.
Доб потер лоб ладонью.
— Бьерн, вызовите несколько цифронов, пусть очистят насосы и контейнеры в имитаторе. Возьмите новые пробы, которые подготовили Дэвис и Миснер. Надо проверить, не сбился ли тест на код. А потом все сначала… Если я потребуюсь, найдете меня в лаборатории.
Когда Бьерн вышел, Доб невольно еще раз пересмотрел ленты, бросил взгляд на имитатор и направился к выходу.
В дверях ему встретились три цифрона, которые неспеша направлялись в лабораторию.
Войдя в кабинет, Доб услышал по автофону голос цифрона-секретаря:
— Профессор Доб!
— Слушаю.
— Вас просят как можно быстрее пройти в кабинет профессора Таямы.
— Хорошо, скажи, что иду.
— Благодарю, — экран автофона погас.
По дороге к лифту Доб размышлял над тем, как бы объяснить директору института неудачу последнего опыта. Непонятно почему он был уверен, что весть об его неудаче уже дошла до Таямы — такие вести расходились по институту с быстротой молнии. Впрочем, это было естественно, если учесть, что их опытами жили все — именно они должны были решить успех целого мероприятия. «Опять придется извиваться, как ужу», — подумал Доб.
Войдя в кабинет, он одернул костюм и на всякий случай изобразил на лице уверенность, долженствующую, по его мнению, означать, что очередная неудача была заранее предусмотрена и никак не повлияла на дальнейшую программу исследований.
— Прошу садиться, — сказал вместо приветствия Таяма.
Уже первые слова сбили Доба с толку. «Злится», — пронеслось у него в голове. Он многозначительно кашлянул, давая директору понять, что готов к беседе. Впрочем, Таяма и без этого сразу приступил к делу.
— Я слышал, коллега, что ваш очередной эксперимент опять провалился. Вы не считаете, что после девяти лет исследований результаты могли быть и лучше?..
— Но, директор, наши исследования…
— Знаю, знаю, коллега… — Таяма понимающе кивнул. — Я прекрасно понимаю, насколько важны ваши работы. Надеюсь, вы не думаете, что, руководя всеми исследованиями, я на ориентируюсь в том, что здесь делается? Тем не менее, видите ли, все это несколько затянулось.
Доб уже решил было, что последнее замечание Таямы потребует очередных объяснений, но директор продолжал:
— Коллега, мы уже не раз беседовали на эту тему, и вам всегда удавалось убедить меня в скором успехе. Вы знали, что не существует другой теории, ведущей к цели, а я знал, что лишь вы, как ее… хм… создатель, способны направлять экспериментальные исследования. Но, видите ли, институт ждет результатов а у вас ничего не получается. Я понимаю, что аксон — это не обычная хромосома или иное дельтаволокно, но мы не можем проводить исследования, которые ведут в никуда…
Доб хотел было спросить, что же, по мнению Таямы, нужно делать, но директор опередил его.
— Коллега, у меня уже несколько дней лежит проект Миснера, вашего сотрудника… Так вот, Миснер весьма остроумно преобразовал вашу теорию, я бы сказал… хм… реформировал ее, и Предлагает несколько изменить ваш метод циклических сетей. Речь идет о согласовании с кодом… Впрочем, он сам объяснит это лучше меня. Так вот…
Доб побледнел, но, быстро взяв себя в руки, спросил:
— Я чего-то не понимаю. Как могло случиться, что мой сотрудник шесть лет работает бок о бок со мной, но результаты своих теоретических изысканий вручает не мне, а вам?
Директор был явно смущен, но после минутного молчания ответил уже не так уверенно, как раньше:
— Хм… По сути дела, коллега, именно я склонил его к этому. Вы, конечно, ревностно относитесь к своим результатам. А нам необходимо внести изменения в систему исследований. Быть может, как раз результаты Миснера…
Доб резко прервал Таяму:
— Я вас понял. Правда, подобный метод работы не кажется мне наилучшим, но в конце концов это дело директора, — подчеркнул он. — И все же я хотел бы просить, чтобы вы дали мне еще месяц для окончания этого цикла экспериментов. Позже лаборатория перейдет в ведение Миснера.
Таяма был явно удовлетворен таким оборотом дела,
— Разумеется, коллега… Время терпит.
— На том и порешили. До свидания.
— До свидания… Да, если возникнут какие-нибудь затруднения, обращайтесь ко мне…
Доб повернулся к двери и бросил:
— Ну, тут уж будет не до этого. До свидания.
Доб постепенно успокаивался. Опершись о стол, он бездумно наблюдал за цифронами, заменяющими контейнеры в имитаторе, градуирующими самописцы и синхронизаторы. Третий цифрон стоял, повернувшись спиной к человеку, и при свете циферблатов рассматривал знаки кода, выстукиваемые на валике вычислительной машины… Это был знаменитый код аксонов, открытый Добом и названный в его честь. Именно Доб разработал таблицу последовательности импульсов, излучаемых аксонами, когда на них воздействуют акустическими, световыми или электрическими импульсами. Последовательность эта, находящаяся в строгой зависимости от напряжения и характера импульсов, давала возможность центральному органу живого существа — мозгу — декодировать информацию о характере воспринимаемого ощущения. Теперь достаточно было только искусственно создать такой аксон.
Все попытки, предпринятые Добом до сих пор, базировались на теории вероятностей. У них было слишком мало информации о субмолекулярной структуре аксонных спиралей, чтобы посягнуть на создание конкретного рецепта. Оставался только метод проб и ошибок. Пользуясь данными о коде и приблизительной, неточной информацией о молекулярном составе аксона, они пытались синтезировать его, выбирая наиболее вероятные структуры. Все остальные лаборатории уже закончили исследования и занимались доводкой полученных результатов… Однако без аксона эти результаты ничего не стоили — конструкции не воспроизводили важнейшей особенности человеческого организма — нервной системы.
Цифрон отвернулся от пульта и вполголоса сообщил:
— Я провел тест на код аксона. Все пробы дали позитивные результаты. Запускать имитатор?
Доб потер рукой лоб.
— Нет, не надо. Я сделаю это сам. Иди к доктору Миснеру и скажи, что я беседовал с Таямой. Через месяц имитатор перейдет в распоряжение Миснера. А пока пусть считает себя свободным. Ассистенты также свободны — все опыты я проведу сам.
Он был уверен, что и эти опыты ни к чему не приведут, но не понимал, в чем его ошибка. Больше того, он был по-прежнему убежден в правильности своей теории, но чувствовал, что чего-то не предвидел, не принял во внимание; виною тут были не пробы, а способ их изучения.
Он взглянул на часы — уже поздно. Анна опять будет злиться, что опоздал к ужину. Он осторожно положил пробы в имитатор и запустил комплексы стабилизаторов, автоматических регуляторов давления и влажности. Стрелки самописцев ожили и начали вычерчивать едва заметные во мраке тонкие линии на медленно движущихся лентах.
Он еще раз осмотрел лабораторию и сказал одному из оставшихся цифронов:
— В два часа смена параметров имитатора — пусть все останется как есть до моего прихода. После смены можете уйти. В институте, пожалуй, уже никого нет, но если меня станут искать, то я в городе, в университете. Дома буду около десяти вечера.
Доб направился к выходу и уже собрался было толкнуть дверь, как вдруг кто-то неожиданно схватил его сзади за руку. Погруженный в невеселые размышления, профессор повернулся. За его спиной стоял старый портье Фрей.
— Простите, профессор, — шепотом сказал он. — Можно вас на минутку? На одну минутку!
— Слушаю вас, Фрей, — проворчал Доб.
Однако портье жестами дал понять Добу, что тот должен пройти в небольшую застекленную кабинку, Зайдя в нее, старичок обратился к профессору:
— Я уже давно собирался сказать вам, но думал — может, это вы?.. И все же…
Доб нетерпеливо прервал его:
— Да говорите же наконец! Что случилось?
Старичок приблизил свое сморщенное личико к уху Доба.
— Там у вас, наверху, ночью горит свет! — прошептал он. — Я уже раза два видел… Я думал, это вы. Специально следил… Но нет! Вы как раз уходите, так что это кто-то другой, подумал я…
Доб удивился.
— У меня в лаборатории? — спросил он.
— В вашем кабинете! Ведь в лаборатории вы приказали закрепить шторы! — ответил возбужденный Фрей.
— Ах, так! Может, я забыл выключить свет? Последнее время я то и дело что-нибудь забываю. Хотя…
— Невозможно, профессор. Если бы это было так, я бы наверняка углядел. Я всегда вечерком делаю круг возле нашего корпуса. Там сначала темно, а потом кто-то зажигает свет. Я специально смотрел.
— Тогда почему же вы не заглянули наверх? Сами бы увидели, что там происходит.
Профессор нервничал: загадочная история.
— А я и заглянул. Как же иначе? Но там коридор заперт изнутри, и все тут!
— Кто его запер? Изнутри? Зачем?
— Не понимаю, — старик покачал головой. — Не понимаю… я уж думал…
Доб взглянул на часы:
— Знаете что, Фрей? Если вы еще раз заметите что-нибудь подобное, сообщите мне. Я быстренько приду сюда, и мы во всем разберемся. Ну, а сейчас мне надо бежать на конференцию.
Портье явно недоумевал: он не ожидал столь слабой реакции. Фрей покачал головой, буркнул что-то себе под нос и выпустил Доба на улицу.
Конференция, как всегда, была невероятно скучной, и Добу пришлось мобилизовать всю свою волю, чтобы досидеть до конца. У него не шел из головы разговор с Таямой.
Нет, дело было не в том, что ущемлена его профессиональная гордость и после стольких лет работы приходится передавать лабораторию своему же ученику. Доб считал это вполне естественным, и это было хорошо известно в институте. Он всегда ставил во главу угла науку, и никакие эмоции не были властны над ним, если речь шла о научной истине. Но он был обижен на Таяму за нечто другое. Исследования должны были привести к какому-то результату — негативному или позитивному, но, во всяком случае, к чему-то определенному, не оставляющему иллюзий. А Доб был уверен, что еще слишком рано списывать его теорию в архив. И поэтому считал, что Таяма явно поторопился прервать его исследования.
Наконец председатель вырвал его из плена навязчивых мыслей, заявив:
— Если никто из присутствующих больше не собирается брать слово, то я вношу предложение кончить сегодняшнюю дискуссию.
Все единогласно поддержали его, и уже через минуту Доб был на улице. Медленно движущиеся тротуары переносили толпы людей, торопящихся домой или на вечерние спектакли в автовизионы. Он пробрался сквозь разноцветную толпу и медленно подъехал к остановке траггера. Машина беззвучно двинулась с места, и задумавшийся Доб даже не заметил, как оказался перед домом.
Сколько Анна ни пыталась выяснить, что с ним происходит, Доб так и не дал втянуть себя в разговор. Быстро съел ужин, поданный цифроном, и лег в постель, обложившись, как всегда, книгами. Никогда еще не удавалось ему прочесть хоть половину намеченных книг, но мысль о том, что вся необходимая информация у него тут, под рукой, как-то успокаивала его.
Он представлял себе, что говорят о нем сейчас в институте. Наверняка все неудачи приписывают ему. В конце концов, пока Добу не удастся синтезировать аксон, результаты, полученные в других лабораториях, не представляют никакой ценности. Правительство, вложившее в эти исследования огромные средства, проявляло все большее нетерпение — программа трансгалактических исследований оказалась невыполненной, тысячи подвергнутых тестам и многократно исследованных добровольцев уже больше года ждали ответа, а институт все еще не давал его.
Доб не раз задумывался — не были ли эти усилия, направленные на получение идеальных протезов — искусственно созданных из белка рук, ног… мозгов… — утопией? Зачем улучшать людей, отправляющихся в космос? Зачем давать им шансы, большие, нежели те, какие дала нам сама природа? «Человек с улучшенным мозгом», — сама мысль об этом казалась Добу абсурдной. Порой он чувствовал удовлетворение, что не ему первому она пришла в голову. Наверняка у людей из Института космической медицины были свои соображения, но…
Он усмехнулся: «Если бы прошел номер с аксонами, мы могли бы создавать искусственных людей. Но зачем? Кому они нужны?»
— Эта мысль, как и раньше, показалось ему абсурдной.
— «Если стремление человека к созданию все более совершенных автоматов оправдано, то желание создать искусственного человека — сущий идиотизм. Что бы мы стали с ним делать? И в чем заключается эта искусственность? В способе его возникновения? Но этот способ не более искусствен, чем тот, при помощи которого возникаем мы, — в конце концов здесь все зависит только от точки зрения. Он не отличался бы от нас ничем, кроме этого. Стало быть, мы попросту создавали бы людей лучших, более совершенных, чем мы сами. А те в свою очередь принялись бы улучшать нас, придя к вполне логичному выводу, что нас следует переделать по их образу и подобию. Разница между ними и нами существовала бы недолго… С автоматами намного проще. Пожалуй, в человеке заложено врожденное стремление к конструированию мыслящих существ из неживой материи. Мысль о том, что их уровень развития ниже нашего, порождает в нас сознание власти над ними. С другой стороны, таким образом мы обеспечиваем себя верными, более безотказными союзниками в наших исследованиях. Для нас они — в определенном смысле существа второго сорта. Но при этом никто не может обвинить нас в отсутствии гуманизма и демократизма».
Мягкий гул автофона прервал мысли профессора. Он нажал красную кнопку, и на экране возникло цветное изображение. Доб увидел взволнованное лицо Фрея.
— Слушаю вас, Фрей… Опять? — спросил он.
— Вот именно, профессор, вот именно. Я шел вдоль ограды, гляжу — блеснуло и погасло. Сначала я решил, что мне показалось… Ан нет, снова блеснуло и горит до сих пор.
— Так вы хотите, чтобы я приехал?
— Это было бы лучше всего, профессор… У вас есть ключ, можно бы заглянуть, посмотреть. Может, позвонить доктору Миснеру и профессору Дэвису, чтобы…
— Не надо, Фрей, — резко прервал его Доб. — Я приеду сам, нечего шуметь, подождите, я буду минут через десять.
Доб быстро оделся и вышел. Прыгая вниз сразу через две ступеньки, сбежал в холл, быстро нацарапал на бумажке несколько слов для Анны. Через минуту он уже садился в геликоптер…
Возле посадочной площадки Доба ожидал портье. Даже при слабом свете луны можно было заметить, что он обеспокоен, нетерпелив.
— Идемте, профессор. Сами увидите.
Они обошли вокруг здания и остановились у задней стены. Доб взглянул наверх. Там, высоко, светилось дневным светом широкое окно. Он быстро сосчитал этажи. Действительно, двадцать второй этаж.
— Да… Мой кабинет, — задумчиво сказал он, потом вдруг повернулся к Фрею и решительно произнес:
— Идите к себе. Я пойду с вами, потом вы закроете оба входа — главный и запасной — и подождете меня внизу. Если кто-нибудь захочет выйти отсюда, немедленно объявите тревогу. Я поднимусь наверх.
— А, может, мне вас сопровождать? Так было бы…
— Нет. Я пойду один, — резко оборвал его Доб.
Они вошли в холл, профессор сел в лифт и нажал кнопку. Дверь в коридор, где размещались лаборатории и его кабинет, была закрыта и не поддалась, даже когда он нажал ручку. «Значит, портье прав», — подумал Доб и начал нервно обшаривать карманы в поисках ключа, наконец нашел его и сунул в скважину. Замок слабо скрипнул, и дверь отворилась.
В коридоре было темно. Все помещения заперты. Доб направился к своему кабинету; из-под дверей тонкой полоской струился свет. Резким движением Доб распахнул дверь. Он хотел застать таинственного пришельца врасплох, но в кабинете никого не оказалось. Виднелись лишь следы чьего-то присутствия: открытая кассета с мнемокристаллами и повернутая ручка регистра записей. Доб подошел к открытому ящику и окинул быстрым взглядом полки. Несомненно, не хватало кассеты с записями кода аксонов. Стало быть, незнакомца интересовали аксоны.
«Раз кристалла здесь нет, он должен быть в компьютере», — подумал Доб. Чуть успокоившись, он открыл дверь и вышел в коридор. В лаборатории было тихо. Он медленно нажал ручку и слегка приоткрыл дверь.
Спиной к двери, склонившись над монитором машины, стоял цифрон. Коренастая фигура с неестественно большой головой была едва различима в густом мраке, освещенная лишь светом указателей на пульте. «Кто приказал ему производить расчеты?» — подумал Доб. Но тут тишину нарушило гудение, перфоратора — тот начал выдавать результаты. Цифрон вздрогнул и медленно повернул голову в сторону двери. Доб тихо прикрыл дверь и попытался осознать, что же он увидел. Ему очень хотелось спросить цифрона, что все это значит, но профессор решил, что если он «спугнет» автомат, то никогда не узнает, с какой целью производилась эта работа. Он был заинтригован.
«Они должны одновременно проводить какие-то опыты на имитаторе. Иначе вывели бы данные на магнитную ленту, потому что перфоратор используется только при работе с имитатором», — размышлял профессор. Неожиданно дверь лаборатории открылась, и Доб едва успел отскочить в тень. Цифрон спокойно прошел по коридору и закрыл за собой дверь. Доб выскочил из-за угла и бросился следом за ним. Открыв дверь коридора, заметил уплывавшую кабину грузового лифта. Не раздумывая, он принялся считать вспышки лампочки — таким образом он мог хотя бы приблизительно определить этаж, на который спускался цифрон. «…Девятнадцать… двадцать… двадцать один… двадцать два… значит, либо на первый этаж, либо в подвал», — подумал он. Первый этаж, пожалуй, исключается. Там он побоялся бы встретить Фрея. Стало быть, скорее в подвал. Доб подбежал к другому лифту, на котором поднялся сюда. Он спустился только до первого этажа, потому что в подвальных помещениях люди практически никогда не бывали. В одном крыле находились склады оборудования, изъятого из обращения, холодильники для хранения проб и результатов синтеза из лабораторий, в другом — помещение, в котором ежемесячно специальная группа цифронов совершала осмотр всех вспомогательных автоматов.
Выскочив из лифта, Доб махнул рукой Фрею. Тот быстро встал со своего кресла. Когда Фрей приблизился, профессор тихо спросил его:
— Ключ от подвала у вас?
— Нет. Он всегда открыт. Директор…
— Да, конечно, Фрей, — прервал его Доб. — Подождите меня здесь. Я быстро вернусь.
— Но кто…
— Не сейчас, Фрей. Погодите немного, — бросил Доб уже на ходу.
Дверь в подвал действительно была открыта. Доб вдруг почувствовал себя не в своей тарелке: холодный воздух, слабые голубые лампочки, ряды одинаковых голубых дверей в пустом коридоре и эхо нетвердых шагов пробудили в нем беспокойство. Он ускорил шаги и свернул налево — в другое крыло. Неожиданно ему показалось, что издалека донесся какой-то незнакомый звук — словно бы плач или скорее стон. Он остановился и, зажмурившись, напряг слух. В ледяной тишине услышал, на этот раз уже четче, тихое плаксивое бормотание, медленно переходящее в монотонный затихающий стон.
Он быстро побежал туда, откуда слышался стон, но звуки шагов тотчас приглушили его, и, боясь потерять след, Доб замедлил шаги. Он был в сердце королевства цифронов. Когда он свернул еще раз, неожиданно до него снова долетел стон, теперь уже совершенно отчетливый.
Доб остановился и обернулся. Ему казалось, что звук раздавался откуда-то справа. Он сделал еще несколько шагов, теперь уже стараясь двигаться как можно тише, и заметил, что последние перед поворотом коридора двери были полуоткрыты, а противоположную стену и синюю плиту пола разрезает полоса света. Он осторожно заглянул внутрь через широкую щель.
В комнате стояло пять коек, со всех сторон окруженных имитаторами, реанимационной аппаратурой и автоматами, дозирующими физиологическую жидкость, искусственную кровь и ревитационные жидкости. На самой ближней к двери койке сидело удивительное человекообразное существо. Огромная безволосая голова с сильно стесанным лбом, покрытым густой сетью голубоватых прожилок, ясно видимых на фоне светлой, почти прозрачной кожи, была опущена на щуплую грудь. Такая же щуплая, как бы недоразвитая рука свободно лежала на коротких ногах, бессильно свисающих с низкой койки. Доб с ужасом увидел, как это существо, сидящее к нему боком, покачиваясь, выдавливало из себя плаксивые звуки. Огромная голова, которую не в силах была удержать слишком тонкая шея, при этом как-то странно дергалась.
Доб также заметил, что на соседних койках находились похожие на первое существа, но они были опутаны проводами капельниц, имитаторов и дозиметров. На горящих экранах имитаторов извивались энпефалоскопические изображения. Шел процесс преданимации…
Доб очнулся. До сих пор он как бы только регистрировал увиденное. Шок был настолько сильным, что он не мог даже осмыслить то, что увидел. Несомненно было одно — существа эти созданы искусственно, из мертвых белковых протезов, воспроизведенных в других лабораториях и ждавших оживления после того, как откроют аксон. Но как же их оживили?! Без аксонов?.. Это невозможно. Тот, кто их создал, предварительно должен был создать аксон!
Тут за спиной Доба открылась дверь. Он машинально нырнул в коридор, в тень, и осторожно заглянул в комнату. Туда уже вошел цифрон. Сквозь узкую щель Доб заметил, как цифрон резко толкнул стонущее существо — оно упало на койку — и начал привязывать его ремнями. Из-за плеча отклонившегося цифрона Доб успел заметить, что вторая, до сих пор невидимая рука существа была совсем иной — длинной и худой.
— Ну и что, профессор, что? — старичок буквально сгорал от любопытства.
Доб под маской безразличия с трудом скрывал волнение, но заставил себя спокойно ответить:
— Ну что ж, Фрей… Как я и ожидал, друзья решили преподнести мне сюрприз. Наконец нашли то, что мы искали столько лет. Не хотели говорить мне сразу, но благодаря вам я теперь знаю все…
— Это мой долг, профессор! Обязанность… — портье расцвел.
— Да, да, Фрей. Только, видите ли, работа еще не доведена до конца, на это потребуется несколько дней. Я хотел бы, чтобы вы пока никому не говорили ни слова! Понимаете — здесь все только этого и ждут: это и для других должно быть неожиданностью, особенно для Таямы…
— Конечно, конечно! — воскликнул портье. — Это понятно! До тех пор пока вы сами не сочтете нужным открыться, я буду молчать! Я понимаю, — он приблизил лицо к уху Доба. — Тайна! Конечно же, тайна! Но… — он покрутил головой и беззвучно засмеялся: — но директор так обрадуется! Он так ждал! То-то будет ликование! Ведь я всегда знал…
Доб нетерпеливо прервал рассуждения портье:
— Да, Фрей, конечно. Только пока, как уговори лись, никому ни слова. А я о вас тоже не забуду. Впрочем, я забегу сюда сегодня еще разок после обеда или вечером… Ну, а сейчас мне уже пора. Спокойной ночи, благодарю. Вы очень наблюдательны, Фрей! — похвалил Доб вконец растаявшего старичка.
Хоть Доб и был страшно утомлен, он не заснул до утра. Времени оставалось в обрез. Необходимо было принять решение, но еще до этого он должен был осознать, что же он увидел. Одно было несомненно: кто-то уже знал, как создать аксон. Без этого не ожил бы ни один мускул, ни одна клетка существ, которых он видел. Доб не мог сообразить, кто из нейрофизиков был настолько заинтересован в проведении столь секретных исследований, чтобы работать в подземелье, не приспособленном для проведения экспериментов и для пребывания людей. Вдобавок Доб сразу заметил, что здесь работала аппаратура, давно уже убранная из лабораторий института. Иначе говоря, таинственный исследователь, по приказу которого работали цифроны, должен был до начала работ запланировать модернизацию аппаратуры и восполнить недостатки старой соответствующим образом обученными цифронами.
Ну, и, наконец, самое важное: зачем, черт побери, созданы эти существа? Дикая шутка? Непродуманный эксперимент? А может, сумасшествие? Ведь уже давно была доказана бессмысленность создания искусственного человека. Давно уже стало ясно, что природа разрешила эту проблему наилучшим из возможных способов. Таким образом, создание «идеального» искусственного человека было таким же бессмысленным шагом, как и попытка создания в лаборатории пшеницы, ничем не отличающейся от естественной. Ну, и, наконец, проблемы этического характера: Доб не забывал слов старого профессора Хиггса о том, что, вероятнее всего, такие эксперименты приведут к созданию идиота. А тогда вопрос уже приобретал совершенно другой характер: в соответствий с нашими собственными убеждениями этот искусственно зачатый человек тоже был настоящим. Стало быть, таким образом создали бы еще одно несчастное существо, которое нельзя было ни уничтожить, ни разобрать на составные части. Значит, не следовало давать жизнь тем, для кого лучше было бы вообще не существовать. Все считали, что такая постановка вопроса правильна и гуманна, и никто не слышал о каких-либо протестах, а тем более опытах биофизиков в этом направлении. Вот почему Доб так ужаснулся при мысли о встрече с таинственным исследователем. Он решил, что либо тот не в своем уме, либо…
Да, собственно, эта мысль пришла ему в голову еще тогда, в подвале. Он отогнал ее от себя, настолько абсурдной она ему показалась. И все же теперь он вынужден был признать, что именно из-за этого он решил сохранить все в тайне и наблюдать на расстоянии. Кроме того, сейчас, в спокойной обстановке, он вдруг понял, что эта мысль показалась ему абсурдной скорее из-за амбиции, нежели из соображений рассудка. Его знания по теории автоматов были довольно убогими и наверняка устарелыми.
Он вскочил с кровати и бросился к картотеке микрофильмов. Нервно перебирая карточки, он шептал: «Теория автоматов в топологическом понимании»… Не разобраться… «Теория нелинейных автоматов»… Устарело… Здесь это ни к чему… «Проблемы квазипсихологии конечных автоматов»… Дьявольщина! Если бы то же самое, только для неконечных… Он отодвинул картотеку. Взглянул на часы. Половина седьмого. Пожалуй, Хиггс уже встал. Впрочем… Он подошел к автофону и набрал номер Хиггса. Доб знал его давно, с тех пор, как двенадцать лет назад был создан контрольный совет при Центральном агентстве космонавтики. Хиггс был авторитетом в области кибернетики, и его работы по теории автоматов некогда получили всеобщее признание.
На экране медленно проступала заспанная физиономия Хиггса.
— Привет, Сеймур! Прости, что рановато поднимаю тебя, но у меня важное дело, — сказал Доб.
— Скажу тебе честно, для меня никакое дело, даже государственной важности, не оправдает такой поступок. Но теперь ничего не поделаешь — давай!
Хиггс принялся лениво массировать себе шею, чтобы проснуться.
— Слушай, Сеймур, у меня к тебе вопрос: как ты считаешь, могут ли цифроны создавать что-либо за спиной человека без его ведома?
Хиггс раскрыл глаза:
— Минутку… В чем дело?.. Что за выдумка?.. Если ты для этого меня разбудил…
Доб резко прервал его:
— Выслушай меня до конца и проснись же наконец, все равно я тебя разбужу! Я хочу знать, насколько цифроны способны к самостоятельному принятию решений, ну и… скажем, к самостоятельным действиям, не имеющим ничего общего с человеческой деятельностью?
Теперь уже Хиггс насторожился. Он проснулся и задумчиво потер рукой небритый подбородок, слушая Доба. Когда тот кончил, Хиггс спросил:
— Иначе говоря, ты хочешь знать, могут ли они вдруг втайне от человека начать ходить по автовизионам или играть в карты?
— Ну да, что-то в таком роде. Или же затеять какую-нибудь более серьезную игру, а мы были бы не в курсе дела.
— Серьезную или нет, уже не имеет значения. Для автомата типа цифрона решение о начале игры в карты равносильно решению о постройке трансгалактической ракеты.
Доб так и подскочил.
— Значит, ты считаешь, что они могли бы принять такое решение без вмешательства человека?
— Видишь ли, Доб, ты ставишь меня в затруднительное положение. Вообще-то этого не должно быть. Но, с другой стороны, проблема достаточно сложна и, по моему личному и, видимо, субъективному мнению, такая возможность существует. Когда возникли первые модели цифронов, все кибернетики считали делом чести уметь нарисовать по памяти всю логическую схему цифрона. Величайшим своим достижением они тогда провозглашали то, что цифроны обрели способность (вероятно, ты слышал о знаменитом в свое время «алгоритме эволюции») к продолжению рода и постепенной эволюции, процесс которой происходил одновременно по двум каналам на основе знаний предыдущих «поколений», а также знаний, приобретаемых цифронами, наиболее способными к обучению и наблюдению. Таким образом, сегодня нам удалось получить автоматы с развитой квазипсихической сетью, обладающие, с нашей точки зрения, — а мы не очень-то ориентируемся в структуре их логики — лишь единственным, но серьезным недостатком. Известно, что сегодня отдельные цифроны очень отличаются друг от друга по степени развития; среди них тоже есть более глупые и более умные, в зависимости от того, чему их научили предшественники и что поняли они сами. Одно несомненно: они наверняка не могут совершать действий, приносящих вред человеку, — встроенные в них исходные связи физически исключают такую возможность. Но это касается только непосредственных действий. А, скажу тебе откровенно, по моему (и не только моему) мнению, они могли бы наделать нам больше хлопот, чем мы можем себе представить. Достаточно сравнить их с нашими сумасшедшими. Ведь те не действуют против нас. А попробуй впустить хотя бы одного в склад плутония. Но, — Хиггс оживился, — отчего подобные мысли приходят тебе в голову в такой ранний час?!
Доб попытался сделать хорошую мину при плохой игре.
— Вообще-то ничего особенного не случилось. Последнее время я занимаюсь такими вопросами по заданию Таямы. Сегодня я как раз должен был… окончить некоторые эксперименты, и меня заинтересовала такая возможность. Сам знаешь, надо рассмотреть все варианты…
— Понимаю, нервы. Я уже знаю, что ваш Таяма постарел и скучает сильнее прежнего. Но если у тебя больше нет никаких вопросов, может, ты мне позволишь немного вздремнуть?
— Да, разумеется. Благодарю — это было для меня очень важно. Еще раз — извини. Ну до свидания!
— Э, ерунда. Привет!
Экран автофона погас. Доб вытер лоб, мокрый от пота, несмотря на утренний холод. Хиггс развеял его последние сомнения.
Огромный остекленный зал амфитеатра Института биофизики был уже почти заполнен. Последние приглашенные и работники института занимали места, полукругом охватывающие возвышение, на котором стоял широкий стол со звуковой аппаратурой, считчиками лент и мнемокристаллов. Хотя людей было множество, в зале стояла тишина, лишь изредка нарушаемая каким-нибудь словом или замечанием.
Но вот в зал вошли два пожилых человека, которые направились к кафедре. Директор института и координатор исследовательских работ профессор Акиба Таяма подошел к одному из них, тому, что пониже, человеку весьма преклонного возраста. Несмотря на свои годы, он двигался юношеским пружинистым шагом, свидетельствовавшим о большой энергии и жизненной силе. Когда он сел на указанное место, Таяма тихим спокойным голосом обратился к собравшимся:
— Уважаемые коллеги! Прежде всего я хотел бы представить вам директора Института теоретической кибернетики и члена контрольного совета Центрального агентства космонавтики, профессора Сеймура Хиггса, известного многим по своим прекрасным работам. По причинам, о которых вам будет объявлено позже, я передаю в его руки ведение нашего необычного собрания…
Таяма поклонился и сел, передав бразды правления Хиггсу. Тот, как бы исполненный сомнения, медленно встал и громким, привыкшим к чтению лекций голосом начал говорить:
— Независимо от того, что бы я ни сказал сейчас о моем друге, профессоре Бернарде Добе, это прозвучало бы сейчас банально и странно. Поэтому я не стану говорить о том, чего он добился и что еще мог бы совершить. Есть люди, о которых не надо говорить, когда их больше нет среди нас. То, что он оставил после себя — и есть памятник, который мы могли бы ему поставить. По первому мнемокристаллу, который оставил профессор Доб, все вы знаете начало истории, так трагически окончившейся. Эта запись должна была послужить ему основой для дальнейших работ над необычным явлением, с которым он столкнулся, а сделана она была — этого вы не знаете — сразу после нашего утреннего разговора с ним. Добавлю, что я чувствую себя особенно виноватым в смерти моего друга, так как в то время я не сделал никаких усилий, чтобы понять необычные побуждения, которыми руководствовался профессор, обратившись к моей помощи. Однако никто из присутствующих до сих пор не знал, отчего же умер профессор Доб и к каким выводам он окончательно пришел. Сегодня утром доктор Вольфганг Миснер нашел мнемокристалл и ленты с записями и прочитал их. Они были спрятаны в преданимапионной камере, находящейся в амбулатории цифронов. Поэтому я считаю, что лучшим свидетельством того, что именно открыл профессор Доб, будут его собственные слова.
Хиггс повернулся к двери, позвал одного из лаборантов, тот подошел к кафедре и запустил счетчик мнемокристаллов.
Через минуту в зале раздался всем знакомый голос:
— Вы наверняка узнаете мой голос, голос Бернарда Доба. Я думаю, что с помощью Фрея вы уже нашли и мое тело, если нет, откройте шкаф четвертого питателя имитаторов — тот, который бездействует… Думаю, что вам уже известно содержание мнемокристалла, который я оставил дома на столе… Вы должны его прочесть, об остальном вам расскажет мой друг, Сеймур Хиггс. Я очень бы хотел, чтобы он тоже присутствовал сейчас здесь, среди вас. Вы, конечно, знаете, что в тот день утром я послал из подвалов все цифроны к себе наверх. Мне нужно было время, чтобы спрятаться в зале лаборатории… Смешно, когда человеку приходится прибегать к таким методам расшифровки тайн природы, но я не видел иного выхода… Если бы мне предстояло узнать все от человека, быть может, я искал бы другой путь, но я уже знал, что играю с автоматами, а я не представлял, думаю, и вы бы не представляли, как вести себя с ними. К этому вопросу, если хватит времени, я еще вернусь…
Наступила пауза, явственно послышалось короткое ускоренное дыхание Доба. Хиггс сидел, обеими руками закрыв лицо. Затем опять как бы возник из небытия голос Доба:
— Хочется сказать многое, но нет времени… Простите за сумбурное выступление… Мне трудно подбирать слова… Да! Возле мнемокристалла вы увидите ленту с кодом аксонов — ваша мечта исполнилась, да и я рад, что не ошибся… Необходимо было воспользоваться другой последовательностью импульсов имитатора… Впрочем, вы и сами это легко заметите… Это был только вопрос времени…
Таяма слегка шевельнулся в кресле и потер рукой лоб.
— Поэтому я больше не стану возвращаться к коду аксонов. Факт тот, что я вырвал его у цифронов; мы еще раз убедились, что они работают лучше и быстрее, чем люди… Однако мое сообщение, вероятно, больше всего заинтересует Хиггса и вообще кибернетиков. Помнишь, Сеймур, как на твоих лекциях люди часто спрашивали, насколько далеко можно зайти в нашем стремлении постоянно совершенствовать автоматы? Что произойдет, если мы построим такие совершенные автоматы, которые уже не отличишь от человека? А если они будут совершеннее людей?.. Ты всегда отвечал, что это невозможно, вспоминал о целевой специализации, об этике, о мертвых, что бы там ни говорили, машинах… Да ты и сам в это не верил, просто даже ты, дока в этих делах, не понимал, к чему может привести ваша работа… Не знал, что это, собственно, значит: мертвая машина? Признайся, тебя, как и других кибернетиков, мучило, что мы не могли понять сложной квазипсихики цифронов. Наверное, сравнение, которое ты привел в разговоре со мной, будет здесь уместно — они понемногу превращались в безвредных сумасшедших, которые с медицинской точки зрения не способны, во всяком случае, не должны быть способны приносить вред людям… И все-таки мы понимаем, что они могли бы совершенно неосознанно принести нам много вреда…
Доб опять замолчал. Говорил он с трудом. Его слушали, затаив дыхание.
— Я, кажется, забыл сказать самое важное: почему я уже знаю, что умру… Если успею, расскажу все подробнее. Сейчас важно то, что я получил огромную дозу. Судя по показаниям дозиметра, мне осталось жить шесть, может быть семь часов, из них, вероятно, в сознании я буду не больше часа… У меня нет никаких шансов. Даже если бы я и ушел, уже ничто не изменилось бы — слишком большая доза… Но об этом позже… Итак, Сеймур, ты, наверное, понимал, что, потеряв абсолютный контроль над цифронами и зная, что они просто не могут, я бы сказал, физически не могут действовать во вред нам, мы поступали глупо. И ты был один из немногих, кто знал, что, позволяя цифронам самообучаться и передавать Друг другу полученный опыт, мы тем самым разрешаем им проявлять самостоятельность в создании их собственной «цифрофизики», которую уже не можем контролировать. А они учились, наблюдали и совершенствовались. Правда, им никогда не могла прийти в голову мысль действовать во вред людям. Они помогали нам, как умели, но знали, что люди создали их, дабы иметь идеальных неживых помощников. Они поняли, Сеймур, то, чего не хотели понять мы: что позволили нам законным путем обойти наши этические нормы… Ведь мы эксплуатировали не людей, а машины… Мы непрерывно шли вперед, упивались молниеносной эволюцией нашей цивилизации, забывая, что рядом с нами развивается новая цивилизация, цивилизация автоматов… Они использовали нашу науку и опыт — они уже знали, что в соответствии с нашими моральными нормами, которые ведь были и их нормами, эксплуатация человека человеком недопустима… так же, как и эксплуатация автомата автоматом. Цифроны пошли нормальной дорогой эволюции — их моральные нормы запрещали им создание автоматов, которые служили бы автоматам… Тогда они создали искусственные белковые существа… Ведь они не знали, что таким образом создают лишь некую разновидность несчастных больных людей… Среди нас они никогда таких не видели…
Наступила долгая пауза. Доб тяжело дышал и, видимо, собирался с мыслями. Наконец он продолжил:
— Теперь, Сеймур, ты понимаешь все, что произошло… они в своем развитии переступили порог, которого никогда не должны были переступать… ту границу, к которой не должна была приблизиться цивилизация автоматов… Если они будут развиваться и дальше, то мы никогда не остановим их в стремлении к конструированию искусственных людей так же, как никто не сдержал нас в стремлении к созданию все более совершенных автоматов…. Если же это будет невозможно для них сегодня, то они примутся за это через два, десять или через сто лет… Если мы встроим им новые связи, начнем контролировать, то они пойдут другим путем — это будет зависеть лишь от условий… Сейчас у нас перед ними только то преимущество, что это мы создаем для них искусственную биосферу, точнее, психосферу — это, вероятно, важнее… Но мы не можем остановить их, если только хотим, чтобы они были способны к обучению или к размножению… Не знаю, к каким вы придете выводам, но если не принять мер, то они заселят нашу планету такими же человекообразными существами, какие вы видели здесь. Не знаю, хорошо это или плохо, что они уже мертвы… Думаю, что для них это определенно лучше…
Доб еще раз замолчал. Теперь уже явственно слышалось его прерывистое дыхание.
— Кажется, мне надо… торопиться… Наверно, вы хотите знать, откуда такая доза… Вы сами научили цифронов, что сопротивляемость излучению — качество положительное. Они настолько хорошо восприняли урок, что и этих… как их там, черт побери… гомонов, что ли?.. Ну, так они этих гомонов тоже решили сделать невосприимчивыми к излучению… Я не знал, что здесь происходит… Я бы вылез из моего… ну, из этого паршивого ящика, в котором вы меня нашли… Но ведь тогда я еще не знал… Хотел увидеть как можно больше… Они сделали им защитные инъекции. Вероятно, какая-то противолучевая сыворотка их собственного изобретения… Вы должны провести исследования, может быть, это действительно интересно… Так вот, они ввели им эту сыворотку и… и ушли. Заперли двери, а потом открыли шесть источников… Четыре плутониево-бериллиевых… знаете, с нейтронами… и два гамма. Дьявольски интенсивные… Кажется, цезий-137… Мне было трудно проверить… Они заблокировали двери. Когда я спохватился, мониторы выли как сумасшедшие… Я не мог ничего сделать… впрочем, было уже поздно… Однако в чем-то они просчитались, потому что эти гомоны… или как их там… сразу же… потеряли сознание… Видимо, они еще далеки от совершенства… Я не мог заслонить источники, потому что… вы знаете, они скрыты в полу и стенах… Ведь никто даже не предполагал, что там будут люди… Я закрывал отверстия сосудами с водой, но ведь это действует только в отношении нейтронов… и то слабо. Так что не забывайте о ленте с кодом аксонов… Туда надо внести несколько поправок. Миснер знает, что нужно сделать… Да! И… сыворотка… Это, может быть, что-то нужное… только придется немного поработать… Ленту и кристалл кладу в преданиматор первого гомона… Вероятнее всего, вы именно там будете прежде всего искать какие-то записи. И вы их сразу найдете… Ну и… с Анной… сделайте это как-нибудь так, чтобы ей было легче… Пусть она это не слушает. Все сильнее болит. Я… прячусь в этот ящик… У него металлические стенки, так что… может быть… проживу часа на два больше… Сейчас это уже смешно, но… но человек всегда хватается за жизнь… держится сколько может…
Рышард Винярский
Изобретатель с улицы Проезжей
С самого утра у шефа было скверное настроение. Первыми это учуяли, как обычно, младшие научные сотрудники и лаборанты. «Профессор сегодня встал не с той ноги», — шептали в лабораториях и старались не попадаться ему на глаза. Поэтому не удивительно, что, как только часы пробили четыре, институт опустел и профессор остался один на один со своим настроением.
Он сидел, погрузившись в кресло, и не имел ни малейшего желания идти домой или приняться за дела. Следовало бы, конечно, прочитать несколько писем, но содержание одного из них он знал заранее, в остальных тоже наверняка не будет ничего нового. Коллеги сообщают об успехах и неудачах. Чаще — о неудачах. Какой интерес читать, что в Цюрихе провалился опыт, а выдвинутые в Белграде гипотезы оказались ошибочными?!
Когда Грей Уолтер в свое время с помощью чувствительных приборов обнаружил электрические токи в коре головного мозга, все казалось до смешного простым. Считалось, что стоит воздействовать слабыми токами на центральную нервную систему и вызывать «по заказу» рефлексы или создавать нужные логические связи — и решающий шаг на пути познания механизма мышления будет сделан. Но прошли десятилетия и тем не менее…
Опыты профессора Штрайба, с таким энтузиазмом встреченные ученым миром, оказались невольной мистификацией. Пациент, на котором проводились эксперименты, просто обладал… буйно развитым воображением. А ведь это был единственный значительный успех. Ежедневная почта приносит куда менее оптимистические сообщения.
И как явная насмешка, между цветными конвертами торчит этот голубой нахальный четырехугольник, в котором — профессор это знает совершенно точно — находится листок из тетради с неровными строчками бисерных буковок:
«Вельможный пан профессор!
Осмеливаюсь просить Вас навестить меня сегодня вечером после шести часов. Мне удалось сделать поразительное открытие, которое совершенно по-новому объясняет процесс мышления. Убедительно прошу не разглашать содержание письма.
Я. Бельский»
За долгие годы работы профессор получал немало подобных писем. Сколько раз к нему обращались с сообщениями о создании очередного «перпетуум-мобиле». И всегда это было «наилучшее и единственно возможное решение, увенчавшее многолетние поиски». Но даже после беглого знакомства неизменно оказывалось, что у изобретения нет и крупицы приписанных ему качеств, а его создатель не знает элементарнейших законов физики и математики. Встречаясь с такими людьми, профессор не мог понять, как это они путают эпохи, забыли, что в конце XX века прогрессу могут способствовать только солидные знания и коллективный труд.
Где-то внизу хлопнула дверь. Профессор взглянул на часы. Скоро семь. Самое время встать и покончить с этим делом раз и навсегда. Хотя бы для того, чтобы завтра не видеть на столе голубой конверт.
Улица встретила его вечерним холодом и мелким моросящим дождем. Но он даже не застегнул плаща: идти было недалеко.
Через пять минут профессор вошел в подъезд, над которым висела большая белая вывеска: АМБУЛАТОРИЯ, без труда отыскал на втором этаже дверь, облепленную целой коллекцией визитных карточек, и трижды нажал кнопку звонка. Звякнула дверная цепочка, в узкой щели блеснули маленькие недоверчивые глазки. Цепочка тут же упала.
Бельский, человек и без того мелковатый, казался еще меньше в чересчур просторном потертом пиджаке и неглаженых брюках. Скривившееся в улыбке лицо было удивительно знакомо профессору.
По коридору, заставленному сундуками и ящиками, они прошли в комнату с высоким, как обычно в старых домах, потолком. Ночник скупо освещал узкую кровать, стеллаж с книгами, два стола и кресло. Неудобно размещенные и заставленные чем попало, они, казалось, вели между собой нескончаемый бой за пространство в центре комнаты. Рядом с кухонной утварью валялись кипы исписанной бумаги. Книги — к ним профессор был особенно неравнодушен — чувствовали себя на полу так же привычно, как и на стеллаже. Судя по толстому слою пыли на переплетах, их не открывали месяцами.
Хозяин быстрым движением сбросил с кресла кипу газет, а сам примостился на краю кровати.
Профессор присел с такой осторожностью, словно опасался, что кресло рухнет. Если б он мог придумать подходящий предлог, то немедленно выбрался бы отсюда.
— Ну-с, в чем дело? — сухо спросил он, лишь бы скорее начать неизбежный разговор.
— Простите, вы меня не помните? — хозяин явно волновался.
— Хотя, пожалуй, нет, откуда же вам помнить всех сотрудников. Я был одним из них… Недолго. Всего несколько месяцев. Меня уволили; я, кажется, не подошел…
Профессор вспомнил. В памяти всплыло даже заседание ученого совета, на котором спорили о нем, Бельском. Это был своего рода феномен. Он буквально замучил всех рассуждениями о методах выплавки вольфрама или новых типах ракетного топлива, но не умел решить системы уравнений с двумя неизвестными. Заставить его интересоваться делами собственной лаборатории не удавалось никому. Трудно было понять, как он вообще попал в институт. Через полгода его пришлось уволить.
— Это было двенадцать лет назад, пан профессор, — Бельский говорил все свободнее. — А сейчас вот уже два месяца я размышляю над своим необычным открытием. Хотел даже отказаться от работы. После того как меня… м-да, после этого я устроился на одном заводике. Но теперь, когда у меня такая возможность… Простите, но об этом посещении никто не знает? Видите ли, теперь всюду охотятся на изобретателей. Такое время. Человек ищет, работает, а потом словно из-под земли появляются сотни соавторов. Поди установи, кто начал…
— Мне хотелось бы поближе познакомиться с вашим открытием, — в голосе гостя звучало с трудом сдерживаемое раздражение.
— Вот, — Бельский решительно, резким движением руки показал на прибор, стоящий на металлическом столе.
— Господи, какая древность! — удивился профессор. — Прибор для чтения вслух. Интересно, где вы его раздобыли? Насколько мне известно, подобные приборы получают бесплатно только слепые.
— Да, да, конечно. Я купил его три года назад у одного старичка. Пришлось заменить часть фотоэлементов, и он до сих пор прекрасно работает. Немного переделал подставку для книг. Теперь прибор сам переворачивает страницы.
— Ясно, ясно. Фотоэлементы, усилитель, коррегирующие устройства. Тут просто и не придумаешь ничего нового. Чего ради вам пришло в голову назвать это своим изобретением?
— Минуточку… Два месяца назад я заметил, что старый деревянный столик под прибором расшатался. Этот прибор, пан профессор, не читает предложенных ему текстов; во всяком случае, не всегда их читает. В определенные часы он придумывает сообщения.
Они подошли к прибору. Бельский протянул руку к ближайшей книге. Это была монография Леопольда Инфельда об Эйнштейне. Бельский раскрыл ее наугад и поместил перед аппаратом. Профессор быстро прочел первую фразу: «В 1955 году теории относительности сравнялось полвека». Спустя минуту из динамика послышался сухой треск, потом тихий звонок и, наконец, хрипловатый голос:
«В тысяча девятьсот пятьдесят пятом году… — и вдруг значительно быстрее: — Задумаемся же над этим. Если кому-либо придет в голову выйти из дома, чтобы достичь границы Земли, дойти до пункта, в котором он мог бы, скажем, схватить рукой звезду, он может ехать любым путем на восток или на запад, через Францию или Россию, Европу или Азию…»
— Ну, как? — торжествовал Бельский.
Профессор почувствовал, что по спине у него пробежал холодок. «Но это же невозможно», — мысленно проговорил он. Однако нервозность быстро уступила место любопытству.
— А вы не присоединили к аппарату никаких дополнительных систем?
— Упаси боже, профессор! Я сам удивлен и пригласил вас, так как вот уже два месяца никак не могу разобраться. Я даю ему самые различные тексты. Иногда он читает их, а иногда начинает выдавать какие-то отрывочные сведения, но всегда из области географии… Несколько архаичный язык я приписываю несовершенству коррегирующих устройств. Вообще-то он ни одного текста не читает как следует.
— Гм, — профессор был явно сконфужен. — А вы пытались найти какое-нибудь объяснение?
— Конечно! Оно напрашивается само собой. Прибор стал источником информации так же, как это бывает с мозгом. Ученые выдумали, что коль скоро мозг состоит из миллиардов нейронов, то и его модель должна быть не менее сложной. А между тем элементарное устройство, созданное мною, будучи установлено на металлическом столе, действует гораздо эффективнее, чем многие сложные машины. Природа человеческого мышления, пан профессор, гораздо проще, чем предполагают светила науки. И это обнаружил я! — Глаза Бельского возбужденно горели.
— Прибор, стол — и больше ничего! Надо только как следует все изучить. Может, сделать какие-нибудь анализы… Вы, например…
Он неожиданно замолчал и выжидающе посмотрел на профессора. Тот, казалось, что-то прикидывал в уме.
— Ну, подумайте, а я пока… Хотите чаю?
— С удовольствием.
— Дома ничего нет. Я, право, и не надеялся… Будьте любезны, подождите минуточку. Магазин недалеко, за углом.
Как только Бельский вышел, профессор приподнял кожух и внимательно осмотрел аппарат. Внутри не было ни магнитофона, ни чего-либо в этом роде. Никаких новых деталей, никаких дополнительных соединений! Он машинально прошелся по комнате и замер, услышав какой-то странный шум. В полной тишине за стеной сначала послышались шаги, потом четкий мужской голос произнес: «Разденьтесь до пояса и по очереди подходите к аппарату…»
И тут его озарило: вывеска! Белая вывеска над подъездом: АМБУЛАТОРИЯ!
Профессор наклонился к стеллажу и принялся рассматривать книги. Он быстро нашел то, что искал — книгу, стоявшую не корешком, а обложкой к читателю. Осторожно сдув с переплета пыль, профессор не без труда прочел заглавие, вытисненное мелкими буквами: «Земля и ее жители». Он принялся листать и на пятой странице обнаружил нужный текст: «Задумаемся же над этим. Если…»
Ясно. Пучок лучей из работающего за стеной рентгеновского аппарата… Фотоэлементы, вероятно, очень чувствительны к его лучам, которые как бы просачиваются в книгу. А страница, с которой читается текст, — случайность. Потому-то Бельский и говорил о различных текстах. И, конечно же, «чтец» интересуется географией только тогда, когда за стеной работает рентгенолог. А металлический стол — даже смешно — просто помог установить фотоэлементы аппарата напротив книги.
Профессор схватил первый попавшийся под руку том — «Искусственное мышление» Пьера де Латиля, и поставил его на полку, туда, где до этого стояла «Земля и ее жители».
«В тысяча девятьсот пятьдесят пятом году… — захрипел динамик „чтеца“ и через минуту: — Регулятор — это орган, регулирующий механическое движение. Обобщим это утверждение. Вместо движе…»
Профессор быстро натянул плащ, вырвал из записной книжки листок и написал:
«Пан Бельский!
Ваш прибор запретил мне сотрудничать с Вами. Мы с ним договорились, что я буду влиять на его интересы и выбор тем для размышления. Отныне он, а не я будет заниматься вопросами искусственного мышления. Я же сажусь за регулирование и обратные связи. Это — мудрейший электронный мозг, и он не любит разговаривать с недоучками».
Уже закрывая за собой дверь, профессор услышал звук знакомых шагов. Он взбежал на третий этаж и переждал, пока Бельский войдет в квартиру. Едва захлопнулась дверь, как он, перескакивая через три ступеньки, спустился вниз и выскочил на улицу.
Лишь удивленный взгляд прохожего напомнил профессору, что плащ у него расстегнут, руки — в карманах пиджака и что в довершение всего он насвистывает синкопированный мотивчик какой-то старой песенки.
Дариуш Филяр
Воображектор
«… Когда тридцать лет назад я окончил работу над моделью аппарата, я почувствовал облегчение и в то же время беспокойство. Облегчение от того, что наконец-то удалось разместить в аппарате все то, что было заключено в сотнях, а потом и тысячах вычислений и чертежей, моделей и опытных образцов. После десятков неудач первая увенчавшаяся успехом менпенетралвизионная передача доказала правильность моих теоретических выкладок, позволила считать, что в основном моя задача решена. Оглядываясь назад, наконец-то я мог сказать: готово!»
Профессор Траумер отложил ручку и задумался. Его изобретение, именуемое в быту Воображектором, несомненно, являлось одним из значительнейших явлений, формировавших психику людей XX… века, однако механизм его воздействия был понятен лишь небольшой группе узких специалистов. Очерк истории создания менпенетралвизионной аппаратуры, над которым сейчас корпел профессор, предназначался для публикации в серии «Воспоминания ученых». Директор издательства предупредил, что книги этой серии создаются прежде всего для неспециалистов. Профессор помнил об этом и пытался максимально популяризировать проблему. Он опять склонился над чистым листом.
«Я уже писал о менпенетралвизионной передаче, именно в этом и заключается мое изобретение. Говоря предельно упрощенно, Воображектор позволяет видеть плоды собственного воображения, а при использовании новейших моделей — участвовать в событиях, созданных полетом нашей фантазии. У первой серийной модели возможности были весьма ограниченными. Воображектор состоял из экрана, проекционных устройств, систем изопамяти и усиления, контактного шлема и узла преобразования. Изопамять содержала запас изображений, которые могли привидеться владельцу аппарата. Вначале запас этот составлял три миллиона изображений — виды Земли и иных планет, портреты самых красивых девушек и знаменитых артистов, машины, произведения искусства и так далее. Разумеется, изопамять содержала и портрет будущего владельца аппарата.
Контактный шлем „улавливал“ волны мечтаний, возникающие в нашем мозгу. Между полюсами шлема беспрерывно шли денкальные волны, о которых я не могу здесь подробно говорить из-за недостатка места и сложности явления. Важно то, что денкальные волны распространяются только по прямой. После того как шлем надевали на голову, денкальные волны наталкивались на продуцированные мечтами волны мозга и под их воздействием изгибались и деформировались. Узел преобразования переводил эти деформации на язык изопамяти. Выбранные из объема изопамяти изображения проецировались на экран и изменялись по мере того, как изменялись мечтания. Изображения были статичными, но кто хоть раз имел возможность сесть перед экраном Воображектора, знает, как необычно разглядывать плоды собственного воображения.
Процесс, основывающийся на выделении нашей мечты, отыскании в долю секунды ее аналогов в объеме изопамяти и проецировании их на экран — это и есть менпенетралвизионная передача.
После начала серийного выпуска первые два года я отдыхал. Затем приступил к работам по усовершенствованию Воображектора. Годом позже Воображектор-2 воспроизводил уже движущиеся изображения и имел изопамять объемом в несколько сотен миллионов изображений. Затем были созданы воспроизводящий цвета Воображектор-3, Воображектор-5-Панорама, Воображектор-9-Голо. Одновременно с совершенствованием аппарата шла и прогрессирующая миниатюризация подсистем. В модели Воображектор-8-СХВ контактный шлем превратился в миниатюрный аппарат, который легко умещался в оправе очков. Были ликвидированы обременительные кабельные соединения между шлемом и преобразователем. Начиная с модели Воображектор-6-Голо, стали выпускать аппараты с объемным изображением. В изопамяти уже не было портрета хозяина аппарата. Использованный мною вид объемного фильма позволял мечтающему человеку перемещаться в воображаемом пространстве. Если только он не пытался коснуться окружающих его призраков, то этот изумительный мир воспринимался как реально существующий.
Мне могут заметить, что я не придумал ничего нового. Дескать, игру с пространственным изображением и перемещением в нем живых людей научнофантастическая литература предложила еще в XX веке, и тогда же начались первые успешные опыты. Замечание это справедливо только отчасти. Все проделанные до меня эксперименты существенно отличаются от моих. Раньше были небольшие группы актеров, сценаристов, режиссеров, готовивших фильмы для тысяч зрителей кино и супервизионов. У каждого зрителя был лишь незначительный шанс увидеть либо по мере развития пространственного изображения „пережить“ то, что он ожидал. Со временем значение человека со всей неповторимостью его индивидуальных признаков повысилось, и авторам стало все труднее создавать произведения универсальные, способные заинтересовать всех и каждого. Я же полностью разрешил эту проблему — пользуясь Воображектором, каждый мог видеть или „переживать“ собственные мечтания, точнее, иметь то, что он желал больше всего, что казалось ему самым прекрасным.
Аппарат, основанный на изопамяти, воспроизводил на экране изображение, которое мог видеть только человек, пользующийся им в данный момент. Денкальные волны воздействовали на его органы зрения. Удачным здесь было то, что при этом ты не мешал посторонним своими фантазиями. Со временем введение менпенетралвизионных устройств позволило воспроизводить мечты в виде обычных фильмов и объемных постановок, которые можно было демонстрировать знакомым. Интерес к моему изобретению возрос еще больше, ибо кому же не интересно увидеть самого себя в мечтах друга или прекрасной соседки. Но тогда же начали раздаваться первые голоса протеста против распространения моего изобретения. Некоторые психологи утверждали, что Воображектор может повергнуть человечество в пропасть лености. Ведь гораздо проще „вымечтать“ себе свой успех, например, в качестве писателя и „переживать“ его в заполненном призраками пространстве, нежели действительно написать хорошую книгу! Легче придумать себе уютное домашнее гнездышко, чем создать семью и вырастить детей! Враждебная мне группа ученых утверждала, что человечество полностью подчинится наркотику менпенетралвидения, утратит ощущение действительности и окажется под угрозой самоуничтожения. Пришлось провести широкий опрос, чтобы полностью опровергнуть неосновательные обвинения. Количество людей, которые позводяли менпенетралвидению полностью оторвать себя от реального мира, оказалось равным мизерным долям процента. Все остальные смотрели на Воображектор как на развлечение, особенно нужное в минуту утомления. Переживая на экране все то, о чем они мечтали, люди набирались новых сил, чтобы бороться за воплощение своих мечтаний в жизнь. Воображектор, несомненно, играл позитивную роль, а кроме того, успешно боролся с такими общественными недугами, как алкоголизм и наркомания. Воображектор гарантировал блаженство, большее, чем рай, а по мере развития серийного производства цены на менпенетралвизионные аппараты упали, как и на прочие предметы всеобщего пользования».
Поставив точку, профессор Траумер удовлетворенно кивнул головой.
«Написано неплохо», — подумал он. В тот день у него была конференция, и работу пришлось прервать. Два следующих дня были заполнены лекциями в институте и лишь под конец недели он смог опять сесть за воспоминания. Его вновь охватило чувство удовлетворенности, какое дает ученому сознание хорошо исполненного долга.
«Несмотря на то что классические модели менпенетралвизионных аппаратов завоевали всеобщее признание, — писал Траумер, — я продолжал искать новые решения. Даже самые лучшие голографические модели давали изображения, эмоциональное воздействие которых было очень и очень эфемерным. Достаточно было протянуть руку к ближайшему предмету, дабы убедиться в том, что перед тобой лишь имитация. Я искал способа, который позволил бы сделать фантастические ситуации еще более достоверными. В конце концов после нескольких лет экспериментов в производство пошла модель под маркой Воображектор-Корпортон. В этой модели традиционный преобразователь был включен последовательно за анализирующим устройством, разделявшим ближние и дальние планы менпенетралвизионных изображений. В самом преобразователе была выделена первая система — дальних планов и вторая система — планов ближних. Первая система, как и раньше, была связана с изопамятью, вторая — с корпортоном. На дальних планах процесс возникновения изображения оставался таким же, как прежде, — одновременно с генерацией мечты появлялось ее пространственное изображение. Принципиальные изменения коснулись ближних планов. Корпортон — это устройство, которое в доли секунды формует из запаса имеющихся в нем материалов точные макеты наших мечтаний. Материалы, содержащиеся в корпортоне, позволяют имитировать кожу, металлы, дерево…
Я уже писал, что классическими моделями Воображектора мог пользоваться только один человек. Для других эти изображения были невидимы. Если у кого-либо появлялось желание показать свои фантазии окружающим, он должен был воспользоваться менпенетралрекордингом. Использование корпортона повлекло за собой существенные изменения. Запас аккумулированных в корпортоне материалов позволял заполнить объемными макетами пространство объемом в триста тысяч кубических метров. Объемные макеты и говорящие куклы были абсолютно материальны, то есть видимы для всех. Пользующийся Воображектором видел определенное комплексное изображение, состоящее из визионных задних планов и макетов и кукол на переднем плане. Посторонние видели только передний план, помещенный в реальном мире. Точное воспроизведение корпортоном живых и действующих объектов приводило к множеству забавных недоразумений».
В дверь постучались. Профессор отложил ручку.
— Войдите, — сказал он, когда стук повторился. В голосе Траумера звучало недовольство — он не любил, когда его прерывали.
В комнату вошел сухощавый молодой человек.
— А, это вы! — уже немного теплее сказал профессор.
— Да, — ответил гость, — но я не тот, за кого вы меня принимаете, профессор.
Молодой человек беспокойно вертелся, чувствовал себя неуверенно, словно не очень твердо знал, как объяснить свое появление.
— Что вы говорите?! — воскликнул профессор. — Но ведь вы директор издательства «Воспоминания ученых». Я был у вас неделю назад.
— В том-то и дело, профессор, что я не из издательства, — молодой человек наконец решился. — Я скромный бухгалтер, а директорское звание — это всего лишь мои мечты.
— Мечты?! — повторил профессор, ничего не понимая.
— Да, — продолжал молодой человек. — Я создал в мечтах роскошное бюро — это был всего лишь корпортонный макет переднего плана, придумал мебель, секретаршу… Потом написал несколько писем известнейшим ученым, прося их посетить издательство. Сообщил домашний адрес: только там я мог возвести корпортонный макет бюро. Этот адрес меня и выдал. Большинство ученых знает адреса издательств и обнаружило подвох. Вы ничего не заметили. Пришли в назначенное время и… вступили в мир моих мечтаний. Вы не обратили внимания даже на шапку, которую я не снял во время вашего посещения…
— Я думал, это что-то, связанное с медициной, — прервал его профессор, — спрашивать было неловко…
— В шапке у меня были скрыты полюса контактного шлема, — сказал молодой человек. — Во время беседы с вами мое воображение работало непрерывно. Благодаря этому я смог познакомить вас с секретаршей, показать библиотеку и кабинет. Теперь вы знаете, профессор, что это всего лишь имитация. Я попросил вас написать воспоминания, и вы согласились. Лишь позже я подумал, что из-за моих шуточек вы понапрасну теряете драгоценное время. Я хотел бы попросить извинения… Молодой человек раскланялся и исчез.
— Невероятно, — буркнул профессор и погрузился в раздумье. Только сейчас он понял, как необходима была ему эта публикация, как хотелось рассказать о себе. Перед ним лежал блокнот. Первые пятнадцать страниц были исписаны воспоминаниями, теперь уже никому не нужными. Траумер тяжело вздохнул, закрыл блокнот и бросил в один из глубоких ящиков стола. Потом встал и отворил окно в сад. Из внутреннего кармана пиджака вынул очки в толстой роговой оправе, внутри которой помещались полюса его личного Воображектора. Сад исчез. Профессор стоял на огромной площади, окруженной массивными зданиями. В плотном кольце многоэтажных домов был только один просвет — легкий одноэтажный павильон с огромной неоновой вывеской: «КНИГИ». Профессор продолжал стоять, хотя до дверей магазина было не больше трех шагов. Из-за ближайшего угла появились люди. «КУКЛЫ», — хотел подумать он, но в последний момент сдержался, чтобы не разрывать нити мечты, которая сулила столько приятного. Необходимо было поддаться самообману. Только так можно вернуть себе хорошее настроение. Все новые люди направлялись к павильону и скрывались за блестящей дверью. Профессор двинулся следом за ними. Внутри было полно народа. Из рук в руки передавали упакованные в пластиковые плоские коробочки экземпляры какой-то книги. Траумер протиснулся к прилавку и взял в руку одну из коробок. На белом фоне чернели буквы:
ПРОФЕССОР ТРАУМЕР МЕМУАРЫ
Он поднял руку, и какое-то мгновение могло показаться, что он вот-вот снимет очки. Указательный палец повис над микроскопической кнопкой демонтажа макетов, расположенной над правым стеклом. Потом рука опустилась. «Коробка пуста, — мелькнула упрямая мысль. — На обложке только название, достаточно раскрыть книгу, как окажется, что внутри ничего нет: ведь это всего лишь мечта!»
Траумера охватили противоречивые чувства.
«Еще немного…» Он дал волю фантазии, и остановившиеся на мгновение фигуры ожили. Немного погодя один из мужчин мягко коснулся руки профессора:
— Профессор Траумер, не так ли?
— Да, это я, — ответил Траумер.
— Можно попросить у вас автограф? — спросил мужчина. Траумер вынул ручку и размашисто расписался прямо на коробке. Теперь на него смотрели все, потом к нему потянулись десятки рук.
— Автограф… автограф… автограф…
И тут профессор перестал колебаться. Он чувствовал, что никогда еще не был так счастлив, как сейчас, в этом сказочном мире, окруженный придуманными людьми, подписывающий экземпляры своей несуществующей книги.
Адам Яромин
Я знаю…
Хилари Майрон проснулся среди ночи весь в поту. Несколько минут лежал с широко открытыми глазами, переполненный счастьем от мысли, что он опять лежит в собственной постели, в своей уютной квартире и что все пережитое минуту назад было лишь сном. Пошевелил рукой, ногой, ущипнул себя. Да, несомненно, кошмарный сон уже кончился.
Он перевернулся на другой бок, натянул на голову одеяло и крепко зажмурился. Спать. Завтра много работы. А теперь посчитаем слонов — говорят, что помогает… Один слон, два слона, три слона, четыре слона, пять слонов…
Но сон не шел. Майрон неохотно встал, бросил взгляд на часы (было без пяти два) и подошел к окну. На асфальт тихо падал мелкий дождь. Хилари открыл окно, вдохнул полной грудью влажный свежий воздух — это, кажется, успокаивает — и опять лег. Какое-то время раздумывал, не принять ли снотворное, но таблетки надо было еще искать, а не хотелось, поэтому он разгладил простыню и долго ворочался, стараясь устроиться поудобнее.
Воспоминание о только что увиденном не давало уснуть. Это был страшный сон: он сдавал какой-то мучительный экзамен, не понял ни одного вопроса, корчился под холодным взглядом экзаменаторов, плел какие-то благоглупости и, разумеется, провалился. Уж не скверное ли это предзнаменование перед экзаменом, ожидающим его завтра? Завтра? Нет, сегодня, уже сегодня. Это будет экзамен посерьезнее тех, что он сдавал в школе, в институте… Отчет о годах упорной работы. Несколько лет назад он во всеуслышание объявил, что можно создать электронную машину, в память которой удастся заложить весь объем информации, содержащейся в человеческом мозге, и тогда машина унаследует все его функции. Да что там, ей даже будет невдомек, что она — машина!
И он построил такую машину! Назвал ее буднично: Пролонгатор. Сегодня утром должна состояться первая проба: перенесение в память Пролонгатора информации из мозга одного весьма перспективного студента, который, к сожалению, отличался тем, что никогда не обращал внимания на светофоры. Результаты оказались плачевными, но, быть может, этот несчастный студент, телесная оболочка которого сейчас хранится в жидком гелии в подземелье одной из клиник, своим неосторожным шагом послужит науке!
Довольно размышлять! Необходимо во что бы то ни стало уснуть. Не думать ни о чем, улечься поудобнее и глубоко дышать… Один слон, два слона…
Утром, во время бритья, Майрон рассматривал свое бледное лицо в зеркале: запавшие щеки, круги под глазами. Вид не блестящий. Самочувствие тоже не на высоте. Вот они — последствия бессонницы. Радовать может только одно — машину, которую он создал, не станут мучать ночные кошмары и бессонница, разве что и то и другое будет запрограммировано. Ведь в принципе машине по силам все, на что способен мозг человека. Это успокоило Майрона и даже привело в хорошее расположение духа. Он, насвистывая, вышел из ванной.
Без двух девять он уже пересекал холл института, в котором проработал несколько лет. Кто-то из встречных поклонился. Майрон не заметил этого. Машинально поправил отвернувшийся угол ковровой дорожки на лестнице, ведущей на второй этаж. У двери своего кабинета остановился, долго искал в карманах ключ, потом сообразил, что держит его в руке, и горько усмехнулся. Широко распахнул дверь, бросил папку на письменный стол и рухнул в кресло. «Что со мной происходит? Откуда вдруг эта робость?» — подумал он.
На столе лежал приготовленный секретаршей листок с распорядком дня. С девяти до половины одиннадцатого несколько не очень важных дел: позвонить директору, кое-что продиктовать. Пункт шестой: 10.30 — опыт с Пролонгатором; секретарша старательно, по линейке, подчеркнула это красным карандашом. Майрон некоторое время сидел, бездумно уставившись на противоположную стену. Потом забарабанил пальцами по крышке стола, переложил с места на место какую-то книгу, нашел шариковую ручку и красную полоску превратил в рамку. Несколько минут старательно разукрашивал ее венком из лавровых листьев.
Тихо открылась дверь. Майрон, растерявшись оттого, что его застали врасплох, покраснел и быстро спрятал листок. Вошла секретарша, торжественная, как никогда. Известное дело — такой день!
— Какой-то журналист просит его принять, — возвестила она голосом столь же торжественным, как и она сама.
Майрон поморщился.
— Журналист! Лучше после опыта.
— Но он говорит, что…
Она не кончила фразы, так как в комнату, довольно бесцеремонно оттеснив секретаршу плечом, вошел мужчина лет двадцати пяти.
— Я имею честь говорить с профессором Майроном, не так ли? — сказал он тоном, в котором явно чувствовались следы хорошего воспитания.
— Я не профессор, — ответил Майрон, глядя на него угасшим взглядом человека, который уснул только в пятом часу. — Слушаю вас.
— Меня зовут….. — молодой человек представился — Я репортер, — он назвал довольно популярную газету, — и хотел бы взять у вас интервью.
— Ну, что ж, коль уж вы здесь, садитесь.
Секретарша, выходя, кинула на непрошенного гостя такой взгляд, который, будь это возможно, испепелил бы его в долю секунды.
— Сегодня в вашей жизни наступает переломный момент, — начал журналист.
Майрон равнодушно кивнул.
— Первый эксперимент с прибором, которому вы отдали несколько лет жизни…
— А как вы узнали, что именно сегодня? — неожиданно заинтересовался Майрон.
Собеседник скромно улыбнулся и продолжал:
— Не могли бы вы рассказать нашим читателям о том, что представляет собой Пролонгатор?
— Хм, — буркнул Майрон и задумался. — Как вам объяснить? Это достаточно сложный компьютер, более сложный, нежели человеческий мозг. Если в его память перенести всю информацию, содержащуюся в человеческом мозге, компьютер заменит человека в сфере умственной деятельности.
— С какой же целью он создан?
— Человек смертен. Сколько лет может работать ученый, художник? Сорок, от силы — пятьдесят. А машина практически бессмертна, потому что в ней всегда можно заменить любой вышедший из строя элемент. Кроме того, она работает быстрее. То, что потребует от человека всей его жизни, машина сделает за несколько недель. Я уже сказал, что эта система сложнее мозга человека. В ее память можно будет перенести записи даже с нескольких личностей! Можно будет складывать личности!
— Идеальный человек, да? Насколько я понимаю, соединив в одном мозге мнемограммы гениального артиста, гениального ученого и гениального изобретателя, мы получим идеального человека, не так ли?
— В общем-то, да. Но вначале необходимо установить, возможно ли такое соединение в принципе.
— А вы не считаете, что коль скоро эта машина будет совершеннее человека, то человек станет не нужен?
— Нет, нет! — энергично запротестовал Майрон. — Она заменит человека только там, где он будет бессилен.
— Меня интересует еще одно. Вот я вижу вас, улицу за окном, слышу ваши слова. Я воспринимаю вкусовые, обонятельные, осязательные раздражения. А каким образом ваша машина будет воспринимать все это? Или вы снабдили ее электронным носом и электронным языком?
— Нет. Сам по себе Пролонгатор не имеет никакого контакта с внешним миром, но к входам машины, которые играют роль ее органов чувств, мы подключили фантоматы. Один доставляет зрительную информацию, другой — слуховую и так далее. Таким образом, Пролонгатор может нюхать цветы, слушать музыку, видеть чудесный закат. Однако он живет в мире искусственном, созданном нами. Этот мир может быть копией нашего, но может быть и миром, у которого нет аналога в реальности.
— Любопытно. А будет ли Пролонгатор знать, что он не человек?
— Это зависит только от нас. Сам он не узнает об этом никогда. К тому же в определенном смысле Пролонгатор — человек.
— И он, подобно любому человеку, может управлять своим поведением?
— Разумеется, — подтвердил Майрон. — Если он, например, пожелает выехать в другой город, то нет ничего проще. Фантоматы, которыми, кстати, управляет специальный компьютер, доставляют его «органам чувств» соответствующую информацию. Он идет на вокзал, покупает билет, садится в поезд, едет, видит все, что делается за окнами… Между Пролонгатором и фантоматами существует обратная связь. Все это не слишком сложно для вас?
— Нет, ясно как день. А кто с помощью фантоматов создает «биографию» Пролонгатора?
— Мы. У нас есть особая группа, разрабатывающая сценарий для него.
— Это, вероятно, требует колоссальной работы?
— Нам помогают машины. К тому же нас не поджимают сроки. Пролонгатор всегда можно выключить и подумать, как распланировать его дальнейшую жизнь.
— А можно ли стереть всю запись и ввести информацию из мозга другого человека?
— Разумеется, — с оттенком неудовольствия произнес Майрон. — На главном щите есть специальная кнопка…
Зазвонил телефон.
— Простите, — Майрон взял трубку. — Слушаю!
— Майрон? Нам только что звонили из клиники…
— Это вы, Трелли?
— Да. Родственники погибшего студента неожиданно потребовали выдачи тела. А в клинике нет больше трупов в состоянии гибернации. Что будем делать?..
Майрон задумался.
— Свяжитесь с другими клиниками. Я соединюсь с директором. Может быть, он что-то сделает. Я сейчас приеду. Что-нибудь придумаем.
Майрон положил трубку.
— Вынужден с вами проститься, — обратился он к журналисту. — Звонил один из моих сотрудников. Непредвиденные осложнения.
Журналист склонился над блокнотом.
— Можно узнать, в чем дело?
— Для первых экспериментов мы ради осторожности хотим использовать не живых людей, а трупы в состоянии гибернации. Сейчас мне сообщили, что нам неоткуда взять труп. Не остается ничего иного, как ждать чьей-то смерти. Лучше какого-нибудь ученого. Нет, нет, прошу не записывать, это шутка.
Журналист кисло улыбнулся.
— Простите, что покидаю вас. Я очень спешу.
Майрон открыл дверь в комнату секретарши. Она лучезарно улыбнулась.
— Вы уже идете? Желаю успеха, желаю успеха!
— Если мне будут звонить, переключайте на пульт управления Пролонгатором.
— Хорошо.
Майрон вышел в коридор. А через секунду произошло вот что: спускаясь по лестнице, он споткнулся об угол дорожки, опять отвернувшейся, неловко подпрыгнул, схватился за перила, но не удержался и… полетел по ступенькам вниз. Головой вперед.
Очнулся он в небольшой палате. Широкое окно, наполовину прикрытое занавесками, столик, умывальник с зеркалом, на вешалке толстый халат в полоску. Словом — больница.
Он был один. Тишина, покой, за окном раскачивающиеся на ветру ветки. Он пытался приподняться, но тут же застонал от боли и опять упал на подушку.
Дверь за Трепли, Гретайном и Рором захлопнулась. У порога каждый из них бросил на Майрона взгляд, в котором можно было прочесть одобрение. Он слышал их удаляющиеся шаги, приглушенные голоса. На столике остались розы и несколько книжек, которые они принесли по его просьбе.
Он опять остался один. Прошел всего день, а у него было такое ощущение, будто со вчерашнего утра прошел целый год. И подумать только, что его наверняка ждет еще несколько таких же пустых и однообразных дней! Врачи, кажется, считают, что у него серьезное, но скрытое повреждение черепа. Хорошенькая история! Отвлекся на секунду — и вот последствия! При одной мысли, что он вынужден лежать здесь в бездействии, прикованный к койке, ему стало жарко. Нет ничего хуже бездействия.
Но стоит ли смотреть на все так мрачно? Разве это чему-нибудь поможет? Впереди несколько дней покоя и одиночества. Сейчас, когда все подготовительные работы уже позади и осталась только серия экспериментов, на проблему Пролонгатора можно взглянуть со стороны. Что и говорить, за многие годы работы над Пролонгатором он не всегда четко видел конечную цель. Отвлекали технические вопросы, мелкие проблемы, возникавшие чуть ли не на каждом шагу. А здесь необходим более широкий взгляд, так сказать, с птичьего полета. Сейчас выпала такая возможность. Судьба не так уж беспощадна, как ему казалось минуту назад. А вдруг несчастный случай на лестнице — подарок, который преподнесла ему судьба? Например, можно представить себе такую ситуацию: здесь, в больнице, он вдруг понимает, что при создании Пролонгатора что-то просмотрели, в расчеты закралась ошибка…
А может, судьба тут ни при чем? Может, это подсознание? Ведь сколько раз он мечтал, хотя и стыдился в этом признаться, о том, чтобы в Пролонгатор перенесли запись его мозга? И вот, пожалуйста! Подсознание оказало ему услугу. Он упал с лестницы, потому что подсознательно желал этого. Хотел умереть, погибнуть, чтобы его труп сослужил службу в первом эксперименте. Такие вещи возможны, любой психолог подтвердит.
Следует ли из этого, что сейчас он — Пролонгатор?
Майрон рассмеялся и даже сказал вслух:
— Отлично, честное слово!
Это повергло его в столь отменное состояние, что он неожиданно почувствовал себя счастливым.
Он себя прекрасно чувствует, ясные мысли текут свободно. Анекдотическая гипотеза, которую он только что выдвинул, доказывает, что у него еще сохранилось воображение, что полностью поглощавшая его многие годы утомительная работа не иссушила его мозга.
А вдруг он действительно Пролонгатор? Это неожиданно чудесное самочувствие довольно подозрительно. Здесь что-то не так.
Минутку, минутку. Не такое уж плохое упражнение для мозга. Предположим, он — Пролонгатор. Может ли он доказать себе, что это не так?
Вдруг беззвучно открылась дверь, и в палату вошла сестра — маленькая, седенькая, с приклеенной к лицу профессиональной улыбкой.
— Ну, как мы себя чувствуем? Не надо ли нам чего? — спросила она, обращаясь к нему во множественном числе.
— Нет, благодарю вас.
— Мне показалось, вы звали меня.
— Нет, не звал, благодарю.
— Вам не скучно? Вы не смотрите телевизор? — движением головы она указала на телевизор у стены. — В больничной фильмотеке есть интересные ленты. Это вас не интересует?
— Нет, не интересует.
— Быть может, вам бы хотелось с кем-то поговорить? Некоторые наши пациенты просят, чтобы с ними посидели.
— Занимайтесь своими делами.
— Но это и есть мое дело.
— Будьте любезны выйти отсюда!
Старушка исчезла. Майрон еще долго не мог успокоиться.
Ну и персонал! Надо поговорить об этом с главврачом. И немедленно. Он нажал кнопку звонка. Дверь открылась неожиданно быстро. Появилась медсестра, на этот раз другая.
— Вы вызывали?
— Я бы хотел поговорить с главврачом.
Медсестра казалась удивленной.
— Главврача сейчас нет. Он будет только после обеда. А вам срочно? Может быть, вызвать кого-нибудь другого? Например, доктора…
— Нет, мне нужен главврач…
— Хорошо. Как только он придет, я сообщу. Это все?
— Да. Благодарю вас.
Немного остыв, он пожалел о своем поступке. Надо будет извиниться перед старушкой. Как только выпишется, купит ей цветы или сделает какой-нибудь подарок. Сестра напрасно навязывала свое общество, но ведь из самых лучших побуждений.
Некогда заниматься самобичеванием. Итак, каковы доводы в пользу того, что он — машина? Несколько минут назад у него было отличное самочувствие, пока не пришла сестра. Здесь есть что-то подозрительное. Хорошее самочувствие — это улика номер один…
А плохое? Плохое самочувствие после этого ненужного инцидента с сестрой… — улика номер два! Они, за пультом, заметили, что он над чем-то задумался. Ведь то, что фантоматы сообщают «органам чувств» Пролонгатора, отображается на экране специального монитора. Они даже услышали, что он сказал. Минутку, а что он такое говорил? «Хорошенький конец, ничего не скажешь». Да, эти слова могли вызвать у них подозрение. Нет, пожалуй, он сказал что-то другое… Впрочем, не в этом дело.
Они просто-напросто боятся, что он обо всем догадается, и поэтому фантоматы «подкинули» ему медсестру, чтобы помешать раздумьям.
Дверь приоткрылась, и вошла вторая медсестра.
— Главврач пришел. Пригласить?
— Нет, благодарю, — ответил Майрон, разозлившись, что ему опять помешали.
Она немного постояла, потом как бы нехотя вышла.
Ну вот, пожалуйста! Все-таки он оказался прав. Разумеется, появление медсестры может быть случайностью. Но если он — Пролонгатор, то здесь нет никакой случайности. Для них это необходимость. Дворак, руководитель секции фантоматов, — умнейшая голова! Он ухитрился инсценировать ситуацию настолько правдоподобную, настолько не вызывающую подозрений, что сам черт (если б его личность перенести на Пролонгатор) ни о чем бы не догадался. О, Майрон прекрасно представляет себе, как Дворак сидит за пультом и, зло поблескивая глазами, кричит: «Уж я подсуну старику такую историю, что ему из нее не выпутаться во веки веков!» Дворак ко всему прочему еще один из ведущих авторов телевидения… Итак, медсестра — улика номер два.
Что еще доказывает, что он, Майрон, машина? Когда-то он сказал так, мимоходом, — что завидует тому мертвецу, которого используют для опытов с Пролонгатором. Ведь это первый случай в истории, когда человек добьется славы не деяниями, совершенными при жизни. Кому он это сказал? Трепли. После несчастного случая на лестнице (если он окончился смертью) Трелли, наверное, рассматривал эти его слова как пожелание, последнюю волю!
Значит, смерть уже наступила?
Он почувствовал, как по спине побежали мурашки.
Если он уже умер, то его друзья избрали наилучший выход. Интересно, похороны уже были? А может, его труп и сейчас лежит в гробу, в колонном зале Академии? У гроба почетный караул, приглушенный свет и толпы людей, пришедших проститься?
Может, просто громко спросить тех, за пультом: «Эй вы, меня уже похоронили?» Недурственно, а?
Он потянулся, насколько это позволяло сломанное ребро. И тем не менее жизнь прекрасна. Лежишь в постели, предаешься размышлениям, ничто тебе не мешает, ничто не сдерживает. Желанный покой. А к тому же чудесная погода.
Он улыбнулся себе, солнцу за окном, деревьям в больничном парке. Даже медсестра показалась ему сейчас милой, симпатичной старушкой.
Да, но возвратимся к похоронам… Если похороны еще не состоялись, он бы предложил произнести надгробное слово над собственной могилой! Например, о превосходстве человеческого духа над слабым, хрупким, бренным телом. Хе-хе-хе!
Множество улик говорит за то, что он — Пролонгатор. А какие у него доказательства, что это не так? Какие доказательства, что он сейчас — обыкновенный живой человек?
Никаких. Как ни грустно, но никаких. Все внешние ощущения, вся информация о функционировании собственного организма, наконец, мысли — все это нормальные функции Пролонгатора.
Однако неужели нет способа удостовериться, кто же он? Есть такой способ, есть. Если он громко скажет: «Я знаю, что я Пролонгатор» — и… ничего не случится, это будет означать, что он человек. Если же он Пролонгатор, они услышат его голос, убедятся, что эксперимент не удался, и сотрут запись его мозга. Пролонгатор опять будет пустым, чистым, как новая магнитофонная лента.
Но, может, они не будут так жестоки? Может быть, из уважения к нему, своему бывшему руководителю, не сотрут запись? Может, дадут ему жить? Ведь как-никак, а это тоже жизнь.
Он вынул из вазочки одну розу. Если Пролонгатор способен так восхищаться красотой, как это делает сейчас он, то воистину еще никогда не было более совершенных машин. Этим можно гордиться.
Он положил цветок на место.
А теперь он проведет небольшой эксперимент. Это будет завершением приятных рассуждений, которым он посвятил сегодняшний день. Он скажет: «Я знаю, что я Пролонгатор».
— Я знаю…
Невероятно! Он просто боится. Боится, что сотрут его запись?.. Верит в то, что он — машина? Абсурд!
— Я знаю…
Нет, он должен произнести эти слова. Он не может до конца своих дней оставаться в этом ужасном неведении.
— Я знаю…
Это бесконечное повторение одного и того же слова может показаться им подозрительным. Необходимо как-то окончить предложение, придать этим словам какой-то смысл.
И тогда неожиданно для себя Майрон громко сказал:
— Я знаю… только то, что ничего не знаю.
Януш А. Зайдель
Консенсор
Михаль — врач-терапевт — снял очки и расправил плечи. Повернул вращающееся кресло к окну, откинул спинку и с удовольствием стал разглядывать весеннюю зелень на широком газоне, раскинувшемся под окнами поликлиники. Напротив, на крыше Института гомоидальных автоматов, рывками сменяли друг друга цифры установленных там электронных часов. Было четырнадцать пятьдесят девять.
«Пожалуй, на сегодня хватит, — подумал Михаль и спрятал рецептурник в ящик стола. — Тридцать два пациента за день — это слишком много, даже если пользоваться Автодиагностором!»
Часы напротив шли безобразно медленно. Робкий стук в дверь кабинета прервал размышления Михаля, он сокрушенно вздохнул, громко сказал: «Войдите!» и, не глядя, бросил, как всегда:
— Снимайте с себя все и ложитесь на Диагностор. На что жалуетесь?
— И-эх, дохтур, чтой-то у меня свербить и свербить! Эва, тута вот, под лебрами. Этак, понимаешь, жжеть и печеть! — ответил хриплый бас.
Михаль поднял глаза и увидел ухмыляющуюся физиономию инженера Райсса.
— А, это ты, — обрадовался он. — Настроеньице у тебя, как всегда, на высоте. Даже шесть часов работы не вымочалили! Хорошо вам с вашими автоматами! Наверно, все за вас делают. А мне вот в эту пору — ну совсем не до шуток.
— Не завидуйте другому, даже если он… — назидательным тоном процитировал инженер начало какого-то древнего стихотворения. — Тебе-то что, ты имеешь дело с живыми людьми. С ними всегда как-то можно договориться, даже если они больны. А вот с испорченным автоматом не поговоришь…
— Это только кажется… Придет иной бедолага, действительно больной, а толком объяснить, что у него болит, где и как, не может. Автоматический диагностор тоже не всегда может решить…
— Да, да, — прервал Райсс. — Мы говорили об этом несколько месяцев назад, помнишь? Я обещал подумать. Ну, вот, я кое-что и придумал…
Инженер открыл портфель, достал несколько коробочек, соединенных сетью проводов, какие-то держатели, электроды, зажимы.
— Если у тебя есть немного времени, я сейчас все установлю. Это приставка к Диагностору. Мое собственное изобретение. Совершенно гениальное! Но мне важно знать твое мнение…
— Может, ты наконец скажешь, в чем дело? — нетерпеливо вставил врач.
— Это Консенсор, — сказал инженер и с отверткой в зубах полез на четвереньках под диагностическое кресло, таща за собой гирлянду коробочек, прикрепленных к проводам.
— Вынь изо рта отвертку и говори четче. Консер… что?
— Кон-сен-сор, или сочувствователь, — сказал Раисс, выползая из-под кресла и забираясь для разнообразия под стол врача. — Подержи электроды. Или сразу приложи к локтям и вискам и сядь.
— А зачем? Хочешь меня обследовать? Неужто я так скверно выгляжу? — заволновался Михаль. — He в этом дело. С помощью моего прибора ты будешь исследовать пациентов. Это, как я уже сказал, приставка к Диагностору. Она улавливает биотоки тела пациента и после усиления и трансформации передает сигналы твоей нервной системе. Включив Консенсор, ты будешь ощущать точно те же боли, что и твой пациент, лежащий на диагностическом кресле.
Михаль недоверчиво взглянул на вылезающего из-под стола Райсса.
— Очередная шуточка? Прикажешь верить, что этот прибор в самом деле так действует? И, говоришь, все так просто? Но ведь это же будет переворот в диагностике, революция в медицине!
— А ты что думаешь, конечно, переворот! Я, брат, шучу, шучу, а уж коль возьмусь за что-нибудь по-серьезному, так… Сейчас сам увидишь.
— Это было бы изумительно! Вместо того чтобы вдаваться в долгие и бесплодные разговоры на тему «что у вас болит», я моментально почувствую, что это — либо печень, либо аппендикс, либо…
— А как гуманно! — подхватил с улыбкой инженер. — Полное сопереживание у врача и пациента. Когда это изобретение распространится, отомрет поговорка «чужую беду рукой разведу». Во всяком случае, в отношении врачей. Они будут чувствовать чужую беду и боль одновременно со своими пациентами до тех пор, пока их не вылечат.
— У меня уже сейчас мурашки по коже бегают при одной мысли о старушке, которая регулярно приходит ко мне со своей подагрой! Итак… попробуем!
— Милости просим! Я оставлю тебе прибор на несколько дней, потом отрегулирую его как следует. Пока что это кустарщина, как видишь, опытный образец. Но если хочешь, мы можем уже сейчас провести опыт. Ты надел электроды? Там есть обозначения. Прекрасно. Я ложусь на диагностическое кресло. Теперь включи вон тот контакт и поверни переключатель.
Михаль минуту сидел в напряжении, потом не выдержал.
— Э-э, да ты здоров, старик! — разочарованно сказал он. — Или же твоему сочувствователю грош цена! Во всяком случае, я ничего не чувствую… О-о-о!!!
Михаль вдруг сорвался с кресла, схватившись за то место, где спина теряет свое благородное название.
— Что это было?
— Ничего особенного. Наука требует жертв! Я всадил себе булавку в ягодицу, — с невинным видом пояснил Райсс.
Михаль смотрел на парнишку и ухмылялся.
— Итак, ты утверждаешь, что у тебя болит здесь?
— О-о-о, еще как болит, доктор!
— Надо думать, и здесь у тебя тоже побаливает?
— Еще больше, доктор!
— Знаешь что, — врач дал пареньку легкий подзатыльник и уселся за стол. — Марш отсюда и отправляйся в школу. По какому предмету у вас сегодня контрольная?
— Но у меня…
— Перестань. Так по какому?
— По интегральным уравнениям… — буркнул паренек, опуская голову.
— Ну, желаю удачи!
Мальчик вышел, а врач, глядя ему вслед, кисло улыбнулся.
«По правде говоря, это было самое приятное обследование за весь день. По крайней мере у меня ничего не болело», — подумал он.
Сегодня с утра у него переболело, пожалуй, все, что только могло болеть.
— Следующий, — сказал он в микрофон.
В кабинет тихо вошел пожилой мужчина, и несколько минут Михаль вместе с ним мучился ревматическими болями. Следующего пациента принесли прямо из кареты скорой помощи. Он стонал и скрежетал зубами от боли. Как только его уложили на диагностор, Михаль включил Консенсор и тут же схватился правой рукой за живот, а левой выключил прибор.
— Немедленно на операцию. Острый аппендицит, — бросил он санитарам.
Когда больного вынесли, Михаль все еще держался за живот. Потом заметил это и рассмеялся. Собственного аппендикса он лишился уже несколько лет назад…
«Изумительный прибор, — мысленно похвалил он изобретение друга. — Только очень уж все это мучительно! Какое счастье, что я не зубной врач!»
Консенсор здорово ускорял процесс диагностирования, так что в тот день Михаль кончил прием несколько раньше обычного. В половине третьего он уже сидел за столом и пытался сформулировать хвалебный отзыв о приборе, но писалось плохо. Без четверти три пришла еще пациентка с мигренью, пришлось опять надевать электроды. Неприятные ощущения пациентки вконец отбили желание писать, так что после ее ухода он просто сидел, уставившись на институтские часы. Весеннее солнце стояло высоко, и Михаль мыслями был уже в парке, когда услышал скрип двери и тяжелые шаги. Он прикрыл глаза и, не повернув головы, сказал:
— Прошу лечь на Диагностор.
— Простите, не понял. На что лечь? — ответил низкий ровный голос.
— На кресло с откинутой спинкой.
— Ясно. Понял. Уже лег.
«А что если я попытаюсь поставить диагноз на основании только одних ощущений, не глядя на пациента и ни о чем не спрашивая?» — подумал врач и включил Консенсор.
В тот же момент он почувствовал, как по телу побежали странные мурашки, нервы пронизали беспорядочные, охватившие все его существо электрические токи… и вдруг… он вздрогнул от сильного пробоя конденсатора высокого напряжения в районе шестой секции фильтров батареи питания, потом у него так схватило трансдуктор контура саморегулирования, что он даже подскочил в кресле.
Михаль тут же выключил аппарат и лишь теперь посмотрел на пациента: в диагностическом кресле лежал человекоподобный робот-гуманоид.
Михаль хватанул пятерней по столу.
— Убирайся вон, кретин электронный! Приемный пункт для автоматов на противоположной стороне улицы. Прочь отсюда, говорю!
— Простите, — укоризненно сказал робот. — Ухожу! — и он вышел в коридор.
Врач упал в кресло, потирая все еще болевший трансдуктор.
— Подумать только! — пробормотал он. — До чего дошло! Это ж надо, чтобы какой-то испорченный автомат явился к врачу, будто тот слесарь-электрик!
Неожиданно он подбежал к окну и выглянул на улицу.
На тротуаре стояли Раисс и автомат. Робот что-то рассказывал инженеру, а тот смеялся до слез.
— Эй ты, изобретатель! — крикнул Михаль.
Инженер поднял голову и помахал врачу рукой.
— Как дела? Ты не оправдал моих ожиданий! А я — то думал, ты ему прикажешь снять с себя все! Хотел бы я видеть, как он начнет снимать собственную голову!
Януш А. Зайдель
Уранофагия
Катапулос, мой добрый знакомый, бродяга по призванию, о необыкновенных приключениях которого болтает, почитай, вся Галактика, родился на одном из островков Эгейского моря.
Однажды я улучил-таки момент и в перерыве между его бесчисленными экспедициями пригласил его пообедать со мной. Катапулос не остался в долгу и отплатил мне тем, что рассказал некую галактическую историю.
— Занятые своими повседневными проблемами и проблемками, мы обычно не думаем о том, что независимо от условий жизни и типа эволюционного развития разумные существа во всем космосе — даже очень отличающиеся от нас — сталкиваются с трудностями, аналогичными нашим, как в личной, так и в общественной жизни, — начал Катапулос, принимаясь за вторую порцию жаркого.
— То, о чем я хочу рассказать, приключилось со мной на одной из планет в созвездии Молочной Коровы. Я попал туда случайно, направляясь к темной туманности в созвездии Селедочного Уха. Уже издалека планета показалась мне подозрительной; ионизирующее излучение вблизи нее было значительно сильнее, чем возле других планет. Спектральный анализ сразу же объяснил, в чем тут дело. Планета была прямо-таки нашпигована богатейшими месторождениями урана.
Сказать по правде, уран как таковой не очень-то интересовал меня, однако из прирожденного любопытства я решил опуститься на эту планету. Вначале она показалась мне необитаемой: дикий, каменистый ландшафт, ни намека на деятельность живых существ. Но, когда я натянул скафандр и взглянул в визир, то увидел существо, которое, размахивая поразительно большим количеством конечностей, быстро приближалось к моему кораблю.
Существо было огромного роста и выглядело устрашающе сильным, однако в его поведении не чувствовалось враждебности. Я продолжал наблюдать за ним и немного погодя даже почувствовал, что оно обрадовано. Существо остановилось в нескольких метрах от корабля и принялось нюхать воздух, а потом, когда я приоткрыл крышку люка, радостно кинулось ко мне. Оно нежно обняло меня, прижав к широкой груди, и совершенно недвусмысленно дало понять, что ликует по случаю моего прибытия.
Не желая слишком долго находиться вне корабля, я включил транслятор и пригласил аборигена в ракету. Он с трудом протиснулся через грузовой люк. По пути я показал ему двигательные установки, а потом, по земному обычаю, пытался хоть чем-нибудь попотчевать его, но он решительно отказался от угощения. Лишь когда я провел его в ядерную силовую установку, он проявил к ней заметный интерес. Осторожно подошел к реактору и, прежде чем я успел вмешаться, вытянул один из урановых стержней и начал с аппетитом его жевать. На его физиономии появилось такое выражение, будто он попробовал сладкую соломку или что-нибудь в этом роде.
— Великолепно! — сказал он, продолжая жевать; крошки урана сыпались по его подбородку. — Сам производишь?
Он с удовольствием рассматривал огрызок уранового стержня, потом покончил с ним и снова потянулся к реактору, но тут я успел ему объяснить, для чего мне нужен уран. Он был явно удивлен и дважды обернулся, лакомо облизываясь.
На мой вопрос он ответил, что жители здешней планеты питаются тяжелыми элементами, в основном, ураном, которого тут куры не клюют. Радиоактивные элементы — единственная пища, из которой они могут черпать энергию для своих организмов. Использованный уран частично служит для контролируемого высвобождения ядерной энергии, частично же откладывается в тканях тела.
Абориген оказался существом образованным, так что я узнал от него множество интересных подробностей из жизни обитателей планеты.
— Увы, это результат нашей эволюции, — печально сказал он. — Поскольку в ее распоряжении не было ничего, кроме урана, лишь те существа, которые сумели им воспользоваться, получили шансы на развитие. Из-за такой тяжелой пищи наши тела излишне массивны, но все же мы существуем. Правда, самое грустное то, что в зрелом возрасте мы обречены на одиночество.
— Почему? — удивился я.
— То есть как «почему»? Ведь достаточно нам соединиться, как содержащийся в наших телах уран превысит критическую массу! Последствия вам хорошо известны… Поэтому, если юные обитатели нашей планеты и могут играть группами даже по нескольку особей, то взрослые, по мере того, как количество урана в них увеличивается, вынуждены становиться отшельниками!
Мой собеседник пригорюнился и замолчал. Лишь немного погодя он заговорил снова:
— Я уже очень стар… Давно не общался на таком близком расстоянии с разумным живым существом! Так что ты уж прости, пришелец, и пойми меня: чувствуя, что в тебе нет распадающихся элементов, я не мог отказать себе в удовольствии обнять тебя! Наше трагическое одиночество обычно длится долго. Семьи, создаваемые в весьма юном возрасте, дают потомство и чрезвычайно скоро распадаются, так как сумма масс урана в семье быстро достигает подкритической величины. Только немногие очень любящие друг друга супруги остаются вместе до взрыва… Дети быстро покидают родителей, чтобы не вызвать преждевременной реакции… Лакомки и гурманы уже в юном возрасте кончают жизнь трагически…
— У нас обжоры тоже живут меньше, — сказал я, чтобы хоть немного утешить его.
— Ну что за жизнь! — вздохнул он. — К старости мы становимся невероятно критическими, и нам все время приходится следить за тем, чтобы не взорваться от какой-либо мелочи. Соответствующая диета и так далее… Впрочем, и это не очень-то помогает, ведь надо же питаться хоть чем-то, так что рано или поздно… Вчера я сделал количественный анализ собственной персоны. Уже больше 90 % урана! Еще немного, и я взорвусь!
— Неужто же никак нельзя удалить из организма излишек урана?
— Увы, нельзя. Из него сделаны немаловажные части нашего тела.
— А не можете ли вы отказаться от некоторых из них?
— Но от чего же? Жаль буквально всего. Не известно, что может в жизни пригодиться. Кроме того, надо прилично выглядеть даже в старости, — и он пошевелил конечностями. — Меня всегда считали элегантным… А вчера, правда, издалека, я приметил одну девицу — ничего себе девица, молоденькая, думаю, не больше 20 %… Если б во мне было меньше восьмидесяти, как знать, может, я рискнул бы и подошел… Ну, я тебе уже наверняка порядком надоел своими россказнями. Пойду. Благодарю за гостеприимство.
Мы сердечно распрощались, и он направился к выходу. Я заметил, что, проходя через силовую, он стащил еще два урановых стержня, но прикинулся, будто не вижу этого — бог с ним, коль это пришлось ему по вкусу… У меня было несколько запасных…
Он ушел, на прощанье помахав мне конечностями, а когда удалился настолько, что его уже нельзя было различить невооруженным глазом, вытащил мои стержни и принялся их уплетать. Я наблюдал за ним в бинокль до тех пор, пока меня не ослепила яркая вспышка. Когда я опять обрел способность видеть, над горизонтом плыло лишь небольшое облачко.
С тех пор я убеждаю каждого, что обжорство — большой порок, — закончил мой друг Катапулос, накладывая себе на тарелку очередную, четвертую порцию жаркого.
Януш А. Зайдель
Закон есть закон
Уже несколько минут Кон пытался сообразить, где же он находится и что за тип медленно прохаживается по небольшой мрачной комнатке, в которой он неизвестно как оказался. Пока что было ясно одно: все происходит наяву, но легче от этого не стало.
Кон закрыл глаза и попытался восстановить ход событий.
Была среда, семнадцатое июля. Это он помнил. Он стартовал из района Юпитера, солнце виднелось на заднем экране. Испытательный полет проходил без неожиданностей, все механизмы и приборы работали нормально до тех пор, пока…
Да, теперь он вспомнил все. Скорость составляла половину скорости света, двигатели давали шестьдесят процентов максимальной мощности, ускорение, которого он не ощущал в своей безынерционной камере, достигало прямо-таки фантастических величин. Он передвинул вперед рычаг тяги, чтобы проверить, дадут ли двигатели полную мощность. Ускорение возросло.
«А что если сбросить тягу?» — подумал Кон, сдвинул рычаг в нулевое положение и взглянул на акселерометр. Сначала он подумал, что заело стрелку прибора, но первые же результаты контрольной проверки показали, что дело обстоит хуже: фотонный двигатель потерял управляемость. Он работал почти на полной тяге, и запасов топлива было вполне достаточно, чтобы выбросить ракету за пределы Солнечной системы. Надежды никакой. Фотонный двигатель пошел вразнос, и его нельзя было остановить. Он прекратит работу, только когда полностью израсходуются запасы топлива. Однако прежде чем это случится, ракета успеет набрать околосветовую скорость.
Кон знал, что не в его силах что-либо изменить, поэтому волноваться и нервничать бессмысленно.
Скорее по многолетней привычке, а не из надежды на спасение он включил установку для анабиоза и лег как можно удобнее. Случись все это в Солнечной системе, его бы рано или поздно нашли, но сейчас…
…И вот теперь эта слабо освещенная комната и человеческая фигура… Значит, все же каким-то чудом, по необъяснимой случайности он вернулся? Фантастика!
Кон открыл глаза, пошевельнулся и глубоко вздохнул. Фигура подплыла и остановилась рядом с ним, вырисовываясь на фоне стены, которая стала желтоватой. В комнате посветлело, и Кон опять решил, что он спит.
Перед ним стояло нечто, весьма отдаленно напоминавшее человека: белая глыба, похожая скорее на снежную бабу или человека, который только что вынырнул из кадки с густой сметаной.
— Добрый день, — сказало Нечто. Произношение у него было безукоризненным. — Ты уже… э… очухался?
Кон глядел на снежную бабу и всеми силами старался проснуться.
— Я спрашиваю, ты здоров? — уточнила снежная баба.
— Думаю… д-д-да! — пробормотал Кон, с трудом сдерживаясь, чтобы не щелкать зубами. — Кто ты?
— Я не «кто», а «что». Я обслуживаю девяносто четвертую станцию Контроля.
— Где я? — крикнул Кон. Он быстро сел и свесил ноги, а снежная баба попятилась, еще больше расплылась и почти совсем утратила сходство с человеком.
— Ты на девяносто четвертой станции Контроля Галактического Космоплавания.
Кон осовело смотрел, как руки и ноги белой снежной бабы сливаются с бесформенным, теперь ставшим цилиндрическим туловищем. Он вздрогнул.
— О, прости! — бывшая снежная баба молниеносно превратилась в идеальную человеческую фигуру, напоминавшую классическую скульптуру из белого мрамора с белыми глазами и губами. — Прости, но мне чрезвычайно трудно сохранять все время твою форму. Никогда в… э… жизни я не видела ничего менее функционального…
— Стало быть, это не твоя форма?
— Само собой. Твоя.
— А как выглядишь ты?
— Никак. То есть по-разному, в зависимости от потребности и обстоятельств. Но твоя форма исключительно сложна.
— Тебя это затрудняет?
— Меня ничто не затрудняет. Просто, чтобы сохранять себя в этой форме и одновременно разговаривать с тобой, нужно слишком много внимания, и поэтому я начинаю расплываться.
— Тогда прими самую удобную для тебя форму!
— Так ты согласен?
— Да.
— Благодарю. Так и запишем! — классическая скульптура с явным облегчением расплылась и осела на пол в виде большой приплюснутой капли.
Кон присмотрелся внимательнее. Капля не была неприятной или скользкой, она напоминала большой белый и гладкий дождевик либо кусок хорошо замешенного теста. Кон все яснее и яснее понимал, что это явь, действительность…
— Так видишь ли, пришелец, — продолжал дождевик, — инструкция, которой я подчиняюсь, требует, чтобы я принимал форму существа, с которым у меня установлен непосредственный или же телетрансляционный зрительный контакт. Разговаривать я обязан также на языке этого существа. Должен сказать, что все это не так просто, особенно когда впервые имеешь дело с новым типом существ, например с тобой.
Кон осмотрелся. Комнатка была небольшая, никакой мебели, кроме мягкого ложа, на котором он сидел. Ни двери, ни окна.
— Скажи, как я тут очутился? — спросил он. — Да, прежде всего, как тебя зовут?
— Никак. Только живые существа имеют право на имя. Для удобства можешь называть меня Мик. Это сокращение: младший инспектор контроля. Но только неофициальное.
— Слушай, Мик, что все это значит? Где я? В Солнечной системе?
— Если я верно расшифровал записи приборов твоего космолета, ты прошел путь, который свет преодолевает примерно за пятьдесят единиц, называемых у вас годами. С кораблем что-то стряслось, и тебя занесло сюда случайно…
У Кона закружилась голова.
— Но сейчас ты в безопасности. Я оживил тебя в полном соответствии с инструкцией, которую обнаружил у тебя в ракете. Ты находишься на станции Контроля, принадлежащей Союзу межгалактического космоплавания — сокращенно СМЕК. СМЕК да и только. Твой корабль не отзывался на вызовы и не передавал опознавательных сигналов, к тому же он не отвечает нашим требованиям. Во исполнение инструкции я перехватил его и поместил на запасном космодроме станции.
— А где находится твоя станция?
— То есть как где? В пустоте, на границе области, входящей в Конвенцию Космоплавания — сокращенно КОКО. Это очень нужная станция — с гордостью сказал Мик. — Мы следим за порядком в пустоте. А ты нарушил несколько параграфов КОКО. Поэтому я и вынужден был задержать тебя.
— Каких еще параграфов? Не знаю никаких ваших параграфов!
— раздраженно сказал Кон. — Я хочу получить свою ракету и вернуться в Солнечную систему!
— Незнание законов — не оправдание, — невозмутимо продолжал Мик. — Скажи, ваша цивилизация не входит в СМЕК?
— Разумеется, нет. Нам не известна ни одна цивилизация, кроме нашей. Но ведь и вы нас тоже не знаете. Ты когда-нибудь видел существо, похожее, на меня?
— Ну, всякие тут бывали, но такого, как ты, я действительно не видел. Однако инструкция требует равного отношения ко всем… То и дело какая-нибудь новая цивилизация вступает в Союз, и здесь появляются новые существа. Инспектор Контроля должен уметь договориться со всяким… К сожалению, я вынужден был тебя арестовать.
— А мою ракету?
— Я ее опечатал. Кораблями такого типа пользоваться запрещено.
— Надо думать, я имею право вернуться туда, откуда прилетел?
— Это вне моей компетенции, — сказал Мик. — Когда сюда прибудет Старший инспектор, подашь ему заявление. Я обязан следовать инструкции и не имею права ничего решать. Я не существо, у меня свои начальники, и они меня по этому… ну, словом, по головке не погладят, если я хоть самую малость уклонюсь от инструкции!
— Так что же ты в конце концов такое?
— Я всего лишь мыслящее устройство, — тихо сказал Мик. — Аморфное мыслящее устройство третьего порядка. Но вскоре меня, вероятно, модернизируют и я стану устройством второго порядка!
— А как выглядят существа, которые тебя… создали?
— По-разному. В Союз входят несколько десятков различных цивилизаций из восемнадцати секторов Галактики.
Кон на минуту задумался.
— Ты сказал, что не можешь меня отсюда выпустить и вернуть мне ракету?
— Не имею права.
— А топливо для моего двигателя дашь?
— Конечно, если получу приказ.
— От Старшего инспектора?
— Нет, от Верховного. Твоя ракета не прошла техосмотра, допускающего ее к полетам, и у тебя нет прав, подтвержденных Союзом. Сам я ничем не могу тебе помочь: я должен придерживаться инструкции. Можешь подать заявление, но тебе не удастся доказать, что я хоть как-то нарушил инструкцию, — Мик говорил все быстрее и громче. — Я создал тебе условия для жизни, у тебя есть кислород и азот в необходимой пропорции, пищу я тебе синтезирую, когда нужно. Говорю на твоем языке, принимаю твою форму и отказался от нее только в ответ на твое ясно выраженное согласие! У меня есть доказательство в виде звуковой записи! Я поступаю в соответствии с предписаниями, и жалуйся на меня хоть самому Верховному инспектору, никто мне ничего не сделает. У меня все в порядке!
— Ты здесь один? — прервал Кон.
— Из мыслящих устройств да, но здесь есть еще два исполнителя, или подустройства. Остальные — обычные автоматы.
— Ты говорил, что сюда прибудет Старший инспектор?
— Да. Он уже в пути.
— Может быть, я с ним смогу договориться…
— Сомневаюсь.
— Почему?
— Сик — всего лишь аморфное мыслящее устройство второго порядка.
— Сик?
— Ну, да. Старший инспектор контроля.
Кон стиснул зубы.
— Тогда позволь мне хотя бы войти в ракету! — сказал он, вспомнив, что там есть вакуумный скафандр, плазменный метатель… а на станции — запасы ракетного топлива, так что, быть может, удалось бы обезопасить это треклятое создание!
— Нельзя. В соответствии с инструкцией я опечатал твой корабль, и там нельзя ничего трогать, пока его не изучит комиссия.
— Ах ты, безмозглая тварь!
— Прошу прощения! Я не безмозглая тварь, а аморфное мыслящее устройство третьего порядка. Ты меня обижаешь. Подожди, меня вызывает радио. Я сейчас вернусь.
Мик скрылся в стене и вскоре вынырнул оттуда в виде небольшого круглого слона с двумя хоботами.
— О, прости, — сказал слон и опять превратился в плоскую буханку. — У меня был телеконтакт с Виком.
— Кем?
— Верховным инспектором контроля.
— Ты сказал ему обо мне?
— Чего ради? Разве я смею? Это же существо. Существо! Инспектор говорил, я только слушал и подтвердил прием распоряжений.
— Кретин!
— Я обязан соблюдать субординацию. Сообщения я передаю только Сику. Когда он сюда прибудет, я изложу ему ситуацию. Он передаст дальше по инстанциям. Надо быть терпеливым. Процедуру не ускоришь. Не надо было нарушать инструкцию.
— Сколько времени протянется эта процедура?
— Ну, не так уж долго. Правда, мы на самом краю КОКО и сообщения идут довольно долго, но надо набраться терпения.
— А все-таки сколько?
— По земному счету Старший будет здесь уже через неполных пятьдесят, сообщение Верховному отнимет около ста, решение — двадцать, ответ с ретрансмиссией… ну, скажем, в целом не больше трехсот лет.
— Сколько? — Кон вскочил. — Балбес! Ведь мы, люди, живем самое большее сто, сто с небольшим лет! Мой анабиатор ты опечатал в ракете, куда не желаешь меня впустить, а теперь толкуешь о том, чтобы я триста лет тебя ждал?
— О, прошу прощения! — буханкообразная капля распласталась по полу. — Не знал, что у вас такая короткая жизнь. Разве я мог предполагать? Вы летаете в космосе с околосветовыми скоростями, а перед этим не решили такую фундаментальную проблему, как продление жизни? Существа, входящие в объединенные цивилизации, живут по меньшей мере несколько десятков тысяч лет!
— Во-первых, наша цивилизация проводит только первые опыты с фотонными ракетами. Моя модель проходила испытания…
— Тем хуже, тем хуже, — прервал Мик. — Полигон для испытательных полетов расположен в четвертом секторе. Стало быть, ты нарушил еще одно указание о галактической безопасности!
Кону от души захотелось растоптать Мика, но он сдержался и продолжал:
— Во-вторых, ты сам видишь, что в создавшейся ситуации необходимо связаться с Верховным инспектором, то бишь Виком, и в спешном порядке доложить о моем деле! А меня ты должен впустить в ракету, чтобы я мог опять заморозиться и дождаться решения!
— Сожалею! — капля превратилась в шар. — Но я не могу этого сделать! Не думаешь же ты, что я позволю себе отнимать у Верховного инспектора драгоценное время из-за существа, которое и живет-то — смешно сказать! — всего каких-нибудь сто лет! А в ракету не могу пустить, потому что она опечатана! Я точно соблюдаю инструкцию. Ко мне претензий быть не может! А инструкция не предусматривает таких из ряда вон выходящих случаев. Сто лет… Смешно! Просто непонятно, чего ради ты так судорожно цепляешься за жизнь?! Сто лет! А впрочем, не надо было нарушать кодекс! Теперь получай. Закон есть закон!
И сказав это, младший инспектор контроля галактического космосплавания, аморфное мыслящее устройство третьего порядка (которого вскоре могли сделать вторым!), бессребреник и педант, от возмущения разделился на два меньших шара, которые покатились в противоположные углы комнаты.