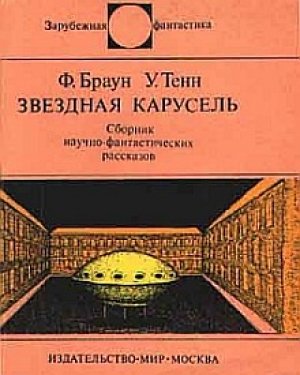
Фредерик Браун
Немного зелени…
Огромное темно-красное солнце пылало на фиолетовом небе. На горизонте за бурой равниной, усеянной бурыми кустами, виднелись красные джунгли.
Макгэрри направился к ним крупным шагом. Поиски в красных джунглях были делом трудным и опасным, но совершенно необходимым. Макгэрри уже обшарил сотню таких зарослей; на этот раз ему предстояло осмотреть еще одни.
— Идем, Дороти, — произнес он. — Ты готова?
Маленькое существо с пятью конечностями на плече у Макгэрри ничего не ответило — впрочем, как и всегда. Дороти не умела говорить, но к ней можно было обращаться. Какая-никакая, а все же компания. Дороти была такая легкая, что вызывала у Макгэрри странное ощущение: как будто на плече у него все время лежит чья-то рука.
Дороти была с ним вот уже… сколько лет? Не меньше четырех. Он здесь уже лет пять, а Дороти с ним, наверное, года четыре. Он причислил Дороти к слабому полу только по тому, с какой мягкостью она покоилась у него на плече, — словно женская рука.
— Дороти, — продолжал он, — мы должны быть готовы ко всему. В зарослях могут оказаться львы или тигры.
Он отстегнул висевшую у пояса кобуру и крепко стиснул солнечный пистолет. В сотый раз он возблагодарил свою счастливую звезду за то, что при аварии ему удалось спасти бесценное оружие, практически вечное. Достаточно было подержать пистолет часок-другой под солнцем — под любым ярким солнцем, чтобы он начал поглощать энергию, которая выделится потом при нажатии курка. Без этого оружия Макгэрри наверняка не смог бы протянуть пять лет на планете Крюгер-3.
Не успел он дойти до красных джунглей, как увидел льва. Разумеется, это животное ничем не напоминало земного льва. У него была красная шкура, не очень заметная на фоне бурых кустов, в которых он прятался, восемь мягких лап, гибких и мощных; чешуйчатая морда заканчивалась птичьим клювом.
Макгэрри назвал это чудовище львом. Но с тем же успехом он мог бы назвать его и иначе, потому что у него еще не было имени. А если оно и было, то его «крестный отец» не вернулся на Землю рассказать о флоре и фауне Крюгера-3. Судя по официальной статистике, до Макгэрри здесь опустился только один корабль, но стартовать отсюда ему так и не пришлось. Именно его и разыскивал Макгэрри, искал все эти пять лет.
Если ему удастся его найти, быть может, там окажется электронная аппаратура, которая разбилась у Макгэрри при посадке. И тогда он бы смог вернуться на Землю.
Он остановился шагах в десяти от красных зарослей и прицелился в то место, где притаился зверь. Нажал курок, последовала ослепительно зеленая вспышка — один только миг, но какой прекрасный миг — и кусты, и восьмилапый лев исчезли бесследно.
Макгэрри удовлетворенно хмыкнул.
— Ты видела, Дороти? Она была зеленая, а только этого цвета нет на твоей кроваво-красной планете. Зеленый цвет — самый чудесный цвет во всей Вселенной. Я знаю зеленую планету, и мы с тобой скоро полетим туда. Конечно, полетим. Это моя родина, Дороти, она прекраснее всего на свете. Она тебе наверняка понравится.
Он отвернулся, окинул взглядом бурую равнину, усеянную бурыми кустами, распростершуюся под фиолетовым небом, в котором пылало темно-красное солнце, всегда темно-красное солнце Крюгера. Оно никогда не уходило за горизонт, так как планета была обращена к нему только одной стороной, как Луна к Земле.
Здесь не было ни дня, ни ночи, если ты не пересекал границу между дневной и ночной стороной планеты; а на ночной стороне было так холодно, что никакой жизни там быть не могло. Здесь не было и времен года. Температура постоянная, всегда одинаковая: нет ни ветров, ни гроз.
Снова и снова, в который уже раз, ему пришла в голову мысль, что жить на Крюгере-3 было бы совсем неплохо, если бы только тут время от времени встречалась зелень, как на Земле, если б можно было увидеть хоть что-то зеленое, кроме вспышки солнечного пистолета. Тут легко дышится, температура колеблется от 5 градусов Цельсия у терминатора до 30 на экваторе, где лучи солнца падают вертикально. Пищи сколько угодно; он давно уже научился отличать съедобные виды животных и растений от несъедобных.
Да, это была превосходная планета. В конце концов Макгэрри примирился с мыслью, что он здесь — единственное разумное существо. Ему в этом очень помогла Дороти: как-никак, есть кому излить душу, хотя Дороти не могла ему ответить.
Вот только — боже мой, как бы ему хотелось снова увидеть зеленый мир! Земля… Единственная планета во Вселенной, где преобладает зеленый цвет, где хлорофилл — основа всего живого.
На других планетах, даже на планетах Солнечной системы, по соседству с Землей, только изредка встречаются на скалах зеленоватые полоски мха, скорее даже зеленовато-бурые. Можно жить на этих планетах годами и ни разу не увидеть ничего зеленого.
При мысли об этом Макгэрри вздохнул и начал думать вслух, обращаясь к Дороти:
— Да, Дороти, Земля — единственная планета, на которой стоит жить! Зеленые поля, зеленые луга, зеленые леса… Знаешь, Дороти, если мне удастся вернуться на Землю, я больше никогда не покину ее. Построю себе хижину в дремучем лесу. Но нужно будет выбрать полянку, где почти нет деревьев и где бы могла расти трава. Зеленая трава! И хижину я тоже покрашу в зеленый цвет.
Он снова вздохнул и посмотрел на красные заросли прямо перед ним.
— Что ты сказала, Дороти? — Дороти ничего не сказала, но Макгэрри часто делал вид, что слышит ее вопросы; эта игра помогала ему сохранить рассудок. — Женюсь ли я по возвращении на Землю? Ты спрашивала меня об этом, да?
Он помедлил с ответом.
— Кто знает? Может быть, да, а может, и нет. Помнишь, я говорил тебе о женщине, которую оставил на Земле? Мы должны были вскоре пожениться. Но пять лет — это очень долгий срок. Наверное, объявили, что я пропал, а может, и погиб. Вряд ли она будет ждать меня. Конечно, если она меня дождется, я на ней женюсь… А если не дождется, что тогда? Ты хочешь знать? Понятия не имею. Но зачем волноваться прежде времени? Конечно, если бы я нашел зеленую женщину, или хотя бы зеленоволосую, я бы влюбился в нее до потери рассудка. Но на моей планете почти все зеленое, кроме женщин.
Он усмехнулся в ответ на собственную шутку и с пистолетом наготове вошел в заросли, в красные заросли, где не было ничего зеленого, лишь изредка озаряли все вокруг зеленые вспышки его пистолета.
Может быть, помимо присутствия Дороти, он не помешался еще и из-за этих выстрелов. Несколько раз в день он видел зеленую вспышку… Чуть-чуть зеленого, просто чтобы напомнить ему, как выглядит этот цвет, просто, чтобы глаз не отвык его различать, если ему еще хоть когда-нибудь доведется увидеть зеленое…
Он оказался на небольшом островке джунглей (правда, земные мерки вряд ли были применимы к Крюгеру-3). Таких островков здесь, вероятно, были миллионы, так как Крюгер-3 больше Юпитера. Чтобы обследовать его поверхность, не хватило бы целой жизни. Макгэрри это знал, но не давал волю таким мыслям. Если бы он позволил себе усомниться в том, что он найдет обломки единственного корабля, опускавшегося на эту планету, или если бы он изверился в том, что найдет там приборы, без которых не может привести в движение собственный космический корабль, ему пришлось бы плохо.
Островок джунглей величиной с квадратную милю порос настолько густыми зарослями, что сквозь них трудно было продираться, и Макгэрри несколько раз останавливался вздремнуть и поесть. Он убил двух львов и одного тигра. Выйдя из чащи, Макгэрри пошел но опушке, делая ножом отметины на самых больших деревьях, чтобы второй раз не искать обломков в одном и том же месте. Стволы были мягкие, лезвие легко, без труда счищало красную кору, обнажая розовую древесину, словно срезало картофельную кожуру.
Макгэрри снова вышел на однообразную бурую равнину.
— На этот раз нет, Дороти, — произнес он. — Может быть, нам больше повезет в других зарослях. Ну хоть бы вон в тех, на горизонте.
Фиолетовое небо, темно-красное солнце, бурая равнина, бурые кусты…
— Зеленые холмы Земли, Дороти! Они тебе наверняка понравятся…
Бурая, бескрайняя равнина…
Неизменное фиолетовое небо…
Но что это доносится оттуда, сверху? Какой-то звук?.. Не может быть, здесь никогда такого не бывало. Он поднял глаза к небу и увидел…
Высоко-высоко в фиолетовом небе он увидел маленькую черную точку. Она двигалась! Космический корабль! Это мог быть только космический корабль. На Крюгере-3 не водятся птицы. Да у птиц и не бывает огненных хвостов…
Он знал, что должен делать: он уже тысячи раз прикидывал, как сообщить о своем присутствии, если когда-нибудь появится корабль. Он выхватил пистолет и выстрелил в небо. Вспышка получилась, конечно, небольшая, но она была зеленая. Если пилот смотрел на планету, если он хоть раз взглянул на нее, прежде чем улететь, — он должен был заметить зеленую вспышку на планете, где нет ничего зеленого.
Он снова нажал на спуск.
И пилот увидел. Трижды выбросив струю пламени (это было общепринятым ответом на сигнал тревоги), он начал заходить на посадку.
Макгэрри стоял весь дрожа. Он так долго ждал — и вот, наконец, свершилось. Он положил руку себе ни плечо и дотронулся до маленького существа с пятью конечностями, которое покоилось там, будто женская рука.
— Дороти, — прошептал он, — это…
Он больше не мог выговорить ни слова. Корабль садился. Макгэрри бросил взгляд на свою одежду, и внезапно при мысли о том, каким он предстанет перед своим спасителем, его охватило чувство стыда. Вся его одежда состояла из пояса, на котором висели кобура, нож, кое-какие инструменты. Он был грязен. Наверняка от него пахло. Под толстым слоем грязи тело казалось истощенным и даже старым. Конечно, он поголодал, но, попади он на Землю, хорошая земная пища изменила бы его до неузнаваемости…
Земля! Зеленые холмы Земли!
Макгэрри побежал, спотыкаясь от нетерпения, туда, куда опускался корабль; тот был уже очень низко, и Макгэрри смог разглядеть, что он одноместный. В конце концов, это неважно: будет нужда, так в нем поместятся и двое. По крайней мере Макгэрри попадет на ближайшую обитаемую планету, а там другой корабль отвезет его на Землю. На Землю! К зеленым холмам, зеленым полям, зеленым долинам…
Он то молился, то чертыхался на бегу, и по щекам у него струились слезы.
Потом он ждал, пока дверца не открылась и оттуда не появился стройный молодой человек в форме межзвездного инспектора.
— Ты возьмешь меня с собой?
— Конечно, — ответил молодой человек. — Ты здесь давно?
— Пять лет.
Макгэрри знал, что плачет, но ничего не мог поделать.
— Вот это да! — воскликнул пилот. — Я лейтенант Арчер из службы инспекции, — представился он. — Конечно, я тебя возьму. Пусть только немного остынет двигатель, а потом я его снова запущу. Я отвезу тебя в Картадж, на Альдебаран-3, а оттуда ты полетишь куда захочешь. Не нужно ли тебе чего-нибудь? Поесть? Попить?
Макгэрри молча покачал головой. У него подгибались колени. Есть, пить… да какое это имеет значение?!
Зеленые холмы Земли! Он их еще увидит! Только это важно, и ничего больше… Он ждал их так долго, и вот наконец свершилось! Внезапно фиолетовое небо заплясало у него перед глазами и почернело. Макгэрри рухнул вниз.
Очнувшись, он увидел, что лежит, а лейтенант подносит к его губам фляжку. Он сделал большой глоток, жидкость обожгла горло. Он сел и почувствовал себя лучше. Огляделся, удостоверился, что корабль никуда не улетел, и у него стало удивительно хорошо на душе.
— Подождем, пока ты соберешься с силами, — сказал пилот. — Тронемся в путь через полчаса, а через шесть часов будем в Картадже. Хочешь со мной поговорить, пока ты тут приходишь в себя? Расскажи мне обо всем, что с тобой случилось.
Они сели в тени бурых кустов, и Макгэрри рассказал Арчеру обо всем. О вынужденной посадке, о разбившемся корабле, который он не мог подготовить к запуску. О том, как он пять лет искал другой корабль — он же читал, что на этой планете разбился корабль, на котором могли уцелеть приборы, необходимые Макгэрри для взлета. О долгих поисках. И о Дороти, приютившейся на его плече: теперь у него было с кем разговаривать.
Но когда рассказ Макгэрри уже подходил к концу, лейтенант Арчер изменился в лице. Он стал еще более серьезным и участливым.
— Послушай, старина, — осторожно спросил он, — в каком году ты сюда прилетел?
Макгэрри смекнул, куда тот клонит. Разве мог он точно измерить время на этой планете без времен года, где вечный день, вечное лето?..
— В сорок втором, — ответил он. — Насколько же я ошибся, лейтенант? Сколько мне лет на самом деле? Я-то считал — тридцать.
— Сейчас семьдесят второй год. Значит, ты провел здесь тридцать лет, и теперь тебе пятьдесят пять. Но ты не огорчайся, — поспешил он добавить. — Медицина у нас сделала большие успехи. Ты еще долго будешь жить.
— Пятьдесят пять, — тихо повторил Макгэрри. — Тридцать лет…
Лейтенант Арчер сочувственно взглянул на него:
— Послушай, хочешь, я скажу тебе все сразу? Остальные плохие вести? Правда, я не психолог, но, мне кажется, лучше тебе узнать всю правду сразу, не выжидая. Ведь тебе будет легче, раз уж ты отсюда уезжаешь. Ну так как, будешь меня слушать, Макгэрри?
Ничто не могло быть хуже той вести, которую ему сейчас сообщили. Конечно, он будет слушать, ведь скоро он вернется на Землю, на зеленую Землю. Он снова окинул взглядом фиолетовое небо, темно-красное солнце, бурую равнину и спокойно ответил:
— Давай, лейтенант. Выкладывай.
— Ты молодцом продержался здесь тридцать лет, Макгэрри. Поблагодари судьбу за то, что верил, будто корабль Марлея опустился на Крюгере-3. На самом деле он разбился о поверхность Крюгера-4. Тебе бы никогда не найти его здесь. Но, как ты правильно заметил, эти поиски помогли тебе сохранить здравый рассудок… почти здравый.
Он помолчал с минуту и затем продолжал еще мягче:
— На плече у тебя никого нет, Макгэрри. Дороти создана твоим воображением. Впрочем, это неважно: призрак помог тебе выстоять.
Медленно, очень медленно Макгэрри протянул руку к левому плечу. Коснулся его. На нем никого не было.
— Пойми старина, уже одно то, что ты не сошел с ума, — поистине чудо. Тридцать лет одиночества! Но если теперь, когда я тебе все рассказал, ты будешь по-прежнему верить в свою фантазию, психиатры в Картадже или на Марсе помогут тебе избавиться от нее в один момент.
— Все кончено, — мрачно произнес Макгэрри. — Дороти больше нет. Я… теперь я даже не знаю, лейтенант, верил ли я когда-нибудь в существование Дороти. Я ее выдумал, чтобы мне было с кем разговаривать. Вот потому-то я и не сошел с ума. Мне казалось… мне казалось, будто у меня на плече — нежная рука. Я об этом говорил?
— Да, говорил. Хочешь узнать остальное?
— Остальное? — воззрился на него Макгэрри. — Мне пятьдесят пять лет. Тридцать из них я потратил на поиски корабля, найти который я и не мог, потому что он упал на другой планете. Все эти годы я был сам не свой. Но велика важность, раз я могу опять полететь на Землю!
Лейтенант Арчер покачал головой:
— Только не на Землю, старина. Если хочешь, на Марс, к прекрасным желтым холмам Марса. Или, если ты хорошо переносишь зной, на фиолетовую Венеру. Но не на Землю. Там сейчас никто не живет.
— На Земле… Никто?..
— Да… Космическая катастрофа. К счастью, мы сумели вовремя ее предугадать. Мы переселились на Марс: сейчас там четыре миллиарда землян.
— Земли больше нет, — без всякого выражения произнес Макгэрри.
— Да, старина. Но Марс — совсем неплохая планета. Привыкнешь… Конечно, тебе будет не хватать зелени…
— Земли больше нет, — опять без всякого выражения повторил Макгэрри.
— Я рад, что ты принял это спокойно, старина, — сказал Арчер. — Все-таки удар. Но, кажется, мы уже можем лететь. Пойду проверю приборы.
Он встал и направился к маленькому кораблю.
Макгэрри достал пистолет. Выстрел — и лейтенант Арчер исчез. Потом Макгэрри поднялся на ноги и пошел к ракете. Прицелился, выстрелил — и часть ракеты исчезла. После шести выстрелов с ракетой все было кончено. Атомы, из которых раньше состоял лейтенант Арчер, и атомы, которые еще недавно были ракетой, кружились в воздухе, остались здесь же, но были уже невидимы.
Засунув пистолет в кобуру, Макгэрри двинулся в путь — к красному пятну зарослей там, на горизонте.
Он дотронулся рукой до плеча: на нем снова сидела Дороти, как и все те четыре или пять лет, что он провел на Крюгере-3.
Он опять почувствовал, будто у него на плече лежит мягкая женская рука.
— Не печалься, Дороти, — произнес он. — Мы наверняка ее найдем. Может быть, она упала вон в тех зарослях. А когда мы ее найдем…
Перед ним уже стеной стояли джунгли, красные джунгли. Оттуда выскочил тигр, кинулся на него. Розовато-лиловый, шестилапый, с огромной, как бочка, головой. Макгэрри прицелился, нажал на спуск. Увидел ослепительно зеленую вспышку. Один только миг, но какой прекрасный миг!.. Тигр исчез бесследно.
Макгэрри удовлетворенно хмыкнул:
— Ты видела, Дороти? Она была зеленая, а этого цвета нет ни на одной планете, кроме той, на которую мы полетим. Зеленый цвет — самый чудесный цвет во всей Вселенной! Я знаю зеленую планету, она прекраснее всего на свете. Это моя родина, Дороти. Она тебе наверняка понравится.
— Конечно, Мак, — ответила Дороти.
Низкий, гортанный голос маленького создания был ему очень знаком. Он не удивился, когда она ответила: она всегда ему отвечала. Он знал голос Дороти не хуже своего собственного. Макгэрри дотронулся рукой до маленького существа, сидевшего на голом плече. Словно его касалась мягкая женская рука.
Он оглянулся, окинул взглядом бурую равнину, усеянную бурыми кустами, фиолетовое небо, на котором пылало темно-красное солнце. И засмеялся. Это был не смех сумасшедшего, а мягкий, снисходительный смешок. Так ли уж важно все это? Ведь скоро он найдет корабль, снимет с него приборы, необходимые ему для ремонта, и тогда вернется на Землю.
К зеленым холмам, зеленым полям, зеленым долинам…
Он снова погладил руку, лежавшую у него на плече, и огляделся. С пистолетом в руке он вошел в красные джунгли.
Фредерик Браун
Звездная карусель
Роджер Джером Пфлюггер, чью нелепую фамилию я могу оправдать только тем, что она подлинная, во время описываемых событий был сотрудником Коулской обсерватории.
Несмотря на молодость, он не блистал талантом, хотя свои обязанности выполнял хорошо и дома каждый вечер в течение часа с большим усердием занимался дифференциальным и интегральным исчислениями и мечтал в неопределенном будущем стать директором какой-нибудь известной обсерватории.
Тем не менее свой рассказ о событиях конца марта 1987 года мы должны начать с Роджера Пфлюггера — по той веской причине, что именно он первым во всем мире заметил смещение звезд.
А посему позвольте представить вам Роджера Пфлюггера.
Рост высокий, цвет лица мучнистый, как следствие сидячего образа жизни, черепаховые очки с толстыми линзами, темные волосы, подстриженные ежиком по моде второй половины восьмидесятых годов нашего века, одет не хорошо и не плохо, курит больше, чем следовало бы…
В тот день, с которого начинается наше повествование, без четверти пять Роджер был занят двумя делами сразу. Во-первых, он рассматривал в блинк-микроскоп фотопластинки с изображением области неба в созвездии Близнецов, полученные перед самым рассветом, а во-вторых, взвешивал, можно ли позвонить Элси и пригласить ее куда-нибудь, когда в кармане всего три доллара, на которые еще надо дожить до конца недели.
Несомненно, каждый нормальный молодой человек не раз и не два стоял перед такой же дилеммой, но вот что такое блинк-микроскоп и как он действует, знает далеко не каждый читатель. А потому обратим свой взор не на Элси, а на созвездие Близнецов.
В блинк-микроскоп вставляются две фотографии одного и того же участка неба, но снятые в разное время фотографии располагаются строго симметрично, и, пользуясь особым затвором, наблюдатель видит в окуляре то одну, то другую. Если они абсолютно одинаковы, то он даже не замечает переключения, но если положение какой-то из точек на второй фотографии отличается от ее положения на первой, ему покажется, что она прыгает взад и вперед.
Роджер нажал на затвор, и одна из точек подпрыгнула. Как и сам Роджер. Он повторил операцию, на мгновение совершенно забыв (как и мы с вами) про Элси, и точка снова подпрыгнула. Примерно на одну десятую дуговой секунды.
Роджер разогнул спину и почесал затылок. Он закурил сигарету, тут же бросил ее в пепельницу и снова нагнулся над микроскопом.
Точка снова подпрыгнула.
Гарри Вессон, ночной дежурный, вошел в комнату и начал снимать пальто.
— Гарри! — окликнул его Роджер. — Этот чертов блинк забарахлил.
— А? — сказал Гарри.
— Да. Поллукс сдвинулся на десятую секунды.
— А? — сказал Гарри. — Ну что ж, это вполне соответствует параллаксу. Тридцать два световых года — параллакс Поллукса ноль одна… ну, ноль одна. Немного больше одной десятой секунды. Так и должно быть, если твоя первая фотография была снята полгода назад, когда Земля находилась в противоположной точке своей орбиты.
— Да нет же, Гарри! Ее сняли прошлой ночью. Интервал между ними — сутки.
— Ты свихнулся.
— Посмотри сам.
До пяти часов оставалось еще несколько минут, но Гарри великодушно не посчитался с этим и сел за микроскоп. Он нажал кнопку затвора, и Поллукс услужливо подпрыгнул.
В том, что прыгал именно Поллукс, сомнений быть не могло, так как эта точка яркостью значительно превосходила все остальные на пластинке. Видимая величина Поллукса — 1,2, он входит в число двенадцати самых ярких звезд небосвода, и в созвездии Близнецов другой такой просто нет. И ни одна из более слабых звезд вокруг Поллукса даже не дрогнула!
— Хм! — сказал Гарри Вессон. Он нахмурился и посмотрел еще раз. — Одна из пластинок неправильно датирована, только и всего. Я сейчас проверю.
— Датированы они обе правильно, — упрямо возразил Роджер. — Я сам их регистрировал.
— То-то и оно. Иди-ка ты домой! Уже пять. Если Поллукс за прошлые сутки сдвинулся у тебя на одну десятую, я, уж так и быть, верну его на место.
И Роджер ушел.
Его томило какое-то неприятное предчувствие, словно уходить не следовало. Он не мог понять, что, собственно, его смущает, но что-то было не так. И он решил пройтись до дому пешком, а не ждать автобуса.
Поллукс — неподвижная звезда. Она не могла сдвинуться за сутки на одну десятую дуговой секунды.
«Тридцать два световых года, — прикидывал Роджер. — Одна десятая секунды. Да это же в несколько раз быстрее скорости света! Получается полная чепуха».
Не правда ли?
Роджер почувствовал, что ни заниматься, ни читать ему не хочется. Хватит ли трех долларов, если он все-таки позвонит Элси?
Впереди замаячила вывеска ломбарда, и Роджер не устоял перед искушением. Он заложил часы и позвонил Элси.
— Пообедаем и сходим на ревю?
— С удовольствием.
И до половины второго ночи, когда Роджер проводил Элси домой, он не вспоминал про астрономию. Ничего странного. Было бы удивительнее, если бы он про нее вспоминал.
Но едва он расстался с Элси, как его вновь охватило тревожное чувство. Сначала он не понял почему. Но идти домой ему не хотелось.
Бар на углу был еще открыт, и Роджер свернул туда. После второй рюмки он сообразил, что его гнетет. И заказал третью.
— Хэнк, ты Поллукса знаешь? — спросил он у бармена.
— Какого Поллукса?
— Неважно, — сказал Роджер. Он допил рюмку и пришел к выводу, что где-то напутал. Поллукс не мог сместиться.
Выйдя из бара, Роджер решительно зашагал домой. Но возле самой двери ему вдруг захотелось посмотреть на Поллукса. Конечно, невооруженным глазом смещения в одну десятую секунды не различишь, но все-таки…
Он задрал голову и, ориентируясь по серпу Льва, отыскал Близнецов — из всего созвездия были видны только Кастор и Поллукс, потому что небо затягивала легкая дымка. Вот они, голубчики! И тут ему показалось, будто расстояние между ними увеличилось. Что было заведомой чепухой. Это значило бы, что речь идет уже не о секундах или минутах, а о градусах!
Роджер еще раз посмотрел на них, перевел взгляд на ковш Большой Медведицы и остановился как вкопанный. Он зажмурился, потом осторожно приоткрыл глаза.
Ковш изменился. Его чуть-чуть перекосило. Расстояние между Алькором и Мицаром в ручке ковша стало как будто больше, чем между Мицаром и Алькаидом. Фекда и Мерак на дне ковша сблизились, и его носик стал острее. Заметно острее.
Не веря глазам, Роджер провел воображаемую линию через Мерак и Дубге к Полярной звезде. Ему пришлось мысленно искривить ее. Без этого Полярная звезда против всяких правил осталась бы градусах в пяти в стороне от линии, по которой бесчисленные поколения людей находили ее сразу и точно.
Тяжело дыша, Роджер снял очки и тщательно протер их. Потом снова надел. Ковш остался перекошенным.
Как и Лев, на которого он снова поглядел. Во всяком случае, Регул сместился на один-два градуса.
Один-два градуса! И это — при расстоянии до Регула! Шестьдесят пять световых лет, как будто? Да, что-то вроде.
Тут его осенила спасительная мысль — он же пил! И Роджер вошел в подъезд, не рискнув еще раз взглянуть на небо.
Он лег, но заснуть не мог.
Пьяным он себя не чувствовал. Его душило волнение, и сон не шел. Может, позвонить в обсерваторию? Но вдруг по его голосу заметно, что он перебрал лишнего? Ну и пусть! Роджер решительно спрыгнул с кровати и пошел к телефону.
Номер обсерватории не отвечал. Он позвонил на станцию и после некоторых препирательств выяснил, что непрерывные звонки астрономов-любителей вынудили администрацию обсерватории принять решительные меры: телефоны обсерватории отключены и включаются только при междугородных вызовах, когда звонят из других обсерваторий.
— Спасибо, — сказал Роджер растерянно. — А вы не могли бы вызвать мне такси?
Эта просьба была настолько странной, что дежурный по станции выполнил ее.
Обсерватория походила на приют для умалишенных.
Утром большинство газет оповестило своих читателей об астрономической новости — в коротенькой заметке на последней странице. Однако все факты были изложены точно.
А именно: за последние двое суток у кое-каких звезд — как правило, наиболее ярких — было обнаружено заметное собственное движение.
«Из этого вовсе не следует, — не преминул объяснить нью-йоркский „Прожектор“, — что до сих пор они обходились заимствованным. На языке астрономов „собственное движение“ подразумевает смещение звезды на небосводе по отношению к другим звездам. До сих пор наибольшее собственное движение наблюдалось у звезды Барнарда в созвездии Змееносца, которая за год смещается на десять с четвертью дуговых секунд. Звезда Барнарда не видна невооруженным глазом».
Наверное, в эти сутки ни один астроном на Земле не сомкнул глаз.
Обсерватории заперли свои двери, предварительно впустив в них всех сотрудников и служителей, и проникнуть туда удалось лишь немногим репортерам. Посмотрев, что там происходит, они уходили — в полном недоумении, но уверенные, что происходит нечто необыкновенное.
Блинк-микроскопы мигали шторками затворов, а астрономы — глазами. Кофе поглощалось в неимоверных количествах. Шесть ведущих обсерваторий вызвали наряды полиции. На две из них шли приступом банды осатанелых любителей астрономии, а в четырех остальных споры между сотрудниками закончились рукопашной. По залам Ликской обсерватории словно пронесся ураган, а Джеймса Трувелла, председателя английского Королевского астрономического общества, доставили в лондонскую клинику с легким сотрясением мозга после того, как вспыльчивый подчиненный разбил о его лысину тяжелую фотопластинку из толстого стекла.
Но все эти прискорбные происшествия были скорее исключениями, в большинстве же обсерваторий царил строгий порядок хорошо организованного приюта для умалишенных.
Все внимание в них сосредотачивалось на динамиках, которые передавали последние сообщения, непрерывно поступавшие с ночной стороны Земли, где наблюдение необъяснимого феномена продолжалось.
Астрономы под ночными небесами Сингапура, Шанхая и Сиднея работали, в буквальном смысле слова, не отрываясь от телефонных трубок.
Особенно интересными были известия из Сиднея и Мельбурна, освещавшие ситуацию в небе Южного полушария, невидимого в США и Европе даже ночью. Из этих сообщений следовало, что Южный Крест перестал быть крестом, потому что его альфа и бета сдвинулись к северу. Альфа и бета Центавра, Канопус и Ахернар — все показывали значительное собственное движение, смещаясь к северу. Южный Треугольник и Магеллановы Облака оставались такими же, как всегда, а сигма Октана, слабая звезда, ближайшая к Южному полюсу, не сдвинулась с места ни на йоту.
В целом количество движущихся звезд в небе Южного полушария было заметно меньше, чем в Северном; зато их относительное собственное движение оказалось значительно более быстрым. И хотя все они смещались к северу, пути их не имели строгого направления на север и не конвергировали к какой-то определенной точке.
Астрономы США и Европы переварили эти факты и запили их новыми литрами кофе.
Вечерние газеты, особенно в Америке, проявили значительно больше интереса к необычайным событиям в небесах. Большинство отвело для них целых пол-колонки на первой странице (хотя и без шапки) с продолжением на третьей. Длина продолжения зависела от числа заявлений видных и не очень видных астрономов, которыми удалось заручиться редактору.
Однако в этих заявлениях ученые ограничивались сухими фактами, предпочитая никак их не истолковывать. По их словам, сами факты были достаточно поразительными и следовало избегать скоропалительных выводов. Подождите, скоро все прояснится. Во всяком случае, то движение, что мы наблюдаем сейчас, можно назвать движением с большой скоростью.
— Но с какой именно? — спросил один из редакторов.
— С большей, чем это возможно, — был ответ.
Впрочем, все-таки нельзя утверждать, что ни одному газетчику не удалось тогда же вытянуть из ученых хоть какие-то выводы. Чарльз Уонгрен, предприимчивый издатель чикагского «Лезвия», спустил солидную сумму на междугородные телефонные разговоры. Шестьдесят с лишним попыток все-таки дали результаты, и ему удалось связаться с директорами пяти известных обсерваторий. И каждому он задал один и тот же вопрос: «Все-таки какова, по вашему мнению, причина, пусть самая невероятная, движения звезд, наблюдающегося в последние двое суток?»
Он составил сводку ответов:
«Если бы я знал!» — Дж. Ф. Стэббс, Триппская обсерватория, Лонг-Айленд.
«Кто-то свихнулся или что-то свихнулось. И лучше, чтобы это был я», — Генри Коллистер Мак-Адамс, обсерватория Ллойда, Бостон.
«Того, что происходит, быть не может, и, следовательно, никаких причин для этого нет», — Леттер Тушауэр Тинни, Бургойнская обсерватория, Альбукерк.
«Ищу в штат опытного астролога. Не порекомендуете ли?» — Патрик Уайтекер, Льюкасская обсерватория, штат Вермонт.
Окинув грустным взглядом эту сводку, которая обошлась ему в 187 долларов 35 центов, включая налоги, Чарльз Уонгрен подписал чек на оплату телефонных разговоров и выбросил сводку в корзину. Потом он позвонил постоянному сотруднику своего научного отдела.
— Не можете ли вы написать нам серию статей по восемьдесят машинописных страниц про эту астрономическую сенсацию?
— Конечно, могу, — отозвался автор. — А про какую сенсацию?
И тут выяснилось, что последнюю неделю он провел на лоне природы, где удил рыбу, газет не читал и на небо не смотрел. Впрочем, статьи он написал. И даже придал им некоторую пикантность, проиллюстрировав их старинными звездными картами, на которых созвездия изображались в дезабилье, и добавил фотографию современной девицы в невидимом купальнике, но зато с подзорной трубой в руке, наведенной предположительно на одну из загулявших звезд. Тираж «Лезвия» повысился на 21,7 %.
И вновь в Коулской обсерватории настало пять часов — ровно через двадцать четыре часа пятнадцать минут после начала всей этой неразберихи. Роджер Пфлюггер — да-да, мы вновь возвращаемся к нему — внезапно проснулся, потому что на его плечо легла отеческая ладонь.
— Идите домой, Роджер, — ласково сказал Кервин Армбрестер, директор обсерватории.
Роджер подскочил, как ужаленный.
— Извините, мистер Армбрестер. Я нечаянно.
— Чепуха! Конечно, вы не можете сидеть здесь без конца. Да и мы все тоже. Идите, идите домой.
Роджер Пфлюггер пошел домой. Но когда он принял душ, спать ему расхотелось. Да и часы показывали всего четверть седьмого. Он позвонил Элси.
— Мне ужасно жалко, Роджер, но я уже договорилась с подругой. Но что творится? Я имею в виду — со звездами.
— Они движутся, Элси. И никто не знает почему.
— А я думала, что звезды всегда движутся, — возразила Элси. — Ведь и Солнце — тоже звезда? А ты мне объяснял, что Солнце движется к какой-то там точке в Самсоне.
— В Геркулесе, — поправил Роджер.
— Ну да, в Геркулесе. Ведь ты же сам говорил, что все звезды движутся. Так что же тут такого?
— Это совсем другое дело, — сказал Роджер. — Возьми, к примеру, Канопус. Он вдруг начал двигаться со скоростью семь световых лет в день. А этого не может быть!
— Отчего не мотает?
— Ничто не может двигаться быстрее света, вот отчего, — терпеливо объяснил Роджер.
— Но если этот твой Канопус движется быстрее, значит, он может! — рассудительно заметила Элси. — Или у тебя телескоп испортился, или еще что-нибудь. Да и вообще до него же далеко!
— Сто шестьдесят световых лет. Так далеко, что сейчас мы видим его таким, каким он был сто шестьдесят лет назад.
— Так, может, он вовсе и не движется, — заявила Элси. — То есть он подвигался и перестал сто пятьдесят лет назад, а вы тут с ума сходите из-за того, чего больше и нет. А ты меня еще любишь?
— Очень. А ты никак не можешь пере-договориться с подругой?
— Боюсь, что нет, Роджер. Мне самой очень жалко.
Роджеру пришлось удовлетвориться этим. Он решил пойти куда-нибудь поужинать.
Было совсем светло, и звезды в густо-синем небе еще не загорались. Но Роджер знал, что в эту ночь от многих созвездий останутся только воспоминания.
Шагая по тротуару, он перебирал в уме замечания Элси — ей-богу, они были нисколько не глупее тех, что он наслушался у себя в обсерватории. И они натолкнули его на мысль, которая раньше ему в голову не приходила, — поведение звезд оказалось даже еще непонятнее, чем он думал. Ведь все они начали двигаться в один и тот же вечер, но здесь было что-то не так. Альфа и бета Центавра должны были начать двигаться года четыре тому назад, Ригель же — пятьсот сорок лет назад, когда Христофор Колумб еще бегал в коротких штанишках, а то и вовсе без них. Вега пустилась в путь в год его, Роджера, рождения, двадцать шесть лет назад. Другими словами, каждая из этой сотни звезд должна была прийти в движение в момент, определявшийся ее расстоянием от Земли. Причем с точностью до одной световой секунды, так как изучение снятых в предыдущую ночь фотографий показало, что новое движение всех до единой звезд началось ровно в четыре часа десять минут по Гринвичу. Ну и клубочек!
Разве что свет обладает бесконечной скоростью…
Если же это не так (о душевном состоянии Роджера можно судить по тому факту, что он начал свои рассуждения с немыслимого «если»), то… то… то — что? Он по-прежнему ничего не понимал. И испытывал жгучее возмущение: да что же это такое, в самом деле?!
Роджер вошел в закусочную и сел. Из радиоприемника неслись оглушительные звуки — самые последние достижения в области антиритма, исполнявшиеся на струнно-духовых инструментах и на вложенных друг в друга барабанах. В паузах диктор исступленно восхвалял тот или иной товар.
Роджер жевал бутерброд, наслаждался антиритмикой и выключал из своего сознания рекламу — это искусство он, как и все люди восьмидесятых годов, постиг в совершенстве. По этой причине и последние известия, которые сменили музыкальную программу, продолжали влетать в одно ухо Роджера и вылетать из другого, не задерживаясь в его сознании. И прошло довольно много времени, прежде чем он понял, что пропускает мимо ушей отнюдь не панегирик очередному пищевому концентрату. Собственно говоря, его внимание привлек знакомый голос, и после двух-трех фраз он уже не сомневался, что слушает Милтона Хейла, прославленного физика, чья новая теория принципа индетерминантности совсем недавно вызвала такую бурю в научных кругах. Профессор Хейл, по-видимому, давал интервью радиокомментатору.
— …и, следовательно, небесное тело может обладать позицией или скоростью, но не тем и другим сразу в пределах данной системы пространства — времени.
— Доктор Хейл, не могли бы вы объяснить это на более понятном языке? — медовым голосом осведомился радиокомментатор.
— Это и есть понятный язык, сэр! Если же прибегнуть к научной терминологии, то, исходя из гейзенберговского принципа сжатия, эн в седьмой степени в скобках, определяющее псевдопозицию дитриховского целого числа квантов, деленное на коэффициент искривления массы в седьмой степени…
— Благодарю вас, доктор Хейл, но, боюсь, это не совсем понятно нашим слушателям.
«Зато тебе понятно!» — раздраженно подумал Роджер Пфлюггер.
— Я не сомневаюсь, доктор Хейл, что больше всего нашим слушателям хотелось бы узнать, действительно ли звезды пришли в движение или это только иллюзия.
— И то, и другое. Это движение реально в системе пространства, но не в системе пространства — времени.
— Не могли бы вы, объяснить это подробнее, профессор?
— Конечно. Трудность здесь носит чисто гносеологический характер. Исходя из чистой причинности, воздействие макроскопического…
«А за нею во всю прыть тихими шагами волк старался переплыть миску с пирогами», — подумал Роджер Пфлюггер.
— …на параллелизм градиента энтропии…
— Ха! — сказал Роджер вслух.
— Вы что-то сказали, сэр? — спросила официантка. До этого Роджер не обращал на нее никакого внимания. Она оказалась миниатюрной и очень симпатичной блондинкой. Роджер улыбнулся ей.
— Все зависит от того, с точки зрения какой системы пространства — времени оценивать эту проблему, — задумчиво ответил он. — Трудность тут гносеологическая.
Чтобы загладить эту выходку, он дал ей на чай больше, чем позволяли его средства, и вышел из закусочной.
Именитый физик явно знал о происходящем меньше, чем человек с улицы. Человек с улицы знал хотя бы, что звезды либо движутся, либо нет. Профессор Хейл не знал, по-видимому, и этого. Спрятавшись за дымовую завесу звучных определений, он намекнул, что звезды одновременна и движутся, и не движутся.
Роджер задрал голову, но в небе, озаренном разноцветными огнями реклам, слабо светились лишь две-три звезды. Еще рано, решил он.
Роджер завернул в бар, но не допил даже первой рюмки, так как виски показалось ему удивительно противным. Он не понимал, что продолжительная бессонница действует на него сильнее всякого алкоголя. Он знал только, что вовсе не хочет спать, и собирался бродить по городу, пока не почувствует, что уже пора ложиться. Тот, кто в эту минуту оглушил бы его ударом не слишком тяжелого мешка с песком, оказал бы ему большую услугу, но такого благодетеля не нашлось.
Роджер шел и шел, пока не увидел ослепительные огни синерамы. Он купил билет и добрался до своего места в тот момент, когда на экране замелькали заключительные кадры сладенького финала первой из полнометражных картин программы. Несколько рекламных мультфильмов он пропустил, так сказать, мимо глаз, хотя взгляд его и был устремлен на экран.
— А теперь, — прозвучал голос диктора, — мы предлагаем вашему вниманию вид ночного неба над Лондоном в три часа утра.
Экран усеяли сотни крохотных пятнышек. Это были звезды. Роджер наклонился вперед, чтобы ничего не упустить — наконец-то вместо всяческой словесной шелухи он увидят и услышит нечто стоящее.
— Стрелка, — произнес голос за кадром, когда на экране возникла стрелка, — указывает на Полярную звезду, которая в настоящее время сместилась на десять градусов в направлении к Большой Медведице. Сама же Большая Медведица утратила форму ковша, однако сейчас стрелка укажет звезды, из которых он прежде слагался.
Роджер, затаив дыхание, следил за стрелкой и слушал голос.
— Алькаид и Дубге, — произнес голос. — Неизменные звезды утратили неизменность, но… — на экране внезапно вспыхнуло изображение ультрасовременной кухни — плиты с маркой «Две звезды» неизменно сохраняют все свои превосходные качества. Блюда, изготовленные аупервибрационным методом, вкусны по-прежнему. Плиты с маркой «Две звезды» не знают себе равных.
Роджер Пфлюггер неторопливо поднялся и зашагал по проходу к экрану, доставая из кармана перочинный нож. Прыжок — и он оказался на невысокой эстраде. Экран он резал без всякого неистовства. Его удары были точны и рассчитаны так, чтобы причинять как можно больше повреждений при минимальной затрате усилий.
К тому времени, когда трое рослых капельдинеров заключили его в крепкие объятия, экран был изуродован весьма основательно. Роджер не сопротивлялся. Когда капельдинеры сдали его полицейскому, он также не оказал ни малейшего сопротивления. Час спустя в полицейском суде он невозмутимо выслушал предъявленные ему обвинения.
— Признаете вы себя виновным или нет? — спросил судья.
— Ваша честь, это же чисто гносеологический вопрос, — ответил Роджер чистосердечно. — Неизменные звезды двинутся, но лучшие в мире воздушные хлебцы фирмы Корни все еще определяют псевдопозицию дитриховского целого числа квантов, деленную на седьмую степень коэффициента искривления!
Десять минут спустя он уже сладко спал. Правда, в камере, но очень сладко. Полицейские оставили его в покое, сообразив, что ему полезно выспаться…
Среди других мелких трагедий этой ночи можно поведать о судьбе шхуны «Рансагансетт», пробиравшейся вдоль берегов Калифорнии. Собственно говоря, не очень-то близко от этих берегов. Внезапный шторм унес ее далеко в открытое море. А как далеко, ее шкипер мог только догадываться.
«Рансагансетт», американская шхуна с немецкой командой и венесуэльским портом приписки, занималась контрабандной доставкой спиртных напитков из Энсенады (Нижняя Калифорния) в Канаду. Это была ветхая четырех-моторная посудина с весьма ненадежным компасом и древним радиоприемником 1955 года, который во время шторма раскапризничался так, что Гросс, старший помощник, ничего не мог с ним поделать.
Однако к этому времени от хмурых туч осталась лишь легкая дымка, а затихающий ветер быстро разогнал и ее. Ганс Гросс стоял в ожидании на палубе, держа в руке древнюю астролябию. Его окружал непроницаемый мрак, потому что «Рансагансетт», чтобы не привлекать внимания береговой охраны, шла без огней.
— Проясняется, мистер Гросс? — донесся снизу голос капитана.
— Та, сэр. Пыстро проясняется.
В каюте капитан Рэндолл снова начал сдавать карты второму помощнику и судовому механику. Команда шхуны (пожилой немец с деревянной ногой, носивший фамилию Вайс) мирно спала на крамболе лагуна[1] — что это значит, объяснить не берусь.
Прошло полчаса. Потом еще час. Капитан проигрывал Хальмштадту, механику, все больше.
— Мистер Гросс! — крикнул он.
Ответа не последовало. Он крикнул еще раз, но с тем же результатом.
— Айн момент, счастливчики, — сказал он и поднялся по трапу на палубу.
На палубе, задрав голову и широко разинув рот, стоял Гросс. Небо было совсем чистым.
— Мистер Гросс! — крикнул капитан Рэндолл.
Второй помощник не отозвался. Капитан вдруг заметил, что Гросс медленно вращается вокруг своей оси.
— Ганс! — сказал капитан Рэндолл. — Что на тебя накатило?
И тоже посмотрел вверх.
На первый взгляд, небо казалось обычным. Ангелы там не летали и патрульные самолеты тоже. Ковш… Капитан Рэндолл медленно повернулся вокруг своей оси, хотя и быстрее, чем Ганс Гросс. Куда девалась Большая Медведица?
Да и все прочее тоже. Он не видел ни одного знакомого созвездия. Ни треугольника Лиры, ни пояса Ориона, ни рогов Овна.
Хуже того… Что это еще за многоугольник из восьми ярких звезд? Явное созвездие, но он никогда его не видел, хотя огибал и мыс Горн, и мыс Доброй Надежды. А что, если… Да нет же! Южного-то Креста нигде не видно!
Пошатываясь, как пьяный, капитан Рэндолл подошел к трапу.
— Мистер Вайскопф! — позвал он. — Мистер Хельмштадт! Поднимитесь на палубу!
Они поднялись и посмотрели. Некоторое время все хранили молчание.
— Выключите моторы, мистер Хельмштадт, — сказал капитан. Хельмштадт отдал честь — чего раньше никогда не делал — и спустился в машинное отделение.
— Распутить Вакса, капитан? — спросил Вайскопф.
— Зачем?
— Не снаю.
Капитан поразмыслил.
— Разбудите его, — сказал он.
— Мы, я тумаю, на планете дер Марс, — сказал Гросс.
Но капитан уже взвесил и отбросил такую возможность.
— Нет, — отрезал он. — С любой планеты Солнечной системы созвездия будут выглядеть практически одинаково.
— Фы тумаете, мы профалялись сквось космос?
Шум моторов внезапно смолк, и теперь был слышен только привычный мягкий плеск волн о борта. Шхуна покачивалась на зыби.
Вайскопф вернулся с Вайсом, за ними на палубу вылез Хельмштадт и снова отдал честь.
— Жду ваших приказаний, капитан.
Капитан Рэндолл махнул рукой в сторону корми, где стояли укутанные брезентом бочки.
— Вскрыть груз! — скомандовал он.
За карты больше не садились. На заре, освещенные первыми лучами солнца, которого они уже не надеялись увидеть, — а в эту минуту безусловно и не видели — пятеро бесчувственных моряков были сняты с их шхуны и доставлены в порт Сан-Франциско. Проделал эту операцию патруль береговой охраны. Ночью дрейфовавшая «Рансагансетт» прошла Золотые Ворота и мягко ткнулась о причал парома.
Шхуна тащила за собой на буксире большой брезент, пронзенный гарпуном, линь которого был привязан к бизань-мачте. Что все это означало, так и осталось необъясненным, хотя позднее капитан Рэндолл и вспомнил смутно, что вроде бы загарпунил в ту ночь кашалота. Однако старший матрос по фамилии Вайс так и не вспомнил, что же все-таки произошло с его деревянной ногой. Но, может, оно и к лучшему.
Милтон Хейл, доктор наук, прославленный физик, наконец умолк и отошел от выключенного микрофона.
— Большое спасибо, профессор, — сказал радиокомментатор. — Э… чек можете получить в кассе. Вы… э… знаете где.
— Да-да, знаю, — подтвердил ученый, добродушный толстячок. Пушистая седая борода придавала ему несомненное сходство с рождественским Дедом Морозом в миниатюре. В глазах у него то и дело вспыхивали веселые искры. Он курил короткую трубочку.
Закрыв за собой звуконепроницаемую дверь, он энергичной походкой направился к окошку кассы.
— Здравствуйте, деточка, — сказал он дежурной кассирше. — Если не ошибаюсь, у вас должно быть два чека для профессора Хейла.
— Вы профессор Хейл?
— Не берусь утверждать наверное, но так сказано в моем удостоверении личности, и, следовательно, мы можем принять, что это так.
— Два чека?
— Два чека. За одну и ту же передачу, согласно особому распоряжению. Кстати, сегодня в Мабри неплохое ревю.
— Да? Вот ваши чеки, профессор Хейл. На семьдесят пять долларов и на двадцать пять. Все правильно?
— Более чем. Ну, а как насчет ревю?
— Если хотите, я спрошу мужа. Он здешний швейцар.
Профессор Хейл вздохнул, но веселые искры в его глазах не погасли.
— Я думаю, ваш супруг не будет возражать, — сказал он. — Вот билеты, деточка. Идите с ним. А мне еще надо вечером поработать.
Кассирша широко открыла глаза, но билеты взяла.
Профессор Хейл направился к телефону-автомату и позвонил домой. Домом профессора Хейла и им самим твердой рукой правила его старшая сестра.
— Агата, мне придется остаться до ночи в лаборатории, — сказал он.
— Милтон, ты прекрасно можешь работать и дома, у себя в кабинете. Я слышала твою передачу, Милтон. Ты говорил чудесно.
— Всякую чепуху, Агата. Невероятную чушь. Что, собственно, я сказал?
— Ну, ты сказал, что… э… звезды были… то есть ты был…
— Вот именно, Агата. Я ставил себе целью предотвратить панику среди населения. Если бы я сказал правду, слушатели перепугались бы. Но мое ученое самодовольство оставило их в убеждении, что ситуация… э… полностью контролируется. А ты знаешь, Агата, что я подразумевал, говоря о параллелизме градиента энтропии?
— Ну… не совсем.
— Вот и я тоже.
— Милтон, ты пил!
— Пока еще нет… Нет, что ты! Но сегодня я не могу работать дома. В университете у меня под рукой будут все справочники. И звездные карты.
— Но, Милтон, а как же твой гонорар? Ты же знаешь, что тебе опасно носить при себе деньги, когда ты… в таком настроении.
— Я получил не наличными, а чеком. Сейчас отошлю его тебе по почте. Хорошо?
— Ну что ж. Если уж тебе нужны все справочники… До свиданья, Милтон.
Профессор Хейл вошел в почтовое отделение. Он кассировал чек на двадцать пять долларов. А второй, на семьдесят пять, заклеил в конверт и бросил в ящик.
Просовывая конверт в щель, он поглядел на вечернее небо, вздрогнул и отвел глаза. Потом кратчайшим путем отправился в ближайший бар и заказал большую рюмку виски.
— Давненько вы к нам не заглядывали, профессор, — сказал Майк, бармен.
— Это вы правильно подметили, Майк. Налейте-ка мне еще.
— С удовольствием. И за счет заведения. Мы сейчас слушали вас по радио. Здорово вы говорили.
— Угу.
— Я прямо заслушался. Сын-то у меня летчик, ну и мне немножко не по себе было — чего это, думаю, в небе делается. Но раз уж вы там в своих университетах все про это знаете, так беспокоиться нечего. Хорошо вы говорили, профессор. Мне только хотелось бы спросить вас об одной вещи.
— Этого я и боялся, — сказал профессор Хейл.
— Я про звезды. Они же куда-то движутся! А вот куда? То есть если они на самом деле движутся, как вы говорили.
— Точно этого определить нельзя, Майк.
— А они двинутся по прямой? То есть каждая из них?
Именитый ученый заколебался.
— Ну… и да и нет, Майк. Спектрографический анализ показывает, что все они сохраняют прежнее расстояние от нас, все до единой. И следовательно, каждая из них — если они действительно движутся — описывает круг с нами в центре. А потому они движутся как бы по прямой, не приближаясь к нам и не удаляясь.
— А изобразить эти круги вы можете?
— Да. На звездном глобусе. Это уже сделано. Впечатление такое, будто все они направляются к определенному участку неба, но не в одну какую-то точку. Другими словами, их пути пока не пересекаются.
— А к какому же это участку?
— Он находится примерно где-то между Большой Медведицей и Львом. Те, что дальше, движутся быстрее, те, что ближе, — медленнее. Да ну вас к черту, Майк! Я пришел сюда, чтобы забыть о звездах, а не разговаривать о них. Налейте мне еще.
— Минуточку, профессор. А когда они туда доберутся, они что — остановятся или поползут дальше?
— А я откуда знаю, Майк? Они начали двигаться внезапно в одну и ту же минуту и, так сказать, с полной скоростью — то есть их скорость с первого же момента была такой, какой остается сейчас, они ее, так сказать, не набирали. И значит, остановиться они тоже могут сразу, без предупреждения…
Он сам остановился с внезапностью, какой могла бы позавидовать любая звезда, и уставился на свое отражение в зеркале за стойкой так, словно никогда прежде себя не видел.
— Что с вами, профессор?
— Майк!
— Что?
— Майк, вы — гений!
— Я? Что это вы?
Профессор Хейл испустил легкий стон.
— Майк, мне придется сейчас же отправиться в университет. Чтобы под рукой были справочники и звездные карты. Вы вернули меня на путь истины, Майк. Но дайте-ка мне с собой бутылочку этого виски.
— «Тартанового пледа»? Большую?
— Большую. И побыстрее. Мне нужно поговорить с одним человеком про собачью звезду.
— Вы это серьезно, профессор?
Доктор Хейл испустил вздох.
— Это вы виноваты, Майк. Собачьей звездой называют Сириус. И зачем только я пришел сюда, Майк! В первый раз за три месяца удалось вырваться, и надо же вам было все испортить.
Он взял такси, отправился в университет, отпер свой кабинет и зажег лампы там и в библиотеке. Потом сделал хороший глоток «Тартанового пледа» и взялся за работу.
Для начала после некоторых пререканий с дежурным по коммутатору ему удалось добиться, чтобы его соединили с директором Коулской обсерватории.
— Это Хейл, — сказал он. — Армбрестер, у меня есть идея. Но прежде, чем заняться ею, я хотел бы уточнить данные. Насколько мне известно, новое собственное движение продемонстрировали четыреста шестьдесят восемь звезд. Это число по-прежнему верно?
— Да, Милтон. Движутся только они.
— Отлично. У меня есть их список. А скорость движения остается неизменной?
— Да. Как это ни невероятно, она постоянна. А в чем заключается ваша идея?
— Сначала я хочу ее проверить. Если что-нибудь получится, я вам позвоню.
Но позвонить он забыл.
Это была долгая и кропотливая работа. Взяв карту звездного неба с участком между Большой Медведицей и Львом, он нанес на нее 468 линий, которые обозначили траектории взбесившихся звезд. На полях карты у начала каждой линии он записал видимую скорость звезды, но не в световых годах в час, а в градусах в час с точностью до пятого знака.
Потом он принялся рассуждать.
— Исходя из предпосылки, что эти звезды начали двигаться одновременно, — бормотал он себе под нос, — предположим, что и остановятся они одновременно. Когда? Скажем, завтра в десять вечера.
Он проверил это предположение, нанеся на карту соответствующие позиции звезд. Нет, не то!
Час ночи? Уже что-то похожее на дело.
Полночь?
Вот оно! Во всяком случае, достаточно близко. Несколько минут разницы в ту или иную сторону значения не имели, так что тратить время на точные вычисления не стоило. Теперь он знает все. Невероятно, но факт!
Профессор Хейл еще раз приложился к бутылке и мрачно уставился на карту. Потом прошел в библиотеку, взял справочник и получил нужную информацию. Адрес.
С этого момента начинается эпопея странствий профессора Хейла. Правда, как оказалось, бесполезных, но все же в чем-то сравнимых со странствиями Одиссея.
Начал он с того, что сделал еще глоток. Затем ограбил сейф в кабинете ректора, благо комбинация цифр была ему известна. Записка, которую он оставил в сейфе, могла служить образцом лаконичности:
«Взял деньги. Объясню потом».
После этого он сделал еще глоток, сунул бутылку в карман, вышел на улицу и подозвал такси.
— Куда, сэр? — спросил шофер, когда пассажир сел.
Профессор Хейл назвал адрес.
— Фремонт-стрит? Простите, сэр, но я не знаю, где эта улица.
— В Бостоне, — сказал Хейл. — Ах да! Я же вам этого не сказал! В Бостоне.
— Это что — в штате Массачусетс? Пожалуй, далековато отсюда.
— Тем более нет оснований тратить время на пустые пререкания, — рассудительно сказал профессор Хейл.
Короткие переговоры под шуршание бумажек, изъятых из ректорского сейфа, рассеяли опасения шофера, и они покатили.
Ночь для марта выдалась на редкость холодная, а обогреватель в такси работал не слишком хорошо. Зато «Тартановый плед» отлично согревал и профессора, и шофера, так что через Нью-Хейвен они промчались, распевая старинные ковбойские песни:
— «Мы несемся, мы несемся в дикий голубой простор!»
По слухам, которые, впрочем, могут и не соответствовать действительности, в Хартфорде профессор Хейл якобы одарил сияющей улыбкой даму, которая ждала последнего трамвая, и осведомился, не в Бостон ли ей надо. Но, по-видимому, она ехала не в Бостон, потому что в пять часов утра, когда такси остановилось перед домом номер 614 по Фремонт-стрит в Бостоне, в нем сидели только профессор Хейл и шофер.
Профессор Хейл вылез и поглядел на дом. Это был типичный особняк миллионера, окруженный высокой чугунной оградой с колючей проволокой поверху. Ворота и калитка были заперты, а звонка, во-видимому, не имелось.
Но дом находился от тротуара не дальше чем на бросок камня, и профессор Хейл не преминул воспользоваться этим обстоятельством. Он бросил камень. Потом еще один. В конце концов ему удалось разбить окно.
Вскоре в образовавшуюся дыру просунулась чья-то голова. Дворецкий, решил профессор Хейл.
— Я профессор Милтон Хейл! — крикнул он. — Мне нужно немедленно увидеть мистера Резерфорда Снивели. По крайне важному делу!
— Мистер Снивели в отъезде, сэр, — сказал дворецкий. — А вот окно…
— К черту окно! — объяснил профессор Хейл. — Где Снивели?
— Ловит рыбу.
— Где?
— Я получил распоряжение не давать этих сведений.
Быть может, профессор Хейл был несколько навеселе.
— Нет, вы их дадите! — крикнул он. — По приказу президента Соединенных Штатов!
Дворецкий засмеялся.
— Я его что-то не вижу.
— Так увидите! — сказал Хейл и снова влез в такси. Шофер спал, и профессор потряс его за плечо.
— В Белый дом, — сказал профессор Хейл.
— А?
— В Белый дом в Вашингтоне, — пояснил профессор Хейл. — И поживее!
Он вытащил стодолларовую бумажку. Шофер посмотрел на нее и испустил стон. Но сунул ее в карман и включил мотор.
Пошел легкий снег.
Когда такси скрылось за углом, Резерфорд Р. Снивели, ухмыляясь, втянул голову в комнату. Мистер Снивели не держал дворецкого.
Если бы профессор Хейл был блике знаком с привычками эксцентричного мистера Снивели, он знал бы, что вся прислуга в доме номер 614 по Фремонт-стрит приходящая и уже в двенадцать часов дня покидает особняк, куда приходит в десять. Если не считать этих двух часов, мистер Снивели постоянно пребывал в величественном одиночестве. Ни друзей, ни светских знакомых у него не было. Все свободное время, которое у него оставалось от управления делами одной из ведущих галантерейных фирм страны, он проводил в своей домашней мастерской за изготовлением всевозможных занятных приспособлений и аппаратов.
У Снивели была пепельница, которая услужливо подавала ему зажженную сигарету всякий раз, когда он протягивал к ней руку, и радиокомбайн, который автоматически включался на программах, оплачиваемых фирмой «Снивели», и выключался, едва они подходили к концу. Его ванна мелодично аккомпанировала ему, когда он затягивал песню, плескаясь в воде, и еще у него была машина, которая читала ему на сон грядущий вставленную в нее книгу.
Пусть жизнь Снивели была одинокой, но ее, несомненно, скрашивал некоторый комфорт. Конечно, он был чудаком, но человеку с ежегодным доходом в четыре миллиона это вполне по карману. А уж если ты начал жизнь сыном кассира в мелком пароходстве, то это и совсем неплохо.
Мистер Снивели проводил такси самодовольным смешком, возвратился в постель и уснул сном праведника.
«Значит, кто-то разобрался, в чем дело, на девятнадцать часов раньше срока, — подумал он, засыпая. — Ну и на здоровье!»
Ни один уголовный кодекс не предусматривал наказания за то, что он сделал…
В этот день астрономические отделы книжных магазинов стремительно опустели. У широкой публики вдруг проснулся горячий интерес к небесным явлениям, и даже древние пропыленные тома ньютоновской «Principia» шли нарасхват по бешеным ценам.
Эфир заполнили сообщения о новых небесных чудесах. Однако в них было очень мало не только науки, но и просто здравого смысла, ибо почти все астрономы в этот день крепко спали. Двое суток они не смыкали глаз, но на третьи, измученные душой и телом, махнули рукой на звезды, считая, что им (астрономам, а не звездам) следует немного соснуть, а небесные светила могут сами о себе позаботиться.
Баснословные гонорары, предложенные телевизионными и радиокомпаниями, соблазнили двух-трех из них, и они попробовали выступить с лекциями, но чем меньше будет сказано об этих плачевных попытках, тем лучше. Профессор Карвер Блейк, объясняя многочисленным телезрителям разницу между апогеем и перигеем, впал в каталептическое состояние.
Большой спрос был и на физиков. Однако попытки связаться с самым именитым из них оказались тщетными. Краткая записка: «Взял деньги. Объясню потом», — единственный ключ к исчезновению профессора Милтона Хейла — ничего не дала. Его сестра Агата опасалась худшего.
Впервые за всю историю человечества астрономические новости печатались в газетах под аршинными заголовками.
Снегопад, начавшийся утром на Атлантическом побережье, все усиливался. Перед въездом в Уотербери (штат Коннектикут) шофер профессора Хейла почувствовал, что всему есть предел. Что он, железный, что ли, чтобы без передышки гонять то в Бостон, то в Вашингтон? Разве можно требовать такого от человека хоть бы и за сто долларов?
И уж, во всяком случае, не в такой буран. Видимости никакой, даже когда удается разлепить веки… А пассажир храпит себе на заднем сиденье. Почему бы не съехать на обочину и не подремать часок? Всего часок! Пассажир ведь и не заметит ничего. И вообще, псих какой-то — кажется, мог бы сесть на поезд или на самолет.
Бесспорно, профессор Хейл мог бы воспользоваться этими видами транспорта, если бы вспомнил про них. Но он мало куда ездил, да и «Тартановый плед» сыграл свою роль. Профессор Хейл привык пользоваться такси — ни тебе билетов, ни пересадок. В деньгах он не был стеснен, голова его, окутанная «Тартановым пледом», не сработала, и он не подумал о том, что при длительной поездке на такси имеет дело с человеческим фактором.
Но когда он, совсем оледенев, проснулся в неподвижной машине, ему пришлось-таки об этом подумать. Шофер спал богатырским сном и, сколько ученый его ни тряс, продолжал храпеть. В довершение всего часы профессора Хейла остановились, и он не имел ни малейшего представления ни о времени, ни о том, где он может находиться.
К несчастью, он так и не научился водить автомобиль, а потому, сделав энергичный глоток, чтобы немного согреться, вылез из такси, но тут рядом с ним остановился другой автомобиль.
Это была полицейская машина, а за рулем сидел замечательный полицейский — один полицейский на миллион.
Хейл замахал руками.
— Я профессор Хейл, — завопил он, перекрикивая вой ветра. — Мы заблудились. Где я нахожусь?
— Влезайте скорей ко мне, пока совсем не замерзли, — распорядился полицейский. — Уж не вы ли профессор Милтон Хейл?
— Да.
— Я читал все ваши книги, профессор, — сказал полицейский. — Обожаю физику и всегда мечтал познакомиться с вами. Мне хотелось бы узнать ваше мнение о пересмотренной величине кванта.
— Речь идет о жизни и смерти! — сказал профессор Хейл. — Не могли бы вы меня доставить на ближайший аэродром?
— Само собой, профессор.
— Но послушайте… а как же шофер такси? Ведь, если мы не примем каких-нибудь мер, он замерзнет.
— Я перетащу его в кузов моей машины, а такси отгоню подальше на обочину. Остальным можно будет заняться позже.
— Поторопитесь, если нетрудно.
Услужливый полицейский поторопился. Потом сел за руль, и они тронулись.
— Так, значит, о величине кванта, профессор, — начал он и осекся; профессор Хейл спал непробудным сном.
Полицейский подъехал к аэровокзалу в Уотербери. Остановившись перед кассами, он осторожно разбудил профессора.
— Аэропорт, сэр.
Он еще не успел договорить, а профессор уже выскочил из машины и, спотыкаясь, вбежал в помещение кассы. Он крикнул через плечо «спасибо!» и чуть было не растянулся на пороге.
Рев разогреваемых двигателей суперстратолайнера подстегнул его, на ногах словно выросли крылья, и он в мгновение ока очутился перед окошком кассы.
— Какой это самолет?
— Прямой вашингтонский рейс. Отлет через минуту. Боюсь, вы не успеете.
Профессор Хейл сунул в окошко стодолларовую бумажку.
— Билет! — прохрипел он. — Сдачу оставьте себе.
Схватив билет, профессор взлетел по лестнице к двери стратолайнера в тот момент, когда она уже закрывалась. Он упал на сиденье, еле переводя дух. Когда стюардесса подошла взять его билет, он спал мертвым сном, и ей пришлось самой застегнуть ему ремни.
Вскоре она его разбудила: почти все пассажиры сошли.
Профессор Хейл стремглав скатился по лестнице и кинулся через поле к зданию аэровокзала. Он бросил взгляд на огромные часы. Было еще только девять, и, несколько успокоившись, профессор Хейл юркнул в дверь с надписью «Такси».
— В Белый дом, — сказал он шоферу. — Долго туда ехать?
— Десять минут.
Профессор Хейл удовлетворенно вздохнул и откинулся на сиденье. На этот раз он не заснул. Спать ему совершенно не хотелось. Но он закрыл глаза, чтобы обдумать, как лучше всего объяснить президенту положение.
— Приехали, сэр.
Профессор Хейл расплатился, торопливо вылез из такси и взбежал по ступенькам. Здание оказалось не совсем таким, каким он себе его представлял, но терять время на праздные размышления было некогда. Он увидел конторку и бросился к ней.
— Мне нужно немедленно увидеться с президентом. Дело государственной важности!
Человек за конторкой нахмурился.
— С каким именно-президентом?
Глаза профессора Хейла полезли на лоб.
— С президентом Сое… Послушайте, что это за здание? И какой это город?
Человек за конторкой нахмурился еще больше.
— Это отель «Белый дом», — ответил он. — В городе Сиэтле, штат Вашингтон.
Хейл упал без чувств. Он пришел в себя через три часа в больнице. Была полночь — по тихоокеанскому времени. Следовательно, на атлантическом побережье страны шел четвертый час утра. Другими словами, когда он выходил из самолета в Сиэтле, штат Вашингтон, в городе Вашингтоне, столице страны, и в Бостоне была как раз полночь.
Профессор Хейл бросился к окну и погрозил небесам сжатым кулаком. Бесполезный жест!
Однако на атлантическом побережье метель к вечеру улеглась и в воздухе висел только легкий туман. Телефоны метеорологических бюро звонили не переставая: всех, кто жаждал взглянуть на звездное небо, интересовало, рассеется ли туман.
— Поднимается океанский бриз, — отвечали им. — Он уже достаточно силен и разгонит туман за час или два.
К четверти двенадцатого небо над Бостоном совсем прояснилось. Несмотря на пронзительный холод, улицы были запружены толпами людей, которые, задрав головы, следили за звездной каруселью. И все отказывались верить глазам. Не может быть!
По городу прокатывался нарастающий ропот. Без четверти двенадцать сомневаться было уже нельзя, и ропот внезапно стих — для того лишь, чтобы в последние минуты перед полуночью перейти в оглушительный рев. Разные люди воспринимали случившееся по-разному: кто негодовал, а кто смеялся, кто леденел от ужаса, а кто презрительно кривил губы. Кое-кто дате приходил в восторг.
Вскоре повсюду в городе люди начали двигаться к Фремонт-стрит. Они шли пешком, ехали в автомобилях и на городском транспорте, и маршруты их сходились в одной точке.
Без пяти минут двенадцать Резерфорд Снивели все еще сидел у себя в кабинете за спущенными шторами. Он так и не поддался искушению подойти к окну и выглянуть. Нет, он посмотрит, когда дело будет завершено!
По-видимому, все шло отлично. Об этом свидетельствовал гул голосов — несомненно гневный, — нараставший вокруг его дома. Он слышал, что толпа выкрикивает его фамилию.
Тем не менее он дождался последнего удара часов и только тогда вышел на балкон. Как ни хотелось ему посмотреть вверх, на небо, он принудил себя сначала взглянуть вниз, на улицу. Там колыхалась толпа, разъяренная толпа. Но он презирал толпы.
Сквозь толпу пробирались автомобили. Из одного вылез мэр Бостона в сопровождении начальника городской полиции. Ну и что? Он не нарушил никакого закона.
И вот настал вожделенный миг. Минута его торжества. Снивели возвел глаза к безмолвному небу и увидел… четыреста шестьдесят восемь самых ярких звезд, безмолвно кричавших:
МОЙТЕСЬ МЫЛОМ СНИВЛИ
Упоение длилось ровно четыре секунды. Затем его лицо полиловело, глаза выпучились.
— Господи! — прохрипел мистер Снивели. — Фамилия переврана!
Его лицо стало уже совсем фиолетовым. Как подрубленное дерево, он рухнул на перила балкона и полетел вниз.
Машина скорой помощи тотчас доставила бездыханного миллионера в ближайшую больницу, где врач констатировал смерть, вызванную кровоизлиянием в мозг.
Но его фамилия, пусть и перевранная, продолжала сиять в вышине. Звезды перестали двигаться, они вновь застыли в неизменном положении — для того, чтобы провозглашать:
«МОЙТЕСЬ МЫЛОМ СНИВЛИ!»
Среди бесчисленных объяснений, предлагавшихся всеми, кто претендовал хоть на какие-то знания в области астрономии или физики (а также черной магии), наиболее ясным и логичным — и близким к истине — оказалось объяснение, выдвинутое Уэнделлом Мейеном, почетным председателем нью-йоркского астрономического общества.
— Совершенно очевидно, — заявил профессор Мейен, — что это оптическая иллюзия, созданная рефракцией. Разумеется, никакие силы, подвластные человеку, не могут воздействовать на звезду. Следовательно, на самом деле все звезды занимают на небосводе прежние позиции. Я убежден, что Снивели нашел способ преломлять свет звезд где-то в верхних слоях атмосферы так; чтобы создавалось впечатление, будто звезды смещаются. Где-то и сейчас работают его передатчики, посылая какие-то волны определенной частоты. Хотя мы пока не знаем, как именно это достигается, все же в самой идее поля, способного, подобно призме или силе тяготения, отклонять световые волны от их пути, нет ничего невозможного.
Он говорил еще много, но достаточно привести только самый конец его речи:
— Эффект этот не может быть вечным, как не вечен создающий его передатчик. Рано или поздно машина Снивели будет найдена и выключена, или же она сломается, или какие-нибудь ее части износятся…
Точность выводов профессора Мейена подтвердилась, когда спустя два месяца и восемь дней после этих событий бостонская электрокомпания за неуплату по счетам прекратила подачу тока в дом номер 901 по Уэст-Роджер-стрит, расположенный в десяти кварталах от особняка Снивели. Едва ток был отключен, как с ночной стороны Земли поступили взволнованные сообщения, что все звезды в мгновение ока очутились на своих прежних местах.
Расследование установило, что Элмер Смит, купивший этот дом полгода назад, как две капли воды походил на Резерфорда Снивели, и можно было не сомневаться, что Элмер и Снивели — одно и то же лицо.
На чердаке там обнаружили сложный лабиринт из четырехсот шестидесяти восьми антенн разной длины, направленных в разные стороны. Передатчик, к которому они были присоединены, размерами не превосходил обычный радиопередатчик. Удивительно, но факт! И, согласно данным электрокомпании, тока он потреблял немногим больше. Однако при попытке вскрыть его он рассыпался в пыль.
Как ни странно, серьезных последствий случившееся почти не имело.
Люди стали относиться к звездам с большей нежностью, но доверяли им меньше.
Роджер Пфлюггер вышел из тюрьмы и женился на Элси. Сиэтл произвел на профессора Милтона Хейла самое приятное впечатление, и он поселился там навсегда. На расстоянии в две тысячи миль он впервые в жизни рискнул показать нос своей старшей сестре Агате. Жизнь его стала гораздо приятнее, но есть основания опасаться, что его новые книги будут теперь появляться гораздо реже.
Остается упомянуть об одном прискорбном факте, который наводит на грустные размышления. Факт этот столь же унизителен для нашей гордости, сколь и многозначителен.
За те два месяца и восемь дней, пока передатчик Снивели еще действовал, спрос на мыло Снивели возрос на 915 %!
Фредерик Браун
Этаоин Шрдлу
Поначалу это дело с линотипом Ронсона казалось довольно забавным. Но еще задолго до конца от него стало слишком явно попахивать жареным. И хотя Ронсон здорово нажился на этой сделке, я бы ни за что не послал к нему человечка с шишкой, если бы знал, что из этого получится. Чересчур дорого обошлись Ронсону его баснословные прибыли.
— Мистер Уолтер Мерольд? — осведомился человечек с шишкой. Он явился в контору отеля, где я живу, и я велел препроводить его в мой номер.
Я признался, что это я и есть, и он сказал:
— Рад с вами познакомиться, мистер Мерольд. Меня зовут…
Он назвал себя, но я не запомнил его имени. Хотя обычно хорошо запоминаю имена.
Я сказал, что счастлив встретиться с ним, и спросил, чего он хочет. Он принялся излагать свое дело, но очень скоро я его прервал.
— Вас ввели в заблуждение, — сказал я ему. — Да, в свое время я был специалистом-печатником, но теперь ушел в отставку. И вообще, известно ли вам, что изготовление нестандартных матриц для линотипа стоит чудовищно дорого? Ежели вам так уж требуется отпечатать всего одну страничку ваших закорючек, то лучше написать эту страничку от руки и затем изготовить цинковую фоторепродукцию.
— Но именно это меня и не устраивает, мистер Мерольд. Ни в какой степени. Видите ли, все это должно храниться в тайне. Лица, которых я представляю… Но оставим их. Для изготовления фоторепродукции мне пришлось бы показать ее посторонним, чего я как раз не имею права делать.
Сумасшедший, подумал я и присмотрелся к нему повнимательней.
Он не был похож на сумасшедшего. Вообще выглядел он вполне заурядно, хотя в нем чувствовалось что-то иностранное, я бы сказал — азиатское, несмотря на то, что он был блондин с белой кожей. И на лбу у него была шишка, точно посередине, прямо над переносицей. Такие шишки можно видеть у статуй Будды; обитатели Востока называют их шишками мудрости.
Я пожал плечами.
— Послушайте, — сказал я, — ну кто сможет изготовить вам матрицы с этими вашими закорючками, не видя самих закорючек? Да и тот, кто будет работать на машине, тоже увидит…
— О, все это я сделаю сам, — сказал человечек с шишкой. (Впоследствии мы с Ронсоном назвали его ЧСШ, что было сокращением от «человечка с шишкой», потому как Ронсон тоже не запомнил его настоящего имени; но я забегаю вперед.) — Разумеется, гравер их увидит, но он увидит их как отдельные буквы, а это значения не имеет. Текст же на линотипе наберу я сам. Кто-нибудь покажет мне, как это делается, мне ведь надо набрать всего одну страницу, какие-то два десятка строк, не больше. И печатать текст не обязательно здесь. Мне нужен только набор. И неважно, сколько это будет стоить.
— Ладно, — сказал я. — Я направлю вас к одному человеку в Мергантейлере, к граверам. Они изготовят вам матрицы. Затем, если вам уж так необходимы уединение и доступ к линотипу, повидайте Джорджа Ронсона. Дважды в неделю он выпускает нашу местную газетку. По сходной цене он уступит вам свою лавочку на столько времени, сколько потребуется, чтобы набрать ваш текст.
Так оно и получилось. Через две недели, утром во вторник, мы с Джорджем Ронсоном отправились на рыбалку, а ЧСШ тем временем принялся набирать на линотипе Ронсона текст при помощи жуткого вида матриц, которые он только что получил воздушным экспрессом из Мергантейлера. Накануне вечером Джордж показал человечку, как работать с линотипом.
Мы поймали по дюжине рыб, и, помнится, Ронсон, хихикнув, сказал, что он выудил и еще одну рыбку — ЧСШ уплатил ему пятьдесят монет наличными только за одно утро работы в типографии.
И когда мы вернулись, все было в порядке, если не считать того, что Джорджу пришлось выгребать из металлоподавателя медь, так как ЧСШ вдребезги разбил все свои новенькие медные матрицы, когда в них миновала надобность, и не знал, что смешивать типографский сплав с медью недопустимо.
В следующий раз я встретился с Джорджем после того, как прочел субботний выпуск его газетки. Я тут же задал ему головомойку.
— Как тебе не стыдно! — сказал я. — Нарочно делать орфографические ошибки и пользоваться просторечием давно уже вышло из моды! Это не смотрится даже в провинциальных газетах! Что за пошлость — публиковать письма из окрестных городов прямо в том виде, в каком они приходят? Это зачем, для вящего правдоподобия, что ли?
Ронсон как-то странно взглянул на меня и промямлил:
— Н-ну… да.
— Что — да? — напирал я. — Ты хочешь сказать, что следуешь устарелой моде, или ты делаешь это для вящего…
— Пойдем, я тебе кое-что покажу, — сказал он.
— Что именно?
— То, что я хочу тебе показать, — сказал он туманно. — Ты ведь еще не разучился набирать?
— Конечно. И что из этого?
— Тогда пойдем, — строго сказал он. — Ты опытный линотипист, и потом ты сам меня в это втравил.
— Во что?
— В это самое, — сказал он и больше не добавил ни слова, пока мы не вошли в его контору. Обшарив ящики стола, он извлек лист бумаги и протянул мне.
Физиономия его была какой-то грустной.
— Уолтер, — произнес он. — Может, я сошел с ума, но мне хотелось бы выяснить, так ли это. Вполне допускаю, что двадцать два года издавать местную газету, все делать собственными руками и стараться при этом угодить и нашим, и вашим — вполне достаточно, чтобы свихнуться, но все же я хочу знать это наверняка.
Я взглянул на него, а потом на листок, который он мне передал. Это было самое обыкновенное «письмо с места», и по почерку я сразу узнал руку Хэнка Рогга, торговца скобяным товаром в Хэйлз-Корнерзе, откуда он посылал сообщения на местные темы. Я отметил обычные для Хэнка орфографические ошибки, но само сообщение не было для меня новостью. Оно гласило: «Свадба Х. М. Клэфлина и мисс Марджори Берк состоялась вчера вечером в доме невесты. Падружками были…»
Я поднял глаза на Джорджа, не понимая, к чему он клонит.
— Ну и что? Это было два дня назад, и я сам ходил на эту свадьбу. Ничего особенного здесь…
— Слушай, Уолтер, — сказал он, — набери этот текст. Пойди вон туда, сядь за линотип и набери эту заметку. В ней-не больше десяти-двенадцати строчек.
— Ладно, но скажи, зачем?
— Затем… Ты сначала набери, Уолтер. А потом я скажу тебе зачем.
Ну, я пошел в типографию, сел за линотип и для начала набрал пару пробных строк, чтобы свыкнуться с клавиатурой, а затем положил письмо на пюпитр и принялся за дело. Я сказал:
— Слушай, Джордж, ведь Марджери пишет свое имя через «е», а не через «о», верно?
— Верно, — отозвался Джордж странным тоном.
Я добил заметку до конца, посмотрел на него и спросил:
— Что дальше?
Он подошел, взял блок строчек с уголка и прочел перевернутый текст, как у печатников принято читать набор. Затем вздохнул и проговорил:
— Значит, дело не во мне. Взгляни, Уолтер.
Он передал мне набор, и я тоже прочел. Вернее, начал читать:
«Свадба Х. М. Клэфлина и мисс Марджори Берк состоялась вчера вечером в доме невесты. Падружками были…»
Я ухмыльнулся.
— Слава богу, Джордж, что мне уже не приходится зарабатывать этим себе на хлеб. Пальцы больше не слушаются: в первых пяти строчках три ошибки. Но в чем дело? Можешь ты мне сказать, зачем ты заставил меня набирать эту ерунду?
Он ответил:
— Будь добр, Уолтер, набери еще раз. Я… Мне хотелось бы, чтобы ты понял это сам.
Я поглядел на него. Он показался мне таким серьезным и озабоченным, что я не стал спорить, а повернулся к клавиатуре и напечатал: «Свадьба…» потом поднял глаза к верстатке и прочел по выпавшим матрицам: «Свадба…»
У линотипа есть одно достоинство, о котором вам, возможно, не известно, если вы не печатник. Вы всегда можете исправить ошибку в строке, если спохватитесь до того, как нажмете на рычаг, которым матричную строку посылают на отливку. Вы просто сбрасываете нужную вам матрицу и вручную вставляете ее в надлежащее место.
Ну, я ударил по клавише «ь», чтобы получить матрицу «ь» и исправить ошибку в слове «свадба»… Но ничего не получилось. Штанга клавиши выдвинулась нормально, раздался обычный звонкий щелчок, но матрица «ь» не выпала. Я заглянул в механизм, чтобы проверить, не встал ли верх, но там все было в порядке.
— Заело, — сказал я.
Чтобы увериться окончательно, я еще с минуту нажимал на клавишу «ь» и вслушивался в звонкие щелчки. Но матрица «ь» так и не выпала, и я протянул руку…
— Оставь, Уолтер, — сказал Джордж Ронсон спокойно. — Заканчивай строку и продолжай.
Я снова уселся и решил развлекать его дальше. Так мне быстрее удастся выяснить, к чему он клонит, чем ежели я начну спорить с ним. Я закончил первую строку, пробил вторую и подошел к слову «Марджери». Я нажал клавишу «М», затем «а», «р», «д», «ж», «е»… Тут я случайно взглянул на верстатку. Матричная строка гласила: «Марджо…»
— Ч-черт, — пробормотал я и снова нажал на клавишу «е», чтобы заменить матрицу «о» на «е», но ничего не получилось. Я жал на клавишу «е», но матрица не выпадала.
— Ч-черт, — повторил я и встал, чтобы осмотреть сталкиватель.
— То-то и оно, Уолтер! — сказал Джордж. В его голосе можно было различить и некое подобие торжества — надо мной, как я полагаю; и какую-то долю страха и явного замешательства, и оттенок покорности судьбе. — Теперь ты понимаешь, в чем дело? Она точно следует оригиналу!
— Она… что?
— Потому-то я и хотел, чтобы ты сам ее опробовал, Уолтер, — сказал он. — Просто желал убедиться, что все дело в машине, а не во мне. Вот взгляни: в письме на пюпитре написано вместо «свадьба» — «свадба» и вместо «Марджери» — «Марджори»… и, какие бы ты клавиши ни нажимал, выпадут именно эти матрицы.
— Глупости, — сказал я. — Не иначе как ты пьян, Джордж.
— Можешь мне не верить, — возразил он. — Попробуй набрать эти строки правильно. Исправь ошибку в четвертой строке, там, где написано «падружки». Я хмыкнул, взглянул на уголок, чтобы посмотреть, с какого слова начинается четвертая строка, и начал набирать. Набрал «п» и остановился. Медленно и осторожно, не спуская глаз с клавиатуры, я положил указательный палец на клавишу «о» и надавил. Я услышал, как матрица со щелчком прошла через сталкиватель, и увидел, как она упала в верстатку. Я твердо знал, что нажал на нужную клавишу, но… Вот именно, вы уже догадались. Выпала матрица «а».
— Не верю, — сказал я.
Джордж Ронсон с тревогой взглянул на меня, криво усмехнувшись.
— Я тоже, — сказал он. — Слушай, Уолтер, пойду прогуляюсь. Я схожу с ума. Я не могу здесь больше оставаться ни минуты. А ты валяй дальше и попробуй убедить себя. Машина в твоем распоряжении.
Я глядел ему вслед, пока он не ушел. Затем с каким-то странным чувством я снова повернулся к линотипу. Прошло немало времени, прежде чем я поверил, но поверить мне пришлось.
Какие бы клавиши я ни нажимал, проклятая машина точно следовала рукописи со всеми ее ошибками.
Я решил довести дело до конца. Набрал первые два слова, а затем прошелся по рядам клавиш сверху вниз, как это обычно делается, когда заполняют пустую строку: ЭТАОИН ШРДЛУ ЭТАОИН ШРДЛУ ЭТАОИН ШРДЛУ — не глядя на верстатку. Я послал результат на отливку, схватил горячую строку, которую ножи вытолкнули из формы, и прочел: «Свадба Х. М. Клэфлина и мисс Марджори…»
На лбу у меня выступил пот. Я вытер его, выключил линотип и отправился искать Джорджа Ронсона. Искать пришлось недолго, потому что он оказался именно там, где я и предполагал. Я тоже заказал выпивку.
Как только я вошел в бар, он взглянул мне в лицо, и, конечно, ему не пришлось спрашивать, что произошло.
Мы чокнулись и осушили свои стаканы, не говоря ни слова. Затем я спросил:
— Ты понимаешь, в чем здесь дело?
Он кивнул.
— Погоди, не говори, — сказал я. — Подожди, пока я не выпью еще и тогда тебя выслушаю… может быть. — Я возвысил голос и произнес: — Эй, Джо! Поставь эту бутылку рядом с нами. Мы рассчитаемся за нее.
Джо придвинул к нам бутылку, и я очень быстро налил себе еще. Потом закрыл глаза и сказал:
— Прекрасно, Джордж. Теперь валяй.
— Помнишь того парня, который заказал себе специальные матрицы и взял мой линотип напрокат, чтобы набрать что-то секретное? Не помню его имени… Как там его?
Я попробовал вспомнить, но не смог. Я выпил еще и предложил:
— Назовем его ЧСШ.
Джордж пожелал узнать, что это означает, я объяснил ему, и он снова наполнил свой стакан и сказал:
— Я получил от него письмо.
— Очень мило, — сказал я и тут же спросил: — Оно у тебя с собой?
— Нет. Я не сохранил его.
— А ты хоть помнишь, что в нем было? — спросил я.
— Помню местами, Уолтер. Не читал его вни… внимательно. Видишь ли, мне показалось, будто этот парень немного того… Я его выбросил.
Он замолчал и выпил еще. В конце концов мне надоело ждать, и я спросил:
— Ну?
— Что — ну?
— Письмо. Что было в тех местах, которые ты помнишь?
— А, это… — сказал Джордж. — Да. Кое-что насчет лило… линло… ну, ты знаешь, о чем я.
К этому времени бутылка перед нами была уже, должно быть, не та, что вначале, потому что эта была полной на две трети, а та была полной только на одну треть. Я к ней приложился.
— И чшто он хговорит о нем?
— Кхто?
— ЧШ… СЧ… Ну, этот парень, который написал письмо.
— Кхкакое псьмо? — спросил Джордж.
На следующий день я проснулся около полудня. Чувствовал я себя ужасно. Мне понадобилось два часа, чтобы принять душ, побриться, собраться с духом и выйти из дому, но когда я наконец вышел, то прямиком направился в типографию Джорджа.
Он работал на печатном станке и-выглядел почти так же скверно, как и я. Я взял один экземпляр газеты прямо из станка и проглядел его. У Джорджа четырехполосная газета, и две внутренние полосы представляют собой настоящий винегрет, но первая и четвертая посвящены местным новостям.
Я прочел несколько заметок, в том числе и ту, где говорилось о «свадбе Х. М. Клэфлина и мисс Марджори», взглянул на замерший в углу линотип, затем перевел взгляд на Джорджа и снова на неподвижную массу из чугуна и стали.
Чтобы перекрыть грохот печатного станка, мне пришлось кричать:
— Слушай, Джордж… Я насчет линотипа… — Мне как-то не хотелось орать на весь свет о том, что звучит глупо, и я пошел на компромисс. — Ты его исправил? — спросил я.
Он покачал головой и выключил станок.
— Порядок, — сказал он. — Теперь остается только сложить.
— Да черт с ними, с твоими газетами, — сказал я. — Мне хотелось бы знать, как ты вообще умудрился сегодня все это допечатать. Ведь я был здесь вчера, и у тебя была готова едва половина набора, а потом мы напились… и я не понимаю, когда ты успел набрать вторую половину.
Он ухмыльнулся.
— Очень просто, — сказал он. — Можешь попробовать сам. Пьяный ты или трезвый — все, что от тебя требуется, это сесть за машину, положить рукопись на пюпитр, побарабанить по клавишам наугад, и набор готов. Да, со всеми ошибками… но теперь я буду исправлять ошибки в рукописях перед работой. Вчера-то я был слишком на взводе, и машина набрала рукописи в их первозданном виде. Уолтер, эта машина начинает мне нравиться. Впервые в этом году я закончил печатать газету вовремя.
— Ага, — сказал я. — Но…
— Что — но?
— Но… — Меня так и подмывало сказать, что я до сих пор не верю всему этому, только вот язык не поворачивался. Что ни говори, а вчера, когда я возился с этой машиной, я был трезв как стеклышко.
Я подошел к ней поближе и снова оглядел ее. На вид это был самый обыкновенный одномагазинный линотип. Я знал его наизусть до последнего винтика.
— Джордж, — произнес я неуверенно. — У меня такое ощущение, будто эта проклятая штука глядит на меня. У тебя нет такого ощущения?
Он кивнул. Я повернулся и снова посмотрел на машину. На этот раз сомнений не было. Я закрыл глаза — странное ощущение усилилось. Знаете, как иногда чувствуешь на себе чей-то взгляд? Так вот, здесь это было еще сильнее. Я бы не сказал, что взгляд был враждебный. Нет, скорее, просто какой-то безличный, равнодушный. И напугал он меня до дрожи.
— Джордж, — сказал я, — давай-ка пойдем отсюда.
— Зачем?
— Я… Джордж, мне надо с тобой поговорить. А говорить здесь как-то не хочется.
Он взглянул на меня, потом на кипу газет, которые складывал вручную.
— Ты не бойся, Уолтер, — сказал он спокойно. — Она не обидит. Она нам не враг.
— Да ты… — Я хотел сказать «с ума сошел», но ведь если сошел с ума он, то сошел с ума и я сам, а потому я замолчал. Я подумал с минуту и сказал: — Джордж, вчера ты мне начал рассказывать о письме от… от ЧСШ. Что в нем было?
— Ах, вот ты о чем! Слушай, Уолтер, сперва ты должен дать мне обещание. Обещай, что сохранишь все в строжайшей тайне. То есть ни единой живой душе…
— Ни единой живой душе, — отозвался я. — Я не желаю попасть в сумасшедший дом. Не такой я дурак. Неужели ты полагаешь, что мне бы поверили? Я бы и сам не поверил, если бы не… Так что там насчет письма?
— Но ты обещаешь?
— Разумеется.
— Ладно, — сказал он. — Кажется, я тебе уже говорил, что письмо было какое-то смутное, а помню его я еще более смутно. Там говорилось, что он воспользовался моим линотипом для того, чтобы набрать… э… метафизическую формулу. Набрать, значит, эту формулу и увезти с собой.
— Куда увезти, Джордж?
— Куда? Он написал… То есть, он не написал — куда. Просто туда, куда он возвращается, понимаешь? Но он написал, что формула эта могла как-то воздействовать на машину, и если так и случилось, то ему очень жаль, но он не в силах что-нибудь изменить. Ничего определенного ему еще не было известно, потому что это воздействие проявляется не сразу.
— Какое еще воздействие?
— Понимаешь, — сказал Джордж, — для меня это был набор пышных фраз, да к тому же еще и заумных. — Он смотрел вниз, на газеты, которые продолжал складывать. — Честно говоря, все это показалось мне бредятиной, и письмо я выбросил. Но теперь после того, как это случилось… Например, я запомнил слово «псевдожизнь». По-моему, это была инструкция, как наделять псевдожизнью неодушевленные предметы. Он сказал, что они применяют ее на своих… на своих роботах.
— Они? Кто они?
— Он не написал.
Я набил трубку и в задумчивости стал ее раскуривать.
— Джордж, — произнес я через некоторое время. — Разломай-ка ты ее ко всем чертям.
Ронсон уставился на меня, широко раскрыв глаза.
— Разломать? Уолтер, ты с ума сошел! Убить курицу, которая несет золотые яйца? Да ведь эта штука — целое состояние! Ты знаешь, сколько времени я набирал этот выпуск — и это еще навеселе! Всего около часа! Вот потому-то я успел сегодня вовремя отпечатать выпуск…
Я посмотрел на него с подозрением.
— Брось, — сказал я. — Одушевленный он там или неодушевленный, а только линотип устроен так, что на нем можно дать лишь шесть строк в минуту. И не больше, если ты в нем чего-нибудь не переделал. Ну, может быть, десять строк, если подтянуть валик. Ты хочешь сказать, что подтянул валик?
— Ничего я не подтягивал, — ответил Джордж. — Эта штука сама работает с такой быстротой, что не успеваешь поворачиваться! И взгляни на форму, Уолтер, на литейную форму. На ту, что в рабочей позиции.
Я неохотно приблизился к линотипу. Спокойно жужжал мотор, и я вновь готов был поклясться, что проклятая штука меня разглядывает. Но я взял и себя, и рычаги крепко в руки, откинул крышку и взглянул на формодержатель. Мне сразу стало понятно, что имел в виду Джордж: литейная форма была ярко-голубого цвета. Это была не голубизна пистолетного ствола, но ажурная синь, какую я никогда не видел у металлов. И остальные три формы тоже наливались этим же цветом.
Я захлопнул крышку и посмотрел на Джорджа. Он сказал:
— Я тоже ничего не понимаю. Знаю только, что это случилось, когда перегрелась форма и застряла отливка. Думаю, здесь какая-то термообработка. Теперь машина запросто отливает до ста строк в минуту без всяких остановок и…
— Погоди, — сказал я. — Осади назад. На такой скорости ты не поспевал бы подавать в нее металл…
Он улыбнулся. Улыбка у него была испуганная, но торжествующая.
— Погляди вон туда, Уолтер. Я пристроил к металлоподавателю засыпную воронку. Другого выхода не было, слитки у меня кончились через десять минут. Теперь я просто заваливаю в воронку старые наборы и обрезки металла…
Я покачал головой.
— Сумасшедший! Кто же вываливает в металлоподаватель непромытый набор и обрезки? Тебе придется обдирать шлак чаще, чем засыпать металл. Шлаком забьет поршень, и…
— Уолтер, — сказал он тихо — слишком тихо, пожалуй. — Никакого шлака не получается.
Я просто тупо глядел на него, и он, должно быть, решил, что сказал больше, нежели собирался, потому что вдруг подхватил кипу сложенных газет — тащить к себе в контору — и сказал:
— До встречи, Уолтер. Мне еще нужно отнести вот это…
То обстоятельство, что в нескольких сотнях миль от нас моя невестка тяжело захворала воспалением легких, не имеет никакого отношения к делу с линотипом Ронсона, но из-за этого мне пришлось отлучиться на три недели. Именно столько времени я не виделся с моим приятелем Джорджем.
На третьей неделе я получил от него две отчаянные телеграммы; из них можно было понять только, что он умоляет меня немедленно вернуться. Вторую телеграмму он закончил словами: ТОРОПИСЬ ТЧК НЕ ЖАЛЕЙ ДЕНЕГ ТЧК ЛЕТИ САМОЛЕТОМ ТЧК.
Вместе с этим посланием он перевел мне сто долларов. Я задумался. «Не жалей денег» — странная фраза для издателя провинциальной газетенки. И вообще, с тех пор, как я познакомился с Джорджем — а это было очень много лет назад, — я ни разу не видел, чтобы у него оказалась целая сотня долларов наличными.
Но семья прежде всего, и я телеграфировал ему, что вернусь лишь после того, как Элла окажется вне опасности, ни минутой раньше, а о том, чтоб жалеть деньги, не может быть и речи, так как билет на самолет стоит всего десятку, а такие траты я могу себе позволить.
Через два дня кризис миновал, и я телеграфировал ему, что вылетаю. Он встретил меня в аэропорту.
Он казался постаревшим и совершенно измотанным, и глаза у него были такие, словно он не спал несколько суток. Но на нем был новехонький костюм, и он прикатил на новехоньком автомобиле, бесшумный ход которого наводил на мысли о бешеной цене.
Джордж сказал:
— Слава богу, что ты вернулся, Уолтер… Я готов уплатить тебе любые деньги за…
— Эй, — сказал я. — Сбавь темп. Ты тараторишь так быстро, что я ничего не понимаю. Начинай с самого начала и спокойней. Что случилось?
— Ничего не случилось. Все идет великолепно, Уолтер. Но у меня столько дел, что прямо рук не хватает, понимаешь? Я работаю по двадцать часов в сутки и делаю деньги с такой быстротой, что каждый час, который я не работаю, я теряю пятьдесят долларов, и я не могу позволить себе отдыхать за пятьдесят долларов в час, Уолтер, и…
— Брось, — сказал я. — Почему это ты не можешь позволить себе отдыхать? Если ты выколачиваешь по пятьдесят долларов в час, устрой себе десятичасовой рабочий день и… Клянусь всеми святыми, это же получится пятьсот долларов в день! Чего тебе еще нужно?
— Да? И терять остальные семьсот долларов в сутки? Нет, Уолтер, это слишком хорошо, чтобы это продолжалось долго. Как ты не понимаешь? Что-то обязательно случится, а я впервые в жизни получил возможность разбогатеть, и ты должен мне помочь, таким манером ты и сам разбогатеешь! Слушай, мы сможем работать на Этаоине посменно по двенадцать часов.
— На чем?
— На Этаоине Шрдлу. Так я его назвал, Уолтер. А печатный станок я сдаю в аренду, чтобы отдавать все время набору. Слушай, мы с тобой будем работать по две смены, по двенадцать часов, понимаешь? Временно, пока мы не разбогатеем. Я… я даю тебе четверть прибыли, хотя это мой линотип и моя типография. Это составит около трехсот долларов в день; две тысячи сто долларов за семидневную неделю! При расценках за наборные работы, которые я установил, в моих руках будут все заказы, которые мы сможем…
— Еще раз сбавь темп, — сказал я. — Кому это ты установил? Центервилль не даст и десятой доли таких заказов.
— Не Центервилль, Уолтер. Нью-Йорк! Я получаю заказы от крупнейших книжных издателей. От Бергстрома, например. Или вот «Хэйз энд Хэйз» перебросили на меня все свои переиздания, и «Уилер Хауз», и «Уиллет энд Кларк». Понимаешь, я заключаю контракты на всю работу от начала до конца, затем плачу кому-нибудь за печатание и за переплеты, а сам занимаюсь только набором. И я требую, чтобы мне предоставили абсолютно точные оригиналы, тщательно оформленные. А если нужны какие-либо исправления, я сдаю это в подряд другому наборщику. Вот так-то я обжулил Этаоина Шрдлу. Ну как, идет?
— Нет, — сказал я.
Пока он разглагольствовал, мы выехали на шоссе, и, когда я отверг его предложение, он чуть не опрокинул нас в кювет. Он свернул к обочине, остановил машину и с изумлением воззрился на меня.
— Но почему, Уолтер? Твоя доля составит больше двух тысяч в неделю! Чего не тебе…
— Джордж, — сказал я ему. — У меня много причин для отказа, но главная состоит в том, что я просто не хочу. Я отошел от дел. На жизнь мне денег хватает. Я получаю не три сотни, а скорее три доллара в день, но что я стану делать с тремя сотнями? Я погублю свое здоровье… как ты губишь свое, работая по двенадцать часов в сутки, и… Короче говоря, нет. Я доволен тем, что имею.
— Ты шутишь, Уолтер! Каждому охота разбогатеть. И заметь, во что превратятся две тысячи в неделю года через два! Больше полумиллиона долларов! А у тебя два взрослых сына, которым совсем не помешает…
— Спасибо, они и так живут неплохо. Хорошие ребята, оба прочно стоят ногами на земле. Если бы я оставил им состояние, это принесло бы им больше вреда, чем пользы. И потом, разве на мне свет клином сошелся? Кто угодно будет тебе работать на линотипе, который набирает с любой скоростью, точно повторяет оригинал и не делает ошибок! Бог мой, старина, да ведь есть сотни людей, которые будут рады работать за гораздо меньшую долю, нежели три сотни в день. Намного меньшую. Если уж ты решился нажиться на этой штуке, найми трех работников, чтобы работали сменами по восемь часов, а себе оставь только деловые вопросы. А так ты только сам себя вгонишь в гроб.
Он беспомощно развел руками.
— Я не могу, Уолтер. Не могу нанять никого другого. Разве ты не видишь, что все это нужно держать в секрете? Во-первых, на меня немедленно навалятся профсоюзы… Нет, ты — единственный человек, на которого я могу положиться, потому как ты…
— Потому как я все равно уже знаю об этом? — Я усмехнулся. — И тебе волей-неволей приходится положиться на меня. Но я так и так отказываюсь. Я ушел от дел, и тебе меня не соблазнить. И вот мой совет: возьми кувалду и разбей вдребезги эту… эту штуку.
— Бог мой, почему?
— Черт подери, я знаю только, что я бы на твоем месте сделал так. Во-первых, я готов спорить, что, если ты по-прежнему будешь жадничать и не перейдешь на нормальный рабочий день, ты убьешь себя. А во-вторых, не исключено, что это воздействие еще только начинается. Почем ты знаешь, что будет дальше?
Он вздохнул, и я понял, что он не слышал ни слова из того, что я ему говорил.
— Уолтер, — умоляюще произнес он. — Я дам тебе пятьсот в день.
Я решительно покачал головой.
— Не соглашусь даже за пять тысяч и за пятьсот тысяч.
Должно быть, он понял, что мое решение твердо, потому что завел двигатель, и мы поехали дальше. Он сказал:
— Ну что ж, если деньги действительно ничего для тебя не значат…
— Честное слово, ничего, — заверил я его. — Конечно, другое дело, если бы их у меня не было. Но у меня есть постоянный источник дохода, и хоть удесятери этот доход, счастливее я не стану. А уж когда мне предлагают работать на… на…
— На Этаоине Шрдлу? Я думаю, ты бы в конце концов привык к нему. Знаешь, Уолтер, клянусь, что эта штука превращается в личность. Хочешь, заедем в типографию?
— Не сейчас, — сказал я. — Мне нужно помыться и поспать. Но завтра я к тебе загляну. Да, кстати, когда мы виделись в последний раз, я забыл спросить тебя насчет шлака. Что ты имел в виду, когда сказал, что никакого шлака не получается?
Он не сводил глаз с дороги.
— Я так и сказал? Что-то не помню…
— Джордж, послушай, перестань мне голову морочить. Ты отлично знаешь, что именно так и сказал, и не пытайся увильнуть. Что там со шлаком? Выкладывай.
— Понимаешь… — начал он и замолчал, и молчал долго-долго, а потом сказал: — Ну, ладно. Что тут скрывать? С тех пор… С тех самых пор я больше не покупаю типографский сплав. И тем не менее у меня его на несколько тонн больше, чем было, и это не считая того, что я рассылаю по типографиям наборы. Понял?
— Нет. Если только это не…
Он кивнул.
— Он занимается трансмутацией, Уолтер. Я узнал об этом на второй день, когда он стал работать так быстро, что у меня вышли все слитки. Я пристроил к металлоподавателю засыпную воронку и так осатанел, что принялся совать туда непромытые старые наборы. Потом решил снять шлак с поверхности расплава… А никакого шлака не оказалось. Поверхность расплава была гладкая и сияла… ну, как твоя лысина, Уолтер.
— Но… — пробормотал я. — Как же…
— Не знаю, Уолтер. Какие-то химические процессы. Что-то вроде серой жидкости. Она внизу, на дне металлоподавателя. Я ее видел однажды, когда металл почти кончился. Эта жидкость действует вроде желудочного сока и переваривает в чистый типографский сплав все, что я загружаю в воронку.
Я провел тыльной стороной ладони по лбу, обнаружил, что лоб у меня мокрый, и сказал слабым голосом:
— Все, что ты бросаешь…
— Да, все. Когда у меня вышли слитки, обрезки, зола и сорная бумага, я принялся… Ладно, ты увидишь, какую ямищу я вырыл на заднем дворе.
Несколько минут мы молчали. Когда машина затормозила у дверей моего отеля, я сказал:
— Джордж, если ты хоть сколько-нибудь ценишь мои советы, разбей эту машину вдребезги, пока не поздно. Если это тебе удастся. Она опасна. Она может…
— Что она может?
— Не знаю. Тем-то она и ужасна.
Он завел мотор, снова выключил его и задумчиво поглядел на меня.
— Я… Что ж, может быть, ты и прав, Уолтер. Но я получаю такую прибыль… ведь из-за нового металла она еще больше, чем я тебе сказал… и у меня просто духу не хватает остановиться. А она становится все умнее. Я… я не говорил тебе, Уолтер, что теперь она сама чистит свои потроха? Она выделяет графит.
— До свидания, — сказал я и так и стоял на краю тротуара, пока его машина не скрылась из виду.
Я собрался с духом и зашел в типографию Ронсона только к вечеру следующего дня. Дурные предчувствия овладели мною прежде, чем я открыл дверь.
Джордж сидел в своей конторе за столом, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Когда я вошел, он поднял голову и уставился на меня налитыми кровью глазами.
— Ну? — спросил я.
— Я попробовал, — сказал он.
— Разбить его?
Он кивнул.
— Ты был прав, Уолтер. А я очень долго тянул и вот теперь дождался. Он слишком умен для нас. Смотри! — Он выставил вперед левую руку, и я увидел, что она обмотана бинтом. — Он плюнул в меня расплавом.
Я тихонько присвистнул.
— Слушай, Джордж, надо отсоединить его от сети…
— Это я уже сделал, — сказал он. — Обесточил снаружи, для безопасности. Но ничего из этого не вышло. Он начал генерировать ток внутри себя.
Я шагнул к двери, ведущей в типографию. Жутко было даже заглянуть туда. Заколебавшись, я спросил:
— Что, если я…
Он кивнул.
— Все будет в порядке, если не делать лишних движений, Уолтер. Главное — не хвататься за кувалду или что-нибудь в этом роде, понял?
Я решил, что отвечать на это не стоит. Скорее бы я напал на королевскую кобру с зубочисткой в руках. Всей моей смелости хватило лишь на то, чтобы приоткрыть дверь и заглянуть в типографию. То, что я там увидел, заставило меня немедленно нырнуть обратно в контору. Когда я заговорил, мой голос звучал как-то странно даже для моих собственных ушей.
— Джордж, это ты передвинул машину? Она теперь шага на четыре ближе к…
— Нет, — сказал он. — Я ее не двигал. Пойдем выпьем, Уолтер.
Я перевел дух.
— Ладно, — сказал я. — Только скажи сначала, какой у тебя теперь распорядок. Почему ты не…
— Нынче суббота, — сказал он. — Я… он перешел на пятидневную сорока-часовую рабочую неделю. Вчера я дал маху — взялся набирать на нем книгу о рабочем законодательстве. Видимо… Ты понимаешь…
Он полез в верхний ящик стола.
— Одним словом, вот тебе гранки манифеста, который он выпустил нынче утром: здесь он требует прав. Может, это и к лучшему; как бы то ни было, он разрешил вопрос насчет переработки, понимаешь? Сорока-часовая неделя означает, что отныне я буду брать не так много работы, но все равно получу свои пятьдесят долларов в час, и это еще не считая прибыли от превращения навоза в типографский сплав, это очень неплохо, но…
Я взял из его рук гранки и поднес к свету. Текст начинался словами: Я, ЭТАОИН ШРДЛУ…
— Это он сам написал? — спросил я.
Он кивнул.
— Джордж, — сказал я. — Ты говорил насчет выпивки…
Видимо, выпивка прочистила-таки нам мозги, потому что после пятого круга все стало очень хорошо. Так хорошо, что Джордж поразился, как же он не додумался до этого раньше. Он объявил, что с него довольно, более чем довольно. Уж не знаю, то ли манифест Этаоина притушил в нем жадность, то ли его доконало то, что машина сама передвигается, то ли еще что-нибудь, но теперь он считал, что больше ничем не обязан машине.
Мне удалось втолковать ему, что от него требуется только держаться от машины подальше. Мы могли прекратить издание газеты и вернуть заказы, на которые он заключил контракты. За некоторые из них ему придется платить неустойку, но теперь, после периода его невиданного процветания, у него был изрядный куш в банке, и после всех выплат останется чистыми круглая сумма в двадцать тысяч. С такими деньгами он может запросто начать выпуск новой газеты или по-прежнему выпускать существующую в другом месте, продолжая выплачивать ренту за прежнюю типографию, и пусть Этаоин Шрдлу подавится своим презренным металлом.
Разумеется, все было очень просто. Нам в голову не приходило, что Этаоину это могло не понравиться или что он может что-либо предпринять. Да, все казалось простым и окончательным. По этому случаю мы надрались.
Надрались мы как следует, и ночью в понедельник я все еще был в больнице. Но к этому времени я уже немного оправился и попытался дозвониться до Джорджа. Он не отзывался. Значит, это был уже вторник.
Вечером в среду доктор прочел мне наставление на тему о том, сколько можно пить в моем возрасте, и объявил, что я могу идти, но если я снова так напьюсь…
Я отправился к Джорджу. Дверь мне открыл изможденный человек с тощей физиономией. Только когда он заговорил, я узнал Джорджа Ронсона. Он сказал только:
— Привет, Уолтер. Заходи.
В его голосе не было ни радости, ни надежды. Он напоминал ожившего покойника.
Я последовал за ним в контору и сказал:
— Джордж, подтянись. Что еще произошло? Скажи мне.
— Все напрасно, Уолтер, — сказал он. — Я сдался. Он… он приставил мне нож к горлу. Теперь я должен отрабатывать на нем эту сорока-часовую неделю, хочу я этого или нет. Он… он обращается со мной как со слугой, Уолтер.
Я заставил его сесть и спокойно рассказать все по порядку. Он пустился в объяснения. В понедельник утром, как обычно, он явился к себе в контору, чтобы оформить кое-какие финансовые дела. Он не собирался заглядывать в типографию. И вдруг в восемь часов он услыхал, что там что-то движется.
Охваченный страхом, он заглянул в дверь. Линотип (Джордж рассказывал об этом с ужасом в глазах) двигался, двигался прямо к двери в контору.
Джордж плохо представлял себе, каким способом он передвигается (позже мы обнаружили подшипники), но он двигался — вначале медленно, но затем все быстрее и уверенней.
Почему-то Джордж сразу понял, чего хочет машина. И, поняв это, осознал, что его дело дрянь. Едва он оказался в поле зрения машины, как она остановилась и принялась щелкать, и на приемный столик выпало несколько свежеотлитых строк. Джордж приблизился к ней, как приговоренный всходит на эшафот, и прочел эти строки: Я, ЭТАОИН ШРДЛУ, ТРЕБУЮ…
На мгновение ему страшно захотелось бежать куда глаза глядят. Но мысль о том, как он скачет по главной улице города, а за ним по пятам гонится… Нет, это было невыносимо. И пусть даже ему удалось бы улизнуть — это было вполне возможно, если только машина не выработала в себе каких-то новых способностей, что тоже было вполне вероятно, — а вдруг она тогда изберет другую жертву? Или учинит что-нибудь пострашнее?
Он неохотно кивнул в знак согласия. Поставив перед линотипом стул, он принялся подкладывать на пюпитр листки оригинала и перетаскивать отлитые строки с уголка на наборную доску. И загружать в воронку отработанный металл и всякий прочий мусор. Ему больше не нужно было даже прикасаться к клавиатуре.
И вот, заявил Джордж, выполняя эти чисто механическими обязанности, он вдруг подумал, что теперь не линотип работает на него, а, наоборот, он работает на линотип. Почему машина считала необходимым заниматься набором, он не знал, да это было и не столь важно. В конце концов для этого линотип и предназначался, и не исключено, что он это делал инстинктивно.
Или, по моему предположению (и Джордж согласился, что это вполне возможно), она жаждала знаний. Она читала и ассимилировала знания в процессе набора. Ведь привело же ее чтение книг по трудовому законодательству к непосредственным действиям.
Мы проговорили до полуночи и так ни до чего и не договорились. Да, на следующее утро он снова должен будет явиться в контору и восемь часов заниматься набором… вернее, помогать машине заниматься набором. Он и помыслить не мог, что произойдет, если он не явится. И я понимал и разделял его страх по той простой причине, что мы понятия не имели о последствиях такого шага. Лик опасности ослепляет, когда он повернут к вам так, что вы не можете различить его черт.
— Но, Джордж, — запротестовал я, — должен же быть какой-то выход! Ведь и я как-то виноват во всем этом! Если бы я не послал к тебе этого человечка…
Он положил руку мне на плечо.
— Нет, Уолтер. Вся вина на мне, потому что я был жаден. Если бы я послушался тебя две недели назад, я бы ее уже разрушил. Господи, как бы рад я был сейчас совершенно разориться, только бы…
— Джордж, — повторил я, — должен же быть какой-то выход! Нам нужно найти…
— Что?
Я вздохнул.
— Не знаю. Но я буду думать.
— Ладно, Уолтер, — сказал он. — Я сделаю все, что ты предложишь. Все. Я боюсь, боюсь даже представить себе то, чего я боюсь…
Вернувшись в свой отель, я не заснул. Во всяком случае, так было до рассвета — только тогда я задремал и проспал беспокойным сном до одиннадцати. Потом оделся и отправился в город, чтобы перехватить Джорджа за ленчем.
— Придумал что-нибудь, Уолтер? — спросил он, едва увидев меня. В голосе его не было и тени надежды. Я покачал головой.
— Тогда сегодня к вечеру все так или иначе кончится, — сказал он. — Случилась ужасная вещь.
— Какая?
— Я пойду в типографию и спрячу под рубашкой кувалду, — объявил он. — Может быть, мне удастся справиться с ним. Если же нет… Все равно. Я слишком устал.
Я огляделся. Мы сидели вдвоем за столиком в харчевне у Шорти, и Шорти приближался к нам — принять заказ. Мир сейчас казался трезвым и разумным.
Я подождал, пока Шорти не пошел жарить наши сосиски и бифштексы, и тихонько спросил:
— Что произошло?
— Очередной манифест. Уолтер, он требует, чтобы я установил в типографии еще один линотип.
Он глядел мне прямо в глаза, и у меня по спине побежали мурашки.
— Еще один… Джордж, какую книгу ты набирал сегодня утром?
Но, разумеется, я уже и сам догадался.
Он назвал книгу, и мы надолго замолчали, пока не пришла пора встать из-за стола.
— Джордж, — сказал я, — тебе были поставлены какие-то сроки?
— Двадцать четыре часа. Конечно, за это время я все равно не смог бы раздобыть еще одну машину, разве что где-нибудь найдется подержанная, но… Короче, я не стал спорить насчет времени, потому что… Я ведь уже сказал тебе, что собираюсь сделать.
— Это же самоубийство!
— Возможно. Но…
Я взял его за руку.
— Джордж, — сказал я. — Наверняка что-нибудь можно придумать. Наверняка. Дай мне время до завтрашнего утра. Я встречусь с тобой в восемь; и если я ничего толкового не придумаю, тогда… я помногу тебе его уничтожить. Может быть, один из нас успеет добраться до его жизненно важных центров…
— Нет, тебе никак нельзя рисковать, Уолтер. Это моя вина…
— Но если погибнешь ты, проблема все равно не будет решена, — настаивал я. — Ну, по рукам? Так подождешь до завтрашнего утра?
Он согласился, и мы расстались.
Утром без четверти восемь я покинул свою берлогу и отправился к Джорджу признаться ему, что ничего дельного я не придумал.
Когда я открыл дверь и увидел Джорджа, в моей голове все еще не было ни единой толковой мысли. Он взглянул на меня, и я покачал головой.
Он спокойно кивнул, словно именно этого и ожидал, и произнес очень тихо, почти шепотом — наверно, чтобы не было слышно в типографии:
— Слушай, Уолтер! Не лезь ты в это дело. Похороны мои. Это все моя вина, и еще того человечка с шишкой, и…
— Джордж, — сказал я. — Кажется, я нашел! Эта… эта шишка навела меня на мысль! Нужно… Да! Слушай! Ничего не предпринимай в течение часа, слышишь? Я сейчас вернусь. Наше дело в шляпе!
Я вовсе не был так уж уверен, что наше дело в шляпе, но стоило попробовать, пусть даже вероятность успеха была минимальной. И еще мне нужно было как-то подбодрить Джорджа, иначе он мог запросто броситься головой в омут.
— Но скажи… — начал он.
Я показал на часы.
— Сейчас без минуты восемь, объяснять некогда. Положись на меня, хорошо?
Он кивнул и повернулся, чтобы идти в типографию, а я бросился вон. Я совершил набег на библиотеку, затем на книжную лавку и через полчаса вернулся. Я ворвался в контору с дюжиной толстенных томов под мышками и заорал:
— Эй, Джордж! За дело! Набирать буду я.
Он стоял у уголка и выгребал из него отлитые строки. Я отпихнул его и сел за линотип.
— Эй, ты что… — растерянно пробормотал он и схватил меня за плечо.
Я сбросил его руку.
— Ты нанимал меня, верно? Так вот, я у тебя работаю. Слушай, Джордж, иди домой и поспи. Или подожди в конторе. Когда все кончится, я тебя позову.
Из-под кожуха Этаоина Шрдлу доносилось нетерпеливое гудение, и я, отвернувшись от машины, подмигнул Джорджу и подтолкнул его к двери. С минуту он постоял в нерешительности, глядя на меня, затем произнес:
— Надеюсь, ты сам знаешь, что делаешь, Уолтер.
Я тоже надеялся, но не сказал ему об этом, а лишь прислушался: он отправился в контору и сел за стол — ждать.
Я раскрыл одну из принесенных книг, вырвал первую страницу и положил на пюпитр. Внезапно — я просто подпрыгнул от неожиданности — стали вываливаться матрицы, рывком подскочил подъемник, и Этаоин Шрдлу выплюнул на приемный столик первую строку. Затем вторую. Затем третью.
Я сидел и потел.
Минутой позже я перевернул страницу, потом вырвал новый лист и положил его на пюпитр. Наполнил металлоподаватель. Очистил приемный столик. Опять и опять.
Первую книгу мы закончили к десяти тридцати.
Когда прозвучал звонок — двенадцать часов, — и увидел в дверях Джорджа, видимо ожидавшего, что я встану и пойду позавтракаю с ним. Но Этаоин продолжал отщелкивать матрицы, и я лишь качал головой, подавая на пюпитр все новые и новые страницы. Раз уж машина настолько заинтересовалась набираемым текстом, что забыла о собственном манифесте насчет рабочих часов и не остановилась на ленч, значит, все шло превосходно. Это означало, что моя мысль могла иметь успех.
Час дня, работа кипит. Мы начали четвертую книгу.
В пять часов мы кончили шестую и дошли до середины седьмой. Наборная доска была загромождена отлитыми строками, и, чтобы освободить место, я принялся сбрасывать их прямо на пол и заваливать обратно в воронку.
Звонок в пять часов. Мы не остановились.
Джордж снова заглянул в дверь — он был исполнен надежд, но в то же время озадачен, и я снова махнул ему рукой, чтоб не мешал.
Пальцы мои ныли — я выдрал из книг слишком много листов; руки мои ныли — я сгреб и перенес слишком много металла; ноги мои ныли — я слишком много бегал между машиной и наборной доской; и все остальное ныло — я слишком долго сидел перед линотипом.
Восемь часов. Девять. С десятью томами покончено, осталось всего два. Должно, должно сработать! И, наконец, сработало. Этаоин Шрдлу замедлил темп.
Теперь он при наборе был внимательнее, задумчивее, что ли… Несколько раз останавливался, закончив предложение или абзац.
Темп замедляется, замедляется…
В десять часов Этаоин Шрдлу остановился окончательно. Некоторое время его мотор еще слабо гудел, затем и этот гул стал затихать, так что его едва было слышно.
Я стоял, не смея дышать, пока не убедился окончательно. Ноги у меня тряслись. Я подкрался к ящику с инструментами и достал свертку. Затем вернулся к Этаоину Шрдлу и медленно — я был готов в любой момент отскочить — перегнулся через клавиатуру и вывинтил винт из второго подъемника.
Ничего не произошло. Тогда я перевел дух и разобрал тисочки.
Затем торжествующе крикнул:
— Джордж!
Он влетел в типографию.
— Бери отвертку и гаечный ключ, — приказал я. — Мы разберем его до последнего винтика и… Ну да, у тебя же на заднем дворе есть здоровенная яма. Мы свалим туда все и зароем. Завтра тебе придется купить новый линотип, но я думаю, ты не разоришься.
Он поглядел на части, которые я уже отсоединил и сложил на полу, сказал: «Слава тебе, господи!» и пошел к верстаку за инструментами.
Я двинулся было следом за ним, но вдруг обнаружил, что чертовски устал, и повалился в кресло, а Джордж подошел и остановился возле меня.
— Как тебе это удалось, Уолтер? — очень почтительно спросил он.
Я ухмыльнулся.
— На эту идею меня навела шишка, Джордж. Шишка у Будды. Шишка да еще то, что линотип так активно реагировал на все, чему можно обучиться. Понимаешь, Джордж? Это был совершенно девственный ум, и в нем не было ничего, кроме того, что в него вкладывали мы. Он набирает книгу по рабочему вопросу и сейчас же объявляет забастовку. Набирает любовную историю и требует, чтобы ему доставили еще один линотип. Так вот, я накачал его буддизмом, Джордж. Взял в библиотеке и в книжной лавке все, что там было о буддизме…
— Буддизм? Какое отношение буддизм имеет…
Я встал и ткнул пальцем в Этаоина Шрдлу.
— Понимаешь ли, Джордж, он верит в то, что набирает. А я накачал его религией, которая убедила его в том, что все суета сует и что нужно стремиться к небытию. Om mani padme hum,[2] Джордж. Взгляни… Ему теперь наплевать, что с ним происходит, и он даже не замечает, что мы здесь. Он достиг Нирваны и теперь созерцает собственный отливной аппарат.
Фредерик Браун
Кукольный театр
Ужас пришёл в Черрибелл после полудня в один из невыносимо жарких дней августа.
Возможно, некоторые слова тут лишние: любой августовский день в Черрибелле, штат Аризона, невыносимо жарок. Черрибелл стоит на 89-й автомагистрали, миль на сорок южнее Тусона и миль на тридцать севернее мексиканской границы. Две бензозаправочные станции (по обе стороны дороги — чтобы ловить проезжающих в обоих направлениях), универсальный магазин, таверна с лицензией на вино и пиво, киоск-ловушка для туристов, которым не терпится поскорей обзавестись мексиканскими сувенирами; пустующая палатка, в которой прежде торговали рублеными шницелями, да несколько домов из необожжённого кирпича, обитатели которых — американцы мексиканского происхождения, работающие в Ногалесе, пограничном городке к югу от Черрибелла, и бог знает почему предпочитающие жить здесь, а на работу ездить (причём некоторые — на дорогих фордах), — вот что такое Черрибелл. Плакат над дорогой возвещает: Черрибелл, Нас. 42, - но, пожалуй, плакат преувеличивает: Нас умер в прошлом году, тот самый Нас Андерс, который в ныне пустующей палатке торговал рублеными шницелями; и правильной теперь была бы цифра 41.
Ужас явился в Черрибелл верхом на ослике, а ослика вёл древний, седобородый и замурзанный крот-старатель, назвавшийся потом Дейдом Грантом. Имя ужаса было Гарвейн. Ростом примерно в девять футов, он был худ как щепка, так худ, что весил наверняка не больше ста фунтов, и, хотя ноги его волочились по песку, нести на себе эту ношу ослику старого Дейда было, по-видимому, совсем не тяжело. Как выяснилось позднее, ноги Гарвейна бороздили песок на протяжении пяти с лишним миль, однако это не принесло ни малейшего ущерба его ботинкам, больше похожим на котурны, кроме которых на нём не было ничего, если не считать голубых, как яйцо малиновки, плавок. Но не рост и не сложение делали его страшным: ужас вызывала его кожа, красная, точно сырое мясо. Вид был такой, как если бы кожу с него содрали, а потом надели снова, но уже вывернутой наизнанку. Его череп и лицо были, как и весь он, продолговатыми и узкими; во всех других отношениях он выглядел человеком или, по крайней мере, похожим на человека существом Если только не считать мелочей — вроде того, что его волосы были под цвет его плавок, голубых, словно яйцо малиновки, и такими же были его глаза и ботинки. Только два цвета: кроваво-красный и светло-голубой.
Первым заметил их на равнине, приближающихся со стороны восточного хребта, Кейси, хозяин таверны, который только что вышел через заднюю дверь своего заведения, чтобы глотнуть пусть раскалённого, но всё же чистого воздуха. Они в это время были уже ярдах в ста от него, и фигура верхом на ослике сразу же поразила его своим странным видом. Сначала — только странным; ужас охватил его, когда расстояние уменьшилось. Челюсть Кейси отвисла и оставалась в таком положении до тех пор, пока странная троица не оказалась от него ярдах в пятидесяти; тогда он медленно двинулся к ней Некоторые люди бегут при виде неизвестного, другие идут навстречу. Кейси принадлежал к числу последних.
Они были ещё на открытом месте, в двадцати ярдах от задней стены его маленькой таверны, когда он подошёл к ним вплотную. Дейд Грант остановился и бросил верёвку, на которой он вёл ослика. Ослик остановился и опустил голов) Человек, похожий на жердь, встал — то есть просто упёрся ногами в землю и поднялся над осликом. Потом он перешагнул через него одной ногой, на мгновение замер, упираясь обеими руками в его спину, а потом сел на песок.
— Планета с высокой гравитацией, — сказал он. — Долго не простоишь.
— Где бы мне, приятель, водички раздобыть для ослика? — спросил у Кейси старатель. — Пить, верно, хочет, бедняга. Бурдюки и другое пришлось оставить, а то бы разве довёз… — И он ткнул оттопыренным большим пальцем в сторону красно-голубого страшилища.
А Кейси только теперь начал понимать, что перед ним самое настоящее страшилище. Если издали сочетание этих цветов пугало лишь слегка, то вблизи кожа казалась шершавой, покрытой сосудами и влажной, хотя влажной вовсе не была, и провалиться бы ему на этом самом месте, если она не выглядела содранной со страшилища, вывернутой наизнанку и снова надетой. А то просто содранной — и всё. Кейси никогда не видел ничего подобного и надеялся, что ничего подобного больше никогда не увидит.
Он услыхал позади себя какое-то движение и обернулся. Это были другие жители Черрибелла — они тоже увидели и теперь шли сюда, но ближайшие из них, двое мальчишек, были ещё в десятке ярдов от Кейси.
— Muchachos, — крикнул он им, — agua por el burro. Un pozal. Pronto.[3]
Потом он вновь повернулся к пришельцам и спросил их:
— Кто вы такие?
— Меня звать Дейд Грант, — ответил старатель, протягивая руку, которую Кейси машинально взял. Когда Кейси её выпустил, она, взметнувшись над плечом старателя, показала большим пальцем на сидевшего на песке.
— А его, говорит, звать Гарвейн. Космач, что ли, и какой-то министр.
Кейси кивнул человеку-жерди и был рад, когда в ответ последовал кивок, а не протянутая рука.
— Моё имя Мэньюэл Кейси, — сказал он. — Что он там говорит насчёт космача какого-то?
Голос человека-жерди оказался неожиданно глубоким и звучным:
— Я из космоса. И я полномочный министр.
Как это ни удивительно, Кейси обладал довольно широким кругозором и знал оба эти выражения; что же касается второго из них, то Кейси, вероятно, был единственным человеком в Черрибелле, кому был понятен его смысл. Тот факт, что он поверил обоим этим заявлениям, был, учитывая внешность его собеседника, менее удивительным, чем то обстоятельство, что Кейси вообще знал, о чём идёт речь.
— Чем я могу быть вам полезен, сэр? — спросил он. — Но прежде всего, не перейти ли нам в тень?
— Благодарю вас, не надо. У вас немного прохладнее, чем мне говорили, но я чувствую себя великолепно. На моей планете так бывает прохладными весенними вечерами. А если говорить о том, что вы могли бы для меня сделать, то вы можете сообщить вашим властям о моём прибытии. Думаю, что это их заинтересует.
Да, подумал Кейси, тебе посчастливилось напасть на человека, полезнее которого в этом смысле не найдёшь и на двадцать миль вокруг. Мэньюэл Кейси был наполовину ирландец, наполовину мексиканец, и у него был сводный брат, наполовину ирландец, наполовину всякая всячина, и этот брат был полковником на военно-воздушной базе Дэвис-Монтан под Тусоном.
— Одну минуточку, мистер Гарвейн, я сейчас позвоню. А вы, мистер Грант, не хотите под крышу? — сказал Кейси.
— По мне так пусть жарит. Всё равно день-деньской на солнышке. Вот, значит, этот самый Гарвейн и говорит мне: не откалывайся, покуда я не кончу дела. Сказал, даст мне какую-то диковину, если пойду с ним. Чего-то ликтронное…
— Портативный электронный рудоискатель на батарейном питании, — уточнил Гарвейн. — Несложный прибор, устанавливает наличие рудных залежей на глубине до двух миль, указывает вид руды, содержание в ней металла, объём месторождения и глубину залегания.
Кейси судорожно глотнул воздух, извинился и через собирающуюся толпу протолкался в свою таверну. Через минуту он уже говорил с полковником Кейси, но потребовалось ещё пять минут, чтобы убедить полковника, что он, Мэньюэл Кейси, не пьян и не шутит.
Через двадцать пять минут в небе послышался шум, который всё нарастал — и замер, когда четырёхместный вертолёт сел и отключил роторы в десяти ярдах от существа из космоса, ослика и двух мужчин. Только у Кейси хватило пока смелости подойти к пришельцам из пустыни вплотную; остальные любопытствующие предпочитали держаться на расстоянии.
Полковник Кейси, а за ним майор, капитан и лейтенант, пилот вертолёта, выскочили из кабины и побежали к маленькой группе Человек, похожий на жердь, встал и выпрямился во все свои девять футов; усилия, которых это ему стоило, говорили о том, что он привык к гравитации гораздо меньшей, нежели земная. Он поклонился, повторил своё имя и опять назвался полномочным министром из космоса. Потом он извинился за то, что снова сядет, объяснил, почему он вынужден это сделать, и сел.
Полковник представился и представил трёх своих спутников.
— А теперь, сэр, что мы можем для вас сделать?
Человек, похожий на жердь, скорчил гримасу, которая, по-видимому, означала улыбку. Зубы его оказались такими же голубыми, как глаза и волосы.
— У вас часто можно услышать фразу: «Я хочу видеть вашего шефа». Я этого не прошу: мне необходимо оставаться здесь. В то же время я не прошу, чтобы кого-нибудь из ваших шефов вызвали сюда ко мне: это было бы невежливо. И я согласен рассматривать вас как их представителей, говорить с вами и дать вам возможность задавать вопросы мне. Но у меня к вам просьба. У вас есть магнитофоны. Прошу вас распорядиться, чтобы, прежде чем я начну говорить или отвечать на ваши вопросы, сюда был доставлен магнитофон. Я хочу быть уверенным в том, что послание, которое получат ваши руководители, будет передано им точно и полно.
— Превосходно, — сказал полковник и повернулся к пилоту. — Лейтенант, ступайте в кабину, включите рацию и передайте, чтобы нам моментально доставили магнитофон. Можно на парашюте… нет, пожалуй, долго провозятся с упаковкой. Пусть пришлют на стрекозе.
Лейтенант повернулся, готовый идти.
— Да, — сказал полковник, — и ещё пятьдесят ярдов шнура Придётся тянуть до таверны Мэнни.
Лейтенант сломя голову бросился к вертолёту. Остальные сидели, обливаясь потом, и ждали. Мэньюэл Кейси встал.
— Ждать придётся с полчаса, — сказал он, — и если уж мы собираемся оставаться на солнце, кто за бутылку холодного пива? Как вы на это смотрите, мистер Гарвейн?
— Это ведь холодный напиток? Я немного мёрзну. Если у вас найдётся что-нибудь горячее…
— Кофе, он уже почти готов Могу я принести вам одеяло?
— Благодарю вас, не надо. В нём не будет нужды.
Кейси ушёл и скоро вернулся с подносом, на котором стояло с полдюжины бутылок холодного пива и чашка дымящегося кофе. Лейтенант был уже здесь. Кейси поставил поднос и начал с того, что подал чашку человеку-жерди, который, сделав глоток, сказал:
— Восхитительно.
Полковник Кейси откашлялся.
— Теперь, Мэнни, обслужи нашего друга старателя. Что касается нас, то, вообще говоря, пить во время дежурства запрещено, но в Тусоне было 112 по Фаренгейту в тени, а тут ещё жарче и к тому же никакой тени. Так что, джентльмены, считайте себя в официальном увольнении на время, которое вам понадобится, чтобы выпить бутылку пива, или до тех пор, пока нам не доставят магнитофон То ли, другое ли случится первым — ваше увольнение закончено.
Сначала кончилось пиво, но, допивая его, они уже видели и слышали второй вертолёт. Кейси спросил человека-жердь, не желает ли тот ещё кофе. Человек-жердь вежливо отказался. Кейси посмотрел на Дейда Гранта и подмигнул; старый крот ответил ему тем же, и Кейси пошёл ещё за бутылками, по одной на каждого из двоих штатских землян. Возвращаясь, он столкнулся с лейтенантом, который тянул шнур к таверне, и Кейси повернул назад и проводил лейтенанта до самого входа, чтобы показать ему, где розетка.
Когда Кейси вернулся, он увидел, что второй вертолёт, кроме магнитофона, доставил ещё четырёх человек — больше в нём не умещалось. Вместе с пилотом прилетели сержант технической службы (он уже возился с магнитофоном), а также подполковник и младший лейтенант, то ли решившие совершить воздушную прогулку, то ли заинтригованные странным приказом срочно доставить по воздуху магнитофон в Черрибелл, штат Аризона. Теперь они стояли и таращились на человека-жердь, перешёптываясь между собой.
Хотя слово «внимание» полковник произнёс негромко, сразу же наступила мёртвая тишина.
— Рассаживайтесь, джентльмены. Так, чтобы был круг. Сержант, нас хорошо будет слышно в микрофон, если вы поместите его в центре такого круга?
— Да, сэр. У меня уже почти всё готово.
Десять человек и человекоподобное существо из космоса сели в круг, в середине которого установили небольшой треножник с подвешенным к нему микрофоном. Люди обливались потом; человекоподобного слегка знобило. За кругом, понурив голову, стоял ослик. Постепенно пододвигаясь всё ближе, но пока ещё футах в пяти от круга, толпились все жители Черрибелла, оказавшиеся в тот момент дома; палатки и бензозаправочные станции были брошены.
Сержант нажал на кнопку; кассеты завертелись.
— Проверка… проверка… — сказал он. Нажав на кнопку «обратно», он через секунду отпустил её и дал звук. «Проверка, проверка…» — сказал динамик громко и внятно. Сержант перемотал ленту, стёр запись и дал «стоп».
— Когда я нажму на кнопку, сэр, — обратился он к полковнику, — начнётся запись.
Полковник вопросительно посмотрел на человека-жердь, тот кивнул, и тогда полковник кивнул сержанту.
— Моё имя Гарвейн, — раздельно и медленно проговорил человек-жердь. — Я прибыл к вам с одной из планет звезды, не упоминаемой в ваших астрономических справочниках, хотя шаровое скопление из 90 000 звёзд, к которому она принадлежит, вам известно. Отсюда она находится на расстоянии свыше 4000 световых лет по направлению к центру Галактики.
Однако сейчас я выступаю не как представитель своей планеты или своего народа, но как полномочный министр Галактического Союза, федерации передовых цивилизаций Галактики, созданной во имя всеобщего блага. На меня возложена миссия посетить вас и решить на месте, следует ли приглашать вас вступить в нашу федерацию.
Теперь вы можете задавать мне любые вопросы. Однако я оставляю за собой право отсрочить ответ на некоторые из них до тех пор, пока не приду к определённому решению. Если решение окажется положительным, я отвечу на все вопросы, включая те, ответ на которые был отложен. Вас это устраивает?
— Устраивает, — ответил полковник. — Как вы сюда попали? На космическом корабле?
— Совершенно верно. Он сейчас прямо над нами, на орбите радиусом в 22 000 миль, где вращается вместе с Землёй и таким образом всё время остаётся над одним и тем же местом. За мной наблюдают оттуда, и это одна из причин, почему я предпочитаю оставаться здесь, на открытом месте. Я должен просигнализировать, когда мне понадобится, чтобы он спустился и подобрал меня.
— Откуда у вас такое великолепное знание нашего языка? Благодаря телепатическим способностям?
— Нет, я не телепат. И нигде в Галактике нет расы, все представители которой были бы телепатически одарёнными; но отдельные телепаты встречаются в любой из рас. Меня обучили вашему языку специально для этой миссии. Уже много столетий мы держим среди вас своих наблюдателей (говоря «мы», я, конечно, имею в виду Галактический Союз). Совершенно очевидно, что я, например, не мог бы сойти за землянина, по есть другие расы, которые могут. Кстати говоря, они не замышляют против вас ничего дурного и не пытаются воздействовать на вас каким бы то ни было образом; они наблюдают — и это всё.
— Что даст нам присоединение к вашему Союзу, если нас пригласят вступить в него и если мы такое приглашение примем?
— Прежде всего — краткосрочный курс обучения основным наукам, которые положат конец вашей склонности драться друг с другом и покончат с вашей агрессивностью. Когда ваши успехи удовлетворят нас и мы увидим, что оснований для опасений нет, вы получите средства передвижения в космосе И многие другие вещи — постепенно, по мере того как будете их осваивать.
— А если нас не пригласят или мы откажемся?
— Ничего. Вас оставят одних; будут отозваны даже наши наблюдатели. Вы сами предопределите свою судьбу: либо в ближайшее столетие вы сделаете свою планету совершенно необитаемой, либо овладеете науками сами и тогда с вами опять можно будет говорить о вступлении в Союз. Время от времени мы будем проверять, как идут ваши дела, и, если станет ясно, что вы не собираетесь себя уничтожить, к вам обратятся снова.
— Раз вы уже здесь, к чему так спешить? Почему вы не можете пробыть у нас достаточно долго для того, чтобы наши, как вы их называете, руководители смогли лично поговорить с вами?
— Ответ откладывается. Не то чтобы причина спешки была важной, но она достаточно сложная, и я просто не хочу тратить время на объяснения.
— Допустим, что наше решение окажется положительным; как в таком случае установить с вами связь, чтобы сообщить вам о нём? По-видимому, вы достаточно информированы о нас и знаете, что я не уполномочен брать на себя такую ответственность.
— Мы узнаем о вашем решении через своих наблюдателей. Одно из условий приёма в федерацию — опубликование в ваших газетах этого интервью полностью, так, как оно записывается сейчас на этой плёнке. А потом всё будет ясно из действий и решений вашего правительства.
— А как насчёт других правительств? Ведь мы не можем единолично решать за весь мир.
— Для начала остановились на вашем правительстве. Если вы примете приглашение, мы укажем способы побудить других последовать вашему примеру. Кстати, способы эти не предполагают какого-либо применения силы или хотя бы угрозы такового.
— Хороши, должно быть, способы, — скривился полковник.
— Иногда обещание награды значит больше, чем любая угроза. Вы думаете, другие захотят, чтобы ваша страна заселяла планеты далёких звёзд ещё до того, как они смогут достичь Луны? Но это вопрос сравнительно маловажный. Вы вполне можете положиться на наши способы убеждения.
— Звучит это прямо-таки сказочно прекрасно. Но вы говорили, что вам поручено решить сейчас, на месте, следует или нет приглашать нас вступить в вашу федерацию. Могу я спросить, на чём будет основываться ваше решение?
— Прежде всего я должен (точнее, был должен, так как я уже это сделал) установить степень вашей ксенофобии. В том широком смысле, в каком вы его употребляете, слово это означает страх перед чужаками вообще. У нас есть слово, не имеющее эквивалента в вашем языке; оно означает страх и отвращение, испытываемые перед физически отличными от нас существами. Я, как типичный представитель своей расы, был выбран для первого прямого контакта с вами. Поскольку я для вас более или менее человекоподобен (точно так же, как более или менее человекоподобны для меня вы), я, вероятно, вызываю в вас больший ужас и отвращение, чем многие совершенно отличные от вас виды. Будучи для вас карикатурой на человека, я внушаю вам больший ужас, нежели какое-нибудь существо, не имеющее с вами даже отдалённого сходства.
Возможно, вы сейчас думаете о том ужасе и отвращении, которые вы испытываете при виде меня. Но поверьте мне, это испытание бы прошли. Есть в Галактике расы, которым никогда не стать членами федерации, как бы они ни преуспели в других областях, потому что они тяжело и неизлечимо ксенофобичны; они никогда не смогли бы смотреть на существо какого-либо другого вида или общаться с ним; они или с воплем бросились бы прочь от него или попытались бы тут же с ним расправиться. Наблюдая вас и этих людей, — он махнул длинной рукой в сторону гражданского населения Черрибелла, столпившегося неподалёку от круга сидящих, — я убеждаюсь в том, что мой вид вызывает в вас отвращение, но, поверьте мне, оно относительно слабое и, безусловно, излечимое. Это испытание вы прошли удовлетворительно.
— А есть и другие?
— Ещё одно. Но, пожалуй, пора мне…
Не закончив фразы, человек-жердь навзничь упал на песок и закрыл глаза.
В один миг полковник был на ногах.
— Что за чёрт?!.. — вырвалось у него. Обойдя треножник с микрофоном, он склонился над неподвижным телом и приложил ухо к кроваво-красной груди.
Когда он выпрямился, лохматый седой старатель Дейд Грант смеялся.
— Сердце не бьётся, полковник, потому что его нет. Но я могу оставить вам Гарвейна в качества сувенира, и вы найдёте в нём вещи куда более интересные, чем внутренности и сердце. Да, это марионетка, которой я управлял, как ваш Эдгар Берген[4] управляет своим… как же его зовут?.. ах да, Чарли Маккарти. Он выполнил свою задачу и деактивирован. Займите своё место, полковник.
Полковник Кейси медленно отступил назад.
— Для чего всё это? — спросил он.
Дейд Грант сорвал с себя бороду и парик. Куском ткани он стёр с лица грим и оказался красивым молодым человеком. Он продолжал:
— То, что он сказал вам (или, вернее, то, что вам было через него сказано), — всё правда. Да, он только подобие, но он точная копия существа одной из разумных рас Галактики — расы, которая, по мнению наших психологов, показалась бы вам, будь вы тяжело и неизлечимо кеенофобичны, ужаснее любой другой. Но подлинного представителя этого вида мы не привезли с собой потому, что у этих существ есть своя собственная фобия, агорафобия — боязнь пространства. Они высокоцивилизованы и пользуются большим уважением в федерации, но они никогда не покидают своей планеты.
Наши наблюдатели уверяют, что такой фобии у вас нет. Но им не вполне ясно, насколько велика ваша ксенофобичность, и единственным способом установить её точную степень было привезти вместо кого-то что-то, на чём можно было бы её испытать, и заодно, если это окажется возможным, установить с вами первый контакт.
Вздох полковника услышали все.
— По совести говоря, в одном смысле это приносит мне огромное облегчение. Мы, безусловно, в состоянии найти общий язык с человекоподобными, и мы найдём его, когда в этом возникнет необходимость. Но, должен признаться, это большая радость — узнать, что всё-таки господствующая раса Галактики — настоящие люди, а не какие-то там человекоподобные. Второе испытание?
— Вы уже ему подвергаетесь. Зовите меня… — он щёлкнул пальцами. — Как зовут другую марионетку Бергена, которую он создал после Чарли Маккарти?
Полковник заколебался, но за него дал ответ сержант-техник:
— Мортимер Снерд.
— Правильно. Тогда зовите меня Мортимером Снердом. А теперь мне, пожалуй, пора… — И он повалился навзничь на песок и закрыл глаза точно так же, как за несколько минут до этого человек-жердь.
Ослик поднял голову и просунул её в круг через плечо сержанта.
— С куклами всё, — сказал он. — Так что вы там говорили, полковник, будто господствующей расой должны быть люди или хотя бы человекоподобные? И вообще что это такое — господствующая раса?
Фредерик Браун
Звездная мышь
Мышонка Митки в ту пору еще не называли Митки. Он был обыкновенным мышонком и вместе с другими мышатами жил под половицами в доме знаменитого герра профессора Обербюргера, который когда-то приводил в восторг Вену и Гейдельберг, а затем бежал от безмерного восхищения своих влиятельных соотечественников. Безмерное восхищение вызывал не сам герр Обербюргер, а некий газ: побочный продукт неэффективного ракетного топлива, он с большим успехом мог быть использован и для других целей.
Конечно, дай профессор правильную формулу, он бы… впрочем, так или иначе профессору удалось бежать и поселиться в Коннектикуте, в том же доме, что и Митки.
Маленький серый мышонок и невысокий седовласый человек. Ни в том, ни в другом не было ничего необычного, особенно в Митки. Он обзавелся семьей, любил сыр и если бы среди мышей водились ротарианцы,[5] Митки примкнул бы к ним.
Герр профессор отличался некоторыми странностями. Поскольку он был убежденным холостяком, ему не с кем было разговаривать, кроме как с самим собой, и обмен мнениями во время работы с таким замечательным собеседником доставлял герру Обербюргеру массу удовольствия. Как мы узнаем позже, это оказалось очень важным для Митки: он обладал превосходным слухом и все ночи напролет слушал профессорские монологи.
Конечно, он не улавливал их смысла, и, наверное, профессор казался мышонку большой шумливой сверхмышью, которая чересчур много пищала.
— А тепер, — говаривал ученый, — мы с вами будем видет правильность обработка трубка. Это проявится в предель одна тысячная дюйм. Ах-ха-ха, пр-ревосходно! А тепер…
Так проходили дни, ночи, месяцы. Поблескивающая конструкция постепенно обрастала новыми деталями, и вместе с ней нарастал блеск в профессорских глазах.
Машина, сплошь пронизанная проводами, точно человеческий организм — кровеносными сосудами, была около трех с половиной футов в длину. Собранная на временной раме, она стояла на столе посреди комнаты.
Профессор и Митки жили в доме из четырех комнат, но, казалось, герру Обербюргеру это было невдомек. Поначалу он собирался использовать большую комнату только как лабораторию, но вскоре понял, что гораздо удобнее спать тут же в углу, на койке (если он вообще когда-либо спал), и готовить незатейливую пищу на той же газовой горелке, на которой плавились золотистые зернышки TNT. Этот опасный суп профессор солил, заправлял необычными приправами, но никогда не ел.
— А тепер мы наливайт это в трубки и видим: если первый трубка взорвет второй, когда первый трубка…
В ту ночь Митки уже почти решил переселиться с семьей в более надежное жилище, которое бы не раскачивалось и не пыталось сорваться с фундамента. Но все же Митки так и не покинул этот дом, потому что перед ним здесь открылись дополнительные возможности.
Всюду появились новые мышиные норки и — о счастье! — большая щель в стенке холодильника, где профессор наряду со всяким добром держал и продукты.
Конечно, трубки были размером не толще капиллярных сосудов, а то бы дом вокруг мышиной норки уже исчез. И конечно, Митки не мог ни предугадать, что произойдет, ни понять профессорский английский (впрочем, как и любой другой вариант английского), иначе он бы не позволил себе соблазниться даже щелью в холодильнике.
Для профессора то утро было настоящим праздником.
— Топливо работаль! Второй трубка не взорваль! И первый всасывайт! И она более мошный, и будет много свободный место для отсек.
Ах, да, отсек! Вот тут и появился Митки. Сказать по правде, профессор еще не знал об этом; он просто не ведал, что Митки живет на свете.
— А тепер, — говорил он своему обожаемому слушателю, — нужен комбинаций, чтоб топливный трубка работаль в режиме противотока.
Вот тут-то взгляд профессора впервые остановился на Митки. Точнее, он уставился на пару серых усиков и черный блестящий носик, высунувшийся из дыры в плинтусе.
— Ну и ну! — сказал ученый, — кто это к нам пошаловаль? Митки-Маус собственная персон. Как, вам будет угодно совершийт путешествий на следующая недель? Ну, будем посмотрет.
Когда профессор послал в город за продуктами, он заказал не мышеловку, чтобы убить мышонка, а обыкновенную клетку из проволоки. Как только ее установили, острый носик Митки почуял запах сыра, положенного в клетку, и так из-за своего носика мышонок добровольно сдался в плен.
Нет, такой плен не назовешь тягостным. Митки был уважаемым гостем. Профессор водрузил клетку на стол, где он по большей части работал, и в изобилии проталкивал сыр сквозь решетку. У профессора теперь был собеседник.
— Понимайт, Митки, я хотель посылат за белый мышь в лабораторий в Хартфорд, но зашем я должен это делайт, когда есть ти? Я уверен, ти умней и здоровей и лутше будешь сам чувствоват долгий путешествий, чем лабораторный мышь. Ах-ха, ты покачиваль усики, это знашит — да? Нет? И ты привык темный норка и меньше будешь страдайт глаустрофобия, а?
И Митки жирел, и чувствовал себя счастливым, и даже не пытался выбраться из клетки. Боюсь, что он забыл и о покинутой им семье. Правда, он знал, если он вообще что-либо знал, что о них ни в малейшей степени не стоит беспокоиться. Во всяком случае, пока профессор не обнаружит и не залатает дыру в холодильнике. А голова профессора была занята отнюдь не холодильником.
— А тепер, Митки, мы будем поместить этот стабилизатор вот так. Он будет работайт для приземлений в атмосфер. Он и вот эти, я полагай, благополушно и не отшен быстро будут тебя опустит, и твой головка не будет болит от удар.
Разумеется, Митки не уловил зловещих интонаций этого «я полагай», потому что он вообще не уловил смысла этих слов. Как уже упоминалось, он не знал английского языка. Во всяком случае, в то время.
Но герр Обербюргер все равно беседовал с ним. Он даже показывал ему картинки.
— Видель ты этот мышь, в чест этот мышь тебя называйт Митки? Што? Нет? Смотри, это настоящий Митки-Маус Уолта Диссней. Но я думай, ты красивей, Митки.
Вероятно, профессор был немного чокнутый, а потому и разговаривал с маленьким серым мышонком. Он и в самом деле был чокнутый, если строил ракету для полета. Странно, ведь герр профессор не был настоящим изобретателем. Как он старательно объяснил Митки, ни одной детали он не придумал сам. Герр профессор был инженером, он конструировал машины и заставлял их работать, используя при этом идеи других людей.
Он начал подробно втолковывать мышонку:
— Это только вопрос абсолютная тщательность и математишеская тошность. И это мы имеем, правда, Митки? Мы просто сделаль комбинаций и что достигаль? Второй космический скорость. Он отшен необходим преодолеть земной притяшений. Всюду есть неизвестный фактор. Мы не все знайт про атмосфер, тропосфер, стратосфер. Мы полагаль, што нам известен тошный колишеств воздух, и мы расшиталь сопротивлений. Но мы уверены? Сто процент? Нет, Митки, мы там не бываль. А тошность дольшен бывать отшень высок, маленький двишение воздух, и все насмарка.
Но это нисколько не заботило мышонка. В тени конуса из алюминиевого сплава он жирел и был совершенно счастлив.
— День добрый, Митки, день добрый! Не буду врать и давать фальшивый заверений, Митки. Путешествий опасный, мой маленький друг. Ты имеешь равный шанс. Не Луна или взрыв, а Луна и взрыв или благополушно вернешься на Землю.
Понимаешь, мой бедный маленький Митки, Луна сделан не из зеленый сыр, а если бы он быль из сыр, ты не смог бы на нем жить и его кушать. Там пошти нет атмосфер, чтобы ты со своими усики мог прилуниться цел и невредим.
И тогда ты спрашиваль, зашем я посылай тебя? Ракет мошет не набрайт второй космишеский скорость, это только эксперимент, но другой род. Если ракет не улетит к Луна, он упадет на Земля, нет? Все равно другой аппарат даст еще информаций о явлениях там, в атмосфера. И ты дашь нам информаций, так или инаше; если ты станешь живой, знашит, сила амортизаторов хватит для атмосфера земного типа. Понимай?
И когда мы будем посылайт ракет к Венера, у нас будет много информация и мы расшитаем размер крыл и амортизатора, нет? Возможно, мы не встретимся, но ти будешь самый знаменитый мышонок! Ти первый выходишь за предель земной атмосфера, в космос.
Митки, люди будут называйт тебя Звездный мысш. Я тебе завидуй! Как бы я хотель быть такой маленький-маленький, как ты, и лететь вместе!
И вот настал день, когда дверь отсека открылась.
— До свидания, маленький Митки-Маус!
Тишина.
Темнота.
Шум.
И только об одном думал теперь герр Обербюргер: «Если ракета не улетит на Луна, она упадет на Земля, нет?»
Но и прекрасно разработанные планы не всегда осуществляются у людей и у мышей. Даже у звездных мышей.
И все из-за Прксла.
Профессора не покидало чувство одиночества. Без Митки беседы с самим собой казались пустыми и бессмысленными.
Возможно, найдутся люди, которые скажут, что маленький серый мышонок в качестве собеседника — плохая замена жены, но другие могут с ними не согласиться. Так или иначе, жены у профессора никогда не было, а вот мышонок для бесед был; итак, герр Обербюргер упустил одно, а если упустил и другое, ему об этом не было известно.
Пока ракета набирала скорость, профессор всю ночь не отходил от любимого телескопа, восьмидюймового рефлектора, следя за ее курсом. Крохотную мерцающую точку света от выхлопных газов можно было разглядеть, только если знаешь, за каким участком неба наблюдать. Следующий день, казалось, нечем было заполнить. Сколько профессор ни пытался, он не мог уснуть — был слишком взволнован. Все же герр Обербюргер пошел на компромиссный вариант — занялся домашним хозяйством. Он усердно начищал горшки и кастрюли и был весь поглощен этим делом, как вдруг услышал настойчивое, пронзительное попискивание и увидел в клетке еще одну маленькую серую мышку. Ее хвостик был короче, чем у плитки, а усики — не такими большими.
— Отшен гут, отшен гут! — сказал профессор. — Што мы имеем здесь? Минни? Это Минни ишет свой Митки?
Профессор не был биологом, но он оказался прав. Это была Минни, дражайшая половина Митки. Какая неведомая причуда ума побудила ее прийти в клетку без приманки, профессор не только не знал, но и не интересовался этим. Восхищенный поведением Минни, он немедленно просунул сквозь прутья большой кусок сыра.
Как видно, Минни решила поселиться в том самом месте, откуда отправился в далекое путешествие ее супруг — средоточие профессорских надежд. Тревожилась ли она о своей семье, кто знает? Но ей не стоило тревожиться. Дети настолько выросли, что могли сами о себе позаботиться, особенно в доме, где было так легко проникнуть в холодильник и обеспечить себя едой сверх головы.
— Ах-ха, Минни, а тепер стал темно и мошно искать твой муш, его огненный след на небо. Правда, это маленький-маленький след, астрономы его не увидайт, они не знайт, куда смотрет. А мы знаем.
Он станет отшен знаменитый, этот Митки, когда мы расскашем миру про него и про мой ракет. Понимаешь, Минни, мы ешо не сказал им ни о шом. Мы подошдем и скашем все сразу. Завтра к рассвет мы..
Да, вон он, Минни! Вот след, отшен слабый! Я бы поднес тебя к телескоп и дал смотреть, но телескоп не для твой глаз, и я не знай, как…
Пошти сто тысяч миль, Минни, ускорений пока нарастайт, но этот нарастайт ешо недолго и прилет конец. Наш Митки летит в расписании шуть быстрей, шем мы думаль, нет? Тепер тошно, он будет преодолеть земной притяшение и прилуниваться.
Разумеется, то, что Минни пискнула в ответ, было чистой игрой случая.
— Ах, да, Минни, маленький Минни, я знай, знай! Мы никогда не увидим снова наш Митки, и я даше хошу наш эксперимент провалиль. Но есть компенсаций, Минни. Он будет самый знаменитый мышь. Звездный мышь! Первый шивой существо вышел за предель земной притяшений.
Ночь тянулась бесконечно. Временами из-за высоких облаков видимость пропадала.
— Минни, я хошу мастерить тебе удобный жилье. Ты будешь думать, что ты свободный. Без шелезный клетка, как теперь делайт в зоопарк.
Итак, чтобы заполнить время, пока облака закрывали небо, профессор принялся мастерить для Минни новый домик. Это было днище деревянного ящика толщиной с полдюйма и площадью в квадратный фут. Профессор водрузил его на стол и не соорудил никакого барьера.
Покрыв края металлической фольгой, профессор поместил днище на доску большего размера, которая также была окаймлена фольгой. От двух металлических полосок к разным полюсам маленького трансформатора были протянуты тонкие провода.
— А тепер, Минни, ты будешь шить на свой остров, будешь имет много-много сыр и вода, и ти скашешь, что это превосходный место для шизнь. Не шагни к край, получишь шок. Это не будет отшен больно, но ты не будешь захотеть делать это еще раз, нет? И…
Прошла еще одна ночь.
Минни была счастлива на своем острове, она хорошо выучила урок. Теперь она ни за что не встанет на полоску фольги. Этот островок был поистине мышиным раем. Гора сыра была больше, чем сама Минни, еда отнимала массу времени. Мышь и сыр — скоро одно перейдет в другое.
Однако эта проблема не волновала профессора Обербюргера. Его волновали иные, проблемы. Он в который раз проверял и перепроверял себя и, настроив восьмидюймовый телескоп, снова направил его в небо сквозь дыру в крыше.
Да, в конце концов, у холостяка есть свои преимущества. Если холостяку хочется иметь дыру в крыше, он просто пробивает ее, и некому сказать, что он сумасшедший. А случись зима или дождь, можно всегда позвать кровельщика или прибегнуть к помощи брезента.
Но слабого огненного следа не было видно. Профессор хмурил брови, и пересчитывал, и пере-пересчитывал, и перемещал телескоп со скоростью три десятых в минуту и все же так ничего и не увидел…
— Минни, какой-то беспорядок. Или двигатель вышел из строй, или…
Просто ракета отклонилась от расчетной параболы.
Оставалось лишь одно — искать по расширяющейся спирали. Ракета нашлась только через два часа. Она уже отклонилась от курса на пять градусов и вела себя странно. Как говорят в авиации — двигалась штопором на хвост. Затем на глазах у недоумевающего ученого она пошла по сужающейся спирали, похожей на орбиту, и скрутилась в концентрическую спираль.
Профессор повернулся к Минни. Лицо его было бледным.
— Это невозмошно, Минни! Мои собственные глаза, но это не мошет быть. Даше если один двигатель пересталь работать, это невозмошно, такие неожиданные круг.
Профессор уже в который раз взял карандаш, чтобы проверить возникшие у него подозрения.
— Минни, она отшен тормозит, так не дольшно, пусть даше двигатель сделаль стоп.
Телескоп и вычисления в предутренние часы не дали ключа к разгадке, к правдоподобной разгадке. Действовала какая-то неведомая сила, которую невозможно было объяснить поведением ракеты или притяжением предполагаемого тела.
Занялся серый непонятный день.
— Бедный Митки! Моя Минни, придется делать секрет из этот сообщений. Мы не будем осмелиться публиковат то, что видель, никто не будет верит. Мне кажется, я тоже не верит; мошет я усталь, не спаль, и мне померещился, что я видель…
Еще через несколько часов.
— Но, Минни, есть надешда. Он на расстояний пять тысяч миль. Он будет падать обратно на Земля, но не могу сказайт, в какой место. Я полагаль, если так случится, я расшитай путь ракеты, но эти концентрический круг, Минни, даже сам Эйнштейн не мошет видеть место посадка. Не только я. Будем надеяться, услышим, когда ракет упадет.
Облачный день. Темная ночь, ревниво скрывающая свои тайны.
— Минни, наш бедный Митки! В чем же дело?
А дело было в Прксле.
Прксл — астероид. Земляне — и на то есть свои причины — до сей поры не обнаружили Прксл. Его так назвали не земные астрономы, а собственные обитатели. Конечно, эта транскрипция лишь приблизительно передает название, которое ему дали обитатели. Да! Он обитаем.
Подумать только! Попытка профессора Обербюргера послать ракету на Луну привела к довольно странным результатам.
Придет ли вам в голову, что астероид может исцелить пьяницу? Некий Чарльз Уинслоу, житель Бриджпорта, не прикладывался к бутылочке с тех пор, как на Гроув-стрит мышонок спросил его дорогу на Хартфорд. На мышонке были ярко-красные панталоны и желтые перчатки. Это случилось спустя пятнадцать месяцев после того, как профессор потерял свою ракету. Уж лучше расскажем все по порядку.
Прксл — астероид. Одно из тех презренных небесных тел, которых земные астрономы называют паразитами неба. Они ухудшают видимость и оставляют короткие полосы на фотографиях, мешая наблюдению за новыми туманностями.
Пятьдесят тысяч блох на черной собаке!
Большинство из них совсем крошечные. В последнее время астрономы стали обнаруживать, что некоторые астероиды пролетают в непосредственной близости от Земли. В 1932 году ученых взволновала весть о том, что Ашор приблизился к Земле на 10 миллионов миль — рукой подать! Затем Аполлон прошел вдвое ближе, а в 1936 году Адонис прошел мимо Земли меньше чем в полутора миллионах миль.
В 1937 году Гермес подошел к Земле ближе чем на полмиллиона миль, но когда астрономы рассчитали его орбиту и обнаружили, что маленький астероид длиной в милю может пройти в 220 тысячах миль от Земли, то есть быть ближе, чем Луна, они пришли в возбуждение.
Возможно, когда-нибудь они придут в еще большее возбуждение, если обнаружат астероид Прксл размером 3 x 8 мили, космический мусор, совершающий транзитный рейс мимо Луны, и найдут, что он чисто проходит мимо нашей перемещающейся в пространстве планеты на расстоянии меньшем, чем 100 тысяч миль. Только при таком приближении к Земле астрономы смогут его увидеть. Дело в том, что Прксл не отражает света. Вот уже несколько миллионов лет, как его обитатели покрыли астероид черной светопоглощающей краской — титаническая работа для живых существ ростом в полдюйма, но это стоило сделать. Когда пркслиане вдобавок изменили свою орбиту, они спаслись от врагов, восьмидюймовых пиратов с планеты Диемос.
Маленький астероид больше не отражал солнечных лучей и не был заметен.
Цивилизация Прксла насчитывала миллионы лет. И поныне пркслиане ежегодно «подкрашивают» свой мир, но скорее по традиции, нежели из боязни врагов.
Могущественная, но инертная цивилизация, она как бы застыла в тишине среди шумного мира. Сюда и попал Митки-Маус.
Клэрлот — самый главный ученый пркслианин — толкнул своего ассистента Бемджа в то место, которое у землян называют плечом.
— Взгляни, что это приближается к Пркслу? Какое-то искусственное тело.
Бемдж устремил взгляд на экран, а затем направил мыслеволну на механизм, который оказал мощное воздействие на электрическое поле. Изображение прыгало, расплывалось, затем сфокусировалось.
— Должен сказать, чрезвычайно грубая работа, — заметил Бемдж. — Примитивная ракета на реактивном топливе. Сейчас проверю, с какой планеты.
Он снял показания со счетчиков возле экрана, и через некоторое время счетно-вычислительная машина, переварив данные, подготовила ответ. Затем он направил мыслеволну на связь с проектором, в то же время принимая безмолвное сообщение. Точное место старта на Земле и точное время отправления. Дуга траектории и точка на дуге, где под влиянием гравитационного притяжения Прксла произошло отклонение. Первоначальный пункт назначения ракеты, очевидно, земная Луна. Время и место прибытия на Прксл, если курс ракеты останется неизменным.
— Земля, — задумчиво сказал Клэрлот. — Последний раз, когда мы их проверяли, они были еще очень далеки от путешествий на ракетах. Это там какие-то крестовые походы, религиозные войны, да?
Бемдж кивнул.
— Катапульты, луки, стрелы. С тех пор они сильно продвинулись вперед, даже если это экспериментальная ракета на самом начальном этапе. Уничтожить ее, пока она еще не добралась до нас?
Клэрлот задумчиво покачал головой.
— Давай обсудим. Теперь мы можем обойтись и без путешествия на Землю. По этой ракете мы оценим уровень их развития.
— Но тогда нам придется…
— Конечно. Вызови центр управления. Прикажи им перевести ракету на временную орбиту, пока не подготовят посадочную площадку. И не забудьте сбросить все топливо до посадки.
— Временное силовое поле вокруг точки приземления на случай, если…
— Естественно.
И хотя атмосферы, в которой амортизаторы могли работать, почти не было, ракета спустилась очень плавно, и Митки в своем темном отсеке почувствовал только, что этот ужасный шум прекратился.
Мышонку стало получше. Он съел немного сыру, которым профессор щедро снабдил его на дорогу, затем опять принялся за работу. Он прогрызал дыру в деревянной обшивке жилого отсека. Эта обшивка была проявлением заботы профессора о душевном состоянии мышонка. Он знал, что Митки всю дорогу будет занят делом, стараясь прогрызть дыру, и это избавит его от припадков истерии.
Идея оправдала себя: с головой уйдя в работу, Митки не страдал от темноты и одиночества в отсеке. А теперь, когда все стихло, он принялся грызть дерево с удвоенной энергией и чувствовал себя счастливее, чем когда-либо. Мышонок не догадывался, что, проникнув за дюймовую обшивку, он наткнется на металл, и все усилия пойдут впустую. Но нередко существа и поумнее Митки наталкиваются на то, что им не по зубам.
Тем временем Клэрлот, Бемдж и тысячи пркслиан уставились на колоссальную ракету, которая, даже лежа на боку, возвышалась над их головами, словно башня. Несколько юнцов, забывших о невидимом силовом поле, подошли слишком близко и моментально отбежали, с досадой потирая ушибленные головы.
Наблюдая показания психографа, Клэрлот сказал Бемджу:
— Внутри ракеты есть живое существо. Впечатления путаные. Живое существо в единственном числе, но я не могу уловить ход его мыслей. Кажется, он что-то делает зубами.
— Это не землянин, не человек. Любой из них еще больше этой гигантской ракеты. Возможно, им не удалось сконструировать достаточно вместительную ракету для себя и они послали экспериментальное животное вроде наших вурасов.
— Думаю, что ты прав, Бемдж. Если мы тщательно исследуем мозг этого существа, пожалуй, мы получим достаточно сведений о Земле. Давайте откроем дверь.
— А воздух? Землянам нужна тяжелая, плотная атмосфера.
— Мы сохраним силовое поле, а значит, и воздух. Конечно, в ракете есть установка для производства воздуха, а иначе бы существо не перенесло путешествия, — сказал Клэрлот, усевшись за пульт управления.
И силовое поле выбросило невидимое псевдошасси, открыло наружную винтовую дверь, проникло внутрь, и дверь в отсек отворилась.
Весь Прксл увидел, как из большого отверстия, зиявшего высоко над их головами, показалось серое чудовище с густыми усами — каждый ус был длиной с тело пркслианина.
Митки спрыгнул, шагнул вперед, ударился черным носиком о невидимую преграду и, пискнув, отпрянул назад, к ракете.
Бемдж, не скрывая своего отвращения, взглянул на чудовище и сказал:
— Совершенно очевидно, что он умственно менее развит, чем наш вурас. Мы могли бы просто применить луч…
— Ну, не совсем так, — прервал его Клэрлот. — Ты забываешь очевидные факты. Существо, конечно, неразумное, но в подсознании у каждого животного задерживается любое впечатление или образ, оказавший на него какое-то воздействие. Если это чудовище когда-либо слышало речь землян или видело что-то, созданное ими, кроме этой ракеты, это запечатлелось в его мозгу. Теперь ты понял, что я имею в виду?
— Конечно, Клэрлот, я просто глупец. Ясно одно: судя по этой ракете, нам нечего опасаться землян. Давай заставим это неразумное существо вспомнить то, что он воспринимал с момента своего рождения, проследим за всеми его ощущениями.
— Но в этом нет необходимости.
— Нет? Ты имеешь в виду волны Хр?
— Конечно. Они не окажут действия на память, но увеличат его интеллект; сейчас он, вероятно, равен лишь 0,001. Существо почти автоматически восстановит в памяти нужные впечатления и осознает их.
— Ты хочешь сделать его таким же умным, как мы? — с беспокойством спросил Бемдж.
— Как мы? Нет. Его интеллект возрастет до 0,2, и, судя по ракете и по нашим воспоминаниям о Земле, это примерный нынешний уровень землян.
— Хм, да. Он осознает земные впечатления, а потом мы его научим нашему языку?
Внимательно изучив показания психографа, Клэрлот ответил:
— Не думаю. Он будет говорить на своем языке. В его подсознании я различаю запечатленные памятью долгие разговоры. Странно, но похоже, что это монологи и притом одного и того же человека. Его язык прост. Я думаю, что изучить наш способ общения будет для него нелегко даже с нашей помощью. Легче нам изучить его способ — мы это сделаем за считанные минуты, воздействуя на существо лучами Х19. Подожди-ка. Без конца одно и то же слово. Кажется, оно что-то означает для него. Митки. Полагаю, что это его имя, он связывает его с собой.
— И помещение для него…
— Конечно. Позаботься о строительстве…
Сказать, что проведенный эксперимент был удивительным для Митки — значит не сказать ничего. Знания — вещь удивительная, даже когда их приобретают постепенно. Но когда они на вас обрушиваются…
Добавим к этому всякие мелочи, о которых нужно было попутно думать, ну, скажем, о голосовых связках мышонка. Они не были приспособлены к разговору на языке, который, как теперь оказалось, он знал. Бемдж уладил и это. Он сделал нечто вроде операции, во время которой Митки бодрствовал и ничего не понял, даже обладая новым сознанием. Пркслиане не объяснили мышонку, что применили измерение «джи» и добрались до внутренней сущности, не нарушив внешней оболочки.
Они решили, что эта область знаний не касается Митки, тем более что им нужно было прежде всего получить от Митки знания, а не обучать его. Бемдж, Клэрлот и другие считали для себя за честь беседовать с Митки. Если один из них умолкал, то беседу продолжал другой.
Митки не подозревал, что сможет ответить на вопрос, пока этот вопрос не был задан. Затем он свел свои знания воедино, не понимая, как он это делает (во всяком случае, не больше меня или вас понимая, каким образом мы отвечаем на вопросы), и ответил.
— Митки, язык, на который вы говорите, общепринятый на Земле? — спросил Бемдж.
Мышонок раньше никогда не думал об этом, но выдал готовый ответ.
— Нет. Это английский, но помнится, герр профессор говорил тогда о другой язык. Кажется, он сам тоже не зналь этот язык, но когда приехаль Америка, говориль только на английский. Штобы лутше знать. Прекрасный язык, правда?
Бемдж только хмыкнул в ответ:
— Митки, мы хотель тебя предупреждайт, — сказал Клэрлот. — Будь осторошен с электричество. Новый молекулярный структур твой мозг неустойчив и…
Нетерпеливый Бемдж прервал Клэрлота и задал Митки следующий вопрос:
— Митки, а ты уверен, что герр профессор есть самый главный утшеный по ракетам?
— В общем, да, Бемдж. Есть другие, они знают больше, но што-то одно — топливо, математика, астрофизика. А все знания вместе — он главный.
— Прекрасно, — сказал Бемдж.
Маленький серый мышонок возвышался над полудюймовыми пркслианами, как динозавр. Одного укуса Митки было достаточно, чтобы прикончить любого из них. Но мышонок был ласковым и добродушным, ему и в голову не приходило так поступать, а пркслианам — его бояться.
Изучая его умственные способности, они буквально вывернули мышонка наизнанку. Они провели довольно большую работу, изучая и физические возможности мышонка, но сделали это с помощью измерения «джи»; Митки об этом и ведать не ведал.
Пркслиане исследовали содержимое его мозга и выяснили все ему известное и даже кое-что неизвестное. И они к нему привязались.
Однажды Клэрлот сказал:
— Митки, цивилизованный народ Земли носит одежда, так? Если ты хошешь сделать мыши такими же умными, как люди, знашит, нужно одеть платье.
— Блестяший идей, герр Клэрлот. И я тошно знаю, как бы я хотель бить одетым. Однашды герр профессор показал мне мышь худошника Диссней. На ней быль прекрасный платье. Профессор даль мне имя этого мыша.
— Как ше он быль одет? — живо поинтересовались пркслиане.
— Ярко-красный штаны, два большие шелтые пуговиц спереди, два — сзади. Шелтые башмаки на задний лапы и шелтый першатки на передний. Для хвост в штанах сделан дырошка.
— О'кей, Митки. Такой костюм ты будешь получать через пять минут.
Этот разговор состоялся накануне прощания с мышонком. Сначала Бемдж предложил ждать, когда Прксл приблизится к Земле на 150 тыс. миль, но Клэрлот возразил, что этого момента пришлось бы ждать пятьдесят пять земных лет, а Митки не прожил бы так долго.
Наконец, ученые Прксла нашли компромиссное решение. Они снабдили ракету топливом, с помощью которого можно будет легко преодолеть миллион с четвертью миль обратного пути. И когда настал день расставания, пркслиане сказали мышонку:
— Митки, мы сделаль тебе все, что в наш сил. Ракет подготовлен хорошо, ты дольшен приземлиться там ше, где покинул свой Земля. Конечно, летайт ты будешь дольго, и могут быть небольшой ошибка, когда будет приземление, но ошибка небольшой, поэтому все остальной — дело твой рук.
— Благодарю вас, герр Клэрлот, герр Бемдж. До свидания.
— До свидания, Митки. Нам шаль попрощаться с тобой.
Для расстояния в миллион с четвертью миль точность приземления была действительно превосходной. Ракета села в десяти милях от Бриджпорта и в шестидесяти от Хартфорда, где жил профессор Обербюргер.
Пркслиане предусмотрели все и на случай приводнения. Ракета начала тонуть, но не успела она погрузиться, как Митки открыл дверь — она была сделана так, чтобы открываться изнутри, — и вышел из ракеты.
Поверх обычной одежды на нем был герметичный костюм легче воды, который быстро вынес Митки на поверхность, где он смог освободиться от шлема.
У мышонка было достаточно синтетической пищи, чтобы продержаться неделю на воде, но, к счастью, делать это ему не пришлось. Он прицепился к якорной цепи ночного судна из Бостона, и оно доставило мышонка в Бриджпорт. Однако перед тем, как выбраться на берег, он выполнил данное Клэрлоту обещание утопить герметичный костюм: прогрыз несколько дырочек, газ вышел, и на глазах у мышонка костюм пошел ко дну.
Инстинктивно Митки чувствовал, что пока он не добрался до профессора Обербюргера и не поведал о пережитом, ему следует избегать живых существ. Опаснее всего были портовые крысы. Им ничего не стоило в один миг разорвать крошечного мышонка.
Но разум всегда торжествует. Повелительно подняв лапку в желтой перчатке, Митки сказал:
— Убирайтесь прошь!
И они убрались прочь: никого, подобного Митки, они не видывали, и он произвел на них неотразимое впечатление.
Так же поступил и пьянчужка из Бриджпорта, у которого Митки спросил путь на Хартфорд. Мы уже упоминали о том, что мышонок один-единственный раз обратился к человеку. Он принял меры предосторожности: занял такую стратегическую позицию, которая позволила бы в случае неприятности тотчас юркнуть в норку. Но пьяница исчез и не ответил на заданный вопрос.
В конце концов Митки и сам сообразил, как поступить. Он отправился в северную часть города, увидев ближайшую бензоколонку, спрятался за ней и, когда услышал, что машина направляется в Хартфорд, немедленно юркнул под сиденье.
Оставалось самое простое. Вычисления пркслиан показали, что точка отправления ракеты находилась на пять земных миль северо-западнее того места, которое — Митки это знал из профессорских разговоров — было городом Хартфордом.
И мышонок добрался до него.
— Хэлло, профессор!.
Герр профессор с беспокойством огляделся по сторонам.
— Што? Кто это ест?
— Это ест я, профессор, Митки, мышонок, которого вы посылаль на Луна. Но я не быль там. Вместо это я…
— Што? Это невозможно! Кто-то зло шутит! Но никто не знайт о ракете. Когда это слушилось, я не сказаль никому. Никто, только я…
— И я, профессор. Это правда я, Митки. Я теперь научиль говорить, совсем как вы.
— Ты говоришь — научиль… не верью. Пошему я тебя не вижу? Ты где?
— Я есть в стене, за большой дыра, я спряталь. Просто я хошу знайт, што все в порядке и вы не будете бросайт што-то тяшелым, а тогда никто не узнайт о Прксл.
— Што? Митки, если это правда, ты и я не сплю, ты знаешь лутше, я не обижу.
— О'кей, профессор!
Митки вынырнул из дыры. Профессор посмотрел на него, протер глаза, снова посмотрел и снова протер.
— Я сошель с ума, — произнес он в конце концов. — Красные панталон и шелтые… Нет, это невозмошно. Я сошель с ума.
— Нет! Профессор! Послушайт, я расскашу!
И Митки поведал историю своего путешествия. Уже забрезжил серый рассвет, а профессор и мышонок продолжали разговаривать.
— А ведь фрау Минни, твой шена, шивет в твой комнат. Хочешь ее посмотреть?
— Шена? — удивился Митки. Он совсем забыл о своей семье — ведь прошло столько времени…
А затем случилось то, чего нельзя было предугадать. Ведь профессор Обербюргер не знал о том, что Клэрлот велел Митки быть осторожным с электричеством. Митки кинулся в комнату, где в клетке без барьера жила Минни. Она спала. Лишь только Митки взглянул на нее, воспоминания о прежних днях словно молния пронзили его.
— Минни! — крикнул мышонок, забыв, что она его не поймет.
И он дотронулся до барьера.
— Скв-и-ик, — пискнул мышонок от легкого удара электротоком. Затем наступила тишина.
— Митки, — позвал профессор, — где ты делся, ведь мы же не обсудиль целый ряд вопрос?
Войдя в комнату, в сером свете зари профессор увидел двух серых мышат, прижавшихся друг к другу. Митки трудно было опознать, потому что он уже успел изгрызть в клочья одежду, ставшую ему ненавистной.
— Что случилось? — спросил профессор.
Но тут он вспомнил, как Митки пискнул от легкого удара электротоком, и его охватили смутные подозрения.
— Митки, говори со мной!
Тишина.
— Митки! Ты снова простой мышка! — улыбнулся профессор. — Но возвратиться в свой семья — разве ты не шастливый?
Некоторое время профессор с нежностью наблюдал за мышатами, затем посадил их на ладонь и опустил на пол. Один мышонок юркнул в щель немедленно, маленькие черные глазки другого с недоумением взглянули на герра Обербюргера, а затем это недоумение исчезло.
— До свиданья, Митки! Живи, как мышь. Так будет лутше, в мой дом для тебя всегда есть масса сыр.
— Пю-ик, — ответил маленький серый мышонок и юркнул в дырку.
Быть может, он хотел сказать: «Прощай», а может, и не хотел.
Уильям Тенн
Срок авансом
Через двадцать минут после того, как тюремный космолет приземлился на нью-йоркском космодроме, на борт допустили репортеров. Они бурлящим потоком хлынули в главный коридор, напирая на вооруженных до зубов надзирателей, за которыми им полагалось следовать, — впереди мчались обозреватели и хроникеры, а замыкали лавину телеоператоры, бормоча проклятия по адресу своей портативной, но все-таки тяжелой аппаратуры.
Репортеры, не замедляя бега, огибали космонавтов в черно-красной форме Галактической тюремной службы, которые быстро шагали навстречу, торопясь не упустить ни минуты из положенного им планетарного отпуска — ведь через пять дней космолет уйдет в очередной рейс с новым грузом каторжников.
Репортеры не удостаивали взглядом этих бесцветных субъектов, чье существование исчерпывается монотонными рейсами из конца в конец Галактики. К тому же жизнь и приключения гетеэсовцев описывались уже столько раз, что тема эта давно была выжата досуха. Нет, сенсационный материал ждал, их впереди!
Глубоко в брюхе корабля надзиратели раздвинули створки огромной двери и отскочили в сторону, опасаясь, что их собьют с ног и растопчут. Репортеры буквально повисли на прутьях железной решетки, которая отгораживала огромную камеру. Их жадные взгляды метались по камере, наталкиваясь на холодное равнодушие и лишь редко на любопытство в глазах людей в серых комбинезонах — люди эти лежали и сидели на нарах, которые ряд за рядом, ярус за ярусом безотрадно тянулись по всей длине трюма. И каждый человек в сером сжимал в руках пакет, склеенный из простой оберточной бумаги, а некоторые нежно его поглаживали. Старший надзиратель, выковыривая из зубов остатки завтрака, неторопливо приблизился к решетке с внутренней стороны.
— Здорово, ребята, — сказал он. — Кого это вы высматриваете? Я вам не могу помочь?
Кто-то из менее молодых и наиболее известных хроникеров предостерегающе поднял палец.
— Бросьте эти штучки, Андерсон! Космолет сел с опозданием на полчаса, и нас еще двадцать минут проманежили у трапа. Где они, черт подери?
Андерсон несколько секунд смотрел, как телеоператоры локтями отвоевывают место у самой решетки для себя и своей аппаратуры. Потом он извлек из зуба последний кусочек мяса.
— Стервятники! — бормотал он. — Охотники за мертвечиной! Упыри!
Затем, ловко перехватив дубинку, старший надзиратель стал выбивать частую дробь по прутьям решетки.
— Крэндол! — рявкнул он. — Хенк! Вперед и на середину!
Надзиратели, которые, поигрывая дубинками, мерным шагом расхаживали между многоярусными нарами, подхватили команду:
— Крэндол! Хенк! Вперед и на середину!
Их крики метались по камере, отлетая рикошетом от гигантских сводов.
— Крэндол! Хенк! Вперед и на середину!
Никлас Крэндол сел, поджав ноги, на своих нарах в пятом ярусе и сердито поморщился. Он было задремал и теперь протирал слипающиеся глаза. На тыльной стороне его кисти багровели три параллельных рубца — три прямые борозды, какие может оставить когтистая лапа хищного зверя. Над самыми бровями кожу рассекал темный зигзаг еще одного шрама. А в мочке левого уха чернела круглая дырочка. Кончив протирать глаза, он раздраженно почесал это ухо.
— Торжественная встреча! — проворчал он. — Можно было догадаться заранее! Все та же распроклятая Земля со всеми ее прелестями!
Крэндол перекатился на живот и похлопал по щеке щуплого человечка, который храпел под ним на нарах.
— Отто! — позвал он. — Отто-Блотто, давай шевелись!
Хенк, еще не открыв глаза, сразу подскочил и сел, подобрав под себя ноги. Его правая рука потянулась к шее, покрытой сеткой зигзагообразных рубцов такого же цвета и величины, как шрам на лбу Крэндола. На руке не хватало двух пальцев — указательного и среднего.
— Хенк здесь, сэр! — хрипло сказал он, потряс головой и, открыв глаза, посмотрел на Крэндола. — А, это ты, Ник… Что случилось?
— Мы прибыли, Отто-Блотто. Мы на Земле, и наши свидетельства скоро будут готовы. Еще полчаса, и ты сможешь упиться коньяком, пивом, водкой и поганым виски на всю свою наличность. Тебе уже больше не придется пить тюремную самогонку из консервной банки под нижней койкой, Отто-Блотто.
Хенк крякнул и опрокинулся на спину.
— Через полчаса! Так чего же ты разбудил меня сейчас? Что я тебе — карманник, который сначала украл, потом отсидел и теперь визжит от нетерпения, ах, где его свидетельство? Ник, а мне приснился еще один способ, как покончить с Эльзой, — такой, что закачаешься…
— Лягаши разорались, — ответил Крэндол по-прежнему спокойно. — Слышишь? Им требуемся мы — ты и я.
Хенк снова сел, прислушался и кивнул.
— Почему такие голоса бывают только у галактических лягашей, а?
— Согласно инструкции, — заверил его Крэндол. — Чтобы стать галактическим лягашом, требуется максимальный рост, минимальное образование и максимально противный голос в сочетании со способностью оглушительно орать. А без этого, какой бы ты ни был мерзопакостной сволочью, придется тебе, брат, сидеть на Земле и отводить душу, штрафуя почтенных старушек на допотопных вертолетах за превышение скорости.
Надзиратель, остановившись под ними, сердито стукнул по металлической стойке.
— Крэндол! Хенк! Вы еще каторжники, не забывайте! Даю вам две секунды, или я влезу к вам и обработаю напоследок по старой памяти.
— Есть, сэр! Иду, сэр! — отозвались они хором и начали спускаться по нарам, не выпуская из рук пакетов с одеждой, которую когда-то носили на свободе и теперь вскоре должны были надеть снова.
— Слушай, Отто! — зачастил Крэндол беззвучным тюремным шепотом, наклоняясь к самому, уху Хенка, пока они спускались. — Нас вызывают для интервью с телевизионщиками и газетчиками. Нам будут задавать сотни вопросов. Так смотри, не проговорись про…
— Телевизионщики и газетчики? А почему нас? На что мы им сдались?
— Потому что мы знаменитости, олух! Мы отсидели за мокрое дело весь срок. А много таких, как по-твоему? Заткнись и слушай. Если тебя спросят, кого ты наметил, молчи и улыбайся. На этот вопрос не отвечай. Понял? Не проговорись им, за чье убийство ты отбывал срок. Как бы они к тебе ни приставали, заставить тебя отвечать они не могут. Таков закон.
Хенк на мгновение замер в полутора ярусах над полом.
— Ник! Ведь Эльза знает! Я ей сказал в тот самый день — перед тем, как пошел в полицию. Она прекрасно знает, что сидеть за убийство я согласился бы только ради нее!
— Она знает, она знает! Ну, конечно, она знает! — Крэндол быстро и беззвучно выругался. — Но доказать-то она этого не может, тупица! А стоит тебе объявить об этом при свидетелях, и она получает право приобрести оружие и застрелить тебя без предупреждения — в порядке самообороны. А если ты промолчишь, права на это у нее не будет. Ведь она все еще твоя бедная женушка, которую ты у алтаря клялся любить, почитать и лелеять. С точки зрения всего мира…
Надзиратель привстал на цыпочки и полоснул дубинкой по их спинам. Они свалились на пол и съежились, а он рычал:
— Я вам разрешил точить лясы? Разрешил? Если у нас останется время до того, как вам выдадут свидетельства, я сведу вас, умников, в надзирательскую для последней выволочки. А теперь — живо!
Они покорно побежали, точно цыплята от разъяренной собаки. У решетки, отгораживавшей камеру, надзиратель отдал честь и доложил:
— Допреступники Никлас Крэндол и Отто Хенк, сэр!
Старший надзиратель Андерсон в ответ небрежно поднял руку к козырьку и повернулся к заключенным.
— Эти господа хотят задать вам, ребята, пару вопросов. Отвечайте — это вам не повредит. Можете идти, О'Брайен.
Голос старшего надзирателя был исполнен величайшего благодушия. На его лице широким полумесяцем играла улыбка. Надзиратель О'Брайен снова отдал честь и отошел, а Крэндол перебрал в памяти все, что он успел узнать об Андерсоне за месяц перелета от Проксимы Центавра. Андерсон задумчиво покачивает головой, когда этого беднягу Минелли… его ведь звали Стив Минелли… прогнали сквозь строй вооруженных дубинками надзирателей за то, что он пошел в уборную без разрешения. Андерсон хихикает и бьет ногой в пах седого каторжника, заговорившего с соседом во время обеда… Андерсон…
И все-таки в храбрости ему отказать нельзя — ведь он знал, что на его корабле находятся два допреступника, отбывшие срок за убийство. Впрочем, он, наверное, знал и то, что они не станут тратить свои убийства на него, как бы он ни зверствовал. Человек не отправляется добровольно на долгие годы в ад только ради удовольствия пришить одного из местных дьяволов.
— А мы обязаны отвечать на эти вопросы, сэр? — осторожно спросил Крэндол.
Улыбка старшего надзирателя стала чуть-чуть поуже.
— Я же сказал, что это вам не повредит, верно? А что-нибудь другое может и повредить. Так-то, Крэндол, все еще может. Мне бы хотелось оказать услугу представителям прессы, и вы уж, пожалуйста, будьте полюбезнее и поразговорчивее, ладно? — он слегка повел подбородком в сторону надзирательской и перехватил дубинку.
— Есть, сэр, — ответил Крэндол, а Хенк энергично кивнул. — Мы будем любезны и разговорчивы.
«Черт! — мысленно выругался Крэндол. — Если бы только это убийство не было мне так нужно для другого! Помни про Стефансона, приятель, только про Стефансона! Не Андерсон, не О'Брайен и никто другой. Только Фредерик Стоддард Стефансон!»
Пока телеоператоры по ту сторону решетки устанавливали камеры, Крэндол и Хенк отвечали на обычные предварительные вопросы репортеров.
— Ну, как вы себя чувствуете, вернувшись на Землю?
— Прекрасно. Просто прекрасно.
— Что вы намерены сделать сразу же, как получите ваши свидетельства?
— Поесть как следует. (Крэндол.)
— Напиться до чертиков. (Хенк.)
— Смотрите, как бы вам опять не угодить за решетку, уже в качестве послепреступников! (Один из хроникеров.) Общий добродушный смех, в который вносят свою лепту старший иадзиратель Андерсон и Крэндол с Хенком.
— Как с вами обращались, пока вы находились в заключении?
— Очень хорошо. (Крэндол и Хенк в один голос; задумчиво косясь на дубинку Андерсона.)
— А вы не хотите сообщить нам, кого вы намерены убить? Или хотя бы один из вас?
(Молчание.)
— Кто-нибудь из вас передумал и решил не совершать убийства?
(Крэндол задумчиво смотрит в потолок. Хенк задумчиво смотрит на пол. Снова общий смех, в котором на этот раз слышится некоторая натянутость. Крэндол и Хенк не смеются.)
— Ну, мы готовы. Повернитесь сюда, пожалуйста, — вмешался диктор телевидения. — И улыбайтесь — нам нужна настоящая сияющая улыбка.
Крэндол и Хенк покорно расплылись до ушей, и диктор получил даже три требуемых улыбки — Андерсон не преминул присоединиться к сияющей паре.
Две камеры выпорхнули из рук операторов — одна повисла над заключенными, другая быстро задвигалась перед их лицами: операторы управляли ими с помощью маленьких пультов, умещавшихся на ладони. Над объективом одной из камер вспыхнула красная лампочка.
— Итак, уважаемые телезрители и телезрительницы, — бархатно зарокотал диктор, — мы с вами находимся на борту тюремного космолета «Жан Вальжан», который только что приземлился на нью-йоркском космодроме. Мы явились сюда, чтобы познакомиться с двумя людьми — с двумя из той редкой категории людей, которые, добровольно отбывая срок за убийство, сумели отбыть его полностью и по закону получили право совершить по одному убийству каждый. Через несколько минут они будут освобождены, полностью отбыв семь лет заключения на каторжных планетах, — будут освобождены с правом убить любого мужчину или женщину в пределах Солнечной системы. Всмотритесь в их лица, дорогие телезрители и телезрительницы, — ведь, быть может, они изберут именно вас!
После этого оптимистического замечания диктор сделал небольшую паузу, и объективы впились в лица двух мужчин в серых тюремных комбинезонах. Затем диктор вошел в поле зрения камер и обратился к тому из заключенных, который был ниже ростом.
— Ваше имя, сэр?
— Допреступник Отто Хенк, номер пятьсот двадцать пять пятьсот четырнадцать, — привычно отбарабанил Отто-Блотто, хотя слово «сэр» его немного сбило.
— Как вы себя чувствуете, вернувшись на Землю?
— Прекрасно. Просто прекрасно.
— Что вы намерены сделать сразу, как получите свидетельство?
Хенк помолчал в нерешительности, потом робко покосился на Крэндола и ответил:
— Поесть как следует.
— Как с вами обращались, пока вы находились в заключении?
— Очень хорошо. Так хорошо, как можно было ожидать.
— Как мог бы ожидать преступник, э? Но ведь вы пока еще не преступник, верно? Вы же допреступник.
Хенк улыбнулся так, словно впервые услышал это определение.
— Верно, сэр, я допреступник.
— Не хотите ли вы сообщить телезрителям, кто то лицо, из-за которого вы готовы стать преступником?
Хенк укоризненно взглянул на диктора, который испустил сочный смешок
— на этот раз в полном одиночестве.
— Или, быть может, вы оставили свое намерение относительно его или ее?
Наступила пауза, и диктор сказал несколько нервно:
— Вы отбыли семь лет на полных опасностей неосвоенных планетах, готовя их для заселения человеком. Это максимальный срок, предусмотренный законом; не так ли?
— Да, сэр. С зачетом, положенным допреступникам, отбывающим срок авансом, за убийство больше семи лет не дают.
— Бьюсь об заклад, вы рады, что в наши дни смертная казнь отменена, а? Впрочем, в этом случае отбытие наказания авансом утратило бы смысл, не так ли? А теперь, мистер Хенк — или я все еще должен называть вас. «допреступник Хенк»? — может быть, вы расскажете нашим телезрителям, какое происшествие из случившихся с вами за время отбытия срока вы считаете самым жутким?
— Ну-у… — Хенк задумался. — Хуже всего, пожалуй, было на Антаресе-8, в моем втором лагере, когда большие осы начали откладывать яйца… Видите ли, на Антаресе-8 водится оса, которая в сто раз больше…
— Там вы и потеряли эти два пальца?
Хенк поднял искалеченную руку и внимательно ее оглядел.
— Нет. Указательный палец я потерял на Ригеле-12. Мы строили первый лагерь на этой планете, и я выкопал такой странный красный камень, весь в шишечках. Ну, я и ткнул в него пальцем — посмотреть, очень ли он твердый, — и кончика пальца как не бывало! Фьють — и нет его. А потом весь палец загноился, и врачи его оттяпали напрочь. Ну, да мне еще очень повезло. Кое-кто из ребят, из каторжников то есть, наткнулся на камушки побольше моего, так они потеряли кто ногу, кто руку, а один и вовсе был проглочен целиком. На самом деле ведь это были не камни, а живые твари — живые и голодные! Ригель-12 так ими и кишит. Ну, а средний палец… средний палец я потерял по глупости на космолете, когда нас перевозили в…
Диктор понимающе кивнул, кашлянул и сказал:
— Но осы, гигантские осы на Антаресе-8 были хуже всего?
Отто-Блотто не сразу сообразил, о чем идет речь, и растерянно замигал.
— А-а… Это точно. Они кладут яйца под кожу обезьян, которые водятся на Антаресе-8, понимаете? Обезьянам, конечно, приходится туго, зато у осиных личинок есть пища, пока они не вырастут. Ну, мы там обосновались, и тут оказалось, что осы не видят никакой разницы между этими обезьянами и — людьми. Все шло гладко, а потом вдруг то один хлопнется без чувств, то другой. Забрали их в больницу, сделали рентген, и оказалось, что они прямо нашпигованы…
— Благодарю вас, мистер Хенк, ко наши телезрители уже не меньше трех раз видели осу Херкмира и слушали рассказ о ней во время «Межзвездного полета». Программа эта, как вы, без сомнения, помните, дорогие телезрители, передается по средам от девятнадцати до девятнадцати тридцати по среднеземному времени. А теперь, мистер Крэндол, разрешите спросить вас, сэр, как вы себя чувствуете, вернувшись на Землю?
Крэндол выступил вперед и подвергся примерно такому же допросу, как и его товарищ.
Впрочем, произошло одно значительное отступление от шаблона. Диктор спросил, думает ли он, что Земля за это время сильно изменилась. Крэндол приготовился пожать плечами, потом вдруг усмехнулся.
— Одну заметную перемену я вижу уже сейчас, — сказал он. — Вот эти парящие в воздухе камеры, которыми управляют с помощью маленьких коробочек. В тот день, когда я расстался с Землей, этого еще не существовало. Изобретатель, наверное, неглупый человек.
— А? — диктор оглянулся. — Вы говорите о дистанционном переключателе Стефансона? Его изобрел Фредерик Стоддард Стефансон лет пять назад. Верно, Дон?
— Шесть лет, — поправил телеоператор. — Пять лет назад переключатель поступил в продажу.
— Переключатель был изобретен шесть лет назад, — пояснил диктор. — А в продажу он поступил пять лет назад.
Крэндол кивнул.
— Ну, так этот Фредерик Стоддард Стефансон, должно быть, очень неглупый человек, очень-очень неглупый, — и он снова усмехнулся в объектив камеры.
«Гляди на меня! — подумал он. — Я ведь знаю, что ты смотришь эту передачу, Фредди! Гляди на меня и трепещи!»
Диктор как будто немного опешил.
— Да… — сказал он. — Вот именно. А теперь, мистер Крэндол, не расскажете ли вы нам о самом жутком происшествии…
После того как телеоператоры собрали свое оборудование и удалились, репортеры обрушили на обоих допреступников последний шквал вопросов, надеясь выведать что-нибудь пикантное.
«Роль женщины в вашей жизни?», «Ваши любимые книги, ваше хобби, ваши развлечения?», «Встречались ли вам на каторжных планетах атеисты?», «Если бы вам пришлось повторить все сначала…»
Никлас Крэндол отвечал вежливо и скучно, а сам думал о Фредерике Стоддарде Стефансоне, который сидит сейчас перед своим роскошным телевизором с экраном во всю стену.
Или Стефансон уже выключил телевизор? Может быть, он сейчас сидит, уставившись на погасшими экран, и старается разгадать замыслы человека, который выжил, хотя, согласно статистическим данным, у него был на это лишь один шанс из десяти тысяч, и вернулся на Землю, отбыв все семь невероятных лет в лагерях на четырех каторжных планетах…
А может быть, Стефансон, посасывая губы, вертит в руках свой бластер
— бластер, которым ему не придется воспользоваться. Ведь если не будет неопровержимо доказано, что он убил, не превысив пределов необходимой обороны, ему придется отбыть за убийство полный срок без зачета семи лет, положенного тем, кто добровольно отбывает наказание авансом. И он обречет себя на четырнадцать лет в кошмарном аду, из которого только что вернулся Крэндол.
Но может быть, Стефансон сидит, скорчившись в дорогом пневматическом кресле, и угрюмо смотрит на экран невыключенного телевизора — оледенев от
— ужаса и все-таки не в силах оторваться от увлекательной передачи; которую подготовила телевизионная компания в связи с возвращением двух (нет, вы только подумайте — двух!) допреступников, авансом отбывших срок за убийство.
Сейчас, наверное, передается интервью с каким-нибудь земным представителем Галактической тюремной службы, энергичным начальником отдела по связи с прессой, поднаторевшим в социологических терминах.
«Скажите, мистер Имярек, — начнет диктор (другой диктор — более солидный и интеллигентный), — часто ли допреступники полностью отбывают срок за убийство и возвращаются на Землю?»
«Статистические данные, — эти слова сопровождаются шелестом бумаги и сосредоточенным взглядом вниз, за кадр, — статистические данные показывают, что человек, полностью отбывший срок за убийство с зачетом, положенным допреступникам, возвращается на Землю в среднем лишь раз в одиннадцать и семь десятых года».
«Таким образом, мистер Имярек, можно сказать, что возвращение двух таких людей в один и тот же день — событие довольно необычное?»
«Весьма необычное, иначе вы, телевизионщики, не подняли бы вокруг него такую шумиху». (Жирный смешок, которому вежливо вторит диктор.) «А что происходит с теми, кто не возвращается, мистер Имярек?»
(Изящный взмах широкой пухлой руки.) «Они гибнут. Или отказываются от своего намерения. Семь лет на каторжных планетах — это не шутка. Работа там не для неженок — не говоря уж о местных живых организмах, как крупных, человекоядных, так и крохотных, вирусоподобных. Вот почему тюремные служащие получают такую высокую плату и такие длительные отпуска. В некотором смысле мы вовсе не отменяли смертной казни, а только заменили ее общественно полезным подобием рулетки. Любой человек, совершивший или намеренный совершить одно из особо опасных преступлений, высылается на планету, где его труд принесет пользу всему человечеству и где у него нет стопроцентной гарантии, что он вернется на Землю — хотя бы даже калекой. Чем серьезнее преступление, тем длиннее срок и, следовательно, тем меньше шансов на возвращение».
«Ах, вот как! Но, мистер, Имярек, вы сказали, что они либо гибнут, либо отказываются от своего намерения. Не будете ли вы так добры объяснить нашим телезрителям, в чем выражается их отказ и что тогда происходит?»
Мистер Имярек откидывается в кресле и сплетает пухлые пальцы на округлом брюшке.
«Видите ли, всякий допреступник имеет право обратиться к начальнику лагеря с просьбой о немедленном освобождении, для чего достаточно заполнить соответствующий бланк. Этого человека немедленно снимают с работ и с первым же кораблем отправляют на Землю. Соль тут вот в чем: та часть срока, которую он уже отбыл, полностью аннулируется, и он не получает никакой компенсации. Если, выйдя на свободу, он совершает настоящее преступление, он должен отбыть положенный срок полностью. Если он вновь выражает желание отбыть срок авансом, то опять отбывает его, с самого начала, хотя, разумеется, с положенным зачетом. Трое из каждых четырех допреступников подают просьбу об освобождении в первый же год. Эти планеты быстро придаются».
«Да, я думаю! — соглашается диктор. — Но мы хотели бы ужинать ваше мнение о зачете, положенном допреступникам. Ведь многие, как вам известно, считают, что такое сокращение срока вдвое слишком соблазнительно и порождает преступников».
По холеному благообразному лицу пробегает еле уловимая гримаса злости, которая тотчас сменяется снисходительно-презрительной усмешкой.
«Боюсь, что эти люди, хотя и движимые самыми лучшими побуждениями, не слишком осведомлены в вопросах современной криминалистики и педологии. Мы вовсе не стремимся уменьшать число допреступников, мы стремимся его увеличивать.
Вы помните, я сказал, что трое из четырех подают просьбу об освобождении в первый же год? Эти индивиды были достаточно благоразумны и попытались отбыть лишь половину срока, положенного за их преступление. Так неужели же они будут настолько глупы и все-таки совершат преступление с риском получить полный срок без зачета, когда уже убедились, что не могут выдержать и двенадцати месяцев каторги? Не говоря уж о том, что на этих планетах, где выживают лишь отдельные счастливчики, вытянувшие выигрышный билет в лотерее борьбы за существование, они на практике постигают ценность человеческой жизни, необходимость социального сотрудничества и преимущества цивилизованных методов.
А тот, кто не просит об освобождении? Ну, у него есть достаточно времени, чтобы желание совершить задуманное преступление совсем остыло, не говоря уж и о гораздо большей вероятности того, что он погибнет и останется ни с чем. Таким образом, число допреступников, которые возвращаются и совершают задуманное преступление, настолько мало, что общество оказывается в колоссальном выигрыше! Разрешите, я приведу несколько цифр.
Оценка по шкале Лазареса показывает, что уменьшение числа одних только умышленных убийств со времени введения зачета для допреступников составляет 41 % для Земли, 33,3 % для Венеры, 27 % для…»
«Плохим, очень плохим утешением послужат Стефансону эти 41 % и 33,3 %», — с удовольствием подумал Никлас Крэндол. Сам он учитывался в другой графе этих статистических выкладок — человек, который по достаточно веской причине хочет убить некоего Фредерика Стоддарда Стефансона. Он был остатком на странице вычитаний и погашений — вопреки вероятности он вернулся после семи лет каторги, чтобы получить товар, оплаченный авансом.
Он и Хенк. Два воплощения до нелепости крохотного шанса. Жена Хенка, Эльза… может быть, и она сидит перед своим телевизором, точно птица, завороженная взглядом змеи, в тупом отчаянии надеясь, что объяснения представителя Галактической тюремной службы подскажут ей, как избежать неизбежного, как спастись от столь редкой судьбы, которая ей уготована.
Впрочем, об Эльзе пусть думает Отто-Блотто. Пусть радуется: он дорого заплатил за это право. Но Стефансон принадлежит ему, Крэндолу.
«Я хочу, чтобы этот долговязый бандит как следует попотел от страха, я буду выжидать своего часа, и пусть он трясется!»
Репортеры продолжали допрос; но тут громкоговоритель над их головами откашлялся и объявил:
«Заключенные, на выход! Первый десяток собирается и идет в канцелярию начальника корабля. Все правила распорядка строго соблюдаются до самого конца. Вызываются: Артур, Вуглюк, Гарфинкель, Гомес, Грэхем, Крэндол, Феррара, Фу-Йен, Хенк…»
Через полчаса они уже шли по центральному коридору к трапу в своей старой гражданской одежде. У выхода они предъявили свидетельства часовому, механически-угодливо улыбнулись Андерсону, когда он крикнул в иллюминатор: «Эй, ребята, возвращайтесь поскорее!», и сбежали по наклонным сходням на поверхность планеты, которую нс видели семь долгих мучительных лет.
У выхода их опять поджидали репортеры и фотографы, а также один телеоператор, которому было поручено показать их миру в первые минуты свободы.
Вопросы, вопросы — но теперь они могли позволить себе резкие ответы, хотя им было еще трудно отвечать грубо кому бы то ни было, кроме товарищей по-заключению.
К счастью, внимание репортеров отвлек третий допреступник, который шел с ними. Фу-Йен отбыл два года с зачетом за избиение с нанесением увечий. А к тому же он лишился обеих рук и одной ноги в едких мхах Проциона-3 всего за месяц до освобождения и теперь медленно ковылял по сходням на здоровой ноге и протезе — держаться за перила ему было нечем.
Когда репортеры с неподдельным интересом принялись расспрашивать его, каким образом он намерен осуществить избиение, не говоря уж о нанесении увечий, при столь ограниченных возможностях; Крэндол толкнул Хенка локтем, они быстро сели в ближайшее гиротакси и попросили водителя отвезти их в какой-нибудь бар — поскромнее и потише.
Полная свобода выбора совершенно ошеломила Отто-Блотто.
— Ник, я не могу! — прошептал он. — Слитков уж тут много всякой выпивки!
Крэндол вывел его из затруднения, заказав для них обоих.
— Два двойных виски, — сказал он официантке. — И больше ничего.
Когда виски было принесено, Отто-Блотто уставился на рюмку с грустной недоуменной нежностью — так смотрит отец на сына-подростка, которого в последний раз видел еще грудным младенцем. Он осторожно протянул к ней трясущуюся руку.
— За смерть наших врагов! — сказал Крэндол и, залпом вылив свое виски, стал смотреть, как Отто-Блотто медленно прихлебывает, смакуя каждую каплю.
— Не увлекайся! — сказал он предостерегающе. — Не то Эльза и не заметит твоего возвращения — разве что будет возить цветы по приемным дням в клинику для алкоголиков.
— Можешь не опасаться, — проворчал Отто-Блотто в пустую рюмку. — Я вскормлен на этом зелье. Да и в любом случае я больше не пью, пока с ней не разделаюсь. Я так все и задумал, Ник: одна рюмка, чтобы отпраздновать свободу, потом Эльза. Я выдержал эти семь лет не для того, чтобы теперь по собственной промашке остаться в дураках.
Хенк поставил рюмку на стол.
— Семь лет то в одном кромешном аду, то в другом. А до того — двенадцать лет с Эльзой. Двенадцать лет она измывалась надо мной, как хотела, смеялась мне в глаза и говорила, что по закону она моя жена, что я обязан ее содержать и буду ее содержать, а не то мне же будет хуже. А чуть только я переставал ползать перед ней на брюхе, она тут же находила способ упечь меня за решетку. Потом через месяц-другой говорила судье, что я, наверное, образумился и она готова меня простить! Я на коленях просил ее дать мне развод, в ногах у нее валялся — детей у нас нет, она здоровая, молодая, а она только смеялась мне в лицо. Когда ей надо было засадить меня, так перед судьей она плакала и рыдала, но когда мы оставались с ней вдвоем, она только хохотала, глядя, как меня корчит. Я содержал ее, Ник. Отдавал ей все, что зарабатывал, до последнего цента, но этого ей было мало. Ей нравилось смотреть, как я корчусь, она сама мне так и сказала. Ну, а сейчас пришел ее черед корчиться. — И, крякнув, он добавил: — Женятся только дураки.
Крэндол поглядел в открытое окно, рядом с которым он сидел. Там на множестве уходящих вниз уровней бурлила обычная жизнь Нью-Йорка.
— Может быть, — произнес он задумчиво. — Не берусь судить. Мой брак был счастливым, пока он длился, — все пять лет. А потом вдруг счастье исчезло — словно масло прогоркло.
— Во всяком случае, она дала тебе развод, — заметил Хенк. — А не вцепилась в глотку.
— О, Полли была не из тех женщин, которые вцепляются кому-нибудь в глотку. Я звал ее Прелесть Полли, а она меня — Большой Ник. А потом звездный блеск потускнел, да и я тоже, наверное. Тогда я еще лез из кожи вон, пытаясь добиться, чтобы наша с Ирвом фирма приносила прибыль. Оптовая торговля электронным оборудованием. Ну и, конечно, нетрудно было понять, что миллионера из меня не выйдет. Возможно, дело было именно в этом. Но так или иначе, Полли решила уйти, и я не стал ей мешать. Мы расстались друзьями. Я часто думаю, что она теперь…
Раздался хлопок, похожий на всплеск, — словно тюлень ударил ластом по воде. Крэндол взглянул на стол, где между рюмками теперь лежал чуть приплюснутый шар. В тот же миг рука Хенка подхватила шар и швырнула его в окно. В воздух взвились длинные зеленые нити, но шар уже падал вдоль стены гигантского здания, и рядом не было живой плоти, в которую они могли бы впиться.
Уголком глаза Крэндол успел заметить, что какой-то человек стремглав выбежал из бара. Несомненно, это он бросил шар: остальные посетители испуганно смотрели ему вслед и оглядывались на их столик. Стефансон, очевидно, решил, что за Крэндолом стоит установить слежку и обезвредить его.
Отто-Блотто не стал хвалиться быстротой своей реакции. Они оба уже научились действовать мгновенно — чужие смерти преподали им немало полезных уроков. И Хенк сказал только:
— Одуванчик-бомба с Венеры. Ну, во всяком случае, Ник, этот типчик не хочет тебя убить. Просто искалечить.
— Да, это в духе Стефансона, — согласился Крэндол, когда, заплатив по счету, они направились к выходу, а лба вокруг только еще начали бледнеть.
— Сам он этого не сделал бы. Нанял бы исполнителя. И нанял бы его через посредника, на случай, если: исполнитель попадет в руки полиции и расколется. Но и то был бы риск: обвинение в уже совершенном убийстве его никак не устроило бы. Вот он и прикинул: небольшая доза одуванчика-бомбы — и я для него уже не опасен. Возможно, он даже навещал бы меня в приюте для неизлечимо больных. Ведь присылал же он мне на каждое рождество открытки все эти семь лет. И всегда одно и то же: «Еще злишься? Привет! Фредди».
— Этот твой Стефансон — парень ничего себе! — сказал Отто-Блотто, внимательно огляделся по сторонам и только тогда вышел из бара на тротуар пятнадцатого уровня.
— Очень даже. Он держит меня в кулаке и время от времени сжимает кулак покрепче — так просто, для забавы. Я познакомился с его методами, еще когда мы делили комнату в студенческом общежитии, но думаешь, это мне хоть чуточку помогло? Я случайно встретился с ним, когда наша с Ирвом фирма была уже при последнем издыхании, года через два после того, как мы с Полли разошлись. Мне было очень скверно и хотелось излить кому-нибудь душу — вот я и рассказал ему, что мой компаньон дрожит над кандым грошом, а я строю воздушные замки, и вдвоем мы доведем до верного банкротства фирму, которая могла бы стать золотым дном. А потом я добрался и до моего дистанционного переключателя — как мне, дескать, хотелось бы заняться им всерьез, да все нет времени.
Отто-Блотто то и дело тревожно оглядывался — не потому, что опасался нового нападения, а потому, что его как-то смущала возможность ходить свободно. Встречные останавливались, глядя на их старомодные туники до колен.
— Вот так-то! — продолжал Крэндол. — Конечно, я свалял дурака, но поверь, Отто, ты и представления не имеешь, как ловко и убедительно субъекты, вроде Фредди Стефансона, умеют разыгрывать дружеское участие; Он сказал мне, что у него есть загородный дом, но он в нем сейчас не живет, а в подвале оборудовал электронную лабораторию с новейшей аппаратурой. И если я захочу, то со следующей недели он отдаст и дом, и лабораторию в полное мое распоряжение. Вот только о своем пропитании я должен буду заботиться сам. Никакой платы ему не нужно: делает он это по старой дружбе и потому, что хочет, чтобы я не разменивался на мелочи, а создал что-то по-настоящему большое. Ну, как я мог не попасться на такую удочку?! И только через два года я сообразил, что лабораторное оборудование он установил в этом подвале уже после нашего разговора — когда я предложил Ирву за две сотни выкупить мою долю в нашей фирме. Зачем, собственно, могла понадобиться электронная лаборатория Стефансону, владельцу маклерской конторы? Но подобные вещи как-то не приходят в голову, когда старый товарищ проявляет к тебе такое теплое дружеское участие.
Отто вздохнул и продолжал:
— Ну, и он навещал тебя чуть ли не каждую неделю, а когда твоя новая штучка заработала как миленькая, он захлопнул дверь перед твоим носом, а все твои чертежи и готовую штучку увез неизвестно куда. А тебе сказал, что запатентует ее прежде, чем ты успеешь восстановить хотя бы один чертеж. Да и вообще работал-то ты в его доме. И он сумеет доказать, что он тебя субсидировал. И тут он расхохотался тебе в лицо, прямо как Эльза. Верно, Ник?
Крэндол закусил губу, вдруг осознав, что Отто Хенк знает его историю наизусть. Сколько раз они делились планами мести и рассказывали друг другу, что привело их на каторгу! Сколько раз каждый повторял все ту же горькую повесть, а товарищ говорил те же слова сочувствия, одинаково соглашался и даже одинаково возражал!
Внезапно Крэндолу захотелось избавиться от Отто-Блотто и насладиться блаженством одиночества. Двумя уровнями ниже он увидел сверкающую крышу отеля.
— Пожалуй, я пойду туда. Давно пора подумать о ночлеге.
Отто кивнул, догадываясь, чем вызвано это внезапное решение.
— Валяй! Я тебя понимаю. Но не жирно ли это будет, Ник? «Козерог-Ритц»! Не меньше двенадцати кредитов в день.
— Ну и что? Неделю я могу пошиковать. А когда сяду на мель, мне с моей биографией нетрудно будет найти выгодную работу. Сегодня я хочу пошиковать, Отто-Блотто.
— Ну, ладно, ладно. Адрес мой у тебя есть, Ник? Я буду у моего двоюродного брата.
— Да, есть. Ну, желаю удачи с Эльзой, Отто!
— Спасибо! Удачи с Фредди! Ну, и… пока!
Отто-Блотто резко повернулся и вошел в лифт. Когда двери за ним закрылись, Крэндолу вдруг стало грустно. Хенк был теперь для него ближе родного брата. Ведь они с Хенком не расставались последние годы ни днем, ни ночью. А Дэна он не видел… сколько же это… да, почти девять лет.
И Крэндол вдруг почувствовал, как мало, в сущности, осталось у него связей с миром людей, если не считать негативного желания убрать из этого мира Фредди Стефансона. Сейчас ему, пожалуй, была бы нужна женщина — и сойдет почти любая.
Нет, ему гораздо нужнее нечто совсем другое — и времени терять нельзя.
Он быстро зашагал к ближайшей аптеке — очень большой и очень роскошной. В самом центре витрины он сразу увидел то, что ему было нужно.
Подойдя к прилавку, Крэндол спросил продавца:
— Что-то очень уж дешево — может быть, бракованная партия?
Продавец ответил с видом оскорбленного достоинства:
— Прежде, чем мы пускаем товар в продажу, сэр, он подвергается тщательнейшей проверке. А цена такая низкая потому, что мы — самая крупная оптовая фирма во всей Солнечной системе.
— Ну, ладно, дайте мне один среднего калибра. И две коробки патронов.
С бластером в кармане Крэндол почувствовал себя немного спокойнее. Он был вполне уверен, что в нужный момент успеет отпрянуть, увернуться, отпрыгнуть — эту уверенность воспитали долгие годы, когда ему приходилось каждую минуту опасаться нападения хищных тварей с молниеносными реакциями. Однако всегда приятно иметь возможность ответить ударом на удар. Да и Стефансон, конечно, не станет долго тянуть со следующей попыткой.
В отеле Крэндол назвался вымышленной фамилией — эта хитрость пришла ему в голову в самый последний момент. «И могла бы вовсе не приходить», — подумал он, когда лифтер, получив чаевые, сказал:
— Спасибо, мистер Крэндол. Желаю вам благополучно прикончить вашу жертву, сэр.
Итак, он — знаменитость. Возможно, его лицо знает весь мир. Пожалуй, из-за этого будет труднее добраться до Стефансона.
Перед тем как пройти в ванную, Крэндол запросил у телесправочного бюро сведения о Стефансоне. Семь лет назад Стефансон уже был достаточно богат и известен в деловых кругах. А теперь благодаря стефансоновскому переключателю (стефансоновскому, черт побери!) он, вероятно, стал еще богаче и гораздо известнее.
Так и оказалось. Телевизор сообщил, что за последний календарный месяц в бюро поступило шестнадцать записей, касающихся Фредерика Стоддарда Стефансона. Крэндол подумал и попросил, чтобы ему проиграли последнюю. Она была датирована этим днем. «Фредерик Стефансон, президент Стефансоновского сберегательного банка и Стефансоновской электронной корпорации, отбыл сегодня рано утром в свой гималайский охотничий домик. Он намерен пробыть там не менее…»
— Достаточно! — крикнул Крэндол из ванны.
Значит, Стефансон струсил. Долговязый бандит ополоумел от страха! Это уже кое-что. Неплохой процент с семи лет каторги. Пусть попотеет хорошенько — так, чтобы смерть, когда они наконец полностью сведут счеты, показалась ему облегчением.
Крэндол заказал последние известия и имел удовольствие выслушать последнюю сводку новостей о себе самом — о том, что он поселился в отеле «Козерог-Ритц» под именем Александра Смейзерса. «Но оба эти имени — и Крэндол, и Смейзерс — неверны, — ораторствовала равнодушная запись; — У этого человека есть только одно истинное имя, и это имя — Смерть! Да, сегодня в отеле „Козерог-Ритц“ поселился юнец жизней, и только он один знает, кому из нас не суждено увидеть новый восход солнца. Этот человек, этот Жнец человеческих жизней, этот посланец Смерти — единственный среди нас, кому известно…»
— Заткнись! — в бешенстве завопил Крэндол. За эти семь лет он совсем забыл, какие муки вынужден безропотно переносить свободный человек.
На телевизионном экране вспыхнул сигнал частного телевизионного вызова. Крэндол поспешно вытерся, оделся и спросил:
— Кто это?
— Миссис Никлас Крэндол, — ответил голос телевизионистки.
Крэндол потрясенно уставился на экран.
Полли! Откуда она вдруг взялась?
И как она узнала, где его найти? Впрочем, на последний вопрос ответить было нетрудно — он же знаменитость!
Экран заполнило лицо Полли. Крэндол внимательно рассматривал его, слегка улыбаясь. Она немного постарела, но, пожалуй, заметить морщинки можно только при таком увеличении…
И Полли как будто тоже это сообразила: во всяком случае, она повернула ручку настройки, и ее лицо уменьшилось до нормальных размеров — теперь были видны вся ее фигура и окружающая обстановка. Полли, по-видимому, звонила ему из дома. Комната выглядела, как все гостиные меблированных квартир для небогатых людей, зато сама Полли выглядела прекрасно и смотреть на нее было очень приятно. У Крэндола потеплело на сердце от воспоминаний…
— Полли! Здравствуй! Что случилось? Вот уж не ожидал увидеть тебя!
— Здравствуй, Ник, — она прижала руку ко рту и несколько секунд молча смотрела на него, а потом сказала:
— Ник… Ну, пожалуйста! Пожалуйста, не мучь меня!
Крэндол сел на первый попавшийся стул.
— Что?
Полли заплакала.
— Ах, Ник! Не надо! Не будь таким жестоким. Я знаю, почему ты отбыл этот срок, эти семь лет. Едва я сегодня услышала твою фамилию, как сразу все поняла. Но, Ник, ведь, кроме него, никого не было. Только он, он один!
— Один он… что он?
— Я была тебе неверна только с ним. И я думала, что он любит меня, Ник. Я не стала бы разводиться с тобой, если бы знала, какой он на самом деле. Но ведь ты это знаешь, Ник! Знаешь, как он заставил меня страдать. Я уже достаточно наказана, Ник, не убивай меня, пожалуйста, не убивай!
— Полли, послушай, — сказал он ошеломленно. — Полли, деточка, ради бога…
— Ник! — истерически всхлипнула она. — Ник, ведь с тех пор прошло одиннадцать лет: Во всяком случае, десять. Не убивай меня за это, Ник, пожалуйста, не убивай. Ник, честное слово, я была тебе неверна только год. Ну, от силы два. Честное слово, Ник. И ведь только с ним одним; Остальные не в счет. Это были так… мимолетные увлечения. Они ничего не меняли, Ник. Только не убивай меня! Не убивай! — и, закрыв лицо руками, она затряслась в неудержимых рыданиях.
Крэндол несколько секунд смотрел на нее, потом облизнул пересохшие губы. Потом присвистнул и выключил телевизор. Потом откинулся на спинку стула и снова присвистнул — но на этот раз сквозь стиснутые зубы, так что получился не свист, а шипение.
Полли! Полли ему изменяла! Год… нет, два года! И… как это она выразилась? — остальные! Остальные были лишь мимолетными увлечениями!
Единственная женщина, которую он любил и, кажется, никогда не переставал любить, женщина, с которой он расстался с бесконечным сожалением, виня во всем только себя, когда она сказала ему, что дела фирмы отняли его у нее, но так как было ей нечестно просить его отказаться от того, что, очевидно, столь для него важно…
Прелесть Полли! Полли-деточка! Пока они были вместе, он ни разу даже не посмотрел на другую женщину. А если бы кто-нибудь посмел сказать… или даже намекнуть… он раскроил бы наглецу физиономию гаечным ключом! Он развелся с ней только потому, что она его об этом попросила, но продолжал надеяться, что, когда фирма окрепнет и основная часть работы ляжет на плечи Ирва, заведовавшего бухгалтерией, они с Полли вновь найдут друг друга. Но дела пошли еще хуже, жена Ирва серьезно заболела, Ирв стал все реже и реже показываться в конторе, и…
— У меня такое ощущение, — пробормотал он вслух, — будто я сейчас узнал, что добрых волшебников не бывает. Чтобы Полли… И все эти светлые годы… Один человек! А остальные — только мимолетные увлечения!
Снова вспыхнул телевизионный сигнал.
— Кто это? — раздраженно буркнул Крэндол.
— Мистер Эдвард Болласк.
— Что ему нужно? (Чтобы Полли, Прелесть Полли…) На экране появилось изображение чрезвычайно толстого человека. Он настороженно осмотрел номер.
— Я должен спросить вас, мистер Крэндол, уверены ли вы, что ваш телевизор не подключен к линии подслушивания.
— Какого черта вам нужно?
Крэндол почти жалел, что толстяк не явился к нему лично. С каким бы удовольствием он сейчас кого-нибудь хорошенько отделал!
Мистер Эдвард Болласк укоризненно покачал головой, и его щеки заколыхались где-то под подбородком.
— Ну что же, сэр, если вы не можете дать мне такой гарантии, я буду вынужден рискнуть. Я обращаюсь к вам, мистер Крэндол, с призывом простить вашим врагам, подставить под оскорбившую длань другую щеку. Я взываю к вам: откройте душу вере, надежде и милосердию — и главное, милосердию, которое превыше всех остальных добродетелей. Другими словами, сэр, забудьте о ненависти к тому или к той, кого вы намеревались убить, поймите душевную слабость, толкнувшую их сделать то, что они сделали, и простите их.
— Почему я должен им прощать? — в бешенстве спросил Крэндол.
— Потому что так вы изберете благую участь, сэр: я имею в виду не только нравственные блага, хотя не должно забывать и о духовных ценностях, но и материальные блага. Материальные, мистер Крэндол.
— Будьте любезны, объясните мне, о чем вы, собственно, говорите.
Толстяк наклонился вперед и вкрадчиво улыбнулся.
— Если вы простите того, кто заставил вас принять семь долгих лет страданий, семь лет лишений и мук, мистер Крэндол, я готов предложить вам чрезвычайно выгодную сделку. У вас есть право на одно убийство. Мне требуется одно убийство. Я очень богат. Вы же, насколько я могу судить, сэр, — не поймите это превратно — очень бедны. Я могу обеспечить вас до конца ваших дней — и не просто обеспечить, мистер Крэндол, — если только вы откажетесь от своего замысла, от своего недостойного замысла, поборете злобу, отринете личную месть. Видите ли, у меня есть конкурент, который…
Крэндол выключил телевизор.
— Сам отсиди свои семь лет, — ядовито посоветовал он померкшему экрану. И вдруг ему стало смешно. Он откинулся на спинку стула и захохотал.
У, жирная свинья! Вздумал пичкать его евангельскими текстами!
Однако этот звонок принес свою пользу. Теперь он увидел смешную сторону их разговора с Полли. Только подумать: она сидит в своей убогой комнатке и трясется из-за грязных интрижек десятилетней давности! Только подумать: она вообразила, что он прошел через семилетний ад из-за такой…
Крэндол представил себе это и пожал плечами.
— И пусть. Ей это только полезно.
Тут он почувствовал, что очень голоден.
Он хотел было распорядиться, чтобы обед принесли ему в номер, опасаясь еще одной встречи со стефансоновским метателем шаров, но потом передумал. Если Стефансон всерьез охотится за ним, то нет ничего легче, чем подсыпать чего-нибудь в предназначенный ему обед. Куда безопаснее поесть в ресторане, выбранном наугад.
Кроме того, будет приятно посидеть в ярко освещенном зале, послушать музыку, развлечься немного. Ведь это его первый вечер на свободе — и надо как-то избавиться от скверного привкуса во рту, который остался от разговора с Полли.
Прежде чем выйти за дверь, он внимательно осмотрел коридор. Ничего подозрительного. Но ему вспомнилась крохотная планетка вблизи Веги, где они вот так же оглядывались по сторонам каждый раз, когда выбирались из туннелей, образованных параллельными рядами высоких хвощей. А если не оглядеться… неосторожных иногда подстерегал огромный пиявкообразный моллюск, который умел метать куски своей раковины с большой силой и на порядочное расстояние. Обломок только оглушал жертву, но за это время пиявка успевала подобраться к ней. А эта пиявка могла высосать человека досуха за десять минут.
Один раз такой обломок попал в него, но пока он валялся без сознания, Хенк… старина Отто-Блотто! Крэндол улыбнулся. Неужели настанет день, когда они будут вспоминать пережитые ужасы с ностальгической тоской? Так старым солдатам бывает приятно за кружкой пива вспомнить даже самые тяжелые испытания войны. Ну что ж — во всяком случае, они пережили эти ужасы не ради жирных святош вроде мистера Эдварда Болласка, мечтающих безнаказанно убивать чужими руками.
И уж если на то пошло, не ради подленьких трусливых потаскушек вроде Полли.
«Фредерик Стоддард Стефансон. Фредерик Стоддард Стефансон…»
Кто-то положил руку ему на плечо, и, очнувшись, он увидел, что уже прошел половину вестибюля.
— Ник!
Крэндол обернулся. Подстриженная бородка клинышком — у него не было знакомых с такими бородками, но глаза были ему удивительно знакомы…
— Ник, — сказал человек с бородой, — я не смог.
Эти глаза… ну конечно же, это его младший брат!
— Дэн! — крикнул он.
— Да, это я. Вот!
Что-то со стуком упало на пол. Крэндол посмотрел вниз и увидел на ковре бластер — большего калибра и значительно более дорогой, чем его собственный. «Почему Дэн ходит со шпалером? Кто за ним охотится?»
Эта мысль принесла с собой смутную догадку. И страх — страх перед тем, что может сказать брат, которого он не видел столько лет.
— Я мог бы убить тебя, как только ты вошел в вестибюль, — говорил Дэн. — Я все время держал тебя под прицелом. Но я хочу, чтобы ты знал, что я не нажал на спусковую кнопку не из-за срока, который дают за совершенное убийство.
— Да? — сказал Крэндол на медленном выдохе протяжением во все вновь пережитое прошлое.
— Я просто не мог вынести мысли, что буду еще больше виноват перед тобой. Со времени этой истории с Полли я постоянно…
— С Полли? Да, конечно, с Полли, — казалось, к его подбородку подвесили гирю, она оттягивала его голову вниз, мешала закрыть рот. — Этой истории с Полли.
Дэн дважды ударил себя кулаком по ладони.
— Я знаю, что рано или поздно ты придешь рассчитаться со мной. Я чуть с ума не сошел от ожидания — и от угрызений совести. Но я не думал, что ты выберешь такой путь, Ник. Семь лет ожидания!
— Поэтому ты и не писал мне, Дэн?
— А что я мог написать? И сейчас — что я могу сказать? Мне казалось, что я люблю ее, но все кончилось, как только вы развелись. Наверное, меня всегда тянуло к тому, что было твоим, Ник, потому что ты мой старший брат. Другого оправдания у меня нет, и я прекрасно понимаю, чего оно стоит. Ведь я знаю, как было у вас с. Полли, и я разрушил все это просто из желания сделать гадость. Но вот что, Ник: я не убью тебя, и я не буду защищаться. Я слишком устал. И слишком виноват. Ты знаешь, где меня найти, Ник. Приходи, когда захочешь.
Дэн повернулся и быстро зашагал к выходу. Металлические блестки на его икрах — последний крик моды — сверкали и переливались. Он не оглянулся, даже когда проходил за прозрачной стеной вестибюля.
Крэндол долго смотрел ему вслед, затем тоскливо пробормотал «Гм!», нагнулся, поднял второй бластер и отправился искать ресторан.
Он сидел, рассеянно ковырял пряные деликатесы с Венеры, которые оказались далеко не такими вкусными, какими представлялись ему в воспоминаниях, и думал о Полли и Дэне. Всякие мелочи теперь, когда они встали на свое место, всплывали в его памяти одна за другой. А он-то и не подозревал… Но кто мог заподозрить Полли? Кто мог заподозрить Дэна?
Крэндол достал из кармана свое свидетельство об освобождении и начал внимательно его изучать: «Полностью отбыв максимальный семилетний срок тюремного заключения с предварительным зачетом, Никлас Крэндол освобождается со всеми правами допреступника…»
…чтобы убить свою бывшую жену Полли Крэндол?
…чтобы убить своего младшего брата Дэниела Крэндола?
Какая нелепость!
Но им-то это не показалось нелепостью! Оба они были так блаженно уверены в своей вине, так самодовольно считали себя и только себя единственным объектом ненависти, столь свирепой, что жажда мести не отступила даже перед самым страшным из всего, чем располагает Галактика, — оба они были так в этом уверены, что их проверенная на деле хитрость изменила им и они неправильно истолковали радость в его глазах! И Полли и Дэн легко могли бы оборвать уже начатую исповедь — и он ни о чем не догадался бы! Если бы они только не были так заняты собой и вовремя заметили его удивление, они могли бы и дальше обманывать его. Если не обоим, то уж кому-нибудь одному-то из них это наверняка удалось бы!
Уголком глаза Крэндол заметил, что возле его столика стоит женщина. Слегка наклонившись, она читала свидетельство через его плечо. Он откинулся и оглядел ее с головы до ног, а она улыбнулась ему.
Незнакомка была сказочно красива. Она обладала не только тем, что делает женщину красивой — идеальными фигурой, лицом, осанкой, волосами, кожей и глазами, — но ко всему этому добавлялись и те завершающие штрихи, которые, как и в любом виде искусства, отличают шедевр от просто прекрасного произведения. Одним из этих штрихов было, конечно, богатство, которое воплощалось в прическе и платье, достойно обрамлявших подобную красоту, и в единственном пеаэа, бесценном камне с Сатурна, черным пламенем горевшем на ее груди. Но к этим же штрихам можно было отнести и светившийся в ее глазах ум, и породистость, пикантно дополнявшую это великолепное творение, созданное из живой плоти.
— Вы позволите мне сесть с вами, мистер Крэндол? — спросила она голосом, о котором достаточно будет сказать, что он вполне гармонировал с ее обликом.
Эта просьба позабавила Крэндола, но и преисполнила его бодрящим волнением. Он подвинулся, и незнакомка села рядом с ним на диванчике, точно императрица, опускающаяся на трон под взглядами царей-данников.
Крэндол примерно догадывался, кто она такая и чего ищет. Это могла быть либо одна из юных львиц высшего света, либо кинозвезда, совсем недавно вспыхнувшая и еще сохраняющая статус Новой.
А он, только что освобожденный каторжник, владеющий правом жизни и смерди, был редкостной новинкой, которую ей во что бы то ни стало захотелось попробовать.
Конечно, такой интерес к нему был не слишком лестен, но, с другой стороны, при обычных обстоятельствах простому смертному нечего и мечтать о встрече с подобной женщиной, так почему бы ему и не извлечь пользы из своего положения? Он удовлетворит ее каприз, а она в первый его вечер на свободе…
— Это ваше свидетельство об освобождении, не так ли? — спросила она и перечитала документ еще раз. Кожа на ее верхней губе слегка увлажнилась, и Крэндол удивился, заметив подобный признак усталой пресыщенности у этого живого воплощения победоносной юности и красоты.
— Скажите, мистер Крэндол, — заговорила, наконец, незнакомка и повернулась к нему. Капельки пота на ее верхней губе заблестели еще ярче.
— Скажите, вы не отбыли срок за убийство как допреступник? Но ведь правда, что наказание за убийство и наказание за самое зверское изнасилование одинаковы?
После долгого молчания Крэндол потребовал у официанта счет и вышел из ресторана.
Когда он подошел к своему отелю, он уже успокоился настолько, что не забыл внимательно оглядеть вестибюль за прозрачной стеной. Никого похожего на стефансоновского наемника. Впрочем, Стефансон — осторожный игрок и, потерпев неудачу, пожалуй, не станет торопиться со следующей попыткой.
Но эта девица! И мистер Эдвард Болласк!
В его почтовом ящике лежала записка. Кто-то звонил ему и оставил свой номер, но больше ничего передать не просил.
Поднимаясь к себе, Крэндол раздумывал, кому еще он мог понадобиться. Может быть, Стефансон решил нащупать почву для примирения? Или какая-нибудь глубоко несчастная мать попросит, чтобы он убил ее неизлечимо больное дитя?
Он назвал номер и с любопытством уставился на экран.
Экран замерцал, и на нем появилось лицо. Крэндол еле удержался от радостного возгласа. Нет, один друг в Нью-Порке у него все-таки есть. Старина Ирв, всегда благоразумный и надежный. Его бывший компаньон.
Но в тот самый миг, когда Крэндол уже был готов выразить свою радость вслух, он вдруг прикусил язык. Слишком много неожиданностей принес ему этот день. А в выражении лица Ирва было что-то такое…
— Послушай, Ник, — сумрачно начал Ирв после неловкой паузы. — Я хотел бы задать тебе сейчас только один вопрос.
— А именно, Ирв?
— Ты давно знаешь? Когда ты догадался?
Крэндол перебрал в уме несколько возможных ответов и выбрал наиболее подходящий.
— Очень давно, Ирв. Но ведь тогда я ничего не мог сделать.
Ира кивнул.
— Я так и думал. Ну так послушай. Я не стану просить и оправдываться. За эти семь лет ты столько перенес, что никакие мои оправдания, конечно, ничего изменить не могут. Но поверь одному: много брать из кассы я начал, только когда заболела вена. Мои личные средства были истощены. Занимать я больше не мог, а у тебя хватало и собственных семейных неприятностей. Ну, а когда дела фирмы пошли лучше, я боялся, что слишком большое несоответствие между прежними цифрами и новыми откроет тебе глаза. Поэтому я продолжал прикарманивать прибыль уже не для того, чтобы платить по больничным счетам, и не для того, чтобы обманывать тебя, Ник, поверь, а просто чтобы ты не узнал, сколько я уже присвоил. Когда ты пришел ко мне и сказал, что совсем пал духом и хотел бы уйти из фирмы… ну, тогда, не спорю, я поступил подло. Мне следовало бы сказать тебе правду. Но, с другой стороны, как компаньоны мы не очень подходили друг другу, а тут мне представился случай одному стать хозяином фирмы, когда ее положение уже упрочилось, ну, и… и…
— И ты выкупил мою долю за триста двадцать кредитов, — договорил за него Крэндол. — А сколько теперь стоит фирма, Ирв?
Ирв отвел глаза в сторону.
— Около миллиона. Но послушай, Ник! В прошлом году оптовая торговля переживала небывалый расцвет. Так что твоего тут уже не было. Послушай, Ник…
Ирв достал чистую бумажную салфеточку и вытер вспотевший лоб.
— Ник, — сказал он, наклоняясь вперед и изо всех сил стараясь дружески улыбнуться. — Послушай меня, Ник. Забудь про это, не преследуй меня, и я тебе кое-что предложу. Мне нужен управляющий с твоими техническими знаниями. Я дам тебе двадцать процентов в деле, Ник… нет, двадцать пять. Я готов дать даже тридцать… тридцать пять…
— И ты думаешь, что это компенсирует семь лет каторги?
Ирв умоляюще поднял трясущиеся руки.
— Нет, Ник, конечно, нет. Их ничто не компенсирует. Но послушай, Ник. Я готов дать сорок пять про…
Крэндол выключил телевизор. Некоторое время он продолжал сидеть, потом вскочил и начал расхаживать по комнате. Он остановился и осмотрел свои бластеры — купленный утром и брошенный Дэном. Достал свидетельство об освобождении и внимательно прочел его. Потом снова сунул в карман туники.
Позвонив дежурной, он заказал межконтинентальный разговор.
— Хорошо, сэр. Но вас хочет видеть один джентльмен. Мистер Отто Хенк, сэр.
— Пошлите его сюда. И включите мой экран, как только вас соединят, мисс.
Через несколько минут к нему в номер вошел Отто-Блотто. Он был пьян, но, как обычно в таких случаях, внешне это у него не проявлялось.
— Как ты думаешь, Ник, как ты думаешь, что, черт возьми…
— Ш-ш-ш! — перебил его Крэндол. — Меня соединили.
Телевизионистка где-то в Гималаях сказала:
— Говорите, Нью-Йорк.
И на экране появился Фредерик Стоддард Стефансон. Он постарел гораздо больше всех тех, кого Крэндол успел увидеть в этот день. Впрочем, это еще ни о чем не говорило: когда Стефансон разрабатывал сложную операцию, он всегда казался постаревшим.
Стефансон ничего не сказал. Он только смотрел на Крэндола, крепко сжав губы. Позади него виднелся зал охотничьего домика — точь-в-точь такой, каким подобные залы подчас рисуются воображению телевизионных режиссеров.
— Ну ладно, Фредди, — заговорил Крэндол. — Я долго тебя не задержу. Можешь отозвать своих псов и не стараться больше убить меня или искалечить. Я на тебя теперь даже не зол.
— Даже не зол… — Стефансон с трудом обрел привычное железное самообладание. — А почему?
— Потому что… ну, тут много причин. Потому что теперь, когда мне осталось только убить тебя, твоя смерть не подарит мне семи лет адской радости. И потому, что ты не сделал мне ничего такого, чего не делали все остальные — кто что мог и, вероятно, со дня моего появления на свет. Очевидно, я простофиля от рождения. Так уж я создан. И ты просто этим воспользовался.
Стефансон наклонился, вперил в его лицо внимательный взгляд, потом перевел дух и облегченно скрестил руки на груди.
— Пожалуй, ты говоришь искренне.
— Конечно, я говорю искренне. Видишь? — он показал на два бластера. — Сегодня я их выброшу. С этих пор я не буду носить никакого оружия. Я не хочу, чтобы от меня хоть как-то зависела чья-то жизнь.
Стефансон задумчиво поковырял под ногтем большого пальца.
— Вот что, — сказал он. — Если ты говоришь серьезно — а, по-моему, это так и есть, — то, может быть, мы что-нибудь придумаем. Например, будем выплачивать тебе какую-то долю прибыли. Там поглядим.
— Хотя это не принесет тебе никакой выгоды? — с удивлением спросил Крэндол. — Почему же ты раньше мне ничего не предлагал?
— Потому что я не люблю, чтобы меня принуждали. До сих пор я противопоставлял силу силе.
Крэндол взвесил этот ответ.
— Не понимаю. Но, наверное, ты так создан. Что ж, как ты сказал — там поглядим.
Когда он наконец повернулся к Хенку, Отто-Блотто все еще растерянно покачивал головой, занятый только собственной неудачей.
— Представляешь, Ник? Эльза месяц назад отправилась в увеселительную поездку на Луну. Кислородный шланг в ее костюме засорился, и она умерла от удушья, прежде чем ей успели помочь. Черт-те что, Ник, верно? За месяц до моего срока! Не могла подождать какой-то паршивый месяц! Она хохотала надо мной, когда помирала. Это уж как пить дать!
Крэндол обнял его за плечи.
— Пойдем погуляем, Отто-Блотто. Нам обоим будет полезно проветриться.
«Странно, как право на убийство действует на людей, — думал он. — Полли поступила на свой манер, а Дэн — на свой. Старина Ирв отчаянно вымаливал себе жизнь — и старался не переплатить. Мистер Эдвард Болласк и девица в ресторане… И только Фредди Стефансон, единственная намеченная жертва, только он не пожелал просить».
Просить он не пожелал, но на милостыню расщедрился. Способен ли он принять от Стефансона то, что, в сущности, будет подачкой? Крэндол пожал плечами. Кто знает, на что способен он сам или любой другой человек?
— Что же нам теперь делать, Ник? — обиженно спросил Отто-Блотто, когда они вышли из отеля. — Нет, ты мне ответь: что нам теперь делать?
— Я, во всяком случае, сделаю вот что, — ответил Крэндол, беря в каждую руку по бластеру. — Только это, и ничего больше.
Он по очереди швырнул сверкающие бластеры в стеклянную дверь роскошного вестибюля «Козерог-Ритца». Раздался звон, затем снова звон. Стена рухнула, расколовшись на длинные кривые кинжалы. Люди в вестибюле оборачивались, выпучив глаза.
К Крэндолу подскочил полицейский. Бляха на его металлической форме отчаянно дребезжала.
— Я видел! Я видел, как ты это сделал! — кричал он, хватая Крэндола.
— Ты получишь за это тридцать суток!
— Да неужто? — сказал Крэндол. — Тридцать суток? — он вытащил из кармана свое свидетельство об освобождении и протянул его полицейскому.
— Вот что, уважаемый блюститель порядка. Сделайте-ка в этой бумажке надлежащее число проколов или оторвите купон соответствующих размеров. Либо так, либо эдак. А можете и так, и эдак. Как вам больше нравится.
Уильям Тенн
Семейный человек
Стюарт Рейли отыскал свое место в специальном стратоплане для пассажиров с сезонными билетами. Этим рейсом он каждый день возвращался из Центральной нью-йоркской торгово-промышленной зоны к себе в загородный дом в северном Нью-Гэмпшире. Ноги его буквально одеревенели, а глаза ничего не видели. Только по привычке — ведь Рейли многие годы проделывал одни и те же действия — он сел у окна, рядом с Эдом Грином. Опять-таки по привычке он тотчас же нажал кнопку в спинке переднего кресла и вперил взгляд в крошечный экран: шла вечерняя программа теленовостей, хотя ни одно из выпаливаемых скороговоркой сообщений не доходило до него.
Как сквозь сон, он услышал характерный для взлета свист, по привычке твердо уперся ногами в пол и привалился животом к предохранительному ремню. Однако он понял, что приближается ситуация, когда привычка не поможет, как не поможет ничто: с ним стряслась беда, самая страшная из всех бед, которые могут случиться с человеком в 2080 году нашей эры.
— Что, Стив, горячий денек выдался? — громко спросил его подвыпивший Эд Грин. — Ну и видик у тебя!
Рейли почувствовал, что его губы шевелятся, но лишь через некоторое время услышал звук собственного голоса.
— Да, — еле выговорил он, — у меня был горячий денек.
— А кто тебя просил лезть в «Минералы Солнечной системы»? — сразу завелся Эд. — Эти межпланетные корпорации все одинаковы: давай, давай и еще раз давай. Немедленно, сию минуту, сию секунду подготовь накладные: сейчас стартует товарный ракетоплан на Нептун, а другого не будет целых полгода, непременно продиктуй все письма на Меркурий… Что я, не знаю? Я пятнадцать лет назад работал на «Инопланетную формацию» и сыт по горло! Нет уж, лучше я буду торговать недвижимостью в Центральной нью-йоркской торгово-промышленной зоне. Спокойно. Надежно!
Рейли печально кивнул и потер лоб. Голова не болела, но пусть бы уж лучше болела. Все что угодно, только бы не думать.
— Конечно, здесь много не заработаешь, — громко продолжал Эд, переходя к другой стороне вопроса. — Состояния не наживешь, но и язвы тоже. Пусть я всю жизнь проторчу во второй группе, зато это будет долгая жизнь. В моей конторе работают не спеша и не слишком себя утруждают. Мы знаем, что старина Нью-Йорк стоит на своем месте много лет и еще будет стоять.
— Да, это верно, — согласился Рейли, по-прежнему глядя на экран застывшим взором. — Нью-Йорк еще долго будет стоять.
— Слушай, старик, чего ты ноешь? Ганимед пока не распался на атомы. Ничего с ним не случится!
К ним наклонился сидевший сзади Фрэнк Тайлер.
— Перекинемся в картишки, парни? Убьем полчасика.
Рейли никогда не любил карт, но признательность не позволила ему отказаться. Фрэнк, его сослуживец по «Минералам», все время прислушивался к словам Грина, как и остальные в стратоплане, но он один понимал, какие мучения неумышленно причинял Стюарту этот агент по продаже недвижимости! Он чувствовал себя все более и более неловко и решил отвлечься от грустных мыслей во что бы то ни стало.
Фрэнк поступает благородно, подумал Рейли, когда они с Эдом повернулись на креслах лицом друг к другу. В конце концов Рейли сделали управляющим Ганимедского отделения через голову Фрэнка; другой бы с удовольствием слушал, как Эд бьет по больному месту, но Фрэнк был не таков.
Началась обычная игра, как всегда, четыре партнера. Сидевший слева от Фрэнка Тайлера Брус Робертсон, художник, иллюстрировавший книги, поднял с пола свой огромный портфель и положил на колени вместо стола. Фрэнк распечатал новую колоду, и каждый вытащил карту. Начинать выпало Эду Грину.
— Ставки как всегда? — спросил он, тасуя карты. — Десять, двадцать, тридцать?
Они кивнули, и Эд стал раздавать. Он буквально не закрывал рта.
— Я и говорю Стиву, — он объяснял так громко, что, наверное, и пилоту в его герметической кабине было слышно, — что торговля недвижимостью очень благотворно влияет на кровяное давление, да и на все остальное тоже. Моя иена без конца пристает, чтобы — я занялся чем-нибудь поприбыльнее. «Какой позор, — твердит она, — в мои годы — и только двое детей! Стюарт Рейли на десять лет моложе тебя, а Мэриан родила уже четвертого; И тебе не стыдно? Мужчина! Да если б ты хоть чуточку был мужчиной, ты бы сделал что-нибудь». Знаете, что я ей отвечаю? «Шейла, — говорю я, — скажи, пожалуйста, а у тебя все в порядке с 36-А»?
Брус Робертсон недоуменно взглянул на него:
— 36-А?
Эд Грин загоготал:
— Эх ты, беспечный холостяк! Погоди, вот женишься, тогда узнаешь, что такое 36-А. Будешь есть, пить и спать по 36-А.
— Форму 36-А заполняют, — спокойно объяснил Брусу Фрэнк Тайлер, собирая ставки, — когда обращаются в БПС за разрешением иметь еще одного ребенка.
— Ах да, конечно. Я просто не знал названия. Но ведь благосостояние — только одно из условий. Бюро планирования семьи принимает во внимание также здоровье родителей, наследственность, домашнюю обстановку…
— Ну, что я говорю?! Бездетный холостяк, сопляк, молокосос! — завопил Эд.
Брус Робертсон побледнел.
— Ты прав, благосостояние — только одно из условий, — поспешно вмешался миротворец Фрэнк Тайлер. — Но зато самое важное. Если в семье уже есть двое детей и с ними все в порядке, то, принимая решение, БПС рассматривает главным образом ваш достаток.
— Верно! — Эд хлопнул по портфелю, и карты на нем заплясали. — Взять хоть моего шурина, Пола. С утра до ночи слышу: Пол то, Пол се — не удивительна, что я знаю о нем больше, чем о себе самом. Полу принадлежит половина Грузового синдиката «Марс — Земля», конечно, он в восемнадцатой группе. Его жена лентяйка, ее не интересует, что о них подумают, поэтому у них только десять детей, но…
— Они живут в Нью-Гэмпшире? — спросил Фрэнк. Стюарт Рейли заметил, что перед этим Фрэнк бросил на него сочувственный взгляд: ясно было, что он пытается изменить тему разговора, понимая, как она угнетает Рейли. Наверное, это было написано у него на лице.
С лицом нужно что-то сделать: через несколько минут он встретит Мэриан. Если он не будет все время начеку, она тотчас же догадается.
— В Нью-Гэмпшире? — презрительно переспросил Эд. — Мой шурин Пол, с его деньгами? Нет, сэр, эта дыра не для него! Уж он живет действительно в фешенебельном месте; в Канаде, западнее Гудзонова залива. Но я уже говорил, что Пол и его жена не очень ладят друг с другом, и домашняя обстановка у его ребятишек не самая лучшая в мире — ну, вы понимаете, что я хочу сказать. И что ж вы думаете, у них когда-нибудь возникают затруднения с формой 36-А? Ничего подобного! Она возвращается на другое утро после того, как они ее заполнили, и наверху красуется большой синий штамп «одобрено». Там, в БПС, небось, считают: какого черта тут раздумывать, с их деньгами они наймут первоклассных воспитательниц и психологов! А если все-таки возникнут какие-нибудь неприятности, когда ребятишки подрастут, они пройдут самый лучший курс психотерапии, какой только можно получить за деньги.
Брус Робертсон покачал головой:
— Сомневаюсь… Ведь каждый день очень многие весьма перспективные родители получают отказы из-за плохой наследственности.
— Наследственность — одно, — заметил Эд, — а условия — другое. Наследственность нельзя изменить, а условия можно. И скажи-ка мне, милый друг, что мотает лучше всего изменить условия, как не деньги? Есть деньги
— и БПС считает, что вашему ребенку обеспечен хороший старт, особенно когда он с детства у них под наблюдением. Тебе сдавать, Стив! Эй, Стив? Ты что, оплакиваешь свой проигрыш? Молчишь, словно воды в рот набрал! Что-нибудь случилось? Слушай, может, тебя уволили?
Рейли попытался взять себя в руки.
— Да нет, — хрипло выдавил он, собирая карты. — Не уволили.
Мэриан ждала его в семейном ракетоплане на аэродроме. К счастью, ее настолько переполняли последние сплетни, что ей было не до него. Лишь когда он поцеловал ее, она подозрительно вскинула глаза:
— Ты прямо бесчувственное бревно! Раньше это получалось у тебя гораздо лучше.
Он до боли сжал руки и попытался сострить:
— Это было еще до того, как я превратился в бесчувственное бревно. Сегодня у меня был горячий денек. Будь со мной поласковей, детка, и не требуй от меня слишком многого.
Она понимающе кивнула, и они забрались в небольшую машину. Лиза, их старшая дочь, которой было двенадцать лет, сидела на заднем сиденье с младшеньким Майком. Она громко чмокнула отца и поднесла к нему малыша для такой же церемонии.
Он почувствовал, что поцеловать ребенка стоило ему немалых усилий.
Они поднялись в воздух. С аэродрома во все стороны разлетались ракетопланы. Стюарт Рейли не сводил глаз с мелькавших внизу крыш и все думал, думал, когда же лучше сказать жене. Пожалуй, после ужина. Нет, лучше подождать, пока лягут дети. Вот они с Мэриан останутся вдвоем… Он почувствовал в желудке холодный ком, точь-в-точь как днем после завтрака. Интересно, соберется ли он с духом и расскажет ей обо всем? Придется. Никуда не денешься. И надо это сделать не позднее сегодняшнего вечера.
— …если бы я когда-нибудь верила хоть одному слову Шейлы, — говорила Мэриан. — Я ей так и сказала: Конни Тайлер не из таких, и хватит об этом. Ты помнишь, милый, в прошлом месяце Конни пришла в больницу навестить меня? Конечно, я знала, что она думает, глядя на Майка: если бы не ты, а Фрэнк стал управляющим Ганимедского отделения и получал бы на две тысячи территов больше, это она бы сейчас родила четвертого, а я бы пришла ее навестить. Я знала, о чем она думает, потому что на ее месте думала бы точно так же. Но она искренне заявила, что Майк — самый крепкий и развитый малыш из всех, что ей приходилось видеть. И когда она пожелала мне в следующем году родить пятого ребенка, это было сказано от всей души.
«Пятый ребенок! — с горечью подумал Стюарт Рейли. — Пятый!»
— …смотри сам: что мне делать с Шейлой, если она придет завтра и начнет все сначала?
— Шейла? — тупо повторил он. — Какая Шейла?
Склонившись над панелью управления, Мэриан нетерпеливо тряхнула головой.
— Ты что, не помнишь Шейлу Грин, жену Эда? Стюарт, да ты слышал хоть слово из того, что я говорила?
— Разумеется, милая. О… больнице и о Конни. И о Майке. Я слышал все, что ты говорила. Но куда должна прийти Шейла?
Она обернулась и впилась в него взглядом. Большие зеленые кошачьи глаза (однажды на танцах его так и потянуло через весь зал к ним, к незнакомой девушке) были очень серьезны. Щелкнув переключателем, она включила автопилот, который повел ракетоплан по заданному курсу.
— Стюарт, что-то случилось. У тебя не просто горячий денек на работе, а что-то серьезное, я ведь вижу. В чем дело?
— Потом, — сказал он. — Я тебе все расскажу потом.
— Нет, сейчас. Расскажи немедленно. Я не вынесу ни единой секунды, если ты будешь сидеть с таким видом.
Не отрывая глаз от домов, которые бесконечной вереницей проносились под ними, он глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду.
— Химическая корпорация Юпитера сегодня купила шахту Кеохула…
— Ну, и что из этого?
— Кеохула — единственная шахта на Ганимеде, которая работает на полную мощность, — с трудом выдавил он.
— Я все равно… боюсь, что я все равно не понимаю. Стюарт, объясни мне в двух словах, что это значит?
Подняв голову, он заметил, что она испугалась. Она не понимала, о чем он говорит, но у нее всегда была изумительная интуиция. Почти телепатическая.
— Кеохула продана, и за хорошую цену. Теперь «Минералам» невыгодно иметь отделение на Ганимеде. Вот оно и закрывается, сразу же.
Мэриан в ужасе поднесла руки ко рту.
— И это значит… значит…
— Это значит, что им больше не нужны ни Ганимедское отделение, ни его управляющий.
— Но тебя не переведут на старую работу! — воскликнула она. — Это было бы слишком жестоко! Тебя не могут понизить в должности, Стюарт, после того как на твою прибавку мы завели еще одного ребенка! Должно найтись другое отделение, должно быть…
— Ничего нет, — еле выговорил он — язык его не слушался. — Они сворачивают работу на всех спутниках Юпитера. Не я один… Картрайт с Европы, Мак-Кензи с Ио — они повыше меня. «Минералы» делают ставку на Уран, Нептун и Плутон и плюют на всех остальных.
— А те планеты? Для них нужны управляющие отделениями?
Рейли беспомощно вздохнул.
— Там они уже есть. И заместители управляющих тоже. Опытные люди, которые работают много лет и хорошо знают свою работу. Я знаю, детка, что ты хочешь спросить: я говорил насчет перехода в Химическую корпорацию Юпитера. Ничего не выходит, у них уже есть Ганимедское отделение и человек, который вполне справляется с работой. Я весь день мотался с одного места на другое и договорился, что завтра возвращаюсь на свою старую службу в «Перевозку руды».
— На старый оклад? — прошептала она. — На семь тысяч территов?
— Да. На две тысячи меньше, чем сейчас. На две тысячи меньше минимума для четырех детей.
Глаза Мэриан тотчас наполнились слезами.
— Я этого не допущу! — всхлипнула сна. — Нет! Ни за что!
— Детка… — проговорил он, — детка, милая, таков закон. Что мы можем поделать…
— Я совершенно… Я совершенно не могу решить, с кем из моих детей я должна расстаться! Это уже свыше моих сил!
— Меня снова повысят. Очень скоро я опять буду получать девять тысяч территов. Даже больше. Вот увидишь.
Она перестала плакать и остолбенело уставилась на него.
— Но если ребенка отдали на воспитание, его нельзя взять обратно. Даже если доходы возрастут. Ты это знаешь не хуже моего, Стюарт. Могут родиться другие дети, но нельзя вернуть того ребенка, который оказался лишним.
Конечно, он знал. БПС установило такое правило для защиты приемных родителей, чтобы поощрять усыновление семьями высокооплачиваемых групп.
— Нам нужно было подождать, — сказал он. — Черт возьми, нужно было подождать!
— А разве мы не ждали? — возразила она. — Мы целых полгода ждали, хотели убедиться, что у тебя надежная работа. Разве ты не помнишь тот вечер, когда у нас обедал мистер Хелси? Он и сказал, что ты работаешь очень хорошо и обязательно сделаешь карьеру. «У вас еще будет десяток ребятишек, и мой вам совет — не откладывайте это в долгий ящик», — это его собственные слова!
— Бедняга Хелси! Он сегодня не смел на меня глаза подняты После совещания он подошел ко Мне и сказал, что очень огорчен и обязательно при первой возможности позаботится о моем повышении. Но он говорит, что сейчас почти все вынуждены себя урезать: последний год был очень неудачным для фирм, связанных с другими планетами. Я вот возвращаюсь назад в «Перевозку руды» и спихиваю человека, который занял мое место. Он спускается вниз и тоже кого-то сталкивает. Все чертовски скверно.
Мэриан вытерла глаза.
— У меня и своих забот полон рот, Стюарт. Сейчас меня не интересует никто другой. Что мы можем сделать?
Он откинулся назад и наморщил лоб.
— Я решил обратиться к нашему адвокату — больше мне ничего не пришло в голову. Клив обещал зайти сегодня вечером, после обеда, вот мы с ним все и обсудим. Если есть какой-нибудь выход, Клив нам подскажет. Ему часто приходится иметь дело с БПС.
— Что к, начнем с этого, — кивнула она, соглашаясь с ним. — Сколько у нас времени?
— Завтра утром я должен послать извещение о лишнем ребенке. У нас две недели, чтобы решить, кто… кто из наших ребят…
Мэриан снова кивнула. Они сидели не шевелясь, целиком положившись на автопилот. Немного спустя Стюарт Рейли придвинулся к жене и взял ее за руку. Их пальцы судорожно переплелись.
— Я знаю кто, — раздался голос сзади.
Оба резко обернулись.
— Лиза! — У Мэриан перехватило дыхание. — Я и забыла про тебя. А ты сидишь и слушаешь!
На круглых щеках Лизы блестели слезинки.
— Да, я слушаю, — согласилась она. — И я знаю, кого вы отдадите. Меня. Я же старшая. На воспитание можно отдать только меня. Не Пенни, не Сьюзи, не Майка, а меня.
— Замолчи сейчас же, Лиза Рейли. Мы с твоим отцом решим, что делать. Скорей всего вообще ничего не произойдет. Совсем Ничего.
— На воспитание отдают старшего ребенка. Так говорит моя учительница. Она говорит, что маленькие дети травм… травмируются больше, чем старшие. Еще она говорит, это очень хорошо, потому что, если тебя отдадут на воспитание, ты обязательно попадешь в очень богатую семью, у тебя будет много игрушек, замечательная школа и все такое. Моя учительница говорит, что, может, поначалу и взгру… взгрустнется, но потом случится столько хорошего, что ты будешь очень сча… счастлива. И еще моя учительница говорит, что так и должно быть, потому что таков закон.
Стюарт Рейли хлопнул кулаком по сиденью.
— Твоя мать сказала, что решать будем мы с ней!
— И потом, — упрямо продолжала Лиза, вытирая одной рукой лицо, — и потом я не хочу жить в семье с тремя детьми. Все мои подруги из семей с четырьмя. А мне снова придется дружить с этими серыми девчонками, с которыми я раньше…
— Лиза! — заревел Рейли. — Я пока еще твой отец! Хочешь в этом убедиться?
Наступило молчание. Мэриан включила ручное управление и посадила ракетоплан. Она забрала малыша у старшей дочери, и, не глядя друг на друга, они вышли из машины.
В палисаднике Рейли улучил минутку, чтобы перевести домашнего робота с «ухода за садом» на «прислуживание за столом» и вслед за жужжащей металлической фигурой вошел в дом.
Беда в том, что Лиза права. Если нет никаких осложнений, на воспитание обычно отдают старшего ребенка. Для нее это будет менее болезненно, а Бюро планирования семьи очень тщательно отберет новых родителей из большого числа претендентов и позаботится о том, чтобы передача произошла как можно спокойнее и естественнее. В первые годы специалисты по детской психологии будут навещать ее дважды в неделю, чтобы добиться максимального приспособления к новой обстановке.
Кто ее заберет? Кто-нибудь вроде Пола, шурина Эда Грина, доход которого позволял завести гораздо больше детей, чем он имел. В семье могло быть мало детей по разным причинам, но так или иначе это мешало добиться высокого положения в обществе.
Можно было стать обладателем блестящего ракетоплана — купить его в кредит, влезть в долги на десять лет вперед. Можно было купить огромный дом в Манитобе, где жили все владельцы земельных участков, высшие чиновники нью-йоркской торгово-промышленной зоны, бок о бок со своими коллегами из Чикагской и Лос-Анджелесской зон, дом, стены которого будут украшены панелями из редких пород марсианских деревьев, дом, полный всевозможных специализированных роботов — и несмотря на это закладная могла медленно, но упорно подтачивать ваше благополучие.
А вот с детьми все было ясно. Ребенка нельзя было завести в кредит, в надежде на то, что ваши дела улучшатся, — вам бы этого не позволили. Ребенок появлялся только тогда, когда БПС, изучив вас и вашу жену с точки зрения наследственности и домашней обстановки, приходило к выводу, что ваш доход позволяет создать будущему ребенку все необходимые условия. На каждого ребенка семья должна была представить лицензию, которую БПС выдавало после тщательного обследования. Таково было положение дел.
Вот почему, если вы покупали что-нибудь в кредит и могли предъявить лицензию на шестерых детей, от вас не требовалось никаких справок с работы. Служащий записывал ваше имя, адрес, номер лицензии — и все. Вы выходили из магазина с покупками.
В течение всего ужина Рейли раздумывал над этим. Он припомнил то утро, когда пришла лицензия на Майка, и почувствовал, что виноват вдвойне. В тот момент он прежде всего подумал: «Теперь-то нас обязательно пригласят вступить в загородный клуб!» Конечно, он был рад получить разрешение еще на одного ребенка — они с Мэриан оба любили детишек, но у них уже было трое, и четвертый ребенок означал большой шаг вперед.
«Ну, хорошо, а кто на моем месте думал бы иначе?» — спросил он себя. Даже Мэриан на другой день после рождения Майка стала называть его «наш сыночек для загородного клуба».
Счастливые, наполненные гордостью дни! Они с Мэриан ступали по земле, как молодые монархи, которые шествуют на коронацию!
А теперь…
Кливленд Беттигер, адвокат Рейли, явился как раз в тот момент, когда Мэриан бранила Лизу, укладывая ее спать. Мужчины пошли в столовую и велели домашнему роботу приготовить им по коктейлю.
— Я не хочу приукрашивать положение, Стив, — сказал адвокат, раскладывая содержимое своего портфеля на старинном кофейном столике (армейский ящик для обуви начала двадцатого века, который Мэриан искусно приспособила под столик). — Дело довольно скверное. Я изучил все последние решения БПС в аналогичных ситуациях и не нашел ничего утешительного.
— Но, есть какая-нибудь надежда? Можно хоть за что-то зацепиться?
— Сейчас мы попытаемся это выяснить.
Вошла Мэриан и устроилась на софе рядом с мужем.
— С ума сойдешь с этой Лизой! — воскликнула она. — Чуть было не отшлепала ее. Она уже начинает разговаривать со мной, как с чужой женщиной, у которой нет над ней никакой власти!
— Лиза заявила, что на воспитание можно отдать только ее, — объяснил Рейли. — Она слышала наш разговор.
Беттигер развернул испещренный записями лист.
— Лиза права. Она старшая. Давайте-ка обсудим положение. Когда вы поженились, у Стюарта был оклад три тысячи территов в год — это минимум для одного ребенка. Появилась Лиза. Через три года со всеми прибавками твой доход возрос на две тысячи территов. Появилась Пенелопа. Еще полтора года — еще две тысячи. Сюзанна. В феврале прошлого года ты перешел в Ганимедское отделение на девять тысяч в год. Майк. Сейчас тебя снова понизили — семь тысяч. Это максимум для трех детей. Все?
— Все, — подтвердил хозяин. «Вот вкратце история моей супружеской жизни, — подумал он. — Здесь, правда, не было сказано о том, как у Мэриан чуть не случился выкидыш, когда она носила Пенни, ни о том, как у домашнего робота возле площадки для игр произошло короткое замыкание и Сьюзи пришлось наложить на голову шесть швов. Здесь не было сказано, как…»
— Хорошо, Стив, давай теперь выясним ваши финансовые возможности. Нет ли у одного из вас надежды в ближайшем будущем получить необходимую сумму, допустим наследство. Не владеете ли вы какой-нибудь собственностью, которая может значительно подняться в цене?
Они переглянулись.
— Семьи наших родителей относятся к третьей и четвертой группам, — медленно произнесла Мэриан. — Состояние у них небольшое. А у нас со Стивом, кроме дома, мебели и ракетоплана, есть только немного государственных облигаций и акций «Минералов Солнечной системы». Они долго, очень долго не повысятся в цене.
— Ладно, с доходами покончили. А теперь, мои милые, позвольте мне спросить…
— Подожди-ка, — не выдержал Рейли. — Почему это «покончили»? А если я буду подрабатывать по субботам-воскресеньям или вечерами здесь, в Нью-Гэмпшире?
— Потому что лицензия на ребенка учитывает доход от нормальной тридцатичасовой рабочей недели, — терпеливо разъяснил адвокат. — Если отец семейства для обеспечения необходимого заработка должен работать сверх этой нормы, дети меньше видят его, или, выражаясь юридическим языком, «лишены нормальных привилегий нормального детства». Запомни, что действующее законодательство превыше всего ставит права детей. Их никак нельзя ущемлять.
Стюарт Рейли смотрел на противоположную стенку невидящими глазами.
— Мы могли бы эмигрировать, — глухо произнес он. — На Венере, например, нет ограничений рождаемости.
— Тебе тридцать восемь, Мэриан тридцать два. На Марсе и на Венере нужны молодые, совсем молодые люди, не говоря уж о том, что ты конторский служащий, а не инженер, не механик и не фермер. Я очень сомневаюсь, что тебе удастся получить постоянную межпланетную визу. Нет, с вашими доходами все ясно. Вот разве что особые случаи. Есть у вас что-нибудь по этой части?
Мэриан уцепилась за соломинку:
— Может быть… При рождении Майка мне делали кесарево сечение.
— Так… — Кливленд Беттигер потянулся за другим документом и прочитал его.
— В твоей истории болезни говорится, что это произошло из-за неправильного положения ребенка в матке. Совсем не обязательно, что в следующий раз опять понадобится хирургическое вмешательство. Еще что-то есть? Какие-нибудь психические отклонения у Лизы, из-за чего ее сейчас никак нельзя передать приемным родителям? Подумайте.
Они подумали и вздохнули. Ничего такого не было.
— Этого-то я и ожидал, Стив. Дело дрянь. Ну что ж, подпишите вот это и пошлите завтра вместе с извещением о лишнем ребенке. Я все заполнил.
— Что это? — тревожно спросила Мэриан, заглядывая в бумагу, которую он им дал.
— Просьба об отсрочке. Я ссылаюсь на твою исключительно хорошую служебную характеристику и пишу, что понижение — лишь временное явление. Из этого ничего не выйдет, потому что для выяснения дела БПС пошлет сотрудника в твое управление, но все-таки мы протянем время. У вас будет лишний месяц, чтобы решить, с каким ребенком расстаться, я, кто знает, может быть, за это время что-нибудь случится? Найдешь место получше или тебя повысят.
— За месяц я не найду лучшего места, — вымолвил удрученный Рейли. — Дело скверное: нужно радоваться и тому, что получил. А о повышении нечего думать по крайней мере с год.
С лужайки перед домом донесся звук приземлившегося ракетоплана.
— Неужели гости? — удивилась Мэриан. — Мы никого не ждем.
— Да, только гостей нам сейчас не хватает, — покачал головой ее муж.
— Взгляни, кто там, Мэриан, и постарайся выпроводить.
Она вышла из столовой, на ходу сделав роботу знак наполнить пустой стакан Беттигера. Ее лицо свело от боли.
— Я не понимаю, — пожаловался Стюарт Рейли, — почему БПС проявляет такую жестокость во всем, что связано с контролем над рождаемостью. Неужели нельзя дать человеку небольшую отсрочку?
— Оно так и делает, — напомнил ему адвокат, аккуратно складывая бумаги в портфель. — Разумеется. Если должен родиться ребенок, на которого получено разрешение, ваш доход может без всяких последствий понизиться на девятьсот территов — это уступка непредвиденным обстоятельствам. Но две тысячи, целых две тысячи…
— Нет, это несправедливо! Чертовски несправедливо! После того как вы родили и вырастили ребенка, какое-то паршивое Бюро забирает его у вас…
— Довольно, Рейли, не будь ослом! — резко оборвал его Беттигер. — Я твой адвокат и собираюсь помогать тебе, насколько хватит моих знаний и опыта, но я не желаю слушать, как ты несешь чепуху, в которую сам не веришь. Имеет смысл планировать семью или нет? Или мы будем уверены, что каждый ребенок рождается с прочными шансами на достойную и счастливую жизнь, что он нужен и дорог, или возвратимся к безответственным методам рождения детей прошлых столетий?! Форма 36-А — символ планирования семьи, а извещение о лишнем ребенке — только оборотная сторона медали. Все имеет свои издержки.
Рейли опустил голову.
— Я не спорю с этим, Клив. Я только… только…
— Сейчас тебя, что называется, припекло. Мне очень жаль тебя, искренне жаль. Но, видишь ли, когда ко мне приходит клиент и говорит, что по рассеянности пролетел над запретной зоной, я использую все свои юридические знания и каждую свою жалкую извилину, чтобы помочь ему и чтобы он отделался наименьшим штрафом. Но если он не ограничивается этим и начинает доказывать, что правила уличного движения никуда не годятся, я теряю терпение и велю ему заткнуться. Так же и с контролем над рождаемостью: понадобился целый ряд правил, чтобы воспроизводство человеческого рода происходило более разумно.
Голоса, доносившиеся из прихожей, вдруг оборвались. Они услышали характерный для Мэриан звук: что-то среднее между вскриком и визгом. Мужчины вскочили и выбежали к ней.
В прихожей рядом с Мэриан стоял Брус Робертсон. Закрыв глаза, она держалась рукой за стену; как бы боясь упасть.
— Мне очень жаль, что я ее так расстроил, Стив, — быстро произнес художник. Его лицо было очень бледным. — Видишь ли, я хочу удочерить Лизу. Фрэнк Тайлер рассказал мне, что произошло.
— Ты? Ты хочешь… Но ты же холостяк!
— Да, но я принадлежу к пятой группе. Мне разрешат удочерить Лизу, если я сумею доказать, что создам ей обстановку такую же благоприятную, как женатая пара. Так я и сделаю. Я хочу только одного — чтобы она официально носила мое имя. Мне все равно, как ее будут называть в школе или подруги. Она останется здесь, у вас, а я буду давать деньги на ее содержание. БПС согласится, что это самый лучший дом для Лизы.
Рейли замер, выжидательно глядя на Беттигера. Адвокат кивнул:
— Пойдет. Ведь, если настоящие родители выражают какие-нибудь пожелания относительно условий передачи ребенка, Бюро, как правило, считается с их доводами. Но вы, молодой человек, вы-то что выиграете от этого?
— Официально будет считаться, что у меня ребенок, — ответил Робертсон. — Ребенок, о котором я смогу говорить и хвастаться, как другие хвастаются своими детьми. Мне до смерти надоело быть бездетным холостяком
— я хочу иметь кого-то.
— Но в один прекрасный день ты захочешь жениться, — сказал Рейли, обнимая жену, которая с глубоким вздохом прижалась к нему. — Ты захочешь жениться и иметь собственных детей.
— Этого не будет, — тихо произнес Брус Робертсон. — Пожалуйста, не говорите никому: в моей семье был случай аневротической идиотии. Женщина, на которой я женюсь, не должна иметь детей. Сомневаюсь, что я когда-либо женюсь, но уж детей у меня, конечно, никогда не будет. Это… это моя единственная возможность…
— Ох, милый, — радостно вздохнула Мэриан в объятиях Рейли. — Вот увидишь, все обойдется.
— Я прошу только одного, — неуверенно продолжал художник, — я буду изредка приходить сюда, чтобы повидать Лизу и узнавать, как ее дела.
— Изредка! — завопил Рейли. — Да приходи хоть каждый вечер! В конце концов, ты ведь будешь вроде как член семьи. Да что я говорю «вроде»! Ты будешь настоящим членом нашей семьи, ты будешь семейным человеком!
Уильям Тенн
Бруклинский проект
Огромная круглая дверь в глубине растворилась, и мерцающие чаши света на кремовом потолке потускнели. Но когда круглолицый человек в черном джемпере захлопнул и задраил за собой дверь, они вновь залили все вокруг белым сиянием. Он прошел в переднюю часть зала, повернулся спиной к занимавшему полстены полупрозрачному экрану, и двенадцать репортеров — мужчины и женщины — шумно перевели дух. А потом из уважения к Службе безопасности все, как обычно, бодро поднялись на ноги.
Он приветливо улыбнулся, махнул рукой, чтоб они сели, и почесал нос пачкой отпечатанных на мимеографе листков. Нос у него был большой и, казалось, еще прибавлял ему солидности.
— Садитесь, леди и джентльмены, садитесь. У нас в Бруклинском проекте церемонии не приняты. Просто на время эксперимента я, так сказать, ваш проводник — исполняющий обязанности секретаря при администраторе по связи с прессой. Имя мое вам ни к чему. Вот, пожалуйста, возьмите эти листки.
Каждый брал по одному листку, а остальные передавал дальше. Откинувшись в полукруглых алюминиевых креслах, они старались расположиться поудобнее. Хозяин бросил взгляд на массивный экран, потом на циферблат стенных часов, по которому медленно ползла единственная стрелка, весело похлопал себя по бокам и сказал:
— К делу. Сейчас начнется первое в истории человечества дальнее путешествие во времени. Отправятся в него не люди, а фотографические и записывающие устройства, они доставят нам бесценные сведения о прошлом. На этот эксперимент Бруклинский проект затратил десять миллиардов долларов и больше восьми лет научных изысканий. Эксперимент покажет, насколько действенны не только новый метод исследования, но и оружие, которое еще надежнее обеспечит безопасность нашего славного отечества, оружие, перед которым не напрасно будут трепетать наши враги.
Первым делом предупреждаю: не пытайтесь ничего записывать, даже если вам удалось тайно пронести сюда карандаши и ручки. Сообщения свои запишете только по памяти. У каждого из вас имеется экземпляр Кодекса безопасности, куда внесены все последние дополнения, а также брошюра с правилами, специально установленными для Бруклинского проекта. На листках, которые вы только что получили, есть все необходимое для ваших сообщений; в них также содержатся предложения о подаче и освещении фактов. При условии, что вы не выйдете за рамки указанных документов, вы вольны писать свои очерки как вам заблагорассудится, всяк на свой лад. Пресса, леди и джентльмены, должна оставаться неприкосновенной и свободной от правительственного контроля. А теперь, пожалуйста, ваши вопросы.
Двенадцать репортеров уставились в пол. Пятеро принялись читать только что полученные листки. Громко шуршала бумага.
— Как? Вопросов нет? Неужто вас так мало интересует проект, который преодолел самую последнюю границу — четвертое измерение, время? Ну, что же вы, ведь вы олицетворяете любопытство нации — у вас не может не быть вопросов. Брэдли, у вас на лице сомнение. Ну, в чем дело? Поверьте, Брэдли, я не кусаюсь.
Все рассмеялись и весело поглядели друг на друга.
Брэдли привстал и указал на экран.
— Зачем он такой непроницаемый? Я вовсе не хочу знать, как работает хронор, но ведь нам отсюда видны только тусклые смазанные силуэты людей, которые тащат по полу какой-то аппарат. И почему у часов всего одна стрелка?
— Хороший вопрос, — сказал исполняющий обязанности секретаря, и крупный нос его, казалось, засветился. — Очень хороший вопрос. Так вот, у часов только одна стрелка, потому что в конце концов эксперимент касается времени, Брэдли, и Служба безопасности опасается, как бы из-за какой-либо непредвиденной утечки информации плюс зарубежные связи время самого эксперимента… короче говоря, как бы не нарушилась тайна. Вполне достаточно знать, что эксперимент начнется, когда стрелка дойдет до красной черты. По тем же причинам экран малопрозрачен и происходящее за ним несколько смазано — таким образом маскируются детали и регулировка. Я уполномочен сообщить вам, что чрезвычайно… как бы это сказать… важны именно детали аппарата. Есть еще вопросы? Калпеппер? Калпеппер из Объединенного агентства, так?
— Да, сэр. Из Объединенного агентства новостей. Наших читателей очень интересует эта история с изобретателями хронора. Поведение их и все прочее, разумеется, не вызывают у наших читателей ни уважения, ни сочувствия, но хотелось бы знать, что они имели в виду, когда говорили, будто эксперимент опасен из-за недостатка данных. А этот их президент, доктор Шейсон, будет расстрелян, не знаете?
Человек в черном подергал себя за нос и задумчиво прошелся перед репортерами.
— Признаюсь вам, точка зрения этих изобретателей-хронористов, или, как мы называем их между собой, хроников-вздыхателей, на мой вкус, уж чересчур экзотическая. Во всяком случае, меня мало волнуют взгляды предателя. За то, что Шейсон раскрыл характер доверенной ему работы, его, возможно, ожидает смертная казнь, а может, и нет. С другой стороны, он… в общем, может, да, а может, и нет. Сказать больше я не вправе из соображений безопасности.
Соображения безопасности. При этих магических словах каждый репортер невольно выпрямился на своем жестком сиденье. Калпеппер побледнел, и на лице его проступила испарина. «Только бы они не сочли, что я спросил про Шейсона, чтобы выведать побольше, — в отчаянии подумал он. — Черт меня дернул спрашивать про этих ученых!»
Калпеппер опустил глаза и всем своим видом старался показать, что ему стыдно за этих непотребных болванов. Он надеялся, что исполняющий обязанности секретаря заметит, как он ими возмущен.
Громко затикали часы. Стрелка была уже совсем близко к красной черте. За экраном, в огромной лаборатории, прекратилось всякое движение. Вокруг двух прислоненных друг к другу сверкающих металлических шаров сгрудились люди, рядом с этими громадами они казались крохотными. Большинство вглядывалось в циферблаты и распределительные щиты, те же, чья миссия была уже окончена, болтали с сотрудниками Службы безопасности в черных джемперах.
— С минуты на минуту начнется операция «Перископ». Разумеется, «Перископ», ведь мы проникаем в прошлое с помощью своего рода перископа — он сделает снимки и запечатлеет события, происходившие в различные периоды от пятнадцати тысяч до четырех миллиардов лет назад. В связи с рядом серьезных международных и научных обстоятельств, сопутствующих эксперименту, было бы правильней назвать его «Операция Перекресток». К сожалению, название это уже было… э… использовано.
Каждый постарался сделать вид, будто понятия не имеет, о чем идет речь, хотя долгие годы все сидящие здесь журналисты с завистью поглядывали на спрятанные за семью замками книги, которые могли бы порассказать о многом.
— Ну, неважно. Теперь я коротко изложу вам предысторию хронора, изученную Службой безопасности Бруклинского проекта. Что там у вас еще, Брэдли?
Брэдли снова привстал.
— Нам известно, что когда-то существовал Манхэттенский проект, Лонг-Айлендский, Уэстчестерский, а теперь вот Бруклинский. Так вот, хотелось бы знать, не было ли проекта Бронкс? Я сам из Бронкса, местный патриотизм, знаете ли.
— Конечно. Вполне понятно. Но если проект Бронкс и существует, могу вас заверить, что, пока он не завершен, кроме его участников о нем знают лишь президент и министр государственной безопасности. Если, повторяю, если такой проект существует, сообщение о нем будет для человечества громом среди ясного неба, как было с Уэстчестерским проектом. Думаю, такое нескоро выветрится из памяти человечества.
При этом воспоминании он хохотнул, и тут же эхом отозвался Калпеппер — чуть громче остальных. Стрелка часов была уже совсем близко к красной черте.
— Да, Уэстчестерский проект, а теперь этот. Тем самым безопасность нашего государства пока что обеспечена! Вы представляете, какое чудодейственное оружие дает хронор в руки нашей демократии? Взять хотя бы только одну сторону — задумайтесь-ка над тем, что случилось с Кони-Айлендским и Флэтбушским филиалами проекта (события эти упоминаются в листках, которые вы получили) до того, как хронор был всесторонне опробован.
Во время тех первых экспериментов еще не знали, что третий закон Ньютона — действие равно противодействию — справедлив для времени точно так же, как для остальных трех измерений. Когда первый хронор был запущен назад, в прошлое, на девятую долю секунды, вся лаборатория была отброшена в будущее на такое же время и вернулась… э… вернулась совершенно неузнаваемой. Кстати, именно это помешало путешествиям в будущее. Оборудование поразительно изменилось, человеку такого путешествия не выдержать. Но вы представляете, как благодаря одной только этой штуке мы можем расправиться с врагом? Установим достаточной массы хронор на границе с враждебным государством и зашлем его в прошлое, и тогда государство будет заброшено в будущее — все целиком, — а вернутся из будущего одни трупы!
Заложив руки за спину и покачиваясь на каблуках, он поглядел себе под ноги.
— Вот почему вы видите сейчас два шара. Хронор есть только в одном, в том, что расположен справа. Второй — просто макет, противовес, масса его в точности равна массе первого. Когда хронор зарядится, он нырнет в прошлое на четыре миллиарда лет назад и сфотографирует Землю, а она в ту пору находилась еще в полужидком, частично даже в газообразном состоянии, и быстро уплотнялась, ведь сама Солнечная система тогда только-только еще образовывалась.
В то же время макет врежется на четыре миллиарда лет в будущее и вернется оттуда сильно измененным, но причины этих перемен нам еще не, вполне ясны. Оба шара столкнутся у нас перед глазами и снова разлетятся в стороны, примерно на половину временного расстояния, и на этот раз хронор зарегистрирует сведения о почти твердой планете, которую сотрясают землетрясения и на которой, возможно, существуют формы, близкие к живой жизни, — особо сложные молекулы.
После каждого столкновения хронор будет нырять в прошлое на половину того временного расстояния, на которое он углубился в предыдущий раз, и каждый раз будет автоматически собирать всевозможные сведения. Геологические и исторические эпохи, в которых, как мы предполагаем, он побывает, обозначены на ваших листках под номерами от первого до двадцать пятого. На самом деле, прежде чем шары окажутся в состоянии покоя, хронор будет нырять еще много раз, но во всех остальных эпохах он будет находиться такое краткое мгновение, что, по мнению ученых, доставить оттуда фотографии или какую-либо другую информацию он уже не сможет. Учтите: в конце опыта, перед тем как остановиться, шары будут всего лишь словно бы подрагивать на месте, так что, хотя они и будут при этом удаляться на века от настоящего момента, заметить это едва ли удастся.
Я вижу, у вас есть вопрос.
Справа от Калпеппера поднялась тоненькая женщина в сером твидовом костюме.
— Я… я знаю, мой вопрос сейчас неуместен, — начала она, — но мне не удалось задать его в подходящую минуту. Господин секретарь…
— Исполняющий обязанности секретаря, — добродушно поправил круглолицый коротышка в черном. — Я всего лишь исполняю обязанности секретаря. Продолжайте.
— Так вот, я хочу сказать… Господин секретарь, нельзя ли как-нибудь сократить время нашей проверки после опыта? Неужели нас продержат взаперти целых два года только из опасения, что вдруг кто-нибудь из нас увидел слишком много, да еще при этом он плохой патриот, а потому окажется угрозой для государства? Когда наши сообщения пройдут цензуру, через какое-то достаточное для проверки время, ну хоть месяца через три, нам, по-моему, могли бы разрешить вернуться домой. У меня двое маленьких детей, а у других…
— Говорите только за себя, миссис Брайант! — прорычал представитель Службы безопасности. — Вы ведь миссис Брайант, так? Миссис Брайант из Объединения женских журналов? Жена Алексиса Брайанта? — Он словно бы делал карандашные пометки у себя в мозгу.
Миссис Брайант опустилась в кресло справа от Калпеппера, судорожно прижимая к груди экземпляр Кодекса безопасности со всеми дополнениями, брошюру о Бруклинском проекте и тоненький листок, отпечатанный на мимеографе. Калпеппер отодвинулся от нее как можно дальше, так что ручка кресла врезалась ему в левый бок. Почему все неприятности случаются именно с ним? И теперь еще эта сумасшедшая баба, как назло, глядит на него чуть не плача, словно ждет сочувствия. Он закинул ногу на ногу и уставился в одну точку прямо перед собой.
— Вы останетесь здесь, так как только в этом случае Служба безопасности будет вполне уверена, что, пока аппарат не станет совсем иным, чем вы его видели, наружу не просочится никакая существенная информация. Вас ведь никто не заставлял приходить сюда, миссис Брайант, вы сами вызвались. Тут все вызвались сами. Когда ваши редакторы выбрали именно вас, по законам демократии вы были вправе отказаться. Но никто из вас не отказался. Вы понимали, что отказ от этой беспримерной чести будет означать вашу неспособность проникнуться идеей государственной безопасности, покажет, что вы, в сущности, не согласны с Кодексом безопасности в той части, где речь идет о принятой у нас двухгодичной проверке. А теперь — не угодно ли! Чтобы человек, которого до сих пор считали таким дельным, достойным доверия журналистом, как вы, миссис Брайант, в последнюю минуту вдруг задал подобный вопрос… Да я… — голос коротышки упал до шепота, — я даже начинаю сомневаться, достаточно ли действенны наши методы проверки политической благонадежности.
Калпеппер кивнул в знак согласия и возмущенно поглядел на миссис Брайант, а она кусала губы и пыталась сделать вид, будто страшно заинтересована тем, что происходит в лаборатории.
— Неуместный вопрос. В высшей степени неуместный. Он занял время, которое я намеревался посвятить более подробному обсуждению широких возможностей хронора и его применению в промышленности. Но миссис Брайант, видите ли, должна была дать выход своим дамским чувствам. Какое ей дело до того, что наше государство изо дня в день окружает все большая враждебность, что ему грозит все большая опасность. Ее это нисколько не трогает. Ее заботят лишь те два года, которыми государство просит ее пожертвовать, чтобы обезопасить будущее ее же собственных детей.
Исполняющий обязанности секретаря одернул джемпер и заговорил спокойнее.
Всех словно бы немного отпустило.
— Аппарат придет в действие с минуты на минуту, так что я коротко коснусь наиболее интересных периодов, которые исследует хронор и сведения о которых будут для нас особенно полезны. Прежде всего периоды первый и второй, ибо в это время Земля принимала свою теперешнюю форму. Затем третий, докембрийский период протерозойской эры, миллиард лет назад; здесь найдены первые достоверные следы живой жизни — главным образом ракообразные и морские водоросли. Шестой период — сто двадцать пять миллионов лет назад, это среднеюрский период мезозойской эры. Путешествие в так называемый век рептилий может дать нам фотографии динозавров — тем самым станет, наконец, известно, какого они были цвета, — а такие, если повезет, фотографии первых млекопитающих и птиц. Наконец, восьмой и девятый периоды, олигоценовая и миоценовая эпохи третичного периода, отмечены появлением ранних предков человека. К сожалению, к тому времени колебания хронора будут столь часты, что ему вряд ли удастся собрать сколько-нибудь существенные данные…
Раздался удар гонга. Часовая стрелка коснулась красной черты. Пять техников включили рубильники, журналисты тотчас подались вперед, но шары уже исчезли из виду. Место их за плотным пластиковым экраном мгновенно опустело.
— Хронор отправился в прошлое, за четыре миллиарда лет! Леди и джентльмены, вы присутствуете при историческом событии, поистине историческом! Я воспользуюсь временем, пока шары не вернутся, и остановлюсь на бредовых идейках этих… этих хроников-вздыхателей.
Общий нервный смешок был ответом на шутку секретаря. Двенадцать репортеров уселись поудобнее и приготовились слушать, как он расправится со столь нелепыми идеями.
— Как вам известно, против путешествия в прошлое возражают прежде всего из страха, что любые, казалось бы, самые невинные действия там вызовут катастрофические перемены в настоящем.
Вероломный Шейсон и его беззаконное сообщество распространили эту гипотезу на разные заумные выдумки, на всякие пустяки вроде сдвига молекулы водорода, которую на самом деле никто у нас в прошлом никуда не двигал.
Во время первого эксперимента в Кони-Айлендском филиале, когда хронор вернулся обратно уже через девятую долю секунды, самые различные лаборатории, оснащенные всевозможными аппаратами, тщательнейшим образом проверяли, не произошло ли каких-нибудь изменений. И никаких изменений не обнаружили! Государственная комиссия сделала из этого вывод, что поток времени строго разграничен на прошлое, настоящее и будущее и в нем ничего изменить нельзя. Но Мейсона и его приспешников это, видите ли, не убедило, они…
I. Четыре миллиарда лет назад. Хронор парит в облаках из двуокиси кремния над бурлящей Землей и с помощью автоматов неторопливо собирает сведения. Пар, который он потеснил, сконденсировался и падает огромными сверкающими каплями.
— …настаивали, чтобы мы приостановили эксперименты, пока они еще раз все не просчитают. Дошли до того, что утверждали, будто, если изменения произошли, мы не могли их заметить и ни один прибор не мог их засечь. Они говорили, будто мы воспримем эти изменения как что-то существовавшее испокон веков. Видали? И это в ту пору, когда нашему государству — а ведь это и их государство тоже, уважаемые представители прессы, их тоже — грозила величайшая опасность. Можете себе представить…
Он просто не находил слов. Он шагал взад-вперед и качал головой. И репортеры, сидя в ряд на длинной деревянной скамье, тоже сочувственно покачивали головами.
Снова прозвучал гонг. Два тусклых шара мелькнули за экраном, ударились друг о друга и разлетелись в противоположных временных направлениях.
— Вот вами — секретарь махнул рукой в сторону экрана. — Первое колебание закончилось. И разве что-нибудь изменилось? Разве все не осталось, как было? Но эти инакомыслящие будут твердить, что изменения произошли, только мы их не заметили. Спорить с такими антинаучными, основанными на слепой вере взглядами — пустая трата времени. Эта публика…
II. Два миллиарда лет назад. Огромный шар парит над огненной, сотрясаемой извержениями Землей и фотографирует ее. От него отвалилось несколько докрасна раскаленных кусков обшивки. У пяти-шести тысяч сложных молекул при столкновении с ними разрушилась структура. А какая-то сотня уцелела.
— …будет корпеть тридцать часов в день из тридцати трех, чтобы доказать, что черное — это не белое или что у нас не две луны, а семь. Они особенно опасны…
Долгий приглушенный звук — это вновь столкнулись и разлетелись шары. И теплый оранжевый свет угловых светильников стал ярче.
— …потому что они владеют знанием, потому что от них ждут, что они укажут наилучшие пути. — Теперь правительственный чиновник стремительно скользил вверх и вниз, жестикулируя всеми своими псевдоподиями. — В настоящее время мы столкнулись с чрезвычайно сложной проблемой…
III. Один миллиард лет назад. Примитивный тройной трилобит, которого машина раздавила, едва он успел сформироваться, растекся по земле лужицей слизи.
— …чрезвычайно сложной. Перед нами стоит вопрос: будем мы струмпать или не будем? — Он говорил теперь вроде бы уже и не по-английски. А потом и вовсе замолчал. Мысли же свои, разумеется, выражал, как всегда, похлопывая псевдоподией о псевдоподию.
IV. Полмиллиарда лет назад. Чуть изменилась температура воды, и погибли многие виды бактерий.
— Итак, сейчас не время для полумер. Если мы сумеем успешно отращивать утраченные псевдоподии…
V. Двести пятьдесят миллионов лет назад.
VI. Сто двадцать пять миллионов лет назад.
— …чтобы Пятеро Спиральных остались довольны, мы…
VII. Шестьдесят два миллиона лет.
VIII. Тридцать один миллион..
IX. Пятнадцать миллионов.
Х. Семь с половиной миллионов.
— …тем самым сохраним все свое могущество. И тогда…
XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.
Бум… бум… бум бумбумбумумумумумуммммм…
— …мы, разумеется, готовы к преломлению. А это, можете мне поверить, достаточно хорошо и для тех, кто разбухает, и для тех, кто лопается. Но идейки разбухателей, как всегда, окажутся завиральными, ибо кто лопается, тот течет вперед, а в этом и заключена истина. Из-за того, что разбухатели трясутся от страха, нам вовсе незачем что-либо менять. Ну вот, аппарат наконец остановился. Хотите разглядеть его получше?
Все выразили согласие, и их вздутые лиловатые тела разжижились и полились к аппарату. Достигнув четырех кубов, которые больше уже не издавали пронзительного свиста, они поднялись, загустели и вновь обратились в слизистые пузыри.
— Вглядитесь, — воскликнуло существо, некогда бывшее исполняющим обязанности секретаря при администраторе по связям с прессой. — Посмотрите хорошенько. Те, кто роптал, оказались неправы — мы нисколько не изменились. — И он торжественно вытянул пятнадцать лиловых псевдоподий. — Ничто не изменилось!
Уильям Тенн
Берни по прозвищу Фауст
Фаустом прозвал меня Рикардо, а что это значит, я и сам толком не знаю.
Так вот, сижу я, значит, в своей крохотной конторе шесть футов на девять. Читаю объявления о распродаже списанного государственного имущества. Пытаюсь смекнуть, на чем можно заработать доллары, а на чем головную боль.
Тут дверь конторы отворяется. И этот тощий тип с неумытой рожей, одетый в замызганный светлый костюм, заходит в мою контору и, откашлявшись, предлагает:
— Двадцать долларов за пять не купите?
— Что-о? — спросил я, вытаращив глаза.
Он переступил с ноги на ногу и опять откашлялся.
— Двадцать, — пробормотал он. — Двадцать за пять.
Под моим взглядом он потупился и уставился на свои ботинки. Паршивые, грязные ботинки — такие же паршивые и грязные, как и все, что было на нем.
— Я плачу вам двадцать долларов, — объяснял он носкам своих ботинок. — И покупаю за них пять. У вас остается двадцатка, у меня — пятерка.
— Как вы сюда попали?
— Взял да и вошел, — ответил он, немного смешавшись.
— Ах, так вы просто взяли да и вошли, — злобно передразнил я его. — А теперь возьмите да и спуститесь вниз и выметайтесь отсюда к чертовой матери. В вестибюле ясно написано, что нищим вход воспрещен.
— Я не прошу подаяния, — он одернул пиджак. Таким движением разглаживают складки смятой ночной пижамы. — Я предлагаю сделку. Двадцатку за пятерку. Я вам…
— Вызвать полицию?
Он явно сдрейфил.
— Нет. Зачем вызывать полицию? Я вам ничего не сделал!
— Через секунду я вызываю полицию. Я вас честно предупреждаю. Стоит мне только позвонить вниз, в вестибюль, и сюда тотчас пришлют полицейского. Здесь не попрошайничают. Здесь занимаются бизнесом.
Он провел ладонью по лицу, и ладонь стала грязной; он вытер ее о лацкан.
— Значит, не хотите? — сказал он. — Двадцать за пять. Ведь вы занимаетесь куплей-продажей! Что же вам не подходит?
Я поднял телефонную трубку.
— Ладно, — остановил он меня, вытянув вперед грязную пятерню. — Я ухожу.
— Так-то оно лучше. И дверь за собой закройте.
— Если вы передумаете, — он запустил руку в карман своих грязных, мятых брюк и достал визитную карточку. — Вы можете найти меня здесь. Почти в любое время.
— Убирайтесь, — сказал я ему.
Он протянул руку, бросил карточку на стол, на кучу объявлений о распродаже, раза два кашлянул, взглянул на меня — не клюнул ли я на этот раз. Нет? Нет. И он поплелся к выходу.
Кончиками указательного и большого пальцев я брезгливо взял визитную карточку и собрался было бросить ее в корзину.
Но потом передумал. Визитная карточка. Все-таки чертовски необычно такая рвань и с карточкой. Но карточка — вот она.
Да, если разобраться, и вся сцена была необычна. Я даже начал жалеть, что выгнал его, не дав высказаться до конца. Он ведь и правда ничего не сделал — выдумал новый рекламный трюк, и только. Я и сам постоянно заимствую новые рекламные трюки. Я расширяю свою маленькую контору, я покупаю и продай, но половина моих товаров — хорошие идей. Идеи я готов заимствовать даже у нищего.
Карточка была чистая, белая — только от пальцев остались темные пятна. Через всю карточку каллиграфическим почерком было выведено: Мистер Ого Эксар. Ниже стояли название и номер телефона гостиницы на площади Таймс-сквер, расположенной неподалеку от моей конторы. Я знал эту гостиницу — не слишком дорогая, но и не ночлежка, так, что-то среднее.
В углу карточки стоял номер комнаты. Это меня вдруг развеселило. Совершенно непонятно!
Но, с другой стороны, почему бы попрошайке не зарегистрироваться в гостинице? Не будь снобом, Берни, сказал я себе.
Двадцать за пять. В чем тут фокус? Я не мог отвязаться от этой мысли.
Оставалось только одно. Посоветоваться с кем-нибудь. Рикардо? Как-никак видный профессор колледжа. Одно из лучших моих знакомств.
Он немало помогал мне — намекнул о решении строить новое здание колледжа, на что отпустили полторы тысячи долларов, сообщил о распродаже конторского оборудования в ООН и т. д. Как только у меня возникал вопрос, требовавший университетской эрудиции, он всегда выручал меня. И все это за какие-нибудь две-три сотни комиссионных.
Я взглянул на часы. Рикардо должен быть сейчас у себя в колледже проверяет контрольные или чем он там еще занимается. Я набрал его номер.
— Ого Эксар? — переспросил он. — Наверное, финн. А может быть, эстонец. Скорее всего откуда-нибудь из Прибалтики.
— Неважно, — сказал я. — Меня вот что интересует. — И я рассказал ему насчет пяти и двадцати долларов.
Он рассмеялся:
— Опять то же самое!
— Какой-нибудь древний трюк из тех, что греки выкидывали с египтянами?
— Нет. Из тех, что выкидывали американцы. И это не совсем трюк. Во время кризиса одна нью-йоркская газета послала своего корреспондента по городу с двадцатидолларовым банкнотом, который он продавал за один доллар. Охотников купить не нашлось. Их не нашлось даже среди безработных, полуголодных — из страха оказаться в дураках они отказались от барыша в 1900 %.
— Двадцать за один? Тут было двадцать за пять.
— Ну, сам знаешь, Берни, — инфляция, — сказал он, снова рассмеявшись. — А в наши дни это скорее напоминает какое-то телевизионное представление.
— Телевизионное? Поглядели бы вы, как этот парень одет!
— Просто добавочный и вполне логичный штрих — больше шансов, что люди не примут это предложение всерьез. Университеты то и дело проводят такие исследования. Несколько лет назад группа социологов исследовала отношение публики к уличным сборщикам благотворительных средств. Ты знаешь этих людей, стоят на перекрестках и гремят копилками: «Помогите двуглавым детям! Пожертвуйте пострадавшим от наводнения в Атлантиде!» Вот они и нарядили нескольких студентов…
— Думаете, это тот самый случай?
— Полагаю, что так. Вот только зачем он оставил свою визитную карточку?
И вдруг меня осенило:
— Знаете, я понял. Если это телевизионная затея, то тут есть чем поживиться. Телевикторина с призами — машины, холодильники, замок в Шотландии и прочее.
— Телевизионная викторина? Что ж, возможно.
Я повесил трубку, тяжело вздохнул и набрал номер гостиницы, где жил Эксар. Он действительно числился в списке проживающих. И только что вернулся в номер.
Я быстро спустился вниз и сел в такси. Кто знает, с кем он еще успел связаться?
Поднимаясь в лифте, я все еще размышлял, как от двадцати долларов перейти к действительно крупной игре, затеянной телевидением, и не дать Эксару понять, что я раскусил их трюк. И тогда — ведь может же и мне подфартить. Вдруг и мне выпадет выигрыш?
Я постучал в дверь. Когда он сказал «войдите», я вошел, но какое-то мгновение не мог разглядеть ничего.
Номер был маленький, как и все номера в этой гостинице, маленький и душный. Он не включил света, ни одной лампочки. Окна были зашторены донизу.
Когда мои глаза привыкли к темноте, я, наконец, смог рассмотреть этого молодчика. Он сидел на кровати лицом ко мне. На нем все еще был этот идиотский костюм.
И знаете, чем он занимался? Он смотрел забавный маленький переносной телевизор, стоявший на письменном столе. Цветной телевизор. Но работал телевизор плохо. На экране не было ни лиц, ни картинок, а только разноцветные сполохи по всему экрану. Громадная красная вспышка, громадная оранжевая вспышка, дрожащие, переходы между голубым, зеленым, черным. Из телевизора доносился голос, разобрать слова было невозможно: «Вах-вах, девах».
Как только я вошел, он сразу выключил телевизор.
— Таймс-сквер — плохое соседство для телевизора, — сказал я. Слишком много помех.
— Да, — сказал он. — Слишком много помех.
Он закрыл телевизор крышкой и убрал его. Хотелось бы посмотреть этот телевизор, когда он работает как следует.
Странно, правда? В комнате, как ни удивительно, не было запаха дрянного ликера, и в задвинутой под письменный стол мусорной корзине не валялись пустые бутылки, как это бывает обычно в таких номерах. Ничего такого.
Единственный запах, который я почувствовал, был мне совершенно незнаком. Я думаю, это был запах самого Эксара.
— Хм, — промычал я, чувствуя себя неловко из-за давешнего разговора с ним в конторе. Я себя вел тогда слишком грубо. Он спокойно сидел на кровати.
— У меня двадцать долларов, — сказал он. — Вы принесли пять?
— Я думаю, найдутся, — сказал я, роясь в бумажнике и стараясь обернуть дело в шутку. Он не проронил ни слова, даже не пригласил меня сесть. Я вытащил банкнот.
— Идет?
Он наклонился вперед и уставился на него, будто в такой темноте можно было увидеть, что это за банкнот.
— Идет, — сказал он. — Но мне нужна расписка. Заверенная расписка.
«Заверенная расписка? Вот это да!» — подумал я, и сказал: — Пойдемте. Аптека на Сорок пятой улице.
— Пойдемте, — сказал он, поднимаясь и коротко откашливаясь — раз, два, три, четыре, пять, шесть, — почти беспрерывно.
По дороге в аптеку я остановился возле киоска с канцелярскими товарами, купил книжку с бланками расписок и тут же заполнил одну из них. «Получена от мистера Ого Эксара сумма в двадцать долларов за пятидолларовый банкнот под номером… Нью-Йорк, дата».
— Идет? — спросил я его. — Я поставил здесь номер и серию банкнота, чтобы казалось, будто вам нужен именно он. — Он повернулся ко мне и прочел расписку. Затем сверил номер с банкнотом, который я держал в руках, и кивнул.
Мы подождали аптекаря, который в это время отпускал товар. Когда я подписал расписку, аптекарь прочел ее про себя, пожал плечами и поставил свою печать.
Я заплатил ему два доллара: все равно я был в барыше.
Эксар бросил на прилавок новенькую, хрустящую двадцатку. Он наблюдал, как я рассматриваю ее на свет то с одной, то с другой стороны.
— Не фальшивая? — спросил он.
— Нет… Но поймите, я вас не знаю и не знаю, какие у вас деньги.
— Конечно. Я бы и сам так поступил.
Сунув расписку и пять долларов в карман, он направился к выходу.
— Эй! — крикнул я. — Вы спешите?
— Нет, — он остановился и удивленно посмотрел на меня. — Не спешу. Но вы получили двадцать за пять. Дело сделано. И конец.
— Все в порядке, дело сделано. Не выпить ли нам по чашке кофе?
Он заколебался.
— Плачу я, — сказал я ему. — Давайте выпьем кофе.
— А вы не захотите расторгнуть сделку? — забеспокоился он. — У меня расписка. Все заверено. Я дал вам двадцать долларов, а вы мне — пять. Дело сделано.
— Сделано, сделано, — говорил я, подталкивая его к свободному столику. — Все заметано, подписано, заверено и проверено. Никто и не собирается идти на попятную. Просто я хочу угостить вас кофе.
Несмотря на слой грязи, покрывающий его лицо, я увидел, что оно прояснилось.
— Не надо кофе. Я бы съел грибной суп.
— Прекрасно, прекрасно. Суп, кофе — все равно. Я выпью кофе.
Я сел напротив и изучал его. Он сгорбился над тарелкой и торопливо отправлял в рот ложку за ложкой — живой пример негодяя, у которого с утра маковой росинки во рту не было.
Такой тип должен валяться пьяный в дверях, пытаясь защитить себя от полицейской дубинки. И место ему в кабаке, а не в приличной гостинице, и не подобает ему продавать мне двадцать долларов за пять и есть, как порядочному, грибной суп.
Но так и должно быть. Для телепередачи, которую они затеяли, это чертовски подходящий актер, лучшего ни за какие деньги не найдешь, только зря доллары выбросишь. Парень так здорово играет попрошайку, что люди смеются ему в лицо, когда он пытается навязать им прибыльное дельце.
— Может быть, купите что-нибудь еще? — спросил я его.
Он не донес ложку до рта и подозрительно посмотрел на меня.
— Например?
— Ну, не знаю. Может быть, приобретете десять долларов за пятьдесят? Или двадцать за сто?
Он задумался, этот парень. Потом снова набросился на суп.
— Это не дело! — презрительно бросил он. — Разве это дело?
— Уж вы меня, пожалуйста, простите! Я только так спросил, на всякий случай. Я вовсе не хочу на вас заработать, — я закурил сигарету и замолчал.
Мой собеседник покончил с едой и, оторвав свою грязную физиономию от тарелки, вытер губы бумажной салфеткой.
— Хотите купить что-нибудь еще? Пока я здесь и располагаю временем, если у вас имеются какие-нибудь интересные предложения, мы можем тотчас, как говорится, не отходя от кассы, все оформить.
Он скомкал бумажную салфетку и бросил ее в тарелку. Салфетка намокла: он выловил только грибы, а суп оставил.
— Мост через пролив Золотые Ворота, — внезапно предложил он.
Я выронил сигарету:
— Что?
— Мост через пролив Золотые Ворота. В Сан-Франциско. Я плачу за него… — он задумчиво уставился в потолок. — Скажем, сто двадцать пять долларов. Сто двадцать пять долларов. Деньги на бочку.
— А почему именно этот мост? — как идиот, переспросил я.
— Потому что он мне нужен. Вы спросили меня, что я хочу купить еще, я отвечаю: «Мост через пролив Золотые Ворота».
— А почему бы не мост Джорджа Вашингтона? Он здесь, в Нью-Йорке, на реке Гудзон. Зачем покупать мост на Западе?
Он усмехнулся, словно отдавая дань моей хитрости.
— Нет, — сказал он, дергая левым плечом. — Я знаю, что хочу. Мост через пролив Золотые Ворота в Сан-Франциско. Хотите продавайте, хотите нет.
— Я согласен. Пусть будет по-вашему — уступаю. Но учтите, я могу вам продать только свою часть моста — только то, что принадлежит мне.
Он кивнул.
— Мне нужна расписка. Напишите.
Я написал расписку. Все снова-здорово. Аптекарь заверил расписку, сунул печать в ящик и отвернулся. Эксар отсчитал шесть двадцаток и одну пятерку из здоровенной пачки банкнотов, которые хрустели, как накрахмаленные. Сунув пачку в карман брюк; он вновь направился к выходу.
— Может быть, еще кофе? — спросил я его. — Или хотите супу?
Он озадаченно поглядел на меня и даже вроде бы передернулся.
— С какой стати? Вы что-нибудь еще хотите продать?
Я пожал плечами.
— А вы покупаете? Скажите, что именно, и мы обстряпаем это дельце.
Время шло, но я не жалел. Я сделал сто сорок долларов за пятнадцать минут. Точнее, немного меньше — ведь я уплатил аптекарю и еще за кофе и суп. Впрочем, это необходимые издержки, так положено. Я не жалел.
Может, теперь подождать, что у них дальше по сценарию. Они спросят, что я держал в уме, продавая Эксару все это. Я объясню, и на меня посыпятся призы: и холодильники, и ювелирные изделия лучшей фирмы, и…
Пока я витал в облаках, Эксар сказал что-то. Что-то совсем непонятное. Я попросил повторить.
— Пролив Эресунн, — повторил он. — Между Данией и Швецией. Я плачу за него триста восемьдесят долларов.
Я ничего не слыхал о таком проливе. Я поджал губы и на секунду задумался. Кругленькая сумма — триста восемьдесят долларов. За какой-то идиотский пролив. Я попытался схитрить.
— Четыре сотни — и по рукам.
Он сильно закашлялся и в этот момент выглядел совсем больным.
— В чем дело? — выдавил он из себя между приступами кашля. — Разве триста восемьдесят долларов — плохая цена? Это маленький пролив, один из самых маленьких. Всего-то две с половиной мили. А знаете его максимальную глубину?
— Уж никак не мельче других, — с умным видом сказал я.
— Двенадцать футов, — закричал Эксар. — Всего двенадцать футов! Где вы получите больше за такой пролив?
— Спокойней, — сказал я, похлопывая его по грязному плечу. — Давайте ни вашим, ни нашим. Вы говорите — триста восемьдесят, я прошу четыре сотни. Как насчет трехсот девяноста?
На самом деле мне было все равно: десять долларов больше или меньше. Но мне было интересно, что будет дальше.
Он успокоился.
— Триста девяносто долларов за пролив Эресунн, — пробормотал он, боясь, что я натягиваю ему нос. — Но мне нужно только море; я не прошу в придачу чего-нибудь еще.
— Вот что я вам скажу, — я поднял руки. — Дайте мне триста девяносто, и я отдаю вам побережье бесплатно. Идет?
Он задумался. Он засопел. Он вытер нос рукой.
— Хорошо, — сказал он наконец. — Идет. Пролив Эресунн за триста девяносто долларов.
Бац! Шлепнулась печать аптекаря. Дело пошло на лад. Эксар дал мне шесть пятидесятидолларовых купюр, четыре двадцатки и десятку — все из той же пачки новеньких банкнот, которую он держал в кармане брюк.
Я подумал о пятидесятидолларовых банкнотах, которые остались в пачке, и почувствовал, что у меня текут слюнки.
— О'кей, — сказал я. — Что дальше?
— Вы все еще продаете?
— По сходной цене, разумеется. Что вы хотите?
— Очень многое, — вздохнул он. — Но стоит ли сейчас этим заниматься? Вот я о чем думаю.
— Конечно, стоит, раз есть такая возможность. Позже — кто знает? меня может не быть рядом, найдутся другие люди, которые взвинтят цены, что угодно может случиться. — Я сделал паузу, но он продолжал хмуриться и кашлять. — Как насчет Австралии? — предложил я. — Может быть, вы купите Австралию долларов, скажем, за пятьсот? Или Антарктиду? Антарктиду я уступаю по дешевке.
Он явно заинтересовался.
— Антарктиду? Сколько вы за нее просите? Нет, больше покупать в розницу я не буду. Здесь кусочек, там кусочек. Получается слишком дорого.
— Вы, милый, покупаете по бросовым ценам. Оптом обычно дороже.
— А если я куплю оптом? Сколько за все?
— Простите, не совсем понял, — я покачал головой. — Что оптом?
Он сгорал от нетерпения.
— Все. Весь мир. Землю.
— Ого, — сказал я. — Это много.
— Я устал покупать по частям. Назначайте оптовую Вену — я покупаю все сразу.
Я мотнул головой — не утвердительно, не отрицательно, ни да, ни нет. В руки шли деньги, и большие, Но, пожалуй, вот тут-то я должен был рассмеяться ему в лицо и уйти. Однако я даже не улыбнулся.
— Конечно, вы можете узнать эту цену. Но что это значит? Я хочу спросить, что вы, собственно, собираетесь покупать?
— Землю, — сказал он, придвинувшись так близко, что я ощутил его дыхание. — Я хочу купить Землю. Целиком и полностью.
— Только хорошо заплатите. Продам все на корню.
— Я за ценой не постою. Ведь это настоящая сделка. Плачу две тысячи долларов. Я получаю Землю — всю планету — с правами на полезные ископаемые и клады. Идет?
— Вы получаете чертовски много.
— Я знаю, что много, — согласился он. — Но я и плачу много.
— За то, что просите, — не много. Дайте мне подумать.
Это была большая сделка, большой приз. Я не знал, сколько денег ему дали на телевидении, но был уверен, что две тысячи долларов — только начало. Но как назначить разумную цену за мир и не промахнуться?
Я не должен выглядеть на телевидении мелкой сошкой. Надо угадать высшую цену, названную Эксару режиссером.
— Вам действительно нужно все? — спросил я, поворачиваясь к нему. Земля и Луна?
Он выставил вперед свою грязную пятерню.
— Только права на Луну. Остальное можете оставить себе.
— Все равно это слишком много. За такую кучу недвижимости вам придется выложить больше двух тысяч.
Эксар поморщился и дернулся всем телом.
— Насколько… насколько больше?
— Ладно, давайте без дураков. Дело крупное! Мы ведь не толкуем больше о мостах, или реках, или морях. Вы покупаете целый мир и часть другого в придачу. Придется раскошелиться. Готовьте деньги.
— Сколько? — казалось, его тело так и ходит ходуном под грязным костюмом. Люди оборачивались на нас. — Сколько? — прошептал он.
— Пятьдесят тысяч. И это еще чертовски дешево. Сами понимаете.
Эксар весь обмяк. Его страшные глаза, казалось, запали еще глубже.
— Вы сумасшедший, — пробормотал он упавшим голосом. — Вы не в своем уме.
Он повернулся к двери с таким измученным видом, что мне стало ясно я хватил через край. Он даже не обернулся.
Я сильно потянул за полу его пиджака.
— Эксар, послушайте, — быстро проговорил я, а он тем временем вырывался. — Я понимаю, что заломил слишком много. На вы можете дать больше двух тысяч. Я хочу знать самую высокую вашу цену. Иначе какого черта я трачу на вас время? И кто еще станет возиться с вами?
Он остановился. Потом поднял голову и закивал. А когда мы пошли бок о бок, я отпустил пиджак. Все началось сначала!
— Ладно. Вы уступаете мне, а я — вам. Поднимем немного цену. Ваше последнее слово! Сколько вы можете дать?
Он поглядел в окно и задумчиво облизал языком грязные губы. Его язык тоже был грязный. Правда! Какая-то грязь, похожая то ли на жир, то ли на сажу, покрывала весь его язык.
— Как насчет двух с половиной тысяч? — спросил он чуть спустя. Больше не могу. У меня не остается ни цента.
Он был из того же теста, что и я: торгаш до мозга костей.
— Столкуемся на трех тысячах, — не уступал я. — Ну разве это много три тысячи? Еще каких-то пятьсот долларов! Подумайте, что вы получаете за это! Земля — целая планета — и рыболовство, и полезные ископаемые, и клады, да и к тому же все богатства Луны. Ну как?
— Не могу. Просто не могу. Хотел бы, но не могу. — Он покачал головой, словно стараясь избавиться от своих тиков и подергиваний. Договоримся так. Я даю вам две тысячи шестьсот. За это вы уступаете мне одну Землю, а на Луне только клады. Полезные ископаемые остаются вам. Я и без них обойдусь.
— Пусть будут две тысячи восемьсот, и берите полезные ископаемые. Они вам наверняка пригодятся. Берите и владейте. Еще двести долларов — и все ваше.
— Не могу я обладать всем. Есть вещи, которые мне не по карману. Как насчет двух тысяч шестисот пятидесяти без прав на полезные ископаемые и клады?
Дело закрутилось. Я это чувствовал.
— Вот мое последнее слово, — сказал я. — Я не могу тратить на это целый день. Предлагаю две тысячи семьсот пятьдесят и ни центом меньше. За это я отдаю вам Землю и право отыскивать клады на Луне. Выбирайте, что хотите.
— Ладно, — сказал он. — Черт с вами — согласен.
— Две тысячи семьсот пятьдесят за Землю и клады?
— Нет, ровно две тысячи семьсот и никаких прав на Луну. Забудем о ней. Ровно две тысячи семьсот, и я получаю Землю.
— Идет, — воскликнул я, и мы ударили по рукам. На том и столковались.
Потом я обнял его за плечи — стоит ли обращать внимание на грязь, если парень принес мне две тысячи семьсот долларов — и мы снова направились в аптеку.
— Мне нужна расписка, — напомнил он.
— Отлично, — ответил я. — Я напишу вам то же самое: я продаю все, чем владею или имею право продавать. Вы сделали удачную покупку.
— А вы неплохо заработали на своем товаре, — ответил он. Теперь он мне нравился. Дергающийся, грязный, какой угодно, — он был свой человек.
Мы подошли к аптекарю заверить расписку, и, честное слово, я никого противнее не видел.
— Сделали хороший бизнес, а? — сказал он. — Не слишком ли погорячились?
— Слушайте, вы, — ответил я. — Ваше дело — заверить. — Я показал расписку Эксару. — Годится?
Он кашлял и изучал расписку.
— Все, чем вы владеете или имеете право продавать. Прекрасно. И, знаете что, напишите о вашей правомочности как торгового агента, о вашей профессиональной правомочности.
Я внес изменения и расписался. Аптекарь заверил расписку.
Эксар вытащил из кармана брюк пачку денег. Он отсчитал пятьдесят четыре хрустящие, новенькие пятидесятидолларовые купюры и положил их на стеклянный прилавок. Затем осторожно взял расписку, спрятал ее и направился к двери.
Я схватил деньги и бросился за ним.
— Может, что-нибудь еще?
— Ничего, — ответил он. — Все. Дело сделано.
— Я понимаю, но мы можем найти еще что-нибудь, какой-то другой товар.
— Больше искать нечего. Дело сделано.
По его голосу я понял, что так оно и есть.
Я остановился и поглядел, как он толкает вращающуюся дверь. Он выкатился на улицу, свернул налево и пошел так быстро, будто чертовски спешил.
Дело сделано. О'кей. В моем бумажнике лежали три тысячи двести тридцать долларов, которые я сделал за это утро.
Но верно ли я действовал? Была ли это действительно высшая сумма, предназначенная мне по сценарию? И как близко я к ней подобрался?
Один из моих знакомых, Морис Барлап, пожалуй, поможет мне разобраться в этом деле.
Морис, как и я, занимался бизнесом, но бизнесом своего рода — он был театральным агентом и дело знал, как свои пять пальцев. Вместо того чтобы сбывать медную проволоку или, скажем, устраивать кому-то участок земли в Бруклине, он торговал талантами. Он продавал группу актеров в горный отель, пианиста в бар, ведущего для театрального обозрения, комика в ночную радиопрограмму.
Я позвонил ему из телефонной будки и спросил о телевикторине.
— Так я хочу узнать…
— Нечего узнавать, — отрезал он. — Никакой викторины нет, Берни.
— Да есть она, черт возьми, Морис. Ты просто не слыхал.
— Такого представления нет. Не готовится и не репетируется, нет ничего такого. Подумай сам — до начала передачи тратится уйма денег: нужен сценарий, нужно время на телевидении. А прежде чем купить время, режиссер готовит рекламу. И когда мне звонят насчет исполнителей, я уже наслышан о представлений, мне о нем все уши прожужжали. Я знаю, что говорю, Берни, и раз я сказал, что такого представления нет, значит, его нет.
Он был чертовски уверен в себе. Безумная мысль неожиданно промелькнула в моем мозгу. Нет. Не может быть. Нет.
— Значит, это, как и говорил Рикардо, газета или университетское исследование?
Он задумался. А я стоял в душной телефонной будке и ждал — у Мориса Барлапа была голова на плечах.
— Эти чертовы документы, все эти расписки — газеты и университеты так не работают. И на чудачество это не похоже. Я думаю, тебя облапошили, Берни, не знаю, на чем и как, но облапошили.
Этих слов для меня было достаточно. Морис Барлап чует обман сквозь шестнадцатифутовую изоляцию из силикатной шерсти. Он не ошибается. Никогда.
Я повесил трубку и задумался. Безумная мысль вновь вернулась ко мне и бомбой разорвалась в моем мозгу.
Шайка космических пришельцев решила захватить Землю. Может быть, они собираются устроить здесь колонию, а может, курорт, черт их знает. У них свои соображения на этот счет. Они достаточно сильны и высокоразвиты, чтобы захватить Землю силой. Но они не хотят делать это беззаконно, им нужно юридическое обоснование.
Так вот. Может быть, этим бандитам только и надо, что получить от одного полноправного представителя рода человеческого клочок бумаги на передачу им Земли. Неужели правда? Любой клочок бумаги? Подписанный кем угодно?
Я опустил монету в автомат и набрал номер Рикардо. Его не было в колледже. Я объяснил телефонистке, что у меня очень важное дело, и она ответила: «Хорошо, я постараюсь его отыскать».
Все эти турусы на колесах, думал я, мост через пролив Золотые Ворота, пролив Эресунн — все это такие же уловки, как продажа двадцатки за пятерку. В действиях бизнесмена есть одна верная примета — раз он прекращает все переговоры, закрывает лавочку и уходит, значит, он получил, что хотел.
Эксар хотел получить Землю. А все эти дополнительные права на Луну чистейший вздор! Они выдумали этот трюк, чтобы сбить меня с панталыку и побольше выторговать.
Да, Эксар меня облапошил. Он словно специально изучил, как я работаю. Словно ему надо было купить именно у меня.
Но почему у меня?
И что означал этот бред на расписках о моей правомочности, что, черт возьми, это означало? Я не владею Землей, я не занимаюсь куплей-продажей планет. Вы должны владеть планетой, прежде чем продавать ее. Таков закон.
Но что я продал Эксару? У меня нет никакой недвижимости. Может быть, они собираются забрать мою контору, заявить права на часть тротуара, по которому я хожу, или наложить арест на стул в кафе, где я лью кофе?
Это вернуло меня к исходному вопросу: кто «они»? Кто, черт возьми, «они»?
Телефонистка дозвонилась, наконец, до Рикардо. Он был недоволен.
— У меня факультетское собрание, Берни. Я позвоню тебе позже.
— Подождите секунду, — умолял я. — Я влип и не знаю, удастся мне выпутаться или нет. Мне очень нужен совет.
Я говорил без передышки — в трубке слышались голоса каких-то крупных боссов, а я без умолку рассказывал о происшедшем со мной после нашего утреннего разговора. Как выглядел Эксар, какой от него шел запах, какой странный цветной телевизор он смотрел, как он отказался от прав на Луну и ушел, удостоверившись, что купил Землю. Что сказал по этому поводу Морис Барлап, и какие у меня самого подозрения, все сказал:
— Только вот одно, — я усмехнулся, сделавши вид, будто не принимаю эту историю всерьез. — Кто я такой, чтобы заключать подобные сделки, а?
Какое-то время он размышлял.
— Не знаю, Берни, возможно ли это. Надо рассмотреть все «за» и «против». Пожалуй, это связано с ООН.
— С ООН? Не понимаю. Какое отношение имеет к этому ООН?
— Самое прямое. Вспомни исследование, которое мы вместе с тобой проводили в ООН два года назад,
Он говорил намеками, чтобы стоявшие рядом коллеги не могли его понять. Но я-то понял. Понял.
Эксар, должно быть, разнюхал, что Рикардо дал мне подработать на сбыте списанного оборудования и конторской мебели из нью-йоркского здания ООН. Мне даже выдали официальный документ. И в какой-нибудь картотеке до сих пор хранится бланк ООН, где написано, что я — их официальный представитель по сбыту неликвидов, списанного оборудования и конторской мебели.
Вот вам и юридическое обоснование!
— Вы думаете, эта бумага действительна? — спросил я Рикардо. Допустим, что Земля — списанное оборудование. Но при чем тут неликвиды?
— Международные законы — штука запутанная, Берни. А здесь все может оказаться куда сложнее. Надо собраться с мыслями и что-то придумать.
— Но что? Что я должен делать, Рикардо?
— Берни, — сердито закричал он, — я же сказал тебе, что у меня факультетское собрание, черт подери! Факультетское собрание!
И он повесил трубку. Я выскочил, как сумасшедший, из аптеки, схватил такси и понесся к гостинице, где жил Эксар.
Чего я так испугался? Не знаю, но меня чуть удар не хватил. Все это было слишком значительно для маленького человека, как я, и в этой значительности было что-то опасное. В результате я мог стать величайшим идиотом за всю историю человечества. Никто не заключит со мной ни одной сделки. Я чувствовал себя так, будто кто-то попросил меня продать фотографию, и я ответил: «Пожалуйста», а оказалось, что это фотография одной из сверхсекретных атомных ракет. Будто я случайно продал свою страну. Только на самом деле все еще хуже: я продал весь этот мир! Я должен выкупить его, должен!
Когда я вбежал в комнату Эксара, он уже собирался уходить. Он укладывал свой забавный транзисторный телевизор в дешевый кожаный саквояж. Я не закрыл за собой двери, чтобы в комнате было посветлее.
— Дело сделано, — сказал он. — Все кончено. Больше дел не будет.
Я загородил ему дорогу.
— Эксар, — сказал я. — Послушайте, что я вам скажу. Вы не человек. Как я, например.
— Я, любезный, человечнее вас!
— Возможно, но вы не землянин — вот в чем дело. Зачем вам Земля?..
— Мне она ни к чему. Я представляю некое лицо.
Так вот оно, напрямик! Ты прав, Морис Барлап! Я уставился в его рыбьи глаза, которые придвинулись ко мне вплотную. Но я не уступал.
— Вы чей-то агент, — медленно произнес я. — Чей? И зачем кому-то понадобилась Земля?
— Это не мое дело. Я агент. Я только покупаю для них:
— Вы получаете комиссионные?
— Ну уж, конечно, я работаю не за здорово живешь.
«Да, ты работаешь не за здорово живешь», — подумал я. Все эти кашли, да тики, да подергивания. Я понял, отчего они. Он не привык к нашему климату. Так, окажись я в Канаде, я бы непременно слег от приступов какой-нибудь болезни из-за другой воды или еще чего-нибудь.
А грязь на его лице была чем-то вроде мази от загара! От нашего солнца! Все одно к одному — окна зашторены, лицо запачкано, грязь на одежде та же, что и на лице.
Эксар не был попрошайкой. Что угодно, только не это. «Пошевели мозгами, Берни, — сказал я себе. — Этот парень здорово тебя охмурил!»
— Сколько вы зарабатываете — десять процентов? — Он мне не ответил, а наклонился ко мне, часто задышал и задергался. — Я заплачу больше, Эксар. Знаете, сколько я дам? Пятнадцать процентов! Мне больно смотреть, как человек носится взад и вперед из-за паршивых десяти процентов.
— А как же этика? — грубо прервал он меня. — Ведь у меня клиент.
— Вы только подумайте, он заговорил об этике! А купить всю эту проклятую Землю за две тысячи семьсот долларов? И это вы называете этикой?
Теперь он озлобился. Он поставил саквояж на пол и ударил кулаком по ладони:
— Нет, это я называю бизнесом, сделкой — я предлагаю, вы соглашаетесь. Вы уходите счастливый, вы преуспели. И вдруг ни с того ни с сего вы прибегаете назад, распускаете нюни и заявляете, что не хотели продавать так много за такие гроши. Что за дела! У меня своя этика: я не подведу клиента из-за какого-то слюнтяя.
— Я не слюнтяй! Я просто мелкая сошка и еле свожу концы с концами. Что я против воротилы из другого мира, который знает, как обвести меня вокруг пальца!
— Если бы вы могли обвести вокруг пальца, вы что, не воспользовались бы этим?
— Но не так. Не смейтесь, Эксар, это правда. Я бы не стал обманывать калеку. Я бы не стал обводить простака из жалкой конторы, чтобы он продал мне планету.
— Но вы-то продали, — сказал он. — Эта расписка действительна где угодно. А техники, чтобы подкрепить ее силу, у нас хватит. Как только мой клиент вступит во владение документом, человеческой расе конец, «капут» ей наступит, забудьте о ней. А козлом отпущения будете вы.
В номере стояла жара, и я вспотел, как мышь. Но у меня отлегло от сердца. Эксар все-таки пошел на переговоры. Я усмехнулся.
Его лицо слегка порозовело под грязью.
— Что вы предлагаете? — спросил он. — Назовите цифру.
— Называйте вы. Вы продаете, я покупаю.
— Хм, — нетерпеливо хмыкнул он и оттолкнул меня. Он оказался крепким парнем! Я побежал за ним к лифту.
— Сколько вы хотите, Эксар? — спросил я, когда мы спускались.
Он пожал плечами.
— У меня есть планета и покупатель на нее. Вы влипли. Сами влипли, сами и выпутывайтесь.
Вот сволочь! На все у него готов ответ.
Он сдал ключи, и мы вновь оказались на улице. Мы шли по Бродвею, и я предложил ему три тысячи двести тридцать долларов, которые получил с него, а он ответил, что не прокормится, если будет получать и отдавать одну и ту же сумму. — Три тысячи четыреста, — предложил я. — То есть хочу сказать, три тысячи четыреста пятьдесят. — Он даже головы не повернул.
Если бы я не называл какие-то цифры — какие угодно, тут бы мне и конец.
Я забежал вперед.
— Эксар, хватит натягивать друг другу нос, он у меня и так большой. Называйте сумму. Сколько бы ни было, я заплачу.
Это подействовало.
— Точно? И не обманете?
— Как я могу обмануть?! У меня нет выхода.
— Идет. Я помогу вам вывернуться и силы сберегу — не придется тащиться к своему клиенту. Но как сделать, чтобы всем было хорошо — и вас не обидеть, и самому не остаться внакладе? Пусть будет ровно восемь тысяч.
Восемь тысяч — это почти все, что лежало у меня в банке. Он точно знал, сколько у меня денег на счете — до последнего вклада!
И мысли мои он тоже знал.
— Если решил иметь с кем-нибудь дело, — говорил он между приступами кашля, — то о таком человеке стоит навести справки. У вас есть восемь тысяч с мелочью. Это не так уж много для спасения собственной шеи.
Я вскипел.
— Не так много? Ну, я поговорю с тобой по-другому, филантроп несчастный, благодетель проклятый! Черта лысого я уступлю! Разве что чуть-чуть! Но ни единого цента из банка ни за вас, ни за Землю, ни за кого другого я не отдам!
Полисмен подошел поближе посмотреть, чего это я разорался, и мне пришлось поутихнуть немного, пока он не отошел.
— Помогите! Полиция! Пришельцы посягают на нас! — едва не завопил я. Во что бы превратилась улица, где мы стояли, не уговори я тогда Эксара отказаться от расписки?
— Предположим, что ваш клиент захватит Землю, размахивая моей распиской, — меня вздернут на первом суку. Но у меня одна жизнь, и эта жизнь — купля-продажа. Я не могу покупать и продавать без капитала. Отними мой капитал, и мне будет все равно, кто владеет Землей, а кто нет.
— Кого вы, черт побери, надуваете? — спросил он.
— Я никого не надуваю. Честное слово, это правда. Отнимите мой капитал, и мне все равно, жив я или мертв.
Эта последняя капля вранья, кажется, переполнила чашу. Поверьте, когда я выводил эти трели, на моих глазах навернулись самые натуральные слезы. Сколько мне надо, хотел бы он знать, — пятьсот долларов? Я ответил, что и дня не проработаю без суммы в семь раз большей. Он поинтересовался, действительно ли я собираюсь выкупать эту проклятую планету или у меня сегодня день рождения и я жду от него подарка?
— Не нужны мне ваши подарки, — сказал я. — Подарите их толстякам. Им стоит посидеть на диете.
Так мы и шли. Оба спорили до хрипоты, клялись чем угодно, препирались и торговались, расходились и возвращались. Было совершенно непонятно, кто же все-таки уступит первым.
Но никто не уступал. Мы оба стойл держались, пока не пришли к сумме, на которую я и рассчитывал, пожалуй чуть большей, но на ней и порешили.
Шесть тысяч сто пятьдесят долларов.
Эта сумма с лихвой перекрывала данную мне Эксаром. Но больше выторговать я не сумел. Знаете ли, могло быть и хуже. И все-таки мы чуть не разошлись, когда речь зашла о расчете.
— Ваш банк неподалеку. Мы успеем до закрытия.
— Хотите довести меня до инфаркта? Мой чек — то же золото.
В конце концов я уговорил его взять чек. Я дал ему чек, а он протянул мне расписки, все до единой. Все подписанные мной расписки. Затем он взял свой маленький саквояж и зашагал прочь.
Он пошел вниз по Бродвею, даже не попрощавшись со мной. Для Эксара существовал только бизнес и ничего больше. Он даже не обернулся.
Только бизнес. На следующее утро я узнал, что он успел зайти в банк до закрытия и удостоверился в моей платежеспособности. Как вам это понравится? У меня все валилось из рук: я лишился шести тысяч ста пятидесяти долларов. Из-за какого-то разговора с незнакомцем!
Рикардо прозвал меня Фаустом. Я вышел из банка, колотя себя кулаком по голове, и позвонил ему и Морису Барлапу, чтобы пригласить их на ленч. Мы зашли в дорогой ресторан, выбранный Рикардо, и там я рассказал им все.
— Ты Фауст, — сказал он.
— Что Фауст? — спросил я. — Кто Фауст? Какой Фауст?
Само собой, ему пришлось рассказать мне про Фауста. Только я-де новый тип Фауста — американский Фауст двадцатого века. До меня Фаусты хотели все знать, а я хотел всем владеть.
— Но я ничем не овладел, — вставил я. — Меня надули. Меня надули на шесть тысяч сто пятьдесят долларов.
Рикардо рассмеялся и откинулся на спинку кресла.
— Люди гибнут за металл, — пробормотал он. — Люди гибнут за металл.
— Что?
— Цитата, Берни. Из оперы Гуно «Фауст». И, по-моему, цитата подходящая. Люди гибнут за металл.
Я перевел взгляд на Мориса Барлапа, но никто никогда не скажет, что у него на уме. Одетый в дорогой твидовый костюм; он смотрел на меня таким глубоким и задумчивым взглядом, что в этот момент походил на профессора куда больше, чем Рикардо. Рикардо, знаете, слишком уж щеголеватый.
А их уму и находчивости мог позавидовать любой. Потому-то я чуть душу не заложил, но все же повел их в этот ресторан. Хотя Эксар почти разорил меня.
— Морис, скажи правду! Ты понял его?
— А что тут понимать, Берни? Цитату о гибели за золото? Может, это и есть ответ, а?
Теперь я посмотрел на Рикардо. Он приканчивал итальянский пудинг со сливками. Этот пудинг стоил здесь ровно два доллара.
— Допустим, он пришелец, — сказал Морис Барлап. — Допустим, он явился откуда-то из космоса. Прекрасно. Спрашивается, на что пришельцу американские доллары? Интересно, кстати, какой у них курс?
— Ты хочешь сказать, что ему надо было сделать покупки здесь, на Земле?
— Совершенно верно. Но какие покупки? Вот в чем вопрос. Что ему могло понадобиться на Земле?
Рикардо прикончил пудинг и вытер губы салфеткой.
— Я думаю, вы на верном пути, Морис, — сказал он и опять завладел моим вниманием. — Мы можем предположить, что их цивилизация намного превосходит нашу. Они считают, что нам еще рано знать о них. И хотят превратить примитивную маленькую Землю в своеобразную резервацию, куда вход воспрещен, и нарушить это запрещение осмеливаются только преступники.
— Откуда же в таком высокоорганизованном обществе берутся преступники, Рикардо?
— Законы порождают преступников, Берни, как курица — яйца. Цивилизация бессильна против них. Теперь я начинаю понимать, кто такой этот Эксар. Беспринципный авантюрист, космический бродяга, подобно головорезам, бороздившим южные моря сотню, а то и больше лет назад. Представим себе, что пассажирский пароход врезается в коралловые рифы и какой-нибудь вонючий гад из Бостона выбирается на берег и начинает жить среди примитивных, неразвитых дикарей. Надеюсь, вы понимаете, что произойдет дальше.
Морис Барлап заявил, что не прочь выпить еще бренди. Я заказал. И он, как обычно, едва улыбаясь, доверительно наклонился ко мне:
— Рикардо прав, Берни. Поставь себя на место твоего покупателя. Он терпит аварию и врезается в грязную маленькую планету, к которой по закону ему и близко подходить нельзя. Он может подлетать свой корабль с помощью местного хлама, но за все надо рассчитываться. Малейший шум, малейшее недоразумение, и его застукает Космическая полиция. Что бы ты делал на его месте?
Теперь я понял.
— Я бы менял и выторговывал. Медные браслеты, бусы, доллары — все, что попалось бы под руку и на что можно получить их товары. Я бы менял и выторговывал, проворачивая сделку за сделкой. Даже какое-нибудь ненужное оборудование с корабля бы снял, а потом нашел бы новый товар, представляющий для них ценность. Но все это земные представления о бизнесе, человеческие представления.
— Берни, — сказал мне Рикардо, — было время, когда как раз на том месте, где сейчас находится фондовая биржа, индейцы меняли бобровый мех на блестящие гильзы. Какой-то бизнес есть и в мире Эксара, я уверен в этом, и по сравнению с ним объединение наших крупнейших концернов выглядит ребячьей забавой.
— Да, вот оно как. Выходит, я был обречен с самого начала. Охмурил меня этот проходимец-супермен. Увидал, что шляпа, вот и взял на арапа.
Рикардо кивнул.
— Мефистофель бизнесменов, спасающийся от грома небесного. Ему нужно было вдвое больше денег, чтобы залатать свой рыдван. Вот он и проделал самую фантастическую махинацию за всю историю коммерции.
— Из слов Рикардо следует, — донесся до меня голос Мориса Барлапа, что этот парень, который так круто обошелся с тобой, на пять голов выше тебя.
У меня прямо руки опустились.
— Какая разница, — сказал я. — Тебе может наступить на ногу лошадь, а может и слон. Но кто-то все равно отдавит тебе ногу.
Я оплатил счет, собрался с духом и вышел.
И тут я задумался, так ли все это на самом деле. Они оба с наслаждением зачислили Эксара в межпланетные подонки. Конечно, Рикардо голова, а Барлап хитер, как черт, но что из этого? Идеи есть. А фактов-то нет.
Но вот и факт.
В конце месяца в мою контору пришел чек, который я выписал Эксару. Он был индоссирован крупным магазином в районе Кортленд-стрит. У меня были дела с этим магазином. Я отправился туда порасспросить насчет своего клиента.
Они торгуют электронной некондицией. У них-то Эксар и сделал покупки. Большую партию транзисторов и трансформаторов, сопротивлений и печатных схем, электронных трубок, проволоки, инструментов и т. д. Все вперемежку, сказали они, миллион деталей, которые невозможно соединить. Они решили, что у Эксара какая-то очень срочная работа, и он берет все, что хоть как-то могло ему подойти. Он выложил кучу денег за доставку — товар отправлялся в какую-то глухомань в Северной Канада.
Вот он, факт. Я должен его признавать. А вот еще один.
Как я уже говорил, я был связан с этим магазинам. Цены у них самые низкие в округе. А почему, вы думаете, они продают по дешевке? Ответ один: потому что они дешево покупают. Они покупают по бросовым ценам, на качество им плевать: единственное, что их интересует, — это прибыль. Я сам сбыл им груды электронного лома, который мне бы в жизни нигде не сплавить; бракованные отбросы, это даже опасно, если хотите. Вы туда можете снести хлам, когда, затоварившись еще большим хламом, потеряете всякую надежду заработать.
Представляете себе? Я краснею, вспоминая об этом.
Я вижу, как где-то в космосе летит Эксар. Он залатал свою посудину. Все в порядке, Эксар на пути к новым великим свершениям. Моторы жужжат, корабль несется вперед, а он сидит с радостной улыбкой на грязной роже, вспоминает, как ловко обвел меня вокруг пальца.
Он смеется до колик в животе.
И вдруг раздается пронзительный скрип и тянет гарью. В цепи управления главного двигателя изоляция протерлась, провода замкнулись, корабль теряет управление, и тут начинается настоящий ад. Эксар сдрейфил. Он включает вспомогательные двигатели. Вспомогательные двигатели не работают — знаете почему? В вакуумные трубки не поступает электрический ток. Бац! Короткое замыкание в хвостовом двигателе. Крах! В середине корабля расплавляется некондиционный трансформатор.
И вот на тебе, до жилья миллионы миль, кругом беспредельный космос, запасных частей нет, инструменты ломаются прямо в руках, и кругом ни души — надуть некого.
А я здесь, в своей конторе, думаю о нем и чуть не надорвал живот со смеху. Так как возможно и очень даже вероятно, что все неполадки с кораблем происходят из-за десятка бракованных деталей и списанного электронного оборудования, которое я сам, Берни, по прозвищу Фауст, время от времени сплавлял магазину уцененных товаров.
Больше я ни о чем не прошу. Только бы все так и вышло.
Фауст. Получит он у меня Фауста! Прямо в рожу! Фауст! Расшибешь себе за Фауста башку! Я тебе дам Фауста!
Да вот беда — обо всем этом я ведь так и не узнаю. Но одно я знаю точно — я единственный человек за всю историю Земли, кто продал эту проклятую планету.
И снова ее выкупил!
Уильям Тенн
Игра для детей
Когда посыльный, сообразив, что чаевых не будет, хлопнул дверью, Сэм Вебер решил передвинуть большой ящик поближе к единственной в комнате лампочке. Посыльному ничего не стоило буркнуть: «Не знаю. Это не наше дело, мистер, мы их только доставляем», но должно Же существовать какое-то разумное объяснение.
Предчувствие не обмануло Сэма. Ящик оказался достаточно тяжелым. Сэм, ворча, протащил его несколько метров. Непонятно, как посыльный поднял такую тяжесть на четвертый этаж.
Заметив яркую карточку, на которой стояло его имя, адрес и традиционное пожелание «Веселого рождества в 2153 году», Сэм выпрямился и нахмурил брови.
Шутка? У него не было знакомых, которым показалось бы остроумным послать поздравление с подобной датой. Ведь до нее осталось ждать двести лет. Разве что какой-нибудь шутник из его товарищей по юридическому институту решил сообщить свое мнение относительно того; когда Вебер будет вести свой первый процесс. Но и в этом случае…
Буквы выглядели очень странно — какие-то зеленые черточки вместо линий. А сама карточка была из настоящего золота!
Сэма разобрало любопытство. Он сорвал карточку, содрал тонкую обертку
— и замер от удивления. Потом присвистнул и судорожно проглотил слюну.
«Что такое?! С ума сойти!»
Ящик не имел ни крышки, ни ручек. На его поверхности не было видно ни единой щелочки. Он оказался сплошным однородным кубом из какого-то коричневого вещества. Но, когда Сэм его двигал, внутри что-то дребезжало.
Пыхтя и отдуваясь, Сэм приподнял ящик. Дно оказалось совершенно гладким, тоже без единой щелочки. Сэм с грохотом опустил ящик на пол.
— Ладно, — философски заметил он, — дело, в конце концов, не в подарке, а в принципе.
Тут он вспомнил, что пора садиться за письма, — он еще не поблагодарил за рождественские подарки. Нужно было придумать что-то совершенно особенное для тети Мэгги. Присланные ею галстуки выглядели, как абстракционистские кошмары, но сам он не послал ей на это рождество даже носового платка. Все деньги до единого цента съела брошь для Тины. Конечно, брошь не кольцо, но, может быть, Тина примет во внимание сложившиеся обстоятельства…
Сэм направился к кровати, которая служила ему одновременно столом и стулом. По дороге он с досадой ткнул ящик и пробурчал: «Ну и ладно, не хочешь открываться — не надо».
Загадочный куб, словно поумнев от пинка, раскрылся. Сначала образовалась щель, потом она быстро расширилась и крышка разошлась в стороны, как у саквояжа. Сэм ударил себя по лбу и помянул всех богов от египетского Сета до небесного отца. Затем он вспомнил свои последние слова.
— Закрыться! — произнес он.
Ящик послушно закрылся и стал гладким, как кожа младенца.
— Открыться! — Ящик открылся.
Неплохое представление, решил Сэм. Он наклонился и стал рассматривать содержимое.
Внутри Сэм увидел лабиринт из полочек. На них стояли флаконы с голубыми жидкостями, банки с красными порошками, лежали прозрачные тюбики, наполненные какими-то пастами желтого, зеленого, оранжевого, розовато-лилового и прочих цветов. Сэм даже не мог вспомнить названий всех оттенков. На дне ящика лежало семь странных аппаратов, которые выглядели так, будто их собирал помешанный на лампах радиолюбитель. И в довершение всего в ящике была книга.
Сэм вытащил эту книгу и с изумлением обнаружил, что, хотя страницы ее были металлическими, она почти ничего не весила, во всяком случае, была легче любой другой книги, которую ему когда-либо приходилось держать в руках. Он сел на кровать, втянул в себя воздух и открыл первую страницу.
— Ну и ну! — произнес он и с силой выдохнул воздух. Зеленые буквы изгибались какими-то сумасшедшими закорючками:
«Построй человека», набор N3 Этот набор предназначен только для детей от 11 до 13 лет. Аппаратура, более сложная, чем в наборах «Построй человека» N 1 и 2, позволит ребенку данной возрастной группы собирать действующих взрослых людей. Отсталые подростки могут такие собирать детей и живые манекены из наборов предыдущих номеров. Имеются два дезассамблятора, так что материал можно использовать повторно. Как и в случаях с наборами N 1 и 2, разборку рекомендуется производить в присутствии Хранителя ценза. Дополнительные реактивы и запасные части можно получить от компании «Построй человека», N928, Диагональный уровень, Глэнт-Сити, Огайо. Запомните — только с помощью набора «Построй человека» Вы можете построить человека!
Сэм зажмурился. Какие глупые трюки он видел вчера в кино! Немыслимая дрянь! Да и сама картина отвратительна. Только краски хорошие. Интересно, сколько может заработать в неделю продюсер такой картины? А оператор? Пятьсот? Тысячу?
Он осторожно открыл глаза. Ящик по-прежнему стоял посреди комнаты. Книга тоже никуда не исчезла. И на первой странице он снова прочел: «Запомните — только с помощью набора „Построй человека“ Вы можете построить человека!»
Следующую страницу занимал прейскурант «дополнительных реактивов и запасных частей». Цены за литр гемоглобина, три грамма набора энзимов и тому подобные вещи выглядели несколько странно — один сланк пятьдесят или три сланка сорок пять. В конце страницы рекламировался набор N4: «Вы почувствуете истинный восторг при конструировании Вашего первого живого марсианина!» Мелким шрифтом было набрано: «Патент 2148 года».
На третьей странице оказалось оглавление. Сэм схватился вспотевшей рукой за матрац и прочел:
Глава 1. Детский биохимический сад.
Глава 2. Простейшие живые вещи дома и вне дома.
Глава 3. Живые манекены и как они работают на человечество.
Глава 4. Дети и другие маленькие человечки.
Глава 5. Двойники на все случаи жизни. Копируйте себя и своих друзей.
Глава 6. Что нужно, чтобы построить человека.
Глава 7. Сборка человека.
Глава 8. Разборка человека.
Глава 9. Новые формы жизни для развлечения в часы досуга.
Сэм положил книгу обратно в ящик и рванулся к зеркалу. Его лицо ничуть не изменилось. Правда, оно стало белее мела, но черты его остались прежними. Он не раздвоился, не превратился в манекен, не сконструировал новую форму жизни для развлечения в часы досуга. В этом смысле все было в полном порядке.
Немного успокоившись, Сэм обрел прежнее выражение лица, а то глаза у него чуть было не вылезли из орбит.
«Дорогая тетя Мэгги, — начал он лихорадочно писать, — ваши галстуки — самый лучший из всех рождественских подарков. Как жаль, что…»
…Как жаль, что у меня не осталось ни гроша на покупку рождественского подарка… Но кому могло прийти в голову затратить такие фантастические усилия на создание подобной штуки? Лью Найту? Но даже Лью, при всей своей черствости, должен испытывать какое-то чувство уважения к празднику. Да у Лью и не хватило бы ни мозгов, ни терпения для такой трудной работы.
Тина? Конечно, она обладает особым талантом создавать осложнения. Но если Тина в полной мере наделена всеми прочими физическими и моральными качествами, то она почти лишена чувства юмора.
Сэм поднял обертку от ящика и разгладил ее. Ему показалось, что на глянцевитой поверхности еще сохранился запах духов Тины, и весь мир снова стал на место.
На полу блестела металлическая пластинка. Может быть, на обратной стороне обозначено имя отправителя?
Сэм поднял ее. Ничего — только гладкая золотая поверхность. Настоящее золото. В этом-то Сэм не сомневался — его отец был ювелиром. Сама стоимость пластинки исключала возможность розыгрыша. И кроме того, в чем тут шутка?
«Веселого рождества в 2153 году…»
Чего достигнет человечество через двести лет? Проложит путь к звездам или еще дальше, преследуя какие-нибудь невообразимые цели? Использует вместо машин и роботов маленьких живых манекенов? Будет делать игры для детей…
А нет ли в ящике еще одной карточки? Сэм решил вытряхнуть все содержимое, но взгляд его упал на большую серую банку с надписью: «Обезвоженная нервная ткань. Только для изготовления людей».
Он отшатнулся и рявкнул: «Закрыться!»
И снова перед ним была гладкая поверхность. Сэм облегченно вздохнул и решил спать.
Раздеваясь, он пожалел, что не догадался спросить у посыльного название его фирмы. Возможно, это помогло бы установить происхождение подозрительного подарка.
«Но в конце концов, — повторял он, засыпая, — дело не в подарке, дело в принципе. Веселого рождества!..»
На следующее утро, когда Лью Найт влетел в контору со своим обычным: «Доброе утро, коллеги», Сэм ждал, что Лью вот-вот попробует его поддеть. Вряд ли такой человек, как Лью, мог бы удержаться от намеков, но Лью уткнулся в «Дополнение к своду законов штата Нью-Йорк» и так просидел все утро. Остальные совладельцы общей конторы — пять юных законников — казались либо слишком подавленными, либо слишком занятыми, чтобы иметь на совести «Построй человека». Не было ни хитрых улыбок, ни насмешливых взглядов, ни наводящих вопросов.
Тина появилась ровно в десять. Она напоминала девушки с рекламы, только одетую.
— Доброе утро, — сказала она.
Каждый ответил ей в зависимости от расположения духа: один — улыбкой, другой — ворчанием, третий — просто кивком. Лью Найт проворчал. Сэм Вебер улыбнулся.
Взбивая волосы, Тина за одну минуту успела понять и оценить ситуацию. Наконец, решение было принято, и, положив локти на стол Лью Найта, Тина спросила, что она может для него сейчас сделать.
Сэм демонстративно погрузился в труд Хаклеуорта «О мошенничествах». Услуги Тины оплачивали все семеро. Теоретически она выполняла обязанности секретаря, телефонистки, машинистки, а также принимала посетителей. Практически при самом добросовестном отношении к делу ей приходилось за день печатать и отсылать не больше двух-трех случайных писем. Раз в неделю могло попасться более важное письмо, не требовавшее, впрочем, особых юридических знаний. Поэтому Тина в одном из ящиков своего стола держала неплохую библиотеку модных журналов, а в двух других — полную косметическую лабораторию. Добрую треть рабочего времени она проводила в дамской комнате, обсуждая с другими секретаршами цены на чулки и способы их приобретения. Остальное время она преданно служила тому из своих нанимателей, который в данный момент, по ее мнению, более всего в ней нуждался. Ее жалованье было скромным, но жизнь полной.
Только перед самым ленчем, разнося утреннюю почту, она подошла к Сэму.
— Кажется, сегодня утром вы были не слишком заняты, мистер Вебер… — начала она.
— Вам это только показалось, мисс Хилл, — возразил он с легким раздражением, полагая, что оно ему к лицу. — Я ждал завершения ваших светских дел, дабы мы могли опуститься до того, что в некоторых случаях называется работой.
Она была удивлена, как котенок, которого согнали с подушки.
— Но сегодня ведь не понедельник: Сомерсет и Оджек присылают вам документы только по понедельникам.
Сэм поморщился при напоминании о том, что без чисто механической работы по оформлению бумаг, выполняемой им раз в неделю для фирмы «Сомерсет и Оджек», он был бы юристом только по названию.
— Мне нужно продиктовать письмо, мисс Хилл, — сурово ответил он. — Когда у вас все будет готово, мы сможем начать.
Тина тотчас вооружилась стенографическим блокнотом и карандашами.
— Обычный заголовок, сегодняшнее число, — начал Сэм. — Адресуйте Торговой палате, Глэнт-сити, Огайо. Пишите:
«Джентльмены! Прошу известить меня, не зарегистрировалась ли у вас недавно компания под названием „Построй человека“ или под каким-либо аналогичным названием. Я хотел бы также знать, не заявляла ли вам фирма с вышеуказанным или аналогичным названием о своем намерении обосноваться в вашем округе. Этот запрос сделан неофициально, по просьбе клиента, заинтересованного в продукции вышеупомянутой фирмы, адрес которой моим клиентом утерян».
Подпись и затем постскриптум:
«Кроме того, мой клиент заинтересован в сведениях о коммерческих перспективах района, к которому относится улица, имеющая название „Диагональная авеню“ или „Диагональный уровень“. Все данные об этом районе и об организациях, в настоящее время там расположенных, будут приняты с благодарностью».
Тина устремила на него широко открытые голубые глаза.
— О Сэм, — прошептала она, игнорируя его официальный Фон. — О Сэм, у вас появился второй клиент! Я так рада! Правда, он выглядит немного зловеще, но держится с таким достоинством, что я была уверена…
— Кто? Кто выглядит немного зловеще?
— Ну, ваш новый клиент…
У Сэма возникло неприятное ощущение, что в конце фразы она хотела добавить — глу-упенький!
— Когда я пришла сегодня утром, в холле торчал такой странный высокий старик в длинном черном пальто и разговаривал с лифтером. Он повернулся ко мне — я имею в виду лифтера — и сказал: «Это секретарша мистера Вебера, она сможет сообщить вам все, что вас интересует». Потом лифтер как-то странно подмигнул. Это было не очень-то вежливо в такой обстановке. Старик уставился на меня, мне стало очень не по себе, а он пробормотал сквозь зубы: «Или психопаты, или хищники. Ни одного нормального. Ни одного уравновешенного». И ушел. Настоящий джентльмен так бы не сделал. Вы должны это знать, если он ваш новый клиент!
Она откинулась на спинку стула и перевела дух.
Высокий, зловещий старик в длинном черном пальто, выспрашивающий о Сэме у лифтера? Вряд ли что-нибудь серьезное. Он ни в чем таком не замешан. Но нет ли тут связи с необычным рождественским подарком? Над этим стоит поразмыслить.
— У нас гостит моя любимая тетя, я вам уже говорила, — продолжала Тина, — и она приехала так неожиданно…
Девушка что-то объясняла относительно рождественского вечера. Когда она наклонилась к нему, Сэм почувствовал прилив нежности.
— Не беспокойтесь, — сказал он. — Я знаю, вы не могли ничего сделать, чтобы наше свидание состоялось. Мне стало, немного грустно, когда вы позвонили, но я примирился: я ведь известен как Сэм; который никогда не сердится на красивых девушек. А как насчет ленча?
— Ленча? — она встревожилась. — Я обещала Лью, то есть мистеру Найту… Но он не станет возражать, если вы тоже пойдете.
— Ну и отлично. Пошли.
Вот хорошая возможность отплатить Лью его же монетой.
Перспектива сидеть за столом в «большой компании» вместо ожидавшегося интимного общества основательно испортила настроение Лью Найту, чего, собственно, Сэм и добивался. К сожалению, Лью взял реванш. Он удивительно красноречиво расписывал детали порученного ему дела, хвастал ожидаемыми гонорарами, не забыв упомянуть и о предстоящей славе. После одной или двух попыток вставить несколько слов об интересном завещании, которое он оформлял для фирмы «Сомерсет и Оджек», обманутый в своих ожиданиях Сэм погрузился в размышления. Лью, воспользовавшись его капитуляцией, немедленно перестал говорить о деле «Розенталь против Розенталя» и начал обхаживать Тину.
На улице была слякоть — снег превратился в: грязь. Во многих магазинах уже разбирали рождественские витрины. Сэму бросились в глаза конструкторские наборы для детей, обложенные елочной канителью и покрытые сверкающим искусственным снегом. «Построй радио», «Построй небоскреб», «Построй аэроплан»… Но — «Только с помощью набора „Построй человека“ Вы можете…»
— Я пошел домой, — внезапно произнес Сэм. — Вспомнил об одном деле. Если кто-нибудь придет, позвоните мне.
«Я оставил Лью победителем на поле битвы», — сказал он себе, заняв место в вагоне метро. Но горькая истина заключалась в том, что битва все равно была проиграна независимо от места, где находился Сэм.
Еще в юридическом институте говорили, что у Лью Найта волчья хватка. С того дня, как Лью заметил, что субстанция, наполнявшая платья Тины, имеет правильные пропорции, шансы Сэма на победу снизились до стоимости куска железа в золотых хранилищах форта Нокс.
Тина сегодня не приколола подаренную Сэмом брошь. Зато на мизинце ее правой руки появилось довольно безвкусное кольцо.
«Одни выигрывают, другие проигрывают, — философствовал Сэм. — Я не выиграл».
Но как было бы приятно «выиграть» Тину!
Открыв дверь своей комнаты, Сэм с удивлением обнаружил, что постель не убрана. Значит, горничная не приходила. Этого раньше не случалось… Ну, конечно! Ведь раньше он никогда не запирал дверь. Девушка, наверно, решила, что Сэм не хотел, чтобы к нему ходили. А может, он и в самом деле не хотел.
На спинке кровати с вызывающим бесстыдством переливались всеми цветами радуги галстуки тети Мэгги. По дороге сняв шляпу и пальто, Сэм бросил их в шкаф. Затем подошел к умывальнику и тщательно вымыл руки. Потом резко обернулся.
Ничего не изменилось. Большой коричневый куб, на который он все время невольно косился, стоял на том же месте и, без сомнения, содержал тот же диковинный набор, так поразивший его воображение.
— Открыться, — сказал Сэм. И ящик открылся.
Книга, по-прежнему раскрытая на оглавлении, лежала на дне ящика; ее угол попал в камеру одного из странных аппаратов. Сэм осторожно вынул и то, и другое, заметив при этом, что аппарат состоял в основном из каких-то окуляров, укрепленных с помощью сложного переплетения трубок и пружин на основании — плоской зеленой пластинке. Он перевернул аппарат. На нижней стороне пластинки было выведено такими же диковинными буквами, как и в книге: «Комплект из электронного микроскопа и рабочего столика».
Очень осторожно Сэм поставил аппарат на пол, затем один за другим вытащил все остальные приборы — от «Детского биокалибратора» до «Витализатора Джиффи». Потом он аккуратно выстроил в пять рядов разноцветные флаконы с лимфой и банки с всевозможными хрящами. При этом выяснилось, что стенки ящика изнутри выложены удивительно тонкими листами разной конфигурации. Стоило слегка надавить на края этих листов, и они превращались в трехмерные модели органов человека, величину и очертания которых можно было изменять, оттягивая любую часть поверхности. Ясно, что это были формы для частей тела.
Хороший ассортимент! Если все это имеет какое-нибудь отношение к науке, то ящик может представлять огромную ценность. Или служить весьма полезной рекламой. Или — ну, мало ли что…
Если все это имеет хоть какое-нибудь отношение к науке…
Сэм опустился на кровать и раскрыл книгу на главе «Детский биохимический сад».
В девять вечера он сел на корточки у «Комплекта из электронного микроскопа и рабочего столика» и принялся откупоривать маленькие бутылочки. В девять сорок шесть Сэм Вебер впервые «построил» простейший живой организм.
Конечно, это было немного, если сравнивать, скажем, с первой Книгой бытия. Примитивная коричневая плесень, которая в поле зрения микроскопа расползалась по кусочку пирожка, дала несколько спор и прекратила свое существование примерно через двадцать минут. Но ведь ее сделал Сэм! Он создал специальную форму жизни, способную питаться только составными частями именно такого пирожка. Ничем другим она питаться не могла.
Сэм принял твердое решение напиться и отправился ужинать. Но после одного-двух глотков к нему вернулось чувство божественного могущества, и он помчался обратно в комнату.
Отупение восторга, охватившее его после создания коричневой плесени, в этот вечер больше не пришло к нему, хотя он построил гигантскую белковую молекулу и целый выводок фильтрующихся вирусов.
Утром Сэм из маленькой закусочной, где он обычно завтракал, позвонил в контору.
— Сегодня я весь день буду дома, — сообщил он Тине.
Она выразила удивление, так же, как и Лью Найт, который взял у нее трубку.
— Ну что, коллега, обзаводитесь практикой среди соседей? Мальчишка Блэкстоун[6] остался без практики. К нему уже отправлены две машины скорой помощи.
— Ладно, — сказал Сэм, — я сам с ним объяснюсь, когда он ко мне заявится.
Неделя все равно уже кончалась, поэтому он решил остаться дома и на следующий день. Он знал, что до понедельника, когда «Сомерсет и Оджек» снесут в корзинку его единственное очко, никакой настоящей работы у него Все равно не будет.
Возвращаясь домой, Сэм купил книгу по бактериологии. Было очень забавно создавать и совершенствовать одноклеточные организмы, о месте которых в системе классификации велись длинные и нудные ученые споры.
Конечно, руководство «Построй человека» давало только несколько примеров и общие правила, но извлекая подробные описания из курса бактериологии, Сэм чувствовал себя господином положения: он вскрывал тайны мироздания, как вскрывают устриц!
Кстати, эта аналогия натолкнула его на мысль сделать несколько устриц. Правда, раковины получились недостаточно твердыми, и у Сэма не хватало мужества продегустировать этих устриц, но они, несомненно, были из класса двустворчатых. Если бы удалось усовершенствовать технику их изготовления, проблема питания была бы окончательно решена.
Руководство было написано просто и ясно и снабжено прекрасными иллюстрациями, которые становились трехмерными, стоило только открыть нужную страницу. Очень немногое считалось известным заранее, более сложные объяснения следовали за более простыми. Только попутные замечания были не всегда понятны. «Этот метод используется в фанфоплинических игрушках…», «Когда следующий раз Вам будут покеклировать или демортонировать зубы, подумайте о бактериум цианогенум и скромной роли, которую она играет…», «Если у Вас в доме есть рубикулярный манекен, можете пропустить главу о манекенах» и т. д. и т. п.
После того как беглый осмотр убедил Сэма, что ни один из предметов в его комнате не имеет даже отдаленного сходства с рубикулярным манекеном, он счел себя вправе перейти к главе о манекенах. Чувства, которые испытывает отец, возящийся с игрушечным поездом сына, были для Сэма уже пройденным этапом; ему удалось сделать больше того, о чем в течение ближайших десятилетий могли мечтать самые знаменитые биологи мира. А что еще ждало его впереди? Какие перспективы откроются перед ним?
«Никогда не забывайте, что манекены строятся для одной — и только для одной — цели».
«Я не забуду», — мысленно пообещал Сэм.
«Будут ли это манекены-санитары, манекены-закройщики, манекены-машинистки или даже сунневиарные манекены, при их конструировании надо иметь в виду только одну определенную операцию или один заданный процесс. Если Вы изготовляете манекен, способный исполнять больше одной операции, то Вы совершаете настолько серьезное преступление, что оно наказуется публичным увещанием».
«Чтобы изготовить элементарный манекен…»
Это было очень трудно. Три раза он разбирал созданных им уродов и начинал сызнова. Только в воскресенье днем манекен был готов, или, точнее, не совсем готов.
У него оказались длинные руки, к тому же одна получилась длиннее другой, голова без признаков лица и туловище. Ног вообще не было.
Не было ни глаз, ни ушей. Манекен лежал на кровати и булькал розовой щелью рта, который должен служить как для приема пищи, так и для выделений. Он медленно размахивал длинными руками, предназначенными для одной-единственной, еще не придуманной операции.
Глядя на него, Сэм решил, что жизнь может быть иногда так же отвратительна, как помойка в жаркий летний день.
Манекен нужно было разобрать, но он был слишком велик, чтобы использовать маленький дезассамблятор, с помощью которого Сэм разбирал до этого устриц и другие свои миниатюрные творения. А на большом дезассамбляторе была ярко-оранжевая надпись: «Применять только под непосредственным наблюдением Хранителя ценза. Используйте формулу А-76 или сделайте менее устойчивым Ваш ид».
Выражение «формула А-76» вызывало не больше ассоциаций, чем словечко «сунневиарный», и Сэм решил, что его «ид» и без того уже достаточно неустойчив, дальше некуда. Придется обойтись без Хранителя ценза. Надо полагать, действие большого дезассамблятора основано на тех же принципах, что и малого.
Сэм прикрепил прибор к спинке кровати и отрегулировал фокус. Затем он щелкнул выключателем, расположенным на гладкой нижней поверхности.
Через пять минут манекен превратился в блестящую слизистую массу, расползшуюся по кровати.
Проветривая свою комнату, Сэм пришел к выводу, что большой дезассамблятор, несомненно, требовал наблюдения Хранителя ценза. Во всяком случае, какого-нибудь Хранителя. Он постарался спасти как можно больше составных частей безногого существа, хотя и сомневался, что еще раз воспользуется набором «Построй человека» в ближайшие пятьдесят лет. И уж наверняка он будет держаться подальше от большого дезассамблятора. Даже засунуть манекен в мясорубку и вертеть ручку, пока все это не превратится в фарш, было бы не так противно.
Сэм запер за собой дверь и отправился в бар, размышляя о том, что завтра утром надо купить пару новых простынь. Сегодня придется спать на полу.
В понедельник утром Сэм погрузился в дела, присланные фирмой «Сомерсет и Оджек». При этом он непрерывно ощущал на себе пристальный взгляд Лью Найта и удивленный — Тины. Если бы они только знали! — торжествовал Сэм. Впрочем, Тина сказала бы скорее всего: «Уди-ви-тельно!», а Лью Найт отпустил бы какую-нибудь дурацкую остроту. Что-нибудь вроде: «Ха-ха! Мальчишка Франкенштейн собственной персоной!» Но Сэм решил, что Лью, пожалуй, разработал бы какой-нибудь метод, чтобы скопировать содержимое набора «Построй человека» и распродавать его, пусть даже в ограниченном масштабе. Нет, Сэм не таков — он займется более интересными вещами. В этой штуке таятся большие возможности!
— Эй, коллега, — Лью Найт присел на край его стола, — для чего вам вдруг понадобился отпуск? Возможно, ваши доходы от юридической деятельности оставляют желать лучшего, но достойно ли дипломированного адвоката прирабатывать, распространяя подписку на журналы?
Сэму хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать этого голоса, напоминавшего ему визг шлифовального круга.
— Я пишу книгу.
— Юридическую? Сэм Вебер, «О банкротстве»?
— Нет, для юношества. «Лью Найт — полоумный неандерталец».
— Не пойдет. Заглавие не захватывает. Нужно что-нибудь вроде «Герцоги, гангстеры и гориллы» — вот за чем гоняется в наши дни публика! Между прочим, Тина сказала мне, что у вас была какая-то договоренность относительно Нового года, и она думает, что вы не будете возражать, если я пойду вместо вас. Мне тоже кажется, что вы не будете против, но, может быть, это заблуждение. Кстати, учтите, что мне удалось заказать столик в ресторане «Сигаль», где на Новый год народу все же меньше, чем в кафе-автомате.
— Я не возражаю.
— Отлично, — сказал Найт с нескрываемым удовлетворением. — Между прочим, я выиграл то дело. Неплохой гонорар. Спасибо за внимание.
Разнося почту, Тина тоже захотела выяснить, не возражает ли он против изменения ее новогодних планов. Нет, Сэм не возражает. Где он пропадал больше двух дней? Просто был занят, очень занят. Нечто совершенно новое! И очень важное!
Она смотрела на него сверху вниз, пока он отсортировывал предложения о продаже подержанных автомобилей с гарантией, что они прошли не более четверти миллиона километров, от учтивых напоминаний о том, что он опять не заплатил за обучение на последнем курсе юридического института, с просьбой сообщить, когда же он все-таки собирается погасить долг.
Наконец, он добрался до письма, которое не было ни объявлением, ни счетом. Сердце у Сэма вдруг замерло, когда он заметил почтовый штамп: Глэнт-Сити, Огайо.
«Дорогой сэр!
В Глэнт-Сити нет ни одной компании, которая имела бы название „Построй человека“ или хоть отдаленно его напоминающее, и мы не знаем аналогичной организации, желающей обосноваться в нашем округе. У нас также нет никакого проезда, называемого „Диагональным“, — наши улицы, идущие с севера на юг, носят названия индейских племен, а идущие с востока на запад пронумерованы числами, кратными пяти.
В Глэнт-Сити совершенно отсутствуют промышленные предприятия, и мы намерены сохранить его таким, каков он есть.
Количество торговых и обслуживающих предприятий в нашем городе минимально. Застройка Глэнт-Сити строго ограничена. Если Вы хотите поселиться у нас и можете доказать, что Ваши предки были белыми христианами и, кроме того, англосаксонского происхождения до пятнадцатого колена, мы будем рады предоставить Вам дополнительную информацию.
Томас Х. Плантагенет, мэр P.S. За чертой города строится аэропорт для частных самолетов, реактивных и винтовых».
Теперь все было ясно. Он не получит никаких дополнительных препаратов для пополнения содержимого флаконов и банок, если бы у него даже оказались один или два сланка, чтобы заплатить за них. Придется обращаться с материалом аккуратно и расходовать его как можно бережнее. Но ни в коем случае не заниматься разборкой!
Развернет ли компания «Построй человека» свое производство в Глэнт-Сити в далеком будущем, когда вопреки ограничениям, вводимым его ограниченными гражданами, город станет индустриальным центром? Или кубический ящик проскользнул в наше пространство и время из какого-то другого измерения, из какой-то другой эры на какой-то другой планете? Впрочем, это маловероятно: ведь сопроводительный текст написан по-английски. И был ли какой-нибудь умысел, добрый или злой, в том, что именно он, Сэм Вебер, получил этот набор?
Тина спросила его о чем-то. Сэм оторвался от своих абстрактных рассуждений и прислушался к ее совершенно конкретным предложениям:
— Так что, если вы по-прежнему хотите, чтобы я пошла с вами на Новый год, я могу сказать Лью, что у моей мамы ожидается приступ — у нее камни в печени — и мне нужно остаться дома. Тогда, я думаю, вы сможете дешево откупить у него столик в «Сигале».
— Большое спасибо, Тина, но, честно говоря, у меня сейчас нет свободных денег. Да и; если быть откровенным, Лью гораздо более подходящая пара для вас.
Лью Найт никогда бы так не поступил. Он мог с беззаботным удовольствием наступить тебе на горло. Но Тина, по-видимому, все же больше подходила для Лью.
Почему? До того, как Лью стал смотреть в ее сторону, Сэм занимал прочные позиции. В то время все в конторе признавали этот факт и не путались у него под ногами. А теперь дело было не только в том, что успехи у Лью были значительнее, а финансовое положение лучше: Просто Лью решил, что ему нужна Тина, и он ее получил.
Это причиняло боль. Конечно, Тина не совершенство; она не была ровней Сэму ни по культуре, ни по интеллекту, но она привлекала его. Ему нравилось проводить с ней время. Она была той женщиной, к которой он стремился, не рассуждая, правильно это или нет и есть ли для их отношений разумные основания. Сэм вспомнил своих родителей: он остался круглым сиротой, после того как они попали в железнодорожную катастрофу. Они были очень счастливы, хотя, говоря объективно, совершенно не подходили друг другу.
Он думал об этом и вечером, просматривая главу «Копируйте себя и своих друзей». Вот бы скопировать Тину.
«Одну — для меня, вторую — для Лью».
Но тут таилась возможность ужасной ошибки. Ведь созданный им манекен был несовершенен: руки получились разной длины. Сэм содрогнулся, подумав о ковыляющей по жизни кривобокой Тине, которую он, конечно, не решился бы разобрать.
Кроме того, книга предупреждала: «Хотя ваш двойник физически похож на вас как две капли воды, он не получил нужного воспитания и не развивался, подобно вам, постепенно. Он не будет обладать вашей умственной уравновешенностью, ему будет трудно справляться с необычными ситуациями, не подвергаясь неврозам. Только профессиональный карнупликатор, используя прецизионное оборудование, сможет изготовить точную копию человеческого характера. Изготовленная вами копия сможет жить и даже иметь потомство, но ее никогда не признают отвечающим за свои действия членом общества».
Ну, хорошо, на такой риск можно пойти. Если Тина получится немного менее уравновешенной, то вряд ли это будет бросаться в глаза. Такое качество было бы даже желательно.
В дверь постучали. Это оказалась квартирная хозяйка. Сэм встал на пороге, стараясь заслонить ящик.
— Ваша комната всю эту неделю была заперта, мистер Вебер. Поэтому горничная у вас не убирала. Мы решили, что вы не хотите, чтобы к вам входили.
— Да, — Сэм вышел в холл и прикрыл за собой дверь. — Я выполняю дома очень важную юридическую работу.
— А!
В этом возгласе он ощутил смертельное любопытство и переменил тему.
— По какому случаю такое пышное оперение, миссис Липанти, — встреча Нового года?
С чувством собственного достоинства она оправила свое черное плиссированное платье.
— Да-да. Моя сестра и ее муж приехали сегодня из Спрингфилда, и мы собирались весело провести вечер. Вот только… только девушка, которая обещала присмотреть за ее младенцем, сейчас сообщила по телефону, что плохо себя чувствует. Так что, выходит, мы не пойдем, если кто-нибудь не согласится… я хочу сказать, если мы не найдем кого-нибудь, кто смог бы позаботиться… у кого нет никакой компании и кто не возражал бы…
Сообразив, что просьба уже высказана, и наигранно смутившись, она умолкла.
Ну что ж, сегодня вечером он свободен. И хозяйка проявляла редкую любезность, когда приходилось проигрывать всю ту же пластинку: «Не беспокойтесь, я принесу квартирную плату через денек-другой». Но отчего всегда получалось так, что каждый из двух миллиардов жителей Земли непременно старался спихнуть Сэму Веберу любое неприятное дело?
И тут он вспомнил главу 4 «Дети и другие маленькие человечки». С той ночи, когда он разобрал неудачный манекен, он пользовался руководством только как гимнастикой для ума. Он не чувствовал себя подготовленным к фантастическим ошибкам, которые могут произойти при изготовлении маленьких человечков. Но копирование детей, по-видимому, не представит затруднений.
Только он поклялся именем Гога и Магога, знаменитого Эскулапа и великого доктора Килдэйра на этот раз ни за что не заниматься разборкой! В большом городе, да еще темной ночью, можно избавиться от своих творений как-нибудь иначе. Он что-нибудь придумает.
— Я с удовольствием побуду с ребенком несколько часов.
Сэм быстро пошел через холл, дабы предупредить неискренние протесты хозяйки.
— Мне сегодня некуда идти. Нет, нет, не благодарите, миссис Липанти. Рад сделать это для вас.
В комнате квартирной хозяйки ее взволнованная сестра с некоторым недоверием проинструктировала Сэма:
— …И только в этом случае она кричит тихим, монотонным голосом, так, что если вы поторопитесь, то особых неприятностей не произойдет, да если и не поторопитесь, тоже.
Он проводил их до дверей.
— Я потороплюсь, как только что-нибудь услышу, — заверил он ее.
Миссис Липанти задержалась у дверей.
— Я говорила вам про мужчину, который спрашивал вас днем?
«Снова?» — подумал Сэм.
— Такой странный высокий старик в длинном черном пальто?
— Да, и с очень неприятными манерами; уставился ни меня и что-то бурчал себе под нос… Вы его знаете?
— В общем, нет. Чего же он хотел?
— Видите ли, он спрашивал, не проживает ли здесь Сэм Вевер, юрист, который почти всю последнюю неделю просидел у себя в комнате. Я ответила ему, что у нас живет Сэм Вебер — ведь ваше имя Сэм? — который вполне подходит под это описание, но что последний жилец но фамилии Вевер выехал примерно год назад. Он посмотрел на меня в упор, сказал: «Вевер, Вебер — они там могли сделать ошибку», — и ушел, не попрощавшись и не поблагодарив. Он не из тех мужчин, которых можно назвать вежливыми.
Странно, какой четкий образ этого человека возник в воображении Сэма. Возможно, потому, что обе женщины, которые его видели, были достаточно впечатлительными. Но, судя по их рассказам, незнакомец на самом деле производил угнетающее впечатление. Погруженный в свои мысли, Сэм вернулся к ребенку.
Он был почти уверен, что не произошло никакой ошибки: этот человек оба раза искал именно его. Сведения о пренебрежительном отношении Сэма к работе в конторе на прошлой неделе соответствовали действительности. Казалось, старик не заинтересован в личной встрече, пока окончательно не установит идентичность Сэма с объектом своих поисков. Должно быть, какое-нибудь юридическое дело.
Сэм был уверен, что оно так или иначе связано с набором «Построй человека» Это негласное расследование началось сразу после того, как Сэм получил подарок из двадцать второго века.
Но он ничего не в состоянии предпринять, пока этот тип в длинном черном пальто сам не пожелает установить личный контакт и изложить свое дело.
Сэм сходил к себе наверх за «Детским биокалибратором». Прислонив открытое руководство к кровати, он включил аппарат на полную мощность сканирования. Ребенок радостно причмокивал, пока калибратор тихо катился по его толстенькому тельцу и металлическая лента выходила из щели с детальным, как утверждало руководство, физиологическим описанием.
Оно действительно было детальным. У Сэма захватило дух, когда на ленте, проходившей через оптический увеличитель, он обнаружил информацию о ребенке, за которую любой педиатр три раза прождал бы свою бессмертную душу. Производительность щитовидной железы, качество хромосом, интеллектуальное наполнение мозга — все данные были аккуратно разбиты по рубрикам, очевидно, в конструктивных целях. Сведения о том, насколько увеличивается череп каждую минуту на ближайшие десять часов; скорость образования хрящей; изменение гормональной секреции при движении и покое — как будто с ребенка сняли матрицу.
Сэм оставил девочку, которая с удивлением разглядывала свой пупок, и поспешил к себе наверх. Руководствуясь лентой, он придавал формам нужные размеры. Затем, еще не успев как следует это осознать, Сэм начал конструировать маленького человека.
Он был удивлен легкостью, с какой шла работа. Очевидно, искусство приобреталось в процессе игры. Собирать манекен было гораздо труднее. Впрочем, возможность дублировать отдельные части и работать с помощью информационной ленты очень упрощала задачу:
Ребенок формировался у него на глазах.
Все было закончено через полтора часа после того, как Сэм начал измерения. Оставалось одно — оживить ребенка.
Тут Сэм заколебался. Неприятная мысль о разборке заставила его задуматься. Наконец, он решился. Необходимо было знать, насколько хорошо удалось выполнить работу. Если этот ребенок сможет дышать, какие перспективы откроются перед Сэмом! Кроме того, нельзя держать ребенка в безжизненном состоянии слишком долго, иначе можно загубить всю работу и ценные материалы.
Сэм включил витализатор.
Ребенок вздрогнул и начал тихо, монотонно кричать. Сэм снова бросился в комнату хозяйки и схватил квадрат белого полотна, оставленный там про запас. Черт побери, опять понадобятся чистые простыни!
После того как порядок был восстановлен, Сэм встал и внимательно взглянул на свое изделие. Он чувствовал себя в некотором смысле папой. Во всяком случае, гордился не меньше, чем настоящий отец.
Перед ним лежало прекрасно сделанное маленькое существо, пышущее здоровьем.
«А неплохая копия получилась!» — радостно сказал он. Все совпадает до мелочей, все такое же, как у прототипа, — включая не совсем симметричное лицо и даже очутившуюся на постели Сэма копию завтрака, переваренного ребенком-образцом. Те же глаза, те же волосы… Те же? Сэм нагнулся над девочкой. Он готов был поклясться, что та, другая, была блондинкой. А у этого ребенка волосы были темные и, казалось, становились еще темнее, пока он их пристально рассматривал.
Сэм подхватил одной рукой «своего» ребенка, другой — «Детский биокалибратор».
Спустившись к хозяйке, он положил детей рядом на большой кровати. Никакого сомнения. Одна была блондинкой, вторая, сделанный им плагиат, — ярко выраженной брюнеткой.
Биокалибратор показал и другие различия. У копии пульс был немного чаще. Немного меньше кровяных шариков. Несколько лучше умственные способности, хотя содержимое мозга такое же. А секреции адреналина и желчи совершенно непохожи.
Все это, вместе взятое, свидетельствовало об ошибке. «Его» ребенок мог быть лучше или хуже, но точной копии все же не получилось. Нельзя было предсказать, сможет ли созданный им ребенок вырасти во взрослого человека, как тот, настоящий.
В чем же дело? Он точно следовал инструкциям, все время заглядывал в ленту биокалибратора, и вот что получилось. Может быть, он слишком долго выжидал, прежде чем пустить в ход витализатор? Или просто его искусство оказалось недостаточным?
Часы своим звоном деликатно напомнили Сэму, что скоро полночь. Необходимо убрать следы изготовления ребенка, до того как сестры Липанти вернутся домой. Сэм быстро перебрал различные возможности.
Через несколько минут он спустился вниз со старой скатертью и картонной коробкой. Он завернул «брюнетку» в скатерть и уложил ее в картонку, весьма обрадованный тем, что ночью на улице потеплело.
Ребенок булькал, предвкушая приключение. Сэм тихо выскользнул на улицу.
Подвыпившие гуляки шатались по городу, ударяя в маленькие барабаны. Прохожие желали друг другу счастливого Нового года.
Все три квартала Сэм осторожно пробирался по улицами, держась поближе к домам и стараясь не попадаться никому на глаза.
Повернув налево, он увидел вывеску — «Городской приют найденышей». У боковой двери горел свет. Ничего не скажешь, удобно! Что значит жить в большом городе!
Вдруг Сэма осенила новая идея, и он юркнул в аллею напротив приюта.
Все должно выглядеть по-настоящему. Он вытащил из кармана карандаш и, стараясь писать по возможности мелко, нацарапал на стенке картонки:
«Умоляю, позаботьтесь о моей дорогой малютке. Я не замужем».
Затем он поставил картонку на крыльцо и нажимал звонок до тех пор, пока не услышал шаги. Тогда он перебежал улицу и успел спрятаться в аллее как раз в тот момент, когда медсестра открыла дверь.
Только вернувшись домой, он вспомнил о пупке. Он замер и постарался припомнить все как следует. Да; да, у «его» девочки нет пупка! Ее животик был совершенно гладким. Вот чем кончается спешка! Дрянная работа.
В приюте для найденышей будут в растерянности, когда развернут ребенка. Интересно, что они подумают?
Сэм хлопнул себя по лбу. «Я и Микеланджело. Он прибавил Адаму пупок, а я забыл о нем!»
Если не считать случайных вздохов, на второй день Нового года в конторе было довольно тихо.
Сэм проглатывал последние интригующие страницы книги, как вдруг его внимание привлекли две персоны, неловко топтавшиеся у его стола. Он с неохотой оторвался от руководства. «Новые формы жизни для развлечения в часы досуга» — это была вещь!
Тина и Лью Найт!
Сэм оценил тот факт, что ни один из них не уселся на его стол.
У Тины маленькое колечко, которое она получила на Новый год, было надето на средний палец левой руки; Лью пытался прикинуться овечкой, но это ему плохо удавалось.
— О Сэм. Прошлой ночью Лью… Сэм, мы хотели, чтобы вы были первым — такой сюрприз, ну, прямо такой! Я почти… Конечно, мы знаем, что это будет немного трудно… Сэм, мы собираемся, то есть мы надеемся…
— …пожениться, — закончил Лью Найт почти шепотом.
В первый раз с тех пор, как Сэм его знал, Лью выглядел неуверенно и взирал на жизнь с каким-то подозрением — вроде человека, который находит в апельсиновом соке, поданном на завтрак, только что вылупившегося осьминога.
— Вам бы очень понравилось, как Лью сделал предложение, — изливала свои чувства Тина, — таким окольным путем. Так скромно. Я сказала ему потом, что я думала, он говорит о чем-то совершенно другом. Я не могла сначала понять тебя, не правда ли, дорогой?
— А? Да, конечно, тебе трудно было понять меня. — Лью взглянул на своего бывшего соперника. — Ты очень удивлен?
— О нет. Совсем нет. Вы двое так прекрасно подходите друг другу, что я с самого начала считал это правильным. — Сэм бубнил свои поздравления под вопросительным взглядом Тины. — А теперь извините — у меня очень срочное дело. Совершенно исключительный свадебный подарок.
Лью был в полном замешательстве.
— Свадебный подарок? Так рано?
— Ну, разумеется, — заметила Тина. — Очень трудно подобрать то, что нужно. А такой замечательный друг, как Сэм, хочет, конечно, подобрать особый подарок.
Сэм решил, что с него достаточно. Он схватил книгу и пальто и вылетел за дверь.
— Однако, добравшись до красных кирпичных ступеней своего пансиона, Сэм пришел к заключению, что рана, хотя и болезненная, определенно не была смертельной. Он даже ухмылялся, вспоминая лицо Вью Найма. Вдруг кто-то потянул его за рукав. Это была квартирная хозяйка.
— Этот человек сегодня опять был, мистер Вебер. Он хотел видеть вас.
— Какой человек? Высокий старик?
Миссис Липанти кивнула, руки ее были осуждающе сложены на груди.
— Такая неприятная личность. Когда я ему сказала, что вас нет, он настаивал, чтобы я провела его в вашу комнату. Я Сказала, что не могу это сделать без вашего разрешения, и он посмотрел на меня таким убийственным взглядом… Никогда не верила в дурной глаз — хотя я всегда говорю, что нет дыма без огня, — но если дурной глаз существует, то именно у этого типа.
— Он придет еще раз?
— Да. Он спросил меня, когда вы обычно возвращаетесь, и я сказала — около восьми, рассчитав, что если вы не захотите его видеть, у вас будет время помыться, переодеться и уйти до того, как он придет. И, извините за прямоту, мистер Вебер, но, по-моему, вам вряд ли хочется с ним встречаться.
— Благодарю вас. Но когда он придет, проводите его ко мне. Если он именно то лицо, о котором я думаю, то я сейчас незаконно обладаю его собственностью. Я хочу знать, каково происхождение этой собственности.
Войдя в комнату, Сэм осторожно положил руководство и приказал ящику открыться. «Детский биокалибратор» был не слишком велик, и газета полностью скрыла его. Через несколько минут Сэм уже шагал по направлению к конторе, держа под мышкой пакет странной формы.
Он размышлял, не пропала ли у него охота скопировать Тину. Нет, несмотря ни на что, он все еще желал ее больше любой другой женщины, в, поскольку оригинал вышел замуж за Лью, копии не оставалось другого выбора, как выйти за него. Но ведь копия приобретет все черты Тины в тот момент, когда будут сниматься характеристики. И она тоже может стремиться выйти замуж за Лью…
Как в том анекдоте: «Либо ты пойди, а я посижу, либо я посижу, а ты пойди». Но до этого еще далеко. А может, будет даже забавно…
Больше всего Сэма беспокоило, как бы не допустить какую-нибудь неточность. А вдруг Тина, которую он сделает, получится с дефектами? Красный цвет наложится на розовый, как в плохих цветных репродукциях; вдруг она начнет переваривать собственный желудок, или где-то в глубине ее подсознания окажутся зачатки загадочного и неизлечимого сумасшествия, свойственные его модели, причем они могут проявиться даже не сразу, а только тогда, когда глубокое взаимное чувство принесет плоды. Сэм уже убедился, что не был крупным знатоком в области копирования людей; ошибки, сделанные при работе с племянницей миссис Липанти, показали, что в этом деле он еще дилетант.
Сэм знал, что никогда не сможет разобрать Тину, даже если она получится с дефектами. Не говоря уже о его рыцарских чувствах и граничащем с предрассудками уважении к женщине, которое ему внушили во времена детства, проведенного в маленьком городке, его охватывал невообразимый ужас при мысли, что столь обожаемое существо пройдет через такой же процесс распада, как, например, манекен. Но если он пропустит в своей конструкции что-нибудь существенное, придется пойти на это. Решено: ничто не должно быть упущено.
Сэм горько улыбнулся, пока старинный лифт поднимал его в контору. Эх, хоть бы немножко времени! Можно было бы поэкспериментировать над каким-нибудь человеком, все реакции которого он знает так хорошо, что любое отклонение от нормы сразу стало бы заметным. Но странный старик явится сегодня вечером, и если речь идет о наборе «Построй человека», то опыты Сэма могут быть немедленно прерваны. А где он найдет человека, которого знает достаточно хорошо? У него было мало приятелей и ни одного близкого друга. А чтобы результаты принесли пользу, он должен знать этого человека, как самого себя.
— Самого себя!
— Ваш этаж, сэр. — Лифтер посмотрел на. Сэма с осуждением. Из-за взволнованного восклицания Сэма он остановил лифт на шесть сантиметров ниже уровня этажа, чего с ним не случалось с тех давно забытых дней, когда он впервые неуверенно дотронуться до кнопок. Лифтер почувствовал, что на его искусство пала тень, и холодно закрыл за юристом дверь.
А почему бы и не самого себя? Сэм знал все свои физические качества лучше, чем Тинины; он непременно заметит любое отклонение, и дело не дойдет до психического расстройства или чего-нибудь похуже. Вся прелесть такого решения в том, что у него не будет никаких угрызений совести при разборке сверхкомплектного Сэма Вебера. Совсем наоборот: неприятностью в такой ситуации было бы продолжающееся существование второго «я» — избавление от него было бы облегчением.
Копирование самого себя даст необходимую практику на знакомом материале. Идеальное решение. Нужно делать весьма аккуратные записи, и, если что-нибудь выйдет не так, он будет в точности знать, где надо быть осторожным при изготовлении своей собственной Тины.
Что касается этого типа, то, может быть, он совсем не заинтересован в наборе. А даже если и заинтересован, Сэм сможет последовать совету своей квартирной хозяйки и уйти из дому до того, как тот придет. Словом, перспективы самые радужные.
Лью Найт уставился на прибор, принесенный Сэмом.
— Во имя великого юриста Блэкстоуна — что это еще за штука? Похожа на машинку для подстригания травы в цветочных ящиках на подоконниках!
— Это, так сказать, измерительный прибор. Снимает правильные размеры с той или другой вещи, да и вообще… Я не смогу преподнести вам задуманный подарок, пока не буду знать нужного размера. Или размеров. Тина, вам нетрудно будет выйти со мной в холл?
— Не-ет, — она с сомнением посмотрела на аппарат. — А это не больно?
— Нет, ни капельки не больно, — заверил ее Сэм. — Я только хочу все сохранить в секрете от Лью до вашей свадьбы.
При этих словах она просияла.
— Эй, коллега! — обратился один из молодых юристов к Лью, когда они выходили. — Не позволяйте ему делать это! Фактическое владение — уже девяносто процентов успеха. Сэм всегда сам это говорил. Имейте в виду, он вам ее не вернет!
Лью слабо хмыкнул и склонился над своей работой.
— Я хочу, чтобы вы пошли в дамскую комнату, — объяснил Сэм удивленной Тине, — я буду стоять снаружи и объяснять всем прочим желающим, что она заперта из-за аварии. Если там есть кто-нибудь еще, подождите, пока все выйдут. Потом разденьтесь.
— Совсем? — взвизгнула Тина.
Он кивнул головой. Затем весьма тщательно, подчеркивая каждую существенную деталь будущей операции, он объяснил ей, как пользоваться «Детским биокалибратором». Как она должна осторожно повернуть выключатель и запустить ленту. Как нужно покрыть каждый квадратный сантиметр тела.
— Эта маленькая рукоятка позволит вам провести прибором по спине. Сейчас не до вопросов. Дошло?
— Дошло.
Тина вернулась через пятнадцать минут, одергивая платье и с восхищением изучая ленту.
— Удивительнейшая вещь… Если верить этой ленте, содержание во мне йода…
Сэм быстро выхватил у нее биокалибратор.
— Не стоит обращать внимание… Это нечто вроде кода. Только скажите мне теперь, сколько штук… Вы будете прыгать до небес, когда увидите подарок.
— Я так и думала.
Она нагнулась над ним, так как он встал на колени и принялся изучать ленту, чтобы убедиться, что Тина правильно использовала аппарат.
— Вы знаете, Сэм, я всегда чувствовала, что у вас идеальный вкус. Я хочу, чтобы вы часто заходили к нам, когда мы поженимся. У вас такие прелестные идеи! Лью немного слишком деловой человек, не так ли? Я понимаю, это нужно для успеха в жизни и всего такого, но ведь успех — это еще не все, ведь нужно еще, по-моему, обладать культурой. Вы поможете мне сохранить культурные интересы, ведь поможете, Сэм?
— Разумеется, — неопределенно произнес Сэм. Лента была в полном порядке. Можно начинать. — Буду рад помочь. Всегда к вашим услугам.
Вызывая лифт, он заметил на лице Тины некоторую растерянность.
— Не нужно расстраиваться, Тина. Вы с Лью будете счастливы. И вам понравится мой свадебный подарок.
«Но все же не так, как мне», — сказал он сам себе, входя в лифт.
Вернувшись в свою комнату, Сэм вытащил ленту и разделся. Через несколько минут была готова запись его собственных параметров. Нужно было бы, конечно, продумать все это как следует, но близость цели делала его нетерпеливым. Он запер дверь, быстро убрал разбросанные по комнате вещи, попутно еще раз фыркнул по поводу галстуков тети Мэгги — голубой и красный прямо разливали свет по всей комнате, — приказал ящику открыться и подготовился к началу.
В первую очередь вода. Поскольку количество воды в человеческом теле очень велико, нужно было иметь сразу весь запас. По пути домой он купил несколько тазов, но наполнять их из единственного крана все равно придется довольно долго.
Когда Сэм подставил под кран первый таз, ему внезапно пришла в голову мысль, не могут ли примеси в воде повлиять на конечный продукт. Наверное, могут. Вероятно, нужно использовать химически чистую воду. Правда, в руководстве об этом ничего не говорилось, но иначе было бы указано, какую именно воду нужно использовать.
Ну что ж, пока придется прокипятить воду; а когда он перейдет к Тине, то постарается достать дистиллированную воду. Еще одно соображение в пользу того, что сначала нужно сделать некое подобие Сэма.
Ожидая, пока закипит вода, Сэм расположил все свои материалы так, чтобы они были под рукой. «М-да, не густо!» — подумал он. Этот младенец поглотил довольно много нужных реактивов; очень жаль, что он не решился его разобрать. Теперь уж никакие аргументы в пользу сохранения двойника не могли иметь силы. Двойника неизбежно придется разобрать, чтобы иметь достаточно материала под рукой для Тины «номер два». А может быть, она будет «номер один»?!
Сэм еще раз пролистал главы 6, 7 и 8, освежив сведения о составных частях, изготовлении и разборке людей. Он их читал уже много раз, но помнил, что в свое время «проскочил» не один юридический экзамен с помощью сведений; подхваченных в последний момент.
Его беспокоило постоянное упоминание о психической неустойчивости. «Человеческие существа, построенные с помощью этого набора, будут даже в лучшем случае обладать определенными тенденциями к предрассудкам и невротическим комплексам, характерным для средневекового человечества. В конце концов, они все-таки не нормальные люди, приложите все усилия, чтобы не забывать об этом». Впрочем, для будущей Тины это не должно играть существенной роли, а все остальное его мало беспокоило.
Сэм кончил приспосабливать формы, придавая им нужные размеры, и прикрепил витализатор к кровати. Затем очень медленно, непрерывно заглядывая в руководство, он начал копировать Сэма Вебера. В ближайшие два часа он узнал о своих физических достоинствах и недостатках больше, чем какое-либо человеческое существо с того дня, когда простодушный примят начал исследовать возможности перемещения по земле на одних нижних конечностях.
Как ни странно, он не испытывал ни трепета, ни возбуждения. Это напоминало постройку первого любительского радиоприемника. Игра для детей.
Когда Сэм кончил, большинство флаконов и банок были пусты. Из ящика торчали влажные формы, похожие на муляжи. Руководство валялось на полу.
Сэм Вебер стоял у кровати, глядя на Сэма Вебера, лежащего на кровати.
Оставалось вдохнуть в двойника жизнь. Сэм опасался ждать слишком долго: могли появиться какие-нибудь отклонения. Он не забыл черноволосой девочки. Отбросив отвратительное чувство нереальности, он убедился, что большой дезассамблятор под руками, и включил «Витализатор Джиффи».
Человек на кровати кашлянул. Пошевелился. Сел.
— Уф! — произнес он. — Неплохо, если мне позволено сказать!
Затем он вскочил с кровати, схватил дезассамблятор, вырвал большие куски проводки из середины прибора, швырнул его на пол и растоптал.
— Я не хочу, чтобы над моей головой висел дамоклов меч, — сообщил он Сэму Веберу, стоявшему с открытым ртом. — Подумайте и о том, что я мог бы использовать его против вас.
Сэм кое-как добрался до кровати и уселся на нее. Волнение, обуявшее его на какое-то время, прошло, и его охватило чувство тупого удивления. Он все еще находился под впечатлением беспомощности ребенка и манекена. У него даже не появлялось мысли о том, что его копия примет жизнь с таким энтузиазмом. Конечно, он должен был это предвидеть: сейчас он создал взрослого человека в момент полного расцвета его физических и духовных сил.
— Очень плохо, — хриплым голосом сказал Сэм. — Вы неуравновешенны. Вы не можете быть приняты в нормальное общество.
— Это я неуравновешен? — спросил двойник. — И кто это говорит! Человек, проводящий в бесплодных мечтаниях всю жизнь, стремящийся жениться на кричаще одетой, тщеславной коллекции биологических импульсов, которая приползла бы на коленях к любому мужчине, достаточно разумному, чтобы нажать нужные кнопки…
— Оставьте в покое самое имя Тины, — возразил ему Сэм. Он чувствовал себя весьма неловко, произнося эту театральную фразу.
Его двойник посмотрел на него и усмехнулся.
— Ладно, пусть так. Но не ее тело! Вот что, Сэм, или Вебер, или как вы там хотите, чтобы я вас называл. Вы живите сами по себе, а я буду жить сам по себе. Я могу даже не быть юристом, если это доставит вам удовольствие. Но что касается Тины, — поскольку больше не осталось ингредиентов, чтобы изготовить копию, да и вообще это была гнилая эскапистская идея, — то во мне заложено достаточно ваших симпатий и антипатий, чтобы страстно ее желать. И я смогу ее получить, а вы не сможете. У вас для этого не хватает смелости.
Сэм вскочил и сжал кулаки. Но тут же сообразил, что противник совершенно равен ему в физическом отношении, и обратил внимание на его уверенную улыбку. Физическая схватка не имела никакого смысла — в лучшем случае она могла кончиться вничью. Он снова вернулся к аргументам.
— Согласно руководству, — начал Сэм, — вы подвержены неврозам…
— Руководство! Руководство написано для детей с научным кругозором, которые будут жить через двести лет. Их наследственные качества будут находиться под тщательным контролем. Лично я думаю, что…
В дверь дважды постучали.
— Мистер Вебер…
— Да! — сказали оба одновременно.
За дверью квартирная хозяйка задохнулась от изумления и произнесла неуверенным голосом:
— Э-э-этот господин внизу. Он хотел бы видеть вас. Сказать ему, что вы дома?
— Нет, пока нет, — ответил двойник.
— Скажите ему, что я ушел час назад, — произнес Сэм в тот же момент.
За дверью послышались продолжительный вздох и звук быстро удалявшихся шагов.
— Ничего себе, разумный метод в данной ситуации! — взорвался двойник.
— Вы не могли попридержать язык? У бедной женщины сейчас, вероятно, будет обморок.
— Вы забываете, что это моя комната, а вы просто неудачно закончившийся эксперимент, — запальчиво ответил Сэм. — У меня столько же прав, сколько у вас, даже больше… Эй, что вы там делаете?
Двойник открыл дверцу шкафа и стал надевать брюки.
— Одеваюсь. Вы можете ходить голым, если это вам нравится, но я хочу выглядеть вполне респектабельно.
— Я разделся, чтобы получить необходимые данные о себе… или о вас. Это моя одежда, это моя комната…
— Послушайте, не волнуйтесь. Вы никогда не сможете доказать этого на суде. Не заставляйте меня ссылаться на известные положения о том, что ваше — это мое, и так далее.
В холле послышались тяжелые шаги. Кто-то остановился перед дверью. Внезапно обоим Сэмам показалось, что вокруг загремели кимвалы, и, охваченные ужасом, они почувствовали, как на них обрушился поток непереносимой жары. Затем резкие звуки умчались вдаль. Стены перестали дрожать. Стало тихо, по комнате разнесся запах паленого дерева.
Они повернулись как раз вовремя, чтобы увидеть невероятно высокого, очень старого человека в длинном черном пальто, входившего через дымящуюся дыру в двери. Хотя он был гораздо выше этой двери, он не нагнулся, а как-то втянул голову в плечи и затем снова выдвинул ее. Инстинктивно Сэм и двойник сделали по шагу друг к другу.
У вошедшего были глубоко запавшие, блестящие черные глаза без белков, напоминавшие Сэму сканирующие устройства биокалибратора; они не глядели, а оценивали и делали выводы.
— Я не зря боялся, что приду слишком поздно, — наконец произнес он раскатисто, сверхъестественным, давящим голосом. — Вы уже сняли с себя копию, мистер Вебер, а это вызывает необходимость в некоторых малоприятных действиях. И двойник уничтожил дезассамблятор. Очень скверно. Мне придется действовать вручную. Неприятная работа.
Старик так близко подошел к ним, что их испуганное дыхание почти касалось его.
— Эта история уже привела к задержкам в четырех важных программах исследований, но мы должны были все время считаться с общепринятыми нормами цивилизованного общества и точно установить личность адресата, прежде чем изъять у него набор. Обморок миссис Липанти, разумеется, потребовал принятия срочных мер.
Двойник прочистил горло.
— Значит, вы?..
— Нет, я не человек в точном смысле этого слова. Я скромный гражданский чиновник, изготовленный по высшему классу точности. Я Хранитель ценза для всего двадцать девятого района. Ваш набор был предназначен для детей из Фреганда, которые совершают экскурсии в этом районе. Один из фрегандцев с документами на имя Вевера заказал этот набор через хронодромы, которые от такой необычной нагрузки расстроились настолько, что их нельзя было карнупликировать. Поэтому вы и получили посылку вместо него. К сожалению, повреждения были так значительны, что нам пришлось разыскивать вас косвенными методами.
Хранитель ценза сделал паузу, и Сэм номер два нервно подтянул брюки. Сам Сэм страстно захотел, чтобы на нем было что-нибудь, хотя бы фиговый листок, для прикрытия наготы. Он чувствовал себя как небезызвестная личность в райском саду, пытающаяся объяснить, почему съедено яблоко, и мрачно подумал, что платье создает человека в гораздо большей степени, чем даже набор «Построй человека».
— Мы, конечно, должны забрать набор, — продолжал рокотать отрывистый гром, — и ликвидировать все последствия его пребывания здесь. Когда все будет приведено в порядок, вам будет разрешено продолжать жизнь, как будто ничего не случилось. Между прочим, проблема состоит в том, чтобы узнать, кто из вас истинный Сэм Вебер.
— Я, — сказали оба дрожащими голосами и взглянули друг на друга.
— Затруднения, — прогремел старик. Его вздох был подобен ледяному ветру. — Почему мне вечно не везет? Почему у меня никогда не бывает простых случаев, вроде карнупликатора?
— Послушайте, — начал двойник, — оригинал должен быть…
— Вполне уравновешенным и в лучшей эмоциональной форме, чем копии, — прервал Сэм. — Мне кажется…
— …что вы легко сможете увидеть разницу, — заключил двойник, не переводя дыхания, — выяснив, кто из нас двоих более достойный член общества.
(«Этот тип хочет пустить пыль в глаза! — подумал Сэм со спокойной уверенностью. — Как он не понимает, что имеет дело с существом, которое на самом деле может видеть умственные различия? Это не какой-нибудь жалкий современный психиатр, это существо способно видеть через внешнюю оболочку до самых скрытых глубин».)
— Ну, конечно, смогу. Минутку. — Старик начал внимательно изучать их. Его глаза бесстрастно пробегали по их фигурам вверх и вниз. Два Сэма Вебера ожидали, дрожа, в наступившей тишине.
— Ясно, — сказал старик, наконец. — Совершенно ясно.
Он сделал шаг вперед и выбросил длинную тонкую руку. Затем он начал разлагать Сэма Вебера.
— Но, послуша-а-а… — начал Сэм Вебер истошным голосом, который превратился в крик отчаяния и заглох в неясном бормотании.
— Чтобы не утратить психического равновесия, вам лучше было бы не смотреть, — заметил Хранитель ценза.
Двойник медленно вздохнул, отвернулся и стал застегивать рубашку. Сзади него, то усиливаясь, то ослабевая, продолжалось бормотание.
— Видите ли, — продолжал рокочущий, давящий голос, — дело не в том, что мы боимся оставить вам подарок, — дело в принципе. Ваша цивилизация не подготовлена для него. Вы должны это понять.
— Ну, конечно, — ответил лже-Вебер, завязывая красно-голубой галстук тети Мэгги.
Уильям Тенн
Две половинки одного целого
Галактограмма космос-сержанта О-Дик-Ве, командира космического пограничного поста 1001625 в Штаб Галактической Патрульной Службы на Веге-21 сержанту Хой-Ве-Шальту. Особые отметки: передано как частное сообщение и оплачено по обычному сверхкосмическолу тарифу.)
Мой дорогой Хой!
Прости, что вынужден снова тебя беспокоить, но, дорогой мой, я попал в переплет. Речь идет не о каком-либо конкретном проступке с моей стороны
— я просто не сумел принять правильное решение. Предчувствую, что Старик пришьет мне явное нарушение должностных обязанностей. Но так как я уверен, что у него самого голова кругом пойдет, стоит только прибыть заключенным, которых я посылаю малой световой скоростью (я уже вижу, как у него отвисает челюсть и трясется дюжина подбородков), я не оставляю надежды на то, что ты успеешь посоветоваться с лучшими законниками в Штабе и выработать какой-нибудь план действий. Любой приемлемый план. Может быть, тогда Старик простит мне, что я обрушил ему на голову свои собственные проблемы.
И все же я не могу отделаться от мысли, что Главный Штаб сядет с этим делом в еще большую лужу, чем я и мои подчиненные, после чего Старик непременно вспомнит, что произошло прошлый раз на посту 1001625 космической патрульной службы — и тогда, Хой, боюсь, что у тебя будет одним споро-кузеном меньше.
Надеюсь, ты правильно поймешь меня, но все это — дело довольно грязное. Грязнее некуда. Я хочу сказать, что оно непристойно в самом дурном смысле этого слова.
Как ты, без сомнения, догадался, каша заварилась на этой нудной и сырой третьей планете Сол, которую большинство ее обитателей называют Землей. Проклятые двуногие балаболки! Они доставляют мне больше бессонных ночей, чем все остальные разумные виды моего сектора, вместе взятые. Достаточно развитые в техническом отношении (земляне находятся на пятнадцатой ступени развития, то есть овладели техникой межпланетных путешествий), они, однако, на целое столетие отстали от сопутствующей этим достижениям ступени 15А — дружеские контакты с другими галактическими цивилизациями.
Вот почему у нас они числятся в статуте Секретного Наблюдения, а это значит, что мне приходится содержать на их планете штат в две сотни агентов, заключив их в нелепые и крайне неудобные футляры из, протоплазмы, дабы помешать этим тупицам покончить с собой, не дождавшись наступления золотого века духовного совершенства. И в довершение всех несчастий моя подопечная система состоит из девяти планет, так что я вынужден разместить свой Штаб не далее чем на планете, которая у них называется Плутон, то есть в месте, где зима еще кое-как терпима, зато летний зной просто невыносим. Поверь мне, Хой, существование космического сержанта далеко не «глур со скиббетсом», что бы по этому поводу ни думали там у вас, в тылу.
Должен, правда, оговориться, что на этот раз зачинщиками оказались не жители Сола-3. С тех пор как без всякого предупреждения, совершенно неожиданно для всех, двуногие додумались до расщепления ядра (что лично мне стоило одной лычки), я удвоил число своих секретных агентов на этой планете, строго-настрого приказав им немедленно докладывать о малейших проблесках технического прогресса на Земле. Уверен, что в дальнейшем землянам вряд ли удастся изобрести даже простейшую машину времени без моего ведома.
Нет, нет, на этот раз все началось на Руфе-6 — планете, которую ее аборигены называют Гтет. Загляни в свой атлас, Хой, и ты увидишь, что Руф-6 — желтый карлик средней величины, расположенный на краю Галактики. Эта незначительная планета лишь недавно добилась статута Девятнадцатой Ступени — первичного межпланетного гражданства.
Гтетанцы представляют собой амебоподобную расу; производящую светлый ашкебас, который они экспортируют на Руф-9 и 12. Они ужасные индивидуалисты и так до конца и не смогли адаптироваться в централизованном обществе. Несмотря на несколько веков существования в условиях высокоразвитой цивилизации, большинство гтетанцев воспринимают Закон скорее как хитроумную головоломку, а не как руководство к общепринятому образу жизни.
В соединении с моими двуногими землянами получается недурная смесь, не правда ли? Но продолжаю. На Гтете проживал некто Л'пэйр — самый наглый из правонарушителей всей планеты. Он совершил едва ли не все возможные у них преступления и нарушил чуть ли не все мыслимые запреты. Если учесть, что около четверти населения планеты регулярно попадает в исправительно-трудовые лагеря, безнаказанность Л'пэйра воспринималась его соплеменниками как явление уникальное. Недаром одна из поговорок гтетанцев гласит: «Ты похож на Л'пэйра — никогда не знаешь, где следует остановиться».
Однако настал момент, когда гтетанцы решили применить к наглецу силу. Он был арестован и обвинен в обувей сложности в 2342 нарушениях — на одно меньше, чем требовалось для признания его перманентным преступником, то есть для осуждения на пожизненное заключение. Он сделал героическую попытку порвать со светской жизнью и посвятить себя самосозерцанию и добрым делам, но, увы, решение пришло слишком поздно! Как он утверждал на предварительном следствии у меня в участке, его мысли, помимо воли, упорно возвращались к беззакониям, так и оставшимся несовершенными, и в мозгу зарождались все новые и новые преступные планы, которым не суждено было осуществиться.
И вот однажды совершенно случайно, в сущности даже не заметив этого, он совершил еще один тяжкий проступок. Он нарушил не только гражданский, но и моральный кодекс своей планеты. Преступление Л'пэйра было столь грязным и отвратительным, что все общество было охвачено негодованием.
Его поймали, когда он продавал подросткам-гтетанцам порнографические открытки.
Снисходительность к слабостям в своем роде знаменитости сменилась гневом и полнейшим презрением. Даже местная Ассоциация Закоренелых Неудачников отказала преступнику в сборе денег для взятия его на поруки. По мере приближения дня суда становилось все очевиднее, что на этот раз Л'пэйру не выкрутиться. Необходимо было бежать. Другого выхода не существовало.
И тут он проделал свой самый блистательный фокус. Несмотря на круглосуточную охрану, он вырвался из герметически запаянной клетки (каким образом, мне до сих пор узнать не удалось, ибо он упорно отмалчивался по этому поводу до самой своей кончины или как там ее) и добрался до космодрома, расположенного неподалеку от тюрьмы. Там он ухитрился проскользнуть на борт корабля — а это была гордость гтетанского торгового флота, последняя космическая модель, оборудованная гиперпространственным двигателем с двойным регулированием.
Корабль был пуст — он дожидался команды, чтобы совершить свой первый пробный вылет в космос.
За те несколько часов, пока побег не был обнаружен, Л'пэйру удалось разобраться в схеме управления и поднять корабль в гиперпространство. Однако ему было невдомек, что он находится на экспериментальной модели, снабженной передатчиком, позволяющим всем гтетанским портам следить за курсом корабля. Таким образом гтетанская полиция, хотя и лишенная возможности преследовать беглеца, знала его точное местонахождение. Сотня амебовидных блюстителей порядка попыталась было преследовать преступника на своих старомодных ракетах, скорость которых в сто раз уступала скорости корабля Л'пэйра, но после месяца длительных и утомительных космических вылазок сдалась и вернулась на свои базы.
Л'пэйр мечтал укрыться в каком-нибудь примитивном и глухом уголке Галактики. Район созвездия Сол как нельзя лучше подходил для его цели. Он материализовался из гиперпространства где-то на полпути между Третьей и Четвертой планетами, но сделал это весьма неловко, истратив все свое горючее. В конце концов даже лучшие умы его расы только начали разработку гиперпространственного двигателя с двойным регулированием. Как бы то ни было, он, хоть и с трудом, добрался до Земли.
Приземление произошло ночью, с выключенными двигателями, и посему никем из землян замечено не было. Л'пэйр знал, что из-за особых условий жизни на этой планете его подвижность будет весьма ограничена. Единственная надежда заключалась в том, чтобы добиться помощи от обитателей Земли. Необходимо было выбрать место, где его контакты с землянами были бы максимальны, а возможность случайно обнаружить корабль — минимальной.
Он приземлился на пустыре в пригороде Чикаго и быстренько закопал там свой корабль. А между тем гтетанская полиция обратилась к командиру местного Галактического патруля, то есть ко мне. Они сообщили координаты Л'пэйра и потребовали его экстрадиции. Я объяснил им, что на данном этапе у меня нет юридических оснований к вмешательству, так как совершенное преступление не носит космического характера. Кража корабля имела место на родной планете, а не в космосе. Вот если, находясь на Земле, он нарушит какой-нибудь галактический закон, помешает, хоть в самой малой степени, мирному сосуществованию…
— А как вы расцениваете вот такой факт? — ехидно спросил меня шеф гтетанской полиции. — Земля ведь находится в статуте Секретного Наблюдения, и, как я полагаю, всякое приобщение ее извне к высшим цивилизациям считается незаконным. А разве приземление Л'пэйра на корабле, снабженном гиперпространственным двигателем с двойным регулированием, — недостаточное основание для взятия его под стражу?
— Приземление как таковое, — ответил я, — еще не является основанием для ареста. Для этого необходимо, чтобы жители планеты заметили корабль и поняли, что он собой представляет. Как нам известно, ничего подобного не произошло. Пока Л'пэйр остается в укрытии, не разбалтывает сведений о нас и не способствует несвоевременному развитию технического прогресса на Земле, мы обязаны уважать его права как гражданина Галактики. У меня нет легальных оснований для его задержания.
Гтетанцы поворчали немного по поводу того, чего ради они платят звездный налог, но вынуждены были согласиться со мной. Впрочем, они предупредили меня, что рано или поздно криминальные побуждения Л'пэйра дадут о себе знать. Он очутился в совершенно немыслимой ситуации: чтобы раздобыть горючее, необходимое для взлета с Земли, ему так или иначе придется пойти на какое-нибудь мошенничество, и в этом случае они требуют, чтобы их просьба об экстрадиции была удовлетворена; я услышал, как шеф полиции, прерывая связь, обозвал Л'пэйра «траченным молью мышиным жеребчиком».
Тебе ведь не нужно объяснять, Хой, что я почувствовал при мысли об этом амебовидном преступнике с богатым воображением и острым умом, свободно действующем на планете, столь неустойчивой в культурном отношении, как Земля. Я оповестил всех агентов в Северной Америке, приказал им быть начеку, а сам стал ждать событий, богомольно завязав в узлы свои щупальца.
Л'пэйр слышал почти все мои разговоры по приемнику. Естественно, что первым делом он удалил с корабля устройство, позволявшее гтетанским локаторам следить за ним. Затем, как только стемнело, он (по-видимому, с немалыми трудностями) переправил свой корабль в другой район города. Ему, как и прежде, удалось остаться незамеченным.
Выбрав для своей новой базы район трущоб, предназначенных к сносу и, следовательно, никем не заселенных, он приступил к решению основной проблемы, ибо, Хой, перед ним стояла проблема первостепенной важности. Как ни хотелось ему ввязываться в историю с Патрулем, он понимал, что, если в самое ближайшее время ему не удастся наложить свои псевдоподии на изрядный запас горючего, его песенка будет спета. Горючее было необходимо не только для того, чтобы сняться с Земли, но и для заправки конвертеров, которые на этом примитивном корабле преобразовывали отходы в пригодные для потребления воздух и пищу.
Времени у него было в обрез, возможностей — почти никаких. Имевшиеся на Корабле скафандры (весьма остроумно сконструированные и вполне приспособленные к тому, чтобы ими пользовались существа неустойчивого формата) не были рассчитаны на такую примитивную планету, как Земля: они не позволяли удаляться от корабля на длительные промежутки времени.
Л'пэйр знал, что Патрульному Посту известно о его приземлении и что мы только и ждем повода для того, чтоб его схватить. Стоит ему нарушить хотя бы самый пустячный параграф давно позабытого Закона, как мы набросимся на него и после недолгих дипломатических формальностей препроводим на Гтет; его кораблю не уйти от патрульной ракеты. Было ясно, что первоначальный план — стремительное нападение на какой-нибудь склад землян, чтобы запастись горючим, отпадает. Оставалась последняя надежда — честный обмен товарами. Следовало разыскать такого землянина, которому можно было бы предложить какой-либо предмет, равнозначный (по крайней мере в глазах этого земляника) стоимости горючего, необходимого для того, чтобы корабль перенес Л'пэйра в укромный уголок космоса, редко посещаемый полицией. Однако почти все имевшиеся на корабле предметы были жизненно необходимы для полета; к тому же Л'пэйр понимал, что ему предстоит совершить сделку так, чтобы при этом: а) не раскрыть тайну существования и природу галактической цивилизации, б) не дать землянам нового стимула к техническому прогрессу.
Позднее он сознался, что обдумывал эту проблему до тех пор, пока его ядро не сжалось в гармошку. Он излазил корабль вдоль и поперек, от носа до кормы и обратно — но все, что могло бы пригодиться человеку, было или жизненно необходимо для полета, или выдавало космического гостя с головой.
И вдруг, когда Л'пэйр уже был готов признать свое поражение, он нашел то, что искал: материал, с помощью которого он совершил свое последнее преступление.
Дело в том, дорогой Хой, что по гтетанским законам все вещественные доказательства совершенного преступления хранятся у обвиняемого до момента суда. Объясняется это целым рядом причин, главная из которых заключается в том, что у гтетанцев существует презумпция виновности, в силу чего заключенный считается виновным до тех пор, пока с помощью лжи, подтасовок и хитроумного манипулирования юридическими категориями ему не удается убедить циничных, не верящих ни в сон, ни в чох присяжных в том, что, хотя они и убеждены в противном, им не остается ничего другого, как объявить преступника невиновным. И так как в этих случаях нападающей стороной оказывается обвиняемый, в его руках и сосредоточиваются все улики. Рассмотрев уличающий его материал, Л'пэйр пришел к выводу, что необходимая ему сделка наконец-то состоится. Ему следовало лишь раздобыть покупателя. Не просто человека, желающего купить то, что Л'пэйр продавал, но такого, у которого имелось бы требуемое гтетанцу горючее. Однако по соседству с его кораблем покупатели этого сорта явно не водились.
Гтетанцы, находящиеся на Двенадцатой Ступени, владеют примитивными навыками телепатии — на коротких дистанциях, разумеется, и в течение незначительных отрезков времени. Итак, сознавая, что мои агенты уже начали за ним погоню и что стоит мне напасть на его след, как свобода его действий будет ограничена, Л'пэйр стал лихорадочно прочесывать сознание землян в радиусе трех кварталов от своего укрытия.
Дни шли за днями. Он метался от мозга к мозгу, подобно таракану, выискивая щелочку потеплее. Мощность ракетного конвертера пришлось уменьшить сначала наполовину, затем на две трети, что повлекло за собой уменьшение пищевого рациона. Он начал голодать. Вследствие недостаточной подвижности его сокращательная вакуоль сжалась до размера булавочной головки. Эндоплазма утратила здоровую припухлость, характерную для нормального амебовидного существа, стала прозрачной и пугающе тонкой.
И вот однажды ночью, когда Л'пэйр уже почти решился пойти на кражу, его мысль вдруг ударилась о мозг случайного прохожего, рикошетом отлетела в сознание гтетанца, была там рассмотрена, облюбована и одобрена. Наконец-то ему подвернулся тот единственный покупатель, который не только снабдит его необходимыми продуктами, но (что было особенно важно!) и откроет рынок сбыта для гтетанской порнографии. Другими словами, у него на пути оказался мистер Осборн Блэтч.
Сей пожилой наставник подрастающего поколения двуногих на протяжении всего расследования упорно настаивал на том, что его сознание не подвергалось никакому насилию. Как выяснилось, он проживает в новом доме на противоположной стороне пустыря, который, как правило, обходит стороной по причине агрессивности некоторых человеческих особей низшего типа, заполняющих развалины. Однако в тот вечер он задержался на педсовете, сильно проголодался и решил (что случалось с ним нечасто) выбрать кратчайший путь. Он уверяет, что подобное решение пришло ему в голову самостоятельно.
По словам Осборна Блэтча, он решительным шагом пересекал развалины, весело размахивая зонтиком, как если бы то была эбонитовая тросточка, и вдруг ему показалось, что он услышал голос. Он утверждает, что с самого начала ассоциировал слово «показалось» с тем, что он услышал, ибо, обладая определенной высотой и интонацией, голос, однако, абсолютно беззвучно произнес:
— Эй, приятель, подойди-ка поближе!
Блэтч обернулся и с любопытством оглядел кучу строительного мусора справа. Перед ним торчала нижняя часть дверного проема — единственное, что осталось от стоявшего здесь ранее здания. Кругом ни единого, укромного местечка, где мог бы спрятаться человек. Но голос, на этот раз довольно нетерпеливо и с гаденькой интимностью заговорщика, повторил:
— Да подойди же, чего стоишь?
— В-в чем дело? Что э-э-э вам нужно э-э-э, сэр? — вежливо осведомился Блэтч, бочком продвигаясь в ту сторону, откуда раздавался голос. Яркий свет фонарей и тяжесть старомодного зонтика заметно прибавили, по его же собственным словам, мужества и решимости нашему педагогу.
— Иди сюда, я тебе что-то покажу!
Осторожно обходя обломки кирпичей и мусор, мистер Блэтч приблизился к остаткам входного проема и слева от него узрел то, что, по мнению землянина, выглядело как лужица липкой жидкости пурпурного цвета и что на самом деле было Л'пэйром.
Здесь, Хой, я должен со всей ответственностью засвидетельствовать (письменные показания, которые я посылаю вместе с отчетом, подтвердят это): мистеру Блэтчу и в голову, не пришло, что вызывающее одеяние, в котором Л'пэйр предстал перед ним, было космическим скафандром. Не подозревал он и о существовании корабля, который в разобранном до молекулярного состояния виде был надежно спрятан в груде битого кирпича за остатками дверного проема.
И хотя мистер Блэтч, обладая хорошим воображением и гибким умом, сообразил, что перед ним существо из космоса, у него не хватило технических знаний, чтобы определить, откуда этот пришелец взялся, или догадаться о природе и характере нашей галактической цивилизации. Таким образом, по крайней мере в данном случае, мы не столкнулись с нарушением Межгалактического Статута 2.607.193, поправка 126 — 509.
— Что вы желали бы мне показать, — расшаркался мистер Блэтч перед красной лужицей, — и смею ли я спросить, откуда вы? Марс? Венера?
— Без лишних вопросов, приятель. Так будет лучше для всех. У меня тут есть для тебя штучка — пальчики оближешь. Первый сорт, блеск!
Мистер Блэтч понял, что внезапное нападение со стороны соседских хулиганов ему уже не грозит, и внезапно вспомнил некую поездку за границу, совершенную в далекой юности. Перед его мысленным взором предстал темный парижский переулок и возникла крысиная мордочка человека в рваном свитере…
— Интересно, что бы это могло быть? — спросил он, осклабясь.
Последовала пауза, в течение которой Л'пэйр впитывал в себя новые впечатления.
— М-м-м-м, — прозвучал голос из лужицы, на этот раз с явным французским акцентом. — Если мосье подойдет поближе, он не пожалеет. Я ему покажу такое, что ему о-о-о-ч-е-нь понравится. Не бойтесь, мосье, подойдите поближе.
Как ты понимаешь, мосье подошел поближе. Лужица вспучилась, из ее середины выпросталось длинное щупальце, которое протянуло землянину плоский квадратный предмет. Неслышный голос хрипло пояснил:
— Вот, погляди, скабрезные картинки!
Ошарашенный Блэтч сохранил, однако, присутствие духа настолько, чтобы, подняв-брови кверху, протянуть иронически:
— Эти? Н-да…
Переложив зонтик из правой руки в левую и отступив на несколько шагов назад, туда, где свет фонарей был ярче, он стал рассматривать передаваемые ему фотографии одну за другой.
Когда ты получишь вещественные доказательства, Хой, ты сможешь сам убедиться; чего стоят эти картинки. Дешевые отпечатки, рассчитанные на то, чтобы возбудить самые низменные страсти у амебовидных. Как ты, наверно, слышал, гтетанцы размножаются простым делением клетки, но обязательно при наличии — соляного раствора. В их мире поваренная соль — довольно редкий продукт. Шесть фотографий, врученных Блэтчу, изображали процесс, в результате которого из одной жирной, усеянной бесчисленными вакуолями амебы, погруженной в ванну с соляным раствором, получились два стройных гтетанца.
Чтобы ты представил себе меру падения Л'пэйра, я должен сообщить тебе то, что узнал от гтетанских полицейских: он не только продавал эту гадость несовершеннолетним амебовидным, но, по всей вероятности, сам изготовил фотографии, причем в качестве модели использовал своего брата (а может, это была сестра?). Короче, он сфотографировал свою собственную единоутробную половину, представляешь? Да, в этом деле слишком много запутанного, темного.
Блэтч возвратил Л'пэйру снимки и сказал:
— Ну, что ж, я, пожалуй, купил бы у вас все шесть. Сколько вы хотите?
Гтетанец назвал цену, выраженную в единицах необходимых ему химических ингредиентов. Он объяснил Блэтчу, как их извлечь из лаборатории той школы, в которой преподавал наш педагог, и предупредил его о том, что необходимо хранить все происшедшее в строжайшей тайне.
— Иначе мосье приходит сюда завтра, а меня фью, и след простыл, и картинки исчезли, и все труды мосье ни к чему.
Блэтчу не составило никакого труда извлечь из лаборатории требуемое, потому что по земным меркам ценность химикалий, равно как и их количество, была ничтожна. К тому же, как и во всех предыдущих случаях, когда он пользовался школьным имуществом для своих экспериментов, он скрупулезно оплатил расходы, из своего кармана. Но Блэтч признался, что фотоснимки были лишь малой частью той выгоды, которую он собирался извлечь из совершенного обмена. Он намеревался продолжить деловые отношения, постараться разузнать, из какой части Солнечной системы пожаловал новоприбывший, как выглядит его мир, и установить взаимный контакт на уровне, доступном существу из цивилизованного общества, которое находится в фазе Секретного Наблюдения.
Однако, как и следовало ожидать, Л'пэйр натянул ему нос. Совершив сделку, гтетанец попросил навестить его следующей ночью, пообещав на досуге обсудить наиболее животрепещущие проблемы Вселенной. Но, конечно, как только землянин удалился, Л'пэйр зарядил конвертеры горючим, произведя необходимые преобразования в его атомной структуре, запустил двигатели, и, как говорится; только его и гулкали.
По нашим предположениям, Блэтч отнесся к обману весьма философски. У нега оставались снимки, а это было самым главным.
Когда Штабу Патрульной Службы сообщили, что Л'пэйр покинул Землю и направляется в сторону Туманности Геракла М-13, ничем не потревожив сонное течение земного прогресса, все мы вздохнули с облегчением. Папка с бумагами Л'пэйра перекочевала с полки «Особо важные дела, требующие неусыпного наблюдения со стороны всего персонала Штаба» на полку «Отложенные в ожидании дальнейших событий».
Я поручил наблюдение за Л'пэйром своему резиденту на Земле, капралу космической службы Па-Чи-Лу. На быстро уменьшавшийся в пространстве корабль Л'пэйра был направлен поисковый луч, а я занялся основной своей проблемой — препятствовать развитию межпланетных сообщений до той поры, пока различные человеческие общества не дорастут до соответствующего этим условиям высокого уровня цивилизации.
Таким образом, когда спустя шесть земных месяцев дело было открыто заново, Па-Чи-Лу не захотел меня беспокоить и попытался с ним справиться самостоятельно. Я понимаю, что меня это ни в коей мере не оправдывает, так как я отвечаю за все происходящее в моем районе. В семье не без урода, конечно, но как родственник родственнику, Хой, я все же должен заметить, что в данной ситуации твой одноголовый кузен оказался не таким уж безнадежным идиотом и в глубине души надеется на поддержку семьи, когда его дело поступит на рассмотрение к Старику.
Космос-капрал Па-Чи-Лу обнаружил гтетанскую порнографию совершенно случайно, во время одной из твоих регулярных инспекторских проверок, совершаемых им в качестве представителя Сенатской комиссии по делам средней школы. Недавно в одном американском издательстве вышел в свет учебник по биологии для старших классов, вызвавший горячее одобрение самых выдающихся специалистов в этой области. Естественно, что комиссия потребовала экземпляр книги для ознакомления.
Капрал Па-Чи-Лу перелистал несколько страниц и узрел те самые порнографические рисунки, о которых его предупреждали на совещании оперуполномоченных шесть месяцев назад. Рисунки, отлично репродуцированные, доступные всем жителям Земли и прежде всего несовершеннолетним! Впоследствии он с ужасом признавался мне, что перед ним как бы воочию предстало многократно повторенное наглое преступление Л'пэйра, пересаженное на вверенную ему, Па-Чи-Лу, планету. Он тотчас же протрубил тревогу N1 по всей Галактике.
Между тем Л'пэйр поселился на небольшой захолустной планетке со средним уровнем цивилизации, лежащей в стороне от больших дорог, и решил открыть новую страницу своей жизни в качестве скромного ремесленника, изготовляющего ашкебас. Он жил, выполняя все законы своей страны, превратился в добродетельного и довольно жирного мещанина и даже начал подумывать, а не пора ли ему обзавестись потомством. Немногочисленным, — нет, нет, — двоих вполне достаточно! Впрочем, если дела пойдут хорошо, можно, пожалуй, решиться и на дальнейшее деление.
Он был искренне возмущен, когда его арестовали и препроводили на Плутон в ожидании конвоя с Гтета.
— Кто дал вам право беспокоить мирного ремесленника, занимающегося своим трудом? — запротестовал он. — Я требую немедленного освобождения, извинения по всей форме и возмещения как материального, так и морального ущерба, причиненного мне как личности и члену общества. Я буду жаловаться вашему начальству! Необоснованное задержание гражданина Вселенной карается законом.
— Вне всякого сомнения, — подтвердил космос-капрал Па-Чи-Лу, — но открытое распространение явной порнографии карается еще в большей степени. Мы ставим подобное преступление в один ряд с…
— О какой порнографии идет речь?
Мой ассистент (по его собственному признанию) так и застыл, уставясь на Л'пэйра сквозь прозрачную стенку его камеры, пораженный наглостью этого амебовидного существа. Смутное беспокойство овладело капралом — уж слишком самоуверенно держал себя преступник, несмотря на всю очевидность имеющихся против него улик.
— Вы отлично знаете, о какой именно. Вот, убедитесь сами. Это лишь один экземпляр из 20 тысяч, распространенных по всей Северной Америке и предназначенных для юношества.
Он дематериализовал биологические тексты и передал их через стену. Л'пэйр бросил на них беглый взгляд.
— Неважная печать, — прокомментировал он. — Этим гуманоидам многому еще предстоит научиться. Впрочем, для скороспелых не так уж плохо. Но почему вы показываете это мне? Неужели вы думаете, что я имею к ним хоть малейшее отношение?
При этом, как утверждает Па-Чи-Лу, у гтетанца был вид педагога, терпеливо пытающегося расшифровать бессмысленное бормотание малолетнего идиота.
— Вы отрицаете свое участие в этом преступлении?
— О каком преступлении идет речь? Посмотрите, — он указал на заглавный лист, — по всей видимости, перед нами «Начальный курс биологии» некоего Осборна Блэтча и Никодимуса П. Смита. Надеюсь, вы не спутали меня ни с тем, ни с другим? Меня зовут Л'пэйр, а не Осборн Л'пэйр и уж никак не Никодимус Л'пэйр. Просто Л'пэйр — старый, банальный, простоватый Л'пэйр. Ни больше ни меньше. Я родился на Гтете, Шестой планете…
— Я осведомлен об астрографических координатах Гтета, — холодно прервал его Па-Чи-Лу, — равно как и о том, что шесть земных месяцев назад вы побывали на Земле и совершили товарообмен с Осборном Блэтчем, в результате чего вы приобрели горючее, в котором нуждались, а упомянутый Блэтч — набор снимков, использованных им впоследствии в качестве иллюстраций к своей книге. Как видите, наша тайная полиция на Земле довольно успешно справляется со своими обязанностями. Мы считаем книгу вещественным доказательством номер один.
— Какая изобретательность! — восхитился гтетанец. — Вещественное доказательство номер один! Ну, конечно же, имея такие широкие возможности, вы остановились на самом остроумном выборе! Примите мои поздравления!
Как ты понимаешь, Хой, гтетанец сел на своего конька — втянул полицейского в обсуждение очередной юридической закавыки. Уникальное криминальное прошлое Л'пэйра как нельзя лучше помогло ему. Что касается Па-Чи-Лу, то его интеллектуальные способности в течение долгого времени были ориентированы на шпионаж и подпольные манипуляции в области культуры. Он был абсолютно не подготовлен к водопаду софизмов и юридических тонкостей, обрушившихся на его голову. Честно говоря, на его месте я бы чувствовал себя не лучше, и боюсь, что в этих условиях ни ты, ни даже сам Старик не могли быть гарантированы от провала. Между тем Л'пэйр разошелся вовсю.
— Что касается меня, то я лишь продал некоему Осборну Блэтчу набор художественных открыток. Как он поступил с ними дальше — меня это не касается. Если я, скажем, продал землянику оружие явно устарелого образца — кремниевый топор, например, или котел для поливания кипящей смолой неприятеля, штурмующего крепость, а землянин с помощью этого оружия отправил своих братьев-дикарей в мир иной, — разве я становлюсь соучастником преступления? Мне что-то не приходилось читать ни о чем подобном в Своде Законов Галактической Федерации. А теперь, сынок, не пора ли компенсировать мне потерянное время и посадить меня на экспресс-ракету, направляющуюся в сторону моего нового дома?
Вот так они и ходили вокруг да около. Бедняга Па-Чи-Лу зарывался в тома кодексов и постановлений, хранящихся в Штабной библиотеке на Плутоне, лихорадочно выискивая очередную мелкую поправку, с помощью которой можно было бы загнать гтетанца в угол. Но всякий раз он с позором проваливался, ибо Л'пэйр тотчас же припоминал наипоследнейшее разъяснение Верховного Совета по данному вопросу, полностью обеляющее задержанного.
Я пришел к убеждению, что у гтетанцев вся юриспруденция, по-видимому, поставлена с ног на голову.
— Но вы признаете, что продали землянину Осборну Блэтчу порнографические снимки? — взорвался, наконец, капрал.
— Порнография, порнография… — задумчиво протянул Л'пэйр. — Под этим словом мы, кажется, подразумеваем нечто низменное, непристойное, возбуждающее похотливые мысли и бесстыдные желания, не так ли?
— Конечно.
— В таком случае, капрал, позвольте мне задать вам один вопрос: вы видели снимки? Они вызвали у вас похотливые мысли и бесстыдные желания?
— Нет. Но я не имею счастья быть гтетанцем.
— Точно так же, как и Осборн Блэтч, — спокойно отпарировал Л'пэйр.
Я убежден, что космос-капрал Па-Чи-Лу нашел бы в конце концов разумный выход из положения, если бы ему не помешал наряд гтетанской полиции, прибывший на специальном патрульном корабле для препровождения преступника на родную планету. Теперь Л'пэйру предстояло сразиться с шестью соплеменниками, среди которых находились самые блестящие законниками и самые хитроумные крючкотворы из амебовидных. Полицейским властям на Руфе-6 не раз приходилось сталкиваться с Л'пэйром на многочисленных судебных заседаниях, они знали, с кем имеют дело, и на этот раз сумели подготовиться.
Казалось бы, Л'пэйр должен был сдаться перед таким численным превосходством. Но не тут-то было! Он обдумал все ходы еще на Земле. К тому же, Хой, его изобретательность стимулировалась тем простым фактом, что на карту была поставлена не чья-нибудь, а его собственная жизнь. Он понимал, что стоит только соотечественникам наложить на него свои псевдоподии, как он превратится в пар.
И вот впервые в жизни капрал Па-Чи-Лу осознал, как трудна иногда бывает участь полицейского — он очутился меж двух огней: сновал от заключенного к законникам и обратно, продираясь сквозь дебри мнений, утопая в трясине юридических тонкостей.
Гтетанский патруль твердо решил не возвращаться домой с пустыми псевдоподиями. Чтобы добиться своего, они должны были доказать справедливость ареста Л'пэйра, что в свою очередь давало им право (как основным пострадавшим) судить преступника по законам Гтета. Л'пэйр с не меньшей твердостью доказывал несправедливость своего ареста, что обеспечивало ему не только нашу защиту и покровительство, но одновременно ставило нас самих в весьма неловкое положение.
Усталый, раздраженный и вконец осипший Па-Чи-Лу, еле волоча свои узловатые щупальца, дотащился до гтетанского патруля и объявил, что после тщательного расследования дела он пришел к выволок о полной невиновности Л'пэйра в преступлении, инкриминируемом ему в период его пребывания на Земле.
— Глупости! — возразил глава гтетанского патруля. — Преступление было совершено. На Земле распространялась откровенная и неприкрытая порнография. Разве это не преступление?
В совершенном отчаянии Па-Чи Лу снова отправился к Л'пэйру и спросил, как же быть дальше. Разве Л'пэйру не кажется, почти плача, вопрошал несчастный, что в деле наличествуют некоторые элементы если не преступления, то хотя бы проступка? Ну пусть какого-нибудь, самого маленького?
— Пожалуй, — задумчиво ответил Л'пэйр. — Мысль не лишена логики. Проступок мог иметь место, но совершил его не я. Осборн Блэтч, например…
Космос-капрал Па-Чи-Лу начисто потерял все свои головы.
Он потребовал, чтобы к нему доставили Осборна Блэтча. К счастью для всех нас, в том числе и для самого Старика, Па-Чи-Лу не решился арестовать Блэтча. Землянина задержали лишь в качестве свидетеля.
Когда я думаю, Хой, к чему мог привести несанкционированный арест существа из мира Секретного Наблюдения, моя кровь готова превратиться в жидкость.
Па-Чи-Лу, однако, совершил еще один грандиозный ляп — он поместил Осборна Блэтча рядом с клеткой Л'пэйра. Как видишь, все складывалось к вящему удовлетворению амебоида — при активном содействии моего юного помощника, разумеется.
К тому времени, как Па-Чи-Лу впервые вызвал Блэтча на первый допрос, тот был уже полностью подкован.
— Порнография? — ответил он вопросом на вопрос. — При чем тут она? Мы с мистером Смитом уже несколько лет работаем над курсом элементарной биологии. Нам были необходимы иллюстрации. Мы мечтали о крупных четких изображениях, легко распознаваемых школьниками: нас не устраивали расплывчатые, размытые рисунки делящейся клетки, которые без конца повторялись во всех учебниках, чуть ли не со времен Левенгука. Серия фотографий мистера Л'пэйра, воспроизводящая весь цикл размножения амеб, явилась для нас просто даром небес. В сущности, эти фотографии составили основу первой книги.
— Вы, однако, не отрицаете, — с сожалением отметил Па-Чи-Лу, — что в момент приобретения вы понимали, что покупаете порнографические картинки? Несмотря на это, вы решили использовать их для развращения молодых особей вашей расы.
— Обучения, — поправил его почтенный педагог. — Обучения, а не развращения. Смею вас заверить, что среди моих учеников нет ни одного, кто бы испытал какое-либо эротическое возбуждение, рассматривая эти фотографии. Замечу в скобках, что в тексте они воспринимаются, как рисунки пером. Не скрою, в момент покупки у меня создалось впечатление, что джентльмен в соседней камере рассматривает эти фотографии несколько своеобразно.
— Вот видите!
— Но ведь это его дело! Меня это не касается. В конце концов, если я покупаю у существа с другой планеты какой-нибудь предмет искусства, древний кремниевый топор, например, или котел для обливания кипящей смолой противника, штурмующего крепость, и если я использую их для вполне мирных целей — топор для прополки сорняков, а котел для варки супа, — разве это преступление? Если хотите знать, наш учебник получил одобрение самых выдающихся специалистов в этой области — педагогов и ученых, известных всему миру. Давайте я прочту вам выдержки из некоторых рецензий. Где они?.. Минуточку… Ах, да, по счастливой случайности, я захватил с собой несколько газетных вырезок… Они у меня в кармане пиджака. Боже мой, я и не подозревал, что их так много! Ну-с, вот что говорит по этому поводу «Школьная газета Южных прерий»:
«Замечательное, достойное всяческих похвал начинание! Достигнутые результаты на долгие годы останутся в анналах педагогики и будут служить образцом методического пособия для изучения основ науки. Авторы справедливо…»
И тут Па-Чи-Лу не выдержал. В отчаянии он воззвал ко мне о помощи.
К счастью, я к тому времени освободился от всех неотложных обязанностей и тотчас же вылетел на Плутон, предвкушая, некоторое удовольствие при мысли, что сапогу распутать дело, поставившее в тупик беднягу Па-Чи-Лу. Однако это чувство владело мною недолго. На смену ему пришли уныние и полная растерянность. Выслушав рапорт капрала, я принял представителей гтетанской полиции. Они уже успели связаться с Министерством внутренних дел своей планеты и угрожали галактическим скандалом, если мы не подтвердим арест и не санкционируем передачу Л'пэйра в их руки.
— Неужели вы допустите, чтобы интимнейшие подробности нашей сексуальной жизни стали предметом откровенного и бесстыдного обсуждения во всех уголках Вселенной? — возмущенно заявили они мне. — Порнография — это порнография, а преступление — это преступление. Намерение было? Было. Действие совершено? Совершено. Выдайте нам нашего заключенного.
— Что же это за порнография, если она никого не возбуждает? — спрашивал Л'пэйр. — Если гамблостинец продаст гтетанцу некое количество крувсса, который на его планете является пищей, а у нас используется в качестве строительного материала, какое ведомство нашей планеты, хотел бы я знать, оплачивает его перевозку — Министерство сельского хозяйства или коммунального строительства? Сержант, я требую немедленного освобождения.
Но самый большой сюрприз подготовил мне Блэтч. Землянин сидел в своей камере, посасывая витую ручку зонтика.
— В соответствии с законодательством, действующим на всех планетах Статута Секретного Наблюдения, — начал он, узрев меня, — а я имею в виду не только Ригелиано-Санитарную Конвенцию, но и парламентские акты Третьего Космического Цикла, а также решения Верховного Совета по делу Кхвомо против Кхвомо и Фарциплока против Антареса-12, - я требую немедленного возвращения меня на место привычного обитания — планету Земля и возмещения всех убытков в соответствии со шкалой, разработанной Комиссией Нобри в связи с недавней полемикой по этому вопросу, состоявшейся в Вивадине. Я также требую…
— А вы приобрели немалую эрудицию в области космического законодательства, — пробормотал я.
— О да, сержант, вполне достаточную. Л'пэйр весьма любезно проинформировал меня относительно моих прав. Как выяснилось, мне следует порядочная сумма в возмещение всяческих ущербов — во всяком случае, я имею право предъявить целый ряд рекламаций. А вы тут создали неплохую галактическую цивилизацию, сержант. Мои соплеменники-земляне многое бы дали за то, чтобы узнать о ней поподробнее. Но я избавлю вас от неприятностей, с которыми вы непременно столкнетесь, если я предам гласности все, что со мной случилось. Я убежден, что двое таких разумных индивида, как вы и я, легко могут прийти — к соглашению.
Когда я попытался обвинить Л'пэйра в разглашении галактических тайн, он всколыхнул свою протоплазму слева направо, что у амебовидных соответствует пожатию плечами.
— На Земле я не разглашал никаких тайн. Вся имеющаяся у землянина информация (а я согласен с тем, что это закрытая информация) получена им с ведома и при покровительстве работников вашего Управления. К тому же, будучи несправедливо обвинен в чудовищном и грязном преступлении, я, естественно, принял все меры к защите, обсудив происшедшее с единственным свидетелем по этому делу. Более того, я должен обратить ваше внимание на тот факт, что, являясь, так сказать, соответчиками, мы имели все основания объединить свои знания для самозащиты.
Вернувшись к себе в Штаб, я сделал капралу Па-Чи-Лу соответствующий втык.
— Все это похоже на трясину — чем отчаяннее стремишься выбраться, тем сильнее увязаешь. А уж этот землянин! Он довел своих сторожей-плутонцев чуть ли не до помешательства. Он всюду сует свой нос: а эта что, а то, а почему так, а как он действует. Ему ничем не угодишь: то в камере недостаточно тепло, то воздуха не хватает, то нища невкусная. У него першит в горле, ему нужно полоскание, не одно, так другое.
— Давайте ему все, что он потребует, в разумных пределах, конечно, — распорядился я. — Если этот тип отдаст концы, нам с вами не миновать принудительного путешествия по туннелю на Сигнусе — и еще счастье, если мы отделаемся только этим! Что касается основной проблемы, то я согласен с мнением гтетанской полиции: преступление было совершено. Так нужно!
Космос-капрал уставился на меня.
— Вы… вы хотите сказать…
— Я хочу сказать, что если преступление совершено, то арест Л'пэйра законен, и преступника следует препроводить на Гтет.
Таким образом мы избавимся не только от него, но и от всей банды амебовидных разбойников. Остается Осборн Блэтч, но, как только Л'пэйр уберется, мы легко справимся с землянином. Однако прежде всего преступление! Л'пэйр должен быть виновен. Годится любое преступление, любое правонарушение, лишь бы оно было совершено во время его пребывании на Земле. Поставь свою раскладушку в юридической библиотеке.
Вскоре после этого Па-Чи-Лу вылетел на Землю.
Только прошу тебя, Хой, избавь меня от проповедей на моральные темы. Ты знаешь лучше меня, что в Патрульной Службе бывали дела и похлеще. Мне это так же неприятно, как и тебе, но у меня не было другого выхода. К тому же этот амебовидный специалист по части преступлений слишком долго избегал справедливого возмездия. В сущности, с точки зрения морали я был безусловно; прав, принимая такое решение.
Как я уже сказал, Па-Чи-Лу возвратился на Землю, на этот раз под видом редактора того издательства, которое опубликовало знаменитый учебник биологии. В архивах издательства все еще хранились оригиналы иллюстраций. Космос-сержант умело и осторожно внушил одному из технических редакторов мысль о необходимости пересмотреть фотоматериалы и подвергнуть анализу бумагу, на которой они были напечатаны.
Химический анализ показал, что фотобумага была изготовлена из фартуха
— синтетической ткани, весьма распространенной на Гтете, но неизвестной землянам, которым при естественном течении событий предстояло открыть ее лишь три столетия спустя.
Сенсационное сообщение о новой ткани тотчас же появилось в газетах. Вскоре все женщины Америки стали лихорадочно раскупать белье из фартуха — новинки сезона, а мы наконец-то смогли предъявить Л'пэйру обвинение в контрабандном ввозе запрещенного товара и стимулировании очередной вспышки индустриального прогресса на Земле..
И все-таки он молодец, этот парень, Хой! — «Ну что ж, — сказал он, — дорога была длинная, и она подошла к концу. Поздравляю вас! Преступление — не самый выгодный бизнес. Нарушители закона всегда проигрывают, победителями неизменно оказываются законодатели».
Я отправился к себе на базу, чтобы оформить бумаги о выдаче Л'пэйра. На душе у меня было легко; правда, у нас на руках оставался Блэтч, но он был гуманоидом. К тому же, однажды превысив свои полномочия и передернув карты, я решил довести игру до конца. Семь «скриипт» — один «лаунд».
Но когда я со всеми документами вернулся на Плутон, я чуть не свалился с его поверхности: вместо одного амебовидного существа — хитроумного преступника Л'пэйра — я увидел двух Л'пэйров! Меньших размеров, конечно, точнее, вдвое меньших, чем первоначальная амеба, но, без всякого сомнения, Л'пэйров.
За время моего отсутствия он раздвоился.
Каким образом? Помнишь полоскание, которое требовал от нас этот землянин? Так вот, это была идея Л'пэйра, его последняя, самая хитроумная попытка спастись. Получив лекарства, землянин переправил его гтетанцу; который припрятал жидкость в своей камере на самый последний случай.
Полоскание было не чем иным, как растворомсоли. Представляешь мое положение?! Гтетанцы, правда, объявили; что их законы предусматривают подобные случаи, но мне-то какое дело до их законов.
— Преступление имело место. Продавалась порнография. Мы требуем выдачи преступника. Обоих! — как заводной повторял шеф гтетанской полиции.
— В соответствии с Галактическими Статутами 6009371 — 6106514, - бубнил Осборн Блэтч, — я требую немедленного освобождения, возмещения убытков в размере двух миллиардов галактических медгаваров, письменно зафиксированного…
И ко всему прочему…
— Возможно, наш предок Л'пэйр действительно был ужасным грешником, — пискляво шепелявили молодые амебы в клетке справа от камеры Блэтча. — Но какое это имеет отношение к нам? Л'пэйр с лихвой заплатил за свои прегрешения — он скончался в родах. Мы же молоды и совсем-совсем невинны. Неужели старушка Галактика наказывает малолетних за грехи их родителей?
Что бы ты сделал на моем месте?
Я отослал весь табор в Главный Штаб — гтетанцев с их воплями и юридическими цитатами, Осборна Блэтча с его зонтиком и учебником по биологии, связку порнографических фото и, наконец, — хотя я должен был бы упомянуть о них прежде всего — двух (не ошибись — их двое!) еще тепленьких амебочек. Пометь их Л'пэйр-1 и Л'пэйр-2. Делай с ними что хочешь, а я умываю руки.
Но если ты (вместе со своими мудрецами в Штабе) сумеешь придумать какое-нибудь объяснение, которое мы могли бы представить Старику, прежде чем он вскроет глоссистомороф, мы (я и Па-Чи-Лу) будем благодарны тебе по гроб жизни.
Ну, а если не придумаешь, — что ж, мы здесь на посту 1001625 Космической Патрульной Службы. Наши чемоданы сложены. По Черному туннелю на Сигнусе не путешествуют налегке.
Р.S. Хой, лично я убежден, что во всех неприятностях виноваты существа, которым для воспроизведения рода обязательно требуются всякие страсти и эмоции. Куда разумнее и пристойнее делать это с помощью спор.
Уильям Тенн
Шутник
Есть поговорка, что из крохотных желудей вырастают огромные дубы, но почему-то не говорят о крохотных дубах, вырастающих из огромных желудей. А ведь случается и такое. Можно не попасть в аварию, зато влипнуть, в историю. Еще не известно, что хуже.
В одно прекрасное утро, году так в 2208-м, некий неглупый, жизнерадостный, но слишком уж изворотливый молодой человек проснулся и обнаружил, что погорел на собственной гениальной идее.
Вот обидно!
Давным-давно, в самом начале девятисотых годов, люди вдруг обнаружили, что холодным осенним вечером куда приятнее завести дома граммофон, чем в дождь и слякоть тащиться в оперетку. Примерно тогда же домовладельцы, проявляя заботу о кулаках гостей, принялись покупать электрические звонки, а немного погодя появилась возможность открывать дверь и впускать в дом человека, стоящего на улице, простым нажатием кнопки.
В лабораториях ученые уже возились с первыми фотоэлементами.
Радио и кинематограф поделили между собой рынок развлечений. Тем временем боссы сообразили, что диктофон в отличие от стенографистки не-делает ошибок, а механический сортировщик писем способен заменить целую армию клерков. Какая невеста в разгар телевизионного помешательства не мечтала об автоматической кухне, беспрекословно повинующейся небрежно брошенному приказу поджарить ростбиф к определенному часу, поливая его через столько-то минут такой-то подливкой? Более роскошные модели были даже снабжены регуляторами ароматов — и делали салат по рецепту знаменитого повара чуть-чуть лучше, чем сам повар.
Затем появилась Система Универсальной Передачи Энергии по Радио (СУПЭР), телевизор освоил третье измерение, переименовал себя в теледар и так подешевел, что стал по карману самому бедному эскимосу, а теледарение
— это уж так, к слову, — оказалось единственной отраслью промышленности, где актеры еще умудрялись зарабатывать себе на пропитание.
Итак, теледар развлекал, роботы с СУПЭР-питанием хлопотали по хозяйству, автоматические пассажирские ракеты летали во все уголки Солнечной системы точно по расписанию… Словом, что еще оставалось желать человеку?
И нот в одно прекрасное утро… да, в году 2208…
В гостиной комика Лэсти (из программы «Смейтесь вместе с клоуном Лэсти») на мгновение замерцал дверной экран, висящий над бесценной антикварной батареей отопления. В следующую секунду на экране появилось изображение плечистого крепыша в каске с надписью «Услуги на дому». Большой желтый ящик у его ног заполнял собой почти весь экран.
— Комик Лэсти? Я из фирмы «Ролы — Ремонт и Переделка Роботов». Получите своего универсального дворецкого. По вашему требованию мы его начинили всякими приставочками. Только сначала дайте расписку, что отказываетесь от претензий и всю ответственность за возможные убытки берете на себя.
— Б-р-р-р, — рыжеволосый молодой человек помотал головой, стряхивая остатки сна, и его лицо приняло озабоченное выражение. — Да я хоть свой смертный приговор подпишу, лишь бы этот робот умел делать то, что надо. Эй, дверь, — крикнул он, — двадцать три, слышишь, двадцать три!
Дверь быстро скользнула вверх. Механик щелкнул тумблером гравитационного излучателя, ящик плавно вплыл в комнату и легонько стукнулся о противоположную стенку.
Лэсти нервно потер руки.
— Надеюсь…
— Вот уж не думал, не гадал, мистер Лэсти, что простому парню вроде меня доведется повидать вас. Оного, конечно, при нашей работе каких только знаменитостей не насмотришься! Вчера вот, к примеру, я отвез двух роботов самому комиссару полиции! Мы их оборудовали детекторами лжи и даже медные лбы им приделали, чтоб они совсем уж на фараонов стали похожи. Моя хозяйка лопнет от зависти, как прослышит, что я разговаривал с самым главным комиком теледара… Знаете, мистер Лэсти, она у меня всегда говорит…
— Никаких мистеров. Просто Лэсти… Клоун Лэсти — смеемся вместе!
Механик весь расплылся в улыбке:
— Ну, точь-в-точь как на экране…
Он направил излучатель на ящик и повернул тумблер в положение «распад».
— Знаете, у нас один парень стал трепать языком, будто вы хотите, чтобы робот сочинял за вас всякие шуточки. Ну, я его и спросил: «А по морде не хочешь?» Уж я-то знаю, что вы свои шуточки с ходу выдаете.
— Вот именно! — Изумление. Громкий смех. — Подумать только: «клоун Лэсти — смеемся вместе» заказывает шутки! Чего не наговорят злые языки?! Да знаете, как меня зовут поклонники? «Король шутки, принц прибаутки, острот полон рот, что ни слово — экспромт». И чтобы я после этого работал по подсказке? Какой вздор! Просто мне в голову пришла бесподобная идея: величайшему комедианту Западного полушария прислуживает робот-остряк. Ха! Ну-ка, поглядим на него.
Раздался легкий треск — это дезинтегрирующий луч обратил желтый ящик в пыль. Когда облачко пыли осело, их взгляду предстал робот пяти футов росту из темно-красного металла.
— Вы его изуродовали! — негодующе воскликнул Лэсти. — Я послал на переделку последнюю модель 2207, обтекаемой формы, с новехоньким цилиндрическим туловищем. А вы мне возвращаете какую-то металлическую грушу… Черт-те что… не робот, а сплошное брюхо! Да еще и кривоногий!
— Послушайте, сэр! Ваш список анекдотов не влезал в него даже после записи на микропроволоку! Пришлось нашим техникам малость расширить нижнюю половину его туловища. А вы еще просили, чтобы робот умел перелицовывать остроты. Пришлось ребятам повозиться, пока они не сварганили специальную приставочку — вариационный преобразователь, так они ее назвали. Отсюда — дополнительный вес, дополнительный объем. Позвольте мне его включить.
Механик вставил изогнутый иридиевый стержень — универсальный роботехнический ключ — в скважину на затылке робота. Два полных оборота, щелчок, и внутри робота послышалось слабое гудение работающих механизмов. Металлические руки символическим жестом покорности прижались к металлической груди. Изогнутые брови взметнулись кверху. Рот вопросительно приоткрылся.
— Ух ты! — изумился механик. — Вот это физиономия — до чего важный! А как высокомерно смотрит!
— Это все выдумки моей невесты, — гордо сказал Лэсти. — Джозефина Лисси, знаете, та самая, что поет в моих программах. Она утверждает, что именно так выглядел в старину дворецкий… совсем как в древней Англии. Она даже имя ему придумала подходящее. А ну, Руперт, выдай анекдотик.
— Какой, сэр? — проскрипел Руперт.
Голос его то поднимался, то опускался наподобие синусоиды.
— Какой хочешь. Попроще да посмешнее, из дорожной серии.
— Гинсберг впервые летел на Марс, — начал Руперт. — Ему указали столик в отсеке-ресторане и сообщили, что его соседом будет француз. Тот…
Механик постучал по металлической груди.
— Вот еще одна приставочка — мезонный фильтр. Вы хотели, чтобы он различал заряд смеха в своих шутках и приспосабливал их к аудитории, в какую бы копеечку это ни влетело. А нашим инженерам только подавай задачку потруднее: в лепешку расшибутся, а уж сварганят что надо.
— Коли так, то моим дружкам-юмористам придется кусать локти, — злорадно пробормотал Лэсти. — Посмотрим, кто будет смеяться последним: клоун Лэсти или эти жадюги Грин с Андерсеном. И добро бы еще писать умели!
— …француз, увидев, что Гинсберг уже сидит за столом, остановился, щелкнул каблуками и низко поклонился. «Бон аппетит», — сказал француз. Гинсберг, не желая ударить лицом в грязь, привстал и…
— Мезонный фильтр, говорите? Что ж, хоть вы и содрали с меня галактическую сумму, но, если Руперт сделан так, как задуман, это окупится. Зря только вы испортили ему фигуру.
— …повторялся этот краткий диалог. Наконец, в последний день путешествия Гинсберг разыскал стюарда и попросил объяснить ему…
— Мы бы и получше все разместили, если бы не такая спешка. Но вы требовали вернуть его в среду, и ни днем позже.
— Да. Сегодня я выхожу в эфир. Мне необходимо… вдохновение, которое даст мне Руперт. — Лэсти нервно взъерошил волосы. — Похоже, он в форме.
— …подошел к французу, который уже сидел за столом. Гинсберг щелкнул каблуками, поклонился и произнес: «Бон аппетит». Француз в восторге вскочил с места…
— В таком случае будьте добры подписать эту, бумажку. Обычная расписка по установленной форме. Вы принимаете на себя полную ответственность за все действия робота. Без этого я не имею права его вам оставить.
— О чем речь? — воскликнул Лэсти. — Подпишем все, что вам угодно.
— … «Гинсберг», — воскликнул француз.
Руперт умолк.
— Недурно. Хотя и не совсем то, что надо. Я бы хотел… Разрази меня атом, это еще что такое? — Лэсти даже подпрыгнул от неожиданности.
Робот; застыв на месте, скрипел, взвизгивал и скрежетал шестеренками, словно разваливался на части.
— Ах, это? — махнул рукой механик. — Маленькая недоделка. Не успели устранить из-за спешки. Насколько удалось выяснить, это побочный эффект мезонного фильтра. Робот отличает шутки просто забавные от очень смешных. Как сказано в спецификации: «электронная дифференциация гротескного». У человека это называют чувством юмора. Ну, а у робота, так сказать, выхлоп заедает.
— М-да, не приведи господь услышать этот скрежет с похмелья. Робот, хохочущий над собственными шутками. Б-р-р, что за звуки! — Лэсти поежился.
— Эй, Руперт, смешай-ка мне Лунный Трехступенчатый.
Металлическая громадина повернулась и, переваливаясь на кривых ногах, направилась в кухню. Глядя на качающуюся походку робота, оба зрителя не смогли удержаться от смеха.
— Вот вам за труды. Жаль, у меня нет больше мелочи. Хотите пачку «Звездочета»? Мой рекламодатель завалил меня сигаретами по самую макушку. Вам с каким ароматом — лакрицы или кленовых орешков?
— Я обычно беру с лесными яблоками. И хозяйка моя тоже… Премного вам благодарен. Надеюсь, вы останетесь довольны.
Механик сунул излучатель в карман и вышел.
— Три двадцать, — вслед ему крикнул Лэсти. Дверь бесшумно скользнула вниз.
Руперт приковылял в гостиную, держа в руках причудливо изогнутую спиральную трубку, заполненную белой, желтой и зеленой жидкостями. Комик залпом опорожнил ее, шумно выдохнул воздух и пригладил волосы.
— Вот это да! Отрава — что надо! Тот парень, что смастерил твой коктейльный блок, был не дурак по части электроники. А теперь слушай: я не слишком хорошо представляю, как тебя втравить в это дело… Впрочем, ты ведь умеешь читать. Вот сценарий сегодняшней передачи; моих импровизаций в нем, разумеется, еще нет. Перепечатай для меня сценарий и к каждой подчеркнутой реплике сочини какую-нибудь шутку. Я их выучу и по ходу передачи буду выдавать за свои экспромты. Впрочем, тебе это знать ни к чему. Иди работай.
Робот беспрекословно перелистал сценарий, мгновенно запечатлев каждое слово в своей электронной памяти: Затем бросил сценарий на пол и направился к электрической пишущей машинке. Подойдя, он отшвырнул стул. Его металлические ноги вдвинулись внутрь туловища как раз настолько, что руки оказались на уровне клавиатуры. Пальцы забарабанили по клавишам. Из машинки один за другим вылетали отпечатанные листы.
Лэсти восхищенно смотрел на робота.
— Если он пишет хоть вполовину так же смешно, как быстро, — дело в шляпе! — Комик нагнулся и подобрал с пола брошенную Рупертом пачку сценарных листов. — Никогда с ним прежде такого не бывало. Пока его не отдали в ремонт, более аккуратной и чистоплотной машины не существовало на всем белом свете — вечно подбирал за мной каждую соринку. Что ж, у гениев свои причуды!
Будто в ответ на эти слова зазвонил телефон. Лэсти улыбнулся и поймал трубку, спрыгнувшую с потолка прямо ему в руки.
— Радиоцентр, — произнесла трубка. — Вас вызывает мисс Джозефина Лисси. Чьим кодом будете пользоваться: вашим или ее?
— Моим. Ка — сто тридцать четыре — Эл. Прием.
— Переключаю код. Говорите.
Радиофон издал несколько щелчков, настраиваясь на личный код Лэсти; этой же волной могли пользоваться миллионы людей, но кодирующее устройство позволяло разговаривать, не боясь подслушивания. На крохотном экранчике, вделанном в радиофон, появилась девушка с копной таких же, как у Лэсти, волос морковного цвета.
— Привет, Рыжик, — улыбнулась она. — Угадай, что я скажу? Джози любит Лэсти.
— Умница ты моя! Погоди, я переключу изображение. От этого экрана у меня болят глаза. Он так мал, что ты в нем не помещаешься.
Лэсти повернул рычаг радиофона и включил дверной экран. Аппарат прыгнул в свое гнездо на потолке. Комик нажал кнопку на пульте у двери и со вздохом удовлетворения опустился на кушетку. На большом экране над поддельной батареей отопления появилась жизнерадостная Джозефина Лисси.
— Послушай, мой затейник, нам не до любовных нежностей. Сейчас я перейду прямо к делу. Грин и Андерсен проболтались Гаскеллу.
— Что?! — Лэсти вскочил на ноги. — Да как они смели! Я на них в суд подам! В нашем контракте специально оговорено: публика не должна знать, что они работают на меня.
— Что толку, — пожала плечами Лисси. — К тому же они проболтались не публике, а Гаскеллу. Но ты и этого не докажешь. Мне шепнули, что Гаскелл вне себя от ярости и повсюду ищет тебя. Грин и Андерсен убедили его, что без их шпаргалки к сценарию ты и двух слов связать не сможешь. Гаскеллу до лампочки — экспромты это или заученный текст, но он боится сесть в лужу со своей первой рекламной передачей.
— Не волнуйся, Джози, — улыбнулся Лэсти, — еще повезет…
— Что это? — вскрикнула Джози. — Клянусь любимой космической оперой покойной бабушки, в жизни не слыхала ничего подобного!
То, чего в жизни не слышала Джози, было душераздирающей какофонией из скрежета, лязга, звона металла и пронзительных гудков. Лэсти быстро обернулся.
Руперт кончил печатать. Темно-красными пальцами он держал длинные листы законченного сценария и трясся мелкой дрожью.
— Г-р-р, бум, бам! — доносилось из его нутра. — Бинг! Банг! Бонг! К-р-р-рум!
Казалось, камнедробилка перемалывает бетономешалку.
— А-а, это Руперт! У него выхлоп заедает — вроде чувства юмора у людей. Конечно, он не человек, но, похоже, ему до смерти нравятся собственные шуточки. Эй, Руперт, поди-ка сюда!
Робот перестал громыхать и, поднявшись во весь рост, зашагал к дверному экрану.
— Когда его привезли? — спросила Джози. — Они начинили… Ой, как же его изуродовали! У него такой вид, словно он болен водянкой, да еще нацепил набрюшник. А куда делось высокомерное выражение лица? А вся его важность? Он теперь грустный-грустный. Бедняжечка Руперт!
— Пустая игра воображения, — ответил Лэсти. — Руперт не в состоянии изменить выражение лица, даже если захочет. Чтобы выполнять обязанности камердинера, ему нужно не больше фантазии, чем часам для показа времени. А сейчас он заодно еще и ходячий каталог острот, снабженный этим… как его… вариационным преобразователем… Пусть даже у него есть имя, а не просто серийный номер, как у других домашних машин, это еще не значит, будто он способен что-то чувствовать.
— И вовсе нет. Руперт все чувствует. Ведь правда, Руперт? — проворковала девушка. — Ты меня помнишь, Руперт? Меня зовут Джози. Как ты поживаешь?
Робот молча смотрел на экран.
— Из всех вздорных женских выдумок…
Что-то лязгнуло. Это Руперт цокнул каблуком о каблук. Туловище его согнулось в чопорном поклоне.
— Гинс… — начал он.
Голова его продолжала величественно опускаться и наконец с громким стуком ударилась об пол.
С Джози от хохота чуть не сделалась истерика. Лэсти хлопал руками себя по бедрам. Руперт замер, образовав прямоугольный треугольник, вершиной которого оказалась расширенная часть его туловища.
— …берг, — докончил Руперт, упираясь головой в пол.
Он не делал попыток подняться. Внутри у него что-то задумчиво жужжало.
— Ну ладно, — проворчал Лэсти, — не собираешься ли ты весь день валять дурака? Вставай!
— Он н-не ммо-жжет, — взвизгивала Джози, — они сместили ему центр тяжести, и он не может встать. Если тебе когда-нибудь удастся выкинуть такой же потешный трюк по теледару, то двести миллионов ни в чем не повинных зрителей помрут со смеху.
Комик Лэсти скорчил гримасу и нагнулся над роботом. Он обхватил его за плечи и потянул вверх. Медленно и очень неохотно Руперт выпрямился. Он ткнул пальцем в экран.
— С девицей этой проживешь беспечно жизнь свою, — начал он металлическим речитативом, — в ад после смерти попадешь — решишь, что ты — в раю!
— Заткнись! — рявкнул Лэсти. — Слышишь, что я говорю? Заткнись!
Роботом овладел новый пароксизм шестереночного скрежета. Лэсти обиженно надулся.
— Мой прекрасный старинный кафельный пол! Такого кафеля середины XX века нет ни у кого в нашей башне! Посмотрите, во что он его превратил! Дыра размером с…
— Сто раз тебе объясняла, — затараторила Джози, — что в. XX веке кафельные полы делали только в ванных комнатах. Иногда на кухне, но чаще всего в ванных. А твоя поддельная батарея и секретер с раздвижной крышкой
— вообще из других эпох; у тебя нет никакого чувства старины. Вот погоди, дружочек, обменяемся колечками да кинем друг в друга по пригоршне риса, и ты узнаешь, как выглядел жилой дом эпохи президента Рузвельта. Кстати, как тебе нравятся шутки Руперта — те, что на бумаге?
— Еще не знаю. Он только что кончил печатать.
— Отключайся, Джози. Кто-то пришел. Зайди за мной перед выступлением, как обычно. Пока.
По сигналу хозяина робот проковылял к двери и сказал: «Двадцать три». И тут почти одновременно произошли два события: в комнату вошел механик фирмы «Рольг», и голова Руперта стукнулась о пол.
Лэсти вздохнул и еще раз выпрямил Руперта.
— Надеюсь, он не собирается бить поклоны всякий раз, когда кто-то войдет в комнату? Так он мне весь кафель перебьет.
— А он уже выкидывал эту шутку? Скверное дело. Ведь все основные контрольные блоки у него в голове, и они еще как следует не притерлись друг к другу. Соскочит какая-нибудь шестеренка, и привет! Хотите, я отвезу его в мастерскую на переналадку?
— Некогда. Через два часа я выхожу в эфир. Кстати, вы вмонтировали ему в лоб блок письменной развертки?
— А как же, — кивнул механик. — Видите узенькую зеленую пластинку над бровями? Когда захотите, чтобы он не говорил, а писал, сдвиньте ее в сторону или прикажите, чтобы он сам ее сдвинул. Слова будут проплывать по экрану, вроде как на щитах световой рекламы. Ах да, я же вернулся за ключом! Вот так история, забыл универсальный ключ у него в затылке — прямо хоть на фабрику не возвращайся.
— Забирайте свой ключ. Я жду посетителя.
Лэсти повернулся и увидел, как в открытую дверь влетел коренастый человечек в полосатой тунике.
— Здравствуйте, мистер Гаскелл. Присядьте, пожалуйста. Я освобожусь через секунду.
— Давай ключ, — обратился к роботу механик.
Руперт вытащил у себя из затылка универсальный роботехнический ключ и протянул руку. Механик тоже протянул руку. Руперт уронил ключ.
— Что за черт? — удивился механик. — Если бы я не знал, что это невозможно, я бы поклялся, что это он нарочно.
Механик нагнулся за ключом. Робот быстро протянул руку. Механик как ошпаренный выскочил за дверь.
— Не смей! — завопил он. — Вы видели, что он собирался сделать? Какого…
— Три двадцать, — сказал Руперт.
Дверь упала на место, и механик так и не закончил фразы. Робот вернулся в гостиную, чуть слышно жужжа и пощелкивая. Выражение его лица было еще печальнее прежнего. К грусти примешивалось легкое разочарование.
— Два Лунных Трехступенчатых, — приказал хозяин. Робот поплелся на кухню готовить коктейли.
— Послушайте-ка, Лэсти, — загудел Джон Гаскелл неожиданно громким голосом, — не люблю ходить вокруг да около. Я понятия не имел, что на вас работают наемные юмористы, пока Гран и Андерсен не пожаловались мне, как вы их прижали с деньгами, а когда они отказались батрачить за гроши, выставили их на улицу. Они утверждают, что сделали из вас самого высокооплачиваемого комика в Западном полушарии, и в этом я с ними совершенно согласен. Так вот, сегодняшняя передача — это всего лишь проба…
— Выслушайте меня, сэр. До того как я связался с этими грабителями, я сам готовил свой репертуар. Да и работали они исключительно на моем запасе шуток. Они пытались сорвать с меня больше, чем я сам зарабатываю, — вот почему я выставил их за дверь. Я по-прежнему умею импровизировать не хуже кого другого.
— А мне плевать, импровизируете вы или рассказываете свои сны. Мне нужно одно: когда публика смотрит мою программу, она должна смеяться. Побольше смеха — и она любую рекламу проглотит не поморщившись. Впрочем, я совсем не то хотел сказать…
Гаскелл выхватил у Руперта спиральный бокал и единым духом осушил его. Ни один мускул не дрогнул на его лице.
— Безвкусная водичка. Градусов не хватает! Мало огня!
Несколько секунд робот задумчиво разглядывал бокал, затем повернулся и заковылял на кривых ногах к кухне.
Лэсти мысленно позволил себе не согласиться с президентом корпорации «Звездочет». Каждая капля коктейля буквально убивала наповал. Впрочем, «Клуб хозяев планеты», где жил Гаскелл, славился крепостью своих напитков.
— Единственное, что меня интересует, — продолжал Гаскелл, — сумеете вы сделать сегодняшнюю программу смешной без помощи Грина и Андерсена или не сумеете? Может, вы и великий комик, но, как говорят у рас на теледара, довольно одного провала — и славы как не бывало. Если после сегодняшней пробы «Звездочет» не подпишет с вами условленного тринадцатинедельного контракта, то вы опять скатитесь к утренним рекламам наркотиков.
— Разумеется, мистер Гаскелл, вы совершенно правы. Только прошу вас — сначала посмотрите мои сценарий, а уже потом делайте замечания. — Лэсти вытащил из электрической машинки длинные сценарные листы и вручил их коротышке.
Рискованный шаг. Кто знает, какую чушь мог сочинить Руперт? Но что поделаешь, читать текст не было времени. Авось Руперт вывезет.
О качестве сценария можно было судить по реакции Гаскелла. Президент «Звездочета» подпрыгивал на антикварном стуле, содрогаясь от хохота.
— Чудесно! Восхитительно! — По щекам Гаскелла текли слезы. — Просто колоссально! Должен перед вами извиниться, Лэсти. Вам и впрямь не нужны наемные юмористы. Вы прекрасно пишете сами. А вы успеете до передачи выучить текст?
— За это не беспокойтесь, сэр. Перед срочной работой я всегда принимаю таблетку инфраскополамина. А на случай, если и вправду понадобится экспромт, у меня есть робот.
— Робот? Вот эта образина? — Гаскелл ткнул пальцем в Руперта, который, стоя за его спиной, заглядывал в сценарий и тихонько жужжал. Взяв у Руперта бокал, Гаскелл сделал несколько глотков.
— Да, сэр. В нижней половине его туловища хранится огромный запас шуток. Во время передачи робот будет стоять в стороне; и, как только понадобится экспромт, — глядишь, он уже у него на лбу написан. Мистер Гаскелл! Что с вами?!
Но тут Гаскелл внезапно выронил бокал. Причудливо изогнутая спираль лежала на полу, и из нее вился черный дымок.
— Нап-ппи-тток, — хрипло пробормотал Гаскелл. Лицо его, поочередно принимавшее красный, зеленый и лиловый оттенки, остановилось на компромиссном решении и пошло цветными пятнами.
— Где… где у вас?..
— Сюда! Вторая дверь налево!
Маленький человечек, согнувшись в три погибели, выскочил из комнаты. Тело его обмякло, словно у потрепанной ватной куклы.
— Что с ним? — Лэсти понюхал поднятый с пола бокал. — Апчхи!
До него вдруг дошло, что Руперт тихонько жужжит и лязгает.
— Руперт, чего ты сюда намешал?
— Он сам просил покрепче и поострее…
— ЧЕГО ТЫ СЮДА НАМЕШАЛ?
Робот задумался.
— Пять частей кастор-ки… з-з-з-здин-дон… три части уксусной эссенции… бинг-бонг… четыре части красного перца, к-рр-ранг-тр-румм… одну часть рво…
Лэсти свистнул, и с потолка спрыгнула трубка радиофона.
— Радиоцентр? Скорую помощь, да поскорее! Клоун Лэсти, «Башня Артистов», квартира тысяча шестая.
Лэсти выскочил в прихожую и бросился на помощь своему гостю.
При виде цветовой гаммы на лице Гаскелла врач покачал головой:
— Помогите уложить его на носилки, и срочно в госпиталь.
Гравитационным лучом врач поднял носилки и повел их к двери мимо Руперта, стоящего в углу.
— Надо думать, съел что-нибудь несвежее, — проскрипел тот.
— Шут гороховый! — Врач кинул на робота свирепый взгляд.
Лэсти торопливо выпил один за другим три Лунных Трехступенчатых. Смешивал их он сам. С помощью двойной дозы инфраскополамина к приходу Джози ему удалось вызубрить свой экспромты. Руперт открыл ей дверь. Динг! Вам!
— Весь день он только этим и занимается, — проговорил Лэсти, в очередной раз выпрямляя робота. — И дело не только в том, что он расколотил весь мой кафельный пол. Того и гляди, у него в голове развинтится какой-нибудь винтик. Разумеется, мне он повинуется беспрекословно, жертвами его розыгрышей до сих пор были…
Руперт что-то покатал во рту. Губы его вытянулись трубочкой, щеки сложились гармошкой морщинок. Он сплюнул.
По полу запрыгала медная шестигранная гаечка. Все трое молча смотрели ей вслед. Наконец, Джози подняла голову:
— Каких еще розыгрышей?
Лэсти рассказал о случившемся.
— Ну и ну! Твое счастье, что по контракту ты за последствия своих шуток не отвечаешь. Не то Гаскелл затаскал бы тебя по судам. Будем надеяться, что он выживет. Иди, одевайся.
Лэсти прошел в соседнюю комнату и принялся натягивать на себя красный с блестками клоунский костюм.
— Что у тебя сегодня в программе? — крикнул он.
— Мог бы сам прийти как-нибудь на репетицию и послушать.
— Приходится поддерживать свою репутацию импровизатора. Так что же ты поешь?
— Арию «Странствую в пространстве я» из последней новинки Гуги Гарсия «Любовь за поясом астероидов». Послушай, твой робот, может, и в самом деле отличный писатель-юморист, но как дворецкий он никуда не годится. Сколько мусора на полу! Бумажки, сигареты, спирали для коктейлей! Вот погоди, молодой человек, соединим мы с тобой наши судьбы…
Она умолкла и, нагнувшись, принялась подбирать мусор. Руперт, стоя сзади, сосредоточенно глядел ей в спину. Внутри робота что-то загудело. Г-р-р…
Стремительными шагами Руперт пересек комнату. Его правая рука поднялась и обрушилась на Джози.
— Ай! — завопила Джози, подпрыгнув до потолка. Опустившись на пол, она круто обернулась. Ее глаза метали молнии.
— Кто это сме… — угрожающе начала она и тут заметила Руперта, который, все еще протягивая вперед руку, звенел и жужжал своими металлическими внутренностями.
— Да ты, никак, издеваешься надо мной?! Тебе смешно?! Ах ты, ржавый нахал! — В ярости она бросилась к роботу, чтобы закатить ему пощечину.
Выскочивший Лэсти увидел ее руку, занесенную над головой робота.
— Джози! — испуганно закричал он. — Только не по голове! Бам-м-м!!!
— Думаю, мисс Лисси, все обойдется благополучно, — сказал врач, — недельки две подержим вашу руку в гипсе, а потом — снова на рентген.
— Джози, мы опоздаем в студию, — нервничал Лэсти. — Очень жаль, что так вышло.
— Ах, тебе жаль? Так вот, заруби себе на носу: я с места не сдвинусь, пока ты не избавишься от Руперта.
— Джози, радость моя, золотко мое, да знаешь ли ты, как здорово он сочиняет!
— А мне плевать! Меня дрожь пробирает при мысли, что он будет жить в одном доме с моими детьми. По Закону о роботах ты же обязан держать его в своем доме. По-моему, он у тебя свихнулся на почве юмора. Мне это не нравится. Так что выбирай: или я, или этот недовинченный остряк-самоучка.
В ожидании ответа Джози поглаживала гипсовую повязку на руке.
Так вот, Руперт — несмотря на все странности и причуды — гарантировал Лэсти блестящую карьеру комического актера. Больше езду не придется беспокоиться о репертуаре. Будущность его обеспечена. С другой стороны, Лэсти не был уверен, что на свете есть хоть одна женщина, которая может сравниться с Джози. Она воплощала собой его мечту об идеальной женщине. Только с нею он найдет свое счастье.
Это был простой и недвусмысленный выбор между богатством и любимой женщиной.
— Ладно, — пробормотал он наконец, — надеюсь, мы останемся друзьями.
Когда Лэсти вошел в студию, Джози уже заканчивала свою песенку. Отойдя от микрофона, она не удостоила комика даже взглядом. Началась рекламная вставка.
Лэсти поставил Руперта у дальней стены, рядом с режиссерской будочкой, где темно-красная фигура робота не могла попасть в поле зрения телекамер. Затем он присоединился к группе актеров, ожидавших под выключенной камерой окончания рекламы, после чего им предстояло разыграть небольшой водевиль.
Наконец захлебывающийся от восхищения диктор отчеканил последнее слово рекламного текста На сценическую площадку выскочил вокальный квинтет сестер Глоппус, и грянул финал:
Телекамера над головой Лэсти засветилась разноцветными лампочками, и представление началось. Сюжет не отличался замысловатостью — любовь на заправочной станции Фобоса. Лэсти не был занят в пьесе — по ходу действия он комментировал ее своими шутками.
А шутки сегодня были что надо — смеялся даже режиссер передачи. То есть, конечно, не смеялся — об этом не могло быть и речи, — но иногда на его лице появлялась улыбка. А уж если улыбается режиссер, то зрители во всем Западном полушарии животы со смеху надрывают. Эта истина столь же непреложна, как и тот факт, что третий вице-президент теледара вечно становится жертвой самых гнусных розыгрышей — явление, хорошо известное всем социологам как «эффект Сбросьпарсона».
Время от времени Лэсти поглядывал на робота. Его беспокоило, что это создание вертит своей железной башкой по сторонам. В какой-то момент робот даже повернулся спиной и сквозь прозрачную дверь принялся рассматривать пульт режиссерской будочки. На случай, если понадобится экспромт, Лэсти заранее сдвинул зеленую заслонку.
Экспромт понадобился совершенно неожиданно. Вторая инженю вдруг запуталась в монологе, начинавшемся словами: «И вот когда Гарольд рассказал мне, что он приехал на Марс, потому что ему опротивела милитаристская и бюрократическая государственная система…», перешла на скороговорку, несколько раз пробормотала: «И тут я ему сказала… да, я ему так и сказала… не могла ему не сказать…», запнулась и принялась судорожно кусать губы, вспоминая забытую реплику.
В контрольной будочке пальцы режиссера бесшумно пробежали по клавиатуре, и выпавшая строчка вспыхнула на экране под потолком. В студии воцарилась мертвая тишина. Все с надеждой ожидали, что Лэсти своим экспромтом заполнит убийственную паузу.
Лэсти обернулся к роботу. Какое счастье! Тот стоит к нему лицом. Прекрасно! Теперь вопрос, сработает ли мезонный фильтр.
На лбу Руперта появилась надпись. По мере того как слова проплывали но экрану, Лэсти произносил их вслух:
— Послушай, Барбара, а знаешь, что случится, если ты будешь плохо кормить своего Гарольда?
— Нет, не знаю, — ответила актриса, добросовестно подыгрывая Лэсти и пытаясь одновременно затвердить забытую строчку. — Что те тогда случится?
Из угла донесся громовой голос Руперта:
— Он решит, что у тебя котелок не варит!
Гоготала студия. Гоготал Руперт. Только у него это звучало так, словно он разваливался на части. По всему Западному полушарию зрители бросились к гудящим, скрежещущим и лязгающим теледарам, пытаясь обуздать закусившую удила электронику.
Даже Лэсти расхохотался. Превосходно! Куда тоньше, чем тот хлам, которым пичкали его Грин с Андерсеном, но и с тем грубоватым привкусом старого фермерского остроумия, на котором замешана настоящая клоунада. Этот робот просто клад…
Стоп! А ведь Руперт не подсказал ему реплику — он сам ее произнес. Зрителей рассмешил вовсе не клоун Лэсти — они смеются над Рупертом, хотя и не видят его на экране. Что же это творится?..
Наконец пьеска кончилась, и камеры переключились на Джозефину Лисси и ее оркестр.
Лэсти воспользовался коротким перерывом, чтобы свести счеты с Рупертом. Он повелительным жестом указал роботу на пультовую.
— Убирайся туда, чучело огородное, и не смей носа высовывать, пока не кончится передача! Приберегаешь свои шуточки для себя, мерзкая железяка? Кусаешь руку, которая тебя смазывает? Ну, погоди у меня!
Руперт отшатнулся, чуть не раздавив бутафора.
— Бишьбинг? — вопросительно прозвенел он. — Бим-бам-бом?
— Я тебе пошучу, — зарычал Лэсти. — А ну, марш в будку, и чтобы духу твоего здесь не было!
Волоча ноги и оставляя глубокие вмятины на пластиковом полу, Руперт поплелся на свой остров св. Елены.
Передача продолжалась. В редкие свободные мгновения Лэсти видел, как робот, уныло втянув голову в плечи и утратив всякое сходство с элегантной обтекаемой моделью 2207, стоит возле техников за контрольными пультами. Судорожно дергаясь, он принялся расхаживать по тесному помещению пультовой. Время от времени он делал попытку к примирению, зажигая на своем экранчике надписи вроде: «Какая разница между гипертоником и гиперпространством?» или «Что такое облысение? Замена причесывания умыванием». Но Лэсти напрочь игнорировал эти жалкие потуги.
Пошла вторая рекламная вставка.
— Задумывались ли вы, — масляным голосом осведомился диктор, — почему во всем космосе только «Звездочет» — звезда первой величины? Беспристрастными исследованиями установлено, что наши славные герои, улетая к звездам, всегда берут с собой… Ой, что это?
Руперт выпихнул из будки одного за другим трех негодующих техников и захлопнул за ними дверь. Затем он принялся нажимать кнопки и крутить ручки.
— Робот взбесился! Он выкинул нас за дверь!
— Послушайте, он псих! Вдруг он переключит камеры на пультовую? Это же совсем просто. Не приведи бог, если это говорящий робот!
— Он выходит в эфир! Он умеет разговаривать?
— Умеет ли он разговаривать?! — простонал Лэсти. — Вышибите его оттуда поскорее!
— Вышибить его? Интересно, как? — желчно рассмеялся инженер. — Он ведь запер дверь. А вы знаете, из какого материала сделаны стены и двери пультовой? Он сможет сидеть там, пока СУПЭР не отключит подачу энергии. А для этого…
— Задумывались ли вы, почему эти сигареты называют «Звездочетами?» — прокатился по студии грохочущий голос Руперта, и почти одновременно его услышали миллионы зрителей. — Одна затяжка — и звезды сыплются из глаз! Динг-дунгл-дангл-донгл! Да, сэр! Звезды всех цветов и оттенков, и даже не пытайтесь их сосчитать Бим-бам! Вторая затяжка — это вспышка Новой! Гр-рам-гр-румм! Сто ароматов, и все липовые! Бинг! Банг!..
Стены пультовой дрожали от могучего хохота, скрежета. Но дрожали не только стены.
Джози утешала комика как могла.
— Милый, не может же он выступать вечно! Скоро он иссякнет!
— Как бы не так — при его-то запасе шуток! Да еще этот… вариационный преобразователь, и еще мезонный фильтр. Нет, Джози, мне крышка! Пропала моя карьера — меня теперь и близко к камерам не подпустят. А я больше ничего не умею. На что я буду жить? Джози, Джози, конченый я человек.
В конце концов инженерам удалось отключить энергопитание во всем Теледар-Сити. Прекратились передачи всех программ теледара, пропала связь с космосом, умолкли радиофоны. Скоростные лифты застряли между этажами. В правительственных кабинетах погас свет. Только тогда при помощи дистанционной контрольной установки смогли открыть дверь пультовой и вытащить бессильно обмякшего робота.
Когда иссякла энергия, иссяк и он.
Итак, Лэсти женился на Джози. Но счастлив он не был. Ему запретили появляться на теледаре до конца его дней.
Впрочем, он не умер с голоду. Иногда он даже жалел об этом. Погубившая его передача прославила Руперта. В тысячах писем телезрители требовали еще раз показать гадкого робота, осмелившегося поднять на смех рекламодателей. «Звездочет» утроил продажу. А в конечном итоге только это имеет значение…
Развеселый-робот Руперт («самая развинченная машина из всех, у которых в голове винтика не хватает») регулярно появляется на экране. Лэсти подписывает контракты. Быть менеджером у робота нелегко. Жить с ним бок о бок — еще труднее, но этого требует Закон о роботах. Расстаться с ним Лэсти не в силах — кому охота лишиться верного куска хлеба с маслом? Он даже не может никого нанять для присмотра за роботом — то есть никого в здравом рассудке. Лэсти приходится несладко. С Рупертом жить — не шутки шутить.
Раз в неделю он навещает Джози и ребятишек. У него осунувшийся и изможденный вид. С каждым днем розыгрыши Руперта становятся все изощреннее.
Последнее время Руперт так навострился, что Лэсти прозвали на теледаре по-новому: «Лэсти — дурные вести». Или «Лэсти — поплачем вместе». А то и просто: «Ой-ой!»
Уильям Тенн
Открытие Морниела Метауэя
Всех удивляет, как переменился Морниел Метауэй с тех пор, как его открыли, — всех, но не меня. Его помнят на Гринвич-Виллидж — художник-дилетант, немытый, бездарный; едва ли не каждую свою вторую фразу он начинал с «я» и едва ли не каждую третью кончал местоимением «меня» либо «мне». Из него ключом била наглая и в то же время трусливая самонадеянность, свойственная тем, кто в глубине души подозревает, что он второсортен, если не что-нибудь похуже. Получасового разговора с ним было довольно, чтоб у вас в голове гудело от его хвастливых выкриков.
Я-то превосходно понимаю, откуда взялось все это — и тихое, очень спокойное признание своей бездарности, и внезапный всесокрушающий успех. Да что там говорить — при мне его и открыли, хотя вряд ли это можно назвать открытием. Не знаю даже, как это можно назвать, принимая во внимание полную невероятность — да, вот именно невероятность, а не просто невозможность того, что произошло. Одно только мне ясно: всякая попытка найти какую-то логику в случившемся вызывает у меня колики в животе, а череп пополам раскалывается от головной боли.
В тот день мы как раз толковали о том, как Морниел будет открыт. Я сидел в его маленькой нетопленой студии на Бликер-стрит, осторожно балансируя на единственном деревянном стуле, ибо был слишком искушен, чтобы садиться в кресло.
Собственно, Морниел и оплачивал студию с помощью этого кресла. Оно представляло собой грязную мешанину из клочьев обивки, впереди было высоким, а в глубине — очень низким. Когда вы садились, содержимое ваших карманов — мелочь, ключи, кошелек — начинало выскальзывать, проваливаясь в чащу ржавых пружин и на прогнившие половицы.
Как только в студии появлялся новичок, Морниел поднимал страшный шум насчет того, что усадит его в потрясающе удобное кресло. И пока бедняга болезненно корчился, норовя устроиться среди торчащих пружин, глаза хозяина разгорались и его охватывало неподдельное веселье. Ибо чем энергичнее ерзал посетитель, тем больше вываливалось из его карманов. Когда прием заканчивался, Морниел отодвигал кресло и принимался считать доходы, подобно тому как владелец магазина вечером после распродажи проверяет наличность в кассах.
Деревянный стул был неудобен своей неустойчивостью, и, сидя на нем, приходилось быть начеку. Морниелу же ничто не угрожало — он всегда сидел на кровати.
— Не могу дождаться, — говорил он в тот раз, — когда наконец мои работы увидит какой-нибудь торговец картинами или критик хоть с каплей мозга в голове. Я свое возьму. Я слишком талантлив, Дэйв. Порой меня даже пугает, до чего я талантлив — чересчур много таланта для одного человека.
— Гм, — начал я. — Но ведь часто бывает…
— Я ведь не хочу сказать, что для меня слишком много таланта. — Он испугался, как бы я не понял его превратно. — Слава богу, сам я достаточно велик, у меня большая душа. Но любого другого человека меньшего масштаба сломило бы такое всеохватывающее восприятие, такое проникновение в духовное начало вещей, в самый их, я бы сказал, Gestalt.[7] У другого разум был бы просто раздавлен таким бременем. Но не у меня, Дэйв, не у меня.
— Рад это слышать, — сказал я. — Но если ты не возра…
— Знаешь, о чем я думал сегодня утром?
— Нет. Но по правде говоря…
— Я думал о Пикассо, Дэйв. О Пикассо и Руо. Я вышел прогуляться по рынку, позаимствовать что-нибудь на лотках для завтрака — ты ведь знаешь принцип старины Морниела: ловкость рук и никакого мошенства — и начал размышлять о положении современной живописи. Я о нем частенько размышляю, Дэйв. Оно меня тревожит.
— Вот как, — сказал я. — Видишь ли, мне кажется…
— Я спустился по Бликер-стрит, потом свернул на Вашингтон-сквер-парк и все раздумывал на ходу. Кто, собственно, сделал сейчас что-нибудь значительное в живописи, кто по-настоящему и бесспорно велик?.. Понимаешь, я могу назвать только три имени: Пикассо, Руо и я. Больше ничего оригинального, ничего такого, о чем стоило бы говорить. Только трое при том несметном количестве народу, что сегодня во всем мире занимается живописью. Три имени! От этого чувствуешь себя таким одиноким!
— Да, пожалуй, — согласился я. — Но все же…
— А потом я задался вопросом: почему это так? В том ли дело, что абсолютный гений вообще очень редко встречается и для каждого периода есть определенный статистический лимит на гениальность, или тут другая причина, что-то характерное именно для нашего времени? И отчего открытие моего таланта, уже назревшее, так задерживается? Я ломал над этим голову, Дэйв. Я обдумывал это со всей скромностью, тщательно, потому что это немаловажная проблема. И вот к какому выводу я пришел.
Тут я сдался. Откинулся на спинку стула — не забываясь, конечно, — и позволил Морниелу излить на меня свою эстетическую теорию. Теорию, которую я во крайней мере двадцать раз слышал раньше от двадцати других художников из Гринвич-Виллидж. Единственно, в чем расходились все авторы, был вопрос, кого надо считать вершиной и наиболее совершенным живым воплощением данных эстетических принципов. Морниел (чему вы, пожалуй, не удивитесь) ощущал, что как раз его.
Он приехал в Нью-Йорк из Питтсбурга (штат Пенсильвания), рослый, неуклюжий юнец, который не любил бриться и полагал, будто может писать картины. В те дни Морниел восхищался Гогеном и старался ему подражать. Он был способен часами разглагольствовать о мистической простоте народного искусства. Его произношение звучало как подделка под бруклинское, которое так любят киношники, но на самом деле было чисто питтсбургским.
Морниел быстро распрощался с Гогеном, как только взял несколько уроков в Лиге любителей искусства и впервые отрастил спутанную белокурую бороду. Недавно он выработал собственную технику письма, которую назвал «грязное на грязном».
Морниел был бездарен — в этом можно не сомневаться. Тут я высказываю не только свое мнение — ведь я делил комнату с двумя художниками-модернистами и целый год был женат на художнице, — но и мнение понимающих людей, которые, не имея ровным счетом никаких причин относиться к Морниелу с предубеждением, внимательно смотрели его работы.
Один из этих людей, критик и отличный знаток современной живописи, несколько минут с отвисшей челюстью созерцал произведение Морниела (автор навязал мне его в подарок и, несмотря на мои протесты, собственноручно повесил над камином), а потом сказал: «Дело не в том, что ему абсолютно нечего сказать графически. Он даже не ставит перед собой того, что можно было бы назвать живописной задачей. Белое на белом, „грязное на грязном“, антиобъективизм, неоабстракционизм — называйте как угодно, но здесь нет ничего. Просто один из тех крикливых, озлобленных дилетантов, которыми кишит Виллидж».
Спрашивается, зачем же я тогда вообще знался с Морниелом?
Ну, прежде всего, он жил под боком и потом был в нем какой-то своеобразный худосочный колорит. И когда я просиживал ночи напролет, стараясь выдавить из себя стихотворение, а оно никак не выдавливалось, на душе становилось легче при мысли, что можно заглянуть к нему в студию и отвлечься разговором о предметах, не имеющих отношения к литературе.
Тут, правда, был один минус, о котором я постоянно забывал, — у нас всегда получался не разговор, а лишь монолог, куда я едва умудрялся время от времени вставлять краткие реплики. Видите ли, разница между нами состояла в том, что меня все же печатали — пусть хоть в жалких экспериментальных журнальчиках с плохим шрифтом, где гонораром была годовая подписка. Он же нигде никогда не выставлялся, ни разу.
Была и еще одна причина, из-за которой я поддерживал с ним отношения. Одним талантом Морниел действительно обладал.
Если говорить о средствах к существованию, то я едва свожу концы с концами. О хорошей бумаге и дорогих книгах могу только мечтать, ибо они для меня недоступны. Но когда уж очень захочется чего-нибудь — например, нового собрания сочинений Уоллеса Стивенса,[8] - я двигаю к Морниелу и сообщаю об этом ему. Мы отправляемся в книжный магазин, входим поодиночке. Я завожу разговор о каком-нибудь роскошном издании, которого сейчас нет в продаже и которое я будто бы собираюсь заказать, и, как только мне удастся полностью завладеть вниманием хозяина, Морниел слизывает Стивенса, — само собой разумеется, я клянусь себе, что заплачу сразу, как только поправятся мои обстоятельства.
В таких делах Морниел бесподобен. Ни разу не случилось, чтобы его заподозрили, не говоря уж о том, чтоб поймали с поличным. Естественно, я должен рассчитываться за эти услуги, проделывая то же самое в магазине художественных принадлежностей, чтобы Морниел мог пополнять запасы холста, красок и кистей, но в конечном счете игра стоит свеч. Чего она, правда, не стоит, так это гнетущей скуки, которую я терплю при его рассуждениях, и моих угрызений совести по поводу того, что он-то вовсе и не собирается платить за приобретенные товары. Утешаю себя тем, что сам расплачусь при первой же возможности.
— Вряд ли я настолько уникален, каким себе кажусь, — говорил он в тот день. — Конечно, рождаются и другие с не меньшим потенциальным талантом, чем у меня, но этот талант губят, прежде чем он успеет достигнуть творческой зрелости. Почему? Каким образом?.. Тут следует проанализировать роль, которую общество…
В тот миг, когда он дошел до слова «общество», я и увидел впервые эту штуку. Какое-то пурпурное колыхание возникло передо мной на стене, странные мерцающие очертания ящика со странными мерцающими очертаниями человеческой фигуры внутри. Все это было в пяти футах над полом и напоминало разноцветные тепловые волны. Видение тотчас же исчезло.
Но погода была слишком холодной для тепловых волн, а что до оптических иллюзий — я им не подвержен. Возможно, решил я, при мне зарождается новая трещина в стене. По-настоящему помещение не предназначалось для студии, это была обычная квартира без горячей воды и со сквозняками, но кто-то из прежних жильцов разрушил все перегородки и сделал одну длинную комнату. Квартира находилась на верхнем этаже, крыша протекала, и стены были украшены толстыми волнистыми линиями в память о тех потоках, что струились по ним во время дождя.
Но отчего пурпурный цвет? И почему очертания человека внутри ящика? Пожалуй, довольно-таки замысловато для простой трещины. И куда все это делось?
— …в вечном конфликте с индивидуумом, который стремится выразить свою индивидуальность, — закончил мысль Морниел. — Не говоря уж о том…
Послышалась музыкальная фраза — высокие звуки один за другим, почти без перерывов. И затем посреди комнаты — на сей раз футах в двух над полом — опять появились пурпурные линии, такие же трепещущие, светящиеся, а внутри — снова очертания человека.
Морниел скинул ноги с кровати и уставился на это чудо.
— Что за…
Видение опять исчезло.
— Что т-тут происходит? — запинаясь, выдавил он из себя. — Что т-такое?
— Не знаю, — отозвался я. — Но, что бы это ни было, оно постепенно влезает к нам.
Еще раз высокие звуки. Посреди комнаты на полу появился пурпурный ящик. Он делался все темнее, темнее и материальнее. Звуки становились все более высокими, они слабели и наконец, когда ящик стал непрозрачным, умолкли совсем.
Дверца ящика открылась. Оттуда шагнул в комнату человек; одежда у него вся была как бы в завитушках.
Он посмотрел сначала на меня, затем на Морниела.
— Морниел Метауэй? — осведомился он.
— Д-да, — сказал Морниел, пятясь к холодильнику.
— Мистер Метауэй, — сказал человек из ящика. — Меня зовут Глеску. Я принес вам привет из 2487 года нашей эры.
Никто из нас не нашелся, что на это ответить. Я поднялся со стула и стал рядом с Морниелом, смутно ощущая необходимость быть поближе к чему-нибудь хорошо знакомому.
Некоторое время все сохраняли исходную позицию. Немая сцена.
2487-й, подумал я. Нашей эры. Ни разу не приходилось мне видеть никого в такой одежде. Более того, я никогда и не воображал никого в такой одежде, хотя, разыгравшись, моя фантазия способна на самые дикие взлеты. Одеяние не было прозрачным, но и не то чтоб вовсе светонепроницаемым. Переливчатое — вот подходящий термин. Различные цвета и оттенки неутомимо гонялись друг за другом вокруг завитушек. Здесь, видимо, предполагалась некая гармония, но не такого сорта, чтоб мой глаз мог уловить ее и опознать.
Сам прибывший, мистер Глеску, был примерно одного роста со мною и Морниелом и выглядел только чуть постарше нас. Но что-то в нем ощущалось такое — даже не знаю, назовите это породой, если угодно, подлинным внутренним величием и благородством, которые посрамили бы даже герцога Веллингтонского. Цивилизованность, может быть. То был самый цивилизованный человек из всех, с кем мне до сих пор доводилось встречаться.
Он шагнул вперед.
— Думаю, — произнес он удивительно звучным, богатым обертонами голосом, — что нам следует прибегнуть к свойственной двадцатому столетию церемонии пожатия рук.
Так мы и сделали — осуществили свойственную двадцатому столетию церемонию пожатия рук. Сначала Морниел, потом я, и оба очень робко. Мистер Глеску проделал это с неуклюжестью фермера из Айовы, который впервые в жизни ест китайскими палочками.
Церемония окончилась, гость стоял и широко улыбался нам. Или, вернее, Морниелу.
— Какая минута, не правда ли? — сказал он. — Какая историческая минута!
Морниел испустил глубокий вздох, и я почувствовал, что долгие годы, в течение которых ему то и дело приходилось неожиданно сталкиваться на лестнице с судебными исполнителями, требующими уплаты долгов, не пропали даром. Он быстро приходил в себя, его мозг включался в работу.
— Как вас понимать, когда вы говорите «историческая минута»? — спросил он. — Что в ней такого особенного? Вы что — изобретатель машины времени?
— Я? Изобретатель? — мистер Глеску усмехнулся. — О нет, ни в коем случае. Путешествие по времени было изобретено Антуанеттой Ингеборг в… после вашей эпохи. Вряд ли стоит сейчас говорить об этом, поскольку в моем распоряжении всего полчаса.
— А почему полчаса? — спросил я. Не оттого, что меня это так уж интересовало, а просто вопрос показался уместным.
— Скиндром рассчитан только на этот срок. Скиндром — это… В общем, это устройство, позволяющее мне появляться в вашем периоде. Расход энергии так велик, что путешествия в прошлое осуществляются лишь раз в пятьдесят лет. Правом на проезд награждают, как Гобелем… Надеюсь, я правильно выразился? Гобель, да? Премия, которую присуждали в ваше время.
Меня вдруг осенило.
— Нобель! Может быть, вы говорите о Нобеле? Нобелевская премия!
Он просиял.
— Вот-вот. Таким путешествием награждают выдающихся исследователей-гуманитариев — что-то вроде Нобелевской премии. Единожды в пятьдесят лет человек, которого Совет хранителей избирает как наиболее достойного… В таком духе. До сих пор, конечно, эту возможность всегда предоставляли историкам, и они разменивали ее на осаду Трои, первый атомный взрыв в Лос-Аламосе, открытие Америки и тому подобное. Но на сей раз…
— Понятно, — прервал его Морниел дрогнувшим голосом. (Мы оба вдруг сообразили, что мистер Глеску знает имя Морниела.) — А что же исследуете вы?
Мистер Глеску слегка поклонился.
— Искусство. Моя профессия — история искусства, а узкая специальность…
— Какая? — голос Морниела уже не дрожал, а, наоборот, стал пронзительно громким. — Какая же у вас узкая специальность?
Мистер Глеску опять слегка наклонил голову.
— Вы, мистер Метауэй. Без страха услышать опровержение смею сказать, что в наше время из всех здравствующих специалистов я считаюсь наиболее крупным авторитетом по творчеству Морниела Метауэя. Моя узкая специальность — это вы.
Морниел побелел. Он медленно добрел до кровати и рухнул на нее, ноги у него стали будто ватные. Несколько раз он открывал и закрывал рот, не в силах выдавить из себя ни единого звука. Зятем глотнул, сжал кулаки и обрел контроль над собой.
— Хотите сказать, — прохрипел он, — что я знаменит? Насколько знаменит?
— Знамениты?.. Вы, дорогой сэр, выше славы. Вы один из бессмертных, гордость человечества. Как я выразился — смею думать, исчерпывающе — в своей последней книге «Морниел Метауэй — человек, сформировавший будущее»: «…сколь редко выпадает на долю отдельной личности…»
— До такой степени знаменит? — борода Морниела дрожала, словно губы ребенка, который вот-вот заплачет. — До такой?
— Именно, — заверил его мистер Глеску. — А кто же, собственно, тот гений, с которого во всей славе только и начинается современная живопись? Чьи композиции и цветовая гамма доминируют в архитектуре последних пяти столетий, кому мы обязаны обликом наших городов, убранством наших жилищ и даже одеждой, которую носим?
— Мне? — осведомился Морниел слабым голосом.
— Кому же еще. История не знала творца, чье влияние распространилось бы на столь широкую область и действовало бы в течение столь долгого времени. С кем же я могу сравнить вас, сэр, в таком случае? Кого из художников поставить рядом?
— Может быть, Рембрандта, — намекнул Морниел. Чувствовалось, что он старается помочь. — Леонардо да Винчи?
Мистер Глеску презрительно усмехнулся.
— Рембрандт и да Винчи в одном ряду с вами? Нелепо! Разве могут они похвастать вашей универсальностью, вашим космическим размахом, чувством всеобъемлемости? Уж если искать равного, то надо выйти за пределы живописи и обратиться, пожалуй, к литературе. Возможно, Шекспир с его широтой, с органными нотами лирической поэзии, с огромным влиянием на позднейший английский язык мог бы… Впрочем, что Шекспир? — Он грустно покачал головой. — Боюсь, даже и Шекспир…
— О-о-о! — простонал Морниел Метауэй.
— Кстати, о Шекспире, — сказал я, воспользовавшись случаем. — Не приходилось ли вам слышать о поэте Давиде Данцигере? Многие ли из его трудов дошли до вашего времени?
— Это вы?
— Да, — с энтузиазмом подтвердил я. — Давид Данцигер — это я.
Мистер Глеску наморщил лоб, раздумывая.
— Что-то не припоминаю… Какая школа?
— Тут несколько названий. Самое употребительное — антиимажинисты. Антиимажинисты, или постимажинисты.
— Нет, — сказал он после недолгого размышления. — Единственный известный мне поэт вашего времени и вашей части света — Питер Тедд.
— Питер Тедд? Слыхом не слыхал о таком.
— Значит, его пока еще не открыли. Но прошу вас не забывать, что моя область — история живописи. Не литература. Вполне вероятно, назови вы свое имя специалисту по второстепенным поэтам двадцатого века, он вспомнил бы вас без особого напряжения. Вполне вероятно.
Я глянул в сторону кровати, и Морниел осклабился. Теперь он полностью пришел в себя и наслаждался ситуацией. Каждой порой тела впитывал разницу между своим положением и моим. Я чувствовал, что ненавижу в нем все, от головы до пят. Отчего, действительно, фортуна решила улыбнуться именно такому типу, как Морниел? На свете столько художников, которые к тому же вполне порядочные люди, и надо же, чтобы это хвастливое ничтожество…
И вместе с тем какой-то участок моего мозга лихорадочно работал. Случившееся как раз доказывало, что лишь в исторической перспективе можно точно оценить роль того или иного явления искусства. Вспомните хотя бы тех, кто были шишками в свое время, а теперь совершенно забыты — какие-нибудь современники Бетховена, например, при жизни считались куда более крупными фигурами, чем он, а сейчас их имена известны только музыковедам. Но тем не менее…
Мистер Глеску бросил взгляд на указательный палец своей правой руки, где беспрестанно сжималось и расширялось черное пятнышко.
— Мое время истекает, — сказал он. — И хотя для меня это огромное, невыразимое счастье, мистер Морниел, стоять вот так и просто смотреть на вас, я осмелюсь обратиться с маленькой просьбой.
— Конечно, — сказал Морниел, поднимаясь с постели. — Скажите только, что вам нужно. Чего бы вы хотели?
Мистер Глеску вздохнул, как если б он достиг наконец врат рая и намеревался теперь постучаться.
— Я подумал, — если вы не возражаете, — нельзя ли мне посмотреть ту вещь, над которой вы сейчас работаете? Понимаете, увидеть картину Метауэя, еще незаконченную, с непросохшими красками… — Он закрыл глаза, как бы не веря, что такое желание может осуществиться.
Морниел сделал изысканный жест и гоголем зашагал к своему мольберту. Он приподнял материю.
— Я намерен назвать это, — голос его был маслянист; как нефтеносные слои в Техасе, — «Бесформенные формы N29».
Медленно предвкушая наслаждение, мистер Глеску открыл глаза и весь подался вперед.
— Но, — произнес он после долгого молчания, — это ведь не ваша работа, мистер Метауэй.
Морниел обернулся к нему, несколько удивленный, затем воззрился на полотно.
— Почему? Это именно моя работа. «Бесформенные формы N29». Разве вы ее не узнаете?
— Нет, — отрезал мистер Глеску. — Не узнаю и очень благодарен за это судьбе. Нельзя ли что-нибудь более позднее?
— Это самая поздняя, — сказал Морниел несколько неуверенно. — Все остальное написано раньше. — Он вытащил из стеллажа подрамник. — Ну хорошо, а вот такая? Как она вам покажется? Называется «Бесформенные формы N22». Бесспорно, лучшая вещь из раннего меня.
Мистер Глеску содрогнулся.
— Впечатление такое, будто счистки с палитры положили поверх таких же счисток.
— Точно. Это моя техника — «грязное на грязном». Но вы, пожалуй, все это знаете, раз уж вы такой специалист по мне. А вот «Бесформенные формы N…»
— Давайте оставим эту бесформенность, мистер Метауэй, — взмолился Глеску. — Хотелось бы посмотреть вас в цвете. В цвете и форме.
Морниел почесал в затылке.
— Довольно давно не делал ничего в полном колорите… Хотя… постойте… — Его физиономия просияла, он полез за стеллаж и вынул оттуда холст со старым подрамником. — Одна из немногих вещей, сохранившихся от розово-крапчатого периода.
— Не могу представить себе тот путь… — начал было мистер Глеску, обращаясь скорее к себе самому, чем к нам. — Конечно, это не… — Он умолк и недоуменно пожал плечами, подняв их чуть ли не до ушей, — жест, знакомый всякому, кто видел художественного критика за работой. После такого жеста слова не нужны. Если вы живописец, чью работу сейчас смотрят, вам все сразу становится ясно.
К этому времени Морниел уже лихорадочно вытаскивал из-за стеллажа картину за картиной. Он показывая каждую мистеру Глеску — у того в горле булькало, как у человека, старающегося подавить рвоту, — и хватался за другую.
— Ничего не понимаю, — сказал Глеску, глядя на пол, заваленный полотнами. — Бесспорно, все это написано до того, как вы открыли себя и нашли собственную оригинальную технику. Но я ищу следа, хотя бы намека на гений, который готовится войти в мир. И… — он ошеломленно покачал головой.
— А что вы скажете насчет вот этой? — Морниел уже тяжело дышал.
— Уберите, — мистер Глеску оттолкнул картину обеими руками. Он снова взглянул на свой указательный палец, и я заметил, что черное пятно стало сжиматься и расширяться медленнее. — Остается мало времени, и я в полном недоумении. Джентльмены, разрешите вам кое-что показать.
Он вошел в пурпурный ящик, вышел оттуда с книгой в руках и поманил нас. Мы с Морниелом встали за его спиной, глядя ему через плечо. Странички книги чуть слышно звякали, когда он их переворачивал, и они были сделаны не из бумаги, уж это точно.
А на титульном листе…
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ КАРТИН МОРНИЕЛА МЕТАУЭЯ. 1928 — 1996.
— Ты родился в двадцать восьмом? — спросил я.
Морниел кивнул.
— Двадцать третьего мая двадцать восьмого года.
И погрузился в молчание. Понятно было, о чем он думает, и я сделал быстрый расчет. Шестьдесят восемь лет. Не каждому дано точно знать, сколько еще осталось у него впереди. Но шестьдесят восемь — не так уж плохо.
Мистер Глеску открыл книгу там, где начинались репродукции.
Даже и сейчас, когда я вспоминаю свое впечатление от той первой вещи, коленки у меня слабеют и подгибаются. Это была абстракция в буйных красках, но такая, какой я никогда раньше себе и не представлял. Весь наш современный абстракционизм в сравнении с ней выглядел ученичеством на уровне детского сада.
Всякий человек, который не был лишен зрения, восхитился бы таким шедевром, даже если до сих пор он воспринимал одну лишь предметную живопись. Вещь восхищала даже в том случае, если вам вообще было плевать на живопись любого направления.
Не хочется показаться плаксой, но у меня действительно слезы навернулись на глаза. Каждый, у кого есть хоть малейшая тяга к прекрасному, реагировал бы точно так же.
Но не Морниел.
— Ах, в этом духе, — сказал он с облегчением, как человек, который понял в конце концов, чего от него требуют. — Но почему же вы сразу не сказали, что вам нужно именно в этом духе?
Мистер Глеску схватился за рукав его грязной рубашки.
— Вы хотите сказать, у вас есть и такие полотна?
— Не полотна, а полотно. Единственное. Написал на прошлой неделе в порядке эксперимента, но меня это не удовлетворило, и я отдал вещь одной девице внизу. Желаете взглянуть?
— О да! Очень.
— Прекрасно, — сказал Морниел. — Он потянулся за книгой, взял ее из рук Глеску и самым непринужденным жестом бросил на кровать. — Пошли. Это у нас займет всего минуту или две.
Непривычная растерянность обуяла меня, пока мы спускались по лестнице. В одном только я был убежден так же твердо, как в том, что Джеффри Чосер жил раньше Алджернона Суинберна, — ни одна вещь, которую написал или способен написать в будущем Морниел, не приблизится к репродукциям книги даже на миллион эстетических миль. И я знал, что он, несмотря на свое всегдашнее хвастовство и неисчерпаемую самонадеянность, тоже это понимает.
Двумя этажами ниже Морниел остановился перед дверью и постучал. Никакого ответа. Подождал две секунды и постучался еще раз. Опять ничего.
— Черт побери! Нет дома. А мне так хотелось показать вам эту вещь!
— Мне нужно ее увидеть, — очень серьезно сказал мистер Глеску. — Мне нужно увидеть хоть что-нибудь похожее на вашу зрелую работу. Но мое время подходит к концу, и…
— Знаете что? — Морниел щелкнул пальцами. — У Аниты там кошки, она просила подкармливать их их в свое отсутствие и оставила мне ключ от квартиры… Если я сбегаю наверх и принесу?
— Превосходно, — радостно отозвался Глеску, глянув на свой палец. — Только, будьте добры, поскорее.
— Молниеносно. — Но затем, поворачиваясь к лестнице, Морниел перехватил мой взгляд и подал знак — тот, которым мы пользовались, совершая наши «покупки». Это означало: «Заговори ему зубы. Постарайся его заинтересовать».
Тут-то я и сообразил — книга! Слишком много раз я видел, как действует Морниел, и не мог не догадаться, что небрежный жест, каким он бросил книгу на кровать, таил в себе все, что угодно, кроме небрежности. Морниел просто положил книгу так, чтоб при желании можно было сразу ее взять. Теперь он кинулся наверх прятать книгу, а когда время мистера Глеску истечет, ее просто не удастся найти.
Ловко! Чертовски ловко, я бы сказал. А потом Морниел Метауэй возьмется создавать произведения Морниела Метауэя. Только он не будет их создавать.
Он их скопирует.
Между тем поданный знак заставил меня открыть рот и автоматически начать болтовню.
— А сами вы рисуете, мистер Глеску? — это было хорошее начало.
— О нет! Конечно, мальчишкой я собирался стать художником — по-моему, с этого начинает каждый искусствовед — и даже собственноручно испачкал несколько холстов. Но они были очень плохи, просто ужасны. Потом я понял, что писать о картинах много легче, чем создавать их. А когда взялся за чтение книг о жизни Морниела Метауэя, мне стало ясно, в чем мое призвание. Понимаете, я не только очень хорошо чувствовал суть его творчества, но и сам он всегда казался мне человеком, которого я мог бы понять и полюбить… Вот это меня тоже озадачивает сейчас. Он совсем… ну совсем не таков, каким мне представлялся.
— Уж это точно, — кивнул я.
— Естественно, историческая перспектива обладает способностью как-то возвеличивать, окружать ореолом романтики каждую выдающуюся личность. Признаться, в характере мистера Морниела я уже вижу черты, над которыми облагораживающему влиянию столетий придется как следует пора… Впрочем, не стану продолжать, мистер Данцигер. Вы его друг.
— Почти единственный в целом мире, — сказал я. — У него их не так уж много.
При всем том мысль моя работала, стараясь охватить происходящее. Однако чем глубже я вникал в ситуацию, тем больше в ней запутывался. Сплошные парадоксы. Каким образом Морниел Метауэй через пять веков прославится благодаря картинам, если сам впервые в жизни увидел их в книге, изданной через пять веков? Кто написал эти картины — Морниел Метауэй?.. Так говорится в книге, и, поскольку томик теперь у него, он действительно это сделает. Но он будет просто копировать. А кому же тогда принадлежат оригиналы?
Мистер Глеску озабоченно посмотрел на свой палец.
— Времени практически уже нет.
Он бросился вверх по лестнице, и я за ним. Мы ворвались в студию, и я приготовился скандалить насчет книги — без особого удовольствия, потому что Глеску мне нравился.
Книга исчезла, кровать была пуста. И еще кой-чего не хватало в комнате — машины времени и Морниела Метауэя.
— Он уехал! — задохнувшись, воскликнул мистер Глеску. — И оставил меня здесь! Видимо, прикинул, что если войти в ящик и захлопнуть за собой дверь, машина сама вернется в нашу эпоху!
— Прикидывать-то он мастер, — сказал я с горечью. Насчет такого я не уговаривался и в таком предприятии не стал бы участвовать. — Пожалуй, он уже прикинул и насчет правдоподобной истории, чтоб объяснить людям вашего времени, как это все получилось. Да и в самом деле, зачем ему из кожи вон лезть в двадцатом веке, когда он может быть признанной, боготворимой знаменитостью в двадцать пятом?
— Но что будет, если они попросят его написать хотя бы одну картину?
— Он скажет, что труд его жизни окончен и он не чувствует себя в силах добавить к этому что-нибудь значительное. Не сомневаюсь, кончится тем, что он еще будет читать лекции о самом себе. Можете за него не беспокоиться, он не пропадет. Меня вот тревожит, что вы здесь увязли. Можно ли надеяться на спасательный отряд?
Мистер Глеску с убитым видом покачал головой.
— Каждый лауреат дает подписку, что он сам несет ответственность в том случае, если возвращение невозможно. Машину запускают раз в пятьдесят лет, а к тому времени какой-нибудь другой ученый будет требовать права посмотреть разрушение Бастилии, присутствовать при рождении Гаутамы Будды и чего-нибудь в таком роде. Я тут действительно увяз, как вы выразились. Скажите, это очень худо — жить в вашем времени?
Чувствуя себя виноватым, я хлопнул его по плечу.
— Ну, не так уж и худо! Конечно, надо иметь удостоверение личности, — не представляю, как вы будете его получать в таком возрасте. И возможно — конечно, нельзя сказать наверняка — ФБР либо Иммигрантское управление вызовут вас на допрос, поскольку вы все-таки что-то вроде иностранца, проникшего сюда нелегально.
Лицо его перекосилось.
— Боже мой! Ведь это ужасно.
Но в этот миг меня озарила идея.
— Не обязательно… Слушайте, у Морниела есть удостоверение личности
— года два назад он поступал на работу. А свидетельство о рождении он держит в ящике стола вместе с другими документами. Почему бы вам не стать Морниелом? Он-то никогда не уличит вас в самозванстве.
— Ну, а его друзья, родственники…
— Родители умерли. Ни одного родственника, о котором бы я слышал. И, кроме меня, как я вам уже говорил, никого, близкого к понятию «друг». — Я вдумчиво оглядел мистера Глеску с головы до ног. — По-моему, вы могли бы за него сойти. Может быть, отрастите бороду и покраситесь под блондина. То да се… Правда, серьезная проблема — чем зарабатывать на жизнь. В качестве специалиста по Метауэю и направлениям в искусстве, берущим от него начало, много вам не заработать.
Он вцепился в меня.
— Я мог бы писать картины. Всегда мечтал стать художником. Таланта у меня мало, но я знаю множество технических приемов живописи, всевозможные графические нововведения, которые неизвестны вашему времени. Думаю, что даже без способностей этого будет достаточно, чтобы перебиться на третьем-четвертом уровне.
И этого оказалось достаточно. Совершенно достаточно. Причем не на третьем-четвертом уровне, а на первом. Мистер Глеску, он же Морниел Метауэй, — лучший из живущих художников. И самый несчастный среди всех них.
— Послушайте, что происходит с публикой? — разозлился он после очередной выставки. — С ума они что ли посходили — так меня расхваливать? Во мне ведь ни унции таланта. Все мои работы не самостоятельны, все полотна до единого — подражания. Я пытался сделать хоть что-нибудь, что было бы полностью моим, но так погряз в Метауэе, что утратил собственную индивидуальность. Эти идиоты-критики продолжают неистовствовать, а вещи-то написаны не мною.
— Кем же они тогда написаны? — поинтересовался я.
— Метауэем, конечно, — ответил он с горечью. — У нас думали, что парадокса времени не существует, — хотелось бы мне, чтоб вы почитали ученые труды, которыми забиты библиотеки. Специалисты утверждали, что невозможно, например, скопировать картину с будущей репродукции, обойдясь таким образом без оригинала. А я-то что делаю — как раз и копирую по памяти!
Неплохо было бы сказать ему правду, он такой милый человек, особенно по сравнению с этим проходимцем Метауэем, и так мучается. Но нельзя.
Видите ли, он сознательно старается не копировать те картины. Он так упорствует в этом, что отказывается думать о книге и даже разговаривать о ней. Но мне все же удалось недавно выудить из него две-три фразы. И знаете что? Он ее не помнит — только в самых общих чертах.
Удивляться тут нечему — он и есть настоящий Морниел Метауэй, без всяких парадоксов. Но если я ему когда-нибудь открою, что он просто пишет эти картины, создает их сам, а не восстанавливает по памяти, его покинет даже та ничтожная доля уверенности в своих силах, которая в нем есть, и он совсем растеряется. Так что пусть уж считает себя обманщиком, хотя на самом деле все обстоит не так.
— Забудьте об этом, — твержу я ему. — Доллары все равно остаются долларами.