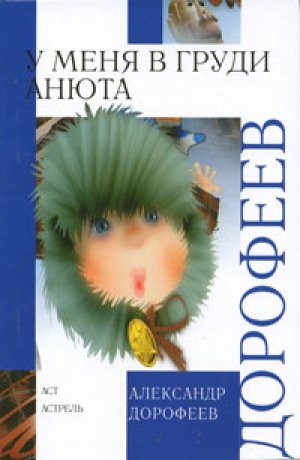
* * *
Всегда и повсюду я опаздывал. Началось это, когда самостоятельно я опаздывать еще не мог – меня возили в коляске.
Как-то зимой тетя Муся везла меня через парк на санках по какому-то неотложному делу. Она очень спешила. А когда подошла к дому и оглянулась, санки были пусты. Одни дощечки. Желтые и красные.
Все оборвалось у тети Муси. Так бывает, когда человек лезет в карман, где кошелек с деньгами, а кошелька-то нет. Только у тети, конечно, сильней оборвалось.
В ужасе тетя Муся бросилась назад. Она уже забыла, по каким тропинкам мы ехали. Тетя металась по парку меж сугробов. Смеркалось. С дерева на дерево мрачно перелетали вороны. Тихо и безлюдно было.
Вдруг в конце аллеи тетя заметила человека в черном пальто. Он быстро шел к выходу из парка, держа в руках большой белый сверток.
Тетя Муся побежала за человеком. Она даже не могла крикнуть: «Постойте! Погодите!» Человек скакнул в подошедший трамвай. Тот прощально дренькнул и покатил, зловеще скрежеща.
Тетя, помертвев, опустилась в сугроб. «Украли мальчика, украли мальчика», – повторяла она, глядя бессмысленно в одну точку.
А я, свалившись по дороге с санок, не припомню сейчас, с какой целью, тихонько лежал тем временем на снегу. В белой шубе, в белой шапке, в белых валенках. К тому же я, кажется, спал и не подавал голоса. Найти меня было непросто.
По счастливой, наверное, случайности, точка, в которую уставилась тетя Муся, находилась рядом со мной. Стоило тете моргнуть, как она сразу меня и обнаружила. Впрочем, у нее на всю жизнь сохранилось подозрение, будто я нарочно вывалился из санок и пытался спрятаться.
А мама, когда особенно сердилась, говорила, что я – это вовсе не я, а чужой мальчик, который в тот вечер просто так лежал в парке на снегу. Меня же, настоящего, хорошего, увез на трамвае дядька в черном. Настоящий я, конечно, не врет и не опаздывает. Радует своим поведением похитителей. А возможно даже, играет на балалайке! Это последнее предположение буквально доводило маму до слез.
И приходилось задумываться – я это на самом деле или не я? Иногда казалось, и впрямь не я, кто-то другой, довольно противный. Хотелось бы повстречаться с тем, которого на трамвае увезли. Многим ли он лучше? Ну, подумаешь, играет на балалайке.
В общем, я ощущал тайного и безымянного соперника – то ли где-то на стороне, то ли внутри себя.
Хотя, что касалось опозданий и вранья, тут уж соперников не было. Если мама говорила: «Приходи не позже пяти!» – я обязательно являлся часов в семь. И без злого умысла. Все была половина пятого, без четверти… И вдруг – шарах! – семь.
Тогда мама начала разумно делать поправку на опоздание. Если хотела, чтобы я был дома к пяти, отпускала до трех. Кое-как это действовало зимой. А уж весной, чтобы я вернулся к пяти, нужно было отпускать до часу. Ну а я в час только из дому собираюсь – хоть вообще не высовывай нос на улицу!
Обычно возвращался домой с тяжелой совестью, подыскивая оправдания. Ну, играли в лапту. Катались с Вадиком Свечкиным на свинье. Такой черный хряк с розовыми пятнами. Никак не удавалось порядочно усесться. Хрюкнет и выскользнет… Вадик в лужу упал.
Приходилось рассказывать что-нибудь поубедительней.
– Мама, – говорил я, – мы с ребятами искали растение сурепку. Для гербария.
– Какая сурепка?! – вскрикивала мама. – Еще травы нет!
– Мы и не нашли, – горестно соглашался я.
И живо представлял себя сурепкой. Маленький, желтенький, немного бледный от нехватки солнца. Бедная репка, которую зовут Су. На глазах начинал я увядать.
Однажды в магазин завезли огромные платки из семейства шалей – по ночному черному фону золотая надпись: «Уж полночь близится, а Германа все нет». Мама нарочно купила такой и укоризненно в него заворачивалась, когда я опаздывал.
Ох, до чего ясно видел я, как этот злосчастный тащится домой после полуночи, прикидывая, чего бы такое соврать.
– Ну, вот и Герман, – встречала мама у дверей.
И это было хуже подзатыльника. Всем удрученным своим видом она говорила, что меня настоящего, увы, похитили в младенчестве, подсунув никудышного какого-то Германа.
Грубое имя Герман. Зловещее, как скрежет трамвая по рельсам. С таким только после полуночи и являться.
Герман был коварен, пробуждая дурные наклонности, – уже тянуло поиграть в «пьяницу» и разложить пасьянс, уже подумывал я о легком богатстве и зажиточных старухах. Он одолевал, и тогда я бросился к маме.
– Это же я! Твой сын, затерянный в сугробе! Я буду стараться – изменюсь к лучшему и овладею балалайкой!
Мама обняла меня так хорошо – без всяких сомнений в моей подлинности. И мы поревели, утираясь золотом шали, так что проклятый Герман совершенно расплылся, оборотясь каракулями и закорючками. А лица наши озолотились, как елочные шары. И мы глядели друг на друга и вроде узнавали вновь.
– Да ты золотой ребенок! – смеялась мама.
Часы как раз пробили полночь. И было так легко, и ясно было, что с Германом покончено, раз и навсегда.